"Антология исторического романа-7" Компиляция. Книги 1-9 [Кейт Мосс] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Хилари Мантел Волчий зал
Моей замечательной подруге Мэри Робертсон
Действующие лица:
В Патни, 1500 Уолтер Кромвель, пивовар и кузнец. Томас, его сын. Бет, его дочь. Кэт, его дочь. Морган Уильямс, муж Кэт.В Остин-фрайарз, с 1527-го Томас Кромвель, стряпчий. Лиз Уайкис, его жена. Грегори, их сын. Энн, их дочь. Грейс, их дочь. Генри Уайкис, отец Лиз, суконщик. Мерси, его жена. Джоанна Уильямсон, сестра Лиз. Джон Уильямсон, ее муж. Джоанна (Джо), их дочь. Алиса Уэллифед, племянница Кромвеля, дочь Бет Кромвель. Ричард Уильямс, позже — Кромвель, сын Кэт и Моргана. Рейф Сэдлер, старший письмоводитель Кромвеля, воспитанный в Остин-фрайарз. Томас Авери, домашний счетовод. Хелен Барр, бедная женщина, взятая в дом. Терстон, повар. Кристоф, слуга. Дик Персер, псарь.
В Вестминстере Томас Вулси, архиепископ Йоркский, кардинал, папский легат, лорд-канцлер; покровитель Томаса Кромвеля. Джордж Кавендиш, помощник, затем биограф Вулси. Стивен Гардинер, глава Тринити-холла, секретарь кардинала, позже государственный секретарь Генриха VIII; заклятый враг Кромвеля. Томас Риотеслей (Ризли), хранитель личной королевской печати, дипломат, протеже и Кромвеля, и Гардинера. Ричард Рич, юрист, позже генеральный адвокат. Томас Одли, юрист, спикер палаты общин, лорд-канцлер после отставки Томаса Мора.
В Челси Томас Мор, юрист и ученый, лорд-канцлер после падения Вулси. Алиса, его жена. Сэр Джон Мор, его престарелый отец. Маргарет Ропер, его старшая дочь, жена Уилла Ропера. Энн Крезакр, его невестка. Генри Паттинсон, слуга.
В Сити Хемфри Монмаут, торговец, арестованный за то, что дал приют Уильяму Тиндейлу, переводчику Библии на английский язык. Джон Петит, купец, арестованный по подозрению в ереси. Люси, его жена. Джон Парнелл, купец, ведущий бесконечную тяжбу с Томасом Мором. Маленький Билни, ученый, сожженный за ересь. Джон Фрит, ученый, сожженный за ересь. Антонио Бонвизи, купец из Лукки. Стивен Воэн, антверпенский купец, друг Кромвеля.
При дворе Генрих VIII. Екатерина Арагонская, его первая жена, позже именуемая вдовствующей принцессой Уэльской. Мария, их дочь. Анна Болейн, его вторая жена. Мария, ее сестра, вдова Уильяма Кэри, бывшая любовница Генриха. Томас Болейн, ее отец, позже граф Уилтширский и лорд-хранитель королевской печати; любит, чтобы к нему обращались «монсеньор». Джордж, ее брат, впоследствии лорд Рочфорд. Джейн Рочфорд, жена Джорджа. Томас Говард, герцог Норфолкский, дядя Анны. Мэри Говард, его дочь. Фрейлины: Мэри Шелтон, Джейн Сеймур. Чарльз Брэндон, герцог Суффолкский, старый друг Генриха, женатый на его сестре Марии. Джентльмены, состоящие при короле: Генри Норрис, Фрэнсис Брайан, Фрэнсис Уэстон, Уильям Брертон, Николас Кэрью. Марк Смитон, музыкант. Генри Уайетт, придворный. Томас Уайетт, его сын. Генри Фицрой, герцог Ричмондский, незаконный сын короля. Генри Перси, граф Нортумберлендский.
Священнослужители Уильям Уорхем, престарелый архиепископ Кентерберийский. Кардинал Кампеджо, папский легат. Джон Фишер, епископ Рочестерский, советник Екатерины Арагонской. Томас Кранмер, кембриджский богослов, сторонник Реформации, архиепископ Кентерберийский после смерти Уорхема. Хью Латимер, священник, сторонник Реформации, позднее епископ Вустерский. Роуланд Ли, друг Кромвеля, позднее епископ Ковентри и Личфилда.
В Кале Лорд Бернерс, губернатор, ученый и переводчик. Лорд Лайл, следующий губернатор. Хонор, его жена. Уильям Стаффорд, гарнизонный офицер.
В Хэтфилде Леди Брайан, мать Фрэнсиса; воспитательница новорожденной принцессы Елизаветы. Леди Энн Шелтон, тетка Анны Болейн; воспитательница бывшей принцессы Марии.
Послы Эсташ Шапюи, дипломат, уроженец Савойи, посол императора Карла V в Лондоне. Жан де Дентвиль, посол Франциска I.
Йоркистские претенденты на престол Генри Куртенэ, маркиз Эксетерский, потомок дочери Эдуарда IV. Гертруда, его жена. Маргарет Пол, графиня Солсбери, племянница Эдуарда IV. Лорд Монтегю, ее сын. Джеффри Пол, ее сын. Реджинальд Пол, ее сын.
Семья Сеймуров в Волчьем зале Старый сэр Джон, опозоривший себя связью с женой старшего сына Эдварда. Эдвард Сеймур, его сын. Томас Сеймур, его сын. Джейн, его дочь, при дворе. Лиззи, его дочь, замужем за губернатором острова Джерси.
Уильям Беттс, врач. Николас Кратцер, астроном. Ганс Гольбейн, художник. Секстон, шут Вулси. Элизабет Бартон, пророчица.
Сцены бывают трех родов: во-первых, так называемые трагические, во-вторых — комические, в-третьих — сатирические. Декорации их несходны и разнородны: в трагических изображаются колонны, фронтоны, статуи и прочие царственные предметы; в комических же представляются частные здания, балконы и изображения окон, в подражание тому, как бывает в обыкновенных домах; а сатирические украшены деревьями, пещерами, горами и прочими особенностями сельского пейзажа.[1]Витрувий. О театре. Ок. 27 г. до н. э.
Вот имена действующих лиц: Счастье Свобода Умеренность Величие Прихоть Притворное сочувствие Лукавство Тайный сговор Учтивое оскорбление Безумие Бедствие Нищета Отчаяние Подлость Надежда Исправление Осмотрительность СтойкостьДжом Скелтон.[2] Величие. Интерлюдия.Ок. 1520
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I Через проливы
Патни, 1500
— А ну вставай! Только что он стоял — и вот уже лежит, оглушенный, ошарашенный, растянувшись во весь рост на булыжнике двора. Поворачивает голову, смотрит на ворота, будто оттуда может прийти помощь. Сейчас его ничего не стоит прикончить. Кровь из разбитой головы — по ней пришелся первый удар — заливает лицо. Левый глаз ничего не видит. Сощурив правый, он замечает, что шов на отцовском башмаке лопнул. Дратва вылезла наружу, узел на ней и рассек ему бровь. Это был второй удар. — Вставай же! — орет Уолтер, примериваясь, куда ударить теперь. Он приподнимает голову на дюйм-другой, ползет на животе, стараясь не выставлять руки, иначе Уолтер на них наступит. Так уже было. — Ты что, угорь? — спрашивает родитель. Отходит на несколько шагов, разбегается, снова бьет. Удар вышибает из него дух. В голове одна мысль: это конец. Лоб снова касается булыжников. Сейчас Уолтер начнет его пинать. Белла, запертая в сарае, заходится лаем. Жалко, что я больше ее не увижу, проносится в голове. На дворе пахнет пивом и кровью. За воротами, у реки, кто-то орет. Ничего не болит, а может, болит все, и невозможно вычленить отдельную боль. Есть лишь ощущение холода в прижатой к булыжнику щеке. — Нет, только глянь! — Уолтер прыгает на одной ноге, будто танцует. — До чего ты меня довел! Я порвал о твою башку свой добрый башмак! Дюйм за дюймом. Дюйм за дюймом вперед. Пусть обзывает угрем, червяком, аспидом. Голову не поднимай, чтобы не злить Уолтера еще больше. Нос забит кровью, приходится дышать ртом. Отец отвлекся на порванный башмак. Минута передышки. Его тошнит. — Давай-давай! — ревет Уолтер. — Заблюй тут все! Заблюй мои добрые булыжники. — Давай же, вставай! Поднимайся! Святые греховодники! Встань на ноги! Святые греховодники? думает он. Что это значит? Волосы в блевотине, собака лает, Уолтер вопит, над рекой несется колокольный звон. Ему чудится движение: как будто земля стала Темзой. Она вздымается и опадает. Последний воздух со свистом выходит из груди. Ну все, добил мальца, кричит кто-то Уолтеру. Он закрывает глаза, или их закрывает ему Господь. Глубокая, черная вода уносит его прочь.Когда мысли возвращаются, он стоит в дверях «Летучего коня Пегаса». Уже почти полдень. Сестра Кэт выходит из кухни с горячими пирогами и едва не роняет поднос. — Нет, вы только полюбуйтесь! — Кэт, не ори. У меня голова лопнет. Она зовет мужа: «Морган Уильямс!» Поворачивается на месте, глаза ошалелые, лицо раскраснелось от кухонного жара. — Заберите у меня поднос! Тело Господне, да куда все подевались? Его трясет, совсем как Беллу после того, как она свалилась из лодки в реку. Вбегает служанка. — Хозяин ушел в город. — Да знаю я, дура! — При виде окровавленного брата Кэт позабыла все на свете. Она сует девушке поднос. — Пристрой так, чтобы кошки не добрались, не то таких оплеух навешаю — звезды из глаз посыплются! — Освободив руки, она на мгновение сжимает их в страстной молитве. — Опять дрался, или это отец тебя изукрасил? Да, говорит он, кивая изо всех сил, так что кровь брызжет из носа. Да, повторяет он и указывает на себя, словно говоря: здесь был Уолтер. Кэт кричит, чтобы несли таз, воду, чтобы воду налили в таз, чтобы дали полотенце, чтобы дьявол сию минуту явился и забрал к себе своего слугу Уолтера. — Сядь, покуда не упал. Он хочет сказать: я только что встал. Во дворе. Пролежал там час. А может, сутки, и тогда сегодня уже завтра. Только если бы это было сутки назад, Уолтер бы пришел и убил за то, что он валяется на дороге. А раны бы уже затянулись коркой и сейчас болели сильнее, при каждом движении. По близкому знакомству с башмаками и кулаками Уолтера он знает, что второй день всегда хуже первого. — Сядь. Молчи, — говорит Кэт. Приносят воду. Кэт легонько промакивает ему глаз. Оттирает мокрым полотенцем лоб, медленно и осторожно. Она судорожно дышит, ее рука лежит у него на плече. Иногда Кэт вполголоса чертыхается, иногда всхлипывает, гладит ему загривок, шепчет: «Ну, ну, не надо», — как будто это он плачет, а не она. Чувство такое, будто он парит, а сестра прижимает его к земле. Зарыться бы лицом в ее фартук и слушать, как стучит сердце, да не хочется пачкать кровью белую материю. Возвращается Морган Уильямс в парадном платье. На широком валлийском лице — готовность немедля ринуться в бой. Очевидно, ему уже рассказали. Морган встает рядом с Кэт, смотрит, долго не находит слов, потом восклицает: «Вот!» Сжимает кулак, трижды потрясает им в воздухе. — Вот что получит Уолтер. От меня. — И не думай, — отговаривает Кэт. — Мало тебе Томасовой крови на твоем лондонском платье. Морган глядит на себя, на Тома. Послушно отходит. — Мне-то что, но ты на себя глянь, малый. В честном бою ты бы его изувечил. — Какой там честный бой, — ворчит Кэт. — Он подходит сзади, верно, Томас? И чем-нибудь бьет. — Сдается, сегодня это была бутылка, — говорит Морган Уильямс. — Я угадал? Он мотает головой. Из носа опять капает кровь. — Не надо, братец. — Кэт оттирает на себе брызги. Фартук весь изгваздан. Вполне можно было уткнуться в него лицом, хуже бы не стало. — Значит, ты не видел, чем он ударил? — спрашивает Морган. — Для того и подходят сзади, ты, магистрат недоделанный, — буркает Кэт. — Послушай, Морган, хочешь, я расскажу тебе про моего отца? Он хватает, что под руку попадется. Иногда бутылку, верно. Я видела, как он бьет мою мать. Даже крошку Бет — я видела, как он бьет ее по голове. А когда не видела, было еще хуже — значит, это он бил меня. — Удивляюсь, как меня угораздило взять жену из такой семейки, — задумчиво произносит Морган Уильямс. Это просто присловье. Некоторые мужчины постоянно шмыгают носом. У некоторых женщин все время болит голова. Морган всегда удивляется, что взял жену из такой семьи. Мальчик не слушает, он думает: если отец вот так бил покойницу-мать, может, он ее и прикончил? Нет, тогда бы его забрали. В Патни не блюдут закон, но убийство тут с рук не сойдет. Кэт ему за мать: плачет над ним, гладит по загривку. Он зажмуривается, затем пробует открыть оба глаза одновременно. — Кэт, — спрашивает он, — у меня там глаз есть? А то я им не вижу. Да, да, говорит она, пока Морган продолжает устанавливать факты: это был твердый, довольно тяжелый, острый предмет, но вряд ли разбитая бутылка, иначе Томас увидел бы зазубренный край, когда Уолтер, целя в глаз, рассек ему бровь. Он слушает рассуждения Моргана и хочет объяснить про башмак, про узел на дратве, но так трудно ворочать языком, да оно, в сущности, и неважно. Вообще-то он согласен с Морганом и хочет пожать плечами, но их пронзает такая резкая боль, что он думает: может, у меня сломана шея? — Ладно, Том, скажи лучше, чем ты так разозлил отца? — спрашивает Кэт. — Если совсем без повода, Уолтер обычно до темноты не начинает. — Да, — подхватывает Морган Уильямс. — Что послужило причиной? — Вчера. Я подрался. — Ты вчера подрался? С кем, во имя всего святого? — Не знаю. — Имя, вместе с причиной драки, вылетело из головы. Однако чувство такое, будто, вылетая, имя оставило на черепе зазубрены. Он трогает макушку, осторожно. Бутылка? Может быть. — Вечно вы, мальчишки, деретесь, — ворчит Кэт. — У реки. — Давайте проверим, правильно ли я понял, — говорит Морган. — Вчера Томас приходит домой в рваной одежде, с разбитыми кулаками, и старик спрашивает: ты что, дрался? Ждет сутки, потом хватает бутылку. Валит Томаса с ног, пинает, бьет попавшейся под руку доской… — Так и было? — Весь приход знает! Соседи стали кричать на пристани еще до того, как моя лодка подошла к берегу. Морган Уильямс, послушай, твой тесть только что отколотил Томаса, и тот приполз умирать к сестре, позвали священника. Ты посылала за священником? — Ох уж мне эти Уильямсы! — возмущается Кэт. — Подумайте, какая важная птица! Люди приходят на пристань сообщить ему новости! А почему? Потому что ты всему веришь. — Но ведь это правда! — кричит Морган. — Чистая правда, верно? Кроме священника. И Томас еще жив. — Ты точно станешь судьей, — говорит Кэт, — раз сумел подметить разницу между моим живым братом и покойником. — Если я стану магистратом, первым делом посажу твоего отца в колодки. Штрафовать его? Пустое! Что толку штрафовать человека, который тут же вернет себе деньги, ограбив или обдурив первого встречного? Он стонет, тихо, чтобы не мешать разговору. — Ну, ну, ну, — шепчет Кэт. — Магистраты уже слышать про Уолтера не могут, — вещает Морган. — Если он не разбавляет эль, то пасет скотину на общинном лугу, если не травит общинную траву, то нападает на представителя власти, если он не под хмельком, то мертвецки пьян, и если он умрет своей смертью, значит, в мире нет справедливости. — Закончил? — спрашивает Кэт. Поворачивается к брату: — Том, оставайся-ка у нас. Морган Уильямс, что ты скажешь? Томас может делать черную работу как оправится. Или вести твои счета, складывать и… что там еще делают? Ладно, не смейся надо мной, где мне было учиться, с таким-то отцом? Я свое имя умею написать только потому, что Том меня научил. — Отец. Будет. Злиться. Он может говорить только так: отдельными словами. — Злиться? — повторяет Морган. — Усовестился бы лучше! Кэт объявляет: — Когда Господь раздавал совесть, мой отец не удосужился подойти за своей долей. Он говорит: — Потому что. Всего миля. Он легко. — Легко может сюда прийти? Пусть попробует. — Морган снова показывает свой жилистый валлийский кулачок.
Когда Кэт заканчивает промывать его раны, а Морган Уильямс — храбриться и восстанавливать ход событий, он час или два просто лежит пластом. За это время приходил Уолтер с дружками, они кричали и ломились в дверь. Впрочем, в комнату звуки долетали приглушенно, и он не знает точно, было это наяву или во сне. Сейчас его занимает одна мысль: что теперь делать? В Патни оставаться нельзя. Вернулись воспоминания о позавчерашней драке, и там, вроде, был нож. Пырнули не его, значит, это он кого-то пырнул? Все как в тумане. Ясно одно. Если Уолтер еще раз меня тронет, я его убью, а если я его убью, меня повесят, а если меня повесят, то пусть лучше за что-нибудь более стоящее. Внизу голоса, то громче, то тише. Всех слов не разобрать. Морган утверждает, что Том сжег все мосты. Кэт отказывается от прежнего предложения: мальчик на побегушках, личный секретарь и счетовод, потому что Морган говорит: — Уолтер будет все время сюда ходить, верно? Мол, где Том, отправь его домой, кто платил чертову попу, чтобы мальчишку научили читать-писать? Мол, я платил, а ты теперь пользуешься, дрянь, потаскуха вонючая! Он спускается вниз. Морган замечает весело: — А ты неплохо выглядишь, учитывая обстоятельства. Правда, Морган Уильямс — и это ничуть не мешает Тому его любить — никогда в жизни не поколотит тестя, что бы ни говорил и ни думал. На самом деле Морган боится Уолтера, как многие добрые люди в Патни. И кстати, в Уимблдоне и Мортлейке тоже. — Ну, я пошел, — говорит Том. Кэт возражает: — Переночуй у нас. Сам знаешь, второй день хуже всего. — А кого он побьет, если меня не будет? — Не наше дело, — отвечает Кэт. — Бет, слава тебе, Господи, замужем, и далеко отсюда. Морган Уильямс говорит: — Честно скажу, будь Уолтер моим отцом, я бы сбежал. Он ждет. — Мы собрали тебе денег, — продолжает Морган. Пауза. — Я верну. Морган облегченно смеется. — И как же ты их вернешь, Том? Он не знает. Дышать трудно, но это пустяки, просто в носу запеклась кровь. Вроде бы там все цело. Он трогает нос, осторожно, и Кэт говорит, полегче, я в чистом фартуке. Сестра вымученно улыбается, потому что не хочет, чтобы он уходил, но она ведь не станет противоречить Моргану Уильямсу, верно? Уильямсы — важные люди в Патни, в Уимблдоне. Морган на Кэт не надышится, говорит, чтобы печь пироги и варить пиво есть служанки, а хозяйка может шить наверху, как знатная дама, и молиться об успехах сделок, когда муж отправляется в Лондон в парадном платье. Дважды вдень она может обходить «Пегас», нарядно одетая, и помечать, что не так: идея Моргана. И хотя сейчас Кэт хлопочет не меньше, чем в детстве, когда-нибудь Морган убедит ее оставить работу служанкам, и ей понравится. — Я верну, — повторяет он. — Может, завербуюсь в солдаты. Буду отсылать вам часть жалованья и добычи. Морган говорит: — Но сейчас нет войны. — Где-нибудь да будет, — замечает Кэт. — Или наймусь на корабль юнгой. Только вот Белла — вернуться мне за ней? Она лаяла, и отец запер ее в сарае. — Чтобы она не хватала его за пятки? — У Морган воспоминание о Белле вызывает усмешку. — Я бы ее с собой взял. — Про корабельных кошек я слышал. Про корабельных псов — нет. — Она совсем маленькая. — Но за кошку не сойдет, — смеется Морган. — И вообще ты великоват для юнги. Они бегают по вантам, как мартышки. Ты когда-нибудь видел мартышку, Том? Уж лучше тебе в солдаты. По правде говоря, яблоко от яблони… Чем-чем, а кулаками тебя Господь не обделил. — Отлично. Давайте проверим, правильно ли я поняла, — передразнивает мужа Кэт. — Как-то Том возвращается домой после драки. В наказание отец подкрадывается сзади, бьет его по голове неизвестно чем, но чем-то тяжелым, потом чуть не выбивает ему глаз, лупит по чему ни попадя удачно подвернувшейся доской, разукрашивает физиономию так, что, не будь я родная сестра, в жизни бы не узнала, а теперь мой муженек говорит: давай, Томас, иди в солдаты, найди какого-нибудь незнакомца, выбей ему глаз, переломай ребра, убей его, и тебе за это заплатят. — Все лучше, чем драться у реки задарма, — замечает Морган. — Глянь на него. Будь я королем, я бы затеял войну, просто чтобы взять Тома в солдаты. Морган достает кошель. С дразнящей медлительностью отсчитывает монеты: звяк, звяк, звяк. Он трогает скулу. Под пальцами синяк, не ссадина. Но до чего же холодный! — Послушай, — говорит Кэт. — Мы тут выросли. Наверняка кто-нибудь согласится Тому помочь. Морган смотрит выразительно, словно спрашивая: ты много знаешь людей, готовых перейти дорогу Уолтеру Кромвелю? Людей, которые хотят, чтобы он ломился к ним в дом? И Кэт, словно услышав мужнины мысли, говорит: — Нет. Может быть. Может быть, Том, это и правда лучше, как ты думаешь? Он встает. Кэт говорит: — Морган, глянь на него, ну куда он сегодня пойдет? — Мне нельзя оставаться. Через час Уолтер глаза нальет и явится сюда. Если я буду здесь, он подожжет дом. Морган спрашивает: — У тебя есть все необходимое в дорогу? Ему хочется обернуться к сестре и сказать: нет. Но она отвернулась и плачет. Не о нем, потому что никто никогда больше о нем не заплачет, таким уж сотворил его Господь. Кэт плачет о том, что считает правильной жизнью: воскресенье после обедни, сестры, золовки, невестки целуются, шлепают племянников (любя) и тут же гладят их по головке, передают из рук в руки младенцев, сравнивают, чей толще, а мужчины стоят кружком и говорят о делах, о шерсти, пеньке, доставке, чертовых фламандцах, правах на лов рыбы, пивоварнях, годовых оборотах, услуге за услугу, нужных людях, «надо бы немного подмазать», «мой поверенный обещал»… Вот что сулил брак с добрым семьянином Морганом Уильямсом, да только Уолтер все испортил. Осторожно, неловко, он выпрямляется. Теперь болит все тело, хоть и не так сильно, как будет болеть завтра. На третий день проступят синяки, и придется отвечать всем на расспросы, где тебя так отделали. К тому времени он будет далеко отсюда, и, возможно, отвечать не придется, потому что никто не спросит. Никому не будет до него дела. Люди глянут мельком и решат, что он всегда такой побитый. Он берет деньги и говорит: — Гуил, Морган Уильямс. Диолх арм up ариан. (Спасибо за деньги.) Гофалух ам Катерин. Гофалух ам эйх бизнес. Вела ай хи ето риубрид. Поб лук. Позаботься о моей сестре. Позаботься о своем деле. Когда-нибудь увидимся. У Моргана Уильямса глаза лезут на лоб. Он улыбнулся бы, если бы не корка на лице. Неужто все думают, будто он ходил к Уильямсам лишь затем, чтобы лишний раз пообедать? — Поб лук, — медленно произносит Морган. Удачи во всем. Он спрашивает: — Если я пойду вдоль реки, это годится? — А куда ты хочешь попасть? — К морю. Морган Уильямс смотрит огорченно, жалея, что до такого дошло. Потом говорит: — Береги себя, Том. Обещаю, если Белла придет тебя искать, мы ее голодной не отпустим. Кэт даст ей пирога.
Деньги надо растянуть на подольше. Можно идти вдоль реки к устью, но он боится, что Уолтер через своих дружков — людей, за выпивку готовых на все, — выследит его и поймает. Первая мысль: пробраться на суденышко, выходящее из Тилбери с грузом контрабанды. Но если подумать, сейчас во Франции война. Это подтверждали все, кого он спрашивал, — ему ничего не стоит заговорить с незнакомцем. Итак, Дувр. Если помогаешь грузить телегу, тебя обычно соглашаются подвезти. А как же бестолково люди грузят телеги! Застревают в узкой двери с деревянным ящиком в руках, а всего-то и надо, что повернуть его! И лошади. Он привык к лошадям, к перепуганным лошадям. По утрам Уолтер иногда работал в кузнице — если не спал мертвецким сном после крепкого эля, который держал для себя и своих дружков. То ли от запаха перегара, то ли грубого голоса, то ли от того, как Уолтер себя вел, даже послушные лошади начинали мотать головой и пятиться, а когда им прилаживали подкову, дрожали всем телом. Его делом было держать их за морду, успокаивать, гладить бархатистую шерстку между ушами, напоминать, как любили их мамы-кобылы, и уверять, что те и до сих пор о них собой вспоминают, а Уолтер скоро закончит.
День или два он не ест — слишком все болит. Но к Дувру рана на голове затягивается, и отбитые органы — почки, легкие, сердце — тоже, видимо, подживают. По взглядам прохожих ясно, что лицо по-прежнему в синяках. Перед уходом Морган Уильямс осмотрел его и составил опись: зубы (чудесным образом) целы, оба глаза чудесным образом видят. Две руки, две ноги — чего ж еще? Он ходит по пристани, спрашивает: не знаете, где сейчас война? Каждый спрошенный глядит ему в лицо, отступает на шаг и говорит: «Это ты сам лучше знаешь!» Они так собой довольны, так смеются над собственной шуткой, что он продолжает спрашивать, просто чтобы людям было приятно. К своему удивлению он понимает, что покинет Дувр богаче, чем сюда пришел. Он углядел у какого-то ловкача на улице финт с тремя картами и тоже стал приглашать желающих сыграть. К мальчику подходят охотнее, чем к взрослому. И проигрывают. Он подсчитывает приход и расход. Выделяет небольшую сумму на то, чтобы пойти к девке. В Патни, Уимблдоне и Мортлейке такое невозможно: Уильямсы прослышат и будут обсуждать тебя между собой по-валлийски. Он видит трех пожилых голландцев с тюками, идет помочь. Тюки большие и мягкие — образцы сукна. Таможенник кричит на голландцев: у них что-то не так с документами. Он, притворяясь голландским олухом, заходит за спину чиновнику и на пальцах показывает, сколько надо дать. «Пожалуйста, — говорит один из купцов на плохом английском, — не избавите ли вы меня от этих английских монет? Они лишние». Таможенник расплывается в улыбке. Купцы расплываются в улыбке: сами они заплатили бы больше. Поднимаясь на борт, они говорят: мальчик с нами. Пока матросы поднимают якорь, голландцы спрашивают, сколько ему лет. Он говорит, восемнадцать, они хохочут. Он говорит, пятнадцать, они, посовещавшись между собой, решают: пятнадцать сойдет. Они думают, ему меньше, однако не хотят обижать мальчонку. Любопытствуют, что у него с лицом. Можно соврать, но он говорит правду — иначе подумают, что его побили за кражу. Купцы говорят между собой по-голландски, и тот, который владеет английским, переводит: — Мы обсуждали, что англичане жестоки к своим детям. И холодны сердцем. Когда отец входит в комнату, ребенок должен вставать. И обращаться к родителям правильно: к отцу «сэр», к матери — «госпожа матушка». Он удивлен. Неужто где-то люди добры к детям? Впервые на сердце легчает: есть другие места, лучше. Он рассказывает про Беллу. Купцы смотрят сочувственно и не говорят глупостей вроде: ты можешь завести другую собаку. Он рассказывает про «Пегас», про отцовскую пивоварню, про то, что отца штрафуют за разбавленный эль не реже двух раз в год. И еще за порубку чужого леса и выпас на общинном лугу овец сверх разрешенного числа. Купцы слушают с интересом, показывают образцы сукна, обсуждают между собой вес и качество выделки, иногда обращаются к нему, объясняют. В целом они невысокого мнения об английском сукне, но эти образцы, возможно, их переубедят… Когда речь заходит о цели поездки в Кале и тамошних знакомых-суконщиках, он теряет нить разговора. Он упоминает отцовскую кузницу. Тот, что говорит по-английски, спрашивает: ты можешь сделать подкову? Он пантомимой показывает, каково это: горячий металл и гневливый отец в тесной кузне. Они смеются. «С тобой не соскучишься», — говорит один. Перед высадкой самый молчаливый встанет и произнесет короткую, странно официальную речь. Второй ответит кивком, а третий переведет: — Мы три брата. Наша улица такая-то. Если окажешься в нашем городе, тебя будет ждать постель, огонь в очаге и еда. До свидания, скажет он. До свидания и удачи во всем. Гуил, суконщики. Гофалух эйх бизнес. Он не остановится, пока не попадет на войну. Холодно, но море спокойно. Кэт дала ему с собой образок. Медь холодит кожу. Он развязывает веревку, целует образок на счастье. Роняет в воду. Он навсегда запомнит, как впервые увидел открытое море: покрытый рябью серый простор, словно осадок от сна.
II Отцовство
1527
Итак: Стивен Гардинер. Они сталкиваются в дверях. Сыро и, для апреля, необычно тепло, однако Гардинер в мехах, похожих на сальные черные перья. Священник стоит, оправляя их на высокой худощавой фигуре, словно черные крылья ангела. — Припозднились, — с недовольством произносит мастер Гардинер. Он дерзок. — Я или вы, дражайший сэр? — Вы. — На реке все пьяны. Лодочники говорят, сегодня канун дня их святой-покровительницы. — Вы ей помолились? — Я молился бы кому угодно, лишь бы попасть на сушу. — Странно, что вы сами не взялись за весло. Наверняка в детстве вам случалось грести. Вечно у Стивена эта песня. Ваш нечестивый отец. Ваше низкое рождение. Сам Стивен — побочный отпрыск королевского рода, выращенный за плату неболтливыми приемными родителями в маленьком городке. Они суконщики; мастер Стивен их презирает и хотел бы забыть. А поскольку он знает всех в суконной торговле, ему слишком много известно о прошлом Стивена — куда больше, чем тому хочется. Бедный сиротка! Мастер Стивен всем в жизни недоволен. Непризнанным родством с королем. Избранной поневоле церковной карьерой, хоть она и вполне успешна. Тем, что кто-то, помимо Стивена Гардинера, доверенного секретаря, приходит поздно вечером говорить с кардиналом. С этой его впалой грудью и худосочным сложением. Встреться они глухой ночью, из них двоих не Гардинер, а мастер Томас Кромвель уйдет, отряхивая руки и улыбаясь. — Да благословит вас Бог, — произносит Гардинер, выходя в теплую, не по сезону, ночь. Кромвель говорит: — Спасибо.Кардинал, не поднимая глаз от листа, спрашивает: — Томас? Дождь еще идет? Я ждал вас раньше. Лодочник. Река. Святая. Он в пути с раннего утра, а до того почти две недели провел в седле, разъезжая по делам кардинала. Из Йоркшира добирался этапами и не без приключений. По дороге заехал к своим писарям в Грейз-инн и одолжил смену белья. Завернул в восточную часть города узнать, какие суда пришли и не прибыл ли ожидаемый незадекларированный груз, но не успел ни поесть, ни заглянуть домой. Кардинал встает, открывает дверь и кричит замершим в ожидании слугам: — Вишен! Как нет вишен?! Апрель, говорите? Придется мне задабривать гостя чем-нибудь другим. — Вздыхает. — Несите что есть. Впрочем, ему все будет не по вкусу. Почему мне так плохо служат? Весь дом приходит в движение: несут еду, вино, еще дров в камин. Слуга, сочувственно бормоча, стаскивает с него мокрый плащ. Вся кардинальская челядь такова: домовитая, бесшумная, привыкшая к шутливым попрекам хозяина. Всех посетителей встречают с тем же радушием. Хоть раз десять кряду навещай его милость каждую ночь и сиди букой — все равно тебя примут как дорогого гостя. Слуги отступают к двери. — Что еще вам угодно? — спрашивает кардинал. — Чтобы вышло солнце. — Так поздно? Вы требуете от меня почти невозможного. — Сгодится и рассвет. Кардинал поворачивается к слугам и произносит серьезно: — Этой просьбой гостя я займусь сам. Они что-то так же серьезно бормочут в ответ и удаляются. Кардинал сцепляет руки. Вздыхает низко, рокочуще, одновременно растягивая губы в улыбке, словно леопард, укладывающийся полежать на припеке. Смотрит на своего поверенного. Поверенный смотрит на кардинала. В свои пятьдесят пять тот все так же хорош собой, как в пору расцвета. Сегодня его милость не в обычной багряной мантии, а в темно-лиловой, как смиренный епископ. Рост впечатляет. Живот, который куда больше пристал бы человеку менее подвижному, — просто еще одна деталь общего великолепия; на этом животе кардинал часто складывает большие, белые, унизанные кольцами руки. Большая голова — явно созданная Богом для папской тиары — прекрасно сидит на широких плечах, отягощенных (но не в данную минуту) цепью лорда-канцлера. Медоточивым тоном, известным отсюда до Вены, кардинал произносит: — Ну, рассказывайте, как там в Йоркшире. — Грязно. — Он садится. — Погода. Жители. Манеры. Нравы. — Что ж, полагаю, вы обратили свои жалобы по адресу. Хотя насчет погоды я с Господом уже побеседовал. — Да, и еда. Пять миль от моря, а свежей рыбы не сыщешь. — А лимонов, надо думать, тем более. Что же они едят? — Лондонцев, когда могут поймать. В жизни не видел таких дикарей. Уроды низколобые, а гонору… Живут в пещерах, но считаются в этих краях дворянством. Кардиналу — архиепископу Йоркскому — все недосуг посетить свою епархию, отсюда и расспросы. — Что до дел вашей милости… — Я весь внимание. Слушая, кардинал сосредоточенно морщит лоб. Иногда записывает цифры. Потом отхлебывает очень хорошего вина и, помолчав, спрашивает: — Томас, что вы там учинили, непотребный слуга? Обрюхатили аббатису? Двух, трех аббатис? Попробую-ка угадать. Подожгли Уитби, просто для смеха? В адрес своего поверенного у кардинала есть две шутки. Первая: тот с порога требует вишен в апреле и латука в декабре. Вторая: тот разъезжает по округе, творя беззакония, которые потом вменят в вину кардиналу. Есть и другие — о них вспоминают по мере необходимости. Скоро десять. Пламя восковых свечей почтительно склоняется перед князем церкви и вновь тянется вверх. Дождь, не прекращавшийся почти с сентября, хлещет в оконные стекла. — В Йоркшире, — говорит он, — недовольны вашими начинаниями. Замысел кардинала: объединить тридцать маленьких, пришедших в упадок монастырских хозяйств и направить доход от этих обителей — запущенных, но по большей части древних — на два колледжа: Кардинальский в Оксфорде и еще один в Ипсвиче, где прекрасно помнят его милость — сына зажиточного и набожного мясника, члена гильдии, державшего большую гостиницу для самых взыскательных проезжих. Затруднение в том, что… Вернее, затруднений несколько. Кардинал, бакалавр искусств к пятнадцати годам, бакалавр теологии к двадцати пяти, изучал законы, но не любит юридических проволочек и не понимает, почему не может превратить недвижимость в деньги так же легко и быстро, как претворяет облатку в тело Христово. Когда он однажды, на пробу, он принялся объяснять кардиналу лишь один малозначительный пункт земельного законодательства, тот немедленно вспотел от натуги и сказал: Томас, что мне вам дать, чтобы никогда больше про это не слышать? Есть препятствия? Найдите способ их обойти. Недовольные? Суньте им денег, пусть уймутся. Сейчас у него есть время об этом поразмыслить, поскольку кардинал смотрит в недописанное письмо. Но большая голова поднимается от бумаги. — Том… Ладно, неважно. Скажите мне, почему вы так хмуритесь? — Тамошние жители обещают меня убить. — Вот как? — говорит кардинал, всем своим видом выражая: «Я удивлен и расстроен». — И что, убьют? Как вы думаете? За спиной у кардинала шпалера во всю стену: Соломон протягивает руки во тьму, встречая царицу Савскую. — Думаю, если хочешь убить человека — убей. Не пиши ему писем с угрозами, иначе он будет начеку. — Когда отважитесь быть не начеку, известите меня. Я хотел бы на это посмотреть. А известно ли вам, кто… нет, вряд ли они подписывают письма. Я не откажусь от своего замысла. Я сам и очень тщательно выбрал монастыри, его святейшество скрепил мой выбор подписью и печатью. Те, кто недоволен, просто не понимают моих намерений. Никто не собирается выкидывать дряхлых монахов на улицу. Так и есть. Кого-то переселят; предусмотрены пенсии, компенсации. Обо всем можно договориться, было бы желание. Склонитесь перед неизбежным, убеждает он. Подчинитесь милорду кардиналу. Уважайте отеческую заботу своего предстоятеля. Верьте, что его милость стремится к высшему благу церкви. Это фразы для уговоров. Бедность, целомудрие, послушание. Это для выжившего из ума приора, на которого надо хорошенько надавить. — Все они понимают, — говорит он. — Просто сами хотят получать доходы. — Вам придется в следующие поездки на север брать вооруженную охрану. Кардинал, памятуя о бренности всего сущего, уже заказал флорентийскому скульптору свою гробницу. Останки его милости будут покоиться в порфировом саркофаге под распростертыми крыльями ангела. Камень с прожилками станет монументом над телом, чьи жилы иссушит бальзамировщик; когда плоть станет холодна и недвижна, как мрамор, о заслугах усопшего напишут золотыми буквами. Однако колледжи останутся живым, дышащим памятником: бедные мальчики, бедные школяры понесут в мир кардинальский ум, любовь к красоте, утонченность, воспитанность, умение радоваться и удивляться. Немудрено, что сейчас его милость качает головой. Поверенные обычно не ездят с вооруженной охраной. Кардинал не любит применять силу. Это так грубо! Иногда кто-нибудь из помощников — например, Стивен Гардинер, — разоблачает очередное гнездо еретиков. Тогда кардинал восклицает с жаром: бедные заблудшие души! Молитесь о них, Стивен, и я буду о них молиться, может быть, вместе нам удастся отвратить несчастных с пути погибели. И скажите им, пусть ведут себя приличнее, иначе Томас Мор упрячет их в свой подвал, и тогда мы все услышим страшные вопли.[3] — Итак, Томас. Он поднимает глаза. — Вы говорите по-испански? — Немного. Солдатская речь. Грубая. — Мне казалось, вы служили в испанской армии. — Во французской. — Ах, да. И никаких близких сношений с местными жителями? — Настолько близких — нет. Браниться я могу по-кастильски. — Буду знать, — произносит кардинал. — Возможно, это тоже понадобится. А пока… Думаю, мне потребуются еще друзья в ближайшем окружении королевы. «Друзья» означает «шпионы». Узнать, как она примет новость. Что королева Каталина[4] скажет, угодив в петлю дипломатической латыни, извещающей, что король — после двадцати лет совместной жизни — вздумал жениться на другой. На принцессе, которая, как полагает его величество, сумеет родить сына. Кардинал подпирает руками голову, трет пальцами глаза, говорит: — Сегодня утром король вызвал меня к себе. Очень рано. — Чего он хотел? — Сочувствия. В такой-то час. Я просидел с ним раннюю мессу, и он всю службу говорил. Я люблю короля. Господь свидетель, как я его люблю. Но даже моего сострадания порой не хватает. Вообразите сами, Том. Представьте себе, что вам тридцать пять. У вас прекрасный аппетит и отменное здоровье, вы не знаете, что такое запор, ваши суставы отлично гнутся и вдобавок вы — король Англии. — Кардинал мотает головой. — Но! Если бы только его величество хотел чего-нибудь попроще. Философский камень. Эликсир молодости. Сундук с золотыми монетами — ну, как в сказках. — Который вновь наполняется, сколько бы оттуда ни брали? — Ну да. Такой сундук я бы уж как-нибудь сыскал, и эликсир, и все прочее. Но откуда взять наследника? Ветер колышет портьеру за спиной кардинала. Соломон наклоняется, лицо в тени. Царица Савская — улыбающаяся, легконогая — напоминает ему молодую вдовушку, у которой он жил в Антверпене. Должен ли он был жениться на ней, раз они делили ложе? По чести, да. Но если бы он женился на Ансельме, то не женился бы на Лиз, и дети у него были бы другие, не те, что сейчас. — Если не можете помочь королю с рождением сына, — говорит он, — найдите отрывок из Писания для успокоения его души. Кардинал шарит у себя на столе, будто и впрямь ищет. — Что ж, Второзаконие. Там определенно говорится, что муж должен взять себе жену умершего брата. Как наш король и поступил.[5] — Кардинал вздыхает. — Но королю не нравится Второзаконие. Бесполезно спрашивать, почему. Бесполезно пояснять, что, коли Второзаконие велит жениться на вдове брата, а Книга Левит говорит, не бери жену брата своего, иначе будешь бездетен, с этим противоречием надо как-то жить. В конце концов, вопрос о том, какой из текстов главнее, разобран в Риме за солидную мзду учеными прелатами двадцать лет назад и диспенсация — разрешение на брак — скреплена папской печатью. — Не понимаю, почему король принимает Книгу Левит так близко к сердцу, ведь у него есть дочь. — По-моему, общепризнано, что в Писании слово «дети» означает сыновей. Кардинал подкрепляет свои слова цитатой на древнееврейском; голос сладкий, убаюкивающий. Его милость любит наставлять тех, кто готов принять наставление. Они знакомы уже несколько лет, и при всем величии кардинала отношения у них самые дружеские. — У меня есть сын, — произносит его милость. — Вам это, разумеется, известно. Да простит меня Господь. Плотская слабость. Сын кардинала — Томас Винтер — склонен к учебе и тихой жизни, хотя отец, вероятно, прочит юноше совсем другую карьеру. Есть у кардинала и дочь, которой никто не видел: Доротея, что означает «дар Божий». Она уже в монастыре — замаливает родительские грехи. — У вас тоже сын, — продолжает кардинал. — Точнее, один сын, носящий ваше имя. Но, полагаю, по берегам Темзы бегает еще немало ваших мальчишек? — Надеюсь, вы ошибаетесь. Мне не было пятнадцати, когда я отсюда сбежал. Вулси находит забавным, что он не знает своего возраста. Выросший на мясе сын мясника заглядывает через несколько слоев общества на самое дно, туда, где родился поверенный Томас Кромвель. Отец наверняка был мертвецки пьян, мать, естественно, думала о хозяйстве. Кэт, спасибо ей, помогла с датой рождения. — Ну, пятнадцать… — тянет кардинал. — Но в пятнадцать, полагаю, вы уже могли? Я точно мог. Итак, у меня есть сын, у лодочника есть сын, у оборванца на улице есть сын, у ваших предполагаемых убийц в Йоркшире, без сомнения, есть сыновья, которым те завещают кровную месть, и вы сами, как мы установили, дали жизнь целому племени юных разбойников. И только у короля нет сына. Кто виноват? — Бог? — А ближе? — Королева? — Кто в большей мере ответствен за все, чем королева? Он невольно расплывается в улыбке. — Вы, ваша милость. — Я, моя милость. И что мне делать? Я скажу вам, что могу предпринять. Отправить мастера Стивена в Рим, прощупать курию. Но он нужен мне здесь. Вулси смотрит ему в лицо и смеется. Ох уж эти щенки-подчиненные! Недовольные родителями, которых дала им природа, они вечно грызутся меж собой — каждый хочет быть любимым сыном кардинала. — Что бы вы ни думали о мастере Стивене, он отлично подкован в каноническом праве и замечательно умеет убеждать — разумеется, когда не пробует убедить вас. Я вам скажу… — Кардинал, не закончив фразу, подается вперед, подпирает руками львиную голову, которую уже сейчас венчала быпапская тиара, если бы на прошлых выборах нужным людям заплатили чуть больше. — Я умолял. Томас, я встал на колени и униженно пытался его разубедить. Ваше величество, говорил я, послушайте моего совета. Если вы хотите избавиться от жены, из этого ничего не выйдет, кроме крупных неприятностей и трат. — А он что? — Поднял палец. Строго. «Никогда, — сказал, — не называйте эту любезную даму моей женой, пока не докажете, что она мне и впрямь жена и может ею оставаться. До тех пор зовите ее моей сестрой, моей дорогой сестрой. Ибо она совершенно точно была супругой моего брата, прежде чем вступить со мной в некоего рода союз». Из Вулси никогда не вытянешь и слова против короля. — Государь… — Кардинал делает паузу, мысленно подыскивая слово. — Строго между нами, государь поздновато спохватился. О да, с самого начала не все считали диспенсацию законной. Год за годом королю нашептывали, что его брак греховен, а он не слушал, хотя, как я теперь понимаю, слышал. Однако король безмерно любил жену, и все сомнения подавлялись. — Кардинал кладет руку на стол, мягко и в то же время твердо. — Они подавлялись и подавлялись. А теперь Генрих хочет, чтобы брак признали недействительным. Несуществовавшим. — Восемнадцать лет, — продолжает кардинал, — король был во власти заблуждения. Он сказал духовнику, что должен исповедаться в грехе за восемнадцать лет. Вулси ждет, что собеседник удивится, но тот лишь смотрит на кардинала. Очевидно, и тайна исповеди может быть нарушена по воле его милости. — Значит, если вы пошлете мастера Стивена в Рим, — говорит он, — королевская причуда, если позволительно так выразиться… Кардинал кивает: позволительно. — … получит международную огласку? — Мастер Стивен поедет неофициально. Скажем, за личным папским благословением. — Вы не знаете Рима. Вулси не может ему возразить. Кардинал никогда не ощущал того холодка на затылке, который заставляет тебя оглядываться через плечо, когда переходишь из золотистого света Тибра в густую тень. За упавшей колонной, за целомудренными руинами прячутся совратители: любовница епископа, племянник чьего-то племянника, богатый мерзавец с вкрадчивой речью на устах. Счастье, что он покинул этот город, не потеряв душу. — Скажу совсем просто. Папские шпионы выведают цель поездки еще до того, как мастер Стивен закончит собираться в дорогу. У кардиналов и секретарей будет время установить цену. Если решите посылать мастера Стивена, дайте ему много денег. Кардиналы не принимают посулов. Им нужен мешок с деньгами, чтобы задобрить банкиров, поскольку почти все они исчерпали кредит. — Надо было бы послать вас, — весело замечает кардинал. — Вы бы предложили папе Клименту ссуду. А почему бы и нет? Он знает денежные рынки, такое можно устроить. На месте Климента он бы в нынешнем году занял много денег для защиты границ.[6] Впрочем, Папа опоздал: к летней кампании войско надо собирать, начиная со Сретенья. Он говорит: — А вы не хотите начать процесс в собственной юрисдикции? Пусть король сделает первые шаги и поймет, действительно ли этого хочет. — Так я и намерен поступить. Созвать небольшой суд здесь, в Лондоне. Мы приступим к его величеству и объявим строго: король Гарри, есть подозрение, что все эти годы ты беззаконно сожительствовал с женщиной, которая тебе не жена. Король, да благословит его Бог, не любит быть неправым, а мы очень твердо скажем, что он неправ. Возможно, он забудет, что сам все затеял. Возможно, он накричит на нас и в порыве оскорбленных чувств вернется к королеве. Если нет, я добьюсь аннуляции, здесь или в Риме, и женю его на французской принцессе. Бесполезно спрашивать, есть ли у кардинала на примете конкретная принцесса. Есть, и не одна, а две или три. Вулси живет не в одной реальности, а в подвижном муаре дипломатических ходов. Всеми силами пытается сохранить брак Генриха с Екатериной и союз с ее испанской родней, убеждает короля отбросить сомнения и в то же время выстраивает альтернативный мир, где сомнения короля следует уважить, а браке Екатериной признать недействительным. Как только диспенсация будет отменена — как только один росчерк папского пера уничтожит восемнадцать лет греха и страданий, — кардинал изменит расстановку сил в Европе, соединит Англию и Францию в мощный союз против молодого императора Карла, племянника Екатерины. Все исходы возможны, все исходы управляемы, каждый можно повернуть в удобную сторону; молитвы и давление, давление и молитвы, все идет по Божьему плану, и Вулси может вносить в этот план необходимые маленькие коррективы. Раньше его милость говорил: «Король поступит так-то и так-то». Потом: «Мы поступим так-то и так-то». Теперь: «Вот как я поступлю». — А что будет с королевой? — спрашивает он. — Куда ей деваться в случае развода? — Есть замечательные монастыри. — Может быть, она вернется в Испанию. — Нет, вряд ли. Теперь это другая страна. Прошло… сколько?.. двадцать семь лет с тех пор, как она прибыла в Англию. — Кардинал вздыхает. — Я ведь помню, как это было. Ее корабли, как вы знаете, задержала непогода — день за днем их носило по Ла-Маншу. Король выехал навстречу будущей невестке. Она была тогда в Догмерсфилде, во дворце епископа Батского, на пути в Лондон. Стоял ноябрь, и, да, лил дождь. Свита королевы настаивала на соблюдении испанских обычаев: принцесса не должна снимать покрывало, и супруг увидит ее только в день свадьбы. Но вы помните нашего короля! Разумеется, он не помнит. Он родился примерно в тот год, когда старый король, почти всю жизнь изгнанник и перебежчик, захватил нечаемую корону. Вулси рассказывает так, будто лицезрел все воочию; в определенной мере это так и есть, ибо события недавнего прошлого таковы, какими выстроил их у себя в голове кардинал. Его милость улыбается. — Прежний король был в преклонных летах и во всем подозревал дурной умысел. Он придержал коня, будто для того, чтобы посовещаться с придворными, одним махом спешился — ловкости ему и тогда было не занимать — и объявил испанцам, что увидит принцессу. Здесь моя земля и мои законы, сказал он, у нас женщины не носят покрывал. Почему на нее нельзя смотреть? Может, меня обманули, подсунули уродину; вы предлагаете женить моего сына на страшилище? Томас думает: король вел себя слишком по-валлийски. — Тем временем служанки уложили принцессу в постель — или сказали, что уложили: они думали так уберечь ее от внимания короля. Не тут-то было! Король Генрих ринулся через дворец с таким видом, будто готов вытащить бедняжку из-под одеяла. Служанки кое-как успели ее одеть. Король ворвался в комнату и при виде принцессы забыл латынь. Начал запинаться, как мальчишка. — Кардинал смеется. — А когда она впервые танцевала при дворе — наш бедный принц Артур был спокоен и улыбался, но его невесте не сиделось — никто не знал ее испанских танцев, поэтому принцесса встала в пару со своей фрейлиной. Никогда не забуду, как она повернула голову, и прекрасные рыжие волосы рассыпались по плечам… Не было в зале мужчины, который не вообразил бы… хотя танец был очень степенный… О Боже. Ей было тогда шестнадцать. Кардинал смотрит в пространство, и Томас спрашивает: — Да простит вас Бог? — Да простит Бог нас всех. Старый король постоянно исповедовался в грехе вожделения. Принц Артур умер, а следом и королева. Старый король, овдовев, сам решил жениться на Екатерине. Но тут… — Кардинал пожимает плечами. — Как вы знаете, они не сговорились о приданом. Старый лис Фердинанд, ее отец.[7] Уж до чего был изворотлив! Нашему теперешнему величеству, когда он танцевал на свадьбе брата, было десять; и, думаю, уже тогда он положил глаз на невесту. Некоторое время они сидят молча. История грустная, оба это знают. Король не отпускал принцессу домой, не желая выплачивать ей вдовью долю, и требовал от Испании оставшуюся часть приданого. Денег на содержание Екатерина почти не получала и жила в крайней нужде. С другой стороны, интересно, сколь мощные дипломатические связи юная принцесса сумела за это время завязать, как ловко научилась сталкивать лбами противников. Генрих женился на ней в восемнадцать: старый король не успел остыть в могиле, как новый потребовал Екатерину себе. Она была старше, годы отрезвили ее, красота немного поблекла. Однако он видел не столько живую женщину, сколько былой образ, достояние старшего брата; ощущал дрожание девичьей руки в руке десятилетнего мальчика. Словно она вверялась ему, чувствовала уже тогда — как говорил король приближенным, — что ей суждено лишь называться женой Артура. Что тело ее предназначено младшему из братьев, тому, к которому она обращала взгляд прекрасных серо-голубых глаз, приветливую улыбку. Она всегда меня любила, уверял король. Семь лет нам не давали соединиться. Теперь я никого не страшусь. Рим дал разрешение. Все бумаги выправлены. Союзы заключены. Я женился на девственнице, поскольку мой бедный брат к ней не притронулся; я женился из соображений государственных, ради ее испанских связей, но, в первую очередь, я женился по любви. А теперь все в прошлом. Или почти все. Половину жизни предстоит зачеркнуть, вычистить из летописи. Кардинал вздыхает. — И что же дальше? Король ждет, что все будет по его, а вот она… с нею непросто сладить. Есть еще история про Екатерину, совсем другая. Король отправился воевать во Францию, оставил ее регентшей. Напали шотландцы; их разгромили, и на Флодденском поле Якову IV отрубили голову. И Екатерина, розово-белый ангел, предложила отправить голову шотландского короля Генриху — порадовать супруга на чужбине. Ее отговорили, сказали, что это не по-английски. Вместо головы Екатерина послала мужу письмо. И с ним — сюркот, который был на Якове в день сражения, черный и заскорузлый от крови. Огонь почти погас; кардинал, погруженный в воспоминания, встает и сам ворошит угли. Стоит, задумчиво крутит перстни на руке, затем встряхивает головой и произносит: — Поздно. Езжайте домой. И не позволяйте йоркширцам тревожить ваши сны. Томасу Кромвелю сейчас чуть за сорок. Он крепкого сложения, но невысок. Лицо его может принимать самые разные выражения; в данный момент это сдержанная ирония. Волосы темные, густые и волнистые, глаза маленькие, очень зоркие. Во время разговора они загораются огнем, о чем очень скоро скажет нам испанский посол. Утверждают, будто он знает наизусть Новый Завет на латыни и всегда может подсказать кардиналу нужный текст, если аббаты собьются. Говорит тихо, но быстро, держится уверенно в любом месте, будь то пристань или парадная зала, кардинальский дворец или придорожный трактир. Может составить контракт, обучить сокола, начертить карту, остановить уличную драку, обставить дом и уболтать присяжных. Умеет к месту процитировать древнего автора, от Платона до Плавта и обратно. Знает современную поэзию, может декламировать ее на итальянском. В трудах дни напролет, первым поднимается с постели и последним ложится. Много зарабатывает и много тратит. Готов биться об заклад по любому поводу. Он встает. — Если вы договоритесь с Богом и солнце выйдет, король сможет поехать на охоту. Быть может, на вольном просторе его величество будет меньше думать о Книге Левит, и вам станет легче. — Вы лишь отчасти понимаете короля. Наш государь любит теологию почти так же, как охоту. Он в дверях. Вулси говорит: — Кстати, при дворе болтают… Милорд Норфолк жалуется, будто я вызвал злого духа и поручил тому ходить за ним по пятам. Если кто-нибудь вам такое скажет… просто отрицайте. Он стоит в дверях, медленно растягивая губы в улыбке. Кардинал тоже улыбается, словно говоря: я приберег хорошее вино напоследок. Скажите, ведь я умею вас развеселить? Затем вновь склоняет голову над бумагами. Слуга Англии почти не нуждается в сне: какие-нибудь четыре часа, и когда вестминстерские колокола возвестят начало очередного промозглого, беспросветного апрельского дня, кардинал проснется, свеж и бодр. — Доброй ночи. Да благословит вас Бог, Том. Снаружи ждут слуги с факелами. У него есть дом в Степни, но сегодня он едет в городской особняк. На локоть ложится рука: это Рейф Сэдлер, стройный молодой человек со светлыми глазами. — Как там в Йоркшире? Ветер мотает пламя факела из стороны в сторону, улыбка Рейфа то появляется, то исчезает во тьме. — Кардинал не разрешает мне говорить про Йоркшир — боится, что нас будут мучить дурные сны. Юноша хмурит лоб. С семи лет Рейф спокойно спит под крышей Кромвелева дома, сперва на Фенчерч-стрит, теперь в Остин-фрайарз, и не знает, что такое ночные кошмары. У мальчика на удивление ясный ум. Что дурное может присниться в двадцать один год? Воры, бродячие псы, ямы на дороге… — Герцог Норфолкский… — начинает он и тут же обрывает себя. — Ладно, неважно. Кто-нибудь заходил в мое отсутствие? Мокрые улицы пусты, с реки наползает туман. Небо затянуто, звезд не видно. Над городом плывет сладковатый гнилостный запах вчерашних позабытых грехов. Норфолк стоит на коленях рядом с кроватью, зубы стучат от страха; кардинальское перо скребет, как мышь под матрацем. Покуда Рейф кратко излагает конторские новости, он мысленно составляет текст заявления. «Всем заинтересованным лицам. Милорд кардинал решительно отвергает всякие инсинуации касательно злого духа, якобы приставленного его милостью к герцогу Норфолкскому. Его милость отрицает эти обвинения в самых резких выражениях. Его кардинальская милость не отправлял к его герцогской милости ни безголового теленка, ни падшего ангела в обличье бешеного пса, ни ползучий саван, ни Лазаря, ни оживленный труп и не планирует на ближайшее время никаких подобных действий». На пристани кто-то кричит. Лодочники поют. Вдалеке раздается тихий всплеск — возможно, кого-нибудь топят. «Делая сие заявление, милорд кардинал оставляет за собой право в дальнейшем изводить милорда Норфолка любыми фантазмами, каких пожелает в своей мудрости избрать; в любой день, без предварительного извещения, руководствуясь исключительно собственным лорда кардинала усмотрением». От сырости болят старые раны, однако он входит к себе так, будто сейчас полдень: улыбаясь и воображая трясущегося Норфолка. Час ночи. Ему представляется, что тот еще на коленях, молится. А чернолицый бесенок колет трезубцем мозолистые пятки герцога.
III В Остин-фрайарз
1527
Лиззи еще не спит. Услышав, что слуги его впустили, она выходит, держа под мышкой комнатную собачку. Собачка скулит и вырывается. — Забыл, где твой дом? Он вздыхает. — Как Йоркшир? Он пожимает плечами. — Кардинал? Кивок. — Ел? — Да. — Устал? — Не очень. — Вина? — Да. — Рейнского? — Можно рейнского. Панели недавно покрашены. Он входит в приглушенное золотисто-зеленое сияние. — Грегори… — Письмо? — Что-то вроде того. Она вручает ему письмо и собачку, достает вино. Садится рядом. Наливает себе тоже. — Он нас приветствует. Путает единственное и множественное число. Плохая латынь. — Ладно-ладно, — говорит она. — Ну, слушай. Он надеется, что ты здорова. Надеется, что я здоров. Надеется, что его милые сестренки Энн и крошка Грейс здоровы. Он сам здоров. На сем, за недостатком времени, заканчиваю, ваш почтительный сын, Грегори Кромвель. — Почтительный? — переспрашивает она. — И все? — Так их учат. Собачка Белла покусывает его за пальцы, ее круглые невинные глаза сверкают, как чужеземные луны. Лиз неплохо выглядит, хоть и утомилась после долгого дня; восковые свечи стоят у нее за спиной, высокие и прямые. На шее — нитка жемчуга и гранатов, его подарок на Новый год. — На тебя приятнее смотреть, чем на кардинала. — Самый скупой комплимент, какой когда-либо получала женщина. — А я сочинял его всю дорогу из Йоркшира. — Он встряхивает головой. — А, ладно! — Поднимает Беллу на воздух; та упоенно брыкается. — Как идут дела? Лиз немного плетет из шелка: шнурки для печатей на документы, головные сетки для придворных дам. У нее в доме две девушки-ученицы. Лиз отлично чувствует, что сейчас в моде, но, как всегда, жалуется на посредников: они немилосердно дерут деньги. — Надо бы нам съездить в Геную, — говорит он. — Я научу тебя, как смотреть поставщикам в глаза. — Хорошо бы. Да куда ты от кардинала! — Сегодня он убеждал меня ближе познакомиться с приближенными королевы. С испанцами. — Вот как? — Я ответил, что плоховато говорю по-испански. — Плоховато? — Она смеется. — Ну ты лгунишка! — Ему не обязательно все про меня знать. — Я была в гостях в Чипсайде. — Лиз называет имя старой приятельницы, жены ювелира. — Хочешь новость? Заказали большой изумруд и оправу, для кольца. Для женского кольца. — Показывает размер изумруда: с ноготь на большом пальце. — Несколько недель дожидались камня. Его гранили в Антверпене. — Она резким движением растопыривает пальцы. — Он раскололся! — Кто будет возмещать убытки? — Гранильщик говорит, его обманули: подсунули камень с невидимым дефектом в основании. Ювелир говорит, если дефект был невидимый, откуда я мог про него знать? Гранильщик говорит, так стребуйте убытки с того, от кого получили изумруд… — Тяжба на много лет. Они не могут раздобыть другой камень? — Ищут. Мы думаем, заказчик — король. Больше никому в Лондоне такой изумруд не по средствам. Так для кого кольцо? Не для королевы. Белла развалилась у него на руках, жмурится, легонько виляет хвостиком. Интересно, как это будет, с кольцом. Кардинал мне скажет. Кардинал считает, очень умно не допускать короля до себя и выманивать подарки, но к лету король с ней переспит, к осени пресытится и отправит ее в отставку; а если не отправит, я сам за этим прослежу. Коли Вулси выпишет из Франции принцессу детородного возраста, не стоит, чтобы первые недели в Англии ей отравили свары с бывшей любовницей супруга. Королю, полагает Вулси, надо быть посуровей со своими женщинами. Лиз ждет, но понимает, что он ничего не скажет. — Так насчет Грегори, — говорит она. — Скоро лето. Там или здесь? Тринадцатилетний Грегори сейчас в Кембридже, с наставником. Он отправил туда же племянников, сыновей Бет. Заботиться о родственниках — приятный долг. Летом у мальчиков каникулы. Что они будут делать в городе? Грегори пока совсем не интересуется чтением, хотя любит слушать истории про драконов, про зеленый народец, живущий в лесах; может одолеть целый латинский пассаж, если пообещаешь, что на следующей странице будет морской змей или призрак. Любит кататься верхом, обожает охоту. Мальчику еще расти и расти; мы надеемся, что он вырастет высоким. Дед короля по матери, как все старики вам скажут, был шесть футов четыре дюйма. (А вот отец, впрочем, ростом с Моргана Уильямса.) В короле шесть футов два дюйма — они с кардиналом почти одного роста. Король предпочитает высоких придворных — таких, как зять его величества Чарльз Брэндон, рослых и широкоплечих. В закоулках верзилы редкость; и в Йоркшире, сдается, тоже. Он улыбается. О Грегори он говорит: хорошо хоть, мальчик не такой, как я в его возрасте. (А каким были вы? — следует вопрос. О, я пырял людей ножичком.) Грегори никого не пырнет ножом, поэтому он не переживает — или переживает меньше, чем думают окружающие, — из-за неспособности сына освоить склонения и спряжения. Когда ему докладывают, что Грегори не сделал того и этого, он отвечает: «Мальчик растет». Он понимает, что сыну надо много спать. Сам он никогда не высыпался, потому что Уолтер буянил, а позже — в дороге, на корабле, в армии — и подавно было не до сна. Чего люди не понимают про армию, так это что бессмысленные занятия в ней съедают практически все время. Ты добываешь пропитание, ты встаешь лагерем в таком месте, куда прибывает вода, потому что так велел твой сумасшедший капитан, тебя заставляют ночью сниматься и переходить на позицию, которую невозможно оборонять, ты никогда толком не спишь, снаряжение вечно нуждается в починке, у пушкарей что-то взрывается, арбалетчики либо пьяны, либо молятся, стрелы заказали, но не доставили, и тебя постоянно снедает тревога, что все кончится совсем плохо, потому что у il principe[8] или другого мелкого светлейшества, которое сегодня командует, голова не предназначена для мыслей. Довольно скоро — зимы через две — он перебрался из боевых частей в интендантскую службу. В Италии всегда можно воевать летом. Если тебе охота развеяться. — Спишь? — спрашивает Лиз. — Нет. Задумался. — Привезли кастильское мыло. И твою книгу из Германии. Она была упакована, как что-то другое. Я чуть не отослала мальчишку прочь. В Йоркшире, среди немытых, потеющих от злости людей в овчинах он мечтал о кастильском мыле.Позже Лиз спрашивает: — Так кто она? От удивления он убирает руку с ее левой груди — такой знакомой и все равно любимой. — Что? Неужто Лиз вообразила, будто он завел в Йоркшире женщину? Он ложится на спину и думает, как разубедить жену. В крайнем случае взять ее в следующий раз с собой — пусть увидит, что там у него никого нет. — Дама с изумрудом? — продолжает Лиз. — Я потому спрашиваю, что люди болтают, будто король задумал нечто странное. Я не верю, но весь город о том судачит. Вот как? За две недели, что он был в Йоркшире среди дикарей, слухи просочились за пределы дворца. — Если король на такое пойдет, — объявляет она, — против него полмира ополчится. Они с Вулси думают лишь об одном: против короля ополчится император. Только император. Он улыбается в темноте, сцепив руки за головой. Не спрашивает, кого Лиз имеет в виду, ждет, пока она расскажет сама. — Все женщины, — говорит Лиз. — Все женщины по всей Англии. Все женщины, у которых есть дочь, но нет сына. Все женщины, потерявшие ребенка. Все женщины, отчаявшиеся родить. И все женщины, которым сорок. Она кладет голову ему на плечо. Оба устали, лежат молча на тонкой льняной простыне, под стеганым одеялом желтого турецкого атласа. Их тела издают слабый аромат нагретых солнцем трав. Он вспоминает: я могу браниться по-кастильски. — Теперь спишь? — Нет. Думаю. — Томас, — шипит она возмущенно. — Уже пробило три! Бьет шесть. Ему снится, что все женщины Англии в постели, выпихивают его из-под одеяла. Поэтому он встает почитать немецкую книгу, пока Лиз не видит. Не то чтобы Лиз ругалась; разве что, уж если очень на нее насесть, скажет: «Мне и моего молитвенника достаточно». Она и впрямь нередко читает молитвенник: рассеянно берет в руки среди дня, лишь наполовину отрываясь от хлопот, перебивая тихое бормотание распоряжениями по дому. Это свадебный подарок, часослов, и Лиз вписала на первую страницу свое новое имя: «Элизабет Уильямс». Иногда, в приступе ревности, ему хочется вычеркнуть «Уильямс» и вписать нечто другое. Он знал первого мужа Лиз, но это не означает, что он испытывал к нему симпатию. Он не раз говорил: Лиз, вот книга Тиндейла, Новый завет, в сундуке, почитай ее, вот ключ. Она: ну и читай вслух, раз тебе так нравится. Он: Лиззи, это на английском, читай сама, в том-то весь смысл. Прочти и удивишься, что ты там найдешь. Он думал, Лиз станет интересно, однако ничего подобного. Он не может вообразить, каково читать домашним вслух, как это делает Томас Мор — несостоявшийся священник, одержимый проповедническим зудом. Мор — светило из иной сферы — при встречах удостаивает его лишь кивком, и каждый раз он чувствует искушение спросить: с вами что-то не так? Или что не так со мной? Почему все, что вам известно, и все, что вы узнаете, подкрепляет ваши прежние убеждения? Вот в моем случае то, с чем ярое, во что вроде бы верил, мало-помалу рушится — то тут, то там. С каждым месяцем мои представления об этом мире делаются все хлипче; и о мире ином — тоже. Покажите мне, где в Библии написано: «чистилище». Покажите, где там говорится о мощах и монахах. Покажите в ней слово «папа». Он возвращается к немецкой книге. Король с помощью Томаса Мора написал трактат против Лютера, за что папа даровал его величеству титул Защитника веры. Не то чтобы он любил брата Мартина; они с кардиналом согласны, что лучше бы Лютеру вовсе не рождаться на свет, или, уж по крайней мере не быть таким прямолинейным. И все же он следит за тем, что пишут, что доставляют в крупные порты на Ла-Манше или укромные бухточки восточной Англии, где суденышко с неуказанным грузом можно вытащить на берег, а при луне, с приливом, столкнуть обратно на воду. Он держит кардинала в курсе, чтобы, когда Томас Мор с друзьями-клириками ворвется, изрыгая хулы на новую ересь, тот мог ответить: «Джентльмены, меня уже известили». Вулси жжет книги, не людей. Совсем недавно — в прошлом октябре — кардинал устроил аутодафе английскому языку. Столько сгорело бумаги, изготовленной из старого тряпья, столько черной типографской краски. Евангелие, которое он держит в сундуке, отпечатано в Антверпене — оно доступнее, чем настоящее немецкое издание. Он знаком с Уильямом Тиндейлом — пока переводчику Библии на английский не стало опасно оставаться в Лондоне, тот полгода жил у Хемфри Монмаута, торговца тканями, в Сити. Тиндейл суров, непреклонен и никогда не смеется. С другой стороны, до смеху ли, когда ты вынужден бежать из родной страны? Мор называет Тиндейла Зверем. Тиндейловское Евангелие отпечатано на паршивой бумаге, в одну восьмую листа; на титуле вместо издательских адреса и эмблемы значится: «Выпущено в Утопии». Он надеется, что Томас Мор это видел. Вот бы показать при случае — чтобы посмотреть, какое у Мора станет лицо. Он закрывает книгу. Пора браться за дела. У него не будет времени самому перевести это на латынь, чтобы потихоньку пустить в обращение; придется кого-нибудь просить, за деньги или по дружбе. Удивительно, как крепка нынче дружба между теми, кто читает по-немецки. К семи он уже побрился, позавтракал и облачился в свежее, не заемное белье и темный джеркин тонкой шерсти. В это время суток он часто вспоминал отца Лиз: старик вставал рано и всегда готов был положить ему на голову руку и сказать: «Порадуйся за меня жизни, Томас». Он любил старого Уайкиса. Поначалу их свело дело. Сколько ему было тогда?.. двадцать шесть? двадцать семь? Он недавно вернулся из-за границы, временами заговаривал на одном языке, а заканчивал фразу на другом. Уайкис, тоже уроженец Патни, расчетливый делец, сколотил небольшое состояние на торговле шерстью, но взял его к себе не как земляка, а потому что он пришел с рекомендациями и предложил услуги задешево. При первой встрече Уайкис, отложив бумаги, полюбопытствовал: — Ты ведь сын Уолтера, да? Так что случилось? Поскольку, видит Бог, мальчишкой ты был разбойник, каких поискать. Он мог бы объяснить, если бы знал, какое объяснение будет Уайкису понятно. Я больше не дерусь, потому что, живя во Флоренции, каждый день смотрел на фрески? Он сказал: — Я нашел более легкий способ существования. Позже Уайкис начал сдавать, дело пришло в упадок. Они по-прежнему поставляли на север Германии тонкое черное сукно, он же считал, что при нынешней длинорунной шерсти, непригодной для хорошего бродклоса, лучше переключиться на более тонкое керси, которое можно везти через Антверпен в Италию. Выслушав — как всегда, очень внимательно — жалобы старика, он сказал: — Рынок меняется. Позвольте мне в следующем году отвезти вас на ярмарку. Уайкис знал, что давно пора съездить в Антверпен и Берген-на-Зоме, но очень не хотел переправляться через пролив. — Не тревожьтесь, я о нем позабочусь, — сказал он мистрис Уайкис. — Я знаю семью, в которой мы можем остановиться. — Ладно, Томас Кромвель, — ответила та. — Запомни мои слова. Никаких крепких голландских напитков. Никаких женщин. Никаких запрещенных проповедников в подвалах. Знаю я вас, мужчин. — Не знаю, смогу ли удержаться от подвалов. — Сговорились. Можешь сводить его на проповедь, главное, не води в бордель. Мерси, как он подозревает, из семьи, где хранили и знали сочинения Джона Уиклифа и где Писание на английском было всегда: запрятанные листочки, затверженные на память стихи. Такие вещи передаются по наследству, как форма носа и цвет глаз, как кротость и страстность, как сила и готовность пойти на риск. Если уж рисковать, лучше проповедник, чем девка; остерегайтесь «мсье костолома», которого во Флоренции зовут «неополитанской лихорадкой», а в Неаполе — «флорентийской хворью». Здравый смысл подталкивает к воздержанию. В нашей жизни много ограничений, о которых не ведали наши предки. На корабле он слышал обычные жалобы попутчиков: мерзавцы-лоцманы, фарватер не отмечен, английская монополия. Ганзейские торговцы предпочли бы, чтоб к Грейвзенду их суда вели собственные люди: немцы — шайка воришек, но провести корабль вверх по течению они умеют. Старик Уайкис страдал от морской болезни. Сам он оставался на палубе, помогал чем мог; вы, кажется, были когда-то юнгой, сударь, заметил один из матросов. В Антверпене они сразу отыскали вывеску. Слуга, открывший дверь, завопил: «Томас вернулся!» Вышли три старика, три брата-суконщика. «Томас, наш бедный найденыш, наш маленький избитый беглец! Заходите, заходите поскорее, согревайтесь!» Только здесь он по-прежнему был беглецом, маленьким избитым мальчишкой. Жены, дочери, собаки бросились его целовать. Он оставил старого Уайкиса у очага — удивительно, насколько понятен язык стариков, когда те обмениваются рецептами примочек, сочувствуют бедам друг друга, обсуждают блажь и капризы жен. Младший брат, как всегда, переводил, с тем же серьезным видом, даже когда речь касалась физиологии. Он ушел пить с тремя сыновьями трех братьев. — Wat will je?[9] — поддразнивали они. — Надеешься заполучить старикову лавку? Или старуху, как хозяин помрет? — Нет, — неожиданно сам для себя ответил он. — Кажется, я хочу заполучить его дочку. — Она молоденькая? — Вдова. Довольно молоденькая. К возвращению он уже знал, что следует менять в лавке. Оставалось продумать частности. — Я видел ваш товар, — сказал он Уайкису. — Видел конторские книги. Теперь покажите мне своих приказчиков. Разумеется, люди — ключ к прибыли. Достаточно посмотреть им в глаза, чтобы понять, честны ли они и годятся ли для своего места. Он выгнал ненадежного старшего приказчика — сказал: проваливай, или я устрою тебе разбирательство — и поставил на это место младшего, заикающегося юнца, которого все считали придурковатым. Придурковатость оказалась просто робостью; вечер за вечером он сидел с юношей, молча и спокойно указывая тому на ошибки и упущения; через четыре недели новый старший приказчик уже не нуждался ни в советах, ни в понуканиях, а на своего наставника смотрел восторженными щенячьими глазами. Четыре недели в лавке и еще несколько дней в доках — выяснить, кто берет взятки. К концу года Уайкис снова стал получать прибыль. Старик посмотрел цифры, поднялся из-за стола и крикнул: — Лиззи! Спустись к нам. Она спустилась. — Тебе нужен новый муж. Такой сгодится? Она оглядела его с головы до пят. — Ну, отец, вижу, ты выбирал не за красоту. — Ему, подняв бровь: — Тебе правда нужна жена? — Оставить вас, чтобы вы обсудили это между собой? — спросил Уайкис озадаченно. Старик, видимо, думал, что они сядут и сразу заключат договор. Почти так и вышло. Лиз хотела детей, он хотел жену со связями в Сити и с кой-какими деньгами. Они поженились через несколько недель. Грегори родился через год. Он взял новорожденного из колыбели — крепенького, орущего — поцеловал в пушистую маковку и сказал, я буду к тебе ласков, как не был ко мне отец. Для чего заводить детей, если следующее поколение не будет лучше предыдущего?
Сегодня утром, размышляя над сказанным ночью Лиз, он думает: что моей жене до женщин, у которых нет сыновей? Может, они все такие: пытаются вообразить, каково живется их сестре. Это стоит учитывать. Восемь часов. Лиз уже хлопочет по дому. Волосы убраны под льняной чепец, рукава закатаны. — Ой, Лиз, — смеется он, — ты похожа на жену пекаря. — Веди себя приличней, — отвечает она. — Мальчишка-рассыльный. Входит Рейф. — Сперва к милорду кардиналу? Куда же еще, говорит он. Собирает бумаги. Похлопывает жену по спине, целует собачку. Выходит. На улице еще моросит, но солнце уже проглядывает. К тому времени, как они добираются до Йоркского дворца, сомнений не остается: кардинал сдержал слово. Реку заливает свет, бледный, как разрезанный лимон.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I Гости
1529
Собирают имущество кардинала. Комнату за комнатой люди короля вычищают из Йоркского дворца прежнего обитателя. Увязывают в тюки пергаменты и свитки, требники и личные записи, домашние расходные книги. Забрали даже чернила и перья. Отдирают от стен доски с кардинальским гербом. Они приехали в воскресенье, двое мстительных вельмож: герцог Норфолк, остроглазый ястреб, и не менее хищный герцог Суффолк. Герцоги сообщили Вулси, что тот отставлен с поста лорд-канцлера и должен вернуть Большую государственную печать. Он, Кромвель, тронул кардинала за локоть, произнес несколько слов. Кардинал обернулся к герцогам: тут обнаружилось, что нужно письменное требование короля, оно у вас есть? Ой, как же вы так? Нужно изрядное самообладание, чтобы говорить спокойно, но самообладания Вулси не занимать. — Вы хотите, чтобы мы скакали назад в Виндзор? — Чарльз Брэндон не верит своим ушам. — За бумажкой? В этом весь Суффолк: ему кажется, будто официальный документ — ненужная прихоть. Он снова шепчет на ухо кардиналу, и тот говорит: — Нет, Томас, лучше скажем им сразу… незачем длить агонию… Милорды, мой стряпчий напомнил, что я не могу отдать вам печать даже по письменному распоряжению. Только лично в руки начальнику судебных архивов. Так что прихватите и его. Он произносит веско: — Радуйтесь, что мы вам сказали, милорды. Не то у вас вышло бы три поездки, не так ли? Норфолк — прирожденный боец — ухмыляется. — Премного обязан, сударь. Когда герцоги выходят, Вулси оборачивается с блаженной улыбкой и заключает его в объятия. Да, это их последняя победа, но двадцать четыре часа — срок немалый, а королевские настроения переменчивы. К тому же кардиналу нравится вспоминать обескураженные лица противников. — Начальник судебных архивов, — говорит Вулси. — Вы знали или сами придумали?В понедельник утром герцоги возвращаются с приказом немедленно освободить дворец. Король хочет прислать своих строителей и мебельщиков, чтобы приготовить жилище для леди Анны — ей нужен лондонский дом. Он готов заявить протест: я чего-то не понимаю. Дворец принадлежит Йоркской епархии. Когда леди Анна стала архиепископом? Однако поток людей с пристани оттесняет их прочь. Герцоги куда-то подевались, протест заявлять некому. Какое ужасное зрелище, говорит кто-то, мастеру Кромвелю не дали сразиться. Кардинал готов ехать, но куда? Поверх багряной мантии накинут чужой дорожный плащ: гардероб изымают прямо сейчас, пришлось схватить, что подвернулось под руку. Осень, и даже такому дородному человеку холодно. Королевские слуги переворачивают сундуки, высыпают содержимое на пол: письма от Папы, от европейских ученых — из Утрехта, Парижа, Сан-Диего-де-Компостела, Эрфурта, Страсбурга, Рима. Упаковывают Евангелия, чтобы забрать в королевскую библиотеку. Книги тяжелые: их боязно держать в руках, словно они дышат: пергамент, сделанный из кожи мертворожденных телят, под рукой миниатюриста ожил голубыми и зелеными прожилками. Сорвали шпалеры, оставив голые стены. Скатали шерстяных монархов, Соломона и царицу Савскую, в рулон, и теперь те смотрят друг на друга в упор, их крохотные легкие дышат ворсом бедер и животов. На пол летят охотничьи сцены, картины мирских удовольствий: купающиеся крестьяне, загнанные олени, лающие собаки, спаниели на шелковых сворках, мастиффы в ошейниках с шипами, охотники в поясах с бляхами, наездницы в изящных шапочках, заросший камышом пруд, овцы на пастбище, синеватые перистые верхушки деревьев на фоне меловых обрывов и белесого неба. Кардинал смотрит на хлопочущих разорителей. — Найдется ли нам чем угостить наших гостей? В двух больших комнатах, прилегающих к галерее, поставили длинные козлы, каждые — двадцать футов в длину, и тащат еще. В Золоченой палате разбирают кардинальское золото и драгоценные камни, расшифровывают описи и выкрикивают вес. В Зале совета складывают серебро и позолоченную посуду. В списки внесено все, до последнего треснувшего горшка; то, что вряд ли приглянется королю, бросают в составленные под столами корзины. Сэр Уильям Гаскойн, кардинальский казначей, деловито снует из комнаты в комнату, указывает уполномоченным на шкафы и сундуки — не упустили бы чего. Следом трусит Джордж Кавендиш, распорядитель кардинальского двора, растерянный и возмущенный. Слуги тащат облачения. Сплошь расшитые, усыпанные жемчугом и драгоценными камнями, мантии сами по себе немало стоят. Налетчики валят их на пол, будто сбивают с ног Томаса Бекета.[10] Поставив каждую на колени и сломав ей хребет, они бросают ее в дорожный сундук. Кавендиш морщится: — Бога ради, джентльмены, подложите в сундуки двойной слой батиста. Не хотите же вы испортить тонкую работу, на которую у монахинь ушла целая жизнь? — Оборачивается. — Мастер Кромвель, как вы думаете, они успеют закончить дотемна? — Только если мы им поможем. Раз уж до того дошло, можно хотя бы проследить, чтобы все сделали как следует. Постыдное зрелище: человек, который правил Англией, лишен всего. Королевские слуги выносят рулоны тонкого голландского полотна, бархата и плюша, муара и тафты, красных тканей без меры и счета: алый шелк для летней лондонской жары, багряный дамаст, чтобы согревать кардинала, когда снег сыплет на Вестминстер и мокрыми хлопьями кружит над Темзой. На людях кардинал в красном, всегда в красном разных оттенков, разной плотности и выделки, но непременно в самом лучшем, в самом дорогом. Нередко его милость, прохаживаясь в раздумье, останавливался и говорил: — Ну, мастер Кромвель, оцените-ка меня по ярду! И Кромвель медленно обходил кардинала, со словами: «Позвольте», — щупал рукав, отступал на шаг, прикидывал обхват — год от года Вулси раздавался в теле — и в конце концов называл сумму. Кардинал довольно хлопал в ладоши. — Пусть завистники смотрят! Вперед, вперед, вперед! Выстраивалась процессия: серебряные геральдические кресты, стража с золочеными алебардами. Кардинал никуда не выходил без свиты. Так день за днем, по просьбе и для забавы кардинала, он оценивал своего хозяина. Теперь король прислал для того же армию писарей. Однако ему хочется силой вырвать у них перья и начертать поперек описей: «Томас Вулси бесценен». — Что ж, Томас, — говорит кардинал, хлопая его по плечу. — Все, что у меня есть, я получил от короля. Его величеству угодно было дать мне Йоркский дворец, теперь угодно забрать. Наверняка у нас есть другие дома, другие места, где приклонить голову. Здесь не Патни. И я запрещаю вам кого-нибудь бить. Вулси с улыбкой прижимает ему руки к бокам, мол, не смейте их распускать. Пальцы у кардинала дрожат. Подходит казначей Гаскойн. — Я слышал, ваша милость отправится прямиком в Тауэр. — Вот как? — спрашивает Кромвель. — И кто же вам сказал? — Сэр Уильям Гаскойн, — с растяжкой произносит кардинал, — за что, по-вашему, король должен отправить меня в Тауэр? — Очень в вашем духе, — обращается Кромвель к Гаскойну, — повторять досужие сплетни. Так-то вы поддерживаете его милость? Никто не отправляется в Тауэр. Мы едем… — все, затаив дыхание, ждут, пока он придумывает на ходу, — в Ишер. А ваше дело, — он, не сдержавшись, легонько толкает Гаскойна в грудь, — приглядывать за чужаками и следить, чтобы все, взятое отсюда, попало по назначению, потому что иначе вы сами попроситесь в Тауэр — спрятаться от меня! Какие-то звуки, по большей части из дальнего конца комнаты, — что-то вроде приглушенного «браво». Трудно побороть впечатление, что разыгрывается спектакль под названием «Кардинал и его служители». Трагедия. Кавендиш, потный, взволнованный, тянет его за рукав. — Но, мастер Кромвель, дом в Ишере пуст, у нас ни нет ни котла, ни ножа, ни вертела, где милорд кардинал будет спать, перины наверняка не просушены, нет белья, нет дров, нет… и как мы туда доберемся? — Сэр Уильям, — обращается кардинал к Гаскойну, — не обижайтесь на мастера Кромвеля, который сейчас высказался чересчур резко, но примите его слова. Поскольку все, что у меня есть, даровано королем, все следует вернуть в целости и сохранности. Губы у кардинала дрожат. Вчера, поддразнивая герцогов, его милость улыбнулся впервые за последний месяц. — Томас, — произносит Вулси, — я годами отучал вас так разговаривать. Кавендиш говорит Кромвелю: — Барку милорда кардинала еще не забрали. И лошадей. — Вот как? — Он кладет руку Кавендишу на плечо. — Значит, отправляемся вверх по реке, сколько нас поместится на барке. Лошади пусть ждут в… в Патни, а потом мы… что-нибудь одолжим. Ну же, Джордж Кавендиш, проявите изобретательность, в прошлые годы мы с вами совершали дела посложнее, чем переезд в Ишер. Правда ли это? Он никогда особенно не замечал Джорджа Кавендиша, чувствительного малого, много говорящего про салфетки. Однако он пытается вдохнуть в Кавендиша боевой дух, и лучший способ — сделать вид, будто за их плечами общие успешные кампании. — Да-да, — подхватывает Кавендиш, — мы снарядим барку. Хорошо, кивает он, а кардинал спрашивает: Патни? и он натужно смеется. Кардинал говорит, ну, Томас, вы все-таки поставили на место Гаскойна, чем-то этот человек мне всегда не нравился, и он говорит, зачем же вы его тут держали? Кардинал отвечает со вздохом, ну, так получилось, и во второй раз переспрашивает: так значит, в Патни? Кромвель говорит: — Что бы ни ждало нас в конце пути, не будем забывать, что для встречи двух королей ваша милость воздвигли парчовый город посреди мокрых пикардийских полей.[11] С той поры ваша милость только возрастали в мудрости и уважении короля. Это говорится громко, для всех, про себя же он думает: тогда речь шла о заключении мира, сейчас же мы не знаем, что у нас, первыйдень долгой или короткой кампании, лучше возвести земляные валы и надеяться, что враг не перережет пути для провианта. — Думаю, мы сумеем раздобыть кочерги, суповые миски и что там еще, на взгляд Джорджа Кавендиша, нам совершенно необходимо. Я не забыл, как ваша милость снаряжали королевские войска, отправлявшиеся во Францию. — Да, — говорит кардинал, — мы все помним ваше мнение о той кампании, Томас. Кавендиш спрашивает: «Что-что?», и кардинал объясняет: — Джордж, разве вам не вспоминается, что мой слуга Кромвель сказал в палате общин пять лет назад, когда мы просили денег на новую войну? — Но он же выступил против вашей милости! Гаскойн, который внимательно ловит каждое слово, вставляет: — Не очень-то вы хорошо себя зарекомендовали, сударь, переча королю и милорду кардиналу; я отлично помню вашу речь, и заверяю, как заверят вас еще многие, что вы не снискали себе расположения, Кромвель. Он пожимает плечами. — Я не искал расположения. Не все такие, как вы, Гаскойн. Я хотел, чтобы палата общин извлекла урок из прошлой кампании. Одумалась. — Вы сказали, мы проиграем. — Я сказал, мы разоримся. Но уверяю вас, наши войны заканчивались бы еще хуже, если бы снабжением войск занимался не милорд кардинал. — В тысяча пятьсот двадцать третьем году… — начинает Гаскойн. — Надо ли сейчас разыгрывать те сражения по новой? — спрашивает кардинал. — …герцог Суффолк был всего в пятидесяти милях от Парижа. — Да, — говорит Кромвель, — а вы знаете, что такое пятьдесят миль для полуголодного пехотинца, который засыпает на мокрой земле и просыпается окоченевшим? Для обоза, когда телеги по оси увязают в грязи? А что до побед тысяча пятьсот тринадцатого… оборони нас Господь. — Турне! Теруан![12] — восклицает Гаскойн. — Вы что, слепы? Два французских города взято. Король проявил на поле боя чудеса храбрости! Будь мы на поле боя, думает он, я бы плюнул тебе под ноги. — Если вы так любите короля, почему бы вам не поступить к нему на службу? Или вы и так уже на жаловании у его величества? Кардинал тихонько откашливается. — Мы все служим королю, — говорит Кавендиш. А кардинал добавляет: — Томас, мы все — творения его рук.
Они садятся в барку. Над нею реют флаги: роза Тюдоров, две черные корнуольские галки — символ святого покровителя Вулси, Томаса Бекета. Кавендиш, хлопая глазами, восклицает: «Гляньте, сколько лодок на реке! Так и снуют!» В первый миг Вулси думает, что лондонцы вышли попрощаться. Но когда он всходит на барку, с лодок несутся гогот и улюлюканье. На пристани собрались люди, и хотя кардинальская стража их сдерживает, нет сомнений, что намерения у толпы самые враждебные. Когда барка начинает двигаться вверх по реке, а не вниз, к Тауэру, слышны вопли и угрозы. И вот тут-то кардинал теряет власть над собой: падает на скамью и говорит, говорит, говорит до самого Патни. — За что меня так ненавидят? Что они от меня видели, кроме добра? Сеял ли я вражду? Нет. Доставал зерно в неурожайные годы. Когда взбунтовались подмастерья, на коленях в слезах молил его величество помиловать зачинщиков, уже стоявших с веревками на шее. — Толпа, — произносит Кавендиш, — всегда жаждет перемен. Видя, как великий человек вознесся, она хочет его низвергнуть, просто ради новизны. — Пятнадцать лет канцлером. Двадцать — на службе у короля, а перед тем — у его отца. Не щадил себя — вставал рано, трудился допоздна… — Вот что значит служить властителям, — замечает Кавендиш. — Следует помнить, что их любовь недолговечна… — Властитель не обязан быть постоянным, — произносит он, а про себя думает: я ведь могу не утерпеть и выбросить тебя за борт. Кардинал перенесся на двадцать лет назад, в прошлое, когда молодой король только вступил на престол. — Заставьте его трудиться, говорили некоторые, но я отвечал, нет, он молод, пусть сражается на турнирах, охотится, выпускает соколов и ястребов… — Играет на музыкальных инструментах, — подхватывает Кавендиш. — Его величество все время перебирает струны лютни или мандолины. Поет… — У вас он просто Нерон какой-то. — Нерон? — Кавендиш вздрагивает. — Я такого не говорил! — Добрейший, мудрейший государь в христианском мире. Я не слышал, чтобы кто-нибудь сказал о нем хоть одно худое слово… — И не услышите, — замечает он. — Чего я только не делал! Пересекал Ла-Манш, как другой переступает через ручеек мочи на улице! — Кардинал качает головой. — Днем и ночью, в седле и за четками… двадцать лет… — Это как-то связано с английским характером? — пылко спрашивает Кавендиш, все еще вспоминая разъяренную толпу на пристани; даже и сейчас люди еще бегут вдоль берега, свистя и делая непристойные жесты. — Скажите, мастер Кромвель, вы бывали за границей: англичане что, особенно неблагодарная нация? Мне кажется, им нравятся перемены ради перемен. — Не думаю, что дело в англичанах. Скорее просто в людях. Они всегда надеются, что новое будет лучше. — Но что они выиграют? — настаивает Кавендиш. — Сытого пса сменит голодный, кусающий ближе к кости. Место человека, разжиревшего от славы, займет тощий и алчный. Он закрывает глаза. В серой воде смутно отражаются три силуэта — аллегория Фортуны. В центре — Низверженное величие. Справа Кавендиш, олицетворение Добродетельного советчика, бормочет ненужные, запоздалые слова, которые опальный вельможа слушает, склонив голову; он сам в роли Искусителя слева, и кардинальская рука, унизанная перстнями с гранатами и турмалинами, до боли сжимает его руку. Джордж давно отправился бы за борт, не будь сказанное, при всей своей банальности, по сути верно. А почему? Из-за Стивена Гардинера. Негоже называть кардинала разжиревшим псом, но Стивен определенно алчен и тощ. Недавно король назначил мастера Стивена своим личным секретарем. Не так уж мало людей, вышколенных кардиналом, служит теперь при дворе, но Гардинер, если сумел правильно себя поставить, ближе к его величеству, чем кто-либо другой, за исключением человека, стоящего подле монаршего стульчака с подтиркой в руках. А было бы неплохо, если б и эту обязанность поручили мастеру Стивену. Кардинал закрывает глаза. Из-под век проступают слезы. — Воистину, — вещает Кавендиш, — Фортуна непостоянна, прихотлива и переменчива. Он быстро — пока кардинал не видит — сдавливает пальцами себе горло. Кавендиш, правильно поняв его жест, умолкает. Они растерянно переглядываются. Один слишком много наговорил, другой слишком много передумал. Есть ли золотая середина? Он скользит взглядом по берегам Темзы. Кардинал по-прежнему плачет, сжимая его руку. Берег уже не внушает опасений. Не потому, что в Патни англичане менее переменчивы. Просто там еще не знают.
Лошади ждут. Кардинал как служитель Божий всегда ездит на рослом и сильном муле; впрочем, поскольку его милость все двадцать лет охотился вместе с королем, конюшням Вулси позавидует любой дворянин. Мул, как всегда, под красной попоной, прядает длинными ушами. Рядом кардинальский шут Секстон. — А дурак-то здесь зачем, ради всего святого? — спрашивает он Кавендиша. Шут подходит и что-то шепчет кардиналу на ухо; тот смеется. — Отлично, Заплатка. А теперь, будь другом, помоги мне сесть в седло. Но Заплатка — мастер Секстон — не справляется. Кардинал обессилел и как будто стал еще тяжелее. Он, Кромвель, спрыгивает с седла, кивает слугам кардинала. — Мастер Заплатка, подержи Кристофера. Заплатка делает вид, будто не помнит, что Кристофером зовут мула, и хватает ближайшего слугу. Он говорит: Христа ради, Заплатка, не путайся под ногами, или я посажу тебя в мешок и брошу в реку. Слуга, которому шут чуть не оторвал голову, трет шею, говорит, спасибо, мастер Кромвель, и берет мула под уздцы. Он, Кромвель, вместе с двумя слугами взваливает кардинала в седло. Тот смотрит пристыженно. — Спасибо, Том. — Смеется жалобно, тоненько. — Ну вот и тебе перепало, Заплатка. Они готовы ехать. Кавендиш поднимает голову. — Святые угодники! — По дороге галопом приближается одинокий всадник. — Его милость хотят арестовать! — Один человек? — Остальные сзади, — говорит Кавендиш. Он отвечает: Патни, конечно, неспокойное место, но не настолько, чтобы высылать дозорных. Тут кто-то кричит: «Это Гарри Норрис!» Всадник торопливо спешивается. Это и впрямь Норрис, один из ближайших друзей короля, смотритель при стульчаке — тот самый человек, который подает его величеству подтирку. Вулси сразу понимает, что король не отправил бы Норриса взять его под стражу. — Отдышитесь, сэр Генри. Из-за чего такая спешка? Норрис говорит, простите, милорд кардинал, срывает шляпу, кланяется, чуть не задевая перьями грязь, утирает лоб рукавом, улыбается в высшей степени любезно. Король поручил мне скакать за вашей милостью, догнать вас, сказать вам слова утешения и вручить перстень, который вы сразу узнаете. Протягивает перстень на ладони. Кардинал слезает с седла и падает на колени. Берет перстень, прижимает к губам. Молится. Молится, благодарит Норриса, призывает благословение Божие на своего монарха. «У меня нет ничего ценного, чтобы послать королю». Озирается, словно ищет глазами подходящий дар — дерево? Норрис пытается поднять кардинала, и в конце концов встает рядом на колени — такой пригожий, опрятный молодой человек — на колени в дорожную грязь. У Норриса выходит, что король лишь притворился разгневанным, а на самом деле ничуть не гневается; его величеству известно, что у кардинала есть враги, к которым он сам, Henricus Rex,[13] отнюдь не принадлежит, и мнимая опала должна успокоить этих врагов; все, отнятое у кардинала, будет возмещено в двойном размере. Кардинал плачет. Начинается дождь, ветер бросает дождевые струи в лицо. Кардинал что-то быстро, тихо говорит, потом срывает с себя золотую цепь, хочет надеть ее на сэра Генри, но запутывается в пряжках дорожного плаща. Слуги подбегают и безуспешно пытаются ему помочь. Норрис встает и начинает отряхивать колени левой рукой в перчатке, правой прижимая к себе цепь. — Носите ее, — просит кардинал, — может, как-нибудь глянете на нее и замолвите за меня словечко перед королем. Кавендиш подъезжает вплотную. — Реликварий его милости! — Джордж расстроен, изумлен. — Расстаться с таким сокровищем! Там частица истинного креста! — Мы добудем ему еще. Я знаю человека в Пизе, который продает их по пять флоринов десяток — дюжину, если платишь сразу. С сертификатом, заверенным отпечатком пальца апостола Петра. — Стыдитесь! — Кавендиш, резко дернув уздечку, поворачивает коня в сторону. Норрис передал все, что было поручено, и кардинала вновь усаживают в седло. На сей раз четверо дюжих слуг берутся за дело, будто занимались этим спокон веков. Драма превратилась в комическую интерлюдию самого низкого пошиба. Он думает: вот для чего здесь нужен Заплатка. Подъезжает к Норрису, спрашивает, глядя сверху вниз: — Мы можем получить все это в письменном виде? Норрис отвечает с улыбкой: — Вряд ли, мастер Кромвель. Это конфиденциальное сообщение для милорда кардинала. Слова моего господина предназначены только его милости. — А как насчет обещанного возмещения? Норрис смеется — как всегда, когда хочет обезоружить противника, — и говорит шепотом: — Думаю, это фигура речи. Удвоить состояние кардинала?! У Генриха столько нет. — Похоже на то. Верните то, что забрали. Мы не просим вдвое. Норрис трогает золотую цепь на шее. — Все от короля. Нельзя называть это грабежом. — Я и не называл. Норрис задумчиво кивает. — Верно, не называли. — У кардинала забрали церковные облачения — знак его сана. Что отнимут следующим? Бенефиции? — Ишер — вы ведь туда едете, я правильно понимаю? — одно из владений, принадлежащих его милости как епископу Винчестерскому. — И? — Кардинал пока сохранит и этот сан, и поместье, но… как бы выразиться?.. король еще не принял окончательного решения. Как вы знаете, кардиналу предъявлено обвинение, согласно статуту о превышении власти церковнослужителем, в попытке применить на английской земле несоответствующие полномочия. — Не учите меня законам. Норрис наклоняет голову. Он думает: прошлой весной, когда тучи начали сгущаться, надо было убедить милорда кардинала, чтобы тот разрешил мне перевести часть денег за границу, где мы всегда сможем их получить. Но тогда кардинал ни о какой опасности и слышать не хотел. Почему я позволил ему сохранять благодушие? Норрис берется за уздечку, говорит: — Я всегда восхищался вашим господином и надеюсь, что в теперешних бедствиях он это вспомнит. — Мне казалось, никаких бедствий нет. Согласно вашим словам. Вот бы сейчас схватить Норриса за шкирку и вытрясти прямые ответы. Увы, простых решений не бывает: этому научили его мир и кардинал. Господи, думает он, в мои лета пора бы знать. Успехи приносит не оригинальность. Не ум. Не сила. Успехов достигают ловкие интриганы вроде — и в этом он все больше уверен — Норриса. В душе крепнет бессознательная неприязнь, он пытается ее прогнать, потому что уж если неприязнь, то пусть лучше осознанная, но, в конце концов, обстоятельства исключительные: кардинал в грязи, унизительная возня с усаживанием на мула, бесконечные причитания в пути и, хуже, бесконечные причитания на коленях, как будто Вулси разматывается, распускается, словно огромный алый клубок, в длинную алую нить, которая заведет тебя в алый лабиринт с умирающим чудищем посередине. — Мастер Кромвель! — говорит Норрис. Он не может рассказать, о чем думал, просто смотрит на Норриса сверху вниз и произносит, смягчившись лицом: — Спасибо за утешение. — Увезите милорда кардинала из-под дождя. Я расскажу королю, в каком состоянии его нашел. — Расскажите, как вы вместе стояли на коленях в грязи. Король позабавится. — Да, — печально кивает Норрис. — Никогда не знаешь, как он все воспримет. И тут Заплатка начинает вопить. Кардинал — озираясь в поисках подарка — увидел шута и счел того достойным подношением королю. Заплатка, часто говорил Вулси, стоит тысячи фунтов. Шут едет с Норрисом — сейчас самое подходящее время. Четверо слуг пытаются скрутить Заплатку, тот кусает их, отбивается руками и ногами, пока его не бросают на вьючного мула, освобожденного от поклажи. Теперь Заплатка рыдает в голос, икая, ребра ходят ходуном, дурацкие ноги болтаются, плащ порван, перо на шляпе переломилось. — Ну же, Заплатка, — уговаривает кардинал, — ну же, мой дорогой. Мы будем часто видеться, как только король вернет меня ко двору. Мой милый Заплатка, я напишу тебе письмо, тебе лично. Сегодня же напишу и скреплю своей большой печатью. Король тебя полюбит, он — добрейшая душа во всем христианском мире. Заплатка воет на одной ноте, как пленник, которого турки посадили на кол. Дурак-то, говорит он Кавендишу, свалял дурака. Не надо было обращать на себя внимание.
Ишер: епископ спешивается перед старым донжоном, увенчанным восьмиугольными башенками. Пятьдесят лет назад Уэйнфлит, тогдашний епископ Винчестерский, выстроил здесь четырехэтажную надвратную башню. От башни отходит куртина с галереей наверху, по виду мощная, но все эти сооружения — из красного и белого кирпича, сложная орнаментальная кладка. Украшение, не защита. — Это место невозможно укрепить, — говорит он. Кавендиш молчит. — Джордж, вы должны сказать: «Но его и нет нужды укреплять». Кардинал не был здесь с тех пор, как выстроил Хэмптон-корт. Они выслали вперед гонцов, но сделано ли хоть что-нибудь? Устройте милорда поудобнее, бросает он, и направляется прямиком на кухню. В поварни Хэмптон-корта проведена вода, здесь течет только из носа у поваров. Кавендиш прав. Все куда хуже, чем он думал. Кладовые почти пусты, а то немногое, что есть, в основном испорчено. В муке черви. На столе, где раскатывают тесто — мышиный помет. Скоро Мартинов день, а здесь еще не начинали заготавливать солонину. На кухонную посуду стыдно смотреть. Котел зарос плесенью. У очага греются мальчишки: за несколько монет они с охотой возьмутся скоблить и чистить. Дети любят все новое, а идея чистоты для них, сдается, совершенно нова. Милорду, думает он, надо есть и пить сейчас, надо будет есть и пить еще… неизвестно сколько. Кухню нужно привести в порядок к предстоящей зиме. Он находит грамотного слугу и начинает диктовать, загибая пальцы на левой руке: во-первых, сделайте то, во-вторых — это. Правой рукой умело разбивает в миску яйца, отцеживая через пальцы тягучий белок и отделяя желтки. «Сколько пролежало это яйцо? Смените поставщика. Мне нужен мускатный орех. Мускатный орех? Шафран?» На него смотрят так, будто он говорит по-гречески. В ушах по-прежнему звучат пронзительные вопли Заплатки. Он возвращается в зал; со стен на него смотрят пыльные ангелы. Проходит довольно много времени, прежде чем им удается уложить кардинала в некое подобие постели. Где мажордом? Где гофмейстер? Ему уже кажется, будто они с Кавендишем и впрямь последние уцелевшие ветераны долгой кампании. Они остаются в зале — постелей, чтобы лечь, все равно нет — и составляют список первоочередных надобностей. Столовое серебро, чтобы кардиналу не есть из старых оловянных мисок, постельное белье, скатерти, дрова. — Я пришлю людей разобраться с кухней, — говорит он. — Итальянцев. Поначалу будет неразбериха, но недели через три все выправится. Три недели. Надо бы заставить мальчишек отдраить медную посуду. — Можем ли мы раздобыть лимоны? — спрашивает он, и одновременно Кавендиш произносит: «Так кто станет лордом-канцлером?» Интересно, думает он, есть ли здесь крысы. Кавендиш продолжает: — Вновь призовут его милость Кентербери? Через пятнадцать лет после того, как кардинал вытеснил архиепископа с этой должности. — Нет, Уорхем слишком стар. — (И слишком упрям, слишком противится желаниям короля.) — И не герцог Суффолкский. — (Потому что Чарльз Брэндон не умнее мула Кристофера, хотя дерется и наряжается не в пример лучше.) — Не Суффолк, потому что Норфолк этого не потерпит. — И наоборот, — подхватывает Кавендиш. — Епископ Тунстолл? — Нет. Томас Мор. — Мирянин, человек незнатного рода? Который к тому же против нового брака короля? Он кивает, да-да, канцлером будет Мор. Королю и прежде случалось доверять свою совесть строгим оценщикам. Возможно, его величество надеется таким образом спастись от самого себя. — Если король и предложит Мору канцлерский пост — тот ведь откажется? — Нет. — Пари? — предлагает Кавендиш. Они договариваются о закладе и ударяют по рукам. Пари помогает отвлечься от насущных забот: крыс, холода, вопроса, как втиснуть несколько сотен человек из Вестминстера в куда меньший Ишерский дворец. Штат кардинала — если взять главные резиденции и пересчитать всех, от священников и поверенных до метельщиков и прачек — больше шестисот душ. Три сотни вот-вот прибудут. — По всему выходит, некоторых придется отпустить, — произносит Кавендиш. — Но у нас нет денег, чтобы с ними расплатиться. — Будь я проклят, если мы отпустим их без жалования, — говорит он, а Кавендиш замечает: — Думаю, вы так и так прокляты. После того, как высмеивали реликвии. Они переглядываются и начинают хохотать. По крайней мере, вина хватает, погреба полны, и это хорошо, замечает Кавендиш, потому что пить нам тут еще много недель. — Что, по-вашему, имел ввиду Норрис? — спрашивает Джордж-Как король мог отстранить милорда кардинала, если не хотел его отстранять? Почему уступил врагам милорда? Разве король не властен над своими врагами? — Хотелось бы верить. — Или это она? Наверняка она. Король ее боится. Она ведьма. Он говорит, не глупите. Кавендиш отвечает, точно ведьма, так говорит герцог Норфолк, ее дядя — кому еще знать. Два часа, потом три; на душе странная легкость от мысли, что не надо ложиться, потому что лечь негде. Незачем собираться домой: у него не осталось ни дома, ни семьи. Куда лучше пить с Кавендишем в уголке огромного зала, дрожа от холода, усталости и неуверенности в завтрашнем дне, чем думать о своих утратах. — Завтра, — объявляет он, — приедут из Лондона мои клерки, и мы попытаемся выяснить, что у милорда осталось. Задача непростая, потому что все бумаги изъяты. Кредиторы остановят платежи, как только узнают о случившемся. Правда, французский король платит кардиналу пенсион и, насколько я помню, сильно задолжал. Возможно, Франциск захочет прислать его милости мешок с золотом под обещание будущих услуг. А вы… вы можете порыскать по округе.
Утром, чуть свет, Кавендиш — осунувшийся, с запавшими глазами — садится на лошадь. — Раздобудьте нам хоть что-нибудь. Во всем королевстве едва ли найдется человек, не обязанный милорду кардиналу хоть чем-либо. Конец октября, солнце — монетка, едва подброшенная над горизонтом. — Не давайте ему унывать, — просит Кавендиш. — Говорите с ним. Напоминайте о словах Гарри Норриса. — Езжайте. Если увидите угли, на которых зажарили святого Лаврентия, прихватите их с собой — они тут пригодятся. — Не надо, — умоляет Кавендиш. После вчерашнего Джордж вполне готов к шуткам насчет святых мучеников, но с похмелья больно смеяться. А не смеяться тоже больно. Лошадь перебирает копытами. Джордж роняет голову, в глазах — растерянность. — Как до такого могло дойти? Милорд кардинал на коленях в грязи. Как это случилось, ради всего святого? Кромвель говорит: — Шафран. Изюм. Яблоки. И кошек. Раздобудьте кошек, больших и голодных. Я не знаю, Джордж, откуда они берутся? О, погодите! Не сможем ли мы достать куропаток? Если будут куропатки, их можно разделать, и грудки обжарить прямо за столом. Нужно, чтобы все готовили под нашим присмотром; и тогда, если мы постараемся, милорда кардинала не отравят.
II Потаенная история Британии
1521–1529
Давным-давно, в незапамятные времена, правил в Греции царь, у которого было тридцать три дочери. Сестры взбунтовались и убили своих мужей. Горюя, что породил таких непокорных дочерей, но не желая губить собственную плоть и кровь, царь посадил их на корабль без руля и доверил морским волнам. Еды на корабле было на полгода. К концу этого срока течения и ветра унесли царевен за пределы известных земель и прибили к острову, окутанному туманом. Он не имел названия, и старшая из сестер-убийц дала ему свое имя: Альбина. За полгода царевны изголодались по любовным утехам, однако на острове не было людей, только демоны. Тридцать три царевны сошлись с демонами и породили великанов, которые, в свой черед, переженились на собственных матерях. Их потомство заселило весь остров. У них не было священников, не было церквей и законов. Не умели они и вести счет годам. Через восемь столетий троянец Брут положил конец правлению великанов. Брут, праправнук Энея, появился на свет в Италии. Мать его не пережила родов, отца он случайно застрелил на охоте. Брут бежал в Грецию, где стал вождем у троянцев, живших там в рабстве. Вместе они отправились на север; ветер и течения прибили их к тому же острову, куда столетьями раньше вынесло царевен. Здесь беглецам пришлось вступить в бой с великанами, возглавляемыми Гогмагогом. Троянцы одержали победу и сбросили Гогмагога в море.[14] Откуда ни посмотри, все начинается с кровопролития. Брут и его потомки правили островом до прихода римлян. Прежде чем стать городом Луда,[15] Лондон звался Новой Троей. А мы были троянцами. Некоторые утверждают, что Тюдоры вписаны в эту кровавую и демоническую историю; они происходят от Брута по линии Константина, чья мать, святая Елена, была дочерью бриттского вождя. Артур, верховный король Британии, приходился Константину внуком. Он был женат на женщинах по имени Гвиневера числом от одной до трех и похоронен в Гластонбери, но на самом деле не умер и однажды вернется. В лето тысяча четыреста восемьдесят шестое родился его благословенный потомок, принц Артур Английский, старший сын Генриха — первого короля из династии Тюдоров. Этот Артур женился на арагонской принцессе Екатерине, умер в пятнадцать лет и похоронен в Вустерском соборе. Будь он жив, он бы сейчас правил Англией. Его младший брат Генрих был бы, вероятно, архиепископом Кентерберийским и не домогался (по крайней мере, мы благочестиво в это верим) женщины, о которой кардинал не слышал ничего хорошего; женщины, на которую его милости стоило обратить внимание задолго до прихода разгневанных герцогов — и в чью историю ему следовало бы хорошенько вникнуть, не дожидаясь королевской опалы. За каждой историей — другая история.Упомянутая дама появилась при дворе на Рождество 1521 года и танцевала в желтом платье. Ей было… дай Бог памяти… лет двадцать? Дочь дипломата Томаса Болейна, она росла при бургундском дворе в Мехелене и Брюсселе, затем в свите королевы Клод разъезжала по дивным замкам Луары, потому и на родном языке говорит с едва уловимым акцентом, вставляя французские словечки, когда делает вид, будто не может вспомнить английского. На Масленицу она танцует в придворном спектакле. Дамы наряжены Добродетелями, и ей досталась роль Упорства, которую она исполняет с большим изяществом, но чуть торопливо; на губах блуждает самодовольная улыбка, в чертах сквозит неприступность. С тех пор за ней увивается много захудалых джентльменов и один отнюдь не захудалый. Пополз слушок, будто она выходит замуж за Гарри Перси, наследника герцога Нортумберлендского. Кардинал вызывает к себе ее отца. — Сэр Томас Болейн, побеседуйте с вашей дочерью, или я с ней побеседую. Мы привезли ее из Франции, чтобы выдать замуж в Ирландию, за наследника Батлеров.[16] Почему она медлит? — Батлеры… — начинает сэр Томас. — Да? Так что Батлеры? Если дело за ними, я разберусь. А хочу я знать вот что: это по вашей указке она связалась с тем глупым мальчишкой? Поскольку, сэр Томас, позвольте мне сказать со всей откровенностью: я такого не потерплю. Король такого не потерпит. Шашням следует немедленно положить конец. — Последние несколько месяцев я почти не бывал в Англии. Вашей милости не следует думать, будто я здесь как-то замешан. — Мне лучше известно, что мне следует думать. Так больше вам сказать нечего? Кроме того, что вы не способны приглядеть за собственными детьми? Сэр Томас усмехается и разводит руками, намереваясь отпустить замечание про нынешнюю молодежь, но кардинал не дает ему открыть рот. Кардинал подозревает — и высказывает свои подозрения вслух, — что юной особе не по душе скудная обстановка Килкенни и не по нраву редкие увеселения, доступные в тех краях, если раз в сезон отправиться по ужасной дороге в Дублин. — Кто это? — спрашивает Болейн. — Там, в углу? Кардинал отмахивается. — Один из моих стряпчих. — Пусть уйдет. Кардинал вздыхает. — Он записывает наш разговор? — Томас, вы записываете? — спрашивает кардинал. — Если да, то перестаньте, пожалуйста. Половину мужчин в Англии зовут Томасами. Позже Болейн не сумеет вспомнить наверняка, действительно ли это был он. — Послушайте, милорд… — Дипломат использует весь богатейший диапазон своего голоса, сейчас регистр — прямодушие, улыбка словно говорит: ну же, Вулси, мы оба с вами люди взрослые, светские, нам ни к чему друг перед другом притворяться. — Они молоды. — Движение руки, долженствующее подчеркнуть искренность. — Молодому человеку она приглянулась. Ничего удивительного. Мне пришлось с ней поговорить. Она все поняла. Она знает свое место. — Вот и хорошо, — говорит кардинал, — потому что ее место внизу. Я о родовитости, а не о том, что бывает теплой ночью на сеновале. — Молодой человек не принял отказа. Его хотят женить на Мэри Тэлбот, но… — Болейн сопровождает свои слова беспечным смешком, — молодой человек не хочет. Молодой человек считает, что вправе сам выбрать себе жену… — Выбрать жену! — взрывается кардинал. — В жизни не слышал ничего подобного! Он что, пастух или землепашец? Ему предстоит оборонять наш север. Либо он осознает свою ответственность, либо простится с наследством. Дочь Шрусбери — самая подходящая для него партия, я сам ее выбрал, а король одобрил предстоящий союз. И уверяю вас, граф Шрусбери не станет смотреть сквозь пальцы на шутовские выходки дочкиного жениха. — Затруднение в том… — Болейн выдерживает дипломатическую паузу, — что Гарри Перси и моя дочь, кажется, зашли слишком далеко. — Что? — восклицает кардинал. — Вы хотите сказать, мы все-таки говорим о сеновале в теплую ночь? Кромвель наблюдает из темного угла и думает: Болейн феноменально хладнокровен. — Насколько я понял сих слов, они обручились перед свидетелями. И как это теперь отменить? Кардинал грохает кулаком по столу. — Я вам объясню, как! Я вызову его отца с границы, и если блудный сын не послушается родителя, не видать ему наследства, как своих блудных ушей. У графа есть другие сыновья, получше. А вы, если не хотите, чтобы Батлер отказался от вашей дочки и она осталась у вас на шее старой девой, забудьте и думать про всякие обручения и свидетелей. Знаю я этих свидетелей — когда я за ними пошлю, они все попрячутся. Так что я больше не желаю об этом слышать. Обручение. Свидетели. Контракты. Силы небесные! Болейн по-прежнему улыбается. Чтобы сохранять улыбку на лице, требуется усилие каждой мышцы крепкого, жилистого тела. — Я не спрашиваю, — безжалостно продолжает кардинал, — советовались ли вы по этому поводу со своими родичами Говардами. Мне не хочется думать, что вы затеяли вашу авантюру с их одобрения. Меня бы очень огорчило, если бы выяснилось, что герцог Норфолк ее одобрил. Очень, очень огорчило. Так что не рассказывайте мне, ладно? Идите к родичам и попросите дать вам на сей раз добрый совет. Отправьте дочь в Ирландию, пока Батлеры не прослышали, что она — порченый товар. Я не стал бы такого говорить, но придворным сплетникам не укажешь. На лице у сэра Томаса горят алые пятна. — Вы закончили, милорд кардинал? — Да. Ступайте. Болейн поворачивается в вихре темного шелка. Глаза блестят — неужели в них слезы гнева? В комнате темно, но он, Томас Кромвель, очень зорок. — Ах да, минуточку, сэр Томас. — Слова кардинала настигают и, как аркан, разворачивают жертву. — Так вот, сэр Томас, не забывайте свою родословную. Семейство Перси — одно из знатнейших в стране. Вам, конечно, очень повезло взять жену из Говардов, но ведь Болейны, если не ошибаюсь, раньше занимались торговлей? Ваш предок был лордом-мэром Лондона, не так ли? Или я спутал ваш род с более именитыми Болейнами? Красные пятна исчезли с лица сэра Томаса; сейчас оно бледно, словно дипломат от гнева вот-вот лишится чувств. Покидая комнату, сэр Томас шепчет: «Сын мясника», а проходя мимо стряпчего — который сидит, сложив тяжелые руки на столе, — бросает: «Пес мясника».
Дверь хлопает. Кардинал говорит: — Выходи, пес. Его милость смеется, подперев голову руками. — Смотрите и учитесь, Томас. Вам не исправить свою родословную — а видит Бог, она еще постыднее моей. Трюк в том, чтобы напоминать им об их же собственных мерках. Придумали правила — не обижайтесь, когда я строже других требую эти правила соблюдать. Перси выше Болейнов. И пусть не воображает о себе лишнего! — Разумно ли злить людей? — Конечно нет. Однако я устаю от трудов, и мне надо иногда позабавиться. — Кардинал смотрит на него ласково, и это наводит на подозрение, что следующая забава сегодняшнего вечера (после того как Болейн изорван в клочья и брошен на землю, словно апельсиновая кожура) — наставительная беседа с Томасом Кромвелем. — К кому следует проявлять почтение? К Перси, Стаффордам, Говардам, Тэлботам, да. Если уж дразнить их, то берите палку подлиннее. А Болейн… в фаворе у короля, да и вообще способный малый. Вот почему я вскрываю все письма сэра Томаса вот уже много лет. — В таком случае милорду известно… о нет, простите, вам такое слушать негоже. — Что? — спрашивает кардинал. — Всего лишь сплетни. Я бы не хотел вводить вашу милость в заблуждение. — Нельзя говорить и не говорить. Выкладывайте. — Да просто женщины болтают. Мастерицы. Жены суконщиков. — Он ждет, улыбаясь. — Я уверен, вашей милости не до бабских пересудов. Кардинал со смехом встает из кресла, тень прыгает по стене. Рука стремительно тянется вперед, вседосягающая, словно десница Божья. Однако когда Бог сжимает пальцы в кулак, они хватают воздух. Человек, только что стоявший напротив, теперь на другом конце комнаты, у стены. Тень колышется и замирает. Кардинал неподвижен. Стена ловит ритм его дыхания. Кардинал склоняет голову (волосы в свете камина окружены нимбом), смотрит на пустой кулак. Растопыривает исполинскую, в отблесках пламени пятерню. Упирается ею в стол, и она исчезает, сливается с камчатной скатертью. Лицо кардинала в тени. Он — Томас, а также Томос, Томмазо и Томаэс Кромвель — вбирает все свои прежние образы в нынешнее тело и осторожно возвращается на прежнее место. Его единственная тень скользит по стене — гость, неуверенный, что ему рады. Который из Томасов увидел нацеленный в грудь удар? В такие мгновения тело действует по памяти. Ты отпрыгиваешь, пригибаешься, бежишь; или прошлое выбрасывает твой кулак без посредства воли. А если бы у тебя в руке был нож? Так и происходят убийства. Он что-то говорит, кардинал что-то говорит. Оба умолкают. Кардинал опускается в кресло. Томас мгновение медлит, потом тоже садится. Его милость произносит: — Я и впрямь хотел узнать лондонские сплетни, но не собирался их из вас выбивать. Кардинал некоторое время изучает бумаги на столе, давая неловкости пройти, а когда заговаривает, то уже совсем другим тоном — беспечным, словно рассказывает после ужина забавный анекдот: — У моего отца был знакомый… точнее, покупатель… сочень красным лицом. Вот таким. — Трогает для иллюстрации рукав. — Ревелл его звали, Майлс Ревелл. — Рука снова ложится на темную камчатную скатерть. — Добропорядочный горожанин, любитель пропустить стаканчик рейнского. Только я почему-то вообразил, будто он пьет кровь… может, нянька мне сказала, может, кто-то из детей. Когда отцовские подмастерья узнали… по моей глупости, конечно, потому что я плакал от страха… они завели обыкновение кричать: «Ревелл идет, сейчас будет пить кровь, беги, Томас Вулси, спасайся!» Я убегал, будто за мной черт гонится, на другой конец рынка. Странно, что не угодил под телегу. — Кардинал берет со стола восковую печать, вертит, кладет на место. — Даже и теперь, когда я вижу краснолицего человека — например, герцога Суффолка, — мне хочется плакать. — Пауза. — Итак, Томас… неужто клирик не может встать без того, чтобы его сочли кровопийцей? — Снова берет печать, вертит в руках, отводит взгляд, продолжает, явно забавляясь. — Пугаетесь ли вы епископов? А приходских священников? Дрожите ли при виде настоятеля? Он говорит: — Как это называется? Я не знаю английского слова. Эсток… Может быть, и нет английского слова для узкого клинка, который вгоняют под ребра. Кардинал спрашивает: — И это было?.. Это было двадцать лет назад. Урок усвоен накрепко. Ночь, лед, застывшее сердце Европы; лес, озеро, серебристое под зимними звездами; комната, свет камина, скользнувшая по стене тень. Он не видел убийцу, только движение тени. — И все равно, — продолжает кардинал. — Я не встречался с мастером Ревеллом сорок лет. Он, небось, давно в могиле. А тот человек?.. Тоже давно мертв? Деликатнейший из всех мыслимых способов полюбопытствовать у собеседника, есть ли за ним убийство. — Да, милорд. Горит в аду, если вашей милости угодно. Вулси улыбается — не из-за упоминания ада, а из-за учтивого признания широты своей власти. — Значит, всякий, поднявший руку на юного Кромвеля, повинен геенне огненной? — Вы бы его видели, милорд. Он был так грязен, что в чистилище его бы не пустили. Кровь Агнца, как нас учат, спасает грешников, но даже она не отмыла бы того малого дочиста. — Я за то, чтобы в мире было как можно меньше грязи. — Вулси смотрит печально. — Вы ведь исповедались? — Это было давно. — Вы, конечно, исповедались? — Милорд кардинал, я был солдатом. — Солдаты чают Царствия Небесного. Он смотрит Вулси в лицо. Поди пойми, во что кардинал верит. — Мы все его чаем. Как там в считалочке? Солдат, моряк, король, босяк. — Итак, вы в юности были не сахар, — говорит кардинал. — Ça ne fait rien.[17] A тот грязный малый, который на вас напал… он ведь не был духовным лицом? Улыбка. — Я не спрашивал. — Да, странные шутки выкидывает с нами память. Томас, я постараюсь в вашем присутствии не совершать резких движений, и все у нас будет хорошо. И все же Вулси продолжает его разглядывать: удивление еще не улеглось. Они знакомы совсем недавно, и кардинал только-только — быть может, как раз сегодня вечером — взялся придумывать ему характер. В грядущие годы Вулси будет говорить: «Я часто сомневаюсь, так ли хорош монашеский идеал, особенно для молодых. Взять хотя бы моего слугу Кромвеля — он всю юность провел в тиши, почти исключительно за молитвой, постом и чтением Отцов Церкви. Потому-то теперь он такой буйный». А когда собеседники, смутно припоминая человека исключительной сдержанности, удивятся: «Ваш слуга Кромвель? Неужто?» — кардинал будет отвечать, качая головой: «Разумеется, я пытаюсь загладить его выходки. Когда он бьет окна, я приглашаю стекольщика. А что до девушек, попавших в беду… я плачу бедняжкам из своего кармана». Однако сейчас кардинал занят другим. Большие руки сцеплены, будто пытаются задержать уходящий вечер. — Итак, Томас, вы собирались пересказать мне сплетни. — Из того, сколько шелка заказывает король у торговцев тканями, женщины делают выводы, что у его величества новая… — Он не заканчивает фразу. — Милорд, как вы называете шлюху, если она — дочь рыцаря? — Ммм… — задумчиво тянет кардинал, вникая в проблему. — В лицо — «миледи». За глаза… а как ее имя? Что за рыцарь? Он кивает на то место, где десять минут назад стоял Болейн. Кардинал подается вперед. — Почему вы не сказали сразу? — Как я мог? Кардинал кивает, соглашаясь, что вклиниться с такой щекотливой темой в разговор было бы непросто. — Но это не та Болейн, которая с Гарри Перси. Ее сестра. — Ясно. — Кардинал снова откидывается в кресле. — Конечно. Мария Болейн — миниатюрная блондиночка, по слухам, переспавшая со всем французским двором. Теперь она при английском дворе: всем улыбается, со всеми мила, не то что вечно хмурая младшая сестрица, ходящая за нею, как тень. — Конечно, я наблюдал, на ком его величество задерживает взгляд, — говорит кардинал. Кивает самому себе. — Так значит, теперь они близки? Знает ли королева? Или вы не в курсе? Кромвель утвердительно склоняет голову. — Екатерина — святая, — со вздохом произносит кардинал. — Впрочем, будь я королевой и святой, я бы, наверное, не тревожился из-за Марии Болейн. Подарки, значит? Не слишком роскошные, говорите? В таком случае, мне ее жаль. Ей надо спешить извлечь из расположения монарха хоть какие-то выгоды, пока он не остыл. Не то чтобы у короля сейчас было так много интрижек, но говорят… говорят, когда его величество был молод и еще не король, именно супруга Болейна сделала его из девственника мужчиной. — Элизабет Болейн? — Он удивлен, что случается не так часто. — Мать нынешней? — Она самая. Возможно, король не стремится к разнообразию. Впрочем, я никогда не верил этому слуху… Будь мы по ту сторону… — он указывает в направлении Дувра, — мы бы и не пытались считать женщин короля. Рассказывают, мой друг Франциск однажды подошел к даме, с которой перед тем провел ночь, поцеловал ей ручку, спросил, как ее зовут, и выразил надежду, что они познакомятся поближе. — Кардинал встряхивает головой, довольный, что история произвела впечатление. — Впрочем, из-за Марии Болейн неприятностей не будет. Она покладистая. Король мог выбрать и похуже. — Однако семейство захочет что-нибудь за это получить. Что доставалось прежним? — Возможность услужить государю. — Кардинал умолкает и что-то записывает — видимо, заметку для памяти: «Узнать, чего может добиться Болейн, если вежливо попросит». Поднимает голову: — Так мне в беседе с Томасом Болейном следовало быть… как бы это сказать?.. немного помягче? — Не думаю, что милорд мог вести себя еще ласковее. Я видел, с каким лицом сэр Томас отсюда вышел. Воплощение блаженного довольства. — Томас, впредь, если услышите любые лондонские слухи… — Кардинал трогает камчатную скатерть, — сразу сообщайте мне, от кого бы они ни исходили. Не тревожьтесь, достойны ли они моих ушей — тревожиться буду я. А я обещаю никогда на вас не нападать. Честное слово. — Я уже забыл. — Сомневаюсь, учитывая, что вы помнили урок все эти годы. — Кардинал откидывается в кресле, произносит задумчиво: — По крайней мере, она замужем. — Имеется в виду Мария Болейн. — Так что если она понесет, король может признать ребенка или не признать, как захочет. У него уже сын от дочери Джона Блаунта, а лишние бастарды его величеству ни к чему. Многочисленные побочные дети — помеха монарху, как учит история и пример соседних народов. Матери соперничают за влияние, интригуют, чтобы сделать своих детей законными наследниками. Сын, которого Генрих признал, зовется Генри Фицрой. Это красивый белокурый мальчуган, точная копия родителя. Отец сделал его герцогом Сомерсетским и герцогом Ричмондским; мальчик, не достигший и десяти лет, уже сейчас знатнее всех дворян Англии. Королева Екатерина, все сыновья которой умерли, переносит это стоически; другими словами, она страдает.
Выходя от кардинала, он мучительно злится. К себе давнишнему — полумертвому мальчишке на мощеном дворе в Патни — у него жалости нет, только легкая досада: отчего тот не встает? К юнцу, который по-прежнему готов был лезть в драку или, по крайней мере, оказывался в таких местах, где дерутся, он испытывает что-то вроде презрения с примесью легкой тревоги. Таков мир: нож во тьме, мельканье, замечаемое краем глаза,череда предостережений, вошедших в плоть. Он напугал Вулси, а это не дело. Его работа, как он ее для себя определил, — снабжать кардинала сведениями, умерять кардинальский нрав, подыгрывать шуткам. Просто все неудачно сошлось. Если бы кардинал не двигался так быстро! Если бы он сам не был как на иголках из-за того, что не сумел вовремя подать знак насчет Болейна. Беда Англии, думает он, в том, что у нас слишком мало жестов. Надо выработать условный сигнал: «Полегче, ваш государь кувыркается с дочерью этого человека!» Странно, что итальянцы не придумали такого жеста. А может, придумали, просто он не знает.
В 1529 году, когда милорда кардинала постигнет королевская немилость, он будет вспоминать тот вечер. Они в Ишере, ночь без огня и света, великий человек лежит в своей (вероятно, сырой) постели, рядом лишь один товарищ по несчастью — Джордж Кавендиш. Что было потом, спрашивает он Джорджа, с Гарри Перси и Анной Болейн? История известна ему лишь в сухом пересказе кардинала. Джордж говорит: — Я вам расскажу, как это было. Сейчас. Встаньте, мастер Кромвель. Он встает. — Чуть левее. Кем вы хотите быть? Милордом кардиналом или юным наследником? — А, так мы разыгрываем пьесу? Наследником. Кардинала мне не потянуть. Кавендиш просит его чуть повернуться от окна, за которым ночь и голые деревья — единственные зрители пьесы. Он смотрит в темную комнату, как если бы и впрямь различал призрачные фигуры из прошлого. — Можете сделать взволнованное лицо? — спрашивает Кавендиш. — Как будто вы приготовили дерзкую речь, но не смеете открыть рот? Нет-нет, не так. Вы молоды, нескладны, вы смотрите в пол и покраснели до ушей. — Вздох. — Думаю, вы никогда в жизни не краснели, мастер Кромвель. Вот гляньте. — Кавендиш мягко берет его за плечи. — Давайте поменяемся ролями. Сядьте вот сюда. Вы — кардинал. И тут же Джордж преображается: стискивает пальцы, переступает с ноги на ногу, только что не плачет — становится мямлящим Гарри Перси, влюбленным юнцом. — Почему я не могу на ней жениться? Пусть она простая девушка… — Простая? — переспрашивает он. — Девушка? Кавендиш гневно сверкает глазами. — Кардинал бы в жизни такого не сказал! — Тогда бы не сказал, согласен. — Теперь я снова Гарри Перси. «Пусть она простая девушка, а ее отец — всего лишь рыцарь, у них хороший род»… — Она ведь доводится королю кем-то вроде кузины? — Кем-то вроде кузины?! — Кавендиш от возмущения выходит из роли. — Перед милордом лежала бы подробнейшая родословная, составленная герольдмейстерами! — Так что мне делать? — Просто играть! Итак, ее предки не такого уж низкого рода, упорствует юный Перси. Но чем больше мальчишка спорит, тем больше сердится кардинал. Гарри говорит, мы заключили брачный договор, это все равно что венчание… — А что, правда? В смысле, они и впрямь заключили брачный договор? — Да, в том-то вся суть. Самый что ни на есть законный. — И что ответил милорд кардинал? — Он ответил: милый мой, что я слышу? Если вы и впрямь заключили какую-то мнимую сделку, о ней придется доложить королю. Я пошлю за вашим отцом, и мы вместе аннулируем эту блажь. — И что сказал Гарри Перси? — Почти ничего. Повесил голову. — Интересно, девушка его хоть сколько-нибудь уважала? — Ничуть. Ей нравился титул. — Ясно. — Итак, когда с севера приехал отец… Вы будете графом или юношей? — Юношей. Теперь я знаю, как себя вести. Он встает и делает пристыженное лицо. Судя по всему, граф с кардиналом долго разговаривали, потом выпили по бокалу вина. Видимо, довольно крепкого. Граф некоторое время расхаживал по галерее, потом сел, говорит Кавендиш, на скамью, где лакеи отдыхают между переменами блюд. Потребовал к себе наследника и распек при слугах. — «Сэр, — говорит Кавендиш, — вы всегда были гордым, заносчивым, высокомерным и крайне расточительным мотом». Неплохое начало, а? — Мне нравится, как вы все воспроизводите дословно, — говорит он. — Вы тогда же и записали? Или позволили себе долю художественного вымысла? Кавендиш смущен. — Разумеется, никто не может тягаться с вами памятливостью, мастер Кромвель. Милорд кардинал спрашивает что-нибудь по счетам, и вы сразу называете цифры. — Может, я выдумываю их на ходу. — Ну уж нет! — возмущается Кавендиш. — Вы бы так долго не продержались. — Это мнемоническая система. Я научился ей в Италии. — Многие люди, в этом доме и в других, немало бы отдали, чтобы узнать все, чему вы научились в Италии. Он кивает. Конечно, отдали бы. — Так на чем мы остановились? Гарри Перси, по вашим словам практически женатый на леди Анне Болейн, стоит перед отцом, и тот говорит… — Что если неблагодарный сын унаследует титул, это погубит их знатный род. Что Гарри станет последним графом Нортумберлендом. «Благодарение небесам, — говорит он, — у меня довольно и других сыновей». Граф развернулся и вышел. Сын остался в слезах. Кардинал все-таки женил его на Мэри Тэлбот, и теперь их жизнь тосклива, как утро Пепельной среды. А леди Анна сказала — ну и смеялись же мы тогда! — сказала, что если сможет устроить кардиналу какую-нибудь неприятность, то непременно устроит. Представляете, как мы хохотали? Какая-то, простите за выражение, замухрышка, дочь рыцаря, угрожает милорду кардиналу! Она, видите ли, обижена, что ей не дали выйти замуж за графа! Но мы не знали, что она будет возвышаться и возвышаться. Он улыбается. — Так скажите мне, — просит Кавендиш, — где мы просчитались? Погодите, я сам скажу. Мы все — кардинал, юный Гарри Перси, его отец, вы, я — не понимали главного. Когда король говорил, что мистрис Анна не должна выходить за Нортумберленда, он уже тогда присмотрел ее для себя. — Был со старшей, а думал про младшую? — Да-да! — Занятно, — говорит он, — как так получается: все думают, будто знают королевские желания, а его величество на каждом шагу встречает препоны? Препоны и досадные разочарования. Леди Анна, которую Генрих выбрал забавой на время, пока будет избавляться от старой жены и ждать приезда новой, не допускает короля до себя. Как она смеет? Все в недоумении. Кавендиш расстроен, что они не продолжают пьесу. — Вы, должно быть, устали. — Нет, просто задумался. Как вышло, что милорд кардинал… — Ему хочется сказать «дал маху», но это чересчур непочтительно. — Так что было дальше?
В мае 1527 года кардинал с тяжелым сердцем открывает судебное заседание, чтобы рассмотреть законность королевского брака. Суд тайный, королеву не пригласили, нет даже ее представителей; считается, будто она ничего не знает, зато вся Европа в курсе. Генриху указано прибыть лично и предъявить разрешение на брак с вдовой брата. Король уверен, что суд найдет в документе какие-нибудь огрехи. Кардинал готов объявить, что законность брака под сомнением. Однако, объясняет его милость королю, легатский суд может сделать лишь этот предварительный шаг, поскольку Екатерина, без сомнения, будет апеллировать к Риму. Насколько известно, Екатерина и король шесть раз ждали наследника. — Я помню зимнее дитя, — говорит Вулси. — Вы, Томас, как я понимаю, тогда были не в Англии. Схватки начались преждевременно, точно на переломе года, и принц родился недоношенным. Ему было меньше часа, когда я взял его на руки. В комнате ярко пылал камин, за окном валил снег, к трем часам стемнело, а к утру все следы животных и птиц замело, а с ними остались в прошлом и наши горести. Мы называли его Новогодним принцем. Говорили, что он будет самым богатым, самым красивым, самым обожаемым. Весь Лондон ликовал, на улицах жгли костры… Принц прожил пятьдесят два дня, и я считал каждый. Думаю, выживи он, наш король был бы… нет, не лучше, потому что лучшего государя просто невозможно вообразить… но более в мире с Богом. Следующий ребенок — мальчик — умер через час после рождения. Через год, в 1516 году, родилась девочка, принцесса Мария, маленькая, но здоровая. На следующий год у королевы случился выкидыш (снова мальчик). Еще одна маленькая принцесса прожила всего несколько дней; ее звали бы Елизаветой, в честь матери короля. Иногда, говорит кардинал, король вспоминает свою мать, Елизавету Плантагенет, и в глазах его величества стоят слезы. Она, как вы знаете, отличалась редкой красотой и с удивительной кротостью переносила все ниспосланные Богом несчастья. У них с прежним королем было много детей; некоторые умерли. Но все же, говорит король, мой брат Артур родился у батюшки с матушкой в первый же год, а вскоре появился и второй сын — я. Так почему у меня после двадцати лет брака лишь одна слабенькая дочь, которую может погубить любой сквозняк? К тому времени они, прожившие столько лет в супружестве, раздавлены сознанием греха. Быть может, говорят некоторые, развод и впрямь будет избавлением для обоих? «Вряд ли Екатерина так думает, — говорит кардинал. — Если у королевы есть на совести грех, поверьте мне, она его отмолит. На это уйдет еще двадцать лет». В чем я провинился? — спрашивает кардинала король. В чем я провинился, в чем она провинилась, в чем провинились мы оба? Кардинал не знает, что ответить, хоть и сочувствует добрейшему государю всем сердцем. Отвечать нечего, а в самом вопросе есть доля неискренности. Кардинал думает (хотя признается в этом лишь своему поверенному, дома, сглазу на глаз), что ни один здравомыслящий человек не может верить в столь прямолинейно-мстительного Бога, а король в остальном мыслит вполне здраво. — Давайте посмотрим на примеры, — говорит кардинал. — Возьмите Джона Колета, настоятеля собора святого Павла, видного ученого-богослова. Все его братья и сестры — числом двадцать один — умерли в младенчестве. Можно было бы подумать, что сэр Генри Колет с супругой — неслыханные грешники, поношение всего христианского мира, коли Господь их так сурово покарал. Однако сэр Генри был лордом-мэром Лондона… — Дважды. — …и нажил весьма значительное состояние, то есть ничуть не обойден Божьими милостями, а, напротив, явно снискал благоволение в очах Всевышнего. Не рука Господня убивает наших детей, а болезни, голод и войны; крысиные укусы и миазмы от чумных ям; недород, как в этом году и прошлом; нерадение кормилиц. Он спрашивает у Вулси: — Сколько сейчас королеве? — Будет сорок два, если не ошибаюсь. — И король утверждает, что она больше не может иметь детей? Моя мать родила меня в пятьдесят два. Кардинал спрашивает: «Вы уверены?» и заливается смехом — веселым, беспечным, наводящим на мысль, что хорошо быть князем церкви. — Во всяком случае, около того. За пятьдесят. — И она не умерла родами? Что ж, поздравляю. Но не рассказывайте об этом никому, ладно? Живой итог беременностей королевы — крохотная Мария, не целая принцесса, а скорее две трети. Он видел ее, когда был при дворе с кардиналом, и подумал, что Мария ростом с его Энн, которая года на два-три младше. Энн Кромвель — крепенькая девчушка. Она могла бы съесть принцессу на завтрак. Как Бог апостола Павла, она не смотрит на лица, и ее глаза, маленькие и цепкие, как у отца, холодно скользят по тем, кто ей перечит. В семье любят шутить о том, какие порядки заведет в Лондоне Энн, когда станет лордом-мэром. Мария Тюдор — умненькая кукла, бледная и рыжеволосая; она говорит важнее и рассудительнее, чем иной епископ. Ей было всего десять, когда король отправил ее в Ладлоу — держать там двор в качестве принцессы Уэльской. Туда, в Ладлоу, Екатерина приехала после венчания, там скончался ее муж Артур, там она сама едва не умерла от английской потовой лихорадки и лежала, ослабевшая и всеми позабытая, пока супруга старого короля за свой счет не распорядилась доставить ее в Лондон на носилках. Екатерина не выказала горя от разлуки с дочерью, как не выказывала многого другого. Она сама — дочь царствующей королевы. Почему бы Марии не править Англией? Екатерина сочла это знаком, что король успокоился по поводу престолонаследия. Теперь она знает, что ошибалась.
Как только тайные слушания созваны, Екатерина выплескивает все наболевшие обиды. По ее словам, главный виновник — кардинал. «Я вам говорил, — заметил Вулси. — Я вам сказал, что так будет. Заподозрить короля? Нет, такого у нее и в мыслях нет. Король в ее глазах безупречен». С самого своего возвышения, утверждает королева, Вулси пытался оттеснить ее с законного места доверенной советчицы Генриха. Он делал все, говорит она, чтобы я ничего не знала о королевских планах и чтобы он, кардинал, единолично всем заправлял. Он не давал мне встречаться с испанским послом. Окружил меня своими шпионами — мои фрейлины передают ему каждое мое слово. Я никогда не оказывал предпочтения одной стороне, устало говорит кардинал, ни императору, ни французам: я искал только мира. Я не препятствовал ей встречаться с испанским послом, лишь выдвинул очень скромное и разумное требование: чтобы они не беседовали наедине и я знал, какую ложь посол ей нашептывает. Что до фрейлин, это английские дамы, имеющие полное право служить своей государыне; с какой стати, прожив в Англии тридцать лет, окружать себя одними испанками? И как бы я оттеснил ее от короля? Да я только и слышал: «Это надо показать королеве» и «Давайте посоветуемся с Екатериной — прямо сейчас к ней и пойдем». Еще не было женщины, столь внимательной к нуждам своего господина. Она и сейчас знает королевские нужды, только, впервые в жизни, не хочет до них снизойти. Должна ли супруга покоряться в том, что лишит ее статуса супруги? Он, Кромвель, восхищается Екатериной. Приятно смотреть, как она плывет по дворцу, величественная, дородная, затянутая в платья, столь густо ощетинившиеся драгоценными камнями, словно ее туалеты предназначены не для украшения, а для защиты от мечей. Золотисто-каштановые волосы давно потускнели и пронизаны сединой; они выглядывают из-под жесткого чепца, словно крылья скромного воробышка. Под одеждой у королевы — холщовая нижняя рубаха францисканской монахини. Всегда старайтесь выяснить, говорит Вулси, что у людей под одеждой. В юности такие слова его бы удивили: тогда он думал, что у людей под одеждой — тело.
Есть много прецедентов, говорит Вулси, которые могут помочь королю в нынешнем затруднении. Людовику XII разрешили аннулировать первый брак. Если брать ближе, сестра Генриха, Маргарита, развелась со вторым мужем и вышла замуж в третий раз. А близкий друг короля, Чарльз Брэндон, женатый на младшей сестре его величества Марии, расторг брачный договор с первой супругой при обстоятельствах, в которые лучше не вникать.[18] Однако это скорее исключения, в целом же церковь не склонна аннулировать браки и объявлять прижитых в них детей незаконнорожденными. Если диспенсация была формально небезупречна, давайте выдадим новую. Так скажет папа Климент, утверждает Вулси. Когда он так говорит, король начинает кричать. Крики можно перетерпеть, это вопрос привычки. Он, Кромвель, наблюдает, как ведет себя кардинал, когда над головой разражается гроза: с почтительной, чуть грустной полу-улыбкой ждет, пока буря отшумит и наступит затишье. Но сейчас Вулси весь извелся, дожидаясь, пока дочка Болейна — не старшая, уступчивая, а младшая, плоскогрудая — бросит ломаться и удовлетворит короля. Тогда король станет проще смотреть на жизнь и меньше говорить о своей совести — у счастливых любовников другие мысли. Впрочем, некоторые поговаривают, будто Анна ведет с королем торг: хочет быть следующей королевой. Это смешно, говорит Вулси, но король влюблен не на шутку, так что, возможно, не возражает ей в лицо. Он спрашивает, видел ли кардинал перстень с изумрудом, который носит теперь леди Анна; рассказывает, сколько стоил королевский подарок. Кардинал возмущен, расстроен. После скандала с Гарри Перси Вулси настоял, чтобы Болейн отправил Анну в родовое поместье, но та как-то сумела пробраться назад во дворец, в свиту королевы, и теперь один Бог ведает, где она сегодня и не умчится ли король через полстраны к своей любезной. Кардинал думает, не сделать ли сэру Томасу еще одно внушение, но — даже если не приплетать старые слухи про Генриха и леди Болейн — как сказать человеку, что коли его старшая дочь шлюха, то и младшая пойдет по ее стопам? Как будто дело сэра Томаса — подкладывать их под короля одну за другой? — Болейн не богат, — замечает он. — С ним можно поладить. Расписать по графам: приход, расход. — Ах, да, вы мастер практических решений, но мне как служителю церкви негоже своими руками подталкивать монарха к прелюбодейственной связи. — Кардинал вздыхает, перебирает перья на столе, шуршит бумагами. — Томас, если вы когда-нибудь будете… Как бы это сказать? Он понятия не имеет, к чему клонит кардинал. — Если вы когда-нибудь будете ближе к королю, когда меня не станет… — Очень трудно говорить о собственном небытии, даже если уже заказал себе надгробие. Вулси не может представить мира без Вулси. — Ладно. Вы знаете, что я предпочел бы видеть вас на службе его величества и не чинил бы вам помех, но затруднение в том… Патни, имеет в виду кардинал. Непреложный факт. А поскольку он мирянин, никаким церковным титулам не смягчить это обстоятельство, как смягчили они непреложный факт Ипсвича.[19] — Сумеете ли вы, — говорит Вулси, — относиться к своему монарху с терпением? Когда уже полночь, а он пьет и хохочет с Брэндоном, или поет, а бумаги за день еще не подписаны, и если вы проявляете настойчивость, он отвечает: я иду спать, завтра мы едем на охоту… Если вам доведется ему служить, принимайте его таким, каков он есть, — жизнелюбивым государем. А ему придется принимать вас таким, каков вы есть, — вроде тех коренастых бойцовых псов, которых простолюдины таскают за собой на поводках. Хотя вы и не лишены своеобразного обаяния, Том. Мысль, что он или кто-то другой займет место Вулси при короле, кажется нелепой: с тем уже успехом Энн Кромвель может стать лордом-мэром Лондона. Впрочем, кто знает. Была ведь Жанна д'Арк; и необязательно все должно заканчиваться костром. Дома он рассказывает Лиз про бойцового пса. Она соглашается, что сравнение удачно. Про своеобразное обаяние он не упоминает на случай, если кардинал разглядел в нем что-то, невидимое остальным.
Кардинал уже готов закрыть судебные слушания, оставив вопрос для дальнейшего рассмотрения, когда приходят вести из Рима: испано-немецкие войска императора, не получавшие жалованья несколько месяцев, взбунтовались и разорили Святой город. Ландскнехты в награбленных священнических ризах насиловали римских жен и девственниц, валили на землю статуи и монашек, разбивали их головы о мостовую. Простой солдат похитил наконечник копья, пронзившего Спасителя, и закрепил на древке своей пики. Его товарищи вскрыли древние гробницы и развеяли по ветру прах. Воды Тибра переполнены трупами, на берег выбрасывает тела заколотых и задушенных. И самое прискорбное известие — папа захвачен в плен.[20] Поскольку формально войском командует молодой император Карл, который наверняка воспользуется случившимся, в деле об аннуляции королевского брака возникли неодолимые препятствия. Покуда Карл — племянник Екатерины — может диктовать папе свою волю, прошения английского легата вряд ли будут удовлетворены. Томас Мор говорит, что наемники для забавы жарили младенцев на вертелах. О да, он скажет! — восклицает Томас Кромвель. Послушайте, солдатам не до того. Они слишком заняты грабежом. Мор носит под одеждой власяницу из конского волоса и бичует себя маленькой плеткой, вроде тех, что в ходу у некоторых монашеских орденов. У Томаса Кромвеля никак не идет из головы, что кто-то ведь изготавливает эти орудия для ежедневных истязаний. Кто-то расчесывает конский волос на грубые пряди, сплетает их и обрезает покороче, зная, что назначение щетины — впиваться в кожу, вызывая мокнущие болячки. Может, это монахи плетут власяницы, в праведном упоении щелкая ножницами и радостно предвкушая, какую боль причинят неизвестным людям? Или простые селяне долгими зимними вечерами мастерят плетки с вощеными узлами и продают по дюжине? Принимая деньги за честный труд, думают ли они о руках, в которые отдают эти плетки? Нет надобности самим причинять себе боль, думает он, она и без того нас найдет — и скорее рано, чем поздно. Спросите римских девственниц. И еще он думает: лучше бы эти люди нашли себе другую работу.
Давайте, говорит кардинал, взглянем на ситуацию со стороны. Его милость не на шутку встревожен: залог европейской стабильности — в независимости папы и от императора, и от Франции. Однако гибкий ум придворного уже изыскивает способы обратить случившееся на пользу Генриху. Допустим… ибо папа будет ждать, что в нынешних бедственных условиях сохранение порядка в христианском мире возьму на себя я, — допустим, я пересеку Ла-Манш, ненадолго задержусь в Кале, чтобы успокоить тамошних жителей и пресечь вредные слухи, затем отправлюсь во Францию и проведу переговоры с королем, дальше — в Авиньон, где знают, как принимать папский двор, и где мясники и пекари, сапожники и портные, держатели постоялых дворов и, конечно, шлюхи, ждут пождут. Я приглашу к себе кардиналов, и мы соберем собор для управления делами церкви на то время, пока Климент вынужден терпеть гостеприимство императора. И если среди вопросов, вынесенных на собор, будет и частное дело нашего короля, что в том дурного? Не дожидаться же христианскому государю завершения военных событий в Италии? Почему бы нам не взять правление на себя? Вполне в силах человеческих или ангельских переправить письмо Клименту, пусть и томящемуся в плену, а затем тот же ангел или человек доставит ответ — без сомнения, подтверждающий наши полномочия. А когда, Божьей милостью, — мы все будем с нетерпением ждать этого дня — папа Климент вновь обретет свободу, его святейшество будет благодарен нам за поддержание порядка в Европе, и за такими мелочами, как подписи и печати, дело не станет. И — оп-ля! — король Англии снова холостяк.
Однако прежде король должен поговорить с Екатериной: не может его величество вечно быть на охоте, пока она ждет, терпеливая и непреклонная, за накрытым на двоих столом в своих личных покоях. В июне 1527 года тщательно выбритый и завитой, высокий и, в известном смысле, еще вполне ладный, одетый в белые шелка Генрих вступает в покои королевы, окутанный ароматом розовой эссенции: ему принадлежат все розы, все летние ночи. Король говорит тихо, мягко, убедительно, с глубоким раскаянием. Будь он свободен выбирать, из всех женщин он бы выбрал только ее. Отсутствие сыновей не имеет значения; на все Божья воля. Он был бы счастлив обвенчаться с нею заново: на сей раз по закону. Увы, это невозможно. Она была женой его брата. Их брак нарушает Божьи установления. Все слышат, что отвечает Екатерина. В дряблом теле, удерживаемом шнуровкой и китовым усом, голос, который слышно отсюда до Кале, от Кале до Парижа, от Парижа до Мадрида и Рима. Она не откажется от своего статуса, не откажется от своих прав; оконные стекла дрожат аж в Константинополе. Что за женщина, замечает Томас Кромвель по-испански, ни к кому не обращаясь.
В середине июня кардинал готовится к поездке на континент. С наступлением тепла в Лондон вернулась потовая лихорадка, и город пустеет. Многие уже слегли, многим чудится, будто они заразились: голова болит, все тело ломит. В мастерских и лавках только и разговоров, что о пилюлях и настоях; на улицах монахи бойко торгуют образками. Лихорадка впервые пришла к нам в 1485 году вместе с войсками первого Генриха Тюдора, и с тех пор каждые несколько лет снимает свой страшный урожай. Она убивает за день. Утром пел, говорят люди, к полудню помер. Кардинал рад покинуть город, хоть и не может отправиться без свиты, приличествующей князю церкви. Надо убедить Франциска, чтобы тот освободил папу силой оружия, заверить, что английский король готов всячески поддержать французского собрата, но при этом не обещать ни денег, ни войск. Если Господь пошлет попутный ветер, кардинал привезет не только аннуляцию брака, но и договор о дружбе между Англией и Францией — такой договор, что у молодого императора задрожит массивная нижняя челюсть, а из узкого габсбургского глаза выкатится слеза. Почему же кардинал не весел, расхаживая по своему кабинету в Йоркском дворце? «Так что я получу, Кромвель, за все свои старания? Королеву, которая меня не любит, отошлют прочь, и, если король будет упорствовать в своем безумии, ее место займут Болейны, которые меня тоже не любят: девица, затаившая на меня обиду, отец, давний мой ненавистник, и дядя, Норфолк, чья извечная мечта — увидеть меня мертвым в канаве. Как вы думаете, лихорадка к моему возвращению закончится? Говорят, моровые поветрия насылает Бог, но я не буду притворяться, будто знаю Его Промысел. А вы, пока меня не будет, уезжайте из города». Он вздыхает: можно подумать, кардинал — единственный его клиент. Нет, не единственный, просто отнимающий больше всего времени. Работая на его милость, он сам оплачивает издержки: свои и тех, кого отправляет по кардинальским делам. Вулси говорит: компенсируйте себе расходы и не забудьте о вознаграждении; говорит без лукавства, ведь то, что хорошо для Томаса Кромвеля, хорошо для Томаса Вулси, и наоборот. Его юридическая практика процветает, он дает деньги в рост и договаривается о крупных займах за границей, получая за это посреднический процент. Рынок неустойчив: хорошие вести из Италии через день сменяются дурными. Однако как некоторые с первого взгляда оценивают достоинства лошади, так он с первого взгляда оценивает риск. Многие дворяне ему обязаны — не только за посредничество в займах, но и за увеличение доходов с поместий. Дело не в том, чтобы взыскать недоимки с арендаторов; главное — предоставить землевладельцу точную роспись земель, посевов, водных ресурсов, построек; оценить, сколько это все должно приносить, назначить толковых управляющих и одновременно ввести понятную, проверяемую систему учета. Торговцы обращаются к нему за советом, с кем из заграничных партнеров можно иметь дело. Он разбирает арбитражные споры, по большей части коммерческие; его способность вникнуть в факты и вынести быстрое непредвзятое суждение ценится и здесь, и в Антверпене, и в Кале. Если вы с противной стороной согласны хотя бы в том, что не стоит тратить время и деньги на судебную тяжбу, значит, вам к Кромвелю, что обойдется куда дешевле; он часто находит решение, удовлетворяющее обе стороны. Для него это хорошие дни; каждый день — сражение, в котором можно победить. «По-прежнему, как я вижу, служите своему иудейскому богу, — замечает сэр Томас Мор, — я имею в виду, своему идолу Мздоимства». Мор, прославленный на всю Европу ученый, проснувшись, взывает к Господу на латыни, — его же бог вещает стремительным говором рынков; пока Мор бичует себя плеткой, они с Рейфом бегут на Ломбард-стрит узнать сегодняшние обменные курсы. Не то чтобы он и впрямь бегал: старые раны дают о себе знать, и когда он устает, ступня выворачивается внутрь, словно пытаясь направить его назад. Люди перешептываются, что это наследие лета с Чезаре Борджиа. Ему нравится, что он окружен легендой. Но где теперь Чезаре? В могиле. «Томас Кромвель? — говорят люди. — Вот у кого умище! Вы знаете, что он помнит наизусть весь Новый Завет?» Никто лучше него не разрешит богословский спор и не назовет арендаторам двенадцать убедительных причин, почему они должны платить столько и не пенсом меньше. Никто другой не выпутает вас из тяжбы, которую вы ведете на протяжении вот уже трех поколений, и не уговорит вашу хнычущую дочку выйти за человека, на которого она глядеть не хочет. С женщинами, животными и робкими истцами он мягок, но ваши кредиторы от него плачут. Он может поддержать разговор о цезарях или раздобыть вам венецианские бокалы по сходной цене. Если уж он открыл рот, никто его не переговорит. Никто другой не сохраняет такую ясную голову, когда рынок обваливается и плачущие люди на улице рвут заемные письма. — Лиз, — говорит он однажды вечером. — Думаю, через год или два мы будем богаты. Она вышивает Грегори рубаху — черной ниткой по белому полотну, как у короля, чьи рубахи королева шьет своими руками. — На месте Екатерины я бы оставлял в них иголки, — говорит он. Лиз улыбается. — Нимало не сомневаюсь. Когда он рассказал ей про встречу короля с Екатериной, Лиз замолчала и нахмурилась. Король убеждал королеву, что до вынесения окончательного решения им следует разъехаться. Быть может, ей лучше удалиться от двора. Екатерина ответила нет, этому не бывать; она обратится к правоведам, а ему самому стоит подыскать себе лучших правоведов, лучших священников; а когда крики улеглись, люди, припавшие ухом к стене, услышали, что Екатерина плачет. Королю были неприятны ее слезы. — Мужчины говорят, — Лиз тянется за ножницами, — «я не выношу женских слез», так же, как «я не выношу слякоти». Будто слезы льются сами по себе, а мужчины тут ни при чем. — Но я ведь никогда не заставлял тебя плакать. — Только от смеха. Разговор сменяется умиротворенным молчанием. Она вся в вышивании, он думает о том, что делать с деньгами. Он поддерживает двух студентов, не родственников, в Кембридже; благословенна рука дающего. Эти пожертвования можно увеличить… — Мне надо составить завещание, — произносит он вслух. Она хватает его за руку. — Не умирай, Том. — Господи Боже, да я и не собираюсь! Он думает: пусть я еще не богат, но я удачлив. Ни Уолтер меня тогда не убил, ни лето с Чезаре, ни лихие люди в темных проулках. Считается, что мужчины хотят передать свои знания сыновьям; он многое бы отдал, чтобы уберечь сына от своих знаний. Откуда у Грегори такой мягкий нрав? Не иначе как молитвами Лиз. Ричард Уильямс, сын Кэт, умен и настойчив. У Кристофера, сына другой сестры, тоже ясная голова. Но у Томаса есть Рейф Сэдлер, которому он доверяет, как сыну; не то чтобы династия, но, по крайней мере, начало. А тихие минуты, как сейчас, редки: дом все время полон людьми. Приходят те, кто хочет, чтобы их представили кардиналу. Художники в поисках заказчиков. Важные голландские богословы с книгами под мышкой, любекские купцы, длинно излагающие тяжеловесные немецкие шутки. Проезжие музыканты со странными инструментами, шумные представители итальянских банков; алхимики предлагают рецепты, астрологи — благоприятную судьбу; одинокие поляки, торговцы мехами, ищут кого-нибудь, говорящего на их языке; печатники, граверы, переводчики и шифровальщики, поэты, садовые архитекторы, кабалисты и геометры. Где-то они нынче ночью? — Тсс, — говорит Лиз. — Прислушайся к дому. В первый миг — ни звука. Затем — потрескивание деревянных панелей. Шуршание гнездящихся в дымоходе птиц. Легкий шелест деревьев за окном. Сонное дыхание детей в соседних комнатах. — Идем в постель, — говорит он. Этого король не может сказать жене. Да и женщине, в которую влюблен, тоже.
Тюки упакованы; свита немногим уступает в великолепии той, с которой кардинал семь лет назад прибыл на Поле золотой парчи. Поедут неспешно: Дартфорд, Рочестер, Февершем, три-четыре дня в Кентербери, чтобы вознести молитвы у гробницы Бекета. Итак, Томас, говорит кардинал, если узнаете, что король добился Анны, напишите мне в тот же день. Я поверю, только если услышу от вас. Как узнаете? Думаю, по его лицу. Что если вы не удостоитесь чести видеть короля? Справедливое возражение. Надо было представить вас ко двору, пока у меня была такая возможность. — Если король не пресытится ею скоро, — говорит он кардиналу, — я не представляю, что вам делать. Всем известно, что властители не отказывают себе в удовольствиях, но обычно их выбор можно как-то оправдать. Однако что вы можете сказать в защиту дочери Болейна? Что она принесет королю? Ни династического союза. Ни земли. Ни денег. Как вы изобразите ее достойной партией? Вулси сидит, уперев локти в стол, вдавливает пальцы в закрытые веки. Потом глубоко вздыхает и начинает говорить. Кардинал говорит об Англии. Вы не поймете Альбион, пока не обратитесь к той поре, когда Альбиона не было и в помине. Ко дням до легионов Цезаря, когда на месте будущего Лондона лежали кости исполинских животных. Вы должны вернуться к эпохе Новой Трои, Нового Иерусалима, к грехам и преступлениям вождей, которые сражались под знаменами Артура и брали за себя женщин, вышедших из моря или из яйца, — женщин с чешуей, плавниками и перьями. Если вспомнить о них, говорит кардинал, брак с Анной не покажется таким уж необычным. Истории давние, однако не забывайте, Томас, некоторые в них верят. Кардинал говорит о смерти королей: о том, как второго Ричарда заточили в замок Понтефракт и не то закололи, не то уморили голодом. О том, как четвертый Генрих, узурпатор, умер от проказы — король так съежился перед смертью, что стал не больше карлика или младенца. Кардинал говорит о победах пятого Генриха во Франции, о той цене — не деньгами, — которую пришлось заплатить за Азенкур. Говорит о французской принцессе, на которой женился великий монарх — она была всем хороша, но ее отец сошел с ума и считал, будто сделан из стекла. От этого брака — пятого Генриха со стеклянной принцессой — родился еще один Генрих, правивший Англией, темной, как зима, зябкой, скудной, злосчастной. Эдуард Плантагенет, герцог Йоркский, пришел с первыми проблесками весны: он родился под знаком Овна — тем самым, под которым сотворен мир. Когда Эдуарду было восемнадцать, он захватил корону — а все потому, что получил знамение. Его войско обессилело от боев и утратило всякую надежду, стояло самое темное время темнейшей из Господних зим, и он только что получил известие, которое должно было его сломить: отец и младший брат захвачены сторонниками Ланкастеров и, после многих издевательств и насмешек, казнены. Было Сретенье; в шатре, вместе со своими военачальниками, Эдуард молился о душах убиенных отца и брата. Наступило третье февраля, день святого Власия, холодный и пасмурный. В десять утра взошли три солнца: три облачных серебряных диска, лучащихся в морозной дымке. Их свет воссиял над пустыми полями и мокрыми лесами валлийского приграничья, над усталым, давно не получавшим жалованья войском. Рыцари и латники преклонили колени на мерзлой земле и вознесли молитвы сияющему небу. Жизнь Эдуарда обрела крылья и воспарила: в потоке лучезарного света он узрел свое будущее, увидел то, чего не видел никто другой, а это и значит быть королем. В битве при Мортимер-кроссе он пленил некоего Оуэна Тюдора, обезглавил того на ярмарочной площади Херефорда и бросил голову гнить на перекрестке дорог. Безвестная женщина принесла таз с водой, омыла отрубленную голову, расчесала окровавленные кудри. С того дня — дня трех солнц — каждый взмах меча приносил Эдуарду победу. Через три месяца он короновался в Лондоне, но никогда больше не видел будущего так ясно, как в тот год. Эдуард брел через свое правление, как сквозь туман, слепо внимая советам астрологов, предсказателей и безумцев. Он не женился, как следовало, на заморской принцессе; вся его жизнь стала чередой полу-обещаний неведомому числу женщин. Среди них была и некая Элеонора Тэлбот — что король в ней нашел? Говорят, будто она происходила — по материнской линии — от девы-лебедя. И почему он в конце концов остановил свой выбор на вдове рыцаря из стана Ланкастеров? Потому ли, что ее холодная краса зажгла ему кровь? Нет; потому что леди Грей якобы вела свой род от женщины-змеи Мелузины. Ее можно видеть на старинных пергаментах: она обвивает хвостом Древо познания и председательствует на бракосочетании Солнца и Луны. Мелузина выдавала себя за обычную принцессу, но однажды муж увидел ее нагой и приметил змеиный хвост. Выскользнув из его объятий, Мелузина предрекла, что ее дети дадут начало династии, которая будет править вечно и получит от дьявола безграничную власть. Она исчезла, говорит кардинал, и больше ее не видели. Часть свечей догорела, но Вулси не требует, чтобы принесли новые. — Итак, советники Эдуарда хотели женить его на французской принцессе, как… как и я. И что в итоге? Кого он выбрал? — Сколько времени с тех пор прошло, со дней Мелузины! Поздно; огромный Йоркский дворец затих, спит; река неслышно струится в берегах, намывая ил. В этих вопросах, говорит кардинал, нет счета времени; эти существа выскальзывают из наших рук сквозь века, лукавые, змеистые, переменчивые. — Однако эта женщина, на которой женился Эдуард, вроде бы имела какие-то права на кастильский трон? Очень древние, очень запутанные. Кардинал кивает. — Это и означали три солнца. Трон Англии, трон Франции и трон Кастилии. Так что когда наш король женился на Екатерине, он приблизился к своим старинным правам. Не то чтобы кто-нибудь посмел изложить это королеве Изабелле и королю Фердинанду именно в таких выражениях. Однако полезно помнить и при случае упоминать, что наш король — правитель трех королевств. Должен быть по справедливости. — По вашему рассказу, милорд, выходит, что дед нашего короля Плантагенет обезглавил его прадеда Тюдора. — Это тоже следует помнить, однако не упоминать вслух. — А Болейны? Мне казалось, они были купцами. Мне следовало знать, что у них есть змеиные жала или крылья? — Вы надо мной насмехаетесь, мастер Кромвель. — Отнюдь. Просто если вы оставляете меня приглядывать за делами, мне необходимо иметь самые полные сведения. Кардинал заводит речь об убийствах, огрехах, которые предстоит искупить. Рассказывает о шестом Генрихе, убитом в Тауэре, о короле Ричарде, рожденном под созвездием Скорпиона — знаком тайных сделок, бедствий и пороков. При Босворте, где пал Скорпион, не все поняли, куда дует ветер удачи. Герцог Норфолкский бился на проигравшей стороне и был лишен титула. Много усилий стоило его сыну вернуть себе земли и звания. Мудрено ли, что Норфолк до сих пор трепещет монаршего гнева, страшась под горячую руку вновь все потерять? Кардинал видит, что его поверенный берет сказанное на заметку, и продолжает рассказ. Кардинал говорит о костях под мостовыми Тауэра, костях, вмурованных в пристани и затянутых речным илом. О двух сыновьях Эдуарда, младший из которых упорно воскресал и едва не сбросил Генриха Тюдора с трона. О монетах, которые чеканил самозванец, с посланием Тюдору: «Твои дни сочтены. Ты взвешен на весах и найден очень легким». Говорит о том, как страшились тогда новых междоусобиц. Екатерину обручили с наследником английского трона еще в младенчестве. В три года она уже звалась принцессой Уэльской, но прежде чем отправить дочь из Коруньи, Изабелла и Фердинанд стребовали за нее плату плотью и кровью. Они попросили будущего свата обратить внимание на главного претендента из рода Плантагенетов — племянника братьев-королей Эдуарда и Ричарда, которого с десяти лет содержали в Тауэре. Король сдался на уговоры. Белую розу, двадцати четырех лет от роду, вывели на свет Божий и обезглавили. Однако всегда есть другая Белая роза; Плантагенеты плодятся, хоть и не безнадзорно. Всегда будет необходимость убивать, говорит кардинал, надо ожесточить сердце; правда, я не знаю, смогу ли когда-нибудь ожесточиться в должной мере. Мне всегда худо, когда кого-нибудь казнят. Я молюсь о них всех. Порой даже о гнусном короле Ричарде, хотя, как утверждает Томас Мор, Ричард горит в аду. Вулси смотрит на свои руки, крутит на пальцах перстни. — Любопытно… любопытно, который из них… Завистники утверждают, будто у кардинала есть перстень, который позволяет владельцу летать по воздуху и сводить в могилу врагов. Кольцо обезвреживает яды, укрощает диких зверей, привлекает любовь властителей и спасает от утопления. — Другие, видимо, знают, милорд: они нанимают магов сделать копию. — Если бы я знал, я бы сам сделал копию. И подарил вам. — Я как-то взял в руки змею. В Италии. — Зачем вам это понадобилось? — На пари. — Она была ядовитая? — Мы не знали. В том-то и была суть пари. — Она вас укусила? — Конечно. — Почему конечно? — Тогда не о чем было бы рассказывать, верно? Если бы я просто подержал ее и отпустил. Кардинал невольно хмыкает. — Что я буду без вас делать, Томас, среди жалящих исподтишка французов?
Дома, в Остин-фрайарз, Лиз уже спит, но ворочается в постели. Она наполовину просыпается и приникает к нему. Он говорит: — Дед нашего короля женился на змее. Лиз бормочет: «Я сплю или нет?» Мгновение — и она уже повернулась на бок, выбросив руку. Интересно, что ей теперь приснится? Он лежит без сна, думает. Все победы, все свершения Эдуарда оплачены деньгами Медичи; их заемные письма куда важнее всех знамений и чудес. Если король Эдуард был, как многие полагают, не сын своего отца, герцога Йоркского, если, как гласит молва, мать родила Эдуарда от честного английского лучника по имени Блейбурн, и если Эдуард женился на женщине-змее, то их потомство… на ум приходит слово «ненадежно». Если верить всем старым историям, а некоторые, не будем забывать, им верят, наш король отчасти бастард, отчасти тайный змей, отчасти валлиец и весь целиком — должник итальянских банков… Он тоже уплывает в сон: место страниц с аккуратными колонками цифр занимают призрачные миры. Всегда старайтесь, говорит кардинал, узнать, что у людей под одеждой, поскольку там не только тело. Выверни короля наизнанку — найдешь чешуйчатых предков: теплую, плотную, змеиную плоть. Когда в Италии он на пари взял в руки змею, ее надо было держать, пока свидетели сосчитают до десяти. Они считали довольно медленно, на медленном языке: айн, цвай, драй… На счет «четыре» испуганная змея дернулась и укусила его. Между четырьмя и пятью он крепче стиснул кулак. Кто-то кричал: «Да брось ты ее, Христа ради!» Одни молились, другие сыпали ругательствами, третьи продолжали считать. Змейка выглядела полузадушенной; когда свидетели досчитали до десяти, не раньше, он мягко опустил ее на землю, и она ускользнула в свое будущее. Боли не было, однако ранка покраснела. Он машинально попробовал ее на вкус, укусил собственное запястье, дивясь белизне английской плоти с внутренней, сокровенной стороны руки; увидел тонкие сине-зеленые сосуды, куда змея выпустила яд. Он получил выигрыш и стал ждать смерти, однако не умер, напротив, стал крепче, проворнее, изворотливее. Ни один миланский каптенармус не мог его переорать, ни один прожженный бернский капитан не решался спорить с человеком, который, по слухам, сначалавтыкает клинок под ребра, а потом торгуется. Июль, жарко. Он спит и видит сон. Где-то в Италии змейка вывела детенышей и назвала их Томасами; они хранят в памяти образ Темзы, низкие илистые берега, не заливаемые даже в прилив, даже по высокой воде. На следующее утро, когда он просыпается, Лиз еще спит. Простыни влажные. Она теплая, разморенная, лицо — гладкое, как у молоденькой. Он целует прядь волос на лбу, чувствует губами соль. Она бормочет: «Скажи, когда вернешься». — Лиз, — говорит он, — я не уезжаю с Вулси. Приходит цирюльник его побрить. Он видит в отполированном зеркале свои глаза: живые и как будто змеиные. До чего странный сон, думает он про себя. На лестнице ему кажется, будто Лиз вышла его проводить — наверху вроде бы мелькнул ее белый чепец. «Лиз, иди, спи дальше». И тут же, обернувшись, видит, что обознался — на лестнице никого нет. Он берет бумаги и уходит в Грейз-инн.
Встреча не деловая, тайная: обсуждают тексты, местонахождение Тиндейла (где-то в Германии) и насущные проблемы коллеги-юриста (кто скажет, что он не может находиться в Грейз-инн?) Томаса Билни, за детский рост и вертлявость прозванного Маленьким Билни. Маленький Билни — правовед, священник, член Тринити-холла — ерзает по скамье худым задом и, суча ножками, рассказывает о своем служении прокаженным. — Писание для меня — мед. Я упиваюсь словом Божиим. — Христа ради, — говорит он, — не вздумайте вылезать из своей норы. Кардинал уехал, теперь у епископа Лондонского, не говоря уже о нашем друге из Челси, руки развязаны. — Мессы, посты, бдения, индульгенции — все бесполезно, — говорит Билни. — Мне это явлено. Осталось только пойти в Рим и побеседовать с его святейшеством. Я уверен, что папа примет мою точку зрения. — Вы находите свои взгляды оригинальными? — мрачно спрашивает он. — Да, отец Билни, я согласен: мысль, что папа обрадуется вашим советам, и впрямь оригинальна. Он выходит, бросая напоследок: вот человек, готовый прыгнуть в огонь. Будьте осторожнее, государи мои.
Рейфа он на эти встречи не берет: не хочет втягивать никого из домочадцев в опасное общество. Кромвели — образец набожности и правоверия. Мы не должны вызывать нареканий, говорит он. Остаток дня ничем не примечателен. Он вернулся бы домой рано, если бы не договорился встретиться в немецком квартале, Стилъярде, с человеком из Ростока, который привез своего друга из Штеттина, пообещавшего учить его польскому. Польский — еще хуже валлийского, говорит он в конце вечера. Мне надо будет чаще практиковаться. Заглядывайте в гости. Если предупредите заранее, мы засолим селедку, если нет, то, как говорится, чем богаты.
Когда приходишь домой в сумерках, а там горят факелы, сразу понимаешь — что-то стряслось. Летний воздух упоительно свеж, и ты, входя в дом, чувствуешь себя молодым, беспечным, и тут замечаешь убитые лица. При виде тебя все отворачиваются. Мерси выходит и встает рядом; хотя ее имя означает «милость», милости ждать неоткуда. — Говори, — молит он. Она отводит глаза. Он думает: Грегори. Думает: мой сын умер. И тут же понимает кто, потому что не видит Лиз. — Говори, — повторяет он. — Мы искали тебя. Мы сказали, Рейф, беги в Грейз-инн, приведи его, но сторожа ответили, что не видели тебя весь день. Рейф сказал, верьте мне, я его приведу, хоть бы пришлось обыскать весь город. Но тебя нигде не было. Он вспоминает утро: влажные простыни, влажный лоб. Лиз, думает он, неужто ты не боролась? Будь я здесь, я бы ударил смерть по костлявой башке. Я бы распял ее на стене спальни. Девочки еще не спят, хотя кто-то переодел их в ночные сорочки, будто сейчас обычный вечер. Ножки и ручки голенькие, ночные чепцы — круглые, кружевные, сшитые матерью — кем-то из взрослых аккуратно завязаны под подбородком. Энн с каменным лицом держит Грейс за руку. Та смотрит на него удивленно: почему он здесь? Она почти никогда не видит отца, но безропотно дает взять себя на руки. Приникает к плечу и тут же засыпает, обвив ручонками его шею. — А сейчас, Энн, мы должны отнести Грейс в постель, потому что она маленькая. Знаю, ты сейчас не заснешь, но тебе придется лечь с ней — вдруг она замерзнет. — Я тоже могу замерзнуть, — говорит Энн. Мерси идет с ним в детскую. Он укладывает спящую Грейс. Энн плачет, но беззвучно. Я с ними посижу, говорит Мерси, он отвечает: я сам. Ждет, пока у Энн перестают течь слезы, а ее ладошка в его руке становится мягкой и тяжелой. Такое случается, но не с нами. — Теперь покажите мне Лиз, — говорит он. Комната — еще сегодня утром их общая спальня — пропахла ароматическими травами, которые жгут, чтобы прогнать заразу. В голове и ногах горят свечи. Челюсть Лиз подвязали платком, так что она уже непохожа на себя. Лицо бесстрашное и такое, будто она сейчас примется его судить. На поле брани он видел убитых с выпущенными кишками — Лиз выглядит мертвее.
Он спускается вниз — выслушать отчет о ее смерти. В десять утра, говорит Мерси, она села: Господи Исусе, как я утомилась. Средь бела дня. Непохоже на меня? — спросила она. Я сказала: непохоже, Лиз. Потом тронула ее лоб и сказала: Лиз, голубушка… Я сказала, иди сейчас же ляг, ты вся вспотела. Она ответила, нет, я только минуточку посижу, голова кружится, наверное, надо что-нибудь съесть, но когда мы сели за стол, она отодвинула тарелку… Ему хочется, чтобы Мерси сократила рассказ, но он понимает, что ей надо проговорить все вслух, минута за минутой. Как будто она упаковала слова и протягивает ему сверток — теперь это твое. В полдень Элизабет легла. Ее бил озноб, хотя кожа пылала. Она спросила: здесь ли Рейф? Пусть сбегает за Томасом. Рейф ушел, а за ним и другие, но тебя не нашли. В половине первого она сказала: передайте Томасу, чтобы он позаботился о детях. А дальше? Жаловалась на головную боль. А мне ничего еще не просила передать? Нет, говорила, что хочет пить, больше ничего. Ну да, Лиз всегда была немногословной. В час она попросила позвать священника. В два исповедалась. Сказала, что как-то взяла в руки змею, в Италии. Священник объяснил, что она бредит, и дал ей отпущение. Он очень торопился, говорит Мерси, очень торопился уйти из дома — боялся подхватить заразу и умереть. К трем она впала в забытье, к четырем навсегда оставила бремя земной жизни. Думаю, говорит он, она бы хотела, чтобы ее похоронили с первым мужем. Почему ты так думаешь? Потому что я появился позже. Он уходит. Незачем давать распоряжения о траурной одежде, плакальщиках, свечах. Как всех умерших от морового поветрия Лиз придется хоронить быстро. Он не сможет послать за Грегори и собрать родственников. По закону семья должна повесить на дверь пучок соломы — знак, что в доме зараза, и в течение сорока дней никого без крайней надобности не впускать и не выходить. Мерси говорит, это могла быть любая горячка, нам не обязательно признаваться, что у нас потовая лихорадка… Если бы все оставались дома, жизнь в Лондоне бы замерла. Нет, говорит он, мы должны соблюдать правила. Их составил милорд кардинал, и я обязан им подчиняться. Мерси спрашивает: так где же ты все-таки был? Он смотрит ей в лицо, говорит: ты знаешь Маленького Билни? Я был с ним, предупредил, чтобы он не прыгал в огонь. А потом? Потом я учил польский. Ах ну да, конечно, говорит она. Она даже не пытается понять, он и не рассчитывает понять лучше, чем сейчас. Он знает наизусть Новый завет, но попробуй найди текст — для такого. Позже он будет вспоминать то утро и вновь захочет увидеть мелькнувший белый чепец, хотя когда он обернулся, на лестнице никого не было. Ему хочется воображать ее на фоне домашней суеты и тепла, на пороге со словами: «Скажи мне, когда вернешься». Однако он видит ее одну, в дверях; за спиной у нее пустота, голубовато-белесый свет. Он вспоминает их свадебный вечер: ее длинное платье из тафты, и то, как она настороженно обнимала себя за локти. На следующее утро она сказала: «Вот и славно». И улыбнулась. Вот и все, что она ему оставила. Лиз всегда была немногословной.
Месяц он дома, читает. Читает Писание, но знает, что там написано. Читает любимого Петрарку, который обличал лекарей. Они бросили его, еще живого, умирать от лихорадки, а когда вернулись наутро, он сидел и писал. После этого поэт больше не верил врачам, однако Лиз не дожила до врачебного совета, доброго или дурного, не дожила до аптекаря с кассией, калгановым корнем, полынью и молитвами на листочках. У него есть книга Никколо Макиавелли «Государь», латинское издание, скверно отпечатанное в Неаполе и сильно затрепанное прежними владельцами. Он думает о Никколо на поле брани, о Никколо в пыточной камере. Он сам в пыточной камере, но знает, что однажды отыщет выход, потому что ключи у него. Кто-то спрашивает: что у тебя в этой книжечке? Он отвечает: несколько афоризмов, несколько общих мест, ничего такого, чего мы не знали бы раньше. Всякий раз, когда он поднимает глаза от книги, Рейф Сэдлер рядом. Рейф тоненький, как тростинка; любимая шутка — притворяться, будто его не видишь испрашивать: «Интересно, где Рейф?» Ричард и другие мальчишки всякий раз хохочут, как маленькие. Глаза у Рейфа голубые, волосы — соломенно-желтые, сразу видно: не Кромвель. Однако характером юноша весь в воспитателя: упорный, ехидный, все ловит на лету. Они с Рейфом читают книгу про шахматы, отпечатанную еще до его рождения, но с картинками. Изучают рисунки, совершенствуются в игре. Иногда подолгу — кажется, будто часами — ни один не делает хода. — Я болван, — говорит Рейф, кладя палец на голову пешки. — Когда мне сказали, что вы не в Грейз-инн, я должен был сообразить, что вы там. — Откуда ты мог знать? Я не всегда там, где мне быть не след. Ты двигаешь пешку или просто ее трогаешь? — J'adoube.[21] — Рейф торопливо отдергивает руку. Довольно долго они смотрят на фигуры и наконец соображают, что расстановка неизбежно ведет к пату. — Мы слишком друг для друга хороши. — Быть может, следует играть с кем-нибудь еще. — Попозже. Когда будем готовы разнести любого в пух и прах. — Погодите. — Рейф делает ход конем. В ужасе смотрит на результат. — Рейф, ты foutu![22] — Не обязательно. — Рейф трогает лоб. — Вы еще можете допустить промах. — Верно. Надеяться надо всегда. Снаружи голоса, солнечный свет. Он чувствует, что уже почти может спать, но во сне Лиз Уайкис возвращается, и потом надо заново привыкать, что ее нет. На втором этаже слышится детский плач, потом шаги. Плач затихает. Он берет короля и переворачивает, чтобы посмотреть, как сделана фигура. Бормочет: «J'adoube», ставит короля на место.
На улице моросит. Энн Кромвель сидит с ним, пишет в тетрадке латинские слова. К Иоаннову дню она знает все правильные глаголы. Энн сообразительнее брата, и он ей об этом говорит. Ну-ка, дай глянуть. Оказывается, она исписала всю страницу своим именем: Энн Кромвель, Энн Кромвель… Из Франции приходят вести об успехах кардинала, парадах, многолюдных мессах, блистательных латинских речах, произнесенных без подготовки. Впечатление такое, будто его милость служил у каждого алтаря в Пикардии и даровал всем молящимся отпущение грехов. Несколько тысяч французов могут теперь грешить с чистого листа. Король по большей части в Болье, эссекском поместье, которое его величество приобрел у сэра Томаса Болейна, теперь — виконта Рочфорда. Днем король охотится, невзирая на дожди, по вечерам развлекается. Герцог Суффолк и герцог Норфолк ужинают в тесном кругу со своим монархом и новоиспеченным виконтом. Герцог Суффолк — старинный друг короля, и если Генрих скажет: сделайте мне крылья, чтобы я полетел, Суффолк спросит: какого цвета? Герцог Норфолк, разумеется, старший из Говардов, шурин Болейна — поджарый гончий пес, всегда гонится за своей выгодой. Он не пишет кардиналу, что вся Англия уверена: король женится на Анне Болейн. Новостей, которых хочет кардинал, у него нет, поэтому он не пишет вовсе. Поручает клеркам уведомлять его милость о состоянии юридических дел и финансов. Напишите, что у нас все хорошо, говорит он. Заверьте его милость в моем совершеннейшем почтении. Добавьте, что мы очень ждем возвращения его милости. Никто в доме больше не заболевает. В этом году Лондон отделался легко — по крайней мере, так говорят. Во всех церквах возносят благодарственные молитвы — или, может, правильнее называть их молитвами облегчения? На тайных ночных сборищах вопрошают Божий Промысел. Лондон знает свои грехи. Как учит нас Библия, «купец едва ли может избежать прегрешений». А еще написано: «Кто спешит разбогатеть, тот не останется безнаказанным». Привычка цитировать — верный знак душевного смятения. Кого Господь любит, того и карает. В начале сентября уже можно собраться всей семьей, чтобы помолиться о Лиз, совершить церемонии, без которых они ее проводили. Двенадцать приходских бедняков получают черное платье — те самые плакальщики, что шли бы за гробом. Каждый из членов семьи заказывает мессы за упокой ее души на семь лет вперед. В назначенный день небо ненадолго проясняется, но теплее не становится. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Маленькая Грейс просыпается ночью и говорит, что видела маму в саване. Она плачет не как ребенок, икая и заходясь в рыданиях, а как взрослая, тихо роняя слезы. Все реки текут в море, но море не переполняется.
Морган Уильямс с каждым годом все усыхает. Маленький, седой, растерянный, Морган стискивает ему руки и говорит: «Почему уходят лучшие? Ну почему?» и «Я знаю, Томас, ты был с нею счастлив». Дом в Остин-фрайарз вновь полон: женщины, дети, солидные мужчины в траурных одеждах, почти неотличимых от повседневной деловой одежды судейских и купцов, счетоводов и торговых посредников. Приехала его сестра Бет с двумя сыновьями и маленькой дочкой Алисой. Кэт тоже приехала: сестры советуются, кто поселится в доме, чтобы помогать Мерси с детьми, «пока ты, Том, снова не женишься». Его племянницы, две славные девчушки, перебирают четки и озираются, не зная, что надо делать дальше. Все разговаривают, не обращая на них внимания. Они прислоняются к стене, стреляют друг в друга глазами и медленно-медленно сползают на корточки, так что их почти и не видно. Тут же слышится: «Алиса! Джоанна!» Девочки медленно выпрямляются; лица — торжественно-серьезные. Подходит Грейс, они молча хватают ее, стаскивают чепец и начинают заплетать белокурые волосы. Зятья и свояки говорят о миссии кардинала во Франции; он наблюдает за дочерью. Девочки так сильно тянут Грейс за волосы, что глаза у нее стали совсем круглые от страха, рот раскрыт, как у рыбы. Наконец она тихонько вскрикивает, и старшая Джоанна, сестра Лиз, подбежав, хватает ее в охапку. Глядя на Джоанну, он думает, как и прежде думал не раз: до чего сестры похожи. Были похожи. Его дочь Энн поворачивается спиной к женщинам и берет за руку дядю. — Мы беседуем про Нидерланды, — говорит ей Морган. — Могу точно сказать, дядя, в Антверпене не обрадуются, если Вулси подпишет договор с Францией. — То же самое мы говорим твоему отцу. Но он упорно стоит за кардинала. Ну же, Томас! Ты ведь любишь французов не больше нашего! Они не знают, а он знает, как сильно кардиналу нужна дружба Франциска: без поддержки одной из главных европейских держав как королю получить развод? — Договор о вечном мире? Дай-ка вспомнить, когда у нас был последний вечный мир? Ручаюсь, нынешнего хватит на три месяца, — со смехом говорит его зять Уэллифед, а Джон Уильямсон, муж Джоанны, предлагает пари: три месяца, шесть месяцев? Потом вспоминает, что они собрались по скорбному поводу. «Прости, Том», — говорит Уильямсон и заходится в приступе кашля. — Если старый спорщик будет так кашлять, — подает голос Джоанна, — он до весны не дотянет, и тогда я выйду за тебя, Том. — Правда? — Конечно. Как только получу из Рима нужную бумагу. Все прячут улыбки. Переглядываются многозначительно. Грегори говорит: а что тут смешного. На свояченице ведь жениться нельзя. Потом отходит в уголок поболтать с двоюродными братьями — сыновьями Бет Кристофером и Уиллом, сыновьями Кэт Ричардом и Уолтером. Зачем они назвали сына Уолтером? Чтобы отец и по смерти напоминанием о себе не давал им быть слишком счастливыми? Он благодарит Бога, что Уолтера сними уже нет. Конечно, надо быть добрее к отцу, но его доброты хватает только на оплату заупокойных месс. В год перед окончательным возвращением в Англию он несколько раз переправлялся туда-сюда, не зная, что выбрать. У него было много добрых друзей в Антверпене, не говоря уже о деловых связях, а растущий с каждым годом город подходил ему как нельзя лучше. Если он и тосковал, то лишь по Италии: по свету, языку, по тому, как там обращались к нему: Томмазо. Венеция навсегда излечила его от ностальгии, Флоренция и Милан научили мыслить более гибко, чем принято у англичан. Однако что-то его тянуло обратно: желание узнать, кто умер, а кто родился, увидеть сестер, вспомнить детство, посмеяться (почему-то задним числом такое всегда смешно). Он написал Моргану Уильямсу: я собираюсь переехать в Лондон. Только не сообщайте отцу, что я возвращаюсь. В первые месяцы на него наседали, мол, надо бы тебе навестить отца. Уолтер Кромвель переменился — не узнать. Бросил пить — понял, что пьянство сводит его в могилу. Ладит с законом. Даже отработал в свою очередь церковным старостой. Да неужто? И не упивался вином для причастия? Не прикарманивал деньги за свечи? Никакие уговоры не заставили его поехать в Патни. Он ждал больше года, и только женившись и став отцом, решил, что теперь можно. Он прожил за границей двенадцать лет и теперь дивился перемене в людях. Годы ожесточили одних, смягчили других, но постарели все. Стройные отощали и усохли, полнотелые раздались еще больше. Лица обрюзгли и утратили выразительность, яркие глаза потускнели. Некоторых он и вовсе не узнавал, по крайней мере, с первого взгляда. Однако Уолтера он бы узнал в любом случае. Глядя на приближающегося отца, он подумал: это я вижу себя через двадцать-тридцать лет, если Бог даст столько прожить. Говорили, что пьянство чуть не загнало Уолтера в гроб, но старик выглядел отнюдь не полумертвым, а таким же, как всегда: будто может одним ударом свалить тебя с ног и, если надумает, свалит. Низенькое коренастое тело стало еще более кряжистым, темные курчавые волосы почти не тронуты сединой. Маленькие желтовато-карие глазки по-прежнему буравили насквозь. Кузнецу нужен хороший глаз, говаривал Уолтер. Всякому нужен хороший глаз, иначе тебя оберут до нитки. — Где ты был? — полюбопытствовал Уолтер. Раньше это прозвучало бы угрозой, сейчас — только брюзжанием. Как будто Уолтер отправил сына с поручением в Мортлейк, и тот долго не возвращался. — Да так… Там-сям. — Ты похож на иностранца. — Я и есть иностранец. — И что же ты там делал? Он представил себе, как отвечает: «то-се», в итоге так и ответил. — А каким тем-сем занимаешься сейчас? — Изучаю право. — Право! — проворчал Уолтер. — Если бы не так называемое право, мы бы сейчас были лордами. Хозяевами поместья. И всех здешних поместий. Интересная мысль, подумал он. Если бы лордами становились те, кто сильнее, драчливее и нахрапистее других, Уолтер был бы лордом. Однако все еще хуже: Уолтер считал себя ограбленным. Все детство он слышал: Кромвели-де были богачами, владели поместьями. «Когда, где?» — спрашивал он, и Уолтер орал: «Где-то там, на севере! Вечно ты к словам цепляешься!» Уолтер злился, когда ему не верили, даже если врал в глаза. «Как же мы докатились до нынешней бедности?» — спрашивал сын. А все сутяжники да крючкотворы, да те мошенники, что отбирают землю у честных людей, отвечал отец. Разберись, если сможешь, а я вот не могу, хотя умом меня Бог не обидел. Как можно тащить меня в суд и штрафовать за выпас овец на общинной земле? Будь все по-честному, это была бы моя земля. Как же так, если земли были на севере? Бесполезно спрашивать — только нарвешься на очередную трепку. «А деньги? — не отставал он. — Они-то куда делись?» Лишь один раз, по трезвому делу, Уолтер сказал нечто, очень похожее на правду: думаю, мы их спустили. Что сплыло то сплыло. Если богатство промотано, его уже не вернуть. Он думал над этими словами все двенадцать лет и теперь спросил: — Если Кромвели когда-то были богаты и я верну наше состояние, ты будешь доволен? Это было произнесено мягко, но Уолтера смягчить нелегко. — Вернешь и разделишь, так, что ли? С этим чертом Морганом, с которым вы друзья — не разлей вода. Будь все по честному, это были бы мои деньги. — Это были бы семейные деньги, — сказал он, а про себя подумал: мы что, взбесились? Не прошло и пяти минут, а мы уже ругаемся из-за несуществующего богатства. — Теперь у тебя есть внук, — и добавил мысленно: и ты его не увидишь. — У меня они уже давно есть. Внуки. И кто она? Голландка? Он рассказал про Лиз Уайкис, признавшись таким образом, что по приезде в Англию успел жениться и завести сына. — Подцепил богатую вдовушку, — хмыкнул Уолтер. — Видать, это было важнее, чем навестить меня. Да уж, конечно, ты думал, я помру. Законник, говоришь? У тебя с детства язык без костей. Никакой оплеухой тебя было не заткнуть. — Но видит Бог, ты пытался. — Небось теперь и не признаешься никому, что работал в кузне. Или что ходил помогать дяде Джону и спал на очистках от репы. — Господь с тобой, отец, какая репа в Ламбетском дворце? Неужто ты думаешь, будто кардинал Мортон ел репу? Дядя Джон был поваром у великого человека; маленький Том бегал в Ламбет, потому что там можно было сытно поесть. Обычно он вертелся у входа, ближайшего к реке — Мортон тогда еще не построил надвратной башни — и смотрел на въезжающих и выезжающих, спрашивал, кто они, чтобы в следующий раз узнать их по цветам одежды, животным и предметах на гербах. «Не стой как пень, — кричали ему, — займись чем-нибудь полезным!» Другие мальчишки занимались чем-нибудь полезным на кухне: подавали и уносили, ощипывали детскими пальчиками жаворонков и обрывали цветоножки у клубники. Каждый день перед обедом челядь выстраивалась в процессию; торжественно вносили скатерти и большую солонку. Дядя Джон измерял хлебы, и если они оказывались больше или меньше, чем нужно, бросал их в корзину для прислуги. Те, что проходили проверку, дядя Джон отправлял в обеденную залу; стоя рядом и изображая его помощника, племянник научился считать. Туда же, в залу, отправлялись мясо и сыр, засахаренные фрукты и пряные лепешки — на архиепископский (тогда Мортон еще не был кардиналом) стол. Когда остатки и объедки возвращались на кухню, их делили. Лучшее доставалось поварам, то, что похуже — больнице и богадельне, а также нищим у ворот. То, что не годилось даже нищим, отдавали детям и свиньям. Утром и вечером кухонные мальчишки носили наверх и ставили в шкафы хлеб и пиво для молодых джентльменов, служивших у кардинала пажами. Пажи были из хороших семей. Они прислуживали за столом и таким образом знакомились с великими мужами, слушали их беседы и учились. Когда пажи не прислуживали, они черпали знания у преподавателей музыки и других наук. Преподаватели расхаживали по дворцу с бутоньерками и ароматическими шариками и говорили по-гречески. Ему указали на одного из пажей, мастера Томаса Мора, про которого сам архиепископ говорил, что тот станет великим человеком — так обширны уже были его познания и так приятна речь. Однажды он принес пшеничный хлебец и положил в буфет, но не ушел, и мастер Томас спросил: «Чего ты ждешь?» — однако ничем в него не бросил. «Что в этой большой книге?» — спросил он, и мастер Томас ответил с улыбкой: «Слова, слова, просто слова». Кто-то сказал, мастеру Томасу в этом году четырнадцать, и он едет в Оксфорд. Том Кромвель не знает, где это — Оксфорд и по своей ли воле мастер Томас туда едет или его отправляют. Мальчика можно отправить, не спрашивая, а мастер Томас еще не взрослый мужчина. Четырнадцать это дважды семь. Мне семь? — спрашивает он. Отец кричит: Бога ради, Кэт, придумай ему день рождения! Скажи что угодно, лишь бы отстал. Когда отец говорит «глаза бы мои на тебя не глядели», он уходит в Ламбет. Когда дядя Джон говорит «на этой неделе у нас достаточно мальчишек» и «дьявол найдет занятие праздным рукам», возвращается в Патни. Иногда дядя дает ему с собой гостинец. Это могут быть голуби, связанные лапками, с открытыми окровавленными клювами. Он идет вдоль реки и крутит их над головой, так что они как будто летают, пока кто-нибудь не кричит: перестань! Что бы он ни делал, кто-нибудь принимается орать. Мудрено ли, говорит дядя Джон, если ты участвуешь во всех мальчишеских проказах, дерзишь и вечно оказываешься там, где тебе быть не след. В холодной каморке рядом с кухней сидит женщина по имени Изабелла. Она лепит марципановые фигурки, которыми архиепископ с друзьями играют после ужина. Иногда это герои — король Александр, король Цезарь. Иногда святые; сегодня я леплю святого Томаса Бекета, говорит она. Как-то она лепила марципановых зверей и подарила ему льва. Можешь съесть, сказала Изабелла. «Нет, я лучше его сохраню», — сказал он, но Изабелла посоветовала этого не делать, ведь фигурка скоро развалится. «У тебя что, матери нет?» — спросила она. Он учился читать по запискам из буфетной: столько-то муки, столько-то сушеных бобов, ячменя и утиных яиц. Для Уолтера смысл умения читать в том, чтобы дурить неграмотных; для того же надо уметь писать. Поэтому отец отправляет его к священнику. И снова он все делает не так, потому что у священников странные правила: на урок надо приходить специально, а не по дороге куда-нибудь, и не приносить с собой жабу в мешочке или ножи, которые надо поточить; нельзя являться в синяках и ссадинах от двери (по имени Уолтер), на которую он вечно налетает. Священник орет и забывает его покормить, так что он снова уходит в Ламбет. Когда он возвращается в Патни, отец спрашивает, где тебя черти носили, если только отец не в доме, на мачехе. Мачехи обычно надолго не задерживаются; отец, получив свое, выставляет их из дома, так что он узнает про то, что они были, только от хохочущих сестер. Однажды он приходит домой грязный и вымокший; сегодняшняя мачеха спрашивает: «Чей это мальчишка?» — и пытается выгнать его взашей. Как-то раз, уже на подходе к дому, он находит первую Беллу: она лежит на улице, никому не нужная, размером не больше крысы, и так замерзла и напугана, что даже не скулит. Он входит в дом, неся в одной руке щенка, в другой — завернутый в листья шалфея сыр. Та Белла умерла. Сестра Бет сказала, заведешь себе другую собаку. Он ищет, но больше никого не находит. Собак много, но у всех у них есть хозяин. Дорога из Ламбета в Патни длинная; иногда он съедает гостинец, если это не что-нибудь сырое. А если ему дают только капусту, он пинает кочан на ходу, пока не растреплет до полного непотребства. В Ламбете он ходит за приказчиками и запоминает числа, которые те называют. Люди говорят: если некогда записать, просто скажи Джонову племяннику. Он может на глаз определить вес мешка с мукой или бобами и предупредить дядю, чтобы тот проверил — кажется, сюда не досыпали. Вечерами в Ламбете, когда еще светло, а котлы уже вычищены, мальчишки гоняют во дворе мяч. Они орут, чертыхаются и налетают друг на друга, пока кто-нибудь не велит им утихнуть; они дерутся на кулаках и, бывает, кусаются. За открытыми окнами наверху юные джентльмены поют правильно поставленными, высокими голосами. Иногда в окне появляется лицо мастера Томаса Мора. Он машет рукой, но мастер Томас смотрит на детей, не узнавая его, потом бесстрастно улыбается и белой рукой, непривычной ни к какой работе, кроме письма, закрывает ставни. Встает луна. Пажи ложатся на низенькие выдвижные кровати. Кухонные мальчишки заворачиваются в мешковину и засыпают у очага. Он помнит один летний вечер, когда мальчишки, игравшие в мяч, затихли и подняли головы. Смеркалось. Нота одинокой флейты висела в воздухе, тонкая и пронзительная. Дрозд подхватил ее и пропел из кустов у шлюза. Лодочник с реки ответил дрозду свистом.
1527 год. Кардинал вернулся из Франции и тут же приказал готовить пиры. Ожидались французские послы, чтобы поставить печати на конкордат.[23] Надо расстараться для этих господ, говорит кардинал, расшибиться в лепешку, чтобы им угодить. 27-го августа двор возвращается из Болье, и король впервые с начала июня принимает кардинала. «Вам скажут, его величество принял меня холодно, — говорит Вулси, — это не так. Она… леди Анна, присутствовала, что было, то было». По большому счету миссия во Францию провалилась. Кардинал не едет в Авиньон под предлогом, что не хочет отправляться в жару на юг. «Однако теперь у меня другой план, лучше. Я попрошу папу прислать мне со-легата и попытаюсь решить королевское дело в Англии». Покуда вы были во Франции, говорит он, моя жена Элизабет умерла. Кардинал поднимает голову. Хватается двумя руками за сердце, потом правой стискивает распятие на груди. Спрашивает, как это произошло, слушает. Гладит большим пальцем истерзанное тело Христа, словно обычный металл. Склоняет голову, шепчет: кого Бог любит… Они сидят в молчании. Чтобы нарушить тишину, он начинает задавать кардиналу ненужные вопросы. На самом деле ему незачем выслушивать отчет о планах прошедшего лета. Кардинал обещал помочь деньгами французской армии, которая отправится в Италию, чтобы выбить оттуда императора. Папа, который утратил не только Ватикан, но и папские области, а его родичей Медичи вышвырнули из Флоренции, будет благодарен Генриху.[24] Но что до продолжительного союза с Францией — тут Кромвель разделяет скептицизм своих приятелей из Сити. Если вы бывали на улицах Парижа или Руана и видели, как мать тянет ребенка за руку, приговаривая: «Перестань ныть, не то англичанина позову», — вы не станете верить в прочность соглашений между двумя государствами. Англичанам никогда не простят того таланта к разрушению, который они проявляют всякий раз, как высаживаются на континенте. Английские войска оставляли за собой пустыню. Словно нарочно задавшись такой целью, англичанин совершал все, что запрещал кодекс рыцарства, преступая все законы войны. Битвы не в счет — след оставляет то, что происходит между битвами. Англичане грабили и насиловали все живое, жгли хлеба на корню — и дома вместе с людьми. Разбив лагерь, вымогали у окрестных жителей плату за каждый день, когда тех не трогали. Убивали священников и вешали их голыми на ярмарочных площадях. Словно язычники, разоряли церкви, уносили чаши для причастия, жгли костры из бесценных манускриптов, выкидывали мощи на землю, сдирали покровы с алтарей. Требовали выкуп за тела убитых, а если не получали, сжигали трупы на глазах у родных, без отпевания, без единой молитвы, словно павшую в мор скотину. Короли могут друг друга простить; обычные жители не прощают. Он не говорит этого Вулси, которому и без того хватает дурных вестей. Покуда кардинал был в отъезде, король отправил для секретных переговоров в Рим собственного посла. Из затеи, разумеется, ничего не вышло. «Но если его величество не вполне со мной откровенен, это весьма печально». Раньше за королем такого не водилось. Беда в том, что Генрих знает: закон не вполне на его стороне. Знает, но не хочет знать. Король убедил себя, что никогда не состоял в браке, а значит, может жениться. Скажем так: убедил свою волю, но не совесть. Король — большой знаток канонического права, и если в его познаниях и были какие-то пробелы, они восполнены недавними штудиями. Генриха, как младшего брата, готовили к церковному служению, причем на самых высоких постах. «Будь жив брат его величества Артур, — говорит Вулси, — кардиналом был бы его величество, а не я. А ведь если подумать… Знаете, Томас, я ведь ни разу не отдыхал с тех пор… с тех пор, как взошел на корабль. С того дня, как меня укачало на выходе из Дувра». Как-то они пересекали Ла-Манш вместе. Вулси лежал в каюте пластом и вопиял к Господу. Томас почти все время проводил на палубе: рисовал паруса, такелаж и умозрительные корабли с умозрительным такелажем, убеждая капитана, что — не сочтите за обиду — можно двигаться быстрее. Капитан посмотрел рисунки, обдумал и сказал: «Когда будете снаряжать собственное торговое судно, можете сделать и так. Разумеется, все добрые христиане примут вас за пиратов, так что не обижайтесь, когда попадете в беду. Моряки, — добавил капитан, — не любят новшеств». — Их никто не любит, — сказал он тогда. — Насколько я вижу. В Англии не может быть нового. Может быть старое в новой обертке или новое, раскрашенное под старое. Новые люди, чтобы им доверяли, должны сочинять себе лживые родословные, как Уолтер, или идти на службу к древним семействам. Не пытайся вылезти в одиночку — тебя примут за пирата. Этим летом, на суше вместе с кардиналом, он вспоминает тогдашнее путешествие и ждет, когда противник подойдет борт к борту, чтобы схватиться врукопашную. Однако пока он идет на кухню, чтобы увидеть, как движется подготовка к тому, чтобы ошеломить французских послов. Повара уже пристроили колокольню к сахарному собору Святого Павла, но никак не могут сделать державу и крест. Он говорит: «Слепите марципановых львов — так распорядился кардинал». Повара закатывают глаза и вздыхают: когда же это закончится? С возвращения из Франции хозяин необычно ворчлив. Кардинала угнетают не столько явные неудачи, сколько подлые происки за спиной. Против Вулси печатали клеветнические памфлеты — не успеешь скупить одну партию, уже появилась новая. Все воры Франции нацелились на его добро. В Компьени, хотя кардинал велел стеречь свою золотую посуду день и ночь, заметили мальчишку, который бегал по черной лестнице вверх-вниз, передавая блюда взрослому сообщнику. — И что? Их поймали? — Большого вора посадили в колодки. Мальчишка сбежал. А ночью какой-то негодяй проник в мою спальню и выцарапал у окна такое… На следующее утро луч солнца, пробившись сквозь туман и дождь, осветил изображение виселицы, на которой болталась кардинальская шапка.
Лето вновь выдалось сырым. Он готов поклясться, что не помнит ни одного ясного дня. Урожая не будет. Король и кардинал обмениваются рецептами пилюль. Король, стоит ему чихнуть, откладывает государственные заботы и прописывает себе музицирование либо — если погода позволяет — прогулки в саду. После обеда они с Анной иногда остаются наедине. Сплетники доносят, будто она разрешает королю себя раздевать. Вечерами доброе вино прогоняет озноб, и Анна — она читает Библию — поддерживает его величество строками из Писания. После ужина Генрих впадает в мрачную задумчивость, твердит, что Франциск над ним смеется, что император над ним смеется. С наступлением темноты короля охватывает любовная тоска. Он много пьет и много спит; спит в одиночестве. Просыпается — поскольку он по-прежнему молод и силен — с ясной головой и верой в грядущий день. Вместе со светом дня возрождается надежда. Вулси не оставляет трудов даже во время болезни: сидит за столом, чихает, жалуется на ломоту в костях. Задним числом легко понять, когда начался закат кардинала, но в то время они еще не понимали. Оглянись назад и вспомнишь себя на корабле. Горизонт кренится, берег исчез в тумане. Приходит октябрь. Его сестры вместе с Мерси и Джоанной вытаскивают платья Лиз и кроят из них новую одежду. Ничто не пропадает. Каждый кусок доброй материи на что-нибудь да пойдет. На Рождество при дворе поют:
Джоанна переехала в Остин-фрайарз вместе с мужем Джоном Уильямсоном и дочерью — маленькой Джоанной, которую дети зовут просто Джо, считая, что она еще не доросла до полного имени. Джон Уильямсон нужен Кромвелю в делах. — Томас, — наседает на него Джоанна, — чем именно ты сейчас занимаешься? — Тем, чтобы у людей стало больше денег, — отвечает он. — Есть разные способы этого добиться, и Джон будет мне помогать. — Но Джону не придется иметь дел с милордом кардиналом? Ходят слухи, будто некие влиятельные люди обратились к королю с жалобой на кардинала по поводу закрытия монастырей, и король передал жалобу Вулси. Эти люди не думают о добрых целях, на которые кардинал пустил монастырские доходы, о колледжах и школярах, которые там учатся, об основанных кардиналом библиотеках. Им самим лишь бы поживиться, вот они и делают вид, будто верят, что несчастных монахов вышвырнули на улицу. Это неправда. Монахов перевели в другие монастыри, крупные, находящиеся под управлением более умелых приоров. Самых молодых — юнцов, не чувствующих призвания к монашеской жизни, — отпустили. Расспрашивая их, он часто натыкается на полное невежество, опровергающее уверения, будто аббатства распространяют свет учености. Мальчишки могут с грехом пополам пробубнить латинскую молитву, но вопрос: «А теперь объясни мне, что это значит?» — ставит их в тупик. «Что значит, сударь?» — переспрашивают они, словно думают, что смысл привязан к словам еле-еле — дерни чуть посильнее, и ниточка оборвется. — Не волнуйся из-за того, что болтают люди, — говорит он Джоанне. — Я за все отвечаю сам. Кардинал выслушал жалобу с высокомерным безразличием и записал имена кляузников, а список передал своему слуге Кромвелю. Его милость занимают другие мысли: о новых домах с гербом Вулси над входом, о колледжах, куда он переманил лучших молодых преподавателей из Кембриджа. Перед Пасхой случились неприятности: декан обнаружил у шести новоприбывших запрещенные книги. Заприте их, сказал Вулси, и постарайтесь урезонить. Если будет не слишком жарко и не слишком сыро, я, может быть, приеду и сам с ними потолкую. Бесполезно объяснять все это Джоанне. Ей всего лишь хочется убедиться, что мужа не затронет направленная против кардинала хула. — Наверное, ты знаешь, что делаешь. — Она вскидывает глаза. — Во всяком случае, Том, на простачка ты не похож. Ее голос, звук шагов, ехидная улыбка и поднятые брови — все напоминает ему Лиз. Иногда он оборачивается, думая, что это Лиз вошла в комнату.
Грейс запуталась в родственниках. Она знает, что маминого первого мужа звали Том Уильямс — его поминают на семейной молитве. А дядя Уильямсон — его сын? — спрашивает она. Джоанна пытается объяснить. — Не трать слов, — говорит Энн, постукивая тоненькими пальчиками по расшитому мелким жемчугом чепцу. — Она у нас глупая. Позже он говорит ей: — Грейс не глупая, просто маленькая. — Я в ее возрасте такой тупой не была. — Все тупые, кроме нас? Так? Судя по лицу, Энн более или менее согласна с этим утверждением. — Зачем люди женятся? — спрашивает она. — Чтобы завести детей. — Лошади не женятся, а жеребята у них есть. — Большинство людей, — отвечает он, — считает, что вместе им лучше. — Это верно, — радуется Энн. — А я могу выбрать себе мужа? — Конечно, — говорит он, подразумевая, что по его совету. — Тогда я выбираю Рейфа. Минуту, даже две минуты он думает, что его жизнь еще может выправиться. Потом соображает: как же я уговорю Рейфа подождать? Даже пять лет спустя Энн будет еще слишком юна. — Знаю, — говорит она. — А время тянется так медленно. Верно: мы всю жизнь как будто чего-то ждем. — Сдается, ты хорошо все обдумала, — произносит он. Нет надобности втолковывать, чтобы она держала свои мысли при себе; Энн сама знает, когда говорить, а когда смолчать. В разговоре с этой маленькой женщиной не нужны уловки, которых обычно требует ее пол. Она не похожа на цветок или соловья, скорее… скорее на предприимчивого торговца. Пристальный взгляд, чтобы оценить твои намерения, и по рукам. Она снимает чепец, крутит пальцами жемчужины, тянет локон, распрямляя во всю длину. Потом сворачивает волосы в жгут и оборачивает вокруг шеи. — Я могла бы обернуть их дважды, — говорит Энн, — будь у меня шея потоньше. — В голосе ясно слышится нетерпение. — Грейс считает, что я не могу выйти замуж за Рейфа, потому что мы родственники. Она думает, все, кто живет в одном доме, двоюродные. — Вы с Рейфом не родственники. — Точно? — Точно. Энн… надень сейчас же чепец. Что скажет твоя тетя? Энн корчит гримасу — получается очень похоже на тетю Джоанну — и говорит: — Томас, ты всегда так в себе уверен! Он поднимает руку, пряча улыбку. На мгновение «Джоанна» становится не такой строгой. — Надень чепец, — мягко повторяет он. Энн натягивает чепец на голову. Она такая маленькая, думает он, и все равно ей больше подошел бы шлем. — А откуда взялся Рейф? — спрашивает она.
Рейф взялся из Эссекса, где тогда жил его отец, Генри Сэдлер, эконом сэра Эдварда Белкнепа. Сэр Эдвард состоял в родстве с Греями, а через них — с маркизом Дорсетским; маркиз покровительствовал Вулси, когда тот учился в Оксфорде. Так что да, родство в этой истории фигурирует; не пробыв в Англии двух лет, он, Кромвель, уже в некотором смысле стал близок кардиналу, хотя еще ни разу не видел великого человека воочию. С Дорсетами его связывали дела — он вел несколько их запутанных тяжб и одновременно раздобывал для старой маркизы то ковер, то балдахин на кровать. Для нее весь мир состоял из челяди. Отправляйтесь туда. Принесите это. Если маркиза хотела омара или осетра, то заказывала их, и точно так же заказывала хороший вкус. Маркиза гладила флорентийские шелка, тихонько охая от удовольствия. «Чудесная покупка, мастер Кромвель, — говорила она. — Ваша следующая задача — придумать, чем мы за них заплатим». Где-то в этом лабиринте хлопот и обязанностей он свел знакомство с Генри Сэдлером и согласился взять в дом его сына. «Научите Рейфа всему, что знаете», — не без робости попросил Генри. Он договорился, что заберет мальчика на обратном пути, когда покончит с делами в этой части графства, но выбрал неудачный день: лил дождь, дороги развезло, ветер гнал тучи с побережья. Когда он спешился в луже у двери, было чуть больше двух, но уже темнело. Генри Сэдлер сказал, оставайтесь, вы все равно не успеете в Лондон до закрытия ворот. Я должен быть дома сегодня, ответил он. Завтра у меня дела при дворе, а потом придут кредиторы леди Дорсет — сами знаете, как это бывает… Мистрис Сэдлер боязливо покосилась на окно, потом на сына, которого — в семь лет — доверяла дорогам и непогоде. Ничего особенного, обычное дело, но Рейф был так мал, что он, Кромвель, чуть не почувствовал себя бессердечным. Детские локоны недавно обстригли, и рыжие волосы топорщились на макушке. Отец и мать, стоя на коленях, гладили Рейфа по спине. Потом мальчика обмотали и обвязали шалями так, что тот стал похож на бочонок. Он глядел на будущего воспитанника, на дождь за окном и думал: а ведь я мог бы сидеть сейчас в сухости и тепле. Как другим это удается? Мистрис Сэдлер прижала ладони к щекам сына и зашептала: «Помни все, чему мы тебя учили. Читай молитвы. Мастер Кромвель, пожалуйста, следите, чтобы он не забывал молиться». Она подняла мокрые от слез глаза, и он понял: ребенку этого не выдержать, мальчик дрожит под своим тряпьем и сейчас ударится в рев. Поэтому он плотнее закутался в плащ — несколько капель упало на пол, окропив сцену. «Ну, Рейф? Если ты мужчина… — и протянул руку в перчатке. Детская ручонка скользнула в нее. — Посмотрим, как далеко мы можем ускакать». Мы выйдем быстро, чтобы ты не оглядывался, подумал он. Ветер и дождь прогнали родителей от открытой двери. Он забросил Рейфа в седло. Дождь бил почти горизонтально. Ближе к Лондону ветер утих. Кромвели жили тогда на Фенчерч-стрит. В дверях слуга хотел принять Рейфа на руки, но он сказал: «Мы, утопающие, должны держаться друг за друга». Ноша казалась необычно тяжелой — съежившееся обмякшее тельце под семью слоями промокшей шерсти. Он поставил Рейфа перед огнем, и от того сразу повалил пар. Проснувшись в тепле, мальчик принялся замершими пальцами распутывать свои платки, потом вежливо, отчетливо спросил, что это за место. — Лондон. Фенчерч-стрит. Дом. Он взял льняное полотенце и мягко промокнул мальчику лицо, потом вытер голову, отчего волосы у Рейфа встали торчком. Вошла Лиз. «Силы небесные, это мальчик или еж?» Рейф посмотрел на нее, улыбнулся, да прямо так, стоя, и заснул.
Когда летом 1528 года вернулась потовая лихорадка, люди, как и в прошлом году, говорили: если не думать о ней, не заболеешь. Однако как не думать? Он отправил девочек за город — сперва в Степни, затем дальше. На сей раз поветрие затронуло и двор. Генрих пытался убежать от болезни, переезжая из одного охотничьего дома в другой. Анну отправляют в Хивер. Лихорадка настигла Болейнов. Первым слег отец Анны, однако остался в живых; умер муж ее сестры Марии. Следом заболела Анна, но через сутки она уже была на ногах. Правда, болезнь может обезобразить. Даже и не знаешь, о каком исходе молиться, говорит он кардиналу. Тот отвечает: — Я молюсь за королеву Екатерину… и за любезнейшую леди Анну. Молюсь за войска короля Франциска в Италии, чтобы Господь даровал им успех, но не слишком большой — иначе они забудут, что нуждаются в дружбе и союзничестве короля Генриха. Молюсь о его королевском величестве и советниках его королевского величества, о зверях полевых, и о святейшем отце, и о курии, да направит Господь ее решения. Молюсь о Мартине Лютере, и о всех, зараженных его ересью, и обо всех, кто против него воюет, особливо же о канцлере герцогства Ланкастерского, нашем дорогом друге Томасе Море. Вопреки всякому здравому смыслу и свидетельству собственных глаз, я молюсь об урожае и о том, чтобы дождь перестал. Я молюсь обо всех. Обо всем. Это и значит быть кардиналом. И только когда я говорю Богу: «Ну, а как насчет Томаса Кромвеля?», Господь отвечает мне: «Вулси, что я тебе говорил? Неужто ты не понимаешь, когда следует уняться?» Поветрие достигает Хэмптон-корта, и кардинал затворяется от мира. Только четырем слугам дозволено входить во внутренние покои. У кардинала, когда он наконец оттуда выходит, вид такой, будто он и вправду молился. В конце лета девочки возвращаются в Лондон. Обе заметно подросли, у Грейс волосы выгорели на солнце. Она сторонится отца, и он думает: неужто, глядя на меня, она вспоминает одно — как я нес ее на руках вечером того дня, когда умерла Лиз? Энн говорит, на следующее лето, что бы ни случилось, я хочу остаться с тобой. Болезнь отступила, но в остальном молитвы кардинала не так успешны — в стране недород, французские войска в Италии терпят поражение за поражением, а их предводитель умер от чумы. Приходит осень. Грегори пора возвращаться к своему наставнику. Мальчик едет с неохотой, это очевидно, хотя это почти все, что ему очевидно в отношении сына. Он спрашивает, в чем дело, но не получает ответа. С другими мальчик весел и оживлен, с отцом — настороженно-вежлив, словно держит официальную дистанцию. «Неужто Грегори меня боится?» — спрашивает он Джоанну. Язык у Джоанны острей иглы и так же проворен. — Он не монах; с чего бы? — бросает она. Потом смягчается. — Томас, с какой стати ему тебя бояться? Ты добрый отец. На мой взгляд, даже чересчур. — Если он не хочет возвращаться к наставнику, я отправлю его в Антверпен к моему другу Стивену Воэну. — Грегори никогда не станет дельцом. — Верно. — Трудно себе представить, что Грегори торгуется из-за процентов с агентом Фуггера или ухмыляющимся представителем Медичи. — Так что мне с ним делать? — Я тебе скажу: как только еще немного подрастет, жени его на девушке из хорошей семьи. Грегори — джентльмен, это сразу видно. Энн хочет учить греческий. Он думает, кого бы пригласить в учителя, спрашивает знакомых. Ему хочется, чтобы это был кто-то молодой, умный — человек, который поселится в доме и с которым будет приятно беседовать за ужином. У сына и племянников наставник неудачный, однако теперь поздно что-либо менять. Вот ведь вздорный старый брюзга! Как-то один из мальчиков устроил в комнате пожар, потому что читал в постели при свече. «Но ведь это, как я понимаю, был не Грегори?» — спросил он тогда, и учитель обиделся, усмотрев в вопросе неуместную шутку. И еще вечно присылает счета, которые, кажется, уже давно оплачены. Ему нужен домашний счетовод. Он сидит за столом, заваленным планами и сметами из Ипсвича и Кардинальского колледжа, проектами будущих садов Вулси, и разглядывает шрам на ладони — давнюю метку от ожога, похожую на обрывок веревки. Думает о Патни. Об Уолтере. Вспоминает нервную лошадь в кузне, запах пивоварни. Вспоминает ламбетскую кухню и белобрысого мальчишку, который приносил угрей. Как-то он схватил этого мальчишку за волосы, окунул лицом в чан с водой и держал. Неужто я и впрямь это сделал? — думает он. Зачем? Наверное, кардинал прав, я безнадежный грешник. Шрам твердый, будто выступающая косточка, и временами чешется. Он думает: мне нужен счетовод. Мне нужен учитель греческого. Мне нужна Джоанна. Но кто сказал, что я получу все, что мне нужно? Он вскрывает письмо от священника Томаса Берда, который пишет, что кардинал должен ему столько-то денег. Делает пометку: проверить и заплатить, потом снова берет письмо. Там говорится о неких Клерке и Самнере. Имена ему известны — они были в числе тех шестерых оксфордцев, у которых нашли лютеранские книги. Заприте их, сказал тогда кардинал, заприте и урезоньте. Он отводит взгляд от письма, чувствуя приближение чего-то дурного: по стене скользнула тень. Читает. Клерк и Самнер умерли, пишет Берд, надо известить кардинала. За неимением более подходящего места, декан запер их в погребе, глубоком холодном погребе для рыбы. Даже туда, в ледяную тишь, проникла летняя зараза. Они умерли в темноте, без исповеди. Все лето мы молились, но, значит, недостаточно. Неужто кардинал забыл о своих еретиках? Надо сообщить его милости. Первая неделя сентября. Подавляемое горе перерастает в ярость. Но что проку от ярости? Ее тоже надо подавлять. Однако в конце года, когда Вулси спрашивает: «Томас, что подарить вам на Новый год?» — он говорит: «Подарите мне Маленького Билни». И не дожидаясь ответа, добавляет: — Милорд, он в Тауэре с прошлой зимы. Тауэр способен напугать любого, а Билни робок и слаб. Боюсь, его содержат слишком строго. Вы помните, как умерли Самнер и Клерк? Милорд, употребите свое влияние, напишите письма, обратитесь с прошением к королю. Добейтесь, чтобы его отпустили. Кардинал откидывается в кресле и складывает пальцы. — Томас. Томас Кромвель. Очень хорошо. Но отец Билни должен вернуться в Кембридж и оставить всякую мысль о поездке в Рим, чтобы направить папу на путь истинный. Подземелья Ватикана очень глубоки, туда не дотянуться даже мне. Он чуть не говорит: «Вам даже до подвалов собственного колледжа не дотянуться», но вовремя прикусывает язык. Ересь — легкий ее налет — поблажка, которую дает своему слуге кардинал. Его милость не прочь выслушать отчет о последних вредных сочинениях и сплетни из Стил-ярда, где живут немецкие купцы, обсудить после ужина текст-другой. Однако все спорное, прежде чем передать кардиналу, следует оплести тончайшей паутиной слов. Всякое опасное мнение надо так обложить шутливыми оправданиями, чтобы оно стало мягким и безобидным, словно подушка. Да, когда милорду сообщили о смерти в погребе, его милость даже всплакнул. «Как же я ничего не знал? Такие замечательные молодые люди!» В последние месяцы у кардинала глаза на мокром месте, однако это не означает, что слезы менее искренни. Вот и сейчас его милость смахивает слезинку, поскольку знает всю историю: Маленький Билни в Грейз-инн, поляк из Штеттина, сбитые с толку посланцы, растерянные дети, лицо Элизабет Кромвель, застывшее в посмертной суровости. Кардинал подается вперед и говорит: — Томас, пожалуйста, не отчаивайтесь. У вас есть дети. И не исключено, что со временем вы захотите жениться снова. Я — ребенок, думает он, которого нельзя утешить. Кардинал накрывает его руку своей. Драгоценные камни поблескивают, являя таинственные глубины: гранат словно кровяной пузырь, бирюза с серебристым налетом, алмаз с желтовато-серой искрой, как глаз кошки. Он никогда не расскажет кардиналу про Марию Болейн, как бы порой ни тянуло. Кардинал может посмеяться, может возмутиться. Надо как-то протащить общее содержание без контекста.
Осень 1528 года: он при дворе по кардинальским делам. Мария бежит к нему, приподняв юбки, так что видны зеленые шелковые чулки. Не сестра ли Анна за нею гонится? Он ждет. Мария резко останавливается. — Ах, это вы! Он и не думал, что Мария Болейн его знает. Она хватается одной рукой за стенную панель, другой — за его плечо, будто он часть стены. Мария по-прежнему обворожительна: белокурая, пухленькая. Она запыхалась от бега. — Мой дядя… сегодня утром. Мой дядя Норфолк. Метал в вас громы и молнии. Я спросила сестру, кто этот ужасный человек, и она сказала… — Тот, кого не отличить от стены? Мария отдергивает руку. Смеется, краснеет, силится раздышаться, грудь под платьем ходит ходуном. — На что сетовал милорд Норфолк? — О… — Она начинает обмахиваться рукой. — Он сказал, кардиналы, легаты, от них в Англии никакой жизни. Он сказал, кардинал Йоркский разоряет знатные семейства: хочет править сам, а лорды чтобы дрожали, как мальчишки, которых могут в любую минуту выпороть. Разумеется, вам не обязательно меня выслушивать… Мария выглядит такой хрупкой… Она еще не отдышалась, но он взглядом просит ее продолжать. — Мой брат Джордж тоже бушевал. — Смешок. — Мол, кардинал Йоркский родился в приюте для бедных и взял себе на службу человека, который родился в канаве. Милорд мой отец сказал, милый мальчик, ты ничего не потеряешь, если будешь строго придерживаться истины: не в канаве, а в пивоварне, ибо он определенно не джентльмен. — Мария отступает на шаг. — А вы похожи на джентльмена. Мне нравится этот серый бархат, откуда он? — Из Италии. Теперь он уже не стена, а кое-что получше — Мария вновь кладет руку ему на плечо, рассеянно гладит ткань. — А не могли бы вы раздобыть мне такой же? Впрочем, наверное, для женщины такой цвет мрачноват? Она не сказала «для вдовы», думает он, однако мысль, видимо, отражается на его лице, потому что Мария говорит: — Да, конечно. Уильям Кэри умер. Он склоняет голову и тщательно подыскивает слова — Мария его пугает. — Двор о нем скорбит. Как и вы. Вздох. — Он был добрый. Учитывая обстоятельства. — Вам, наверное, приходилось нелегко. — Когда король перенес свое внимание на Анну, он думал, будет как во Франции. Думал, она согласится… занять некое положение при дворе. И в его сердце, как он выразился. Обещал порвать со всеми другими любовницами. Письма, которые он писал ей собственной рукой… — Вот как? Кардинал говорит, короля ни за что не убедишь написать письмо. Даже другому королю. Даже папе. Даже если от этого зависит успех дела. — Да, с прошлого лета. Он пишет и там, где стояло бы «Henricus Rex»… — Мария берет его руку и рисует пальцем на ладони. — Вместо подписи он рисует сердце, а внутри сердца — инициалы, его и ее. Ой, не смейтесь… — Она сама невольно улыбается. — Он говорит, что страдает. Ему хочется сказать, Мария, а нельзя ли выкрасть для меня эти письма? — Сестра говорит, здесь не Франция, а я не такая дурочка как ты, Мария. Она знает, что я была любовницей Генриха и он меня бросил. Отсюда она извлекла урок. Он задерживает дыхание, но ее уже не остановить — она решила выговориться во что бы то ни стало. — Я вам скажу, они поженятся, чего бы это ни стоило. Дали друг другу такую клятву. Анна говорит, что выйдет за него, и гори они все синим пламенем, Екатерина с ее испанцами. Генрих всегда получает, что хочет, и Анна тоже, можете мне поверить — уж я-то их знаю, как никто. — В глазах у нее блестят слезы. — Вот почему я горюю по Уильяму Кэри. Она теперь все, а меня надо вымести после ужина, словно солому с пола. Отец говорит, я нахлебница, а дядя Норфолк называет меня шлюхой. Как будто не он вас такой сделал. — У вас нехватка в деньгах? — О, да! — говорит Мария. — Да, да, да и никто не хочет об этом думать! Вы первый, кто спросил. У меня дети. Вам это известно. Мне нужно… — Губы у нее дрожат, и она прижимает к ним палец, чтобы унять дрожь. — Вы видели моего сына… как по-вашему, почему я назвала его Генри? Король мог бы признать его, как признал Ричмонда, но моя сестра не разрешила. Он во всем ей потворствует. Она намерена сама родить ему принца и не хочет, чтобы рядом был мой. Кардиналу докладывали: сын Марии Болейн — здоровый золотисто-рыжий мальчуган с отменным аппетитом. У нее есть и дочь, постарше, но в данном случае дочери никого не интересуют. — Сколько лет вашему сыну, леди Кэри? — В марте будет три. Моей дочери Кэтрин пять. — Она испуганно прикрывает рукой рот. — Ой, я и забыла, что у вас умерла жена. Как я могла? Да откуда вам вообще знать, удивляется он, но она тут же отвечает: — Про людей кардинала Анна знает все. Она задает вопросы и записывает ответы в книжечку. — Мария поднимает на него глаза. — А дети у вас есть? — Да… а знаете, у меня ведь тоже никто до вас этого не спрашивал. — Он прислоняется плечом к стене, Мария подступает чуть ближе, и, может быть, их лица немного мягчеют — двое заговорщиков, объединенные болью утрат, на мгновение сбрасывают маску несокрушимой стойкости. — У меня взрослый мальчик, в Кембридже, с наставником. И маленькая девочка по имени Грейс, она хорошенькая и белокурая, в отличие от меня… Моя жена была не красавица, а я таков, каким вы меня видите. И еще у меня есть дочь Энн. Она хочет учить греческий. — Бог ты мой!.. Для женщины это… — Да, но она говорит: «Почему дочке Мора можно, а мне нельзя? За что ей такая преференция?» Она знает множество умных слов, и умеет их использовать. — Она ваша любимица. — Снами живут ее бабушка и моя свояченица, но это не… для Энн это не самое удобное. Мне следовало бы отдать ее в другой дом, да только… ну, греческий… и вообще я и так ее почти не вижу. — Ему кажется, что он уже давно не говорил так долго, разве что с Вулси. — Ваш отец должен обеспечивать вас как подобает. Я попрошу кардинала с ним побеседовать. Кардиналу понравится, думает он про себя. — Однако мне нужен новый муж. Чтобы меня не обзывали всякими словами. Кардинал может раздобыть женщине мужа? — Кардинал может все. Какого мужа вы хотите получить? Мария задумывается. — Чтобы он заботился о моих детях. Защищал меня от родных. И не умер. Она сводит пальцы. — Вам следовало добавить: молодого и красивого. Кто не просит, тот не получает. — Правда? Мне в детстве внушали другое. Коли так, вам внушали не то же самое, что вашей сестре, думает он. — В придворном спектакле, помните, в Йоркском дворце… вы были Красотой или Добротой? — Ой, — смеется она, — это было семь лет назад, я и не помню. Я кем только не наряжалась. — Вы по-прежнему и красивы, и добры. — Я тогда только об этом и думала: как бы нарядиться. А вот Анну помню. Она была Упорством. Он говорит: — Этой ее главной добродетели предстоит трудное испытание. Кардинал Кампеджо приехал из Рима с указанием тянуть время. Делайте что угодно, ищите любые поводы для отсрочки, но не выносите окончательного решения. — Анна все время что-нибудь пишет — или письма, или у себя в книжечке. И ходит: взад-вперед, взад-вперед. Когда она видит милорда отца, то поднимает руку, мол, не заговаривайте со мной, а когда видит меня, то щиплет. Вот так… — Мария пальцами левой руки показывает в воздухе, как сестра ее щиплет. Потом гладит себя по горлу, отыскивая пульсирующую ямочку над ключицами. — Вот сюда. Иногда у меня остаются синяки. Она хочет меня изуродовать. — Я поговорю с кардиналом, — обещает он. — Поговорите. — Мария ждет. Ему надо идти. У него дела. — Я больше не хочу быть Болейн, — говорит она. — Или Говард. Признай король моего сына, все было бы иначе, а так я больше не хочу балов и спектаклей с переодеванием в Добродетели. Нет у них никаких добродетелей, одно притворство. Раз они не желают меня знать, и я не хочу иметь с ними ничего общего. Лучше я буду побираться… — Полноте, леди Кэри, в этом не будет нужды. — А знаете, чего я хочу? Мужа, который задаст им страху. Я хочу выйти за человека, которого они боятся. Голубые глаза вспыхивают внезапной мыслью. Мария кладет тонкий пальчик на приглянувшийся ей серый бархат и тихо произносит: — Кто не просит, тот не получает. Заполучить Томаса Говарда дядей? Томаса Болейна — тестем? Короля, со временем, свояком? — Они вас убьют, — говорит он, чувствуя, что объяснять ничего не нужно. Она смеется, закусывает губу. — Конечно. Конечно убьют. О чем я думаю! В любом случае, спасибо за то, что вы уже для меня сделали. Подарили мне целое спокойное утро — потому что когда они ругают вас, они не ругаются на меня. Когда-нибудь, — продолжает Мария, — Анна пригласит вас поговорить. Она пошлет за вами, и вы будете польщены. Она спросит совета или поручит вам какое-нибудь мелкое дело. Так вот, пока этого не произошло, выслушайте от меня совет: развернитесь и быстро идите в другую сторону. Она целует кончики пальцев и прикладывает их к его губам. Сегодня он кардиналу не нужен, поэтому едет домой в Остин-фрайарз. Главное желание — оказаться как можно дальше от всех Болейнов, сколько их ни есть. Некоторых, возможно, пленила бы женщина, спавшая с двумя королями, но только не его. Он думает про Анну — с какой стати ей его приглашать? Возможно, у нее какие-то сведения от тех, кого Томас Мор зовет «вашим евангелическим братством», хотя странно: Болейны не слишком заботятся о спасении души. У дяди Норфолка, который ненавидит всякую мысль и вряд ли хоть когда-нибудь заглядывает в книги, для этой цели есть священники. Брат Джордж любит женщин, охоту, наряды, драгоценности и теннис. Сэр Томас Болейн, обворожительный дипломат, интересуется только собой. Ему хочется рассказать кому-нибудь о встрече с Марией, но рассказывать никому нельзя, и он делится только с Рейфом. — Думаю, вы неправильно поняли. — Слушая про сердце с инициалами, Рейф широко распахнул голубые глаза, но даже не улыбнулся. Историю с предложением брака юноша находит неправдоподобной. — Она наверняка имела в виду что-то другое. Он пожимает плечами; как тут еще можно понять. — Герцог Норфолкский нас бы с костями съел, — качает головой Рейф. — Прискакал бы сюда и поджег наш дом. — Но щипки? От них какая защита? — Доспехи, больше ничего, — отвечает Рейф. — Могут пойти пересуды. — А никто не смотрит нынче на Марию Болейн, — говорит юноша и добавляет укоризненно: — Кроме вас. С приездом в Лондон папского легата квазикоролевский двор Анны Болейн распадается. Король не хочет путаницы: Кампеджо здесь по вопросу его брака с Екатериной, никак не связанного, настаивает король, с чувствами к леди Анне. Анна уезжает в Хивер и забирает с собой сестру. В Лондон просачиваются слухи, что Мария беременна. Рейф спрашивает: «При всем уважении, хозяин, вы точно только к стене прислонялись?» Родственники покойного мужа утверждают, что ребенок не его, король, по собственным словам, тоже ни при чем. Печально видеть, как охотно многие решают, что король лжет. Как-то приняла новость Анна? В глуши у нее будет много времени злиться. «Она исщиплет Марию до синяков», — замечает Рейф. Все вокруг пересказывают ему сплетню, не зная, насколько близко она его затрагивает. Он опечален и думает: что это за порода такая, болейновская? Все, происшедшее между ним и Марией, видится и слышится теперь совершенно иначе. Мурашки бегут по коже при мысли, что, поддайся он тогда на лесть, скажи «да», вскоре он стал бы отцом ребенка, не похожего на Кромвелей, но очень похожего на Тюдоров. Уловка, конечно, отменная. Мария, несмотря на кукольную внешность, отнюдь не дурочка. Когда она бежала по галерее, показывая зеленые чулки, ее цепкий взгляд выискивал жертву. Люди для Болейнов — вещь, которую можно использовать и выбросить. Им нет дела до чужих чувств, имени, репутации. Смешно. Как будто у Кромвелей есть имя. Или репутация, которую нужно беречь. Слухи слухами, однако ничего не происходит. Возможно, Мария ошиблась, или ее оклеветали по злобе: видит Бог, Болейнов есть за что не любить. Или беременность была, но закончилась выкидышем. Сплетни утихают. Ребенка нет. Это почти как в тех странных сказках, которые так любит кардинал, где природа извращена, а женщины-змеи исчезают и появляются по собственному желанию. У королевы Екатерины тоже был ребенок, который исчез. В первый год брака с Генрихом у нее случился выкидыш, но врачи говорили, что она носит двойню. Кардинал отлично помнит ее в ослабленном корсете и с загадочной улыбкой на лице. Какое-то время ее не видели, затем она вновь появилась — туго зашнурованная, с плоским животом и без ребенка. Наверное, это что-то специфически тюдоровское. Некоторое время спустя он слышит, что Анна взяла под свою опеку Генри Кэри. Интересно, не собирается ли она отравить племянника. Или съесть.
Новый 1529 год. Стивен Гардинер в Риме угрожает папе Клименту от имени короля; содержание угроз кардиналу не сообщают. Климент и в лучшие-то времена довольно пуглив; не удивительно, что когда мастер Стивен дышит серой ему в уши, он заболевает. Из Рима доносят, что папа при смерти; агенты кардинала по всей Европе прощупывают почву и закидывают крючки, бодро позвякивая монетами в кошельках. Если Вулси станет папой, все королевские затруднения разрешатся в одночасье. Кардинал легонько ворчит: его милость любит свою страну, майские гирлянды, щебет птиц, и с ужасом думает о приземистых злобных итальянцах, лесах из виселиц, усеянных трупами равнинах. — Вам придется поехать со мной, Томас. Вы будете стоять рядом и действовать быстро, если какой-нибудь кардинал попытается меня заколоть. Он представляет своего господина, утыканного кинжалами, как святой Себастьян — стрелами. — Почему папа должен жить в Риме? Где это сказано? По лицу кардинала медленно расплывается улыбка. — Перенести Святой престол сюда? Отличная мысль! А почему бы и нет? — Вулси любит смелые планы. — В Лондон, наверное, не удастся. Будь я архиепископом Кентерберийским, я бы мог держать свой папский двор в Ламбетском дворце, но старый Уорхем невероятно живуч… вечно он у меня на пути. — Ваша милость может переехать в собственную епархию. — Йорк слишком далеко. А что если Винчестер? Древняя столица Англии. И к королю близко. Очень интересно получится. Король ужинает с папой, который в то же время его лорд-канцлер… Должен ли будет король подавать его святейшеству салфетку? Когда приходит известие о выздоровлении Климента, кардинал никак не выказывает разочарования, только говорит: Томас, что нам делать дальше? Надо открывать суд легатов,[27] больше тянуть нельзя. Разыщите и доставьте мне человека по имени Антони Пойнс. Он стоит, скрестив руки, и ждет более внятных указаний. — Скорее всего, он на острове Уайт. И еще привезите сэра Уильяма Томаса — думаю, его можно найти в Кармартене. Он стар, так что велите своим людям ехать, не торопясь. — Я не держу людей, которые мешкают. — Он кивает. — Впрочем, я понял. Не уморить свидетеля по дороге. Суд по важнейшему королевскому вопросу близится. Генрих намерен доказать, что королева Екатерина, когда он на ней женился, была уже не девственница, то есть ее с Артуром брак осуществился. Для этой цели собирают джентльменов, бывших при августейшей чете после свадьбы в Байнардском замке, затем в Виндзоре, куда двор переехал в ноябре того года, и, наконец, в Ладлоу, куда молодых отправили играть в принца и принцессу Уэльских. «Артур, — говорит Вулси, — был бы сейчас примерно ваших лет, Томас». Свидетели по меньшей мере на поколение старше. Да и столько лет прошло — двадцать восемь, если быть точным. Что они могут помнить? Не следовало доводить до такого публичного непотребства. Кардинал Кампеджо умолял Екатерину склониться перед королевской волей, признать брак недействительным и уйти в монастырь. Конечно, любезно отвечала она, я стану монахиней. Если король станет монахом. Тем временем Екатерина приводит обоснования, почему легаты не должны разбирать этот вопрос. Во-первых, он по-прежнему на рассмотрении в Риме, во-вторых, она чужая в чужой стране, утверждает королева, забыв, что два десятилетия кряду ничто в английской политике не происходило без ее участия. Судьи, по уверениям королевы, настроены против нее; в этом есть определенный резон. Кампеджо, положа руку на сердце, клянется, что будет судить по чести, пусть даже рискуя головой. Екатерина находит, что он слишком близок со вторым легатом; всякий, проводящий столько времени с Вулси, считает она, забыл, что такое совесть. Кто советует Екатерине, как вести себя в суде? Джон Фишер, епископ Рочестерский. — Знаете, за что я его терпеть не могу? — спрашивает кардинал. — Он весь — кожа да кости. Ненавижу тощих прелатов. Рядом с ними мы, остальные, выглядим такими земными! В полном блеске земного великолепия, в лучшем багряном облачении, кардинал заседает в Блэкфрайарз, где король с королевой должны предстать перед легатами. Все думали, что Екатерина пришлет своего представителя, однако она является сама. Собралась целая коллегия епископов. Король, когда выкликают его имя, отзывается громко, раскатисто, во всю мощь широкой, усыпанной самоцветами груди. Он, Кромвель, посоветовал бы другое: отвечать тихо, склонив голову перед судьями. Смирение, на его взгляд, чаще всего бывает притворным, но именно притворщики нередко выигрывают в суде. Зал набит битком. Они с Рейфом — зрители в дальних рядах. После выступления королевы, заставившего некоторых прослезиться, они выходят на улицу. Рейф говорит: — Будь мы ближе, мы бы видели, смел ли король смотреть ей в глаза. — Да. Это, собственно, главный вопрос. — Мне очень стыдно, но я верю Екатерине. — Тсс. Не верь никому. Что-то заслоняет свет. Это Стивен Гардинер, черный, с кривой усмешкой на лице: поездка в Рим явно не пошла на пользу его характеру. — Мастер Стивен! Как прошел обратный путь? Ну да, конечно, всегда неприятно возвращаться с пустыми руками. Мне вас очень жаль. Я уверен, вы старались как могли. — Если король не получит в суде чего хочет, вашему господину конец. И тогда жалеть придется вас. — Только вы не станете. — Не стану, — соглашается Гардинер и отходит. Екатерина не возвращается на вторую, позорную часть слушаний. Вместо нее выступает представитель: она сообщила духовнику, что Артур за время брака так и не сумел ею овладеть, и теперь разрешила нарушить тайну исповеди, дабы предать эти сведения огласке. Она свидетельствовала перед высшим судом, судом Божьим: стала бы она лгать, обрекая душу на погибель? Есть и другой момент, о котором все помнят. После смерти Артура Екатерину предлагали женихам — старому королю и принцу Генриху — как сохранившую девство. Можно было пригласить врача, чтобы тот ее освидетельствовал. Она бы испугалась, заплакала, но покорилась чужому человеку с холодными руками; возможно, теперь она жалеет, что этого не произошло. Однако никто такого не потребовал — быть может, в ту пору люди еще не совсем потеряли стыд. Разрешение на брак с Генрихом предусматривало оба случая: и наличие девства, и его отсутствие. Испанские документы отличаются от английских. Этим нам и следовало бы сейчас заниматься: разбирать подпункты, а не грызться в суде из-за клочка кожи и капли крови на простыне. Будь он советником Екатерины, он удержал бы ее в суде, как бы она ни противилась. Посмели бы свидетели сказать ей в лицо то, что говорили за глаза? Ей было бы стыдно смотреть на них, седых, морщинистых и совершенно уверенных в своей памяти, но он бы убедил ее приветствовать их ласково, объявить, что она в жизни бы их не признала, полюбопытствовать, как их внуки и меньше ли в летнюю жару болят суставы и поясница. Им было бы еще стыднее; очень может быть, что они замялись бы, оробели под ее пристальным честным взглядом. Без Екатерины суд превращается в непристойный фарс. Граф Шрусбери, соратник старого короля по Босворту, рассказывает про свою первую брачную ночь, когда ему, как и Артуру, было пятнадцать; граф говорит, что никогда до тех пор не знал женщины и тем не менее исполнил свой долг. На свадьбе Артура они с графом Оксфордским провожали принца в спальню Екатерины. Да, говорит маркиз Дорсетский, и я там тоже был; Екатерина лежала под одеялом, принц возлег с нею. «Никто не готов присягнуть, что залез в постель вместе с ними, — шепчет Рейф. — Но может, еще и такой найдется». Суд должен также принять во внимание свидетельства о том, что было произнесено на следующее утро. Принц вышел из супружеской спальни и сказал, что хочет пить. Приняв у сэра Антони Уиллоби кубок с элем, он объявил: «Сегодня ночью я побывал в Испании». Грубую мальчишескую шутку вытащили на свет, хотя сам мальчишка уже три десятилетия как в могиле. До чего же одиноко умирать молодым, идти во тьму без друзей и сверстников! А теперь уже нет в живых ни Мориса Сент-Джона, который покоится в Вустерском соборе, ни мистера Кромера, ни Уильяма Вудолла — никого из тех, кто слышал, как принц сказал: «Государи мои, хорошо мне с моею женой». Выслушав это все, они выходят подышать воздухом, и ему ни с того ни с сего вдруг становится зябко. Он прикладывает руку к лицу, трогает скулу. Рейф говорит: — Какой жених выйдет наутро и скажет: «Добрый день, государи мои! Ничего не получилось»? Принц ведь просто хвастал, правда? Вот и все. Они забыли, что значит быть пятнадцатилетним. В то самое время, когда заседает суд легатов, король Франциск в Италии проигрывает битву. Папа Климент готовится подписать новый мирный договор с императором — племянником Екатерины. Еще не зная этого, он говорит Рейфу: «Позорный день. Если мы хотели стать посмешищем для всей Европы, нам это удалось». Загвоздка с Рейфом: мальчик не может вообразить, чтобы кому-то, даже пылкому пятнадцатилетнему юнцу, захотелось овладеть Екатериной — это все равно что совокупиться со статуей. Само собой, Рейф не слышал, как Вулси расписывает былые прелести королевы. — Я воздерживаюсь от окончательного суждения. И судьи воздержатся — у них просто не будет другого выхода, — говорит он. — Тут мы все тебе уступаем. Я вот тоже не помню, каким был в пятнадцать. — А вам разве не столько было, когда вы прибыли во Францию? — Наверное, что-то около того. Вулси: «Артур был бы сейчас примерно ваших лет, Томас». Он вспоминаетженщину в Дувре, прижатую к стене; ее хрупкие кости, бледное молодое лицо, и внезапно пугается. Что если кардинальская шутка — вовсе не шутка, и в мире полно его детей, о которых он не заботится? Единственное, что ты действительно можешь сделать — позаботиться о своих детях. — Рейф, — говорит он, — ты знаешь, что я не составил завещание. Обещал, да так и не собрался. Едем домой, будем его писать. — Но почему сейчас? — изумляется Рейф. — Вас ждет кардинал. — Едем домой. — Он берет Рейфа за плечо и чувствует прикосновение бесплотных пальцев к своей левой руке. Это Артур, серьезный и бледный. Король Генрих, думает он, ты разбудил призрака; ты его и уйми.
Июль 1529-го. Томас Кромвель из Лондона, джентльмен. В здравом уме и твердой памяти. Моему сыну Грегори шестьсот шестьдесят шесть фунтов, тринадцать шиллингов и четыре пенса. Перины, подушки и одеяло желтого турецкого атласа, кровать фламандской работы, резной шкаф и буфеты, серебро, золоченое серебро и двенадцать серебряных ложек. Сдача ферм в аренду будет осуществляться душеприказчиками до его совершеннолетия, по достижении коего ему следует вручить еще двести фунтов золотом. Деньги душеприказчикам на воспитание и приданое для моей дочери Энн и маленькой дочери Грейс. Приданое племяннице, Алисе Уэллифед; плащи и дублеты племянникам; Мерси всяческую домашнюю утварь и часть серебра на усмотрение душеприказчиков. Завещательные дары сестре моей покойной жены Джоанне и ее супругу, Джону Уильямсону, а также приданое их дочери, тоже Джоанне. Деньги слугам. По фунту сорока бедным девушкам на свадьбу. Двадцать фунтов на починку дорог. Десять фунтов на еду для неимущих узников лондонских тюрем. Тело мое похоронить в том приходе, в котором я скончаюсь; на усмотрение душеприказчиков. Остаток состояния потратить на мессы по моим родителям. Душу мою оставляю Богу. Рейфу Сэдлеру — мои книги.
Когда началась летняя эпидемия, он спросил Мерси и Джоанну, не отправить ли детей за город. Куда? Джоанна его не подначивала, она и впрямь хотела знать. Мерси сказала: разве от нее убежишь? Они утешали себя мыслью, что раз лихорадка в прошлом году унесла столько жизней, в этом она будет свирепствовать меньше. Он считал, что они неправы, наделяя болезнь человеческой или хотя бы звериной логикой: волк забирается в овчарню, но не когда там люди с собаками. А может, они видят тут не звериную и не людскую логику, может, для них за болезнью стоит Бог и Его неисповедимые пути. Когда из Италии приходит весть о соглашении Климента с императором, Вулси склоняет голову и говорит: «Господин мой своенравен» — имея в виду не короля. В последний день июля кардинал Кампеджо объявил перерыв в судебных слушаниях, потому что в Риме были сейчас каникулы. Рассказывали, что герцог Суффолк, близкий друг короля, угрожал Вулси, стуча по столу кулаком. Всем ясно, что суд больше не соберется. Кардинал проиграл. В тот вечер мысль, что власти кардинала может прийти конец, впервые не кажется ему дикой. Он думает: падение Вулси станет и моим падением. Кромвель, перешептываются люди, ужасный человек. Словно шутка кардинала обрела плоть: словно он и впрямь идет по колено в крови, оставляя за собой битое стекло и дымящиеся угли, вдов и сирот. Его милость говорит не о событиях в Италии и не о суде легатов. — Мне сказали, лихорадка вернулась. Что теперь будет? Я умру? Я ведь болел ею четыре раза. В… в каком же году?.. кажется, в тысяча пятьсот восемнадцатом… сейчас вы будете смеяться, но это правда — к концу болезни я был не толще епископа Фишера. Господь взял меня за шкирку и встряхнул так, что зубы застучали. — Ваша милость исхудали? — Он пытается выдавить улыбку. — Вам надо было пригласить портретиста! Епископ Фишер объявил в суде — перед самыми каникулами, — что никакая власть, божеская или человеческая, не в силах отменить брак короля и королевы. Ему, Кромвелю, хочется сказать Фишеру, чтобы тот не злоупотреблял гиперболами. На его взгляд, епископ недооценивает возможности судебной власти. До сих пор, до этого самого вечера, если заверять Вулси, будто что-то неосуществимо, тот поднимал тебя на смех. Однако сегодня — когда ему удается наконец перевести разговор на эту тему, — кардинал говорит, мой друг король Франциск разбит, и я тоже. Я не знаю, что делать. Думаю, я умру, даже если лихорадка обойдет меня стороной. — Мне пора домой, — говорит Томас. — Вы меня благословите? И встает на колени. Вулси поднимает руку, потом, словно забыв, что собрался делать, произносит: — Томас, я не готов к встрече с Богом. Он улыбается. — Может быть, и Бог не готов к встрече с вами. — Надеюсь, в мой смертный час вы будете рядом. — Только до этого еще очень далеко. Кардинал качает головой. — Вы бы видели, как Суффолк сегодня на меня накинулся. Суффолк, Норфолк, Томас Болейн, Томас лорд Дарси — все они только этого и ждали, моего провала в суде. А теперь, как я слышал, они составляют книгу обвинений: как я разорял знать и все прочее. Знаете, как они хотят назвать свою книгу? «Двадцать лет поношений!» Они стряпают какое-то варево, куда войдет каждое мое высокомерное слово — так они называют ту правду, которую я им говорил… Кардинал прерывисто вздыхает и смотрит на потолок, украшенный розой Тюдоров. — На кухне вашей милости такого варева не будет. — Он встает и, глядя на кардинала, думает только о работе, которая теперь предстоит.
— Лиз Уайкис, — говорит Мерси, — не хотела бы, чтобы ее дочерей тащили в деревню. Тем более что Энн плачет, когда тебя нет. — Энн! — изумляется он. — Энн плачет! — А как по-твоему? — говорит она грубовато. — Ты думаешь, твои дети тебя не любят? Он предоставляет решение ей. Девочки остаются в Лондоне. Как оказалось, зря. Мерси вешает на дверь знак, что в доме потовая лихорадка. Как же это так? — говорит она. Мы все время скребем полы, в Лондоне не сыщется дома чище, чем у нас. Мы молимся. Я никогда не видела, чтобы ребенок молился, как Энн. Она молится, словно идет в бой. Энн заболевает первой. Мерси и Джоанна трясут ее, чтобы не спала — врачи считают, что заболевших убивает именно сон. Однако болезнь сильнее, чем крики бабушки и тетки. Энн падает на подушки, хватая ртом воздух, и проваливается все глубже и глубже в черное оцепенение, и только пальцы сжимаются и разжимаются. Он берет ее ладонь в свою, гладит, успокаивая, но рука — как у солдата, рвущегося в бой. Позже Энн открывает глаза и зовет мать. Просит тетрадку, в которой написала свое имя. На заре жар спадает. Джоанна заливается слезами облегчения, и Мерси отсылает ее спать. Энн садится, она его узнает, улыбается. Приносят в тазу воду с розовыми лепестками. Энн осторожно притапливает их, так что каждый превращается в крошечную чашу на воде, благоуханный грааль. Однако с восходом солнца лихорадка возвращается. Он не позволяет женщинам начать все сначала: трясти, щипать, хлестать по щекам. Он предает ее воле Божьей и просит Бога смилостивиться. Говорит с Энн, но непонятно, слышит она или нет. Сам он не боится подхватить лихорадку. Уж если кардинал переболел четыре раза, я тем более выдержу, а если умру, я составил завещание. Он сидит с Энн, видит, как она борется и проигрывает. Когда она умирает, его в комнате нет — заболела Грейс, и он смотрит, как ее укладывают в постель. Его зовут к Энн, он входит и видит, что суровое личико уже разгладилось. Черты умиротворенные, рука отяжелела — настолько, что он не в силах ее удержать. Он выходит из комнаты. Говорит: «Она учила греческий». Конечно, отвечает Мерси, она была удивительный ребенок и воистину твоя дочь. Мерси утыкается ему в плечо и плачет. Говорит: «Она была умная, добрая и по-своему хорошенькая». Целиком его мысль была: «Энн учила греческий, возможно, теперь она его знает». Грейс умирает у него на руках, легко и естественно, так же, как родилась. Он кладет ее на сырые простыни; немыслимой красоты дитя с пальчиками, как только что распустившиеся белые лепестки, — и думает: я ведь совсем не знал ее, не знал, что она у меня есть. Невозможно поверить, что это он, что это они с Лиз дали ей жизнь, совершив что-то, не раздумывая, в самую обычную ночь. Они собирались, если родится мальчик, назвать его Генри, если девочка — Кэтрин, в честь королевы Екатерины; и в честь твоей Кэт тоже, сказала Лиз. Однако когда он увидел дитя, спеленутое, безукоризненно-прекрасное в своей завершенности, он назвал совсем другое имя, и Лиз согласилась. Грейс, Благодать Божья. Она дается как дар, незаслуженно. Он спрашивает, можно ли похоронить старшую дочь с тетрадкой, в которой та написала свое имя: Энн Кромвель. Священник говорит, что никогда о таком не слышал. Он слишком устал и зол, чтобы спорить. Теперь его дочери в чистилище, краю тлеющих костров и ледяных торосов. Где в Евангелии слово «чистилище»? Тиндейл говорит, ныне же пребывают вера, надежда, любовь, сии три: больше же всех любовь. Томас Мор считает, это гнусная ошибка перевода и тут должно стоять «милосердие». За ошибку в переводе Томас Мор закует вас в кандалы, за расхождения в греческом — сожжет на костре. Он вновь думает: а нужны ли мертвым переводы? Быть может, в миг перехода к небытию они узнают все, что следует знать. Тиндейл говорит: «Любовь николиже отпадает».
Октябрь. Вулси, как всегда, председательствует на заседании королевского совета. Однако в судах с началом осенней сессии получают ход кляузы на кардинала. Вулси обвиняют в богатстве. В использовании власти. И особенно — в действии на основании полномочий, не применимых на английской земле, то есть в том, что кардинал добросовестно исполнял обязанности папского легата. На самом деле они хотят сказать, что Вулси — alter rex, второй король. Его милость всегда был властнее Генриха — и если это преступление, то кардинал в нем повинен. И вот они уверенно вступают в Йоркский дворец, герцог Суффолк, герцог Норфолк: два великих пэра королевства. Суффолк с ощетиненной светлой бородой похож на свинью среди трюфелей; полнокровный краснолицый человек, вспоминает он, в присутствии которого кардиналу всегда становилось не по себе. Норфолк опасливо смотрит, как перерывают вещи кардинала, явно ожидая увидеть восковые фигурки, истыканные иголками. Возможно, и свою тоже. Кардинал заключил сделку с дьяволом, таково убеждение Норфолка. Он, Кромвель, отсылает их прочь. Они возвращаются. Возвращаются с новыми документами, новыми предписаниями, привозят начальника королевских архивов. Они забирают у милорда кардинала большую королевскую печать. Норфолк смотрит на него искоса и вдруг усмехается своей хорьей усмешкой. К чему бы это? — Загляните ко мне как-нибудь, — говорит Норфолк. — Для чего, милорд? Ответа нет. Герцог не имеет привычки объяснять свои слова. — Когда? — Можете не спешить, — говорит Норфолк. — Приходите, когда научитесь себя вести. Это было 19 октября 1529 года.
III Попытка не пытка
День всех святых, 1529
Хеллоуин: оболочка мира гноится и кровоточит. День, когда в чистилище подбивают счета, когда тамошние приказчики и ключники слушают молитвы живых об усопших. В канун праздника всех святых они с Лиз были бы на всенощном бдении в своей церкви: поминали бы Генри Уайкиса, ее отца, и покойного мужа Лиз, Томаса Уильямса, поминали бы Уолтера Кромвеля и полузабытых братьев и сестер — двоюродных и сводных, с их давно почившими пасынками и падчерицами. В этом году он совершал ночное бдение в одиночестве: лежа без сна и думая о Лиз, ожидая, что она войдет и ляжет рядом. Да, он в Ишере с кардиналом, а не дома в Остин-фрайарз. Но, думал он, она догадается, как меня найти. Она отыщет кардинала по запаху ладана и отблеску свеч в пространстве между мирами. А где кардинал, там и я. В какой-то момент он, видимо, уснул. Когда солнечные лучи проникли в комнату, там оказалось так пусто и одиноко, словно в ней не было даже его.День всех святых. Горе накатывает волнами, грозя опрокинуть и смять. Он не верит, что мертвые возвращаются, и все равно чувствует, как плечо задевают их пальцы, кончики крыльев. С прошлой ночи они почти утратили отдельные формы, слились в сплошную массу, густую, как плоть морских чудовищ; их лица блестят нездоровым подводным блеском. Он стоит в оконной нише с молитвенником Лиз, который так любила разглядывать Грейс, и ощущает пальцами следы детских рук. Здесь приведены молитвы Богородице для каждого богослужебного часа, страницы украшены голубками и лилиями в вазах. Утреня. Коленопреклоненная Мария на полу в черную и белую шашечку; ангел обращается к Ней, приветствие написано на свитке, который разворачивается в его руках, будто говорят ладони. Крылья у ангела нарисованы небесно-голубой краской. Он переворачивает страницу. Служба первого часа. На картинке — встреча Марии и Елизаветы. Мария, с маленьким аккуратным животиком, смотрит на беременную родственницу. У обеих высокий лоб и выщипанные бровки; обе смотрят удивленно, что немудрено: одна дева, другая — в преклонных летах. Под ногами у них цветы, на голове у каждой — легкая воздушная корона из золоченой проволоки толщиною в волос. Он переворачивает страницу. Грейс, маленькая и безмолвная, переворачивает страницу вместе с ним. Служба третьего часа. Нарисовано Рождество: крохотный белый Христос в складках материнского плаща. Служба шестого часа: волхвы подносят драгоценные сосуды, позади город на холме, итальянский город с колокольней, уходящими вверх улочками и мглистыми деревьями. Служба девятого часа: Иосиф несет в храм корзинку с голубями. Вечерня: Иродов кинжал проделывает аккуратную дырочку в испуганном младенце. Женщина вздымает руки в мольбе — красноречивые, беспомощные ладони. На детском тельце три капли крови, каждая в форме слезинки, каждая нарисована бесценной киноварью. Он поднимает голову; перед глазами все еще плывут нарисованные слезы. Зрение затуманивается. Он моргает. Кто-то идет к нему. Это Джордж Кавендиш: руки стиснуты, на лице — маска озабоченности. Лишь бы Джордж не заговорил со мной, думает он. Лишь бы прошел мимо. — Мастер Кромвель, — произносит Кавендиш, — мне кажется, вы плачете. Что случилось? Дурные вести о нашем господине? Он пытается закрыть часослов, но Джордж уже протянул руку к книге. — А, вы молитесь… — В голосе звучит удивление. Кавендиш не видит, как пальцы его дочери листают страницы, как руки его жены держат книгу, просто разглядывает иллюстрации вверх ногами. Потом набирает в грудь воздуха и говорит: — Томас!.. — Я плачу о себе, — отвечает он. — Я потеряю все, чего добился в жизни, потому что паду вместе с кардиналом… нет, Джордж, не перебивайте меня… ибо делал, что он просил, был его другом и правой рукой. Если бы я занимался своей работой в Сити, а не разъезжал по стране, наживая себе врагов, я был бы сейчас богат… и пригласил бы вас в свой новый загородный дом, чтобы посоветоваться насчет мебели и клумб. А теперь — посмотрите на меня! Я конченый человек! Джордж пытается заговорить, блеет что-то утешительное. — Если только… — говорит он. — Если только, Джордж… Как вы думаете? Я отправил своего помощника Рейфа в Вестминстер. — Зачем? Он снова плачет. Призраки теснятся вокруг, ему зябко, исправить ничего нельзя. В Италии он освоил мнемоническую систему и теперь помнит каждый свой шаг к нынешнему бедственному положению. — Думаю, — говорит он, — мне тоже надо туда поехать. — Только, пожалуйста, не уезжайте до обеда, — просит Кавендиш. — А что? — Нам надо придумать, как рассчитаться со слугами кардинала. Отчаяние проходит. Он вновь открывает молитвенник, держит перед собой. Кавендиш дал ему то, в чем он нуждался: финансовую задачу. — Джордж. Сюда съехались капелланы его милости, и каждый по щедрости кардинала получает… сколько?.. сто, двести фунтов годового дохода. Думаю… думаю, мы заставим капелланов заплатить слугам, потому что, как я посмотрю, слуги любят милорда больше, чем его священники. Итак, после обеда я их пристыжу и заставлю раскошелиться. Надо заплатить слугам жалованье по крайней мере за три месяца плюс задаток на случай, если кардинала вернут ко двору. — Хорошо, — отвечает Кавендиш. — Если кому это по силам, то только вам. Он ловит себя на том, что улыбается. Может быть, мрачно, однако он не думал, что вообще сегодня улыбнется. — Покончив с этим, я вас покину. Вернусь, когда заполучу место в парламенте. — Но парламент собирается через два дня… Как теперь туда попасть? — Не знаю, но кто-то должен выступить в защиту милорда. Иначе его милость убьют. Он неприятно поражен собственными словами и хотел бы взять их назад, однако это правда. Он говорит: — Попытка не пытка. Кивок Кавендиша больше похож на поклон. — Попытка не пытка, — бормочет тот. — Это ваши любимые слова. Кавендиш ходит по дому и говорит: «Томас Кромвель молился. Томас Кромвель плакал». Только сейчас Джордж понимает, как плохи дела.
Жил некогда в Фессалии поэт по имени Симонид. Богач Скопа пригласил его на пир прочитать хвалебную оду в свою честь. У поэтов бывают странные причуды, и Симонид включил в оду хвалы небесным близнецам Кастору и Поллуксу. Скопа обиделся и сказал, что заплатит лишь половину обещанного вознаграждения, «а остальное получишь с Диоскуров». Чуть позже в пиршественные покои вошел слуга и сказал Симониду, что его спрашивают двое юношей. Поэт вышел на улицу, но никого там не увидел и решил идти обратно на пир. И тут раздался грохот рушащихся камней и крики: в доме обвалилась крыша. Из всех пировавших в живых остался один Симонид. Тела были так обезображены, что родственники не могли их опознать. Однако у Симонида была удивительная способность: он запоминал все, что видел. Он провел родственников по развалинам, указывая тех, кого они ищут, потому что мог опознать каждого из гостей по его месту на пиру. Эту историю поведал нам Цицерон. В тот день Симонид изобрел искусство запоминания. Он помнил все лица: надутые у одних, счастливые у других, скучающие у третьих, и точно знал, кто где сидел, когда обвалилась крыша.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I Финт с тремя картами
Зима 1529-го — весна 1530-го
Джоанна: Ты говоришь, Рейф, ступай и добудь мне место в новом парламенте. И он послушно идет, как служанка, которой велели снять белье. — С бельем мороки меньше, — вклинивается Рейф. — А ты почем знаешь? — не унимается Джоанна. Места в парламенте — господская вотчина; их раздают лорды, епископы, сам король. Жалкая горстка выборщиков — если на них хорошенько поднажать — всегда делает то, что велено. Рейф раздобыл ему место от Тоунтона, округа Вулси. Это было бы невозможно без согласия короля, согласия Томаса Говарда. Он затем и посылал Рейфа в Лондон — прощупать почву: чего хочет герцог, что скрывается за его хорьей ухмылкой. «Премного обязан, сударь». Теперь он знает. — Герцог Норфолк, — сообщил Рейф, — считает, что милорд кардинал зарыл сокровище и вам известно, где именно.Они беседуют с глазу на глаз. Рейф: Герцог обязательно попросит вас приехать и служить ему. — Да. Возможно, не в таких выражениях. Размышляя, он вглядывается Рейфу в лицо. Норфолк — если забыть о внебрачном сыне короля — знатнейший человек в королевстве. — Я пытался внушить ему, — говорит Рейф, — что вы его почитаете и страстно желаете оказаться под его… — Началом? — Примерно. — И что сказал герцог? — Герцог сказал «хм». Он смеется. — Что, вот таким тоном? — Таким и сказал. — А в придачу хмуро кивнул? — Вот именно. Что ж, хорошо. Я утираю слезы — слезы, что остались от Дня всех святых. Сижу с кардиналом в Ишере, в комнате с чадящим камином. Спрашиваю, милорд, не возражаете, если я вас оставлю? Нахожу трубочиста, велю прочистить дымоход. Скачу в Лондон, в Блекфрайарз. Туман, день святого Губерта. Норфолк ждет, будет уверять, что станет мне хорошим хозяином.
Герцогу под шестьдесят, но его светлость не признает возраста. Остролицый и остроглазый, Норфолк тощ, как обглоданный мосол, и холоден, как обух топора. Конечности будто на шарнирах и даже тихонько клацают при ходьбе — все дело в мощевиках, которые герцог носит под одеждой: крошечные лохмотья кожи и обрезки волос в образках, осколки костей в медальонах. «Дева Мария!», «Клянусь мессой!» — божится герцог, извлекая на свет свои амулеты из самых неожиданных мест. Пылко припадает к ним губами, призывая святых и мучеников утишить его гнев. — Святой Иуда, дай мне терпение! — восклицает герцог, путая Иуду с Иовом, историю которого последний раз слышал в детстве, сидя на коленях у священника. Впрочем, трудно представить герцога ребенком или юношей, да и в любом возрасте, кроме теперешнего. Норфолк считает Библию необязательным чтением для мирян, хотя признает, что для священника в ней есть прок. Читать книги — баловство, и чем меньше их будет при дворе, тем лучше. Его племянницу, Анну Болейн, от книг не оттянешь, вот и засиделась в девках до двадцати девяти. Герцог не пишет писем — не джентльменское это дело — для чего тогда существуют писари? Злобный красный глаз сверлит Кромвеля. — Я поддерживаю ваше выдвижение в парламент. Он склоняет голову. — Милорд. — Я говорил про вас с королем, он тоже согласен. Вы получите его указания, как вести себя в палате общин. И мои. — Они отличаются, милорд? Герцог хмурится, раздраженно меряет комнату шагами, слегка позвякивая на ходу, наконец выпаливает: — Проклятье, Кромвель, почему вы так держитесь? Откуда в вас это? Он ждет, улыбается, прекрасно понимая, что имеет в виду герцог. Да, ему не привыкать проскальзывать в комнату незамеченным, но, похоже, те дни миновали, теперь с ним вынуждены будут считаться. — И нечего скалиться, — говорит герцог. — Вулси и его присные — клубок ползучих гадов. Я не хочу сказать… — Норфолк, морщась, сжимает образок. — Не дай Бог мне… Сравнить князя церкви с ползучим гадом. Герцог хочет кардинальских денег и влияния на короля, но и в аду гореть не желает. Норфолк меряет комнату шагами, хлопает в ладоши, потирает руки, оборачивается. — Король намерен отчитать вас, сударь. Да-да. Он удостоит вас аудиенции, чтобы понять, что задумал кардинал, но берегитесь: у короля долгая память — он не забыл, как в прошлый раз вы выступали в парламенте против войны. — Надеюсь, король не собирается снова вторгаться во Францию? — Проклятье! Какой англичан об этом не мечтает! Мы должны вернуть свое. Герцог дергает скулой. Вышагивает по комнате. Трет щеку, бросает: — Что не отменяет вашей правоты. Он ждет. — Победить мы не сумеем, — продолжает Норфолк, — но должны сражаться так, словно верим в победу. И плевать на расходы. Плевать, сколько мы потеряем денег, людей, лошадей, кораблей. Что мне не нравится в Вулси. Всегда хочет договориться. Как сыну мясника понять, что такое… — La gloire?[28] — Вы сын мясника? — Кузнеца. — Вот как! Что, и лошадь подкуете? Он пожимает плечами. — Если потребуется. Но, милорд, не могу представить, как… — А что вы можете представить? Поле битвы, бивак, ночь после сражения? — Я был солдатом. — Солдатом? Вы? Держу пари, не в английской армии. Так вот в чем дело… — Герцог ухмыляется, отнюдь не враждебно. — Вот что меня всегда настораживало. Вы никогда мне не нравились, но я не понимал, почему. Где? — У Гарильяно. — За кого? — За французов. Норфолк присвистывает. — И как тебя угораздило, малый! — Я быстро понял свою ошибку. — Значит, за французов… — Герцог хмыкает. — За французов. Ноги-то вовремя унесли? — Я ушел на север. Решил заработать на… — Он хочет сказать «ссудах», но герцог не поймет, как деньги превращаются в деньги, — …тканях, шелке, по преимуществу. Сами знаете, у солдата всегда есть что продать. — Клянусь мессой, еще бы! Джонни Вольное-копье все свое несет с собой. Наемники! Вечно вырядятся, словно бродячие комедианты. Кружева, тесьма, нелепые шляпы. Легкая мишень. Стреляли из лука? — Редко. — Он улыбается. — Ростом не вышел. — Как и я. Далеко нам до Генриха. Вот у кого хватает и роста, и силы в руках. И все же. Дни нашей славы позади. — Разве обязательно сражаться? Договориться дешевле, милорд. — А вы наглец, Кромвель, что явились сюда. — Милорд, вы сами за мной послали. — Я? — Норфолк смотрит испуганно. — Неужто до такого дошло?
Советники короля готовят против кардинала сорок четыре обвинения, не больше не меньше: от умаления прерогатив суверена до покупки говядины по тем же ценам, что и король; от финансовых злоупотреблений до недостаточно ревностных гонений на лютеранскую ересь. Закон об умалении юрисдикции суверена принят давным-давно. Никто из живущих понятия не имеет, как его трактовать. Вероятно так, как было испокон веку, — по слову короля. Нешуточные страсти кипят во всех европейских собраниях. Тем временем милорд кардинал сидит в Ишере, иногда что-то бормочет, иногда восклицает: — Томас, мои колледжи! Как бы ни сложилась моя судьба, их нужно спасти. Ступайте к королю. Он волен сколько угодно мстить за воображаемые прегрешения, но пусть его гнев обрушится на меня одного! Неужели королю хватит духу покуситься на просвещение? В Ишере кардинал раздраженно меряет шагами комнату. Великий ум, некогда ворочавший судьбами Европы, тщетно пытается осознать, где оступился. В сумерках застывает в молчании, погружаясь в невеселые думы. Ради Бога, Томас, умоляет Кавендиш, не внушайте ему ложных надежд, не обещайте зазря, что приедете! А я и не обещаю, возражает он, я приезжаю, но меня все время задерживают. Палата заседает допоздна, а когда я покидаю Вестминстер, то должен принять письма и прошения, адресованные милорду кардиналу, а после беседовать с теми, кто не решается доверить свои просьбы бумаге. Я все понимаю, говорит Кавендиш, но, Томас! — тут голос секретаря срывается, — знали бы вы, каково нам тут! Который час, спрашивает милорд кардинал. Где же Кромвель? Час спустя снова: Кавендиш, почему он не едет? Посылает нас с фонарями, проверить, как погода, словно вас, Кромвель, остановит ненастье или гололед. Наконец кардинал интересуется, не случилось ли чего? Дорога из Лондона кишит лихими людьми, вокруг глушь да пустыри, где во тьме бродят исчадия ада. Отсюда недалеко до сетований: мир сей полон ловушек и обольщений, и многим из них отдал я дань, несчастный грешник. Когда наконец он срывает дорожный плащ и падает в кресло у чадящего очага — Кровь Господня, когда-нибудь дымоход прочистят? — кардинал уже тут как тут, засыпает вопросами, не дает перевести дух. Что сказал милорд Суффолк? Как выглядит милорд Норфолк? А король, вы его видели, вы с ним говорили? Как поживает леди Анна? В добром ли здравии? Все так же хороша собой? Вы придумали, как ей угодить, ибо нам нужно во что бы то ни стало найти способ ее умилостивить? — Нет ничего проще, чем угодить этой леди, — отвечает он, — коронуйте ее. И — больше ни слова о леди Анне. Мария Болейн уверяет, будто сестра его заметила, однако до сих пор она никак этого не выказала. Ее глаза равнодушно скользят мимо Кромвеля, обращаясь к предметам более достойным. Черные, слегка навыкате, как костяшки на счетах; они сияют, они всегда в движении, словно прикидывая выгоду. Впрочем, должно быть, дядя Норфолк сказал ей: вот человек, который знает кардинальские тайны, и теперь, завидев Кромвеля, она вытягивает длинную шею, черные костяшки щелкают, оценивая его с головы до пят, пока хозяйка размышляет, какую пользу из него извлечь. Пожалуй, она в добром здравии, а год ползет к концу; не чихает, как хворая кобыла, не охромела. Наверное, хороша, если вам по душе такие. Однажды перед самым Рождеством он приезжает в Ишер поздно вечером и застает кардинала слушающим мальчишку-лютниста. — Спасибо, Марк, ступайте, — говорит Вулси. Лютнист кланяется кардиналу. Тот слабым кивком, каким удостаивал провинциальных депутатов в парламенте, благодарит, а когда юноша направляется к двери, замечает: — Марк очень способный и воспитанный, в Йоркском дворце был у меня певчим. Что проку держать его здесь, лучше отослать юношу королю. Или леди Анне. Марк — пригожий малый, вдруг придется ей по вкусу? Мальчишка медлит у выхода, жадно ловя похвалы. Кромвелевский тяжелый взгляд не хуже пинка вышвыривает его за дверь. Меньше всего на свете он склонен гадать, что по вкусу леди Анне. — Лорд-канцлер Мор прислал мне что-нибудь? Он роняет на стол пачку бумаг. — У вас больной вид, милорд. — Так и есть, я болен. Что нам делать, Томас? — Давать взятки. Не скупиться. У вас остались бенефиции, земли. Даже если король отберет все, люди спросят, может ли он даровать то, что даровать не вправе? Без вашего утверждения любой титул вне закона. У вас на руках еще есть карты, милорд. — И все же, если он обвинит меня в измене, — у кардинала срывается голос, — если он… — Если бы он хотел обвинить вас в измене, вы давно сидели бы в Тауэре. — И какой от меня прок: голова в одном месте, тело в другом? Говорю вам, лишив меня своей милости, король хочет дать хороший урок папе. Показать, кто в Англии хозяин. Вот только кто же? Может быть, леди Анна? Или Томас Болейн? Вопрос опасный, особенно за пределами этой комнаты. План кампании: застать короля одного, выяснить, что тот задумал — если он и сам знает — и заключить сделку. Первая вылазка: кардиналу жизненно необходима наличность. День за днем Кромвель дожидается аудиенции. Король протягивает руку, берет письма, бросает взгляд на кардинальскую печать. На него не смотрит, ограничиваясь безличным «спасибо». Но однажды король поднимает глаза. — Мастер Кромвель, э… я не могу говорить о кардинале. Не успевает он открыть рот, как король добавляет: — Вы не поняли? Я же сказал, не могу. Тон мягкий и растерянный. — В другой раз. Я пришлю за вами. Обещаю. Когда кардинал интересуется тем, как сегодня выглядел король, он отвечает, что, судя по всему, король не выспался. Вулси смеется. — Не спит, потому что не охотится. Слишком жестко для собачьих лап. Это все от нехватки свежего воздуха, Томас, нечистая совесть ни при чем. Впоследствии он не раз вспомнит тот вечер в конце декабря, когда застал кардинала слушающим лютню, снова и снова будет мысленно туда возвращаться. Покидая кардинала и думая о предстоящей ночной дороге, он внезапно слышит за приоткрытой дверью мальчишеский голос. Говорит Марк, лютнист: — …и за мое мастерство обещал отослать меня к леди Анне. А я и рад-радехонек — что толку сидеть тут и ждать, пока король отрубит старику голову. И поделом: не будет таким заносчивым. Сегодня впервые дождался от него похвалы. Пауза. Слышен другой голос, но слов не разобрать. Снова говорит Марк: — Ясное дело, стряпчий пойдет на плаху вместе с ним. А кто его разберет, может, он никакой и не стряпчий. Говорят, убивал собственными руками, но ни разу не покаялся на исповеди. Обычно такие храбрецы пускают слезу при одном виде палача. Он не сомневается, речь — о его казни. Марк смотрит в будущее. Между тем юноша продолжает: — Мне бы только туда попасть, а уж леди Анна меня приветит и задарит подарками. Хихиканье. — Говорю тебе, я легко заслужу ее благосклонность. Не веришь? Скажу больше — кто знает, как все повернется, если она и дальше будет упрямиться, отказывая королю? Пауза. Снова Марк: — Девица? Кто угодно, только не она. Послушать слуг, так им известно все на свете. Неразборчивый ответ, и опять голос Марка: — Девица! Пожив при французском дворе? Не больше, чем ее сестрица Мария, та еще давалка. Он разочарован. Ему нужны подробности, а не досужие сплетни. — К тому же, все в Кенте знают, что она спала с Томом Уайеттом. Я был с кардиналом в Пензхерсте, в двух шагах от Хивер, поместья Болейнов, а оттуда до усадьбы Уайеттов рукой подать. Свидетели? Даты? Кто-то невидимый предостерегающе шипит, и слуги снова прыскают. И что с этим делать? Отложить до лучших времен, только и всего. Разговор на фламандском, родном языке Марка.
Приближается Рождество. Король с королевой Екатериной встречают праздник в Гринвиче. Анна живет в Йоркском дворце выше по Темзе; король ее навещает. Фрейлины говорят, что встречи с Анной в тягость королю. Его визиты редки, скрытны и непродолжительны. В Ишере кардинал не встаете постели, чего никогда прежде не делал, но вид у его милости такой больной, что никого это не удивляет. Кардинал говорит: — Мы в безопасности, пока король и леди Анна обмениваются новогодними поцелуями. Раньше Двенадцатой ночи нас не тронут. Отворачивается на подушке, выпаливает: — Тело Христово, Кромвель, ступайте домой! По случаю праздника Остин-фрайарз украшен венками из остролиста, плюща и переплетенного лентами лавра. На кухне чад и суета — готовят для живых, но традиционных песен и рождественских представлений в этот раз не будет. Ни один год не приносил в дом таких утрат. Сестра Кэт с мужем Морганом Уильямсом были вырваны из его жизни с той же стремительностью, что и дочери. Еще вчера они ходили и говорили — сегодня, холодные как камень, лежат в своих могилах на берегу Темзы, недоступные речным волнам и запахам. Глухие к звону надтреснутых колоколов Патни, запаху непросохших чернил, хмеля и солода, кислой животной вони тюков с шерстью; осенним ароматам сосновой смолы, подсвечников из яблок и домашней сдобы. Теперь в его доме живут двое сирот: Ричард и малыш Уолтер. Пусть при жизни Морган Уильямс любил прихвастнуть, на свой лад он был практичен и без устали гнул спину, обеспечивая семейство. А Кэт — что ж, под конец она понимала брата не больше, чем круговорот звезд на небе. — Мне тебя не расчислить, Томас, — говорила она. Странно, он же научил ее складывать на пальцах и разбирать счета от лавочников. Что ж, сам виноват; видно, плохо учил. Если бы он давал себе совет на Рождество, то посоветовал бы держаться подальше от кардинала, не то придется вновь промышлять на улице финтом с тремя картами. Вот только стоит ли давать советы тому, кто не собирается к ним прислушаться? На Новый год в самой большой комнате дома Остин-фрайарз всегда вешали огромную золоченую звезду, и та всю неделю до Крещенья приветствовала гостей своими лучами. С самого лета они с Лиз готовили костюмы волхвов, приберегая обрезки необычных тканей, кружева и тесьму, а с октября Лиз втайне от всех наставляла на старые костюмы яркие заплаты, штопала рукава, обшивала края, мастерила причудливые короны. Он отвечал за содержимое шкатулки. Как-то один из волхвов уронил шкатулку, когда дары неожиданно подали голос. В этом году ни у кого не хватает духу повесить звезду, но он навещает ее в темном чулане. Сдергивает холщовый чехол с лучей, проверяет, блестят ли они еще. Придут лучшие времена, звезду снова повесят в большой комнате, хотя сейчас это кажется немыслимым. Кромвель натягивает чехол, радуясь тому, как искусно он подогнан и сшит. Мантии волхвов и овечьи шкурки для детей лежат в сундуке; пастуший посох стоит в углу, а с деревянного гвоздя свисают ангельские крылья. Он касается их — на пальцах остается пыль. Поднимает свечу, отводит подальше, встряхивает перышки. Шорох, в воздухе плывет легкий смоляной аромат. Он вешает крылья обратно на гвоздь, приглаживает заботливо. Отступает назад, закрывает дверь, пальцами сбивает пламя свечи, запирает замок и отдает ключи Джоанне. — Нам нужен ребенок, — замечает он. — Слишком давно в этом доме нет детей. — Не смотри на меня, — говорит Джоанна. А на кого еще ему смотреть? — Джон Уильямсон перестал исполнять свой долг? — спрашивает он. — Его долги не моя печаль. Уходя, он думает, что зря затеял этот разговор. В новогодний вечер он сидит за письменным столом и пишет кардиналу. Иногда пересекает комнату, подходит к счетной доске и сдвигает костяшки. Если Вулси признается в посягательстве на власть суверена, король дарует ему жизнь и относительную свободу, но сколько бы средств ни оставили кардиналу, их нельзя сравнить с былыми доходами. Йоркский дворец отобрали недавно, Хэмптон-корт ушел давно, а король уже думает, как обложить грабительскими податями богатую Винчестерскую епархию. Входит Грегори. — Я принес свечи. Тетя Джоанна сказала, ступай к отцу. Грегори садится, ерзает, вздыхает. Встает, подходит к отцовскому столу и замирает, не зная, что делать дальше. Затем, словно кто-то шепнул ему, не стой, займись чем-нибудь, робко протягивает руку, шуршит бумагами. Он бросает на Грегори беглый взгляд поверх бумаг и впервые за долгое время замечает руки сына: не пухлые ребячьи ладошки, а крупные холеные кисти барчука. Но что тот делает? Складывает бумаги в стопку. Интересно, по какому принципу? Прочесть письма сын не может, они перевернуты. По содержанию? Невозможно. По датам? Ради Бога, что Грегори там копается? Ему нужно закончить витиеватый пассаж, он снова поднимает голову, и тут его осеняет. Святая простота! Грегори кладет вниз бумаги побольше, наверх — поменьше. — Отец, — говорит Грегори и вздыхает. Отходит к счетной доске, указательным пальцем шевелит костяшки. Затем аккуратно сдвигает. Он смотрит на сына. — Между прочим, я занимался вычислениями. — Прости, — вежливо извиняется Грегори, садится лицом к огню, стараясь дышать пореже. Однако даже самый кроткий взгляд обладает силой. Сын упрямо не сводит с него глаз, и это заставляет Кромвеля спросить: — Что-то случилось? — Ты не мог бы прерваться? — Минутку. — Он поднимает руку, подписывает письмо всегдашним «за сим остаюсь вашим преданным другом, Томас Кромвель». Если Грегори пришел сказать, что кто-то из домочадцев при смерти, или что сам Грегори женится на прачке, или что Лондонский мост рухнул, он примет весть как мужчина. Но сначала посыпать песком и запечатать письмо. Наконец он поднимает глаза. — Итак? Грегори отворачивается. Неужели плачет? Впрочем, что тут странного — недавно он и сам плакал, не стесняясь посторонних. Он подходит к сыну, усаживается напротив, рядом с камином, стягивает бархатную шапочку, ерошит волосы. Долгое время оба молчат. Он смотрит на свои толстопалые кисти, на шрамы, спрятанные в ладонях. Джентльмен, говоришь? Кого ты хочешь обмануть? Тех, кто не знает тебя в лицо, или тех, кого ты держишь на расстоянии, клиентов, приятелей из палаты общин, коллег из Грейз-инн, придворных, челядь… Он начинает сочинять в уме набросок следующего письма. Тонкий голос Грегори доносится, словно из прошлого: — Помнишь Рождество, когда в мистерии был великан? — Здесь, в церкви? Помню. — «Смотрите, я великан, меня зовут Марлинспайк». Все говорили, что он высокий, словно корнхиллское майское дерево. Что за дерево? — Его убрали. В Майский бунт подмастерьев. Ты был совсем мал. — А где оно сейчас? — Город хранит его до лучших времен. — Мы повесим звезду на следующее Рождество? — Если судьба будет к нам благосклоннее. — Теперь, когда кардинал в опале, мы станем бедны? — Нет. Грегори смотрит на пляшущие огоньки в камине. — Помнишь, как я выкрасил лицо черной краской и нарядился в черную телячью шкуру, как изображал в мистерии дьявола? — Помню. Конечно, помню. Его лицо разглаживается. Энн хотела, чтобы лицо раскрасили ей, но мать сказала, что маленькой девочке негоже ходить чумазой. Почему он не настоял, чтобы дочка сыграла ангела? Впрочем, тогда черноволосой Энн пришлось бы напялить желтый вязаный парик из приходского реквизита, который вечно сползал маленьким ангелам на глаза. В тот год, когда ангела изображала Грейс, у нее был костюм из павлиньих перьев. Он смастерил его своими руками. По сравнению с ней остальные девочки выглядели растрепанными гусятами, а когда задевали за углы, перышки облетали. А его Грейс сияла: в волосы были вплетены серебряные нити, плечи укутаны пышным трепещущим великолепием, шуршащий воздух благоухал от ее сладостного дыхания. Томас, сказала Лиззи, твои таланты поистине неисчерпаемы. Таких крыльев город еще не видел. Грегори встает, хочет пожелать ему доброй ночи. На миг сын припадает к нему, словно ребенок, или словно прошлое — картины в пламени очага — опьянили его. Когда сын уходит, он перекладывает стопку, помечая письма, готовые к отправке. Думает о Майском бунте. Грегори не спросил, против чего они бунтовали? Против чужеземцев. Тогда он только что вернулся в Англию.
В начале 1530-го он не зовет гостей на Крещение — слишком многим, памятуя о впавшем в немилость кардинале, пришлось бы отклонить приглашение. Вместо этого он берет молодежь в Грейз-инн, на празднество по случаю Двенадцатой ночи, и почти сразу раскаивается в своей затее — еще ни разу на его памяти представление не было таким непристойным. Студенты-правоведы разыгрывают пьеску про кардинала. Герой пьески с позором бежит из Йоркского дворца на барке. Одни актеры хлопают простынями, изображая воды Темзы, другие периодически окатывают их водой из кожаных ведер. Когда кардинал с трудом влезает на барку, раздается крик загонщиков, и какой-то олух выбегает на сцену с выводком гончих на поводке. Другие недоумки сетями и шестами тащат барку с кардиналом к берегу. В следующей сцене в Патни кардинал барахтается в грязи, хочет улизнуть в свою Ишерскую нору. Студенты улюлюкают и визжат, кардинал хнычет и молитвенно складывает руки. Кто из свидетелей той сцены решил слепить из нее комедию? Знать бы кто, будь они прокляты! А кардинал пурпурной горой возвышается на полу, молотит руками и предлагает Винчестерскую епархию тому, кто подсадит его на мула. Мул — несколько студентов под обтянутым ослиной шкурой каркасом — кривляется тут же, отпуская шуточки на латыни и пукая кардиналу в лицо. Каламбуры про ебископа и пипископа имели бы успех у метельщиков, но недостойны студентов права. Рассердившись, он встает, не оставляя выбора своим спутникам, которые вынуждены за ним последовать, и направляется к выходу. Подойдя к старейшинам, он высказывает свое возмущение: кто допустил подобное? Кардинал Йоркский — больной старик, почти при смерти. Как оправдаетесь вы перед Создателем, когдавместе с вашими учениками в свой черед предстанете перед Ним? Кто эти юноши, храбро порочащие опального епископа, расположения которого они униженно добивались всего несколько недель назад? Старейшины с извинениями бегут за ним, но их голоса заглушает отразившийся от стен зрительский гогот. Его молодые спутники замедляют шаг, оглядываются. Кардинал предлагает свой гарем из сорока девственниц любому, кто поможет ему оседлать мула. Он сидит на полу и причитает, а вялый и кривой уд, связанный из алой шерсти, болтается из-под складок мантии. Факелы тускло чадят на морозном воздухе. — Домой, — говорит он. — Уже и повеселиться нельзя без его разрешения, — бурчит Грегори. — Как ни крути, а он тут главный, — возражает Рейф. Он разворачивается, делает шаг назад. — В любом случае, гарем из сорока наложниц держал не кардинал, а нечестивый папа Борджиа, Александр — и, уверяю вас, девственниц среди них не было. Рейф дотрагивается до его плеча. Ричард напирает слева. — И незачем меня поддерживать, — говорит он без злости. — Я не кардинал. Останавливается, со смехом замечает: — Кажется, представление и впрямь изрядно всех… — Повеселило, — соглашается Рейф. — А его милость был пяти футов в обхвате. Во тьме гремят костяные погремушки, всюду горят факелы. Мимо них, распевая, гарцует процессия на деревянных лошадках, у некоторых всадников на голове рога, а к лодыжкам привязаны бубенцы. Рядом с домом их настигает апельсин, катящийся по своим делам вместе с приятелем-лимоном. — Грегори Кромвель! — кричат ряженые. Из уважения к старшему приподнимают перед Томасом вместо шляп верхний слой кожуры. — Да пошлет вам Господь хороший год. — И вам, — отвечает он и, обращаясь к лимону, добавляет: — Передайте отцу, чтобы зашел потолковать о том жилье в Чипсайде. — Ступайте спать, поздно, — велит он дома, и, чувствуя, что этого мало, говорит: — Храни вас Господь. Они уходят. Он сидит за письменным столом. В тот вечер Грейс стояла у очага, бледная от усталости, сияя глазами, а глазки павлиньего оперения, словно топазы, переливались в отблесках пламени. — Отойди от огня, детка, а не то твои бесценные крылья вспыхнут, — сказала Лиз. Его девочка отступила в тень, а когда шла к лестнице, перья стали цвета золы и пепла. — Грейс, ты так и спать ляжешь? — спросил он. — Только молитву прочту, — ответила она, косясь через плечо. Он пошел вслед, опасаясь огня и неведомых опасностей. Шелестя перышками, Грейс поднялась по лестнице, и ее наряд смешался с темнотой. Господи, думает он, по крайней мере, теперь моя детка навсегда останется со мной. И мне уже не придется отдавать ее в загребущие руки охотника за приданым, косоротого господинчика благородных кровей. Грейс наверняка захотела бы титул. Раз уж она выросла такой хорошенькой, ее отцу пришлось бы раскошелиться. Леди Грейс. А другую дочку, Энн, я отдал бы за Рейфа. Будь она чуть постарше. Или Рейф помоложе. И если бы Энн не умерла. Он снова склоняется над кардинальскими письмами. Вулси просит у европейских правителей поддержки и защиты. Он, Томас Кромвель, хотел бы, чтобы кардинал не писал ничего подобного, или, по крайней мере, выражался осмотрительнее. Не измена ли хотеть, чтобы кто-то воспрепятствовал королевской воле? Несомненно, Генрих так и решит. Кардинал не просит иностранных правителей ради него пойти на Генриха войной, только хочет, чтобы они не поддерживали короля — короля, который больше всего на свете жаждет поддержки. Он откидывается в кресле, прикрывая ладонью рот, словно не желает обнаружить свои мысли даже перед самим собой. Какое счастье, что я люблю милорда кардинала, что я ему не враг — допустим, я был бы Суффолк, или Норфолк, или сам король — на следующей неделе заточил бы Вулси в темницу. Открывается дверь. — Ричард? Не спится? Слишком фривольная была пьеска? Но Ричард не улыбается в ответ, лицо в тени. — Хозяин, — говорит юноша, — вы должны решить. Наш родитель умер, теперь вы наш отец. Ричард Уильямс и Уолтер (названный в честь деда) Уильямс, его сыновья. — Садись, — приглашает он. — Так вы разрешите взять ваше имя? — Ты меня удивляешь. Судя по тому, как идут мои дела, лучше бы Кромвелям сменить имя на Уильямсов. — Если вы согласитесь, я никогда от него не отрекусь. — А что сказал бы твой отец? Ты ведь знаешь, он верил, что происходит от владык Уэльса. — А когда напивался, говорил, что готов отдать свое княжество за шиллинг. — Пусть так, но среди твоих предков есть Тюдоры. В некотором роде. — Прошу вас, не надо! — просит Ричард. — У меня на лбу проступает кровавый пот! — Зачем же так трагически? — смеется он. — Вот, послушай: у старого короля был дядя, Джаспер Тюдор, отец двух незаконнорожденных дочерей: Джоан и Элен. Элен — мать Гардинера. Джоан, твоя бабка, вышла за Уильяма ап Эвана. — И это все? Стоило отцу напускать столько туману! Даже если я кузен короля… — Ричард запинается, — и Стивена Гардинера… мне-то что с того? Мы не придворные, и ко двору не собираемся, а теперь, когда кардинал… — Ричард отводит глаза. — Сэр… когда вы путешествовали, вы думали о смерти? — Думал, и не раз. Ричард смотрит на него в упор: и каково оно? — Я злился. Все казалось суетой. Забраться так далеко. Пересечь море. Умереть ради… — Он пожимает плечами. — Бог его знает. — Каждый день я ставлю свечу в память отца, — говорит Ричард. — Помогает? — Нет, но я все равно ставлю. — Знает ли отец? — Понятия не имею. Но знаю, что живые должны утешать живых. — Твои слова утешают меня, Ричард Кромвель. Ричард вскакивает, целует его в щеку. — Спокойной ночи. Куска'н дауэлл. Крепкого сна. Так обращаются к своим. К отцам и братьям. Это важно, какое имя мы выбираем, каким мы его делаем. Люди теряют имена на поле брани, становясь просто телами без роду и племени. Герольдмейстеры не штудируют их родословные, и никто не заказывает молебнов на помин их души. Род Моргана не прервется, хотя он умер в черный для Лондона год, когда смерть трудилась без устали. Он дотрагивается до места, где должен висеть образок, который дала ему Кэт. Пусто. Пальцы рассеянно ощупывают горло. Впервые он сознает, почему выбросил образок в море. Ничьи руки не коснутся подарка Кэт. Волны взяли его, волны его упокоили.
Камин в Ишере по-прежнему чадит. Он идет к герцогу Норфолку, который всегда рад его видеть, и спрашивает, что делать с кардинальской челядью. В этом вопросе оба герцога горят желанием помочь. — Нет ничего хуже, чем слуги без хозяев, — говорит Норфолк. — Ничего опаснее. Что бы ни говорили о кардинале Йоркском, ему всегда хорошо служили. Пришлите их ко мне, я найду им применение. Герцог вопросительно смотрит на Кромвеля. Он отворачивается. Сознает свое преимущество, глядит богатой невестой: лукаво, неприступно, холодно. Он устраивает для герцога заем. Его иностранные партнеры осторожничают. Кардинал в опале, герцог в фаворе, убеждает он. Норфолк поднимается неуклонно, как солнце на рассвете, и уже сидит по правую руку Генриха. Томмазо, опомнись, разве это гарантии? Говорят, старый герцог желчного темперамента — что если завтра он преставится? Ты предлагаешь в залог герцогство на этом вашем диком острове, раздираемом гражданскими войнами? И новая как раз на подходе, если ваш упрямый король отвергнет тетку императора и провозгласит свою шлюшку королевой. Ничего, он найдет способ все утрясти. — Опять вы со своим списком, мастер Кромвель? — спрашивает Чарльз Брэндон. — Рекомендуете кого-то особо? — Да, но все эти люди низкого звания и, наверное, мне лучше переговорить с вашим экономом… — Нет, со мной, — настаивает герцог, который любит быть в курсе всего. — Они простые трубочисты, едва ли ваша светлость захочет… — Я беру их, беру, — перебивает Чарльз Брэндон. — Люблю, когда хорошо натоплено. Лорд-канцлер Томас Мор первым ставит свою подпись под обвинениями против Вулси. По его требованию добавлено еще одно: кардинал обвиняется в том, что шептал королю в ухо и дышал королю в лицо, а поскольку у кардинала сифилис, стало быть, он имел преступное намерение заразить нашего монарха. Что в голове у этого человека, думает он. Своей рукой написать и отослать это в набор, дать пищу для сплетен двору и всему королевству: пастухам при стаде и Тиндейловым пахарям, нищим на дорогах, терпеливой скотине в стойлах; вынести такое в мир, готовый поверить всему. В мир, где дуют студеные зимние ветра, а в небе висит блеклое солнце, где в лондонских садах распускаются подснежники.
Хмурое утро, низкое беспросветное небо. Свет оттенка потускневшего олова еле пробивается сквозь стекло. Но как ярко одет Генрих, словно король в новой колоде; какими маленькими кажутся его пустые голубые глаза. Вокруг Генриха Тюдора толпа придворных; они намеренно не замечают Кромвеля. Улыбается только Гарри Норрис, вежливо желает доброго утра. По знаку короля придворные отходят. В разноцветных плащах — двор собирается на охоту — они клубятся, теснятся, перешептываются, продолжая беседу при помощи кивков и пожиманий плечами. Король смотрит в окно. — Как поживает?.. Не хочет произносить вслух имя. — Он не поправится, пока вновь не обретет расположение вашего величества. — Сорок четыре, — говорит король. — Сорок четыре обвинения, сударь. — При всем почтении к вашему величеству, на каждое обвинение у нас есть ответы, и на суде мы готовы их предъявить. — А здесь и сейчас? — Если ваше величество изволит присесть. — Вас не поймаешь на слове. — Я хорошо подготовился. Он отвечает, не раздумывая. Король улыбается. Этот легкий изгиб алых губ. У Генриха крохотный, почти женский рот, слишком маленький для его лица. — Когда-нибудь я непременно выслушаю вас, но сейчас меня ждет милорд Суффолк. Как думаете, развиднеется? Не хотелось бы просидеть взаперти до обедни. — Думаю, развиднеется, — соглашается он. — Отличный денек погонять по полям зайцев. — Мастер Кромвель! — Король отворачивается от окна и смотрит прямо на него, пораженный. — Вы же не разделяете мнения Томаса Мора? Он ждет, не представляя, о чем речь. — La chasse.[29] Мор считает охоту варварством. — Вот оно что. Нет, ваше величество, я одобряю любое развлечение, лишь бы вам в радость. Все дешевле, чем воевать. Да только… — Осмелится ли он? — В других странах охотятся на медведей, волков и вепрей. Когда-то они водились и в наших дремучих лесах. — Мой французский кузен охотится на вепря. Иногда обещает прислать мне вепрей по морю. Однако мне кажется… Вам кажется, что Франциск над вами смеется. — Мы, джентльмены, — Генрих смотрит в упор, — так вот, мы, джентльмены, обычно говорим, что охота готовит нас к войне. И тут возникает щекотливый вопрос, мастер Кромвель. — Вопрос и вправду щекотливый, — говорит он весело. — Лет шесть назад вы утверждали в парламенте, что война мне не по карману. 1523-й год. С тех пор минуло семь лет. Сколько длится их разговор? Семь минут? Хватило и семи. Отступишь — и Генрих загонит тебя, как зайца. Пойдешь напролом, и, возможно, король начнет колебаться. — Ни одному властителю в истории война не была по карману, — говорит он. — Войны не бывают по карману. Что проку твердить: «Того, чем я располагаю, хватит как раз на небольшую кампанию». Вы начинаете войну, и она съедает все ваши деньги, а потом разрушает и разоряет вас. — Когда в 1513 году я вступил во Францию и захватил Теруан, который вы назвали в своей речи… — Собачьей дырой, ваше величество. — Собачьей дырой, — повторяет король. — Почему вы так сказали? Он пожимает плечами. — Я там был. Король вспыхивает: — Я тоже, во главе моей армии. Так вот, сударь, что я скажу: вы утверждаете, что налоги на войну разоряют страну, но кому нужна страна, которая не поддерживает своего правителя в его начинаниях? — Я говорил — при всем уважении к вашему величеству, — что нам не осилить годовую кампанию. Война поглотит весь золотой запас государства. Я читал, что в древности вместо монет имели хождение кусочки кожи. Вот и сказал, что нас ждет возврат в те времена. — Вы сказали, мне нельзя вести свои войска в бой. Что если меня пленят, страна не сможет заплатить выкуп. Чего вы добиваетесь? Вам нужен король, не умеющий сражаться? Хотите, чтобы я сиднем сидел взаперти, словно хворая девчонка? — С финансовой точки зрения это было бы идеально. Король с шумом выдыхает. Мгновение назад он кричал, сейчас — не упустить бы момент! — решает рассмеяться. — Вы защищаете благоразумие. Благоразумие — добродетель, но не единственная добродетель для правителя. — Есть еще сила духа. — Допустим, спорить не стану. — Сила духа не равноценна храбрости на поле боя. — Вы собираетесь меня учить? — Сила духа означает упорство в достижении цели. Стойкость. Мужество смириться с тем, что вы не в силах изменить. Генрих ходит по комнате. Бум-бум-бум. На короле охотничьи сапоги, он готов к la chasse. Генрих медленно оборачивается, являя себя во всей красе: мощный, широкоплечий, пышущий здоровьем. — И что же я не в силах изменить? — Расстояния, расположение гаваней, топографию, людей. Зимние дожди и распутицу. Когда предки вашего величества воевали во Франции, целые провинции на континенте принадлежали Англии. Оттуда мы получали припасы и провизию. Теперь, когда у нас только Кале, сможем ли мы прокормить армию? Король смотрит сквозь окно на сероватое утро, закусывает губу. Закипает от еле сдерживаемой ярости? Генрих поворачивается, он улыбается. — Я знаю, — говорит он. — Значит, в следующий раз, когда мы вторгнемся во Францию, нам понадобится побережье. Ну разумеется. Захватим Нормандию. Или Бретань. Неужели он ждал чего-то другого? — Сильная позиция. Я не вижу в ваших словах злого умысла. У вас ведь нет опыта в политике и военных кампаниях? Он качает головой. — Ни малейшего. — В той речи, в парламенте, вы заявили, что в стране есть миллион фунтов золотом. — Я округлил. — А как вы рассчитали? — Меня учили флорентийские банкиры. И венецианские. Король внимательно смотрит на него. — Говард утверждает, что вы были простым солдатом. — И солдатом тоже. — Кем еще? — А кем бы хотелось вашему величеству? Генрих смотрит на него в упор, что бывает редко. Он встречает королевский взгляд прямо, как привык. — Мастер Кромвель, у вас дурная репутация. Он склоняет голову. — Вы не защищаетесь? — Ваше величество способны разобраться сами. — Способен. И разберусь. Стража в дверях отводит пики. В комнату бочком просачиваются придворные, кланяются королю. Их оттесняет Суффолк. Чарльзу Брэндону явно не по себе в тяжелых охотничьих одеждах. — Готовы? — спрашивает он короля. — А, Кромвель. — Герцог ухмыляется. — Как поживает ваш рыхлый сановный толстячок? Король вспыхивает. Брэндону и дела нет. — Рассказывают, — хмыкает он, — что однажды, завидев с холма живописную долину с ладной церквушкой и ухоженными землями вокруг, кардинал спросил слугу, Робин, кто этим владеет? Хочу получать доход от этого места! Уже получаете, милорд, ответил слуга. История успеха не имеет, и герцог смеется в одиночку. — Этот анекдот рассказывают по всей Италии, — замечает Томас. — То об одном кардинале, то о другом. Брэндон мрачнеет. — Что, именно эту? — Mutatis mutandis.[30] Слугу звали не Робин. Король ловит его взгляд, улыбается. Направляясь к выходу, он проходит мимо придворных и натыкается — на кого бы вы думали? На королевского секретаря! — Доброе утро, доброе утро, — говорит Томас. Не в его привычке повторять по два раза, но сейчас ситуация к этому обязывает. Гардинер трет большие посиневшие ладони. — Замерзли? — спрашивает он. — Как прошло, Кромвель? Хорошо вам влетело? — Вовсе нет, — отвечает он. — Кстати, у него Суффолк, придется подождать. — Проходит вперед, оборачивается. Тупо, словно старый ушиб, ноет в груди. — Гардинер, нельзя ли это остановить? — Нет, — отвечает тот, не поднимая глаз. — Вряд ли. — Ясно, — говорит он и идет к двери. Погоди. Год, два? Неважно, когда-нибудь ты за это заплатишь.
Ишер, два дня спустя. Он не успевает войти в ворота, а навстречу ему через двор несется Кавендиш. — Мастер Кромвель! Вчера король… — Тише, Джордж. — …прислал четыре телеги домашней утвари! Шпалеры, посуда, портьеры — да сами посмотрите! Ваша заслуга? Кто знает? Напрямую он ни о чем не просил, а если бы просил, то не стал бы скромничать: не эти портьеры, а те, они больше понравятся моему господину. Милорду кардиналу приятнее созерцать богинь, а не дев-великомучениц: так что унесите святую Агнессу, а Венеру в роще оставьте. Мой господин привык к венецианскому стеклу: что здесь делают эти помятые серебряные кубки? Он недовольно осматривает присланный скарб. — Все самое лучшее для вас, голодранцы из Патни, — говорит кардинал, но тут же добавляет, словно извиняясь: — Вещи могли подменить. Кто знает, через сколько рук они прошли. — Вполне возможно, — соглашается он. — Как бы то ни было, они, вне всяких сомнений, сделают нашу жизнь удобнее. — Беда только, — вступает в беседу Кавендиш, — что мы переезжаем. Дому настоятельно требуется уборка и проветривание. — Да уж, — замечает кардинал, — запах здешних нужников собьет с ног святую Агнессу, благослови Господь ее нежную душу. — Вы собираетесь обратиться к королевскому совету? Вулси вздыхает. — Зачем, Джордж? Я не разговариваю с Томасом Говардом. Не разговариваю с Брэндоном. Я разговариваю с ним. Кардинал улыбается. Широкой отеческой улыбкой.
Когда они обсуждают расходы на содержание кардинала, он удивлен тем, как быстро Генрих схватывает суть. Вулси всегда говорил, что у короля острый ум, не хуже, чем у отца, но более глубокий. Постарев, прежний король стал мелочен. Он правил железной рукой, держа знать в ежовых рукавицах. Не любят — пусть боятся. Генрих другой, но какой? Вулси смеется и обещает написать руководство по обращению с королем. Однако когда они гуляют по саду домика в Ричмонде, где король разрешил поселиться кардиналу, Вулси путано вещает о пророчествах, о падении священства в Англии, которое было предначертано, а теперь сбывается. Даже если не верить в пророчества — а он, Кромвель, не верит — нельзя не признавать очевидного. Если кардинал виновен в том, что осуществлял свои полномочия папского легата, выходит, виновны все священники — от епископов и ниже, — признававшие его полномочия? Наверняка эта мысль приходит в голову не только ему, но его врагам горизонт заслоняет массивная багряная фигура — они боятся возвращения кардинала, готового воздать по заслугам. — Прошли времена гордых прелатов, — бойко вещает Брэндон при следующей встрече, развязностью заглушая страх. — Королевство больше не нуждается в кардиналах. — И это говорит Брэндон! — взрывается кардинал. — Брэндон, взявший в жены королевскую сестру в первый день вдовства! Прекрасно зная, что король задумал отдать ее другому монарху. Да если б я, простой кардинал, не замолвил за него словечко, не сносить бы Брэндону головы! Я, простой кардинал. — А какое оправдание он придумал? — бушует Вулси. — «Ах, ваше величество, ваша сестра Мария плачет. Плачет и умоляет меня взять ее в жены. Никогда не видел, чтобы женщина так рыдала!» Вот он и осушил ее слезы, получив в придачу герцогство. А послушать сейчас, так его род восходит к садам Эдема! Томас, я готов обсудить реформу церкви с людьми доброго нрава и признанной учености — с епископом Тунстоллом, с Томасом Мором — но Брэндон! Не ему вещать о гордых прелатах! Да кто он таков? Королевский конюх! Да любая лошадь его умнее! — Милорд, — вмешивается Кавендиш, — вы преувеличиваете. Чарльз Брэндон — джентльмен, происходит из знатной семьи. — Джентльмен? Самодовольный болтун, вот кто такой ваш Брэндон! — Обессилев, кардинал опускается в кресло. — Голова болит. Кромвель, в следующий раз привезите мне более благоприятные вести. День за днем, получив указания Вулси в Ричмонде, он едет к королю. Постепенно Генрих начинает казаться ему неизведанной территорией, которую он должен завоевать, не имея достаточных припасов. Он понимает, чему научился от кардинала король: хитроумной дипломатии, науке недоговоренностей. Теперь Генрих применяет эти знания, медленно, на ощупь уничтожая своего министра, сопровождая каждый добрый жест новым обвинением, новой жестокостью. Наконец кардинал не выдерживает. — Я хочу уехать, — стонет Вулси. — Винчестер, — предлагает он герцогам. — Милорд кардинал желает проследовать в свой дворец в Винчестере. — Так близко к королю? Мы не позволим себя одурачить, мастер Кромвель, — заявляет Брэндон. Он, человек кардинала, так часто встречается с королем, что по Европе ползут слухи о грядущем возвращении Вулси. Говорят, что король вернет кардиналу свое расположение в обмен на церковные богатства. Просачиваются слухи, что король недоволен новым окружением. Норфолк ничего не смыслит в государственных делах, у Суффолка неприятный смех. — Мой господин не поедет на север, — говорит Томас. — Он не готов. — А я хочу, чтобы он уехал, — настаивает Говард. — Скажите, что Норфолк велит ему убираться с глаз долой. Иначе — и это тоже передайте — я сам к нему явлюсь и разорву его вот этими зубами. — Милорд, — он кланяется, — могу я передать не «разорвете», а «покусаете»? Норфолк подходит к нему вплотную. Глаза налиты кровью, мускулы дергаются. — Не смей мне перечить, подзаборный… — Герцог тычет указательным пальцем ему в лоб. — Подзаборный оборванец, сучье отродье, чертов крючкотвор! Герцог стоит, уткнув палец в лоб Кромвелю, словно пекарь, проделывающий ямку в буханке. Плоть Кромвеля неуступчива, тверда и непроницаема, она не желает поддаваться. До того как покинуть Ишер, он узнает, что одну из кошек, взятых для ловли мышей, угораздило разродиться прямо в кардинальской спальне. Что за нахальство! Впрочем, вдруг это неспроста — новая жизнь в кардинальских покоях. Возможно, знамение? Он боится знамений иного рода — когда-нибудь мертвая птичка свалится в вечно чадящий камин и — о, горе! — стенаниям кардинала не будет конца. По крайней мере, его милость доволен: котята лежат на подушке в открытом сундуке, а кардинал наблюдает, как они растут. У одного — черного и вечно голодного — шерстка будто суконная, и желтые глаза. Когда котенка отнимают от матери, Томас забирает его с собой. Дома вытаскивает из-под плаща и протягивает Грегори — котенок спит, уткнувшись в плечо. — Смотри, Грегори, я великан, меня зовут Марлинспайк. Грегори подозрительно разглядывает котенка. Отводит глаза, отдергивает руку. — Пес его загрызет, — говорит сын. Марлинспайк отправляется на кухню — будет набираться сил и жить соответственно своей кошачьей натуре. Впереди лето, однако тепло не в радость. Иногда, гуляя по саду, он видит подросшего котенка, затаившегося на яблоне или дремлющего на солнцепеке.
Весна 1530-го. Купец Антонио Бонвизи приглашает его на ужин в свой высокий красивый особняк в Бишопсгейте. — Я ненадолго, — говорит он Ричарду, думая, что его ждет унылое собрание голодных и злых гостей: даже находчивый итальянский богач едва ли сумеет найти новый способ копчения угря и соления сельди. Во время поста купцы лишены любимых баранины и мальвазии, еженощной возни на пуховых перинах с женой или любовницей. До самой Пепельной среды они перегрызают друг другу глотки, стараясь урвать кусок пожирнее. Однако на сей раз собрание оказывается более представительным: приглашен лорд-канцлер с судейскими и олдерменами. Хемфри Монмаута, которого Мор некогда упрятал за решетку, отсадили от великого человека подальше. Мор весел, непринужден; развлекает компанию рассказом о прославленном Эразме, своем дорогом друге. Завидев Кромвеля, Мор замирает на полуслове и опускает глаза. Лицо лорда-канцлера каменеет. — Хотите поговорить обо мне? — спрашивает Томас. — Не стесняйтесь, лорд-канцлер, у меня толстая шкура. Одним махом выпивает стакан вина, смеется. — А знаете, что сказал обо мне Брэндон? Герцогу никак не удается собрать воедино все то, что он знает о моей жизни. Моих путешествиях. Так вот, вчера он обозвал меня жидом. — В лицо? — вежливо интересуется хозяин. — Нет. Король мне сказал. Впрочем, милорд кардинал зовет Брэндона конюхом. — В последнее время вы зачастили ко двору, Томас. Стали придворным? — спрашивает Хемфри Монмаут. Все улыбаются. Сама идея кажется абсурдной, а его нынешнее положение временным. Окружение Мора — горожане, среди них нет знатных господ, хотя сам он редкая птица: ученый и острослов. — Пожалуй, об этом говорить не стоит. Есть деликатные материи, о которых лучше умолчать, — говорит Мор. Старейшина гильдии суконщиков тянется к Кромвелю через стол и сообщает, приглушив голос: — Томас Мор сказал, что за трапезой не станет обсуждать ни кардинала, ни леди. Он, Кромвель, глядит на гостей. — Иногда король меня удивляет. Я про то, что он готов стерпеть. — От вас? — спрашивает Мор. — От Брэндона. Они собирались на охоту, Брэндон вошел и гаркнул: вы готовы? — Ваш хозяин кардинал не уставал с этим бороться, — говорит Бонвизи. — Пытался отучить приятелей короля от излишней фамильярности. — Хотел, чтобы фамильярность дозволялась ему одному, — замечает Мор. — Король волен приближать того, кого сочтет нужным. — Но есть же границы, Томас, — говорит Бонвизи; за столом смешки. — Даже королю нужны друзья. Что в том плохого? — Похвала? От вас, мастер Кромвель? — Ничего удивительного, — говорит Монмаут. — Всем известно, что мастер Кромвель готов на все ради друзей. — Мне кажется… — Мор замолкает, глядя в стол. — Не уверен, что кто-либо может считать правителя своим другом. — Вам виднее, — говорит Бонвизи, — вы знаете Генриха с детства. — Дружба должна быть не такой… обязывающей, она должна утешать и давать силу. Не быть похожей на… — впервые Мор оборачивается к нему, словно приглашая к разговору. — Иногда мне кажется, что такая дружба сродни битве Иакова с ангелом. — Кто знает, — замечает он, — за что они бились? — Верно, об этом Писание умалчивает. Как и про Каина с Авелем. Кто знает. Он ощущает за столом легкое беспокойство: зашевелились самые набожные и суровые, или пришло время перемены блюд. Что там? Рыба! — Когда разговариваете с Генрихом, — говорит Мор, — заклинаю, обращайтесь к его доброму сердцу, а не к его сильной воле. Он хочет продолжить разговор, но престарелый суконщик машет рукой, чтобы принесли еще вина, и спрашивает: — Как поживает ваш друг Стивен Воэн? Что нового в Антверпене? Теперь разговор обращается к торговле: перевозке товаров, процентным ставкам, но это лишь видимость. Довольно заявить: вот то, о чем мы ни в коем случае говорить не станем, — и весь вечер ни о чем другом не будет сказано ни слова. Если бы не лорд-канцлер, мы мирно обсуждали бы пошлины и таможенные склады, и наши мысли не вертелись бы вокруг одинокой фигуры, облаченной в багрянец, а наши истомленные воздержанием умы не смущали бы видения королевских пальцев, ласкающих упругую, трепетную девичью грудь. Он откидывается назад и в упор смотрит на Томаса Мора. Разговоры на время затихают. Спустя четверть часа лорд-канцлер, все это время хранивший молчание, не выдерживает. Голос сердитый и низкий, глаза пожирают остатки еды на тарелке. — Кардинал Йоркский, — заявляет Мор, — обладает неутолимой страстью командовать окружающими. — Лорд-канцлер, — замечает Бонвизи, — вы так смотрите на свою селедку, словно ненавидите ее. — Селедка тут ни при чем, — великодушно отвечает гость. Томас подается вперед, готовый парировать, не спустить оскорбления. — Кардинал — публичная фигура. Как и вы. Должен ли он держаться в тени? — Должен. — Мор поднимает глаза. — До некоторой степени. Возможно, ему следовало бы немного умерить аппетит. — Поздновато давать кардиналу уроки смирения, — замечает Монмаут. — Его истинные друзья давно твердили ему о смирении, но только впустую. — Вы причисляете себя к друзьям кардинала? — Он сидит прямо, скрестив руки. — Я передам ему, лорд-канцлер, и, клянусь кровью Христовой, эта новость утешит милорда в изгнании, пока вы здесь клевещете на него перед королем. — Джентльмены… — обеспокоенный Бонвизи встает. — Нет, сидите, — говорит он. — Давайте начистоту. Томас Мор скажет вам, что хотел стать простым монахом, но отец отдал его в юриспруденцию. Если бы я мог выбирать, я провел бы всю жизнь в церкви, скажет он. Вы же знаете, как равнодушен я к земным благам, и одни лишь духовные материи занимают мой ум. — Он оглядывает гостей. — Как же, в таком случае, ему удалось стать лордом-канцлером? Вероятно, случайно? Открывается дверь. Бонвизи вскакивает, на лице облегчение. — Добро пожаловать, прошу вас. Джентльмены, императорский посол. Эсташ Шапюи прибывает вместе с десертом. Новый посол, как его по-прежнему называют, хотя он занимает свой пост с осени. Посол медлит на пороге, и гости имеют возможность налюбоваться: горбатый коротышка в дублете с буфами и разрезами; синий атлас выглядывает из-под черного; ниже — короткие тощие ножки. — Сожалею, что опоздал, — говорит новый гость, рисуясь. — Les dépêches, toujours les dépêches.[31] Такова посольская жизнь. — Шапюи оглядывается и улыбается. — Томас Кромвель. А, с'est le juif érrant![32] И тут же извиняется, не переставая улыбаться, пораженный успехом своей шутки. Да садитесь же, говорит Бонвизи. Слуги суетятся, сметают со скатерти крошки, гостям приходится потесниться. За исключением лорда-канцлера, который остается на месте. Подают засахаренные осенние фрукты и вина с пряностями; Шапюи занимает почетное место подле Мора. — Говорим по-французски, джентльмены, — объявляет Бонвизи. По традиции императорские послы и послы-испанцы используют французский. Шапюи, как и остальные дипломаты, не считает за труд выучить английский, бесполезный при следующем назначении. Благодарю, благодарю, приговаривает посол, откидываясь в резном хозяйском кресле — ноги не достают до пола. Мор воодушевляется, и скоро они с послом увлеченно беседуют голова к голове. Он смотрит на них, они отвечают возмущенными взглядами, но разглядывать друг друга никому не возбраняется. На краткий миг они замолкают, и ему удается вклиниться в разговор. — Мсье Шапюи, недавно я разговаривал с королем о весьма прискорбных событиях, когда войска вашего господина разорили Вечный город. Не просветите нас? Мы до сих пор теряемся в догадках. Шапюи трясет головой. — Весьма, весьма прискорбные события. — Томас Мор считает, что во всем виноваты тайные магометане — ах да, и, разумеется, мое вездесущее жидовское племя — раньше он, однако, утверждал, что за все в ответе немцы, последователи Лютера, что именно они насиловали девиц и оскверняли святыни. В любом случае, лорд-канцлер говорит, что император должен винить во всем себя, но как следует думать нам? Нужен ваш совет. — Мой дорогой лорд-канцлер! — посол потрясенно смотрит на Томаса Мора. — Вы сказали такое о моем императоре? — Стрельнув глазами за плечо, Шапюи переходит на латынь. Гости, которым латынь не внове, сидят и довольно улыбаются. — Если хотите посекретничать, — любезно советует Томас, — попробуйте греческий. Allez,[33] мсье Шапюи, не стесняйтесь. Лорд-канцлер вас поймет. Конец ужина скомкан. Лорд-канцлер встает, но перед уходом обращается к гостям по-английски: — Мне кажется, позиция мастера Кромвеля весьма уязвима. Как всем известно, он не друг церкви, а всего лишь друг одного священнослужителя, притом самого порочного во всем христианском мире. Сухо кивнув на прощанье, лорд-канцлер удаляется. Даже присутствие Шапюи его не удерживает. Тот нерешительно смотрит вслед, закусив губу, словно говоря: я рассчитывал на большую поддержку. Томас замечает привычку посла по-актерски гримасничать. Когда Шапюи думает, он опускает глаза и подносит ко лбу два пальца; когда грустит — испускает вздох; когда смущен — двигает щекой и кривит губы в полуулыбке. Императорский посол похож на комедианта, нечаянно забредшего в чужую пьесу и решившего остаться там, чтобы осмотреться.
Ужин завершен, гости выходят в ранние сумерки. — Что, слишком рано разошлись? — спрашивает он Бонвизи. — Томас Мор — мой старинный приятель. Вам не следовало на него нападать. — Выходит, я испортил ужин? А сами пригласили Монмаута, думаете, он не воспринял это как нападение? — Нет, Хемфри Монмаут тоже мой друг. — А я? — И вы. Они плавно переходят на итальянский. — Расскажите, что вы знаете о Томасе Уайетте. Три года назад Уайетта неожиданно приставили к дипломатической миссии в Италии. Там ему пришлось несладко, но сейчас не о том. Почему его отослали от двора в такой спешке, вот что хотелось бы знать. — А, Уайетт и леди Анна. Старая история. Возможно, соглашается он и рассказывает Бонвизи о лютнисте Марке, который уверен, что Уайетт спал с Анной. Если лакеи и слуги по всей Европе вовсю чешут языками, неужто король не ведает? — Наверное, в этом и заключается искусство правителя — знать, когда нужно закрыть уши. А Уайетт красавчик, — замечает Бонвизи, — правда, в вашем, английском духе. Высокий, светловолосый, мои земляки на него не надышатся. Откуда вы их берете? Самоуверенный малый да еще и поэт! Он смеется: его друг Бонвизи, как все итальянцы, не может выговорить «Уайетт» — у него получается «Гуйетт», или что-то в этом роде. Когда-то в добрые старые времена Хоквуд, рыцарь графа Эссекса, отправился в Италию, чтобы грабить и насиловать, — итальянцы выговаривали его имя как Акуто, то есть Игла. — Да, но Анне… — с его точки зрения она не их тех женщин, что падки на мужскую красоту. — В те времена Анне нужен был муж: имя, положение, позволявшее ей торговаться с королем, заманивать его в свои сети. Уайетт женат. Что он мог ей предложить? — Стихи? — спрашивает купец. — Он оставил Англию не только ради дипломатической карьеры. Анна измучила его. Он больше не смел находиться с ней в одной комнате, в одном дворце. — Итальянец трясет головой. — Странный народ эти англичане! — И не говорите! — Вам следует быть осторожней. Ее семейство не знает удержу. Они говорят, обойдемся без папы. Почему бы не подписать брачный контракт без его участия? — Что ж, это поможет сдвинуть дело с мертвой точки. — Попробуйте засахаренный миндаль. Он улыбается. — Томмазо, могу я дать вам совет? — спрашивает Бонвизи. — С кардиналом покончено. — Не будьте так уверены. — Если бы вы его не любили, вы бы и сами это поняли. — Я видел от кардинала только добро. — Но сейчас его место на севере. — Его затравят. Спросите послов. Спросите Шапюи. Спросите, о ком их донесения. Они в Ишере, они в Ричмонде. Toujours les dépêches. В тех депешах — про нас. — Вы только вообразите, в чем его обвиняют! В незаконном правлении! — Понимаю, — вздыхает он. — И что вы думаете делать? — Пожалуй, посоветую ему вести себя потише. Бонвизи смеется. — Ах, Томас! Вы же прекрасно понимаете: как только кардинал отправится на север, вы останетесь без хозяина. Вас привечает король, но долго это не продлится. Сейчас вы нужны ему, чтобы торговаться с кардиналом. А что потом? Он отвечает не сразу. — Король любит меня. — Король — любовник ветреный. — Не для Анны. — Вот тут я и хочу вас предостеречь. Нет, не из-за Гуйетта, не из-за досужих сплетен, а потому, что скоро все закончится. Она уступит ему, она всего лишь женщина… подумайте, каким глупцом выставил себя тот, кто связывал свои надежды с ее сестрой. — Да уж. Он обводит глазами комнату. Вот здесь сидел лорд-канцлер, слева от него — голодные купцы, справа — новый посол. Здесь Генри Монмаут, еретик. Здесь Антонио Бонвизи. Здесь Томас Кромвель. А вот места для призраков: вкрадчивого толстяка Суффолка, Норфолка, звякающего реликвариями и восклицающего: «Клянусь мессой!» Вот место короля и маленькой мужественной королевы, оголодавшей в пост — ее чрево содрогается под прочной броней платья. А вот леди Анна: беспокойные черные глаза всегда в движении, она ничего не ест, она все замечает, теребя нитку жемчуга на тонкой шее. Вот место для Уильяма Тиндейла, вот — для папы; Климент смотрит на засахаренную айву, порезанную слишком крупно, и его губы — губы Медичи — кривятся. А вот, сочась елеем и жиром, сидит брат Мартин Лютер: хмуро оглядывает собравшихся, сплевывая рыбьи кости. Входит слуга. — Мастер, вас спрашивают двое юных джентльменов. Он поднимает глаза. — Да? — Мастер Ричард Кромвель и мастер Рейф. Они пришли вместе со слугами, чтобы отвести вас домой. Он понимает, ужин был предупреждением: отступись. Он еще вспомнит эту роковую расстановку: окажется ли она роковой? Нежный шорох и шепот камней, дальний грохот оседающих стен и крушащейся штукатурки, валунов, кромсающих хрупкие черепа. Звук, с которым на головы рушится крыша христианского мира. — Да у вас тут целая армия, Томмазо, — замечает Бонвизи. — Думаю, осторожность вам не повредит. — Я всегда осторожен. Еще один, последний взгляд. — Спокойной ночи. Славный был ужин, угорь особенно удался. Не пришлете своего повара пошептаться с моим? Я узнал рецепт нового соуса, весьма пикантного: мускатный орех, имбирь, немного сухих порубленных листьев мяты… — Умоляю вас, — перебивает друг, — ведите себя осторожнее! — … чуть-чуть, самую малость, чеснока… — Где бы вам не пришлось ужинать в следующий раз, заклинаю… — …щепоть хлебных крошек… — …не садитесь рядом с Болейнами.
II Мой дражайший Кромвель
весна-декабрь 1530 года
Он приезжает в Йоркский дворец ни свет ни заря. Стреноженные чайки в садках выкликают товарок, которые кружат над рекой и с пронзительными воплями ныряют за стены замка. Возчики тянут в гору грузы с барж. Пахнет свежеиспеченным хлебом. Мальчишки волокут от реки вязанки свежих камышей, приветствуют его по имени. Он дает каждому по монетке и останавливается поболтать. — Собрались к злодейке? А знаете, сударь, что она околдовала нашего короля? У вас есть образок или мощи, чтобы защититься от ее чар? — Был образок, да потерялся. — Попросите кардинала, он даст вам другой. Резкий травяной запах камышей, превосходное утро. Он шагает по знакомым залам Йоркского дворца, видит полузабытое лицо, окликает: — Марк? Юноша лениво отлепляется от стены. — Рановато поднялись. Как поживаете? Угрюмо жмет плечами. — Странно, должно быть, снова оказаться в Йоркском дворце, когда все вокруг переменилось. — Нет. — Скучаете по милорду кардиналу? — Нет. — Всем довольны? — Да. — Милорд будет рад услышать. Про себя он замечает, тебе нет дела до нас, Марк, но нам-то есть дело до тебя. По крайней мере, мне; я не забуду, как ты назвал меня злодеем и предрек мне смерть на плахе. Истинно говорит кардинал: на свете нет безопасных мест, нет надежных стен. Исповедоваться в своих грехах английскому священнику — все равно что кричать о них на весь Чипсайд. Но когда я рассказывал кардиналу об убийстве, когда видел скользнувшую по стене тень, свидетелей не было. А значит, если Марк считает меня убийцей, то лишь потому, что у меня, на его взгляд, внешность душегуба.Восемь комнат; в последней — где был бы кардинал — он находит Анну Болейн. А вот и старые знакомцы, Соломон и царица Савская, как прежде, рядышком на стене. Сквозняк колышет шпалеру; цветущая царица встрепенулась ему навстречу, и он ее приветствует: Ансельма, моя госпожа, сотворенная из мягкой шерсти, уж я и не чаял вас узреть. Кромвель тайно писал в Антверпен, осведомлялся о новостях. Ансельма снова замужем, ответил Стивен Воэн, за молодым банкиром. Что ж, если новый муженек утонет или сломает шею, извести меня. Воэн в ответ удивляется: неужто в Англии перевелись хорошенькие вдовушки и юные девы? Соседство с пышнотелой царицей не красит хозяйку: Анна тощая и угловатая, с землистым цветом лица. Стоит у окна, пальцы теребят побег розмарина. Завидев Кромвеля, она роняет стебелек, руки прячутся в длинные струящиеся рукава. В декабре Генрих давал обед в честь отца Анны, нового графа Уилтширского. В отсутствие королевы Анна садится подле короля. Земля промерзла, ледяным холодом веет за столом. До окружения Вулси доходят лишь слухи. Вечно недовольная герцогиня Норфолкская вне себя, что племянница сидит выше нее. Герцогиня Суффолкская, сестра Генриха, отказывается есть. Обе сановные дамы не удостаивают дочь Болейна разговором. Но Анна все же заняла место первой леди королевства. Кончается пост, и Генрих вынужден вернуться к жене — совесть не дает королю провести Страстную неделю с любовницей. Ее отец за границей по дипломатическим делам, равно как и брат Джордж, теперь лорд Рочфорд. За границей и Томас Уайетт, поэт, которого она мучит. Анне одиноко и скучно в Йоркском дворце, и она снисходит до Кромвеля, хоть какое-то развлечение. Свора мелких собачек — три штуки — вылетают из-под хозяйкиных юбок и бросаются к нему. — Не дайте им выскочить, — говорит Анна. Он ловко и нежно сгребает всех трех в охапку — чем не Белла? только у этих лохматые уши и пушистые хвосты, таких держат все купеческие жены по ту сторону Ла-Манша. Пока он держит собачек, они успевают покусать ему пальцы и одежду, облизать лицо и теперь не сводят преданных глаз-бусин, словно всю жизнь ждали его одного. Двух он осторожно опускает на пол, третью, самую мелкую, подает Анне. — Vous êtes gentil, вы очень добры, — благодарит она. — Надо же, как быстро мои крохи вас признали! Мне не по душе обезьянки, которых держит Екатерина. Les singes enchaînés. О, эти лапки, эти крохотные шейки, скованныецепью! А мои детки любят меня ради меня самой. Анна субтильна. Тонкая кость, узкий стан. Если из двух студентов-правоведов выйдет один кардинал, то из двух Анн — одна Екатерина. Вокруг нее, на низких скамейках, вышивают — или делают вид, будто вышивают, — ее фрейлины. Мария Болейн сидит, прилежно опустив голову, притворяется, что увлечена работой. Нагловатая кузина, Мэри Шелтон, кровь с молоком, разглядывает его во все глаза. Наверняка теряется в догадках, Бог мой, неужели леди Кэри не могла найти никого получше? В тени прячется незнакомая девушка, отвернувшись, уставясь в пол. Кажется, он понимает, почему она прячется. Все дело в Анне. Теперь, передав собачку хозяйке, он тоже опускает глаза. — Mors,[34] — начинает она мягко, — не поверите, мы только о вас и говорим. Король постоянно ссылается на мастера Кромвеля. Анна произносит его имя на французский манер: Кремюэль. — Он всегда прав, всегда точен… А, вот еще, мэтр Кремюэль умеет нас развеселить. — Король любит время от времени посмеяться. А вы, мадам? В вашем теперешнем положении? Она удостаивает его сердитым взглядом через плечо. — Я редко. Смеюсь. Если задумываюсь, ноя стараюсь не думать. — Жизнь последнее время вас не балует. Пыльные обрывки, сухие стебли и листья у подола. Анна смотрит в окно. — Позвольте сформулировать так, — говорит он. — С тех пор как милорд кардинал лишился королевской милости, многого ли вы добились? — Ровным счетом ничего. — А между тем никто не пользуется большим доверием христианских владык. Никто не понимает короля так, как он. Подумайте, леди Анна, как благодарен будет вам кардинал, если вы поможете устранить недоразумения и восстановить его доброе имя в глазах короля! Она не отвечает. — Подумайте, — не сдается он. — Кардинал — единственный человек в Англии, который может дать вам то, чего вы хотите. — Хорошо, изложите его аргументы. У вас пять минут. — Да, конечно, я вижу, как вы заняты. Анна одаривает его неприязненным взглядом и переходит на французский: — Откуда вам знать, чем я занята? — Миледи, на каком языке мы беседуем? Выбор за вами, но определитесь, хорошо? Краем взгляда он ощущает движение: девушка в тени поднимает глаза. Невзрачная, бледненькая, она потрясена его резкостью. — Вам правда все равно? — спрашивает Анна. — Все равно. — Тогда французский. Он снова повторяет: только кардинал способен добыть согласие папы, только кардинал успокоит королевскую совесть. Анна внимает. Этого у нее не отнять. Его всегда удивляло, как женщины умудряются слышать под чепцами и вуалями, но, кажется, Анна действительно слушает. По крайней мере, дает ему высказаться, ни разу не перебив. Наконец она все-таки перебивает, помилуйте, мастер Кремюэль, если этого хочет король, если этого хочет кардинал — первый из его подданных — должна заметить: слишком долго дело не сдвинется с места! — А она тем временем не молодеет, — еле слышно подает голос сестра. Едва ли с тех пор как он вошел женщины сделали хоть стежок. — Могу я продолжить? — говорит он. — Осталась у меня минута? — Только одна, — говорит Анна. — В пост я ограничиваю свое терпение. Он уговаривает ее прогнать клеветников, утверждающих, будто кардинал препятствует ее планам. Говорит, как больно кардиналу, что королю не удается осуществить свои чаяния, каковые есть и его, кардинала, чаяния. Ибо лишь на нее возлагают свои надежды подданные его величества, жаждущие обрести наследника престола. Он напоминает Анне о любезных письмах, которые она некогда писала кардиналу; его милость не забыл ни единого. — Все это хорошо, — говорит Анна, когда он замолкает. — Все это хорошо, мастер Кремюэль, но неубедительно. От кардинала требовалось одно. Одно простое действие, которое он не пожелал выполнить. — Вы не хуже меня понимаете, насколько непростое. — Наверное, это выше моего понимания. Как вы считаете? — Возможно, и выше. Я вас почти не знаю. Ответ приводит Анну в ярость. Ее сестра ухмыляется. Я вас больше не задерживаю, говорит Анна. Мария вскакивает и устремляется вслед за ним.
И снова щеки Марии горят, рот приоткрыт. В руках работа; сперва это кажется ему странным, впрочем, возможно, если оставить вышивку возле Анны, та распустит стежки. — Опять запыхались, леди Кэри? — Мы уж было решили, она вскочит и залепит вам пощечину! Еще придете? Мы с Шелтон теперь и не знаем, как вас дождаться! — Ничего, стерпит, — говорит он, и Мария соглашается, да, Анна любит перепалки среди своих. Над чем вы так прилежно трудитесь, спрашивает он. Мария протягивает вышивку, новый герб Анны. На всем подряд? — спрашивает он. А как же, с готовностью подхватывает Мария, сияя улыбкой. На нижних юбках, носовых платках, чепцах и вуалях. У нее столько новой одежды, везде должен быть вышит ее герб, не говоря уже о занавесях, салфетках… — А как вы? Она прячет глаза. — Устала. Издергалась. Рождество выдалось… — Я слышал, они ссорились. — Сначала он поссорился с Екатериной, а после пришел искать сочувствия к ней. А она возьми да и скажи, я ведь просила вас ей не перечить, в спорах она всегда одерживает верх. Не будь он королем, — замечает Мария с явным удовольствием, — любой бы его пожалел. Что за собачью жизнь они ему устроили! — Ходят слухи, что Анна… — Пустое. Я узнала бы первой. Если бы она раздалась хоть на дюйм, именно я перешивала бы ей одежду. Только не будет этого, между ними ничего не было. — Думаете, она вам скажет? — Тут же! Лишь бы меня позлить. Мария до сих пор ни разу не подняла глаз, но, кажется, искренне уверена, что снабжает его важными сведениями. — Когда они наедине, она позволяет ему расшнуровать корсет. — По крайней мере, король не просит вас помочь. — Затем он поднимает ее сорочку и целует грудь. — Надо же, он нашел там грудь? Мария хохочет; заливисто, совсем не по-сестрински. Должно быть, хохот слышен в покоях Анны, потому что дверь распахивается, и к ним выбегает кроткая фрейлина. Сама серьезность и сосредоточенность, кожа так нежна, что кажется прозрачной. — Леди Кэри, — обращается к Марии юная скромница, — леди Анна ждет вас. Тон такой, словно говорит о двух паучихах. Мария недовольно хмыкает, ах, ради всего святого, поворачивается на каблуках, изящным заученным движением подхватывает шлейф. К удивлению Кромвеля, бледнокожая скромница ловит его взгляд, и за спиной у Марии Болейн возводит очи горе.
На обратном пути — восемь комнат отделяют его от прочих сегодняшних дел — он уже знает, что Анна встала у окна, чтобы он хорошенько ее разглядел. Разглядел утренний свет в ложбинке горла, тонкий изгиб бровей и улыбку; и то, как изящно сидит хорошенькая головка на длинной шейке. А также ее ум, рассудительность и строгость. Вряд ли он чего-нибудь от нее добьется, кардиналу не повезло, но попытка не пытка. Это мое первое предложение, думает он, возможно, не последнее. Лишь однажды Анна одарила его пронзительным взглядом черных очей. Король тоже умеет так смотреть: мягкость его голубых глаз обманчива. Так вот как они смотрят друг на друга! Или иначе? На миг он понимает — но лишь на миг. Он стоит у окна. Стайка скворцов расселась на голых ветках среди набухших черных почек. Внезапно — словно из почек выстреливают ростки — скворцы взмахивают крыльями; они поют, перелетают с ветки на ветку, и кажется, что мир состоит из полета, воздуха, крыльев и музыки этих порхающих черных клавиш. — Он смотрит на птиц и радуется: что-то давно потухшее, едва различимое, стремится навстречу весне. Несмело и отчаянно мысли обращаются к предстоящей Пасхе; дни покаяния позади, кончается пост. За этим беспросветным миром должен быть иной. Мир, где все возможно. Мир, в котором Анна может быть королевой, а Кромвель — Кромвелем. На миг он видит этот новый мир — но лишь на миг. Мгновение так мимолетно, и все же его нельзя отменить. Нельзя и вернуть.
Даже в пост найдутся сговорчивые мясники, главное — знать места. Он спускается на кухню в Остин-фрайарз поболтать с шеф-поваром. — Кардинал болен и получил разрешение не поститься. Повар стягивает колпак. — От папы? — От меня. Он обегает взглядом ряды ножей и тесаков для рубки костей. Выбирает один, касается лезвия — нож требует заточки — спрашивает: — Как думаешь, похож я на убийцу? Только честно. Молчание. Помешкав, Терстон мямлит: — Видите ли, сударь, должен сказать, что сейчас… — Ясно, но представь, что я иду в Грейз-инн с бумагами и чернильницей подмышкой. — Думаю, их должен нести писарь. — Стало быть, не можешь представить? Терстон снова стягивает колпак и выворачивает наизнанку, словно его мозги находятся внутри или, по крайней мере, там спрятана подсказка. — Мне кажется, вы похожи на стряпчего, не на убийцу, нет, не на убийцу. Но если позволите, сударь, по вам сразу видно, что вы в два счета управитесь с разделкой туши. Он велел приготовить кардиналу мясные рулетики с шалфеем и майораном. Они аккуратно перевязаны и уложены рядком на подносе — кардинальскому повару в Ричмонде останется только запечь. Покажите мне, где в Библии сказано, что нельзя есть мясные рулетики в марте. Он думает о леди Анне, ее неутоленной потребности ссориться; о печальных дамах вокруг. Он посылает им корзинки с пирожными из засахаренных апельсинов и меда. Анне шлет тарелку миндального крема. Крем сбрызнут розовой водой, украшен засахаренными лепестками роз и фиалок. Он не настолько низко пал, чтобы самому доставлять угощение, но не так уж далеко от этого ушел. Давно ли он служил на кухне Фрескобальди во Флоренции? Может, давно, но память свежа, будто все было вчера. Он процеживал бульон из телячьей голяшки, болтая на смеси французского, тосканского и лондонского просторечий. Кто-то позвал: «Томмазо, тебя ждут наверху!» Не суетясь, он кивнул поваренку, тот подал таз с водой. Помыл руки, вытер их льняным полотенцем, повесил на гвоздь фартук. Вполне может статься, что фартук висит там до сего дня. Парнишка младше его самого, стоя на карачках, скреб ступеньки и горланил:
Не успевает он подняться, а женщины уже знают, что он от Анны. — Говори, — требует Джоанна, — высокая или низкая? — Ни то ни другое. — Я слыхала, высокая. Бледная, как поганка. — Так и есть. — Говорят, она очень грациозна, превосходно танцует. — Мы не танцевали. — А сам ты что думаешь? — вступает Мерси. — Правда ли, что она евангельской веры? Он пожимает плечами: — И не молились. Алиса, маленькая племянница: — Какое на ней было платье? А вот наряд он готов расписать в деталях — от чепца до подола, от ступней до мизинцев: что, откуда и почем. Анна носит круглый чепец по французской моде, который выгодно подчеркивает тонкие скулы. Это объяснение женщины принимают с неодобрением, несмотря на тон, деловой и холодный. — Она вам не понравилась? — спрашивает Алиса. Понравилась — не понравилась, не мне судить, да и тебе, Алиса, не советую, говорит он, тормоша племянницу и заставляя ее визжать от хохота. Наш хозяин сегодня в духе, говорит малышка Джо. А эта беличья отделка, начинает Мерси. Серая, отвечает он. А, серая, вздыхает Алиса и морщит носик. Должна сказать, ты стоял очень близко, замечает Джоанна. — А зубы у нее хорошие? — спрашивает Мерси. — Ради Бога, женщина! Когда она их в меня вонзит, я тебе сообщу.
Когда кардинал узнает, что Норфолк готов примчаться в Ричмонд и разорвать его собственными зубами, то, смеясь, замечает: — Мать честная! Коли так, Томас, пора ехать. Однако чтобы двинуться на север, Вулси нужны деньги. Проблема изложена королевскому совету, в котором нет согласья. Споры продолжаются и при нем. — Нельзя же, — восклицает Чарльз Брэндон, — чтобы архиепископ пробирался на свою интронизацию[36] тишком, словно лакей, стащивший ложки! — Если бы ложки! — взрывается Норфолк. — Да он объел всю Англию, стянул скатерть и, клянусь Богом, вылакал винный погреб! Генрих умеет быть неуловимым. Как-то раз, придя на аудиенцию к королю, Кромвель был вынужден довольствоваться обществом королевского секретаря. — Садитесь, — говорит Гардинер, — слушайте. И держите себя в руках, пока я не закончу. Он смотрит, как Гардинер снует по комнате, Стивен — полуденный демон: вихляя конечностями, каждой черточкой источая яд. Ручищи огромные, волосатые, а когда Стивен сжимает кулак и упирает в ладонь, костяшки хрустят. Уходя, он уносит с собой слова Гардинера вместе с заключенной в них злобой. На пороге оборачивается, мягко улыбается: — Ваш кузен кланяется вам. Гардинер смотрит на него. Брови топорщатся, как собачий загривок. Неужто Кромвель смеет… — Нет, не король, — успокаивает он секретаря. — Не его величество. Я говорил о вашем кузене Ричарде Уильямсе. — Никакой он мне не родственник! — выпаливает Гардинер. — Полноте! Быть королевским бастардом — не позор. По крайней мере, так считают в моей семье. — В вашей семье? Да что вы понимаете о пристойности? Я не желаю знать этого юнца, не собираюсь с ним водиться и не намерен ему помогать! — Право, незачем утруждаться. С недавних пор он зовет себя Ричардом Кромвелем. Уходя — на сей раз окончательно — он добавляет: — Пусть совесть вас не гложет, Стивен. Я присмотрю за Ричардом. Ему вы, возможно, и родственник. Но не мне. Он улыбается, но внутри все кипит от ярости, словно в кровь впрыснули яд и она стала бесцветной, как у змеи. Дома он хватает в охапку Рейфа Сэдлера и лохматит тому волосы. — Вот и пойми: мальчик или еж? Ричард, Рейф, я полон раскаяния. — На то и пост, — замечает Рейф. — Как бы мне хотелось обрести спокойствие! Проникнуть в курятник, не задев ни перышка. Меньше походить на дядю Норфолка и больше — на Марлинспайка. Долгий разговор с Ричардом, который хохочет над его валлийским. Когда-то знакомые выражения стерлись из памяти, и он то и дело жульничает: произносит английские слова на валлийский манер. Племянницам достаются браслеты с жемчугами и кораллами, купленные давно, да недосуг было подарить. Он спускается на кухню и весело отдает приказания. Затем собирает слуг и приказчиков. — Мы должны все продумать заранее, смягчить кардиналу дорожные тяготы. Передвигаться будем медленно, дабы народ мог выразить его милости свое почтение. Страстную неделю кардинал проведет в Питерборо, оттуда, с остановками, доберется до Саутвелла, где наметим дальнейший путь к Йорку. Комнаты в Саутвеллском дворце вполне пригодны для жилья, однако не мешало бы нанять строителей… Джордж Кавендиш говорит, что кардинал проводит время в молитвах, в обществе угодливых ричмондских монахов, которые без устали расписывают его милости благотворное воздействие шипов, впивающихся вплоть, сладость соли, щедро насыпаемой на раны, изысканный вкус хлеба с водой и унылые радости самобичевания. — Хватит, мое терпение лопнуло. Чем скорее кардинал окажется в Йоркшире, тем лучше! — негодует он. Обращается к Норфолку: — Так как же, милорд, хотите вы, чтобы он уехал, или нет? Хотите? Тогда идемте со мной к королю. Норфолк хмыкает. Короля испрашивают об аудиенции. Спустя день или два они встречаются под дверью королевских покоев. Герцог меряет шагами приемную. — Святой Иуда! — выпаливает Норфолк. — Да тут можно задохнуться! Выйдем на улицу? Или ваш брат стряпчий обходится без воздуха? Они прохаживаются в саду. Вернее, прохаживается он, герцог тяжело топает и пыхтит. — Зачем тут цветы? — ворчит Норфолк. — Когда я был ребенком, никаких цветов не было в помине! А все Бекингем. Он завел эту чепуху. Баловство одно. В 1521 году страстному садовнику герцогу Бекингему отрубили голову за измену. С тех пор не прошло и десяти лет. Печально вспоминать об этом весной, когда из каждого куста доносятся птичьи трели. Их зовут к королю. Герцог артачится, как норовистый жеребец, глаза вращаются, ноздри раздуты. Кромвель шагает слишком быстро, и Норфолк кладет ему руку на плечо, вынуждая умерить шаг, и вот они тащатся друг за другом, процессия искалеченных вояк. Scaramella va alia guerra… Рука Норфолка дрожит. Но лишь когда они предстают перед королем, он окончательно понимает, как не по себе старому герцогу в присутствии Генриха Тюдора. Рядом с этим золотым весельчаком Норфолк съеживается под одеждой. Генрих приветлив. Дивный день, не правда ли? Как дивно устроен этот мир, не находите? Король расхаживает по комнате, широко раскинув руки и декламируя вирши собственного сочинения. Он готов беседовать о чем угодно, только не о кардинале. Норфолк багровеет и начинает бурчать. Аудиенция окончена, они идут к двери. — Кромвель, стойте, — произносит Генрих. Они с герцогом обмениваются взглядами. — Клянусь мессой… — бормочет Норфолк. За спиной Кромвель делает жест, означающий, ступайте, милорд Норфолк, я вас догоню. Генрих стоит, скрестив руки, опустив глаза. Он разбирает шепот короля, лишь подойдя совсем близко. — Тысячи хватит? На языке вертится ответ: первой из тех десяти, которые, насколько мне известно, вы задолжали кардиналу Йоркскому десять лет назад? Нет, он не осмелится. В такие минуты Генрих ждет, что ты упадешь на колени: герцог или крестьянин, грузный или тощий, молодой или дряхлый. Что ты и делаешь. Шрамы ноют: немногим, дожившим до сорока, удалось избегнуть ран. Король делает знак — можно встать. — А герцог Норфолк вас отличает. — Генрих удивлен. Рука на плече, догадывается он: минутное дрожание герцогской длани на плебейских мышцах и костях. — Герцог всегда помнит о своем статусе и никогда не переходит границ. Генриха успокаивает ответ. Непрошеная мысль не дает покоя: что если вы, Генрих Тюдор, лишитесь чувств и рухнете к моим ногам? Будет ли мне дозволено поднять вас или придется звать на подмогу герцога? Или епископа? Генрих уходит, оборачивается, несмело произносит: — Каждый день я ощущаю отсутствие кардинала Йоркского. Пауза, шепот. Берите деньги, с нашим благословением, герцогу не говорите, никому не говорите. Попросите вашего господина обо мне помолиться. Скажите, я сделал, что мог. Слова, которые он произносит в ответ, так и не встав с колен, проникновенны и красноречивы. Генрих смотрит печально: — Бог мой, а у вас неплохо подвешен язык, мастер Кромвель. Сохраняя внешнюю торжественность — и борясь с желанием улыбнуться во весь рот, — он выходит. Scaramella fa la gala… «Каждый день я ощущаю отсутствие кардинала Йоркского». Ну что, что он сказал, налетает на него Норфолк. Да так, ничего особенного. Слова порицания, которые я должен передать кардиналу.
Маршрут проложен. Кардинальский скарб грузят на барки до Гулля, оттуда его будут переправлять по суше. Он сбивает цену у лодочников. Пойми, объясняет он Рейфу, тысяча не так уж много, когда в путь отправляется кардинал. — Во сколько вам обошлось это безнадежное предприятие? Есть долги, которые невозможно отдать. — Я помню тех, кто мне должен, но, видит Бог, и своих долгов не забываю. — Скольких слуг он взял? — спрашивает он Кавендиша. — Всего сто шестьдесят. — Всего. — Кивает. — Хорошо. Хендон. Ройстон. Хантингдон. Питерборо. Он высылает гонцов вперед, с подробнейшими указаниями.
В вечер перед отъездом Вулси протягивает ему сверток. Внутри что-то маленькое и твердое. Печать или кольцо. — Откроете, когда меня не станет. Люди входят и выходят, вынося из кардинальских покоев сундуки и связки бумаг. Кавендиш слоняется, не зная, куда пристроить серебряную дарохранительницу. — Вы не едете на север? — спрашивает кардинал. — Я приеду за вами, как только король призовет вас обратно. Кромвель верит и не верит своим словам. Кардинал встает. Момент тягостный. Он, Кромвель, опускается на колени за благословением. Кардинал протягивает руку для поцелуя. От него не ускользает, что кольцо с бирюзой исчезло. Несколько мгновений кардинальская рука медлит на его плече, большой палец застыл на подключичной впадине. Пора. Все давным-давно сказано, и нет нужды в добавлениях. Ими незачем приукрашивать свои деяния, ни к чему выводить из них мораль. Не время для объятий. И если кардинал не видит прока в словах, то он и подавно. Он не успевает дойти до двери, а Вулси уже отворачивается к камину. Подтягивает кресло ближе к огню, поднимает руку, чтобы защититься от яркого пламени. Рука замирает в воздухе: но не между Вулси и камином — между Вулси и закрываемой дверью. Кромвель выходит во двор, забивается в нишу, куда не проникает солнечный свет, приваливается к стене. Плачет. Только бы нелегкая не занесла сюда Джорджа Кавендиша, который все аккуратно запишет и сделает из этого пьесу. Он тихо сыплет ругательствами на разных языках, кляня суровость жизни, свою слабость. Мимо снуют слуги, выкликая: лошадь мастера Кромвеля! Эскорт мастера Кромвеля у ворот! Он вытирает слезы и уезжает, щедро раздав монеты. Дома слуги спрашивают, следует ли теперь закрасить кардинальский герб? Бога ради, ни в коем случае! Напротив, подновите. Он отходит, разглядывает герб. — Подкрасьте галок. И на шляпу добавьте багрянца. Он плохо спит. Ему снится Лиз. Узнала бы она его в человеке, каким он поклялся стать: непреклонном, снисходительном, хранителе королевского спокойствия?
К рассвету он засыпает. Просыпается с мыслью: сейчас кардинал садится на лошадь — почему я не с ним? Пятое апреля. Джоанна встречает его на лестнице, целомудренно целует в щеку. — Зачем Господь нас испытывает? — шепчет она. — Боюсь, нам не пройти испытания, — также шепотом отвечает он. Наверное, придется ехать в Саутвелл самому, говорит он. Я съезжу, вызывается Рейф. Он составляет список: проследи, чтобы дворец архиепископа хорошенько вычистили; кухонную прислугу найми в «Королевском гербе»; не забудь заглянуть в конюшни; разыщи музыкантов. В прошлый раз я заметил прямо у дворцовой стены свинарник: найди владельца, заплати и вышвырни вон. Не пей в «Гербе» — эль там похуже, чем у моего папаши. — Сэр, — мнется Рейф, — не пора вам оставить кардинала? — Запомни, это тактическое отступление, не бегство. Рейф и Ричард думают, что он ушел, а он зарылся в бумагах в соседней комнате. Слышно, как Ричард говорит: — Он действует по велению сердца. — Ему не привыкать. — Но куда отступать генералу, если тот не знает, где враг? Король так двойственен, когда дело касается кардинала. — Отступать можно прямо в руки врага. — Иисусе! Думаешь, наш хозяин тоже двойственен? — По меньшей мере, тройственен, — говорит Рейф. — Что за выгода бросать старика, навеки заслужив имя дезертира? А сохранит верность — глядишь, что-то и выгорит. Для всех нас. — А ну проваливай, свинтус! Кто еще, кроме него, подумал бы о свинарнике? Томас Мор о свинарниках и не помышляет! — Нет, Мор принялся бы увещевать свинаря, добрый человек, близится Пасха… — … готов ли ты принять святое причастие? Рейф хохочет. — Кстати, Ричард, а ты готов? — Кусок хлеба я могу съесть когда угодно.
На Страстной неделе из Питерборо приходят вести: такой толпы, что собралась поглазеть на кардинала, город не видел. Вулси движется на север, а Кромвель следит за ним по карте, которую держит в голове. Стэмфорд, Грэнтем, Ньюарк. Кардинальский двор прибывает в Саутвелл двадцать восьмого апреля. Кромвель пишет Вулси, чтобы успокоить того и предостеречь. Он боится Болейнов, боится Норфолка — что им стоит подослать в окружение кардинала шпионов? Посол Шапюи, выйдя от короля, отводит его в сторонку. — Мсье Кремюэль, я собирался к вам зайти. Мы ведь соседи. — Буду рад гостю. — Мне рассказали, что вы часто бываете у короля, чудесно, не правда ли? Ваш старый господин пишет мне каждую неделю. Стал живо интересоваться здоровьем королевы. Спрашивает, бодра ли она духом, умоляет ее поверить, что скоро она вновь займет свое место в королевском сердце. И в королевской постели. Шапюи смеется, довольный собой. — Любовница ему не поможет. Нам известно, что вы пытались привлечь ее на сторону кардинала, но потерпели поражение. И теперь чаяния кардинала связаны с королевой. Вежливость требует спросить: — А что королева? — Королева сказала, надеюсь, Господь в своей милости простит кардинала, ибо я его никогда не прощу. Шапюи замолкает, ждет. Не дождавшись реакции, продолжает: — Надеюсь, вы сознаете, какие ужасные последствия вас ждут, если его святейшество — добровольно или под давлением — одобрит развод? Император, дабы защитить свою тетку, объявит Англии войну. Ваши друзья-купцы лишатся доходов, а возможно, и жизни. Ваш Тюдор будет низложен, и на его место придет старая аристократия. — К чему этот разговор? — Я готов повторить свои слова любому англичанину. — Так уж и любому? От него ждут, что он передаст послание кардиналу: император больше не доверяет Вулси. К чему это приведет? Заставит кардинала искать поддержки у французского короля? И то, и то — измена. Он воображает кардинала среди каноников Саутвелла, непринужденно восседающим в кресле под высокими сводами капитула, словно посреди лесной опушки, увитой изящной резьбой цветов и листьев. Каменные колонны и перекрытия оживают на глазах, капители украшены ягодами, флероны — словно перевитые стебли; розы свивают черенки; цветы и колосья распускаются на одном побеге. Сквозь листву проглядывают звериные лики: песьи, заячьи, козлиные. Есть и человечьи, такие живые, что, кажется, сейчас состроят гримасу. Наверняка они с изумлением взирают на внушительную фигуру его господина внизу, а по ночам, когда каноники спят, каменные люди пересвистываются и хором распевают. В Италии он выучил мнемоническую систему, придумал собственные символы, заимствуя их у чащ и полей, молодых рощ и изгородей. Пугливые звери блестят глазами из-под куста; лисы и олени, грифоны и драконы. Люди: монахини, воины, отцы церкви. В руках они держат необычные предметы: святая Урсула — арбалет, святой Иероним — косу, Платон — половник, а Ахиллес — дюжину тернослив в деревянной миске. Бесполезно использовать обычные вещи, знакомые лица. Сравнение должно удивлять, а образы поражать несоразмерностью, нелепостью, даже непристойностью. Ты по своему усмотрению накладываешь придуманные символы на картину мира, и каждый тянет за собой систему слов и образов, которые и приводят в действие механизм памяти. В Гринвиче облезлый кот прищурится на тебя из-под буфета; в Вестминстере змея с потолочной балки будет пожирать тебя взглядом и шипеть твое имя. Некоторые образы плоские, на них можно наступить. Некоторые обтянуты кожей и самостоятельно передвигаются: люди с перевернутыми головами; с хвостами с кисточкой на конце, как у геральдического льва. Одни скалятся, как Норфолк, другие таращатся с изумлением, как милорд Суффолк. Одни говорят, другие крякают. Он содержит их в образцовом порядке, и по первому требованию они предстают перед его мысленным взором. Возможно, из-за того, что он постоянно обращается к этим символам, голова заселена обрывками сотен пьес, тысяч интерлюдий. Наверняка именно эта мнемоническая привычка заставляет его видеть мертвую Лиз на лестнице, Лиз, исчезающую за углом дома в Остин-фрайарз или Степни. Со временем образ мертвой жены сливается с обликом ее сестры Джоанны, и все, что некогда принадлежало Лиз, переходит к ней по наследству: загадочная полуулыбка, испытующий взгляд, нагота. Довольно, говорит он себе, и усилием воли прогоняет ее из своих мыслей. Рейф скачет на север с посланиями, которые нельзя доверить бумаге. Поехать бы самому, но, хотя парламент не заседает, он не едет, боится, что кто-нибудь скажет дурное о кардинале, а заступиться будет некому. К тому же его могут потребовать к себе король или леди Анна. «И пусть я не с вами, — пишет он, — будьте уверены, я всегда при вас, с вашим благословением в душе, жив вашими трудами и молитвами…» Кардинал отвечает: «мое единственное, самое верное убежище во дни бедствий»; «мой безмерно любимый, мой дражайший Кромвель». Вулси спрашивает его про перепелов и цветочные семена. — Семена? — удивляется Джоанна. — Он что, собирается пустить там корни?
В сумерках король печален. Еще один день топтаний на месте в бесконечной кампании, затеянной с целью вновь обрести семейный очаг. Разумеется, Генрих отрицает, что женат на королеве. — Кромвель, я должен отыскать способ… — Генрих прячет глаза, не желая высказаться напрямую. — Я понимаю, есть законные проволочки. Не стану делать вид, что понимаю, почему мне приходится ждать. И не советую объяснять. Колледж в Оксфорде, равно как школа в Ипсвиче, с их землями и доходами от земель, были дарованы кардиналу в бессрочное владение. Теперь Генрих хочет забрать серебряную и золотую посуду, библиотеки, доходы с земель и сами земли. И то сказать: почему бы королю не заполучить то, что ему приглянулось? На колледж и школу пошло достояние двадцати девяти упраздненных — с согласия папы — монастырей. А ныне, заявляет Генрих, что мне до папы и его согласия? Начало лета. Вечера тянутся бесконечно, воздух и травы благоухают. В такую ночь перед таким мужчиной, как Генрих, не устоит ни одна. Двор полон истомившихся по ласке женщин. Однако после аудиенции Генрих будет гулять по саду с леди Анной и мирно беседовать, ее рука будет покоиться в его руке, а после он уснет в своей пустой постели, а она, как утверждают, — в своей. Когда король спрашивает, что слышно от кардинала, Кромвель отвечает, что его милость горюет в разлуке с его величеством, а приготовления к интронизации в Йорке идут полным ходом. — Тогда почему он еще не там? Мне кажется, он нарочно медлит. — Генрих пристально смотрит ему в глаза. — А вы верны своему покровителю — этого у вас не отнимешь. — Я видел от кардинала только добро. Почему бы мне не хранить ему верность? — И у вас нет другого господина, кроме кардинала, — говорит король. — Милорд Суффолк спрашивает, откуда вы взялись. Я сказал, что какие-то Кромвели владели землей в Лестершире и Нортгемптоншире. Полагаю, вы потомок незадачливой ветви семейства. — Нет. — Вы можете не знать своих предков. Я велю герольдмейстерам покопаться в вашей родословной. — Ваше величество чрезвычайно добры, но едва ли их ждет успех. Король злится. Этот Кромвель не принял подарок, который ему предложили — родословную, пусть даже самую завалящую. — Милорд кардинал утверждал, что вы сирота и выросли в монастыре. — Очередная его сказка. — Так он мне врал? На лице Генриха сменяются несколько выражений: досада, изумление, тоска по временам, которые не вернуть. — Значит, врал. Он говорил, что из-за этого вам ненавистны монахи. Поэтому вы так усердствуете, исполняя его поручения. — Причина другая. — Он поднимает глаза. — Вы позволите? — Ради Бога! — восклицает Генрих. — Хоть кто-то разговорился! Удивление сменяется пониманием. Генриху не с кем перемолвиться словом. Неважно, о чем, только не о любви, охоте или войне. Теперь, когда Вулси нет рядом, королю не хватает собеседника. Можно послать за священником, но что толку? Все снова сведется к разговорам о любви, об Анне; о том, чего вы так страстно и безнадежно желаете. — Мое суждение о монахах основано не на предубеждении, а на опыте. Не сомневаюсь, есть образцовые монастыри, но я видел в них лишь расточительство и порок. Если ваше величество захочет увидеть парад семи смертных грехов, почтительно советую не устраивать придворную пантомиму, а без предупреждения посетить один из монастырей. Я видел монахов, живущих как знатные лорды, на жалкие гроши бедняков, покупающих благословение вместо хлеба; это недостойно христианина. Или может, монастыри распространяют свет учености? Разве Гросин, Колет, Линакр, другие великие мужи — монахи? Нет, они все из университетов. Монахи берут детей и приставляют к черной работе, не удосуживаясь обучить простейшей латыни. Я не виню обитателей монастырей в плотских излишествах — не весь же век поститься! — но я ненавижу лицемерие, обман и праздность: пыльные мощи, нудные проповеди, косность. Когда из монастырей исходило что-то доброе? Они ничего не создают, лишь веками бубнят одно и то же, да и то чудовищно переврав. Монахи создали то, что принято считать нашей историей, однако я им не верю. Куда вернее, что они замолчали то, что им не нравилось, и оставили то, что выгодно Риму. Король смотрит словно сквозь него, на дальнюю стену. Он ждет. — Собачьи дыры, а? — спрашивает Генрих. Он улыбается. — А что до нашей истории… — говорит король. — Как вам известно, я собираю свидетельства, манускрипты, суждения. Сравниваю наши порядки с порядками, заведенными в соседних государствах. Возможно, вам следует обсудить это с теми учеными джентльменами. Придать направление их усилиям. Поговорите с доктором Кранмером, он знает, что делать. Я найду применение деньгам, каждый год утекающим в Рим. Король Франциск гораздо богаче меня. У него вдесятеро больше подданных. Он сам устанавливает налоги, мне же приходится созывать парламент. Иначе народ бунтует. — И добавляет с горечью. — А когда налоги принимает парламент, народ тоже бунтует. — Не советую вам подражать Франциску, — говорит он. — У него на уме война, а не торговля. Генрих слабо улыбается. — Вы можете не соглашаться, но, по моему разумению, король должен воевать. — Чем оживленнее торговля, тем больше налогов в казне. А если налоги не платят, король всегда может употребить власть. Генрих кивает. — Хорошо, начните с колледжей. Обсудите вопрос с моими поверенными. Гарри Норрис готов проводить его из королевских покоев. Говорит без обычной своей улыбки: — Не хотел бы я быть его сборщиком налогов. Вот так всегда, досадует Кромвель, свидетелем важнейшего события в моей жизни стал Генри Норрис! — Король казнил соратников своего отца. Эмпсона, Дадли.[37] Не кардинал ли получил дом, конфискованный у кого-то из них? Паук выбегает из-под табурета, неся нужный факт. — Дом Эмпсона на Флит-стрит. Пожалован девятого октября, в первый год нынешнего правления. — Нынешнего славного правления, — говорит Норрис, словно внося поправку.
В начале лета Грегори исполняется пятнадцать Он отменно сидит в седле, учителя фехтования им не нахвалятся. Его греческий… что ж, его греческий оставляет желать лучшего. У Грегори затруднение. — В Кембридже смеются над моими собаками. — Смеются? Пару черных борзых трудно не заметить. У них изящные мускулистые шеи и тонкие лапы; добрые серьезные глаза опущены в землю, когда собаки берут след. — Говорят, зачем ты завел собак, от которых добрым людям одно беспокойство? Таких увидишь в темноте — не уснешь. Твои собаки впору какому-нибудь извергу. Говорят, я незаконно охочусь с ними в лесу. На барсуков, как мужлан. — А каких ты хочешь? Белых, с пятнами? — Мне все равно. — Я заберу этих. Мне недосуг с ними возиться, а Ричарду или Рейфу на что-нибудь сгодятся. — А ты не боишься насмешек? — Полно, Грегори, это же твой отец! — говорит Джоанна. — Никто не посмеет над ним смеяться. Когда идет дождь и нельзя охотиться, Грегори углубляется в «Золотую легенду». Ему нравятся жития святых. — Что-то из написанного правда, — рассуждает сын, — что-то выдумка. Грегори читает «Смерть Артура». Издание новое, все сгрудились вокруг и рассматривают титульную страницу. «Здесь начинается первая история, повествующая о достославном и благородном владыке короле Артуре, некогда правившем великой Британией…» На переднем плане две влюбленные пары. Всадник на гарцующем жеребце, на всаднике сумасбродная шляпа в форме свернувшейся кольцами змеи. Алиса спрашивает, а вы, сэр, в юности носили такие шляпы? Только мои были побольше, и притом разных цветов на каждый день недели, отвечает Кромвель. Из-за спины всадника выглядывает дама. — Это не с леди Анны рисовали? — спрашивает Грегори. — Говорят, король не хочет с нею разлучаться, вот и сажает себе за спину, словно крестьянку. У женщины на картинке круглые глаза, должно быть, бедняжку укачало. Определенно, это леди Анна. Вдали нарисован маленький, не выше всадника, замок с перекинутой через ров дощечкой, изображающей подъемный мост. Вокруг, словно летающие кинжалы, снуют птицы. — Наш король происходит от Артура, — говорит Грегори. — А король Артур на самом деле не умер, он ждет своего часа в лесу, или нет, в озере. Ему несколько веков от роду. А еще есть Мерлин, колдун. Он появится позже, увидите. Тут двадцать одна глава. Если дождь не перестанет, дочитаю до конца. Что-то из написанного правда, что-то — выдумка, но все истории хороши.
В следующий раз его призывают ко двору, чтобы передать Вулси послание короля. Бретонский купец, чье судно было захвачено англичанами восемь лет назад, жалуется, что не получил возмещения. Бумаги как сквозь землю провалились. Делом купца занимался Вулси, возможно, кардинал что-нибудь вспомнит? — Еще бы не помнить, — кивает Кромвель. — Не там ли вместо балласта лежал жемчуг, а трюмы были забиты рогами единорогов? Упаси Боже, причитает Чарльз Брэндон, но Генрих смеется: — Там-там! — Если есть сомнения в сумме возмещения или в праве бретонца, я могу посмотреть. — Не уверен, что у вас есть право обращения в суд по этому делу. Тут за него вступается Брэндон, давая неожиданную характеристику: — Позвольте ему, Гарри. Когда этот малый разберется с бретонцем, окажется, что тот нам кругом должен. Герцоги не чета простым смертным. Они одаряют вас своей милостью, но не ради того, чтобы наслаждаться вашим обществом — им нужен собственный двор, состоящий из людей, целиком от них зависящих. Ради удовольствия герцог предпочтет общаться с псарем, а не со своим знатным собратом. Он целый час дружески беседует с Брэндоном, обсуждая стати его собак. Сейчас не сезон охоты на оленя, и гончих откармливают как на убой. Их звонкий лай далеко раздается в вечернем воздухе, в то время как собаки-следопыты — молчаливые, как учили, — встают на задние лапы и, пуская слюни, завистливо смотрят на соседей, опустошающих свои миски. Мальчишки-псари тащат корзины с хлебом и костями, бадьи с потрохами и миски с похлебкой. Чарльз Брэндон шумно принюхивается, словно вдовствующая герцогиня среди розовых кустов. Псарь выкликает лучшую суку — белую с каштановыми пятнами четырехлетку Барбаду — берет ее за холку и оттягивает веко: зрачок затянут прозрачной пленкой. Убивать суку жалко, а проку от нее никакого. Он, Кромвель, берет собаку за подбородок. — Пленку можно снять иголкой с кривым острием. Я видел такую. Нужно проворство и твердая рука. Вряд ли это придется ей по душе, но все лучше, чем слепота. Он проводит ладонью по ребрам суки, чувствуя, как заходится звериное сердечко. — Игла должна быть очень острой. Вот такой длины. — Он разводит большой и указательный пальцы. — Я сам объясню кузнецу. — Да вы полезный малый, — косится Брэндон и отводит его в сторону. — Загвоздка в моей жене, — начинает герцог. Он молчит. — Я всегда исполнял любые желания Генриха, всегда был ему верен. Даже когда он грозился отрубить мне голову из-за женитьбы на его сестре. А сейчас я в растерянности. Екатерина — законная королева. Моя жена ее близкая подруга. И вот начинаются эти разговоры, я отдам за нее жизнь, и прочее в том же духе. А тут еще племянница Норфолка! Моя жена — бывшая королева Франции, а ее ставят ниже этой выскочки. Разве можно такое стерпеть? Понимаете? Он кивает. Понимает. — Кроме того, — продолжает герцог, — я слышал, Уайетт на пути из Кале. И что с того? — Должен ли я сказать ему? В смысле Генриху. Бедняга. — Милорд, не вмешивайтесь, — говорит Кромвель. Герцог погружается в то, что у другого человека называлось бы мыслями.
Лето. Генрих охотится. Хочешь застать короля — изволь сначала догнать, нужен ему — снова в путь. Генриху не сидится на месте: то гостит у друзей в Уилтшире, Сассексе и Кенте, то останавливается в своих дворцах, то в именьях, отобранных у кардинала. Даже теперь, если королю случается охотиться в обширных угодьях, где оленей выгоняют прямо на лучников, отважная маленькая королева иногда выезжает с луком и стрелами. В отсутствие королевы охотится леди Анна: она обожает погоню. Однако настает пора, когда мужчины оставляют дам, чтобы затеряться в лесах. Загонщики и своры; пробуждение в рассветной дымке; охотники сговариваются; зверь поднят, охота началась. Никогда не знаешь, где и когда закончится день. Ничего-ничего, смеется Гарри Норрис, если он и дальше будет вас привечать, скоро наступит и ваш черед, мастер Кромвель. Мой вам совет: с утра, как только выедете, ищите подходящую канаву, нарисуйте ее в своем воображении. А когда король загонит трех добрых коней, а рог затрубит снова, вы будете мечтать лишь о том, как отлежаться на прелых листьях, в прохладной стоячей воде. Он смотрит на Норриса: о, какое самоуничижение. Ты был с моим кардиналом в Патни, когда тот стоял на коленях в грязи. Не ты ли разболтал об этом двору, миру, недоумкам из Грейз-инн? Ибо если не ты, то кто? Случается, охотясь в лесу, внезапно обнаруживаешь, что оторвался отшумной толпы и стоишь на берегу реки, которую забыли нанести на карту. Добычи след простыл, но тебе и дела нет. Там можно встретить гнома, живого Христа или заклятого врага. Или нового врага, о чьем присутствии не подозреваешь, пока его лицо не появится среди шуршащих листьев, а в руке не сверкнет кинжал. Можно увидеть женщину, спокойно спящую на ложе из листьев. И на миг — пока не узнаешь ее — почудится, будто встретил старую знакомую.
В Остин-фрайарз непросто остаться одному или вдвоем — с той, о ком думаешь. Каждая буква алфавита следит за тобой. В конторе трудится юный Томас Авери, счетовод, которому ты поручил следить за домашними расходами. Посреди алфавита в саду возникает Марлинспайк, оглядывающий свои угодья острыми золотистыми глазами. Ближе к концу алфавита появляется Томас Риотеслей, или Ризли, — смышленый молодой человек лет двадцати пяти со связями. Сын члена йоркской геральдической палаты, племянник герольдмейстера ордена Подвязки. В свите Вулси трудился под твоим началом, после — у Гардинера. Ныне делит время между двором и Остин-фрайарз. Дети — Ричард и Рейф — уверяют, что Ризли шпионит для королевского секретаря. Мастер Ризли высок и рыжеволос, однако лишен склонности рыжих розоветь от удовольствия, а в гневе покрываться пятнами, как свойственно королю. Всегда бледен и холоден, всегда собран и статен. В Тринити-холл блистал в студенческих пьесах и по сию пору сохранил некоторую нарочитость манер; знает себе цену. Ричард и Рейф дразнят его за спиной: «Меня зовут Ри-о-тес-лей, но, чтобы вам не утруждаться, можно просто Ризли». Они уверяют, что он намеренно удлинил себе имя, чтобы изводить наши чернила, а вот Гардинер — известный нелюбовью к длинным именам, — не мудрствуя, укорачивает его до Ли. Довольные своей шуткой, завидев мистера Ризли, они кричат: «Кто там? Ты ли?» Пощадите мистера Ризли, урезонивает Кромвель насмешников. Выпускник Кембриджа заслуживает вашего уважения. Ему хочется спросить их, Ричард, Рейф, мастер Риотеслей-зовите-меня-Ризли, похож я на убийцу? Один мальчишка уверяет, что да. Этим летом потовая лихорадка обходит город стороной. Лондонцы на коленях возносят благодарственные молитвы. На Иванов день костры жгут всю ночь, а на рассвете с полей приносят белые лилии. Юные дочери дрожащими пальчиками сплетают увядшие бутоны в венки, чтобы прибить их на городские ворота и двери домов. Та девушка и сама как белый цветок; кроткая фрейлина леди Анны, что строила ему глазки у двери. Следовало бы узнать ее имя, но он не удосужился, выпытывая секреты у Марии. В следующий раз… но что проку об этом думать? Наверняка она из знатной семьи. Нужно написать Грегори, что встретил редкую девушку. Вот узнаю, кто она, и через несколько лет — если буду благоразумен и осторожен в делах — женю тебя на ней. Ничего такого он Грегори не пишет. В его нынешнем шатком положении в подобных мечтах не больше смысла, чем в посланиях сына: «Дорогой отец, надеюсь, ты здоров. Надеюсь, твоя собака здорова. На сем за недостатком времени заканчиваю».
Лорд-канцлер приглашает: — Загляните ко мне, поговорим о колледжах Вулси. Король не оставит бедных ученых. Приходите, пока жара не сожгла розы. Оцените мой новый ковер. Душный серый день. Барка королевского секретаря уже у причала, тюдоровский стяг висит в знойном воздухе. Новый фасад красного кирпича обращен к реке. Мимо тутовых деревьев он шагает к двери. В галерее под жимолостью стоит Стивен Гардинер. В Челси полно мелкой домашней живности, и, подойдя ближе, он видит на руках у лорда-канцлера Англии ушастого снежно-белого кролика. Вислоухий замер: ни дать ни взять рукавички из горностая. — Ваш зять Ропер дома? — спрашивает Гардинер. — Нет? Жаль. А я приготовился наблюдать, как он в очередной раз сменит веру. — Прогуляемся по саду? — предлагает Мор. — Как прежде: сел бы за стол сторонником Лютера, а к десерту — смородине и крыжовнику — благополучно вернулся бы в лоно церкви. — Ропер отныне тверд в вере Рима и Англии, — говорит Мор. — Да и ягода в этом году не уродилась, — роняет Кромвель. Мор косится на него, улыбается. Пока они идут к дому, хозяин развлекает гостей разговорами. За ними вприпрыжку бежит Генри Паттинсон, слуга Мора, которого тот порой называет своим шутом и которому многое позволяется. Паттинсон — известный задира. Шут всегда уязвим перед миром, но в случае Паттинсона скорее мир нуждается в защите. Так ли Паттинсон прост, каким кажется? Мор хитер, ему нравится смущать людей. Держать в шутах умника — как раз по нему. Считается, что Паттинсон свалился с колокольни и повредил голову. На поясе слуга носит шнурок с узелками, который иногда зовет четками, иногда — плетью. А иной раз уверяет, что веревка удерживает его от падения. Со стены взирает на гостей семья лорда-канцлера. Прежде чем узреть семейство во плоти, вы видите их изображения в полный рост. Мор дает гостям время: пусть разглядят домочадцев, свыкнутся с их обликом. Любимица Мэг сидит у ног отца с книгой на коленях. Вокруг лорда-канцлера в свободных позах расположились: сын Джон; Энн Крезакр, воспитанница, жена Джона; Маргарет Гиггс, еще одна подопечная Мора; престарелый отец сэр Джон Мор; дочери Сесиль и Элизабет; Паттинсон таращится прямо на зрителя; жена Алиса, с крестом на шее, склоняет голову у самого края картины. Мастер Гольбейн расположил их в таком порядке по велению заказчика, сохранив для вечности, пока моль, пламя, плесень или сырость не пожрут холст. В жизни хозяин дома выглядит куда потрепаннее, чем на картине, закрадывается мысль о смазанных красках; дома Мор ходит в простой шерстяной мантии. Новый ковер для лучшего обзора разложен на двух трехногих скамьях. Фон не красный, а розоватый, но это не корень марены, скорее, алый краситель, смешанный с сывороткой. — Милорд кардинал любит турецкие ковры, — бормочет Кромвель. — Однажды дож прислал ему шестьдесят штук. Мягкая шерсть горных баранов, ни один из них не был черен. Там, где узор потемнее, заметно, что шерсть прокрашена неоднородно, и в дальнейшем ковер вылезет именно тут. Он отворачивает край, опытным глазом прикидывает плотность узелков. — Узел гордесский, а узор определенно из Пергама: восьмиконечные звезды внутри восьмиугольников. Он расправляет ковер, отходит, смотрит издали — видите, вот тут — делает шаг назад, осторожно кладет руку на изъян, кривоватый ромб. В худшем случае, этот ковер сшили из двух. В лучшем — соткали сельские Паттинсоны или в прошлом году изготовили где-нибудь в подворотне венецианские невольники. Хорошо бы всю изнанку разглядеть. — Неужто я попал впросак? — интересуется Мор. Великолепный ковер, говорит Кромвель вслух, не желая портить хозяину удовольствие, но в следующий раз, замечает про себя, когда надумаете покупать ковры, возьмите с собой меня. Рука скользит по мягкой и плотной поверхности, изъян почти незаметен. Кажется, турецкий, но присягать не стану. Люди делятся на тех, кто не способен смириться с малейшим изъяном, и тех, кто готов стерпеть отступление от правил. Он принадлежит и к тем, и к другим. Никогда не допустит небрежности в договоре, однако иной раз нарочно не станет придираться к мелочам. Договоры, иски, соглашения пишутся, чтобы их читали, но каждый читает в свете собственных интересов. — Что скажете, джентльмены? — спрашивает Мор. — На пол ли на стену? — На пол. — Томас, нельзя же быть таким расточительным! Они смеются, словно закадычные приятели. Идут к птичнику и стоят там, увлеченные разговором, под свист порхающих зябликов. Мимо под присмотром матроны в фартуке ковыляет младенец: внук или внучка. Кроха тянется к зябликам, радостно гугукает, хлопает в ладоши, но тут глазки останавливаются на Стивене Гардинере, и детский ротик кривится. Нянька хватает готового зареветь младенца в охапку. И откуда у вас такая власть над юными душами, спрашивает Кромвель. Стивен в ответ смотрит волком. Мор берет его под руку. — Так вот, насчет колледжей. Я разговаривал с королем, да и королевский секретарь меня поддержал, не сомневайтесь. Король заново учредит кардинальский колледж под своим именем, а вот с Ипсвичем, похоже, придется проститься. Сами посудите, Ипсвич… Простите, что говорю это, Томас, но что такое Ипсвич? Родина человека, ныне впавшего в немилость, не более… — Бедные школяры. — Да, не спорю. Что ж, не пора ли отужинать?
За столом в парадном покое разговор ведется на латыни. Нужды нет, что хозяйка, жена Мора Алиса, не понимает ни слова. Перед едой ради спасения души заведено читать Писание. — Сегодня очередь Мэг, — говорит Мор. Хочет похвастать своей любимицей. Мэг берет книгу, целует ее и, не обращая внимания на бормотание дурака, читает по-гречески. Гардинер сидит зажмурясь: выражение лица совсем не благостное, скорее сердитое. Кромвель разглядывает Маргарет. На вид ей лет двадцать пять. Узкое подвижное лицо, словно лисья мордочка, как у той лисички, которую Мор приручил, однако на всякий случай держит в клетке. Входят слуги, под взглядом хозяйки расставляют блюда: сюда, мадам? Семейство на картине не нуждается в слугах, они существуют сами по себе. — Прошу вас, ешьте, — приглашает Мор. — Все, кроме Алисы, она и так скоро в корсет не влезет. При звуке своего имени жена поворачивает голову. — Обычно это выражение мучительного недоумения ей не свойственно, — говорит Мор. — Все оттого, что она высоко зачесала волосы, да еще и заколола костяным гребнем. Ей кажется, что у нее слишком низкий лоб, что соответствует истине. Эх, Алиса, Алиса, и как только меня угораздило на тебе жениться! — Вам нужна была хозяйка в доме, отец, — тихо говорит Мэг. — Верно, — соглашается Мор. — Ибо одного взгляда на Алису хватит, чтобы исключить всякие мысли о вожделении. Кромвеля одолевает ощущение странности происходящего, словно время петляет или попалось в силки: он уже разглядывал домочадцев Мора на стене — так, как увековечил их Ганс, — и сейчас они играют себя, натянув на лица выражения отчужденности, довольства, печали, любезности: счастливое семейство. На стене хозяин дома нравится ему больше: там Томас Мор размышляет, о чем — неведомо, но так и должно быть. Художник расположил их столь искусно, что на картине не осталось пространства для чужаков. Чужак может просочиться в картину лишь в виде пятна или кляксы. Вот Гардинер — чем не клякса? Королевский секретарь трясет длинными рукавами, яростно споря с хозяином. Что имел в виду апостол Павел, сказав, что Иисус немного был унижен пред Ангелами? Шутят ли голландцы? Каков истинный герб наследника Норфолка? Уж не гром ли это вдали, или жара никогда не спадет? Как и на картине, Алиса держит на коленях обезьянку на золотой цепочке. На стене обезьянка теребит юбку. В жизни зверек припал к хозяйке, словно малое дитя. Иногда она наклоняет голову, и они разговаривают на неведомом остальным языке. Мор не пьет, но гостям предлагает вино. Несколько перемен, блюда не отличить одно от другого: мясо под соусом, словно ил с песком из Темзы; сладкая простокваша, сыр, которые делала одна из дочерей, племянниц, воспитанниц — кто-то из женщин, которыми населен дом. — Женщин следует приставить к делу, — рассуждает хозяин. — Не могут же они все дни просиживать над книгами! А молодые женщины больше прочих склонны к праздности и непослушанию. — Дай им только волю, — бормочет себе под нос Кромвель, — и вовсе начнут драться на улицах. Он с неодобрением разглядывает сыр: помятый и дрожащий, словно физиономия мальчишки-конюха наутро после гулянки. — Генри Паттинсон сегодня слишком возбужден, — говорит Мор. — Ему не помешало бы кровопускание. Надеюсь, его не перекармливают. — На сей счет я бы не обольщался, — говорит Гардинер. Престарелый Джон Мор, которому стукнуло восемьдесят, выходит к столу. Из почтения к его сединам разговор за столом умолкает — старик и сам не прочь поболтать: — Слыхали про Хемфри, герцога Глостерского, и нищего, притворившегося слепцом? А про человека, который не подозревал, что Мария была еврейка? Даже со скидкой на старческое слабоумие Кромвель ожидал большего от прославленного судьи. Тем временем старик переходит к анекдотам о женской глупости и причудах, каковых знает великое множество. А когда старый Мор начинает клевать носом, тему подхватывает его сын, знающий их куда больше. Леди Алиса хмурится. Гардинер, который слышит все это не в первый раз, скрежещет зубами. — Вот, моя невестка Энн, — начинает Мор. Молодая женщина, стесняясь, опускает глаза. — Энн страстно мечтает — могу я рассказать им, милая? — о жемчужном ожерелье. Все уши прожужжала, ну, вы знаете этих трещоток. Вообразите, что сделалось с Энн, когда я дал ей коробку, внутри которой что-то бренчало. А теперь вообразите ее лицо, когда Энн открыла коробку. И что же было внутри? Сухие горошины! Энн глубоко вздыхает, поднимает глаза — видно, каких усилий ей это стоит, — и говорит: — Отец, не забудьте рассказать про женщину, которая не верила, что Земля круглая. — Как же, отличная история! — подхватывает Мор. Алиса смотрит на мужа с болезненной озабоченностью. А эта и до сих пор не верит, думает он. После ужина разговор заходит о нечестивом короле Ричарде. Много лет назад Томас Мор начал о нем книгу, но, так и не выбрав между латынью и английским, начал писать на обоих. До сих пор не закончил и не напечатал свой труд. Ричард был рожден для зла, говорит Мор, печать проклятья лежала на нем с рождения. Кромвель качает головой. — Зов крови. Королевские игрища. — Темные времена, — вставляет дурак. — Пусть же они никогда не вернутся. — Аминь. — Дурак указывает на гостей. — И эти пусть тоже не возвращаются. В Лондоне судачат, что в исчезновении двух мальчиков, которым не суждено было выйти из Тауэра, замешан Джон Говард, дед нынешнего герцога Норфолка. Лондонцы говорят — а лондонцы знают, что говорят, — будто в последний раз принцев видели живыми в его стражу. А вот Томас Мор считает, что ключи убийцам отдал комендант Тауэра Брэкенбери. Но Брэкенбери погиб на Босвортском поле и не может защитить себя из могилы. На деле Мор дружен с нынешним Норфолком и спешит опровергнуть слухи, будто предок Томаса Говарда помог кому-то исчезнуть с лица земли — тем более двум королевским отпрыскам. Кромвель видит словно наяву нынешнего герцога: на одной руке бессильно обвисшее детское тельце, копна золотистых волос, кровь капает на землю; в другой руке герцог сжимает кинжал, вроде столового ножа для мяса. Он отгоняет фантазию. Гардинер тычет пальцем в воздух, склоняет лорда-канцлера к своей точке зрения. Причитания и стоны дурака становятся невыносимы. — Отец, — просит Маргарет, — отошли Генри. Мор встает, хватает Генри за руку. Все глаза прикованы к ним. Гардинер спешит воспользоваться затишьем, наклоняется над столом и тихо спрашивает по-английски: — Мастер Ризли. Напомните мне. Он работает на вас или на меня? — Я думал, на вас. Сейчас он хранитель малой печати, а значит, в подчинении у королевского секретаря, не так ли? — Тогда почему он вечно пропадает у вас в доме? — Он не подмастерье. Захочет — приходит, захочет — уходит. — Думаю, он устал от священников. Хочет научиться чему-нибудь от… как вы себя нынче зовете? — Человеком дела, — отвечает Кромвель просто. — Герцог Норфолк как-то сказал, что я держусь так, будто со мною должны считаться. — У мастера Ризли глаз наметан на выгоду. — Надеюсь, не у него одного. Иначе зачем Господь даровал нам глаза? — Он хочет разбогатеть. Всем известно, что у вас деньги так и липнут к рукам. Словно тля к хозяйским розам. — Увы, — вздыхает он. — Не липнут, а утекают. Вы же знаете, Стивен, как я расточителен. Покажите мне ковер, и я тут же влезу на него с ногами. Дурака выбранили и прогнали. Мор возвращается к столу. — Алиса, я предупреждал насчет вина. У тебя нос стал багровым. На застывшем лице жены испуг и досада. Юные дамы, которые понимают по-латыни, опускают головы, принимаются изучать собственные руки, теребить кольца, подставляя камни к свету. Затем что-то шлепается об стол, и Энн Крезакр, вынужденная перейти на родной язык, восклицает: — Генри, прекрати! Комнату опоясывает галерея с окнами в нишах. Высунувшись из окна, дурак швыряет в них сухими корками. — Не пугайтесь, хозяин! — кричит Паттинсон. — Это сам Господь на вас сыплется! Дурак попадает в старика, который от неожиданности вздрагивает и просыпается. Сэр Джон растерянно обводит сидящих взглядом; салфеткой вытирает с подбородка слюну. — Эй, Генри! — кричит Мор. — Ты разбудил моего отца. А еще ты богохульствуешь и переводишь хлеб! — Да выпороть его, вот и все, — бурчит Алиса. Кромвель оглядывает собравшихся со странным чувством, которое принимает за жалость; словно сильный удар за грудиной. Он верит, что Алиса женщина добросердечная, и продолжает верить, даже когда, получив дозволение, благодарит хозяйку дома по-английски, а та неожиданно выпаливает: — Томас Кромвель, почему вы не женитесь? — Не берут, леди Алиса. — Глупости! Ваш хозяин впал в немилость, но вы-то сами не обеднели. Денежки за границей, дом в городе. Король вас жалует, муж врать не станет. А мои товарки судачат, что и по мужской части вы не промах. — Алиса! — восклицает Мор. Улыбаясь, он сжимает и трясет запястье жены. Гардинер смеется: басовитый хохот звучит глухо, словно из подземелья. Когда они подходят к барке королевского секретаря, на них веет душным ароматом садов. — Мор ложится в девять, — замечает Стивен. — С Алисой? — Говорят, что нет. — Завели в доме шпиона? Стивен не удостаивает его ответом. В сумерках на воде пляшут огоньки. — Господи, как я голоден! — жалуется королевский секретарь. — Надо было прихватить пару корок или стянуть белого кролика. Я готов проглотить его сырым. — Думаю, Мор не позволяет себе быть простым и понятным. — Еще бы. — Гардинер съеживается под балдахином, будто мерзнет. — Однако всем вокруг известны его взгляды, которые он готов отстаивать до конца. Принимая должность, Мор заявил, что не станет заниматься королевским разводом, и король уступил, вот только надолго ли хватит его уступчивости? — Я говорил не о короле, а об Алисе. Гардинер смеется. — По правде сказать, если бы она понимала, что он про нее говорит, то велела бы кухарке ощипать и зажарить муженька! — А если она умрет? Он о ней пожалеет? — Женится, не успеет остыть тело. Найдет кого-нибудь еще уродливее. Кромвель размышляет: тут возможно пари. — Эта юная особа, Энн Крезакр. Она ведь наследница, сирота. — Кажется, с ней связан какой-то скандал. — После смерти отца соседи похитили ее, чтобы выдать замуж за сына. Юнец изнасиловал девочку. Ей было тринадцать. В Йоркшире. Милорд кардинал был в ярости, когда узнал. Желая защитить Энн, он отдал ее под опеку Мору. — Здесь ей ничто не угрожает. Кроме унижений. — С тех пор как сын Мора на ней женился, он живет за счет ее поместий. Земля приносит ей сотню в год. Энн может позволить себе нитку жемчуга — и не одну. — Вам не кажется, что Мор недоволен сыном? Юноша совершенно непригоден к делам. Впрочем, говорят, ваш отпрыск тоже не блещет талантами. Скоро и вам придется подыскивать подходящую наследницу. Кромвель не отвечает. Все так. Джон Мор, Грегори Кромвель. Что сделали мы для сыновей? Вырастили праздных джентльменов, но кто упрекнет нас в том, что мы хотели для них легкой жизни, которой не знали сами? Мор, конечно, великий труженик — в этом ему не откажешь. Вечно читает, пишет, говорит о том, что считает важным для христианского сообщества. — Впрочем, вы еще можете завести сыновей, — говорит Стивен. — Неужели вы не задумывались о новом браке, как советует Алиса? Она весьма высокого мнения о ваших достоинствах. Ему становится страшно. Как в случае с Марком: люди воображают то, чего не могут знать наверняка. Он уверен, про них с Джоанной никто не догадывается. — А вы сами не подумывали о женитьбе? От воды тянет сыростью. — Я священник. — Бросьте, Стивен. У вас должны быть женщины, разве нет? Молчание так оглушительно и тянется так долго, что становится слышно, как весла опускаются в Темзу и с плеском поднимаются вверх. Слышно даже, как с них стекает вода. С южного берега доносится собачий лай. — У вас в Патни все такие назойливые? — спрашивает королевский секретарь. Молчание тянется до Вестминстера. Впрочем, могло быть и хуже. Высаживаясь на берег, Кромвель замечает, что ж, по крайней мере мы избежали соблазна выбросить друг друга за борт. — Я подожду, пока вода станет похолоднее, — говорит Гардинер. — И позабочусь привязать груз. Не ровен час всплывете. Кстати, чего ради я потащил вас в Вестминстер? — Мне нужно к леди Анне. Гардинер взбешен. — Вы ничего не сказали. — Я что, обязан сообщать вам о своих планах? Очевидно, что Гардинер не отказался бы узнать о них побольше. Ходят слухи, король недоволен советом. — Кардинал в одиночку справлялся с тем, с чем вы не справляетесь все вместе! — кричит на советников Генрих. Если милорд кардинал вернется — кто знает, какая прихоть придет в голову королю? Вам не жить, Норфолк, Гардинер, Мор. Вулси милостив, но всему есть предел.
Сегодня дежурит Мэри Шелтон; фрейлина поднимает глаза и жеманно улыбается. Анна хороша в ночной рубашке черного шелка, волосы распущены, изящные босые ножки обуты в домашние туфли тончайшей кожи. Она падает в кресло, словно прошедший день забрал все силы, но взгляд по-прежнему остер и враждебен. — Где вы были? — В Утопии. — Вот как! — Анна оживляется. — И как там? — Весь ужин на коленях у леди Алисы сидела маленькая обезьянка. — Ненавижу их. — Я знаю. Он ходит по комнате. Обычно Анна держится с ним ровно, но иной раз ей приходит охота взбрыкнуть, изобразить будущую королеву, и тогда она ставит его на место. Сейчас Анна рассматривает мыски своих домашних туфель. — Говорят, Томас Мор состоит в связи с собственной дочерью. — Возможно. Анна хихикает. — Она хороша собой? — Нет, но весьма образована. — Обо мне говорили? — Они никогда вас не упоминают. Много б я дал, чтобы услышать Алисин приговор, думает он. — О чем же тогда говорили? — О женских глупостях и пороках. — Вы так дурно думаете о женщинах? Впрочем, вы правы. Большинство женщин глупы. И порочны. Мне ли не знать — я так долго среди них живу. — Норфолк и милорд ваш отец с утра до ночи принимают послов. Французский, венецианский, императорский — и это лишь за два дня! Готовят ловушку для моего кардинала. — Значит, у вас все-таки есть средства для сбора точных сведений. А говорят, вы потратили на кардинала целую тысячу фунтов. — Я надеюсь их вернуть. Так или иначе. — Те, кто получает доходы с кардинальских земель, должны быть вам благодарны. А разве ваш братец Джордж, лорд Рочфорд, или отец, Томас граф Уилтширский, не стали богаче в результате падения кардинала? Посмотрите, как одевается Джордж, сколько спускает на лошадей и шлюх. Вот только вряд ли я когда-нибудь дождусь благодарности от Болейнов. — Я беру свой процент. Анна смеется. — И дела у вас идут неплохо. — Есть разные способы вести дела… Иногда люди просто делятся со мной тем, что знают. Это предложение. Анна опускает глаза. Она почти согласна войти в число этих людей, но, возможно, не сегодня. — Мой отец говорит, вас не раскусить. Никогда не угадаешь, кому вы служите. Я-то считаю — впрочем, что значит мнение женщины? — что вы сами по себе и действуете в своих интересах. И в этом наше сходство, думает он, но помалкивает. Анна зевает, грациозно, по-кошачьи. — Вы устали, — говорит он. — Я ухожу. Кстати, зачем вы меня звали? — Нам хотелось знать, где вы. — Почему за мною не послал милорд ваш отец? Или ваш брат? Анна поднимает глаза. Несмотря на поздний час, ее улыбка все так же проницательна. — Они не рассчитывают, что вы придете.
Август. В письмах кардинал сетует королю, что его одолевают кредиторы, «и кругом одни лишь беды и горести», но толкуют иное: кардинал дает обеды, приглашая на них местное дворянство; с прежней щедростью творит милостыню, участвует в судебных тяжбах, увещевает заблудших супругов. В июне Зовите-меня-Ризли отбывает в Саутвелл вместе с королевским камергером Уильямом Брертоном. Им нужна подпись кардинала на прошении, которое Генрих намерен послать Папе. Идея принадлежит Норфолку: епископы и пэры Англии просят Климента даровать королю свободу от брачных уз. Прошение содержит также глухие угрозы, но Климента так просто не запугать — в искусстве мутить воду и стравливать врагов папе нет равных. Если верить Ризли, кардинал бодр и здоров, а его строительные работы продвинулись дальше латания дыр и щелей. Вулси нанимает стекольщиков, плотников и жестянщиков. Если милорд кардинал решил проложить водопровод, пиши пропало: он на этом не остановится. Вулси строит не церкви, а башни; поселившись в доме, первым делом составляет план канализации. Скоро начнутся земляные работы, рытье канав и прокладка труб. За трубами последуют фонтаны. Кардинала радостно приветствует народ. — Народ? — переспрашивает Норфолк. — Народу что кардинал, что макака — все едино. Да чтоб он провалился к чертям, этот народ! — А кто тогда будет платить налоги? — спрашивает Кромвель, и Норфолк смотрит с опаской, не понимая, шутка это или упрек. Слухи о кардинальских успехах не радуют его, а пугают. Король простил Вулси, но Генрих помнит обиды, и, возможно, кардиналу еще предстоит ощутить всю тяжесть монаршего гнева. Измыслили сорок четыре обвинения — придумают еще столько же, благо их фантазию ничто не сдерживает. Норфолк и Гардинер о чем-то шепчутся, завидев Кромвеля, умолкают. Ризли ходит за ним по пятам, пишет под его диктовку конфиденциальные письма: королю и кардиналу. Никогда не жалуется на усталость, никогда не ропщет на поздний час. Помнит все, что следует помнить. Даже Рейф ему уступает. Приходит время приобщить девочек к семейному ремеслу. Джоанна сетует, что ее дочка никак не научится шить, и выясняется, что, неуклюже ковыряя ткань иголкой, Джо изобрела мелкие кривые стежки, которые и повторить-то непросто. Он поручает ей зашивать в холстину его письма на север.
Сентябрь 1530-го. Вулси покидает Саутвелл и короткими перегонами движется к Йорку. Эта часть пути становится триумфальным шествием. Со всей округи поглазеть на кардинала стекается народ, люди поджидают его милость на обочинах в надежде, что тот возложит свои исцеляющие руки на детей. Они называют это конфирмацией, но обряд куда древнее. Тысячи приветствуют его, и кардинал молится за всех. — Совет держит Вулси под наблюдением, — бросает Гардинер, стремительно проходя мимо Кромвеля. — Дано указание закрыть порты. — Передайте ему, — говорит Норфолк, — только встречу — сожру живьем, ни хрящика не оставляю. В письме кардиналу Кромвель дословно повторяет: «ни хрящика не оставлю». Ему кажется, он слышит хруст и клацанье герцогских зубов. Второго октября кардинал прибывает в свою резиденцию Кэвуд, в десяти милях от Йорка. Интронизация назначена на седьмое ноября. Ходят слухи, что на следующий день его милость намерен созвать в Йорке собор северного духовенства. Таким способом кардинал заявит о своей независимости; кто-то скажет — неповиновении. Вулси не сообщает о своих планах ни королю, ни престарелому Уорхему, архиепископу Кентерберийскому. Кромвель так и слышит мягкий голос его милости, в котором сквозит легкое удивление, зачем, Томас, зачем им знать? Его призывает Норфолк. Багровый от злобы герцог брызжет слюной, изрыгая проклятия. Норфолк примерял доспехи, и теперь на нем разрозненные части — кираса и задняя юбка — в которых герцог похож на закипающий котел. — Он решил окопаться там? Выкроить королевство себе по размеру? Мало ему кардинальской шапки, нет, этому Томасу — чтоб он сдох! — Вулси, этому мясницкому сыну подавай корону! Кромвель опускает глаза, чтобы герцог не прочел его мысли. Он думает, а ведь из милорда кардинала вышел бы превосходный король: милостивый, учтивый, но и твердый; справедливый, мудрый и проницательный. Его правление могло бы стать золотым веком, его слуги были бы верны до конца; с каким наслаждением правил бы он своим королевством! Он наблюдает, как кипит и плюется герцог. Вот Норфолк оборачивается, с размаху хлопает себя по стальной ляжке, и слезы — боли? чего-то еще? — застят герцогские глаза. — Вы считаете меня бессердечным, Кромвель, но я прекрасно понимаю, сколько вы потеряли. Догадываетесь, о чем я? Никто в Англии не сделал бы столько, сколько вы, для опозоренного и впавшего в немилость. И король так думает. Даже Шапюи, императорский посол, говорит, этот, как бишь там, не могу его осуждать. Жаль, что вы встретили Вулси. Жаль, что не служите мне. — Мы хотим одного, — говорит Кромвель. — Короновать вашу племянницу. Что мешает нам вместе служить этой цели? Норфолк хмыкает. В словечке «вместе» есть что-то вызывающее, неуместное, но герцогу не хватает слов, чтобы объясниться. — Не забывайте свое место. — Я ценю милостивое расположение вашей светлости. — Вот что, Кромвель, приезжайте ко мне в Кенингхолл, поговорите с моей женой. Она сама не знает, чего хочет! Не нравится, видите ли, что я держу дома девку, каково? Я говорю ей, а куда ее девать? Будет лучше, если мне придется выходить из дома на ночь глядя? Скакать куда-то зимой, по скользкой дороге! Я не могу ей этого втолковать, может, вы сумеете? Герцог поспешно добавляет: — Хотя нет, не сейчас… Куда важнее повидать мою племянницу. — Как она? — Анна жаждет крови, — говорит Норфолк. — Она готова скормить кардинальские кишки своим спаниелям, а его руки и ноги прибить к воротам Йорка.
В это хмурое утро глаза Кромвеля устремлены на Анну, однако взгляд различает в полумраке комнаты какое-то смутное движение. — Доктор Кранмер, только что из Рима, — говорит Анна. — Разумеется, ничего хорошего он не привез. Они давние знакомцы. Кранмер время от времени исполнял поручения кардинала — впрочем, эка невидаль! — а сегодня улаживает королевские дела. Они опасливо обнимаются: кембриджский богослов, выскочка из Патни. — Жаль, что вы не преподавали в нашем колледже, я про кардинальский колледж говорю. Его милость всегда о том сокрушался. Мы бы приняли вас со всем возможным почетом. — Думаю, ему хотелось большей определенности, — усмехается Анна. — Со всем уважением к вам, леди Анна, но король почти обещал заново учредить колледж. — Кромвель улыбается. — И, возможно, назвать в вашу честь? На шее Анны висит золотая цепь с крестом. Иногда она принимается ее теребить, спохватывается — и кисти снова ныряют в рукава. Привычка бросается в глаза, люди судачат об уродстве, которое она прячет, однако он подозревает, что это проявление ее скрытности. — Мой дядя Норфолк утверждает, что Вулси обзавелся отрядом в восемьсот бойцов. Говорят, он состоит в переписке с Екатериной. Еще говорят, что скоро Рим выпустит декреталию, обязывающую короля меня оставить. — Крайне неблагоразумно для Рима, — подает голос Кранмер. — Вот именно. Никто не смеет ему указывать. Он простой служка, король Англии или малое дитя? Во Франции подобное невозможно: там священники знают свое место. Как сказал мастер Тиндейл: «Один король, один закон, так установлено Богом во всех земных пределах». Я читала его «Смирение христианина» и даже показала королю некоторые пассажи. Подданный должен беспрекословно повиноваться государю как самому Господу. Папе следует знать свое место. Кранмер с улыбкой смотрит на леди Анну как на сообразительное дитя, которое он обучает грамоте. — Я хочу кое-что вам показать, — говорит Анна, смотрит вбок. — Леди Кэри… — Прошу вас, — пытается возразить Мария, — не стоит придавать этому значения… Анна щелкает пальцами. Мария выходит на свет в сиянии светлых волос. — Дай сюда, — говорит Анна, разворачивает листок бумаги. — Я нашла его в кровати, можете поверить? В ту ночь постель перестилала эта тошнотворная бледная немочь, разумеется, из нее слова не вытянешь, она хнычет, стоит мне только бросить на нее косой взгляд. Так что я понятия не имею, кто это подложил. Она разворачивает рисунок, на нем три фигуры. В центре — король, большой и важный, и, чтобы отмести последние сомнения, с короной на голове. По обеим сторонам от короля две женщины, у левой нет головы. — Это королева, Екатерина, — говорит Анна. — А это я. Анна sans tête.[38] Доктор Кранмер протягивает руку. — Отдайте мне, я порву. Анна комкает бумагу. — Я сама. Это пророчество о том, что королева Англии будет казнена. Но пророчества меня не пугают, и даже если они правдивы, я не отступлюсь. Мария замерла в той позе, в которой Анна ее оставила: ладони сжаты, словно она все еще держит рисунок в руках. Господи, думает Кромвель, убрать бы эту женщину куда-нибудь подальше от остальных Болейнов. Однажды она сделала мне предложение. Я отверг ее. Сделает снова — снова отвергну. Анна отворачивается от света. Щеки ввалились — какой бестелесной она кажется! — но в глазах огонь. — Ainsi sera,[39] — говорит она. — Неважно, чьи это происки. Я все равно его заполучу. На обратном пути они молчат, пока не встречают белокожую девушку, бледную немочь, в руках у нее стопка белья. — А вот и та, что хнычет, — говорит Кромвель. — Так что не советую бросать на нее косые взгляды. — Мастер Кромвель, — говорит девушка, — говорят, зима будет долгой. Пришлите нам еще ваших апельсиновых пирожных. — Давненько я вас не видал… Что делали, где пропадали? — По большей части занималась рукодельем, — говорит она. — Была там, куда пошлют. — На каждый вопрос по отдельности. — Шпионили. Она кивает. — Но похвастать мне нечем. — Не уверен. Вы такая миниатюрная, такая неуловимая. Он хотел сделать ей комплимент. Девушка благодарно щурится. — Я не говорю по-французски. Прошу вас, и вы не говорите. Иначе что я им скажу? — Для кого вы шпионите? — Для братьев. — Знаете доктора Кранмера? — Нет, — отвечает она, не сообразив, что Кромвель представляет своего спутника. — А теперь, — велит он, — назовите ваше имя. — А, ясно. Я дочь Джона Сеймура. Из Вулфхолла. — Я думал, дочери Сеймура состоят при королеве Екатерине, — удивляется он. — Не всегда, не сейчас, я уже говорила, я там, куда пошлют. — Но не там, где вас ценят. — У меня нет выбора. Леди Анна привечает фрейлин королевы, желающих проводить время в ее обществе. — Она поднимает глаза, бледное лицо пунцовеет. — Таких по пальцам пересчитать. Все поднимающиеся семейства нуждаются в сведениях. Король объявил себя холостяком, каждой юной деве есть о чем мечтать, и далеко не все в королевстве ставят на Анну. — Что ж, удачи, — говорит он. — Постараюсь не переходить на французский. — Буду признательна. — Она наклоняет голову. — Доктор Кранмер. Он оборачивается ей вслед, на миг в мозгу рождается подозрение, о рисунке в кровати. Хотя нет, вряд ли. — А вы освоились среди фрейлин, — улыбается доктор Кранмер. — Не совсем. Я не знаю, которая эта из дочерей, их по меньшей мере три. Полагаю, сыновья Сеймура честолюбивы. — Я едва их знаю. — Эдвард вырос при кардинале, толковый малый. Да и Том не так глуп, каким прикидывается. — А их отец? — В Уилтшире. И носа в столицу не кажет. — Счастливец, — вздыхает про себя доктор Кранмер. Радости деревенской жизни. Соблазн, который ему неведом. — Сколько вы прожили в Кембридже до того, как вас призвал король? — Двадцать шесть лет, — с улыбкой отвечает Кранмер. Оба в одежде для верховой езды. — Сегодня в Кембридж? — Ненадолго. Семья, — Кранмер имеет в виду Болейнов, — хочет, чтобы я всегда был под рукой. А вы, мастер Кромвель? — У меня дела. Черными глазками леди Анны сыт не будешь. Конюхи держат лошадей. Из запутанных складок одеяния доктор Кранмер вытаскивает что-то, завернутое в ткань: морковку, аккуратно разрезанную вдоль, разделенное на четвертинки сморщенное яблоко. По-детски озабоченный справедливой дележкой, богослов протягивает ему два ломтика морковки и половинку яблока, остальное скармливает своей лошади. — Вы обязаны Анне Болейн больше, чем вы думаете. Она о вас хорошего мнения. Не уверен, впрочем, что ей хотелось бы видеть вас своим зятем… Лошади тянут шеи, щиплют угощение, благодарно прядая ушами. Редкие мгновения мира — словно благословение. — Начистоту? — спрашивает он. — Разумеется. — Богослов кивает. — Вам правда хочется знать, почему я не согласился перейти в ваш колледж? — Я спросил ради поддержания разговора. — И все же… Мы в Кембридже слышали, сколько вы сделали для его учреждения… студенты и коллеги хвалили вас… от мастера Кромвеля ничто не ускользает. Но говоря откровенно, все эти условия, которыми вы так гордитесь… — Его тон не меняется, оставаясь таким же ровным. — Рыбный подвал. Где погибли студенты… — Не думайте, что милорд кардинал легко это пережил. — Я и не думаю, — говорит Кранмер просто. — Милорд никогда не стал бы уничтожать человека за убеждения. Вам было нечего опасаться. — Не подумайте, что я еретик. Даже в Сорбонне не нашли к чему придраться. — Слабая улыбка. — Возможно… возможно, все дело в том, что душой я принадлежу Кембриджу.
Он спрашивает у Ризли: — Неужто и впрямь такой ортодокс? — Трудно судить. Монахов он точно не жалует. Вы должны поладить. — В колледже Иисуса его любили? — Считали строгим экзаменатором. — Он многое подмечает. Впрочем, уверен в добродетелях Анны. — Кромвель вздыхает. — А мы? Зовите-меня-Ризли фыркает. Недавно женился — на родственнице Гардинера, — но слабый пол не жалует. — Доктор Кранмер кажется мне меланхоликом, — говорит Кромвель. — Есть люди, готовые всю жизнь прожить в затворе. Ризли слегка изгибает красивую бровь. — Он не рассказывал вам о служанке из трактира?
Кромвель угощает Кранмера нежным мясом косули. Ужинают вдвоем, и постепенно, шаг за шагом, он вытягивает из богослова его историю. Спрашивает, откуда тот родом, а когда Кранмер отвечает, все равно вы не знаете, говорит: а вдруг? где меня только не носило. — Если каким-то ветром вас занесло бы в Эслоктон, вряд ли вы бы его запомнили. Стоит отъехать на пятнадцать миль от Ноттингема, тамошние края навсегда выветриваются из головы. Там нет даже церкви; несколько бедных хижин и дом его отца, в котором семья жила в течение трех поколений. — Ваш отец джентльмен? — Разумеется. — Кранмер слегка уязвлен: неужто бывает иначе? — Среди моих родственников Тэмворсы из Линкольншира, Клифтоны из Клифтона, семья Молино, о которой вы наверняка слышали. Или нет? — А земли у вас было много? — Жаль, не захватил с собой счетные книги. — Простите, дельцы все такие… Оценивающий взгляд. Кранмер кивает. — Всего ничего. И я не был старшим сыном. Однако отец дал мне надлежащее воспитание. Научил верховой езде, подарил первый лук, первого сокола. Умер, думает Кромвель, давным-давно умер, но сын до сих пор ищет во тьме отцовскую руку. — В двенадцать меня отослали в школу. Я там страдал. Учитель был суровый. — Только к вам? А к остальным? — По правде сказать, остальные меня заботили мало. Я был слаб, а школьные учителя любят таких мучить. — Почему вы не пожаловались отцу? — Сам себя об этом спрашиваю. Вскоре отец умер. Мне было тринадцать. На следующий год мать отправила меня в Кембридж. Я был счастлив избавиться от розги. Не сказать, чтобы светоч учености горел ярко: восточный ветер его задул. Оксфорд, в особенности колледж Магдалины, где был ваш кардинал, — там были тогда лучшие умы. Если бы вы родились в Патни, думает Кромвель, то каждый день видели бы реку, и воображали, как, постепенно расширяясь, она впадает в море. И даже если вам не суждено было увидеть море, вы представляли бы его по рассказам чужестранцев, приплывших по реке. Вы верили бы, что когда-нибудь и сами непременно попадете туда, где по улицам, вымощенным мрамором, гуляют павлины, где холмы дышат зноем, а ароматы скошенной травы сбивают с ног. Вы мечтали бы о том, что принесут ваши странствия: прикосновении горячей терракоты, ночном небе дальних краев, неведомых цветах и каменном взгляде чуждых святых. Но если вы родились в Эслоктоне, в полях под бескрайним небом, вы можете представить себе лишь Кембридж — в лучшем случае. — Кое-кто из моего колледжа, — смущенно говорит Кранмер, — слышал от кардинала, что ребенком вас похитили пираты. Мгновение Кромвель непонимающе смотрит на богослова, затем растягивает губы в довольной улыбке. — Как же мне не хватает моего господина! Теперь, когда он на севере, некому стало выдумывать обо мне небылицы. — Так это неправда? — удивляется доктор Кранмер. — Видите ли, я сомневался, крещены ли вы. Боялся, что при таких обстоятельствах.. — Эти обстоятельства — выдумка. Иначе пираты раскаялись бы и вернули меня обратно. — Вы были непослушным ребенком? — хмурит брови доктор Кранмер. — Будь мы тогда знакомы, я поколотил бы за вас вашего учителя. На миг гость перестает жевать; впрочем, он и раньше не особо налегал на угощение. А ведь где-то в глубине души Кранмер и вправду готов поверить, что я нехристь, и я бессилен убедить его в обратном. — Скучаете по вашим ученым занятиям? — спрашивает он. — Наверняка ваша жизнь пошла кувырком после того, как король призвал вас на дипломатическую службу и отправил болтаться по бурным морям. — В Бискайском заливе, на обратном пути из Испании, корабль дал течь. Я исповедовал матросов. — Представляю, чего вы наслушались, — смеется Кромвель. — И как они старались перекричать шторм. После рискованного путешествия Кранмер, хотя король остался доволен его миссией, мог вернуться к своим штудиям, если бы, случайно встретив Гардинера, не обронил, что стоит привлечь к королевскому процессуевропейские университеты. Правоведы-каноники оказались бессильны, возможно, пришло время богословов. Почему бы нет, сказал король, приведите ко мне доктора Кранмера и поручите ему заняться моим разводом. Ватикан соглашается, впрочем, с оговоркой, весьма забавной для папы, носящего фамилию Медичи: денег богословам не предлагать. Идея Кранмера кажется ему пустой затеей, но Кромвель вспоминает об Анне Болейн, о том, что сказала ее сестра: время идет, а Анна не молодеет. — Допустим, вы соберете сотню ученых из десятка университетов и некоторые заявят, что король прав… — Большинство… — Добавьте еще две сотни — и что с того? Климента не убедить, на него можно лишь надавить. И я не о моральном давлении говорю. — Но мы должны убедить в правоте короля не только Климента! Всю Европу, всех христиан. — Боюсь, вам не убедить христианок. Кранмер опускает глаза. — Я даже жену никогда не мог ни в чем убедить. И не пытался. — Молчание. — Мы оба вдовцы, мастер Кромвель, и если нам предстоит трудиться вместе, не хотелось бы, чтобы вы строили догадки относительно моего брака, или, хуже того, прислушивались к пересудам. Вокруг них сгущается полумрак, и голос рассказчика то сбивается на шепот, то заикается, петляет в темноте. За пределами комнаты дом живет обычной вечерней жизнью: со стуком и скрежетом сдвигают столы; откуда-то доносятся приглушенные возгласы и крики. Но он их не замечает, вслушиваясь в рассказ Кранмера. Джоан, сирота, прислуживала в доме его знакомых. Ни приданого, ни единой родной души. Он ее пожалел. Шепот в обитой деревянными панелями комнате вызывает болотных духов, тревожит мертвых в их могилах: кембриджские сумерки, сырость ползет от низин и топей, лучина горит в пустой подметенной комнате, где они сошлись. Мне оставалось только жениться, говорит доктор Кранмер, да и как мужчине без жены? Из университета пришлось уйти: семейным там не место. Джоан тоже оставила дом, где служила, и, не зная, куда ее пристроить, Кранмер поселил жену в «Дельфине» — заведении, не чужом для него, кое-какие связи — рассказчик опускает глаза — да что скрывать, таверну содержат его родные. — Тут нечего стыдиться. «Дельфин» — приличное место. А, так вы там бывали: и рассказчик закусывает губу. Он изучает доктора Кранмера: его манеру перемаргивать, то, как задумчиво он прикладывает палец к подбородку, живые глаза и бледные молитвенные руки. Джоан не была, понимаете, она не была служанкой в таверне, что бы ни говорили люди, а люди судачат. Она была женой с младенцем в утробе, а он нищим богословом, готовым разделить с нею жизнь в честной бедности, только его замыслам не суждено было осуществиться. Кранмер надеялся найти место секретаря или учителя, зарабатывать на хлеб своим пером, но до этого не дошло. Подумывал уехать из Кембриджа, а возможно, из Англии, да не сложилось. До рождения ребенка Кранмер строил планы, рассчитывая на свои связи; когда Джоан умерла родами, это стало ненужным. — Если бы ребенок выжил, не все еще было бы потеряно. Атак никто не знал, утешать меня по случаю потери жены или поздравлять с возвращением в колледж Иисуса. Я принял сан — что мне оставалось? Всю эту историю: женитьбу, нерожденного ребенка, коллеги сочли своего рода помешательством. Словно я заблудился в лесу, а теперь вернулся домой и должен вычеркнуть все из памяти. — На свете хватает людей холодных, — замечает Кромвель. — Таковы священники, не при вас будь сказано. Разумеется, они такие из лучших побуждений. — Это не было помешательством, не было заблуждением. Мы прожили год, и с тех пор не было дня, чтобы я не о ней думал. Дверь открывается. Алиса принесла свечи. — Ваша дочь? Не желая пускаться в объяснения, он говорит: — Это моя дорогая Алиса. Разве приносить свечи твоя забота? Она приседает, знак почтения священнослужителю. — Нет, но Рейф и остальные хотели узнать, о чем вы так долго разговариваете. Они спрашивают, будете ли вы диктовать письмо кардиналу. Джо не выпускает из рук нитку с иголкой. — Скажи им, что я сам напишу, а завтра с утра отправим. Пусть Джо укладывается. — А мы не собираемся спать. Мы гоняем борзых Грегори по дому и шумим так, что, того и гляди, мертвых разбудим. — Теперь мне понятно, почему вы не хотите ложиться. — Это увлекательно, — говорит Алиса. — У нас манеры судомоек, и никто не возьмет нас замуж. Если бы тетушка Мерси вела себя так, когда была девочкой, ее бы колотили по голове, пока из ушей не пошла бы кровь. — Нам повезло, что мы не застали тех времен. Когда дверь за Алисой закрывается, Кранмер спрашивает: — Вы не порете детей? — Мы пытаемся воспитывать их на собственном примере, как учит Эразм. Впрочем, мы и сами не прочь погонять собак и устроить тарарам, так что даже не знаю, что выйдет из такого воспитания. Улыбнуться гостю или сдержать улыбку? У него есть Грегори, Алиса, Джоанна, малышка Джо, и — где-то в тени, почти незримо — бледная кроха, шпионящая для Болейнов. У него есть соколы в клетках, повинующиеся его голосу. А что есть у этого человека? — Я думаю о королевских советниках, — говорит Кранмер. — Только вообразите, что за люди его окружают! А еще есть кардинал, если после всего милорд от него не отвернется. А если кардинал умрет, останутся черные борзые Грегори, лежать в ногах. — Они умны, ловки, — продолжает Кранмер, — способны добиться своего, но мне кажется — не знаю, согласитесь ли вы, — что они не понимают королевских нужд и начисто лишены совести, доброты. Любви. Милосердия. — Это дает мне надежду на возвращение кардинала. Кранмер всматривается в его лицо: — Боюсь, это невозможно. Долго сдерживаемая ярость и боль рвутся из груди. — Нас пытаются поссорить. Убедить кардинала, что я о нем и думать забыл, забочусь только о собственной выгоде. Что я продался и каждый день хожу на поклон к Анне… — Вы действительно каждый день видитесь с Анной… — Но как иначе быть в курсе событий? Милорд кардинал не знает, не в силах понять, что здесь происходит. — Возможно, вам следует поехать к нему? — тихо спрашивает Кранмер. — Ваш приезд разрушил бы все сомнения. — Поздно. Капкан расставлен на кардинала, и я не смею двинуться с места.
Холодает, перелетные птицы тянутся к югу, а чернокрылые правоведы сбиваются на полях Линкольнз-инн и Грейз-инн к началу судебной сессии. Охотничий сезон, или, во всяком случае, сезон, когда король охотился каждый день, завершается. Что бы ни происходило, какое бы поражение или разочарование вас ни постигло, стоит выехать в поле, и все как рукой снимет. Охотник — создание бесхитростное, привычка жить одним днем делает его простодушным. Под вечер король возвращается домой: тело ломит от усталости, перед глазами чехарда листьев и неба. Нет, он не станет читать бумаги. Горести и заботы отступили и не вернутся, покуда после ужина и вина, смеха и застольных баек он вновь и вновь будет вставать на рассвете и скакать навстречу новому дню. Но зимнего, праздного короля начинает мучить совесть. Гордость Генриха уязвлена, и он готов щедро наградить того, кто избавит его от мук. Бледное осеннее солнце просвечивает сквозь порхающие листья. Они идут к мишеням. Королю нравится делать несколько дел одновременно: беседовать и целиться. — Здесь мы будем наедине, — говорит Генрих, — и я открою вам свои мысли. В действительности их окружает население небольшой деревушки — какого-нибудь Эслоктона. Королям неведомо, что значит остаться одному. Был ли Генрих наедине с собой хоть раз в жизни, пусть лишь в мечтах? «Наедине» означает без многословного и надоедливого Норфолка; без Чарльза Брэндона, которого Генрих, вспылив, прогнал прочь, велев не приближаться ко двору на расстояние в пятьдесят миль. «Наедине» означает с хранителем королевского лука, его помощниками; с королевскими камергерами — избранными, проверенными друзьями. Двое из них спят в ногах королевской кровати, если его величество не разделяет ложе с королевой; а стало быть, вот уже несколько лет. Глядя, как Генрих натягивает тетиву, Кромвель думает, наконец-то я вижу его монаршую стать. Дома и за границей, во времена мира и войны, король стреляет из лука несколько раз в неделю, как полагается истинному англичанину. Распрямившись во весь рост, напрягая сильные мышцы рук, плеч и груди, Генрих посылает трепещущую стрелу в центр мишени. Затем опускает лук: кто-то кидается перемотать королевскую руку, кто-то предлагает стрелы на выбор, согбенный раб подает салфетку, чтобы его величество утер со лба пот, а после поднимает ее с земли. Две стрелы уходят в «молоко», и рассерженный правитель Англии прищелкивает пальцами. Господи, утишь ветер! — С разных сторон мне советуют, — кричит король, — признать свой брак расторгнутым перед лицом христианской Европы и снова жениться, причем как можно скорее. Кромвель ничего не кричит в ответ. — Однако есть другие… — порыв ветра уносит конец фразы по направлению к Европе. — Я из тех других. — Господи Иисусе, скоро я стану евнухом! Думаете, мое терпение безгранично? Кромвель не решается сказать, вы до сих пор женаты. До сих пор разделяете кров и двор, ваша жена по-прежнему занимает свое место по левую руку от вас. Вы уверяете кардинала, что она вам сестра, не жена, но если сегодня ветер или непрошеная слеза помешают вам поразить мишень, вы придете плакаться к Екатерине, ибо перед Анной вы не позволите себе слабости или поражения. Все это время Кромвель наблюдает за королевскими упражнениями. Генрих и ему предлагает лук, что вызывает некоторую панику среди джентльменов, усеявших лужайку и подпирающих деревья, в шелках цвета подгнивших фруктов: багровых, золотистых и фиолетовых. Король стреляет прилично, но назвать его лучником от Бога не повернется язык: прирожденный лучник натягивает тетиву всем телом. Сравнить Генриха с Ричардом Уильямсом, ныне Кромвелем. Его дед ап Эван — вот кто был настоящим мастером. Ему не довелось видеть, как тот стреляет, но он готов держать пари, что мышцы у него были как канаты. Разглядывая короля, он убежден, что его прадедом был не лучник Блейбурн, как гласит легенда, а Ричард, герцог Йоркский. В жилах его деда и матери текла королевская кровь. Генрих стреляет как джентльмен, как любитель, король до кончиков пальцев. А у вас хорошая рука и верный глаз, замечает Генрих. На таком-то расстоянии, пожимает плечами Кромвель. Мы с домочадцами стреляем каждое воскресенье: после проповеди в соборе Святого Павла отправляемся в Мурфилдс, где сражаемся с коллегами по гильдии против мясников и лавочников, а потом вместе обедаем. А еще с виноторговцами соревнуемся. Последние особенно упорны… Генрих живо оборачивается, а что, если в следующее воскресенье я пойду с вами? Что, если я переоденусь? Простолюдинам такое придется по нраву, разве нет? Иногда король должен показать себя своим подданным, не так ли? Будет весело, правда? Вряд ли, думает Кромвель. Он не готов поручиться, но на миг ему кажется, что в глазах Генриха блестит слеза. — Тогда мы обязательно выиграем, — утешает он короля, словно малое дитя. — И виноторговцы заревут, как медведи. Накрапывает, они скрываются под спасительными кронами. Тень падает на лицо Генриха. Нэн грозится уйти от меня, говорит король, твердит, что свет не сошелся на мне клином, что ее молодость проходит.
Норфолк, в страхе, последняя неделя октября 1530 года: — Этот малый, — герцог грубо тычет большим пальцем в Брэндона, вернувшегося ко двору, что неудивительно, — несколько лет назад на турнире чуть не отправил короля на тот свет. Генрих поднял забрало — одному Богу известно, зачем, но такое случается. А он возьми да и направь копье в шлем — трах! — копье раскололось, и осколки прошли в дюйме — только вообразите, в дюйме! — от глаза. Увлекшись показом, Норфолк ушиб правую руку, морщится, но продолжает с прежним пылом: — А вот еще, год назад, Генрих следует за своим соколом, местность с виду ровная, а на деле кругом овраги да ямы — Генрих берет шест, хочет перепрыгнуть канаву… Чертов шест ломается! И вот уже его величество, не удержавшись, падает ничком в грязь, и если бы слуга его оттуда не вытащил, представить страшно, джентльмены, что могло случиться! Один вопрос разрешился. Если король в беде, можно его поднимать. Выуживать из канавы. Или откуда случится. — А если он умрет? — вопрошает Норфолк. — Сгорит в лихорадке, упадет с лошади и сломает шею? Кто тогда? Его бастард Ричмонд? Ничего не имею против, славный малый, да и Анна сказала, надо женить его на моей дочери Мэри. Анна умна, говорит, пусть Говарды будут везде, куда упадет взгляд его величества. Ричмонд устраивает меня во всем, кроме того, что рожден вне брака. Спросите себя, может ли он царствовать? Как Тюдоры добыли корону? По праву рождения? Нет. По праву силы? Именно так! С Божьей помощью они выиграли битву. У старого короля был кулак каких поискать, и большая амбарная книга, куда он записывал обиды. А слышали вы, чтобы он кого-нибудь простил? Да никогда! Вот, господа, пример для правителя. Норфолк поворачивается к слушателям: членам королевского совета, придворным и камергерам; к Генри Норрису, его другу Уильяму Брертону, королевскому секретарю Гардинеру, и неизвестно как затесавшемуся среди знати Томасу Кромвелю. — Старому королю, милостью Божией, наследовали законные сыновья. Но когда Артур умер, Европа встрепенулась, всем хотелось урвать кусочек от Англии. Генриху было тогда всего девять. Если бы старый король не протянул еще немного, войны не миновать. Англией не может править ребенок. А если он еще и незаконнорожденный? Господи, дай мне силы! И снова ноябрь! Слова Норфолка трудно не понять. И смысл последнего восклицания, исторгнутого из самого герцогского сердца, предельно ясен. В прошлом ноябре Говард и Брэндон ворвались в Йоркский дворец, потребовали у кардинала лорд-канцлерскую цепь и вышвырнули Вулси на улицу. Воцаряется молчание, затем кто-то кашляет, кто-то вздыхает, кто-то — Генри Норрис, не иначе, — смеется. Он, он проговорился тогда, больше некому. — У короля есть ребенок, рожденный в браке. Норфолк оборачивается, мгновенно багровея. — Мария? Эта говорящая козявка? — Когда-нибудь она вырастет. — Мы подождем, — говорит Суффолк. — Ей ведь сейчас четырнадцать? — А лицо с наперсток! — Герцог демонстрирует собравшимся палец. — Женщина на английском троне, уму непостижимо! — Ее бабка была королевой Кастилии. — Женщина не может вести армию. — Изабелла смогла. — Кромвель, а вы что тут делаете? — спрашивает герцог. — Господские разговоры слушаете? — Милорд, ваши вопли услышит последний нищий на улице. В Кале. Гардинер оборачивается к нему, заинтересовавшись. — Думаете, Мария может взойти на престол? Кромвель пожимает плечами. — Смотря кто будет ей советовать. За кого ее выдадут. — Пришло время решительных действий. Половина европейских крючкотворов корпит над бумагами Екатерины… Та диспенсация. Эта диспенсация… В английской записано так, в испанской эдак. Плевать. Дело уже не в бумажках. — А из-за чего спешка? — спрашивает Суффолк. — Ваша племянница понесла? — Нет! А хорошо бы. Тогда ему пришлось бы что-то предпринять. — Что? — спрашивает Суффолк. — Понятия не имею. Пожаловать себе дозволение на развод? Шарканье, ворчание, вздохи. Кто-то смотрит на герцога, кто-то — себе под ноги. Все здесь хотят, чтобы желание короля исполнилось. От этого зависит их жизнь и будущее. Он видит впереди их путь: извилистая тропа вьется по равнине, горизонт обманчиво чист, равнину пересекают канавы, нынешний Тюдор — лицо и одежда заляпаны грязью — ловит ртом воздух. — Тот добрый человек, что вытащил короля из канавы, как его звали? — Мастера Кромвеля заботят деяния простолюдинов, — сухо роняет Норфолк. А он и не думал, что они помнят. Однако Норрис говорит: — Я знаю, его звали Эдмунд Моди. Жаль, что не Мадди,[40] говорит Суффолк. Он смеется в голос. Все на него смотрят. День всех святых: как говорит Норфолк, снова ноябрь. Алиса и Джо приходят его проведать, ведя Беллу — нынешнюю Беллу — на розовой шелковой ленте. Он поднимает глаза: чем я могу быть полезен двум юным леди? — Сударь, — начинает Алиса, — уже два года прошло, как умерла тетя Элизабет. Не могли бы вы написать кардиналу, чтобы он попросил папу выпустить ее из чистилища? — А как же твоя тетя Кэт? Твои кузины, мои дочери? Девочки переглядываются. — Нам кажется, они промучились недостаточно долго. Энн Кромвель гордилась, что умеет считать, и хвастала, что учит греческий. А Грейс кичилась своими волосами и врала, будто у нее есть крылья. Нам кажется, им еще рано покидать чистилище. Однако кардинал может и за них заступиться.[41] И кто тянул тебя за язык? Кто не просит, тот не получает. — Вы так много сделали для кардинала, он не откажет. — Алиса пытается увлечь его своей затеей. — Король нынче не жалует кардинала; может, папа к нему расположен? — Говорю вам, — подхватывает Джо, — кардинал пишет папе каждый день. Непонятно, кто только зашивает ему письма. А еще кардинал может послать папе маленький подарочек, вознаграждение за труды. Тетя Мерси сказала, что папа ничего не делает задаром. — Идемте, — говорит Кромвель. Девочки снова переглядываются. В дверях он пропускает их вперед. Лапки Беллы стучат по полу. Джо отпускает поводок, но Белла не обгоняет, держится сзади. Мерси и старшая Джоанна сидят рядком. В комнате висит недоброе молчание. Мерси читает, проговаривая слова про себя. Джоанна уставилась в стену, на коленях вышивка. Мерси закладывает страницу, спрашивает: — Это что, послы явились? — Скажи ей, Джо, — говорит он, — скажи матери то, что сказала мне. Джо хлюпает носом. Алиса берет дело в свои руки. — Мы хотим, чтобы тетю Лиз выпустили из чистилища. — Чему вы их учите? — спрашивает он. Джоанна пожимает плечами. — У взрослых свои убеждения. — Господи, что творится под этой крышей! Дети верят, что папа спускается в ад со связкой ключей! Учитывая, что Ричард отрицает святое причастие… — Что? — удивляется Джоанна. — Что он отрицает? — Ричард прав, — говорит Мерси. — Когда Господь сказал, сие есть тело Мое, Он имел в виду, это символизирует Мое тело. Он не обращал священников в колдунов. — Но Он сказал: сие есть. Не как бы тело, а тело. Иначе выходит, что Господь соврал, а это немыслимо. — Господь может все, — говорит Алиса. — Ах ты, маленькая проказница! — напускается на нее Джоанна. — Если бы моя мама была тут, она бы тебя стукнула. — Без рукоприкладств, — говорит он. И добавляет, — пожалуйста.
Остин-фрайарз — мир в миниатюре. В последние годы он больше напоминает поле битвы, чем семейный очаг, или один из тех биваков, где собрались уцелевшие и в отчаянии взирают на искалеченные тела и погубленные надежды. Однако они по-прежнему под его командой, его последние закаленные в битвах воины. И если они не сгинут в следующей схватке, ему придется учить их хитроумному искусству смотреть в обе стороны: вера и дела житейские, папа и евангельские братья, Екатерина и Анна. Он глядит на ухмыляющуюся Мерси, на Джоанну, которой кровь бросилась в лицо. Отворачивается от Джоанны, гонит прочь мысли — и не только о богословии. — Вы ни в чем не виноваты, — говорит он девочкам. Однако детские лица по-прежнему насуплены, и тогда он решает подсластить пилюлю: — Я хочу сделать тебе подарок, Джо, за то, что сшиваешь мои письма кардиналу.[42] И тебе, Алиса. Повод нам ни к чему. Я подарю вам мартышек. Девочки переглядываются. Джо сражена наповал. — А вы знаете, где их взять? — Знаю. Я был в гостях у лорда-канцлера, его жена держит такую. Эта кроха сидит у нее на коленях и слушает все, что та ей скажет. — Мартышки нынче не в моде, — замечает Алиса. — Тем не менее мы благодарим вас, — говорит Мерси. — Тем не менее мы благодарим вас, — повторяет Алиса. — Но при дворе не держат мартышек с тех пор, как там поселилась леди Анна. Чтобы не отстать от моды, нам бы лучше щенков от Беллы. — Со временем, — говорит он. Не для всех подводных течений, что бурлят в этой комнате, у него есть объяснение. Он подхватывает собаку и уходит к себе, искать деньги для братца Джорджа Рочфорда. Сажает Беллу на стол, подремать среди бумаг. Белла сосет конец ленты, пытается незаметно стянуть ее с шеи.
Первого ноября тысяча пятьсот тридцатого года Гарри Перси, юному графу Нортумберлендскому, даны полномочия на арест кардинала. Граф прибывает в Кэвуд за двое суток до предполагаемого приезда его милости в Йорк для инвеституры. Кардинала препровождают под охраной в замок Понтефракт, оттуда — в Донкастер, оттуда — в Шеффилд-парк, усадьбу графа Шрусбери. Здесь, в Тэлбот-хаузе, кардинал заболевает. Двадцать шестого ноября в сопровождении двадцати четырех вооруженных стражников прибывает комендант Тауэра, чтобы эскортировать кардинала дальше на юг. Они отправляются в Лестерское аббатство. Три дня спустя кардинал умирает. Чем была Англия до Вулси? Мелким никчемным островком, нищим и промозглым.
Джордж Кавендиш приходит в Остин-фрайарз, рассказывает, плачет. Иногда утирает слезы и пускается в рассуждения, но по большей части плачет. — Мы даже не успели отобедать, — говорит Кавендиш. — Только приступили к десерту, тут входит юный Гарри Перси, весь в дорожной грязи, в руках ключи, которые он отобрал у привратника, на лестнице стража. Милорд встает из-за стола, говорит, Гарри, если б знал, без вас бы не сел. Боюсь, правда, рыбы не осталось. Помолиться, что ли, о чуде? Я шепнул ему, не богохульствуйте, милорд. Затем Гарри Перси выступил вперед и говорит, милорд, я арестую вас за измену. Кавендиш ждет. Чего? Что он взорвется от гнева? Он сидит, сцепив пальцы, словно молится. Анна, это она все подстроила и сейчас тайно наслаждается отсроченной местью за себя и своего бывшего любовника, которого кардинал выбранил и отлучил от двора. — Как он держался? Гарри Перси. — Трясся, как осиновый лист. — А что милорд? — Потребовал бумаги. А Перси сказал, что не все в его приказах предназначено для посторонних глаз. Тогда я отказываюсь следовать за вами, вот так-то, Гарри, заявил милорд. Идемте, Джордж, нужно кое-что обсудить. Они рванулись за ним, подручные графа, и тогда я встал у двери, загородил путь. Милорд кардинал прошел в спальню, взял себя в руки и, обернувшись ко мне, сказал, Кавендиш, взгляните мне в лицо: я не страшусь никого из живущих. Он, Кромвель, отходит, чтобы не видеть страданий Джорджа. Отворачивается, разглядывает новые панели на стенах — деревянные, с льняными вставками, водит пальцем по желобкам и бороздкам. — Когда его вывели из дома, горожане собрались на улице. Они стояли на коленях, рыдали и призывали Господни кары на голову Гарри Перси. Господу незачем беспокоиться, думает он: я сам с Гарри разберусь. — И мы поскакали на юг. Погода испортилась. Мы прибыли в Донкастер к вечеру, уже стемнело, но люди на улицах стояли плечом к плечу и держали свечи. Мы думали, надолго их не хватит, однако они простояли всю ночь. А потом свечи погасли, уступили место дневному свету, если это можно назвать светом. — Должно быть, это подбодрило его. Толпа. — Да, но к тому времени — говорил ли я?.. кажется, нет — он уже неделю ничего не ел. — Зачем? Чего ради? — Кто-то говорит, хотел себя уморить. Не верю я, чтобы христианин… Я предложил ему тарелку печеных груш. — И он съел? — Немного, а затем положил руку на грудь и говорит, что-то холодное и твердое внутри, словно точильный камень. И началось. Кавендиш вскакивает с места и начинает мерить шагами комнату. — Я позвал аптекаря, он приготовил порошок, который я велел разложить по трем чашкам. Я выпил одну, аптекарь — вторую. Мастер Кромвель, я никому не мог довериться! После лекарств боль утихла, и его милость смеялся и говорил, это меня просто пучило, и я решил, что назавтра все образуется. — А затем явился Кингстон. — Мы не знали, как сказать милорду, что за ним приехал комендант Тауэра. А когда сказали, он так и сел на сундук. Уильям Кингстон? Уильям Кингстон? Он без конца повторял имя.[43] И все это время тяжесть, точильный камень, в груди; сталь, острый нож, в кишках. — Я сказал ему, не будем отчаиваться, милорд, скоро вы предстанете перед королем и оправдаетесь. И Кингстон меня поддержал, а милорд сказал, вы соблазняете меня раем для дураков, а я знаю, что мне уготовано, знаю, что меня ждет смерть. В ту ночь мы не спали. Милорд мочился черной кровью, а наутро был так слаб, что мы отложили отъезд. Но после все равно тронулись в Лестер. Дни были короткими-короткими, совсем без света. В понедельник кардинал проснулся в восемь. Я как раз ставил на буфет восковую свечу. И тут его милость говорит, что там за тень у стены? И окликает вас по имени. Да простит меня Господь, я сказал, что вы в пути. Дороги опасны, заметил он. Ну, вы же знаете Кромвеля, говорю я, его сам черт не удержит — сказал, что приедет, значит, приедет. — Джордж, не тяните, мочи нет! Но Джордж должен выговориться: следующее утро, чашка куриного бульона, но кардинал отказывается есть. Разве сегодня не постный день? Вулси просит унести бульон. Он болен уже восемь дней, мочится кровью, страдает от болей и все время приговаривает, я знаю, смерть близко. Поймайте милорда в силки — и он непременно найдет, как выпутаться, использует весь свой изворотливый ум и коварство, но обязательно найдет выход. Яд? Если только подсыпанный его собственной рукой. В восемь утра кардинал испускает дух. В комнате, где он умер, стучат четки; за дверью норовистые кони в стойлах бьют копытами; скудные солнечные лучи падают на лондонскую дорогу. — Он умер во сне? Ему хочется услышать, что перед смертью кардинал не страдал. Нет, отвечает Джордж, его милость разговаривал до последнего. — Что-нибудь обо мне? Ничего? Ни словечка? Я обмыл его, приготовил для погребения, продолжает Джордж. Под рубашкой превосходного голландского полотна я обнаружил власяницу… не следовало говорить вам, я помню, как вы относитесь к таким вещам… милорд стал носить ее после того, как сошелся с монахами в Ричмонде. — Что с ней стало? С власяницей? — Лестерские монахи забрали. — Боже милосердный! Помяните мое слово, они еще на ней наживутся! — Вообразите, милорда положили в простой деревянный гроб! И тут Джордж Кавендиш не выдерживает, это последнее унижение выше его сил. Он начинает браниться, страсти Господни, я своими ушами слышал, как они гроб сколачивали! Когда я вспоминаю о флорентийском ваятеле и его гробнице, о черном мраморе и бронзе, об ангелах в голове и в ногах…[44] А мне пришлось смотреть, как он лежит в своей епископской мантии, и я сам разжал его пальцы и вложил посох, а ведь думал, что увижу, как он сжимает его во время церемонии! До интронизации ведь оставалось всего два дня! Мы уже все в дорогу упаковали, когда явился Гарри Перси. — А ведь я умолял его, Джордж, — говорит Кромвель, — умолял довольствоваться, тем, что осталось. Я просил его, уезжайте в Йорк, радуйтесь, что живы. Послушался бы меня, протянул бы еще с десяток лет. — Мы послали за мэром и городскими чиновниками, иначе пошли бы слухи, что его милость жив и бежал во Францию. Некоторые издевались над его низким происхождением. Господи, жаль, что там не было вас! — Мне тоже. — При вас, мастер Кромвель, никто бы не посмел так говорить. Когда стемнело, мы зажгли свечи вокруг гроба и до четырех утра бодрствовали у тела. Потом прочли часы, отслужили заупокойную мессу, и в шесть положили его в склеп. В шесть утра, в среду, на Святого апостола Андрея. Я, простой кардинал. Вулси оставили в склепе, и Кавендиш поскакал на юг, в Хэмптон-корт, к королю, который заявил: — Я отдал бы двадцать тысяч фунтов, чтобы это оказалось неправдой.
— Кавендиш, — говорит Кромвель, — если вас будут спрашивать о последних словах кардинала, молчите. Джордж приподнимает бровь. — Я и молчу. Меня король расспрашивал. Милорд Норфолк. — Что бы вы ни сказали Норфолку, он извратит ваши слова. — И все же как государственный казначей он выплатил мне долг по жалованью за три четверти года. — Какое у вас было жалованье, Джордж? — Десять фунтов в год. — Лучше бы вы пришли ко мне. Таковы факты. Цифры. Если утром владетель преисподней, проснувшись в своих покоях, предложил бы отправить мертвеца обратно из склепа, из могилы — чудо воскрешения за двадцать тысяч фунтов, — Генриху Тюдору нелегко было бы их наскрести. Норфолк — государственный казначей! Какая разница, кому греметь ключами от пустых сундуков? — А знаете, — говорит он, — если кардинал спросил бы меня, как он любил спрашивать, Томас, что вы хотите в подарок на Новый год, я сказал бы, что хочу увидеть государственный бюджет. Кавендиш хочет что-то сказать, начинает, запинается, снова начинает: — Король сказал мне кое-что. В Хэмптон-корте. «Трое могут хранить секрет, когда двое из них мертвы». — Кажется, это пословица. — «Если бы я думал, что мой колпак знает мой секрет, швырнул бы его в огонь». — Еще одна пословица. — Он хотел сказать, что больше не станет прислушиваться к советчикам: ни к милорду Норфолку, ни к Стивену Гардинеру, и никому не станет доверять, как доверял кардиналу. Кромвель кивает. Вполне разумное объяснение. Кавендиш изможден. Дают о себе знать бессонные ночи, бодрствование у гроба. Секретарь беспокоится из-за денег, которые были у кардинала во время путешествия и исчезли после его смерти. Беспокоится, как вывезти из Йоркшира свои пожитки. Наверняка Норфолк пообещал ему подводу. Он, Кромвель, рассуждает об этом вслух, а про себя думает о короле и, втайне от Джорджа, один за другим медленно сжимает пальцы в кулак. Мария Болейн нарисовала у меня на ладони сердечко. Генрих, я держу в руке твое сердце. Когда Кавендиш уходит, он выдвигает потайной ящик стола и вынимает сверток, который Вулси дал ему перед путешествием на север. Пытается развернуть, мешает узелок, он аккуратно распутывает нитку, и неожиданно в ладонь падает перстень с бирюзой, холодный, словно из могилы. Он представляет себе кардинальскую руку: длинные белые пальцы, ни шрама, ни отметины. Руку, долгие годы сжимавшую штурвал государственного корабля. Как ни удивительно, кольцо ему впору. Кардинальские алые мантии лежат аккуратно сложенные. Однако им не дадут праздно пылиться. Мантии разрежут и нашьют новых одежд. Кто знает, где окажутся эти куски материи спустя годы, где выхватит глаз багровую подушку, стяг или вымпел; блеснет ли алый сполох на подкладке рукава или на нижней юбке у гулящей девки. Пусть другие едут в Лестер поглазеть, где умер кардинал и потолковать с аббатом. Пусть другие пытаются вообразить, как это было. Другие, не он. Красный фон ковра, багряная грудка малиновки, алый оттиск печати и сердцевина розы: навсегда схороненный в усыпальнице его внутреннего взора и вызванный из небытия кровавым рубиновым отблеском, кардинал жив и говорит с ним. Взгляни мне в лицо: я не страшусь никого из живых.
В парадном зале Хэмптон-корта дают интермедию «Кардинал спускается в ад». Память возвращает его на год назад, в Грейз-инн. На рамы, сколоченные под присмотром королевских слуг, натянуты холсты с изображением адских мук. Работы велись спешно — плотникам обещали особое вознаграждение за срочность. Задник расписан языками пламени. Развлечение состоит в следующем: огромную алую фигуру с визгом волокут по полу четверо переодетых чертями лицедеев. Их лица скрывают маски. В руках у чертей трезубцы, которыми они колют мертвого кардинала, заставляя того корчиться и жалобно хныкать. Кромвель надеялся, что его милость умер без мучений, но Кавендиш утверждает обратное. Кардинал ушел в сознании, его последние слова были о короле. А еще раньше он проснулся и спросил, чья это тень, там, у стены. Герцог Норфолк ходит по залу и довольно фыркает. — Хороша пьеска! Так хороша, что придется ее напечатать. Клянусь мессой, я сам этим займусь! А на Рождество поставлю у себя. Анна улыбается, показывает пальцем, хлопает в ладоши. Он никогда не видел ее такой радостной и сияющей. Генрих застыл подле нее. Иногда Генрих смеется, но подойди поближе и увидишь: в глазах короля страх. Кардинал между тем катается по полу, черти в черных косматых нарядах пинают его, торопят в преисподнюю: — Эй, Вулси, мы отнесем тебя в ад, где твой хозяин Вельзевул ждет не дождется тебя на ужин! В ответ алая гора приподнимает голову и спрашивает: — А какое вино там подают? Кромвель, забывшись, чуть не прыскает. — Я не пью английских вин! — продолжает веселить публику мертвец. — На что мне эта кошачья моча, которую хлещет милорд Норфолк? Анна злорадствует, показывает на дядю. Шум поднимается к потолочным балкам вместе с дымом камина, смехом и болтовней зрителей, завываниями толстого прелата. Нет, никакого английского вина, заверяют черти кардинала, ведь дьявол — француз. Тут вступают дудки и свистульки, кто-то затягивает песню. Теперь черти продели голову кардинала в петлю и поднимают его с пола. Тот сопротивляется, и не все его пинки понарошку. Слышно, как черти сопят и отдуваются. Однако их четверо, и алый тюк только хрипит и царапается, а придворные подбадривают палачей: — Спустите его в ад! Спустите живьем! Актеры отскакивают назад, кардинал валится на пол и начинает кататься, ловя ртом воздух, а черти колют его вилами, вытаскивая на свет алые вязаные кишки. Кардинал изрыгает проклятия и портит воздух. В углах зала трещат фейерверки. Уголком глаза Кромвель видит женщину, которая семенит к выходу, зажав рот рукой, но дядюшка Норфолк счастлив: — Смотрите, палачи вытягивают ему кишки! Да за такое зрелище я готов приплатить! Кто-то замечает: — Позор тебе, Томас Говард, ты продал душу, чтобы увидеть падение Вулси. Головы поворачиваются — и его голова тоже, — но никто не видит говорившего. Он надеется, что это Томас Уайетт. Джентльмены, переодетые чертями, отряхиваются, переводят дух и с криками: «Хватай его!» — набрасываются на кардинала и волокут его в ад за дальним полотнищем в конце залы. Кромвель следует за ними. Подбегают пажи с льняными полотенцами, но разгоряченная дьявольская братия расшвыривает их в стороны. Одному пажу заехали локтем в глаз, и он опрокинул себе на ноги таз с кипятком.
Черти, ругаясь, срывают маски и швыряют их в угол; хохочут, стягивают друг с друга наряды из черной шерсти. — Какой-то хитон Несса, — говорит Джордж Болейн, когда Норрис освобождает его от пут. Джордж встряхивает головой, белая кожа сияет на фоне грубой шерсти. За руки кардинала волокли Джордж и Генри Норрис. Те, что тащили его за ноги — Фрэнсис Уэстон и Уильям Брертон — помогают друг другу избавиться от нарядов. Брертон, как и Норрис, в своем возрасте мог бы быть умнее. Джентльмены поглощены друг другом, они смеются, бранятся, кричат, чтобы принесли чистые полотенца, и совсем не замечают наблюдателя, да если б и заметили, что им за дело? Они самозабвенно плещутся в воде, утирают полотенцами пот, выхватывают рубахи из рук пажей и натягивают через голову. Затем, так и не сняв раздвоенных копыт, с самодовольным видом выходят кланяться. На полу, под защитой полотнища, остается лежать кардинал. Похоже, заснул. Он подходит к алому тюфяку, останавливается, смотрит. Ждет. Актер открывает глаз и говорит: — Должно быть, это и вправду преисподня, раз тут итальянцы. Мертвец стягивает маску. Под маской оказывается шут Секстон: мастер Заплатка. Мастер Заплатка, вопивший так отчаянно, когда год назад его отрывали от хозяина. Заплатка протягивает руку, хочет встать, но Кромвель словно не видит его руки. Чертыхаясь, дурак поднимается на ноги сам, с треском стягивает мантию, ткань рвется. Он, Кромвель, стоит, скрестив руки, правую сжав в кулак. Шут отбрасывает привязанные к телу пухлые подушки. У него тощий торс, грудь заросла жесткой порослью. — Зачем ты пришел в мою страну, итальянец? Чего тебе на родине не сиделось? Хоть Секстон и дурак, соображает не хуже прочих. Ему прекрасно известно, что Кромвель — не итальянец. — Жили бы себе там спокойно, — говорит Заплатка своим обычным, лондонским голосом. — Все-то у вас теперь есть: и собственная крепость, и свой собор, и свой марципановый кардинал на десерт. Пока, через год-другой, кто-нибудь побольше и посильнее не оттеснит вас от корыта. Он подхватывает мантию, брошенную Секстоном: отвратительного кричащего цвета, наскоро покрашенную дешевым, быстро выцветающим экстрактом красильного дерева, пропахшую чужим потом. — Как ты мог взяться за эту роль? — Я берусь за то, за то платят. А сами-то? Секстон хохочет, визгливым лающим хохотом безумца. — Не удивительно, что вы не понимаете шуток. Никто сегодня не платит мсье Кремюэлю, престарелому наемнику. — Престарелому? Не волнуйся, у престарелого наемника хватит сил тебя прикончить. — Кинжалом, который прячете в рукаве? — Заплатка, издеваясь, отпрыгивает назад. Он, Кромвель, стоит, прислонившись к стене, и разглядывает дурака. Откуда-то слышен плач: наверняка рыдает мальчишка-паж, которому заехали в глаз, а теперь залепили оплеуху за пролитый кипяток или чтобы не ревел. Детям всегда достается вдвойне: сначала их наказывают за проступок, потом за то, что плачут. Вот и думай: что толку жаловаться? Жестокая наука, но без нее не прожить. Заплатка кривляется, показывает непристойные жесты — никак готовится к следующему выступлению. — Я знаю, ты вылез из соседней канавы, Том, — говорит шут и оборачивается к полотнищу, за которым продолжаются королевские увеселения. Заплатка широко расставляет ноги, высовывает язык. — Рече безумец в сердце своем, несть папа. Шут оборачивается и ухмыляется. — Возвращайтесь лет через десять, мастер Кромвель, тогда увидим, кто из нас дурак, а кто безумец. — Зря ты переводишь на меня свои шутки. Ищи того, кто за них заплатит. — Дураку рот не заткнешь. — Еще как заткнешь. Там, где бываю я, тебе придется заткнуться. — Это где же? В луже, где вас крестили? Приходите через десять лет, если будете живы. — Если б я умер, ты бы от страха в обморок упал. — Уж конечно, если вы на меня рухнете, мне не устоять. — Я размозжу твою голову о стену прямо сейчас. Никто о тебе не заплачет. — Верно, не заплачут. Выбросят из дома в навозную кучу. Кому нужен один дурак, если в Англии их и без того хватает?
Выйдя на улицу, он удивляется, что там светло. Он-то думал, стоит глубокая ночь. Эти дворики еще помнят Вулси, который их выстроил.[45] Заверни за угол — навстречу шагнет его милость с чертежом в руке, счастливый обладатель шестидесяти турецких ковров, горящий надеждой выписать из Венеции лучших зеркальщиков. «А теперь, Томас, присовокупите к вашему письму пару венецианских любезностей, пару льстивых фраз на местном диалекте, в которых самым деликатным образом дайте им понять, что я не поскуплюсь». И он напишет, что англичане радушны к чужеземцам, а климат в Англии мягок. Золотые птицы поют на золотых ветках, а золотой король восседает на куче золота, распевая песенки собственного сочинения. В Остин-фрайарз он застает непривычную тишину и пустоту. Поздно; дорога от Хэмптон-корта заняла несколько часов. Он смотрит на стену, где сияет кардинальский герб: багряную шапку, по его указанию, недавно подновили. — Можете закрасить, — говорит он. — А что нарисовать вместо герба, сэр? — Оставьте пустое место. — Поместить гут изящную аллегорию? — Вот именно. — Он оборачивается на ходу. — Пустое место.
III Мертвые сетуют из могил
Рождество 1530 года
Стук в дверь после полуночи. Сторож поднимает домашних, и когда он спускается вниз — с лицом, перекошенным яростью, но полностью одетый — к нему бросается Джоанна, простоволосая, в ночной сорочке. — Что, что им нужно? Ричард, Рейф и слуги-мужчины оттаскивают ее. В прихожей стоит камергер Уильям Брертон с вооруженной охраной. Они пришли меня арестовать, думает он и шагает к Брертону. — Боже милосердный, Уильям! Рано встали или не ложились? Появляются Алиса и Джо. Он вспоминает ночь, когда умерла Лиз, и его дочери, потерянные и сбитые с толку, также маялись в своих ночных рубашонках. У Джо глаза на мокром месте. Мерси уводит девочек. Спускается Грегори, одетый для выхода. — Я готов, — произносит он робко. — Король в Гринвиче, — говорит Брертон. — Требует вас немедленно. Королевский камергер выражает нетерпение: пристукивает перчаткой по ладони, отбивает пяткой дробь. — Ступайте в постель, — обращается Кромвель к домашним. — Если бы король хотел посадить меня в тюрьму, то не позвал бы в Гринвич, так не принято. Знать бы, как принято. Он оборачивается к Брертону. — Что ему от меня понадобилось? Камергер с любопытством обводит глазами прихожую: ну и как живут эти простолюдины? — Увы, не могу вас просветить. Кромвель смотрит на Ричарда, которому до смерти хочется заехать этому знатному сосунку в челюсть. И я был таким когда-то, но сейчас я тих и благостен, как майское утро. Они выходят в темноту и промозглый холод: Ричард, Рейф, он сам, его сын. Факельщики стоят у входа, у ближайшего причала ждет барка. До дворца Плацентии плыть и плыть, Темза черна, как Стикс. Мальчики сидят напротив, сгрудившись и нахохлившись, словно один родной человек, хотя Рейф ему не родня. Я становлюсь похожим на доктора Кранмера: Тэмворсы из Линкольншира, Клифтоны из Клифтона, семья Молино, о которой вы наверняка слышали, или нет? Он смотрит на звезды, но они кажутся смутными и далекими, впрочем, так и есть. Как себя вести? Заговорить с Брертоном? Семейные владения в Стаффордшире, Чешире, на границе с Уэльсом. Сэр Рэндал умер в прошлом году, и его сыну достался жирный куш, по меньшей мере тысяча в год от земель, пожалованных короной, еще триста в год — от местных монастырей. Кромвель прикидывает в уме. Не так уж рано он все этоунаследовал: Брертон, должно быть, немногим его младше. Папаше Уолтеру Брертоны пришлись бы по душе — такие же вечные возмутители спокойствия. Он вспоминает процесс против них в Звездной палате, лет пятнадцать назад. Вряд ли Брертона вдохновит эта тема, как, впрочем, и любая другая. Каждое путешествие имеет свой конец; причал или пристань, затянутую туманной пеленой, горящие факелы. Их сразу провожают в личные покои Генриха. Гарри Норрис ждет их; кто ж еще? — Как он? — спрашивает Брертон. Норрис закатывает глаза. — Итак, мастер Кромвель, мы с вами всякий раз встречаемся при весьма необычных обстоятельствах. Ваши сыновья? — Норрис с улыбкой разглядывает лица. — Хотя вряд ли, если только не от разных матерей. Кромвель представляет: мастер Рейф Сэдлер, мастер Ричард Кромвель, мастер Грегори Кромвель. Заметив ревнивый блеск в глазах сына, поясняет: — Это — племянник, а это — сын. — Заходите один, он ждет, — говорит Норрис и бросает через плечо: — Король боится подхватить простуду. Не захватите коричневый шлафрок, тот, на соболином меху? Брертон что-то бурчит в ответ. Незавидная работенка — трясти соболями, когда мог бы в Честере будить местное население грохотом барабанов с крепостной стены.Просторная спальня с высокой резной кроватью. При свечах занавески кажутся чернильно-черными. Кровать пуста. Король сидит на обитом бархатом табурете. Кажется, Генрих один, но в спальне висит теплый и суховатый коричный аромат; первая его мысль, что в темноте прячется кардинал и держит апельсин, начиненный пряностями — Вулси всегда носил такой при себе, бывая на людях. Мертвые, без сомнения, стремились бы заглушить запах живых, но в темноте королевской опочивальни маячит не внушительная фигура кардинала, а бледный овал, лицо Томаса Кранмера. Не успевает Кромвель переступить порог, как Генрих поворачивается к нему и говорит: — Кромвель, во сне ко мне приходил мой умерший брат. Он не отвечает, да и что тут ответишь? Смотрит на короля, не испытывая ни малейшего желания посмеяться. — Между Рождеством и Крещением Господь позволяет умершим разгуливать среди живых. Это всем известно. — Как он выглядел, ваш брат? — мягко спрашивает Кровель. — Таким, каким я его запомнил… только бледный, очень худой. Вокруг него светился бледный огонь. Но сейчас Артуру было бы сорок пять. Как и вам, мастер Кромвель? — Примерно. — Я умею угадывать возраст. Каким бы стал Артур, если бы не умер? Наверное, похожим на отца. Я больше похож на деда. Сейчас король спросит, а на кого похожи вы? Но нет, Генрих помнит, что у него нет предков. — Он умер в Ладлоу, зимой. Дороги занесло, пришлось волочить гроб на телеге, запряженной волами. Правитель Англии на телеге, где это видано! Входит Брертон со шлафроком красновато-коричневого бархата на соболином меху. Генрих встает, сбрасывает одно бархатное одеяние, принимает другое, плотное и мягкое. Соболья подкладка льнет к руке, словно король превратился в покрытое шерстью чудище… — Его похоронили в Вустере. Но меня вот что тревожит — я не видел его мертвым. Доктор Кранмер, из тени: — Мертвые не жалуются из могил. Это придумали живые. Король запахивает шлафрок. — Я не видел его лица, когда он умер. Только сейчас, во сне, и тело в бледном сиянии. — Это не было телом, — говорит Кранмер, — это был образ, родившийся в голове вашего величества. Такие образы quasi corpora, подобны телам. Почитайте Августина. Однако не похоже, что король готов схватиться за книгу. — В моем сне он стоял и смотрел на меня. И был печален, очень печален. Кажется, сказал, что я занял его место. Забрал его королевство, его жену. Он вернулся, чтобы меня пристыдить. — Если брат вашего величества не успел стать королем, — замечает Кранмер с легким нетерпением в голосе, — так на то Божья воля. А что до вашего так называемого брака, то всем известно, что он был совершен против закона Божьего. Никто в Риме не имеет полномочий толковать Божьи установления. Мы признаем, что был грех, но Господь милосерден. — Но не ко мне! Когда я предстану пред Божьим судом, мой брат будет моим обвинителем. Он вернулся, чтобы устыдить меня, и мне теперь вечно нести эту ношу. Мысль приводит короля в ярость. — Мне! Мне одному! Кранмер хочет что-то сказать, но Кромвель ловит его взгляд и тихонько качает головой. — Ваш брат Артур, — спрашивает он короля, — что-нибудь говорил в вашем сне? — Нет. — Дал вам какой-то знак? — Нет. — Тогда что заставляет вас думать, что ваш брат хотел худого? Мне кажется, вы прочли в его лице то, чего там не было, как часто бывает с мертвыми. Вот послушайте, — он кладет руку поверх монаршей руки, поверх рукава красно-коричневого бархата, и сжимает достаточно ощутимо. — Правоведы говорят: «Le mort saisit le vif». Мертвый хватает живого. Правитель умирает, но его власть передается в момент смерти, без перерыва, без междуцарствия. Ваш брат посетил вас во сне не для того, чтобы пристыдить, а для того, чтобы напомнить: вы облечены властью и живых и мертвых. Это знак, что вам следует обдумать ваше правление. Вдохнуть в него новую жизнь. Генрих задумчиво смотрит на него, теребит манжету, на лице озадаченность. — Такое возможно? И снова Кранмер хочет вмешаться в разговор. И снова Кромвель останавливает богослова. — Вы знаете, что написано на гробнице Артура? — Rex quondam rexque futurus. Король в прошлом, король в грядущем. — Ваш отец сделал это утверждение явью. Правитель, пришедший из Уэльса, он исполнил обещание, данное предкам. Вернулся из изгнания и предъявил древние права. Однако недостаточно заявить о своем праве на королевство — королевством нужно управлять. Каждое новое поколение правителей должно над этим трудиться. Возможно, ваш брат хотел сказать, что желает видеть вас королем, каким мог бы стать сам. Он не исполнил пророчество, но верит, что вам это удастся. Ему — обещание, вам — исполнение. Взгляд короля останавливается на докторе Кранмере, который сухо замечает: — Мне нечего возразить. Но я по-прежнему советую вам не верить в сны. — Сны королей не чета снам простолюдинов, — замечает Кромвель. — Возможно. — Но почему сейчас? — спрашивает Генрих здраво. — Почему он явился сейчас? Я правлю уже двадцать лет. Кромвель закусывает губу, чтобы не выпалить: да потому что вам уже сорок, пора бы и повзрослеть! Сколько раз вы разыгрывали истории об Артуре — сколько было пышных спектаклей и пантомим, сколько бездельников с бумажными щитами и деревянными мечами! — Потому что время пришло. Потому что вам пора становиться истинным правителем, единственным и верховным главой государства. Спросите леди Анну. Она скажет вам то же. — Она говорит, — признается король. — Говорит, довольно кланяться Риму. — А если во сне к вам явится отец, отнеситесь к этому так же. Скажите себе: он пришел придать мне новых сил, укрепить мою руку. Ни один отец не захочет, чтобы сын уступил ему в могуществе. На лице Генриха медленно проступает улыбка. Прочь от снов, ночных страхов, могильных червей. Генрих встает. Его лицо сияет. Свет камина падает на шлафрок, глубокие складки загораются коричневатым и желтым — цветами земли и глины. — Кажется, я понял. И знал, за кем посылать. — Король оборачивается и говорит в темноту. — Гарри Норрис! Который час? Четыре? Велите моему капеллану облачаться к мессе. — Мессу могу отслужить я, — предлагает доктор Кранмер, но Генрих качает головой. — Нет, вы устали. Я поднял вас среди ночи, джентльмены. Так прост, так властен. Их выставляют. Они молча шагают мимо охраны, к своим, за ними тенью следует Брертон. Наконец доктор Кранмер замечает: — Ловко сработано. Кромвель оборачивается. Хочет, но не смеет рассмеяться. — Ловко. «Если во сне к вам явится отец…». Вижу, вам не по нраву вскакивать с постели ни свет ни заря. — Мои домашние перепугались. Теперь доктор смущен, словно позволил себе лишнего. — Разумеется, — бормочет он. — Я не женат и забываю о таких вещах. — Я тоже не женат. — Да, я забыл. — Вам пришлись не по нраву мои слова? — В любом случае это было превосходно разыграно. Словно вы все продумали заранее. — Но как? — Вы правы, вы удивительно находчивы. И все же… ибо Евангелие… — Я считаю, что сегодня ночью мы славно потрудились ради Евангелия. — Хотелось бы знать, — говорит Кранмер, обращаясь больше к самому себе, — что для вас Евангелие. Книга с чистыми листами, на которых Томас Кромвель запечатлевает свои желания? Он останавливается. Кладет руку на плечо богослову и говорит: — Доктор Кранмер, посмотрите на меня. Поверьте мне. Я искренен. Разве я виноват, что Господь наделил меня такой злодейской физиономией? Должно быть, у Него были на то свои резоны. — Не смею судить, — улыбается Кранмер. — Впрочем, Он определенно придал вашему лицу выражение, способное смутить ваших врагов. И это пожатие — когда вы схватили короля за руку, я вздрогнул. И Генрих тоже почувствовал. — Кранмер кивает. — Вы — человек редкой силы духа. Священникам не привыкать выносить приговор, оценивать: достоин, недостоин. Доктор Кранмер, как любая гадалка, не сообщил ему ничего нового. — Идемте, — говорит богослов, — ваши мальчики вас заждались. Рейф, Грегори, Ричард обступают его: что случилось? — Королю приснился сон. — Сон? — потрясенно переспрашивает Рейф. — Он поднял нас с постели среди ночи из-за сна? — Поверьте, — замечает Брертон, — ему довольно и меньшего повода. — Мы с доктором Кранмером согласились, что королевские сны — не чета снам обычных людей. — Это был дурной сон? — Вначале, но не теперь. Они таращатся на него, не понимая; все, кроме Грегори. — В детстве мне снились бесы, мне казалось, они прячутся под кроватью, но ты сказал, что этого никак не может быть, потому что бесы не живут по эту сторону реки, а стражники ни за что не пустят их через Лондонский мост. — Выходит, ты боишься переходить через мост к Саутуорку? — спрашивает Рейф. Грегори: — Саутуорк? Что за Саутуорк? — Знаете, иногда, — замечает Рейф тоном строгого наставника, — мне кажется, я вижу в Грегори проблеск чего-то, такой крошечный, почти незаметный. — Тебе бы только издеваться! Борода вон выросла, а все туда же! — Какая ж это борода? Жалкая рыжая щетина, позор брадобрею. Мальчики пихаются, не зная, как выразить охватившее их облегчение. — А мы решили, что король бросил вас в подземелье, — говорит Грегори. — Ваши дети вас любят, — кивает Кранмер, довольный, благодушный. — Без хозяина мы никуда, — говорит Ричард. До рассвета еще много часов. Ночь похожа на беспросветное утро в день смерти кардинала. В воздухе пахнет снегом. — Думаю, он потребует нас обратно, — говорит Кранмер. — Обдумает то, что вы ему сказали, и, кто знает, возможно, поймет, куда ведут его мысли. — Все равно я должен показаться в городе. А еще неплохо бы переодеться, думает он. И ждать развития событий. Брертону он говорит: — Вы знаете, где меня искать, Уильям. Кивнув на прощанье, идет прочь. — Доктор Кранмер, передайте ей, что сегодня мы славно ради нее потрудились. Обнимает сына за плечи и шепчет: — Грегори, может быть, мы напишем продолжение твоих любимых историй про Мерлина. — А я их не дочитал, — говорит Грегори. — Быстро распогодилось.
Вечером того же дня он входит в обшитый деревом кабинет в Гринвиче. Последний день 1530 года. Снимает надушенные амброй перчатки. Поправляет кольцо с бирюзой. — Совет ждет, — говорит король и смеется, словно одержал личную победу. — Присоединяйтесь, вас приведут к присяге. Рядом с королем доктор Кранмер: очень бледный, очень тихий. Доктор кивает, ободряя его, и вдруг лицо богослова расцветает в широчайшей улыбке, которая озаряет зимний сумрак. Следующий час в комнате витает дух импровизации. Король не желает проволочек, поэтому советники собираются наспех. Герцоги справляют Рождество в своих вотчинах. На месте престарелый Уорхем, архиепископ Кентерберийский. Пятнадцать лет назад Вулси вышиб его с поста лорда-канцлера, или, как выражался сам кардинал, освободил от мирских дел, позволив на склоне лет погрузиться в молитвенное созерцание. — Итак, Кромвель, — говорит архиепископ, — теперь вы советник. Куда катится мир! У архиепископа морщинистое лицо, глаза дохлой рыбы, а руки слегка дрожат, когда он протягивает ему Библию. На месте Томас Болейн, граф Уилтширский, главный хранитель малой печати. На месте и лорд-канцлер. Неужто трудно было побриться, раздраженно думает Кромвель. Уделил бы поменьше времени бичеванию плоти. Но когда Мор выходит на свет, он понимает: что-то не так, лицо лорда-канцлера осунулось, под глазами синяки. — Что случилось? — Вы не слышали? Мой отец умер. — Такой прекрасный старик. Нам будет не хватать его бесценных советов в области права. И его нудных баек. Хотя это вряд ли. — Он умер у меня на руках. — Мор начинает плакать, вернее, съеживаться, словно все его тело сочится слезами. — Он был светом моей жизни. Куда нам до великанов прошлого, мы лишь их бледные тени. Пусть ваши домашние за него помолятся. Представляете, Томас, после его смерти я разом почувствовал груз лет. Словно до сих пор был мальчишкой. Но вот Господь прищелкнул пальцами — и я вижу, что лучшие годы остались позади. — Знаете, после смерти Элизабет, моей жены… Он хочет продолжить: моих дочерей, сестры, мой дом опустел, мои родные не снимают траура, а теперь ушел и мой кардинал… Но даже на краткий миг он не признается, что горе иссушило его волю. Нельзя заполучить другого отца, как бы страстно вам о том ни мечталось; а что до жен, так для Мора женщины — пустое место. — Сейчас вы не поверите мне, но со временем чувства вернутся. К миру, к тому, что предстоит совершить. — Знаю, вы тоже теряли близких. Что ж, — лорд-канцлер шмыгает носом, вздыхает, трясет головой, — дело не ждет. Именно Мор начинает читать ему слова присяги. Он клянется быть добросовестными честным, в речах прямым и беспристрастным, в поведении сдержанным, клянется всегда хранить верность своему господину. Он доходит до благоразумия и осторожности, когда дверь распахивается, и на них, как ворон на дохлую овцу, налетает Гардинер. — Вы не можете проводить церемонию без королевского секретаря! — восклицает он, и Уорхем мягко замечает, Крест Господень, неужто ему придется присягать по новой? Томас Болейн поглаживает бороду. Замечает кардинальское кольцо: изумление сменяет сардоническая ухмылка. — Если бы мы не знали процедуры, Томас Кромвель бы нас поправил. При нем через год-два мы станем не нужны. — Надеюсь, я не доживу, — говорит Уорхем. — Лорд-канцлер, продолжим? Ах, бедный, снова плачет! Я сочувствую вам, но смерть придет за каждым из нас. Господи, думает Кромвель, если это все, на что способен архиепископ Кентерберийский, то с его обязанностями справился бы и я. Он клянется везде и всегда поддерживать власть короля, его превосходство, его полномочия; хранить верность его законным наследникам и преемникам, а сам думает о бастарде Ричмонде, Марии, говорящей козявке, пальце, который Норфолк демонстрировал честной компании. — Что ж, дело сделано, — говорит архиепископ. — Аминь. Как будто у нас был выбор. Как насчет стакана подогретого вина? Я промерз до костей. — Теперь вы член королевского совета, — говорит Томас Мор. — Надеюсь, вы скажете королю, что делать надлежит то, что должно, а не только то, что получается. Когда лев осознает свою силу, им трудно управлять. Снаружи валит мокрый снег. Темные снежинки падают в воды Темзы. Англия раскинулась перед ним; снежные поля, освещенные низким красным солнцем. Он вспоминает день, когда был разорен Йоркский дворец. Они с Кавендишем стояли над раскрытыми сундуками с кардинальскими облачениями. Мантии, шитые золотом и серебром, узоры в виде звезд, птиц, рыб, оленей, львов, ангелов, цветов и колес Екатерины. Когда их переупаковали в дорожные ящики и заколотили, люди короля стали рыться в сундуках, где лежали альбы[46] и стихари, умело сложенные ровными складками. Передаваемые из рук в руки, невесомые, словно спящие ангелы, ткани мягко сияли на свету. Разверните, оценим качество материи, сказал кто-то. Пальцы запутались в полотняных ленточках. Дайте мне, сказал Кавендиш. Расправленные, они реяли в воздухе, белейшие и легкие, словно крылья бабочки. Когда подняли крышки, комнату заполнил аромат кедра и специй, тяжелый, суховатый, пустынно-горький. Парящие ангелы были сложены в сундук и пересыпаны лавандой, лондонский дождь стучался в стекло, ароматы лета плыли сквозь ранние сумерки.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
I Сделай лицо
1531
Не то от страха и боли, не то от какого-то природного изъяна, от пляски пылинок в пустой комнате или звука охотничьего рога в отдалении, а может, потому, что сегодня эту девочку ни свет ни заря разбудила суета сборов, когда двор ее отца отбывал в другое место, — только она вся съежилась и глаза стали цвета воды в сточной канаве. Еще не покончив со вступительными латинскими формальностями, он заметил, как она вцепилась в спинку кресла, в котором сидит мать. «Мадам, вашей дочери надо сесть». На случай, если за этим последует поединок воль, он берет табурет и с решительным стуком ставит подле Екатерининых юбок. Королева откидывается назад, напряженная под тугой шнуровкой, и что-то шепчет дочери. Итальянки, с виду такие беспечные, носят под шелками стальные корсеты. Чтобы их раздеть, нужны не только долгие уговоры, но и безграничное терпение. Мария наклоняется и шепчет по-кастильски, намекая, что у нее женское нездоровье. Две пары глаз устремляются на него. У Марии взгляд близорукий, несфокусированный; наверное, она видит его, Кромвеля, как расплывчатую тень, сгусток угрозы. Стой прямо, требует королева, как пристало английской принцессе. Мария, глубоко вдохнув, обращает к нему маленькое некрасивое личико, твердое, как ноготь Норфолка; пальцы крепче вцепляются в спинку кресла. Послеобеденный час, очень жарко, по стене ползут лиловые и золотые квадраты солнечного света из окна. Внизу лежат иссохшие поля. Темза обмелела и отступила от берегов. Королева говорит по-английски: — Ты знаешь, кто это? Мастер Кромвель. Он теперь пишет все законы. Запнувшись на стыке языков, Кромвель спрашивает: — Мадам, мы будем говорить по-английски или по-латыни? — Ваш кардинал задал бы тот же вопрос. Как будто я здесь чужеземка. Я отвечу вам, как отвечала ему: «С трех лет я звалась принцессой Уэльской. В шестнадцать приехала сюда, чтобы выйти замуж за милорда Артура. В семнадцать я была вдова и девственница. В двадцать четыре я стала королевой Англии, и, дабы избежать сомнений, скажу, что сейчас мне сорок шесть, я по-прежнему королева и теперь, надо полагать, в некотором роде англичанка». Однако я не стану повторять вам все, что говорила кардиналу. Полагаю, вам осталась от него какая-нибудь запись по этому поводу. Он чувствует, что надо поклониться. Королева продолжает: — С начала года в парламент поступают проекты биллей. Прежде мастер Кромвель блистал талантами только на ниве ростовщичества, теперь же открыл в себе дар законодателя — если кому нужно новое уложение, просто обращайтесь к нему. Я слышала, что эти проекты вы на ночь уносите к себе домой в… где ваш дом? У королевы это звучит как «ваша конура». Мария говорит: — Эти законы написаны против церкви. Мне удивительно, что милорды их принимают. — Ты знаешь, — отвечает королева, — что кардинала Йоркского обвинили, согласно закону о превышении полномочий лицом духовного звания, в узурпации власти милорда твоего отца. Теперь мастер Кромвель и его друзья признали всех служителей церкви виновными в этом преступлении и требуют с них пеню в сто тысяч фунтов. — Не пеню. Мы называем это благотворительным пожертвованием. — Я называю это вымогательством. — Она поворачивается к дочери. — Если ты спрашиваешь, почему церковь не защищают, я отвечу, что в этой стране есть знатные люди, — (Суффолк, имеет в виду она, Норфолк), — которые намерены сокрушить могущество церкви, дабы впредь ни один священник — так они говорят — не забрал себе столько власти, сколько наш покойный легат. Что нам не нужен новый Вулси, я согласна. А вот нападок на епископов не потерплю. Вулси был моим врагом. Но это не меняет моих чувств к матери-церкви. Он думает: Вулси был мне отцом и другом. Но это не меняет моих чувств к матери-церкви. — Вы и спикер Одли сговариваетесь при свечах. — Королева упоминает спикера так, словно говорит «ваш кухонный мальчишка». — А когда наступает утро, вы подбиваете короля объявить себя главой английской церкви. — В то время как, — подхватывает девочка, — здесь, так и в любом другом месте, глава церкви — римский первосвященник, и от престола Святого Петра исходит законность всякой монархии. — Леди Мария, может, вы сядете? — Он ловит принцессу в тот самый миг, когда ее колени подгибаются, и усаживает на табурет, добавляя: «Это из-за жары», — чтобы она не смутилась. Принцесса поднимает лицо, и в серых близоруких глазах мелькает благодарность; в следующий миг оно вновь каменно-неприступное, как стена осажденного города. — Вы сказали «подбиваете», — говорит он Екатерине, — однако вашему величеству лучше других известно, что короля невозможно уломать. — Однако его можно улестить. — Она поворачивается к Марии, схватившейся руками за живот. — Итак, милорд твой отец провозглашен главой английской церкви, а дабы успокоить совесть епископов, добавлена формулировка: «насколько дозволяет закон Христов». — И что это значит? — спрашивает Мария. — Ничего. — Ваше величество, это означает все. — Да. Это очень умно. — Умоляю вас взглянуть иначе: король определил полномочия, которыми, согласно древним прецедентам… — …выдуманным в прошлом месяце… — …обладал и ранее. Лоб Марии под жестким чепцом блестит от пота. Она говорит: — То, что определено, можно переопределить, верно? — О да, — подхватывает ее мать, — и переопределить в пользу церкви — если я покорюсь его желаниям и откажусь от звания супруги и королевы. Принцесса права, думает он. Тут вполне можно поторговаться. — В законе нет ничего неотменимого. — И вы ждете, что я выложу на стол переговоров. — Королева протягивает руки — маленькие, пухлые, короткопалые — показывая, что они пусты. — Только епископ Фишер меня защищает. Только он постоянен. Только ему хватает мужества говорить правду: в палате общин заседают безбожники. — Она со вздохом опускает руки. — А кто убедил моего супруга уехать, не попрощавшись? Раньше он так не поступал. Никогда. — Он намерен несколько дней поохотиться в Чертей. — С ней, — говорит Мария, — наедине с этой особой. — Затем его величество посетит лорда Сандиса в Гилфорде, чтобы посмотреть новую галерею. — Кромвель говорит спокойно, умиротворяюще, почти как кардинал — может быть, даже слишком? — Дальше, чуть позже или раньше, в зависимости от погоды и охоты, он поедет к Уильяму Полету в Бейзинг. — Когда я должна к нему присоединиться? — С Божьей помощью король вернется через две недели. — Две недели, — повторяет Мария. — Наедине с этой особой. — За этот срок, мадам, вам следует переехать в другой дворец. Король выбрал Мор, в Хертфордшире, очень, как вам известно, удобный. — Учитывая, что это дом кардинала, я ничуть не сомневаюсь в его пышности, — вставляет Мария. Мои дочери, думает он, никогда бы не позволили себе говорить в таком тоне, вслух же произносит: — Принцесса, вы могли бы из милосердия не злословить человека, который не сделал вам ничего дурного? Мария заливается краской до кромки волос. — Я не хотела быть немилосердной. — Покойный кардинал — ваш крестный отец, и вы должны о нем молиться. Принцесса бросает на него затравленный взгляд. — Я молюсь, чтобы Господь сократил срок его пребывания в чистилище. Екатерина перебивает: — Отправьте в Хертфордшир сундук. Сверток. Не пытайтесь отправить меня. — С вами будет весь ваш двор. Дом готов принять двести человек. — Я напишу королю. Можете передать ему мое письмо. Мое место рядом с ним. — Я советую вам покориться. Иначе король может… — Он, глядя на принцессу, сводит и разводит руки. Это означает: «разлучить вас». Девочка перебарывает боль. Мать перебарывает горе и гнев, возмущение и ужас. — Я этого ждала, — говорит она, — но не думала, что король пришлет такое известие с человеком вроде вас. Он хмурится; неужто приятнее услышать то же самое от Норфолка? — Говорят, вы раньше были кузнецом, это правда? Сейчас она спросит: можете подковать лошадь? — Кузнецом был мой отец. — Я начинаю вас понимать. — Она кивает. — Кузнец сам кует свои инструменты.Полмили известняковых обрывов отражают на него белый жар. В тени надвратной арки Грегори и Рейф пихаются, осыпая друг дружку кулинарными оскорблениями, которым он их научил: Сэр, ты, жирный фламандец, масло на хлеб мажешь! Сэр, ты, итальянский нищий, чтоб твоим детям улитками питаться! Мастер Ризли прислонился к нагретой стене и смотрит на них с ленивой улыбкой; вокруг его головы венком вьются бабочки. — Это вы ли? Ризли польщенно улыбается. — С вас надо писать портрет, мастер Ризли. Лазурный дублет, и освещение как по заказу. — Сэр! Что сказала Екатерина? — Что наши прецеденты сфабрикованы. Рейф: Она хоть понимает, что вы с доктором Кранмером сидели над ними ночь напролет? — О, порочные забавы! — вставляет Грегори. — Встречать утреннюю зарю с доктором Кранмером! Он обнимает Рейфа за худые плечи. Как же хорошо вырваться от Екатерины и от этой девочки, вздрагивающей, как побитая сука. — Помню, однажды мы с Джованнино… ну, с моим знакомым… Он осекается. Что это со мной? Я ведь никогда не рассказываю историй из своей жизни. — Ах, сделайте милость! — просит Ризли. — Мы изготовили статую — ухмыляющегося божка с крылышками — потом, состарив при помощи цепей и молотков, отвезли ее в Рим и продали одному кардиналу. Был нестерпимо жаркий день: знойное марево, белая пыль от строящихся домов, далекие раскаты грома… — Помню, когда кардинал снами расплачивался, в его глазах стояли слезы. «Только подумать, на эти ножки, на эти прелестные крылышки когда-то, возможно, любовался император Август». Когда Портинари отправились назад во Флоренцию, их шатало от тяжести кошельков с дукатами. — А вы? — Я забрал свою долю и остался продать мулов. Они идут к внутреннему двору. Выйдя на солнце, он прикрывает глаза ладонью, будто хочет что-то рассмотреть за уходящими вдаль деревьями. — Я сказал Екатерине, чтобы она оставила Генриха в покое, не то он может не отпустить принцессу в Хертфордшир. Ризли говорит удивленно: — Однако все уже решено. Король их разлучает. Мария едет в Ричмонд. Кромвель этого не знал, однако надеется, что никто не успел заметить его короткого замешательства. — Конечно. Но раз королеву еще не известили, ведь стоило попытаться? Гляньте, как полезен нам мастер Ризли! Гляньте, как он доставляет нам сведения от секретаря Гардинера. Рейф говорит: — Это жестоко. Угрожать матери, что у нее отнимут ребенка. — Жестоко… но вопрос в том, выбрал ли ты себе государя. Потому что так это происходит: ты выбираешь, зная, кто он и каков. И дальше на все его слова ты отвечаешь «да»: да, это возможно, да, это исполнимо. Если тебе не по вкусу Генрих, отправляйся за границу и найди себе другого государя. Только учти: будь здесь Италия, Екатерина давно лежала бы в могиле. — Но ты же уверял, что чтишь королеву! — возмущается Грегори. — Да. И чтил бы ее труп. — Но ты же не станешь ее губить? Он резко останавливается, берет сына за руку и разворачивает к себе. — Давай восстановим в памяти наш разговор. Грегори пытается вырвать руку. — Нет, Грегори, послушай. Я сказал, что ты находишь способы исполнить королевские желания. Это и значит быть придворным. Теперь пойми: никогда в жизни Генрих не попросит меня или кого-нибудь другого причинить вред королеве. Он что, чудовище? Он и сейчас питает к ней теплые чувства, что неудивительно. И у него есть душа, которую он надеется спасти. Король каждый день исповедуется кому-нибудь из своих капелланов. Думаешь, император или король Франциск делают это так же часто? Смею тебя заверить, сердце Генриха исполнено лучших чувств; могу поручиться, что ни одна душа в христианском мире не вопрошается с такой строгостью. Ризли говорит: — Мастер Кромвель, это ваш сын, а не посол. Он выпускает Грегори. — Не отправиться ли нам по реке? Там, должно быть, ветерок. Нижний двор. Шесть пар псов маются в клетках на колесах, приготовленных к отправке. Псы залезают друг на друга, стучат хвостами, грызутся между собой; их скулеж добавляется к общему полупаническому чувству, охватившему дворец. Это похоже не столько на обычные летние сборы, сколько на поспешное отступление из форта. Потные работники укладывают на телеги королевскую мебель. Двое застряли в дверях с кованым сундуком. Он вспоминает, как сам, избитый подросток, помогал грузить телеги в надежде, что его подвезут. Подходит ближе. — И как вас, ребята, угораздило? Он берется за край сундука, помогает им отступить назад в тень, потом одним движением ладони разворачивает сундук под нужным углом, и через мгновение оба молодчика, пыхтя и спотыкаясь, выскакивают на свет с таким ликующим возгласом, будто сами сообразили, как тут управиться. Он говорит, покончите с вещами короля — сразу начинайте грузить вещи королевы, она едет в Мор. Они удивляются: что, правда? А если она откажется? Тогда мы закатаем ее в ковер и отнесем на телегу. Дает каждому по монетке. Не перетруждайтесь, ребята, в такую жару нельзя много работать. Конюх подводит лошадей, чтобы запрячь в собачьи фургоны; псы, почуяв запах, заходятся истерическим лаем, который слышно даже на реке. Вода темная, медлительная. На итонском берегу два сомлевших лебедя то выплывают из камышей, то снова в них заплывают. Лодка покачивается на едва заметной ряби. Он спрашивает: — Ба! Уж не Шон ли Мадок? — Никогда не забываете лица? — Такие уродливые — никогда. — А вы свое-то видели? — Лодочник ел яблоко вместе с сердцевиной; теперь он аккуратно сплевывает косточки за борт. — Как твой отец? — Помер. — Шон выплевывает черешок. — Из этих есть кто ваш? — Я, — говорит Грегори. — А вот мой. — Шон кивает на рослого парня за соседним веслом, тот краснеет и отворачивается. — Ваш папаша в такую погоду закрывал лавочку. Гасил огонь в кузне и отправлялся рыбачить. — Стегал воду удилищем и вышибал рыбам мозги, — говорит он. — Хватал их под жабры и орал: «На кого пялишься, зараза чешуйчатая? Я те дам на меня пялиться!» — Уолтер Кромвель был не из тех, кто без дела греется на солнце, — объясняет Шон. — Я много чего мог бы о нем рассказать. У мастера Ризли лицо удивленно-сосредоточенное. Мастеру Ризли невдомек, сколько можно узнать от лодочников, из их быстрого охального говорка. В двенадцать лет Кромвель свободно владел этим языком, и теперь слова приходят сами, природные, неочищенные. Есть прелесть в греческих цитатах, которыми он обменивается с Томасом Кранмером, с Зовите-меня-Ризли — прелесть первозданного наречия, свежего, как сочный молодой плод. Однако ни один эллинист не расскажет тебе, как Шон, что думает Патни о клятых Булленах. Генрих баловался с мамашей — на здоровьице. Баловался с сестрицей — а для чего еще и быть королем? Однако пора и честь знать. Мы же не звери лесные. Шон называет Анну угрем, склизкой ползучей гадиной, и Кромвелю вспоминаются слова кардинала про Мелузину. Шон говорит, она балуется с братом, и он спрашивает: с Джорджем? — А как бы его ни звали. У них вся семейка такая. Они занимаются французскими мерзостями, ну, знаете… — Нельзя ли потише? — Он опасливо смотрит назад, как будто за лодкой могут плыть соглядатаи. — Оттого она за себя спокойна, что не уступит королю, потому как ежели он ее обрюхатит, то спасибо, девонька, а теперь проваливай, вот она и говорит, нет, ваше величество, никак не можно, а ей-то что? Она-то знает, что в ту же ночь братец вылижет ее до печенки, а когда он спросит, сестрица, что мне делать с этим большим кулем, она ответит, не извольте печалиться, милорд братец, затолкайте его в заднюю дверь, там он никакого урона не причинит. — Спасибо, — говорит он, — я и не знал, как они управляются. Молодые люди понимают примерно одно слово из трех. Он платит Шону много больше, чем тот запросил. Ну и фантазия у лодочников! Он будет с удовольствием вспоминать измышления Шона. Так непохоже на настоящую Анну. Дома Грегори спрашивает: — Надо ли позволять людям такое болтать? Да еще и вознаграждать их деньгами? — Шон говорил что думает. И если ты хочешь узнать, что у людей на уме… — Зовите-меня-Ризли тебя боится. Говорит, когда вы вместе с секретарем Гардинером возвращались из Челси, ты грозился выкинуть его из собственной барки и утопить. Ему этот разговор помнится совершенно иначе. — И что, Зовите-меня считает, что я на такое способен? — Да. Он считает, что ты способен на все.
На Новый год он дарит Анне серебряные вилки с рукоятками из горного хрусталя и надеется, что она будет ими есть, а не втыкать их в людей. — Венецианские! — Анна с удовольствием вертит вилки, любуясь игрой света в хрустале. Он принес еще один подарок, завернутый в небесно-голубой шелк. — Это для девочки, которая все время плачет. Анна удивлена. — Вы разве не знаете? — Ее глаза вспыхивают злорадным удовольствием. — Наклонитесь поближе, я шепну вам на ухо. — Она прикасается к нему щекой, и он чувствует легкий аромат: роза, амбра. — Сэр Джон Сеймур? Милейший сэр Джон? Старый сэр Джон, как его называют. Сэр Джон старше его от силы лет на десять-двенадцать, однако благодушие старит. Впечатление такое, что Сеймур удалился на покой, предоставив сыновьям, Эдварду и Тому, блистать при дворе. — Теперь понятно, почему мы никогда его не видим, — продолжает Анна. — И чем он занимался в деревне. — Охотился, наверное. — Да, и поймал в силок Кэтрин Филлол, жену Эдварда. Их застали в самом неподобающем виде, только я не смогла выяснить, где: в его постели или в ее, в поле или на сене. Да, прохладно, однако они друг друга согревали. И теперь сэр Джон сознался во всем — так и сказал в лицо сыну, что имел ее каждую неделю, начиная со дня свадьбы, то есть два года и, скажем, еще шесть месяцев, всего… — Можно округлить до ста двадцати раз, если учитывать основные посты. — Прелюбодеи не воздерживаются даже в великий пост. — Надо же. Я думал, воздерживаются. — У нее двое детей, так что, допустим, был перерыв на роды… И оба — мальчики. Можете вообразить, каково сейчас Эдварду. Эдвард Сеймур с чистым орлиным профилем. Да, можно вообразить, каково ему сейчас. — Он отказался от обоих. Теперь они будут считаться бастардами. Кэтрин Филлол отправят в монастырь. А надо было бы посадить ее в клетку! Эдвард подал прошение, чтобы брак объявили недействительным. Что до милейшего сэра Джона, думаю, мы нескоро увидим его при дворе. — А почему шепотом? Наверняка я последний человек в Лондоне, который еще не знал. — Король не знает. А вам известно, как он благонравен. Так что если кто-нибудь подойдет к его величеству с грубой шуткой по этому поводу, пусть это будем не вы и не я. — А что дочь? Джейн то есть. Анна фыркает. — Бледная немочь? Уехала в Уилтшир. А лучше бы отправилась в монастырь вместе с невесткой. Ее сестра Лиззи удачно пристроена, но нашу мямлю никто не брал замуж, а теперь уж точно не возьмет. — Она вновь замечает подарок и с внезапным подозрением спрашивает: — Что это? — Книга с узорами для вышивки. — А… что угодно, лишь бы не перетрудить ее бедную головушку. Почему вы решили сделать ей подарок? — Мне ее жаль. А теперь, конечно, еще больше. — Хм. Она вам что, нравится? — (Правильный ответ: нет, леди Анна, мне нравитесь только вы.) — Пристало ли вам отправлять ей подарки? — О, это не Боккаччо. Она смеется. — Они могли бы рассказать Боккаччо много нового, эти грешники из Волчьего зала.
На исходе февраля сожгли священника Томаса Хиттона, арестованного епископом Рочестерским Фишером за контрабандный ввоз тиндейловской Библии. Некоторое время спустя гости, вставшие после скромного епископского ужина, повалились на пол в конвульсиях, исходя рвотой; бледных и полуживых от боли, их уложили в постель и поручили заботам лекарей. Доктор Беттс сказал, что они отравились бульоном: по свидетельству опрошенных слуг, только это блюдо ели все присутствовавшие. Есть яды, которые возникают в природе без чьей-либо злой воли — так что сам он, прежде чем отдавать епископского повара палачам, заглянул бы на кухню и снял пробу с бульона. Однако остальные убеждены, что это убийство. Повар сознается, что подсыпал в суп белый порошок, полученный от одного человека. От кого? От незнакомца, который сказал, что будет отличной шуткой, если Фишера и его друзей прихватит понос. Король вне себя от ярости и страха. Винит еретиков. Доктор Беттс качает головой, теребит нижнюю губу. Его величество, говорит доктор, боится яда сильнее, чем адовых мук. Станете вы подсыпать в еду неизвестный порошок, потому что незнакомец сказал, что это будет потешно? Повар молчит, а возможно, не в силах ничего сказать. Дознаватели переусердствовали, говорит он Беттсу, интересно, нарочно или по чьему-то указанию. Доктор, любящий слово Божие, отвечает с невеселым смешком: «Если они хотели узнать правду, им следовало пригласить Томаса Мора». Говорят, что лорд-канцлер в совершенстве освоил двойное искусство: растягивать и сжимать Божьих слуг. Когда еретиков доставляют в Тауэр, Мор стоит и смотрит, как их пытают. Говорят, у себя в Челси он держит арестованных в колодках, читает им наставления и требует: назови своего печатника, назови шкипера, который привез эти книги в Англию. Говорят, он пускает в ход бич, кандалы и тиски, называемые Скевингтонова дочка: в них помещают человека, согнутого в три погибели, и закручивают винт, пока не начнут трескаться ребра. Нужно большое искусство, чтобы арестант не задохнулся, потому что если он задохнется, от него уже ничего не узнаешь.
За неделю умирают двое из епископских гостей. Сам Фишер выкарабкивается. Он, Кромвель, думает, что повар, возможно, и назвал на допросе какие-то имена, но их обычным подданным знать не положено. Он идет к Анне. Она, как шип между двумя розами, сидит между своей кузиной Мэри Шелтон и женой своего брата, Джейн, леди Рочфорд. — Миледи, известно ли вам, что король придумал для епископского повара новую казнь? Его сварят живьем. Мэри Шелтон ахает и краснеет, будто ее ущипнул ухажер. Джейн Рочфорд цедит: «Vere dignum et justum est, aequum et salutare»,[47] — и переводит для Мэри: «Умно». На лице Анны — никакого выражения. Даже он, сведущий в стольких языках, ничего не может на нем прочесть. — Как это будет? — Я не интересовался. Вам угодно, чтобы я выяснил? Думаю, его подвесят на цепях, чтобы зрители видели, как будет слезать кожа, и слышали крики. Надо отдать Анне должное — скажи он сейчас, что ее сварят живьем, она, вероятно, только пожала бы плечами: се ля ви. Фишер месяц лежит в постели, а когда наконец появляется при дворе, похож на ходячий труп. Вмешательство ангелов и святых не помогло исцелить больной желудок и нарастить мясо на кости. Это дни суровой истины от Тиндейла. Святые вам не друзья и не заступники. Их нельзя нанять за свечи и молитвы, как вы нанимаете работников на сенокос. Христова жертва совершилась на Голгофе; она не совершается на мессе. Священники не помогут попасть в рай; для общения с Богом посредники не нужны. Никакие собственные заслуги вас не спасут; только заслуги живого Христа.
Март. Люси Петит, жена мастера-бакалейщика, члена палаты общин, приходит в Остин-фрайарз. На ней смушковая пелерина — судя по виду, привозная — и скромное платье из серого камлота. Алиса принимает у нее перчатки и украдкой щупает пальцем шелковую подкладку. Он встает из-за стола, берет Люси за руки, усаживает рядом с камином и наливает ей подогретого вина с пряностями. — Вот бы это все моему Джону. Вино. Камин, — говорит Люси. Ее руки, сжимающие чашку, сильно дрожат. Утром того дня, когда в дом на набережной Львов пришли с обыском, валил снег, позже зимнее солнце очистило оконные стекла, превратив обшитые панелями комнаты в резкое чередованье глубоких теней и холодного света. «Это то, о чем я все время думаю, — говорит Люси. — О холоде». И Мор, лицо закутано в меха, на пороге вместе с приставами, готовый обыскать лавку и жилые комнаты. «Я сколько могла, задерживала его любезностями. Я крикнула, дорогой, тут к тебе лорд-канцлер по парламентским делам. — Вино ударило ей в лицо, развязало язык. — Я все спрашивала, вы кушали, сэр, точно? а может все-таки покушаете? и слуги вертелись у него под ногами, — она издает невеселый, кашляющий смешок, — и все это время Джон запихивал бумаги за стенную панель». — Вы молодец, Люси. — Когда они поднялись наверх, Джон был готов их встретить — добро пожаловать, лорд-канцлер, в мое смиренное жилище, да только он ведь такой бестолковый — сунул Библию под стол, я как вошла, сразу увидела… просто чудо, что они не проследили мой взгляд. За час обыска так ничего и не нашли. А точно у вас нет этих новых книг, Джон, спросил лорд-канцлер, потому что мне сообщили, они у вас есть. (И Тиндейл, во все время разговора, как ядовитое пятно на полу). Не знаю, кто мог вам такое сказать, ответил Джон Петит. Я горжусь им, говорит Люси, протягивая чашку за следующей порцией вина, я горжусь тем, что он держался так смело. Мор сказал, да, правда, сегодня я ничего не нашел, но вам придется пойти с этими людьми в Тауэр. Арестуйте его. Джон Петит не молод. По распоряжению Мора он спит на охапке соломы, уложенной на каменныеплиты; посетителей впускают с единственной целью — чтобы те передали родным, как плохо арестант выглядит. — Мы отправляли еду и теплую одежду, — говорит Люси. — Нам все вернули со словами «таков приказ лорда-канцлера». — Существует тариф на взятки. Надо платить тюремщикам. У вас есть деньги? — Если понадобятся, я обращусь к вам. — Она ставит чашку на стол. — Он не сможет засадить в тюрьму нас всех. — У него много тюрем. — Для тела, да. Но что такое тело? У нас могут забрать наше добро, однако Господь возместит нам все сторицей. Могут закрыть книжные лавки, однако книги останутся. У них — древние кости в раках, стеклянные святые в витражах, свечи и капища; нам Господь даровал печатный станок. — Щеки ее горят. Она смотрит на разложенные по столу чертежи. — Что это, мастер Кромвель? — Планы моего будущего сада. Я надеюсь купить несколько соседних домов. Мне нужна земля. Она улыбается. — Сад… первое приятное слово, которое я слышу за долгое время… — Надеюсь, вы с Джоном еще сможете по нему погулять. — А это… Будете делать теннисный корт? — Если заполучу землю. А здесь, как видите, я намерен разбить фруктовый сад. В глазах ее стоят слезы. — Поговорите с королем. Мы на вас надеемся. Шаги Джоанны. Люси в испуге зажимает себе рот. — Господи, помилуй… В первый миг я приняла вас за вашу сестру. — Многие ошибаются, — говорит Джоанна, — и не все замечают свою ошибку. Мистрис Петит, мне очень жаль, что ваш муж в Тауэре, однако вы сами виноваты. Вы и ваши единоверцы больше других клеветали на покойного кардинала, а теперь, небось, все бы отдали, лишь бы его вернуть. Люси встает, смотрит долгим взглядом через плечо и выходит без единого слова. За дверью слышен голос Мерси — здесь Люси ждет больше женского сочувствия. Джоанна подходит, протягивает к камину замершие руки. — Что, она считает, ты можешь сделать? — Пойти к королю. Или к леди Анне. — И ты пойдешь? Не надо, прошу тебя. — Она вытирает рукой слезу: Люси ее расстроила. — Мор не станет пытать Джона — пойдут разговоры, Сити возмутится. Хотя, конечно, он может умереть в тюрьме. — Джоанна смотрит на него искоса. — А она ведь старая, Люси Петит. Ей не стоит носить серое. Ты заметил, как у нее ввалились щеки? Она уже не сможет родить. — Я учту. Джоанна теребит фартук. — А если все-таки станет?.. И Джон назовет имена? — Мне-то что? — Он отводит взгляд. — Мор и без того знает мое имя.
Он говорит с леди Анной. Что я могу поделать? — спрашивает она, и он отвечает, думаю, вам известно, как умилостивить короля. Она смеется: что, отдать мою девственность ради бакалейщика? Он говорит с королем при всяком удобном случае, однако у Генриха ответ один: лорд-канцлер знает свое дело. Анна оправдывается: я, как вы знаете, самолично вложила книги Тиндейла в руки короля, ваше величество, можно ли Тиндейлу вернуться? Всю зиму идут переговоры, письма летят через Ла-Манш и обратно. Весной Стивен Воэн, его торговый представить в Антверпене, организовал встречу: вечер, сумерки, поле за городом. Когда Тиндейлу вручили письмо Кромвеля, тот заплакал. Я так хочу на родину, я устал укрываться по чужим домам; если король скажет «да» Писанию на английском, пусть сам выберет переводчика, я не напишу больше ни слова. Пусть делает со мной что хочет, пытает меня и сожжет, лишь бы англичане услышали слово Божье. Генрих не говорит «нет, никогда» — не может сказать, чтобы не огорчить леди Анну. Хотя тиндейловский и другие переводы по-прежнему запрещены, король, возможно, когда-нибудь выберет ученого мужа, которому и поручит этот труд. Однако с началом лета он, Кромвель, понимает, что подошел слишком близко к краю — надо осторожно сдавать назад. Генрих слишком нерешителен, Тиндейл слишком бескомпромиссен. В письмах к Стивену в Амстердам сквозит паника: пора выбираться с тонущего корабля. Он не намерен приносить себя в жертву Тиндейловой суровости. Господи Боже мой, думает он, Мор и Тиндейл друг друга заслуживают — эти упрямые мулы в человеческой оболочке. Тиндейл не соглашается одобрить королевский развод, и монах Лютер, кстати, тоже. Казалось бы, можно чуточку поступиться принципами, чтобы заручиться королевской дружбой, — ан нет, ни в какую. А когда Генрих спрашивает: «Кто такой Тиндейл, чтобы меня судить?», тот строчит ответ: «Каждый христианин может судить другого христианина». — Кошка может смотреть на короля. — Он держит на руках Марлинспайка и говорит с Томасом Авери, молодым человеком, которого взял себе в обучение. Мальчик живет у Стивена Воэна, осваивает обычаи амстердамских торговцев, но в любой день может ворваться в дом на Остин-фрайарз с дорожным мешком подмышкой, крича, чтобы Мерси, Джоанна и девочки шли смотреть, каких он привез сластей и безделушек. Ричарда, Рейфа и Грегори, если тот случается дома, Авери награждает парой шутливых тумаков — мол, я здесь, — однако мешок с запасным джеркином и парой чистых рубах из рук не выпускает ни на миг. Мальчик идет за ним в кабинет. — Хозяин, а вы когда путешествовали в чужих краях, по дому не тосковали? Он пожимает плечами: наверное, будь у меня дом, тосковал бы. Опускает кота на пол, открывает мешок, выуживает четки. Для видимости, поясняет Авери, и он говорит, молодец. Марлинспайк вспрыгивает на стол, трогает мешок лапой, заглядывает внутрь. — Мыши там только сахарные. — Мальчик оттягивает кота за уши, возится с ним. — У мастера Воэна в доме нет ни собак, и кошек. — Стивен признает только дела. И очень последнее время строг. — Он говорит: «Томас Авери, во сколько ты вчера вернулся? Написал ли ты хозяину? Был ли у мессы?» Будто ему есть дело до мессы! Только что не спрашивает, давно ли я справлял большую нужду! — Следующей весной ты сможешь вернуться сюда. За разговором он достает джеркин,[48] выворачивает наизнанку и ножничками начинает распарывать шов. — Стежок к стежку. Кто шил? Мальчик мнется, краснеет. — Женнеке. Он вытаскивает из-за подкладки тонкий сложенный листок. Разворачивает. — Глазки у нее, наверное, зоркие. — Да. — И хорошенькие? — Он с улыбкой поднимает взгляд. Мальчик смотрит ему в лицо и как будто хочет заговорить, но тут же смущается и вешает голову. — Просто мучаю тебя, Том, не обижайся. — Он читает письмо Тиндейла. — Если она хорошая девушка, что тут дурного? — Что пишет Тиндейл? — Ты вез письмо, не прочитав? — Я решил лучше не читать. Вдруг… Вдруг ты окажешься гостем Томаса Мора. Он перекладывает письмо в левую руку, правая сжимается в кулак. — Пусть только приблизится к кому-нибудь из моих. Я его вытащу из Вестминстера и буду бить головой о мостовую, пока не приведу в разум. Он у меня поймет, что такое любовь к Богу и в чем она должна проявляться! Мальчик издает короткий смешок и плюхается на табурет. Он, Кромвель, снова смотрит в письмо. — Тиндейл пишет, что не сможет вернуться в Англию, даже если леди Анна станет королевой — чему он сам, должен отметить, никоим образом не способствует. Пишет, что не поверит гарантиям безопасности, даже за подписью короля, пока Мор жив и на своей должности, потому что Мор говорит, не обязательно держать обещания, данные еретикам. Вот. Можешь сам прочесть. Все равно наш лорд-канцлер невиновность или неведение в зачет не принимает. Мальчик вздрагивает, но письмо берет. Что это за мир, в котором люди не держат обещаний? Он говорит мягко: — Расскажи мне про Женнеке. Хочешь, я напишу ее отцу? — Нет. — Авери поднимает глаза, хмурится. — Нет, она сирота, воспитанница мастера Воэна. Мы все учим ее английскому. — То есть денег она тебе не принесет? Мальчик смущается. — Думаю, мастер Стивен даст ей приданое… Тепло, и камин не топится. Свечи еще не зажигали, так что он просто рвет письмо на мелкие клочки. Марлинспайк, навострив уши, съедает обрывок бумаги. — Благочестивый кот, — говорит он. — Всегда любил слово Божие. Scriptura sola. Только Писание утешит тебя и направит на путь спасения. Бесполезно молиться резной деревяшке и ставить свечи перед раскрашенной доской. Тиндейл говорит, «Евангелие» означает добрую весть, песни и пляски — в рамках приличий, разумеется. Томас Авери спрашивает: — Мне правда можно будет вернуться, как только наступит весна? Джону Петиту в Тауэре разрешили спать на кровати; впрочем, о возвращении узника домой речь не идет. Как-то в ночном разговоре Кранмер сказал ему: святой Августин учит нас не спрашивать, где наш дом, ибо в конце концов все мы придем к Богу.
Великий пост изнуряет дух, для чего, собственно, и предназначен. Придя очередной раз к Анне, он видит Марка, который, согнувшись над лютней, наигрывает что-то заунывное, и, мимоходом стукнув того по голове пальцем, бросает: — Сыграй что-нибудь повеселее, а? Марк едва не падает с табурета. Ему думается, что они живут, как в тумане: все эти люди, которых так легко напугать, застигнуть врасплох. Анна, очнувшись от своей полудремы, спрашивает: — Что вы сейчас сделали? — Ударил Марка. — Он показывает палец. — Вот только им. Анна спрашивает: — Марк? О ком вы? А… Его так зовут? Нынешней весной его задача — быть бодрым и жизнерадостным. Кардинал вечно на что-нибудь жаловался — правда, со своим всегдашним остроумием. И чем больше Вулси брюзжал, тем бодрее отвечал его слуга Кромвель; таков был их негласный договор. Король тоже постоянно всем недоволен. Голова болит. Герцог Суффолк — тупица. Погода не по сезону жаркая. Страна катится к чертям собачьим. И еще король боится сглаза, боится, что о нем плохо говорят — по конкретному поводу или абстрактно. И чем больше король тревожится, тем оптимистичней его новый слуга, тем увереннее и тверже себя держит. И чем больше король рявкает и ворчит, тем больше просители стараются попасть к Кромвелю, неизменно учтивому и приветливому. Дома к нему подходит Джо, чем-то не на шутку озабоченная. Она теперь барышня и по-женски хмурит лоб, в точности как ее мать Джоанна. — Сэр, как нам красить яйца на Пасху? — А как вы красили раньше? — До прошлого года мы рисовали кардинальские шапки. — Говоря, Джо пристально наблюдает за его лицом; в точности моя привычка, думает он. Что ж, твои дети — это не только твои дети. — Нельзя было так делать? — Отчего же? Жаль, я не знал. Я бы подарил кардиналу такое яйцо — ему бы понравилось. Джо вкладывает свою мягкую ручонку — детскую, в цыпках, с обгрызенными ногтями — в его ладонь. — Теперь я в королевском совете, — говорит он. — Можете рисовать короны. То, что у него с ее матерью, это безумие надо прекращать. Джоанна и сама понимает. Она придумывала любые оправдания, чтобы жить там же, где он, однако сейчас если он в Остин-фрайарз, то она — в Степни. — Мерси знает, — шепчет как-то Джоанна, проходя мимо. Удивительно, что Мерси так долго ни о чем не догадывалась, но здесь заключен урок: думаешь, будто люди постоянно за тобой наблюдают, а это просто нечистая совесть заставляет тебя шарахаться от теней. Однако в конце концов Мерси обнаружила, что у нее есть глаза, а кроме глаз — еще и язык, и улучила минутку поговорить наедине. — Мне сказали, что король нашел способ обойти по крайней мере один камень преткновения — как вступить в брак с леди Анной, если он спал с ее сестрой. — У нас есть к кому обратиться, — беспечно отвечает Кромвель. — По моему совету доктор Кранмер адресовал вопрос ученым венецианским раввинам, чтобы те сверились с древними текстами. — Так это не кровосмешение? Если ты не состоял в законном браке с одной из сестер? — Талмудисты говорят — нет. — И во сколько это обошлось? — Доктор Кранмер не знает. Ученые мужи заседают за столом переговоров, а после к ним подходят не столь праведные люди и передают деньги. Одним совершенно не обязательно замечать других. — В твоем случае это не поможет, — говорит Мерси напрямик. — В моем случае ничто не поможет. — Она хочет с тобой поговорить. Джоанна. — Что тут обсуждать? И так понятно… — И так понятно, что надежды никакой, пусть даже ее муж, Джон Уильямсон, по-прежнему кашляет — и здесь, и в Степни постоянно вполуха вслушиваешься, не раздастся ли на лестнице или в соседней комнате предупреждающее «кхе-кхе»; надо отдать Джону Уильямсону должное, вот уж кто никогда не застанет тебя врасплох. Доктор Беттс порекомендовал Джону свежий воздух, подальше от дыма и копоти. — Это была минутная слабость, — говорит он. А потом что? Еще одна минутная слабость. — Ты должен ее выслушать. — Мерси поднимает к нему пылающее лицо. — По совести.
— Для меня это все — часть прошлого. — Голос у Джоанны дрожит; она поправляет чепец и закидывает вуаль — легкое облако шелка — за плечо. — Я долго не могла поверить, что Лиз и вправду умерла — все ждала, что она сейчас войдет. Его постоянно мучил соблазн наряжать Джоанну в красивые дорогие платья, и он, по словам Мерси, «швырял» деньги лондонским ювелирам и торговцам тканями, так что женщинам с Остин-фрайарз завидовали все городские кумушки и, заходясь в молитвенном восторге, шептали им вслед: Господи милостивый, к Томасу Кромвелю, деньги-то так и текут, ну чисто благодать Божья. — И теперь я думаю, — говорит Джоанна, — это случилось оттого, что она умерла, а мы горевали и не могли поверить в ее смерть. И хватит. То есть мы все равно горюем. И всегда будем горевать. Он понимает ее. Лиз умерла в другую эпоху, когда кардинал был первым лицом в стране, а он — слугой кардинала. — Если ты надумаешь жениться, — говорит Джоанна, — Мерси кое-кого тебе присмотрела. Впрочем, думаю, и у тебя есть невесты на примете — и ни одной из них мы не знаем. Конечно, — продолжает она, — если бы Джон Уильямсон… прости, Господи, но я каждую зиму думаю, что он до весны не дотянет, то конечно, Томас, я бы сразу, как дозволяют приличия, чтобы не с кладбища да к алтарю, только ведь церковь не разрешит. Закон не разрешит. — Кто знает, — говорит он. Она раскидывает руки, слова так и хлещут: — Говорят, будто ты намерен, будто ты хочешь сломить епископов и сделать короля главой церкви, отнять у папы церковную десятину и отдать Генриху, чтобы Генрих устанавливал законы по своей воле, мог прогнать жену и обвенчаться с леди Анной, решал, что грех, а что — нет, и кому можно на ком жениться. А принцесса Мария, храни ее Господь, станет незаконнорожденной, и следующим королем будет сын леди Анны. — Джоанна… когда парламент соберется снова, давай ты придешь и повторишь, что сейчас сказала? Это сбережет всем уйму времени. Она в ужасе. — Общины за такое не проголосуют. И лорды тоже. Епископ Фишер такого не допустит. Архиепископ Уорхем. Герцог Норфолк. Томас Мор. — Фишер болен. Уорхем стар. Норфолк не далее как третьего дня сказал мне: «Я устал, — прости, но я повторяю его выражение, — сражаться под запятнанным знаменем Екатерининой брачной простыни, а уж смог тогда Артур или нет, теперь один… теперь все равно». — Он на ходу заменяет непроизносимое слово. — «Пусть уж моя племянница Анна покажет, на что способна». — А на что она способна? Джоанна, приоткрыв рот, ждет ответа. Слова герцога прокатятся по Грейсчерч-стрит, по мосту, на ту сторону реки, и размалеванные саутуоркские девки понесут их на языке, как заразу. А чего еще ждать от Говардов, от Болейнов, от всей их породы; молчи — не молчи, рано или поздно молва об Аннином нраве облетит и Лондон, и весь мир. — Она испытывает королевское терпение, — говорит он. — Король жалуется, что Екатерина в жизни с ним не разговаривала, как Анна. По словам Норфолка, Анна обзывает короля хуже, чем собаку. — Странно, что он ее не выпорет. — Может, еще и выпорет, как поженятся. Понимаешь, если бы Екатерина отозвала из Рима свою жалобу и согласилась, чтобы дело разбирали в Англии, или папа аннулировал-таки их брак, ничего такого — ничего из того, о чем ты говорила, — не произошло бы, просто… — Он делает плавное движение, будто сворачивает пергаментный свиток. — Если бы Климент в одно прекрасное утро подошел к столу и спросонок подмахнул левой рукой непрочитанный документ, кто бы его осудил? И остались бы ему его доходы, его власть, потому что Генриху нужно только одно — затащить Анну в постель, однако время идет, и, поверь мне, у Генриха появляются новые желания. — Да. Например, поступать по-своему. — Он король. Привык к этому. — А если папа будет и дальше упорствовать? — Значит, не получит своей десятины. — Неужто король приберет к рукам деньги простых христиан? Он и без того богат. — Тут ты ошибаешься. Король беден. — Ой. А ему-то это известно? — Я не знаю, ведомо ли королю, откуда берутся его деньги и куда уходят. Пока был жив милорд кардинал, его величеству довольно было захотеть новый алмаз на шляпу, красавца-скакуна или роскошный дворец — все появлялось само. Сейчас личными средствами государя заведует Генри Норрис, и еще король берет из казны — на мой взгляд, многовато. Генри Норрис, — говорит он, не дожидаясь вопроса, — мой злой рок, — однако не добавляет: «вечно оказывается у Анны, когда мне надо поговорить с ней наедине». — Пусть приходит к нам обедать, если проголодается. Не Генри Норрис, конечно, а наш нищий король. — Джоанна встает, видит себя в зеркале и тут же пригибается, словно испугавшись своего отражения. Он наблюдает, как она делает другое лицо: менее озабоченное, рассеянно-любопытное, не столь вовлеченное в разговор — чуточку поднимает брови, слегка выгибает уголки губ. Я мог бы нарисовать ее портрет, думает он, если бы владел кистью, я столько на нее смотрю. Однако от того, что смотришь, мертвые не возвращаются, и чем пристальнее всматриваешься, тем быстрее и дальше они уходят. Он никогда не думал, будто Лиз улыбается с небес, глядя на них с Джоанной. Нет, думает он, на самом деле я отодвигал Лиз в темноту и мрак, и внезапно ему вспоминаются давние слова Уолтера про мать. У нее была деревянная святая, которую она принесла в своем узелке, когда совсем молодой девушкой пришла в Патни с севера, и когда ложилась со мной в постель, рассказывал Уолтер, она поворачивала статуэтку лицом к стене. Боже мой, Томас, кажись, то была святая Фелиция, и уж точно она смотрела куда-то не на нас в ту злополучную ночь, когда я тебя сделал. Джоанна идет по комнате. Комната большая и наполнена светом. Джоанна говорит: — Все это… все эти вещи, которые у нас есть. Часы. Новый сундук, который ты выписал из Фландрии, резной, с цветами и птицами. Я своими ушами слышала, как ты сказал Томасу Авери, передай Стивену, мне нужен такой сундук, а цена меня не заботит. И картины с незнакомыми людьми, и, не знаю, лютни там, и книги по музыке, у нас ничего такого не было. В детстве я никогда не смотрелась в зеркало, а теперь смотрюсь каждый день. И гребень — ты подарил мне гребень из слоновой кости. У меня никогда не было своего. Лиз заплетала мне косы и убирала под чепец, а я — ей, и если волосы у нас растрепывались, кто-нибудь сразу кричал, чтобы мы не ходили, как чучела. Чем нам так любы прошлые тяготы? Почему мы гордимся, словно заслугой, что сносили брань и побои, что дома не было дров для очага и мяса на обед, что родители держали нас в черном теле и бранили по всякому поводу? Даже Лиз, давным-давно, увидев, что он вешает рубашонку Грегори у очага, чтобы согреть, сказала, не надо, а то привыкнет. — Лиз, — произносит он. — Прости, я хотел сказать, Джоанна… Сколько ж можно уже, говорит ее лицо. — Я хочу сделать тебе что-нибудь приятное. Скажи, что тебе подарить. Он ждет, что она закричит, как все женщины, не думай, будто можешь меня купить, однако она выслушивает, зачарованно, как ему кажется, с лицом внимательно-сосредоточенным, его теорию о том, чем хороши деньги. — Был во Флоренции один монах, фра Савонарола,[49] который внушил людям, будто красота греховна. Некоторые думают, что тут не обошлось без колдовства. Люди жгли на улицах костры и швыряли туда все, что любили, что сделали своими руками или приобрели на заработанные трудом деньги: шелковые ткани, белье, которое их матери вышили для брачного ложа, стихи, написанные рукою поэта, векселя и завещания, купчие на дома и закладные на землю, собак и кошек, рубашки с плеч и перстни с пальцев, женщины бросали в огонь покрывала, и знаешь, Джоанна, что хуже всего? они отправили в костер зеркала и теперь не видели своих лиц, не видели, чем отличаются от скотов бессловесных и от несчастной живности, которая корчилась в огне. А, растопив зеркала, они вернулись в пустые жилища и легли на пол, потому что сожгли кровати, и когда они встали на следующее утро, у всех ломило поясницу от спанья на жестком, и не было столов, чтобы сесть завтракать, потому что из столов сложили костры, и не было стульев, потому что стулья порубили на растопку, и не было хлеба, потому что пекари бросили в огонь квашни с опарой, муку и весы. А знаешь, что хуже всего? Они все были трезвы. Накануне они вытащили на улицу бурдюки с вином и… — Он делает движение, будто бросает что-то в костер. — Они были трезвы, головы у всех прояснились, люди смотрели вокруг себя и не знали, что им есть, что пить и на чем сидеть. — Ты сказал, хуже всего было не это, а зеркала. Невозможность посмотреть на себя. — Да. По крайней мере, я так думаю. Я всегда смотрю себе в лицо. И у тебя, Джоанна, всегда должно быть хорошее зеркало, чтобы глядеть на себя. Потому что ты женщина, на которую стоит поглядеть. Можно было бы написать сонет, Томас Уайетт мог бы написать ей сонет, и все равно не произвести такого впечатления. Она отворачивается, но сквозь тончайшую дымку покрывала он видит, как вспыхивают ее щеки. Потому что женщины вечно упрашивают, скажи мне, просто скажи мне хоть что-нибудь, скажи, о чем ты сейчас думаешь. Вот он и сказал. Они расстаются по-дружески, даже без последнего раза на прощанье. Не то чтобы они расстались совсем, просто у них теперь другие отношения. Мерси говорит: Томас, когда тебя зароют в могилу, ты с твоим умением уболтать кого угодно и оттуда выберешься. Дома тихо, спокойно; городская суета и шум остались за воротами. Он заказал новые замки, более прочные цепи. Джо приносит ему пасхальное яйцо. «Глянь, это мы оставили для тебя». Яйцо белое, гладкое, без носа и глаз, только из-под скособоченной короны выглядывает одна курчавая прядь цвета луковой шелухи. Ты выбираешь себе государя, зная, каков он. Или не зная? Девочка говорит: — Мама просила: скажи дяде, пусть подарит мне кубок из яйца грифона. Это лев с птичьей головой и крыльями, таких теперь больше не бывает. Он говорит: — Спроси маму, какого цвета. Она целует его в щеку. Он смотрит в зеркало и видит там всю комнату разом: лютни, портреты, шелковые занавеси. В Риме был банкир по имени Агостино Киджи — на родине, в Сиене, его считали богатейшим человеком мира. Принимая у себя папу, он выставил на стол золотые блюда, а в конце пира, оглядев разморенных вином, пресыщенных кардиналов и груды безобразных объедков — полу-обглоданные кости, устричную скорлупу и апельсиновые корки — сказал: выбросьте это все, чтобы не мыть. Гости пошвыряли золотые блюда через окно в Тибр, следом полетели грязные скатерти, салфетки парили над водой, словно голодные чайки. Раскаты римского хохота отдавались в римской ночи. Киджи заранее натянул вдоль реки сети и поставил ныряльщиков, которые выуживали из воды то, что летело мимо сетей. Зоркий эконом стоял на берегу с описью, отмечая в ней булавкой каждый поднятый со дна предмет.
1531-й: год кометы. В летних сумерках под лодочкой встающего месяца и новой хвостатой звездой мужи в черных одеяниях расхаживают рука об руку по саду, беседуя о спасении. Это Томас Кранмер, Хью Латимер, капелланы и секретари Анны, сорванные с места и принесенные в Остин-фрайарз свежим ветерком богословской дискуссии: где церковь сбилась с пути? Можем ли мы вернуть ее в верное русло? — Было бы ошибкой, — замечает он, глядя на них из окна, — полагать, будто эти джентльмены хоть в чем-нибудь между собой согласны. Дай им три месяца отдохнуть от Томаса Мора, и они воздвигнут гонения друг на друга. Грегори сидит на подушке и забавляется с собакой: щекочет ей нос пером и смеется, когда она чихает. — Сэр, — спрашивает Грегори, — почему все ваши собаки зовутся Беллами и всегда такие маленькие? Позади за дубовым столом сидит перед астролябией королевский астроном Николас Кратцер[50] и что-то пишет, затем, отложив перо, приподнимает голову. — Мастер Кромвель, либо мои расчеты неверны, либо вселенная не такова, как мы думаем. Кромвель спрашивает: — Почему кометы предвещают дурное? Почему не хорошее? Почему они пророчат гибель государств, а не расцвет? Кратцер — темноволосый, коренастый — примерно его ровесник, в Англию приехал из Мюнхена, а сюда пришел, чтобы в приятном обществе побеседовать на умные темы, в том числе по-немецки. Когда-то давно Кратцер сделал кардиналу, своему тогдашнему покровителю, золотые солнечные часы. Великий человек разрумянился от удовольствия. — Говорите, они показывают истинное время, но только если светит солнце? Что ж, куда лучше герцога Норфолка, который не говорит истину никогда! В 1456 году тоже была комета. Астрономы оставили о ней записи, Папа Каликст предал ее анафеме, и, возможно, живы еще два-три старика, видевшие ее своими глазами. Сообщают, что хвост кометы формой напоминал ятаган, и том же году турки осадили Белград. Важно примечать все небесные знамения — монархи нуждаются в указаниях из самых авторитетных источников. Осенью 1524 года все семь планет выстроились в созвездии Рыб, предрекая войну в Германии, появление Лютеровой секты, восстание простолюдинов и гибель ста тысяч императорских подданных, а также три дождливых лета подряд. Разорение Рима предвозвестили, за десять лет до самого события, звуки битвы в небе и под землей: столкновение невидимых воинств, звон стали о сталь, смутные стоны умирающих. Сам он тогда в Риме не был и слышать этого не мог, однако многие рассказывают, что друзья их знакомых слышали. Он говорит: — Ну, если вы ручаетесь, что углы измерены верно, я могу проверить расчет. Грегори спрашивает: — Доктор Кратцер, а куда деваются кометы, когда мы на них не смотрим? Солнце почти село, птицы затихли, через открытые окна из сада доносится аромат пряных трав. Кратцер застыл, сцепив длинные узловатые пальцы: не то молится, не то размышляет над вопросом Грегори. В саду доктор Латимер поднимает голову и машет рукой. — Хью голоден. Грегори, зови гостей в дом. — Я прежде перепроверю расчеты, — мотает головой Кратцер. — Лютер говорит, Бог выше математики. Кратцеру приносят свечи. Зыбкие сферы света дрожат над дубовым столом, который в сумерках кажется почти черным. Губы ученого шевелятся, словно губы монаха, читающего вечерние молитвы, цифры льются с пера на бумагу. Он, Кромвель, обернувшись на пороге, видит, как они вспархивают со стола, скользят по стене и сливаются с тенями в углах.
Из кухни, тяжело ступая, приходит недовольный Терстон. — Не понимаю, что все о нас думают. Надо срочно давать большой обед, а лучше — два, иначе нам конец. Ваши друзья — любители охотничьей забавы, да и любительницы тоже — прислали нам столько дичи, что можно накормить армию. — Подари соседям. — Суффолк присылает по оленю каждый день. — Мсье Шапюи — наш сосед и вряд ли избалован подарками. — А Норфолк… — Вынеси туши к задним воротам и спроси, кто в приходе голоден. — Но их надо свежевать! Рубить! — Ладно, я тебе помогу. — Это немыслимо! — Терстон в отчаянии теребит фартук. — Мне будет только в удовольствие. Он снимает кардинальское кольцо. — Сидите! Сидите! Будьте джентльменом, сэр. Отдайте кого-нибудь под суд! Составьте закон! Сэр, вам следует забыть, что вы когда-то умели рубить мясо. Он со вздохом опускается обратно на стул. — Наши благодетели получают письма с выражениями признательности? Мне следовало бы подписывать их самому. — Десять писцов целый день только и делают, что строчат такие письма. — Тебе надо взять еще мальчишек на кухню. — А вам — еще писцов. Если король требует его к себе, он едет из Лондона туда, где сейчас король. Первое утро августа застает его в группе придворных, наблюдающих, как Анна в костюме девы Марианны стреляет из лука по мишени. — Уильям Брертон, добрый день, — говорит он. — Вы не в Чешире? — Именно там, вопреки очевидному свидетельству ваших глаз. Сам напросился. — Просто я думал, вы будете охотиться в собственном поместье. Брертон скалится: — Я что, должен давать вам отчет в своих действиях? На зеленой поляне, в зеленых шелках, Анна швыряет лук на траву — тетива негодная, лук негодный, стрелять невозможно. — Она и в детстве была такой. Он оборачивается и видит рядом с собой Марию Болейн — на дюйм ближе, чем подошла бы любая другая женщина. — А где Робин Гуд? — Он смотрит на Анну. — У меня срочные бумаги. — До заката он их смотреть не будет. — А после заката он не занят? — Она продает себя по дюйму. Все джентльмены скажут, это ваша выучка. Чтобы продвинуться от колена еще чуть дальше, король должен всякий раз готовить денежный подарок. — То ли дело вы, Мария, послушная девочка. Легла на спинку — получила четыре пенса. — Ну да. Если укладывает король. — Она смеется. — У Анны очень длинные ноги. Казна истощится раньше, чем король дойдет до сладкого. Воевать во Франции куда дешевле. Мистрис Шелтон протягивает Анне другой лук, но та, отмахнувшись, решительно идет к ним через поляну. Золотая сетка на голове Анны блестит крохотными алмазиками. — В чем дело, Мария? Вновь покушаешься на репутацию мастера Кромвеля? Среди придворных раздаются смешки. — У вас есть для меня приятные новости? — Она берет его под руку, ее голос и взгляд мягчеют. Смешки разом стихают. В комнате на северной стороне, где не так печет, Анна говорит ему: — На самом деле это у меня для вас новости. Гардинер получит Винчестер. Самую богатую из епархий Вулси; он помнит все цифры. — После такого подарка мастер Стивен, возможно, станет добрее. Анна улыбается, кривя рот. — Не ко мне. Он старается убрать с дороги Екатерину, но не для того, чтобы ее место заняла я. И даже от Генриха этого не скрывает. Я бы предпочла, чтобы у короля был другой секретарь. Вы… — Рано. Она кивает. — Да. Возможно. А вы знаете, что Маленького Билни сожгли? Пока мы тут играли в разбойников. Билни арестовали, когда тот проповедовал в чистом поле и раздавал слушателям листки из тиндейловского Евангелия. В день казни был сильный ветер, который постоянно отдувал пламя от столба — Билни умирал долго. — Томас Мор сказал, в огне он отрекся от своих заблуждений, — говорит Анна. — Люди, присутствовавшие на казни, рассказывали мне иное. — Билни был глупец! — Лицо Анны наливается гневным румянцем. — Говорить надо то, что сохранит тебе жизнь, пока не настанут лучшие времена. Греха в том нет. Ведь вы бы так и поступили? Он мнется, что вообще-то не в его характере. — Ой, полноте, наверняка вы об этом думали! — Билни сам полез в костер. Я всегда говорил, что этим кончится. Он каялся после первого ареста, а пойманным во второй раз нет милосердия. Анна опускает глаза. — Какое счастье для меня и для вас, что милосердие Божие безгранично! — Она заметным усилием берет себя в руки. Распрямляет стан. От нее пахнет лавандой и зеленой листвой. В сумерках ее алмазы холодны, как дождевые капли. — Король разбойников скоро вернется. Идемте его встречать. Заканчивается уборка урожая. Ночи лиловы, комета сияет над жнивьем. Охотники скликают собак. После Крестовоздвижения на оленей больше не охотятся. Когда он был маленьким, в это время года мальчишки, жившие все лето на пустырях, возвращались домой мириться с отцами — обычно старались прошмыгнуть незаметно, когда приход празднует завершение жатвы и все пьяны. С Троицы они жили чем придется: ловили в силки кроликов и птиц, варили их в общем котле, гоняли проходящих девчонок, которые с воплем разбегались от них по домам, холодными дождливыми ночами тайком залезали в сараи, где согревались песнями, шутками и загадками. В конце лета ему поручают продать котел, и он ходит от двери к двери, расписывая, что это за чудо-вещь. — Купите котелок, хозяюшка, никогда не будете голодать. Бросьте туда рыбьи головы — выплывет палтус. — Он дырявый? — Целее не бывает! Не верите — помочитесь в него. Ну, сколько дадите? Таких котелков не видывали со дней, когда Мерлин был мальчишкой. Бросьте туда мышь из мышеловки — она превратится в запеченную кабанью голову с яблоком во рту. — Сколько тебе лет? — спрашивает женщина. — Не скажу. — Приходи через год — полежим в моей пуховой постели. — Через год я отсюда сбегу. — Станешь бродячим фокусником? Будешь показывать всем свой котелок? — Нет, лучше подамся в разбойники. Или буду поводырем с медведем — это надежнее. Женщина говорит: — Желаю успеха.
Вечером после купанья, ужина, пения и танцев его величество изъявляет желание прогуляться. Король пьет домашнее вино, не крепче сидра, однако сегодня быстро опрокинул первый кубок и потребовал еще, так что Френсис Уэстон вынужден поддерживать захмелевшего монарха под локоток. Выпала обильная роса, и джентльмены с факелами осторожно ступают по мокрой траве, под ногами у них хлюпает. Король глубоко вдыхает сырой воздух. — Вы не ладите с Гардинером, — говорит его величество. — Я с ним не ссорился, — учтиво замечает Кромвель. — Значит, Гардинер поссорился с вами. — Король исчезает во тьме и в следующий миг продолжает из-за горящего факела, словно Господь из неопалимой купины. — Я в силах управиться со Стивеном — как раз такой упрямый и решительный слуга мне сейчас нужен. Мне ни к чему люди, которые неспособны отстаивать свое мнение. — Вашему величеству следует вернуться в дом. Ночные испарения вредны для здоровья. — Ну в точности кардинал! — смеется король. Он подходит к королю слева. У Френсиса Уэстона, молодого и хрупкого, уже немного подгибаются колени. — Обопритесь на меня, сэр, — советует он, и король повисает на его плече, сдавливая локтем горло. «Или поводырем с медведем — это надежнее». Ему кажется, будто король плачет. Он не сбежал на следующее лето ни в разбойники, ни в медвежьи поводыри. В тот год мятежные корнуольцы двинулись на Лондон, чтобы захватить английского короля и подчинить своей корнуольской воле.[51] Страх бежал впереди мятежного войска: все знали, что корнуольцы жгут стога и режут поджилки скоту, предают огню дома вместе с жителями, убивают священников, едят младенцев и топчут священные облатки. Король резко убирает руку с его плеча. — Идемте к нашим холодным постелям. Или она только у меня холодная? Завтра — на охоту. Если у вас нет хорошего коня, вам подберут из моих. Проверю, так ли вы неутомимы, как говорил кардинал. Вам с Гардинером надо научиться тянуть в одной упряжке. Этим летом я намерен запрячь вас обоих в плуг. Королю нужны не подъяремные волы, а неистовые быки, которые столкнутся лбами, увеча себя в битве за монаршие милости. Пока он не в ладу с Гардинером, у него больше шансов оставаться приближенным слугой. Разделяй и властвуй. Впрочем, он и так властвует.
Хотя парламент еще не созывали, осень выдалась на редкость напряженная. Толстые кипы королевских бумаг приносят почти ежечасно. В домена Остин-фрайарз толпятся купцы из Сити, монахи, священники — все молят уделить им по пять минут. Словно почуяв, что близится некая перемена власти, некое занятное действо, у ворот с утра пораньше собираются кучки лондонцев, глазеют на входящих челядинцев, тыча пальцами: вот человек в ливрее герцога Норфолка, вот посыльный от графа Уилтширского. Кромвель смотрит из окна, и ему кажется, что он их узнает: это сыновья тех самых людей, которые по осени грелись и судачили в дверях отцовской кузни, такие же мальчишки, каким был он сам, нетерпеливо ждущие чего-то нового. Он смотрит на них и делает подходящее к случаю лицо. Эразм говорит, что всякий раз, выходя из дома, следует придать своим чертам желаемое выражение, натянуть, так сказать, маску. Он натягивает маску, вступая в любой дом, будь то герцогский дворец или придорожная корчма. Он посылает Эразму деньги, как прежде кардинал. «На хлеб, чернила и перья», — говаривал милорд. Эразм удивлен, поскольку слышал о Томасе Кромвеле только дурное. С того дня как его включили в королевский совет, он учился придавать лицу нужное выражение: наблюдал, как мелькают в чертах других придворных сомнения, опаска, непокорство, пока их не сменит всегдашняя угодливая полу-улыбка. Рейф говорит, не следует доверять Ризли, и он смеется: с Зовите-меня все ясно. Он хорошо устроился при дворе, но начинал у кардинала — а кто нет? Гардинер был его наставником в Тринити-холле; он наблюдал, как мы оба пробиваемся наверх, как обрастаем мускулами — два бойцовых пса, — и никак не решит, на которого ставить. Я бы на его месте, наверное, метался бы точно так же. В мои дни было проще: снимай последнюю рубаху и ставь на Вулси. Ризли и таких, как Ризли, бояться незачем: всегда известно, чего ждать от людей без совести. Покуда ты их прикармливаешь, они тебе служат. Куда непредсказуемее, куда опаснее такие, как Стивен Воэн, пишущий: «Томас Кромвель, ради вас я готов на все». Друзья и единомышленники, чьи объятья крепки, как на краю пропасти. Он распорядился, чтобы людям, толпящимся перед домом на Остин-фрайарз, давали пиво и хлеб, а с наступлением заморозков еще и горячий мясной бульон. Терстон ворчит: вы что, решили кормить всю округу? Он смеется: давно ли ты жаловался, что погреба переполнены, а кладовые ломятся от снеди? Апостол Павел учит, что надо уметь жить в скудости и изобилии, в голоде и сытости. Он идет на кухню знакомиться с мальчишками, которых нанял Терстон. Те громко выкрикивают свои имена и занятия, а он с серьезным видом записывает все в книгу: Саймон умеет заправлять салат и бить в барабан, Марк знает наизусть «Отче наш». Все эти гардзони[52] наверняка способны учиться. Когда-нибудь и они смогут подняться на второй этаж, как и он, занять место в конторе. Всем им надо выдать теплую и пристойную одежду, а также проследить, чтобы они ее носили, а не продали; по ламбетским дням он помнит, как холодно в кладовых. На кухне у Вулси в Хэмптон-корте, где печные трубы хорошо тянули, залетные снежинки, бывало, кружили под потолком и оседали на балках. Когда морозным утром он на рассвете выходит из дома в окружении писцов, лондонцы уже ждут. Они пятятся, давая дорогу, и смотрят без приязни или вражды. Он говорит «доброе утро» и «благослови вас Бог», — некоторые отвечают: «Доброе утро!» Они снимают шляпы и, поскольку теперь он королевский советник, стоят с непокрытой головой, пока он не пройдет.
Октябрь: мсье Шапюи, посол императора, обедает в доме на Остин-фрайарз, и одно из блюд в меню — Стивен Гардинер. — Не успел стать епископом Винчестерским, уже едет за границу, — говорит Шапюи. — Как по-вашему, понравится он королю Франциску? Неужто Генрих думает, что Гардинер преуспеет там, где не справился сэр Томас Болейн? Впрочем, наверное, мнение сэра Томаса может считаться предвзятым, все-таки дама — его дочь. Гардинер более… как вы это называете?.. более неопределенный? Менее заинтересованный, вот. Не вижу, с чего бы Франции поддержать этот брак, разве что Генрих предложит Франциску… что? Деньги? Корабли? Кале? За столом, где собрались все домашние, мсье Шапюи рассуждал о поэзии и живописи, предавался воспоминаниям о своих университетских годах в Турине, затем, повернувшись к Рейфу, который прекрасно говорит по-французски, завел речь о соколиной охоте — тема, наиболее уместная в разговорах с молодыми людьми. — Вам надо как-нибудь поохотиться вместе с хозяином, — говорит Рейф. — Это единственная забава, на которую он хоть иногда находит немного времени. — Метр Кромвель теперь играет в королевские игры. Встав из-за стола, Шапюи хвалит обед, музыку, мебель. Видно, как работает мозг дипломата, словно щелкают маленькие шестеренки искусно сработанных часов, превращая наблюдения в шифрованное послание императору Карлу. В кабинете Шапюи вываливает целый ворох вопросов — один за другим, не дожидаясь ответа. — Как Генрих будет обходиться без секретаря, пока епископ Винчестерский во Франции? Посольство мастера Стивена явно надолго. Может быть, это ваш шанс стать ближе к королю? Скажите, правда ли, что Гардинер — побочный кузен Генриха? И ваш племянник Ричард тоже? Императору трудно иметь дело с королем, в котором так мало царственности. Быть может, оттого он и хочет жениться на бедной дворяночке. — Я бы не назвал леди Анну бедной. — Да, король озолотил ее семейство, — ухмыляется Шапюи. — У вас в Англии девицам всегда платят вперед? — О да, и вам следует это запомнить — мне бы не хотелось, чтобы за вами гнались по улице с дубиной. — Вы помогаете леди Анне советами? — Я просматриваю ее счета. Небольшая дружеская услуга. — Дружеская! Вы знаете, что она ведьма? Она околдовала короля, и теперь ради нее он готов на все — стать изгоем христианского мира, заслужить вечное проклятие. И мне кажется, он отчасти это понимает. Я видел, каков он, когда она на него смотрит: мысли вразброс, душа мечется, словно заяц, которого преследует ястреб. Может, она и вас околдовала. — Мсье Шапюи подается вперед и кладет на его руку свою обезьянью лапку. — Сбросьте чары, мон шер ами, вы не пожалеете. Мой государь щедр.
Ноябрь. Сэр Генри Уайетт смотрит на стену в доме на Остин-фрайарз — туда, где раньше был кардинальский герб, а теперь голое место. — Его нет снами каких-то двенадцать месяцев, Томас, а мне кажется — куда дольше. Говорят, будто для стариков один год ничем не отличается от другого, но я вам скажу, что это не так. Сэр, кричат девочки, не такой уж вы старый, расскажите нам историю. Они тащат гостя к новому бархатному креслу и усаживают, как на трон. Каждой бы хотелось, чтобы сэр Генри был ее отцом, ее дедом. Старший Уайетт служил казначеем и у прежнего Генриха, и у нынешнего, и если Тюдоры бедны, то не по его вине. Алиса и Джобыли в саду, ловили кота. Сэр Генри любит, когда кошкам в доме оказывают почет; по просьбе детей он объясняет, из-за чего. — Некогда, — начинает сэр Генри, — царствовал в Англии жестокий тиран по имени Ричард Плантагенет. — Ой, они были просто ужас какие, эти Плантагенеты! — выпаливает Алиса. — А вы знаете, что некоторые из них до сих пор живы? Общий смех. — Правда-правда! — кричит Алиса. Щеки ее горят. — … и я, ваш слуга Уайетт, рассказывающий эту историю, был брошен Ричардом в темницу с одним-единственным зарешеченным окошком… Я спал на соломе, рассказывает сэр Генри. Наступила зима, но в темнице не было огня. Не было ни еды, ни воды, потому что тюремщики про меня забыли. Ричард Кромвель слушает, подперев голову рукой, потом смотрит на Рейфа и оба, как по команде, поворачиваются к Томасу. Он делает успокаивающий знак рукой, мол, пусть будет так, без подробностей. Они знают, что сэра Генри не забыли в Тауэре. Тюремщики прижигали его каленым железом. Вырвали ему зубы. — Что мне оставалось делать? — продолжает сэр Генри. — На мое счастье, темница была сырой, и я пил воду, которая текла по стенам. — А что вы ели? — тихо и зачарованно спрашивает Джо. — Ну вот мы и подошли к самому интересному. Однажды, говорит сэр Генри, когда я думал, что наверняка умру, если чего-нибудь не съем, что-то заслонило свет. Я поднял глаза к решетке и увидел кошку — обычную черно-белую лондонскую кошку. «Здравствуй, кисонька», — сказал я ей. Она мяукнула и выронила то, что держала в зубах. Угадайте, что это было? — Голубь! — кричит Джо. — Мистрис, либо вы сами были узницей, либо слышали эту историю раньше. Девочки забыли, что у сэра Генри не было повара, не было вертела и огня. Молодые люди отводят глаза, ежась при мысли о том, как узник скованными руками рвет массу перьев, кишащих птичьими блохами. — Какое-то время спустя за окном раздались колокольный звон и крики: «Тюдор! Тюдор!» Если бы не кошка с ее подарком, я не дожил бы до этого дня, не услышал, как ключ поворачивается в замке и сам король Генрих кричит: «Уайетт, вы здесь? Выходите и получите награду!» Можно простить рассказчику некоторое преувеличение. Король Генрих не приходил в темницу, но приходил Ричард: смотрел, как тюремщик калит на огне железо, слушал крики Генри Уайетта, брезгливо отшатывался от вони паленого мяса и командовал продолжать пытку. Говорят, Маленький Билни в ночь накануне казни сунул пальцы в пламя свечи и молил Христа научить его сносить боль. Очень неразумно увечить себя перед испытанием; впрочем, разумно или нет, но сейчас Кромвель об этом думает. — А теперь, сэр Генри, — просит Мерси, — расскажите нам про львицу, пожалуйста. Мы не уснем, если не услышим эту историю. — По справедливости ее должен рассказывать мой сын. Будь он здесь… — Будь здесь ваш сын, — говорит Ричард, — дамы смотрели бы на него во все глаза и вздыхали — да, и ты, Алиса! — так что им было бы не до историй! Оправившись после заключения, сэр Генри стал влиятельным человеком при дворе и некий почитатель прислал ему в дар львенка. Львенок оказался девочкой. Я растил ее в Алингтонском замке, как родное дитя, рассказывает сэр Генри, и, как все девицы, она выросла своевольной. Однажды, по моей собственной небрежности, она вышла из клетки. Леонтина, звал я, постой, я отведу тебя назад, но она бесшумно приникла к земле и посмотрела на меня; ее глаза горели огнем. И тут я понял, что я ей не отец, несмотря на всю прошлую заботу; я ее обед. Алиса в ужасе прижимает руку ко рту. — Сэр Генри, вы подумали, что настал ваш последний час! — О да, и так бы оно и случилось, не выйди во двор мой сын Томас. Он сразу увидел, в какой я опасности, и позвал, Леонтина, иди сюда. Она повернула голову, и в то же мгновение я сделал шаг назад, потом еще и еще. Смотри на меня, говорил Томас. В тот день он был одет очень ярко, ветер развевал его пышные рукава, свободную накидку и волосы — вы ведь знаете, они у него белокурые и длинные. Наверное, он казался столпом пламени — высоким и трепещущим на ветру. Леонтина замерла в недоумении, а я отступал, отступал, отступал… Леонтина поворачивается, приникает к земле, оставляет отца, начинает подбираться к сыну. Слышите, как ступают ее мягкие лапы, чувствуете запах крови у нее изо рта? (Тем временем сэр Генри Уайетт, в холодном поту, пятится, пятится, пятится в безопасность.) Мягким чарующим голосом, молитвенно-напевно, Том Уайетт говорит с львицей, просит святого Франциска открыть ее жестокое сердце для милосердия. Леонтина смотрит. Слушает. Открывает пасть. Рычит. «Что она сказала?» «Фи, фа, фо, фам, кровь англичанина чую там». Том Уайетт неподвижен, как статуя. Конюхи с сетями подкрадываются к львице. В футе от Тома она вновь замирает, прислушиваясь. Уши ее подрагивают. Он видит розовую струйку слюны на могучей челюсти, чувствует запах псины от львиной шерсти. Она изготовилась к прыжку. Том чует ее дыхание. Видит, как дрожат напряженные мускулы, как разевается пасть. Прыжок — и она падает, крутясь в воздухе, прямо на стрелу, вонзившуюся ей в ребра, кричит, стонет; вторая стрела входит в густой мех, и Леонтина, скуля, кружится на месте. На нее набрасывают сеть. Сэр Генри, хладнокровно приблизившись к львице, выпускает третью стрелу ей в горло. Умирая, она рычит. Кашляет кровью, бьет лапами. У одного из конюхов до сих пор шрам от ее когтя. Шкура висит на стене в Аллингтоне. — Приезжайте в гости, юные дамы, — говорит сэр Генри. — Увидите, какая она была огромная. — Молитвы Тома услышаны не были, — со смехом замечает Ричард. — Святой Франциск, как я понимаю, не вмешался. — Сэр Генри! — Джо тянет старика за рукав, — вы не рассказали самого главного. — Ах да. Забыл. Потом мой героический сын отошел в кусты, и его стошнило. Дети с шумом выдыхают и дружно принимаются хлопать. В свое время история достигла двора, и король — о ту пору молодой и чувствительный — был глубоко потрясен. Даже и сейчас, видя Тома, его величество кивает и шепчет про себя: «Том Уайетт. Укротитель львов».
Отдав должное ежевике со сливками (как раз для беззубых десен), сэр Генри говорит: «Если позволите, полслова наедине», и они удаляются в кабинет. На вашем месте, говорит сэр Генри, я попросил бы назначить меня хранителем королевских драгоценностей. Этот пост, пока я его занимал, позволял мне следить за доходами короны. — Попросить как? — Через леди Анну. — Может быть, ваш сын обратится к ней с такой просьбой? Сэр Генри смеется, вернее, хмыкает, показывая, что оценил шутку. Если верить пьяницам в кентских кабаках и дворцовым слугам (например, Марку), Томас Уайетт получил от Анны все, на что может надеяться джентльмен, даже в публичном доме. — Я намерен в этом году удалиться от двора, — продолжает сэр Генри. — Пора составлять завещание. Могу я назначить вас своим душеприказчиком? — Почту за честь. — Я не знаю другого человека, которому мог бы доверить свои дела. У вас очень надежная рука. Он с недоуменной улыбкой пожимает плечами: ничто в мире не кажется ему надежным. — Понимаю, — говорит Уайетт. — Наш общий друг в багряной мантии едва не утянул вас на дно. Но гляньте на себя: вы едите миндаль в окружении домочадцев, у вас все зубы на месте, ваши дела идут в гору, а люди вроде Норфолка с вами учтивы. — Нет надобности добавлять: «В то время как год назад они вытирали о вас ноги». Сэр Генри преломляет пальцами коричную вафлю и бережно, словно гостию, кладет на язык — причастие мирских даров. Даже сейчас, через сорок лет после Тауэра, его мучают боли в изувеченных деснах. — Томас, я хочу вас кое о чем попросить… Вы приглядите за моим сыном? Будете ему отцом? — Тому сколько, двадцать восемь? Возможно, он не обрадуется второму отцу. — Больше, чем я, вы не навредите. Я много в чем раскаиваюсь, особенно в том, как его женил… Ему было семнадцать, он не хотел этого брака, хотел я ради поддержания связей с кентскими соседями — она дочь барона Кобема. Том всегда был пригожим, добрым и учтивым, казалось бы, чего еще? — но не знаю, была ли она верна ему хоть месяц. Ну и он отплатил ей той же монетой… весь Аллингтон полон его шлюх, открой шкаф — оттуда вывалится девка. Отправился за границу, и что из этого вышло? Угодил в итальянскую тюрьму, мне никогда не понять, что там случилось. После Италии стал уж совсем шальной. Терцет написать — пожалуйста, а вот сесть и посмотреть, куда сплыли его деньги… — Сэр Генри трет подбородок. — В общем, сами знаете. При всех его недостатках, в Англии не сыщешь второго такого храбреца, как мой Том. — Может, спустимся вниз и присоединимся к обществу? Для нас каждое ваше посещение — праздник. Сэр Генри с усилием встает; он дороден, хотя ест только кашу и толченые овощи. — Томас, как так случилось, что я состарился? В гостиной разыгрывают спектакль: Рейф изображает Леонтину, все остальные покатываются со смеху. Не то чтобы мальчишки не поверили в историю про львицу, им просто хочется добавить в нее собственных красок. Ричард стоит на складном табурете и тихонько повизгивает, будто от страха. Кромвель решительно сдергивает мальчика за руку и говорит: — Вы завидуете Тому Уайетту. — Не сердитесь, хозяин! — Рейф, вновь обретя человеческую форму, плюхается на скамью. — Расскажите про Флоренцию. Что еще вы там делали, вы и Джованнино. — Не знаю, стоит ли. Вы из этого тоже сделаете фарс. Расскажите, расскажите, упрашивает дети, а Рейф вкрадчиво мурлычет. Кромвель озирается по сторонам. — А точно Зовите-меня-Ризли здесь нет? Ну… в свободные дни мы сносили дома. — Сносили? — переспрашивает Генри Уайетт. — И как же? — Взрывали. Конечно, с дозволения владельца. Если только дом был не совсем ветхий, не грозил рухнуть на прохожих. Деньги мы брали только за порох. Не за оценку состояния дома. — Весьма основательную, надо думать? — Куча возни ради удовольствия на несколько секунд. Впрочем, некоторые из ребят потом всерьез зарабатывали этим на хлеб, для нас же во Флоренции это была скорее забава, вроде рыбалки. По крайней мере, она не оставляла нам времени и желания бедокурить. — Он мнется. — Ну, почти не оставляла. Ричард спрашивает: — Зовите-меня рассказал Гардинеру? Про вашего купидона? — А ты как думаешь? Король сказал ему, я слышал, вы изготовили поддельную статую. Король смеялся, но, возможно, сделал для себя мысленно заметку; смеялся, потому что шутка против церковников, против кардиналов, а его величество сейчас расположен над ними шутить. Секретарь Гардинер: — Статуя, статут — невелика разница. — В юриспруденции одна буква меняет все. Однако мои прецеденты не сфабрикованы. — Просто излишне широко толкуются? — спрашивает Гардинер. — Ваше величество, Констанцский собор даровал вашему предшественнику, Генриху V, такую власть над английской церковью, какой не получал еще ни один христианский монарх. — Однако эта власть никогда не применялась, по крайней мере последовательно. Отчего так? — Не знаю. По слабости? — А теперь у нас более сильные советники? — Более сильные короли, ваше величество. За спиной у Генриха Гардинер корчит ему страшную рожу. Кромвель только что не хохочет вслух.
Год близится к концу. Приходите на скромный постный ужин, говорит Анна. Мы едим вилками.[53] Он приходит, но общество ему не по вкусу. Анна завела себя комнатных собачек из числа королевских камергеров. Это Генри Норрис, Уильям Брертон, такого рода люди; здесь же, разумеется, ее брат, лорд Рочфорд. В их окружении Анна резка, с комплиментами разделывается безжалостно, словно хозяйка, сворачивающая шеи предназначенным на обед жаворонкам. Если отмеренная улыбка на миг сходит с ее лица, все они подаются вперед, готовые на что угодно, лишь бы угодить своей госпоже. Такого сборища глупцов еще поискать. Сам он может быть где угодно, бывал где угодно. Воспитанный на застольных беседах в семействе Фрескобальди, в семействе Портинари, а позже — у кардинала, среди остроумцев и ученых, он вряд ли потеряет лицо в обществе ничтожеств, которыми окружила себя Анна. Видит Бог, эти джентльмены прилагают все усилия, чтобы он ощутил неловкость; он привносит уверенность, невозмутимость, язвительный стиль. Норрис, человек неглупый, да и давно уже не юнец, отупляет себя общением с подобными собеседниками, а зачем? Ради того, чтобы быть подле Анны. Это почти шутка; впрочем, шутка, которую никто не смеет повторить вслух. В тот первый вечер Норрис провожает его до дверей, берет за рукав, останавливает. — Вы правда этого не видите? В Анне? Он мотает головой. — И каков же ваш идеал? Пухленькая немочка из тех, что вы встречали за границей? — Мой выбор никогда не совпадет с выбором короля. — Если это совет, преподайте его сыну вашего друга Уайетта. — Думаю, молодой Уайетт все просчитал. Том женат и говорит себе: муки сердца преврати в стихи. Разве мы не умнеем с годами, переходя от влюбленностей к истинной любви? — Вот я перед вами, — говорит Норрис. — Неужто я поумнел? Кромвель протягивает Норрису платок — вытереть лицо, и вспоминает плат Вероники, на котором запечатлелся нерукотворный образ страждущего Христа. Интересно, проступят ли на ткани благородные черты Генри Норриса, и если да, вешать ли портрет на стену? Норрис отворачивается и замечает с легким смешком: — Уэстон — молодой Уэстон, вы его знаете — ревнует к музыканту, которого она по вечерам приглашает петь. К слуге, который подбрасывает дров в камин, к горничной, которая снимает с нее чулки. Весь вечер, пока вы были здесь, он считал: гляньте, вот опять она смотрит на этого жирного мясника, за два часа она посмотрела на него пятнадцать раз. — Жирным мясником был кардинал. — Для Фрэнсиса все мастеровые одинаковы. — Я заметил. Счастливо оставаться. Счастливого пути, Том, говорит Норрис и хлопает его по плечу — рассеянно, почти как равного, почти как если бы они были друзьями; взгляд вновь обращен к Анне, шаг вновь обращен к соперникам. Все мастеровые одинаковы? Вот уж нет! Чтобы стать мясником, довольно силы и острого топора, но без кузнеца откуда возьмется топор? Откуда возьмутся молотки, серпы, косы, ножницы и рубанки? Доспехи и наконечники стрел, пики и пушки? Якоря для кораблей? Гвозди и петли, засовы и кочерги? Вертела и котлы, стремена и удила, заклепки и пряжки? Откуда возьмутся кухонные ножи? Он вспоминает день, когда пришла весть о корнуольцах. Сколько ему было, двенадцать? Он только что почистил большие мехи и теперь их смазывал. Вошел Уолтер, глянул. — Надо законопатить. — Хорошо. (Обычный разговор с Уолтером.) — Само не законопатится. — Хорошо, хорошо! Я этим и занимаюсь. Он поднимает голову. В дверях стоит их сосед Оуэн Мадок. — Они идут. Вся округа вооружается. Генрих Тюдор готов драться. Королева и малыши в Тауэре. Уолтер вытирает рот. — Сколько еще? Мадок говорит: — А Бог их знает. Эти гниды умеют летать. Томас выпрямляется. В руке у него четырехфунтовый молот с прочной ясеневой рукоятью.
На следующий день они работали до упаду. Уолтер ковал своим друзьям доспехи, Томасу досталось точить все, чем можно резать, рубить, протыкать мятежников. Мужчины в Патни не сочувствуют нехристям: мы платим подати, отчего же корнуольцам не платить? Женщины страшатся за свою честь. «Священник сказал, они блудят только сродными сестрами, — говорит Томас, — так что тебя, Бет, никто не тронет. А еще поп сказал, срамной уд у них холодный и в чешуе, как у дьявола. Может, тебе понравится». Бет чем-то в него швыряет, он уворачивается. Если в доме что-то разбито, значит, «я кинула это в Томаса». — Поди тебя разбери, что тебе по вкусу! — говорит он. Слухи множатся. Корнуольцы работают под землей, поэтому у них черные лица. Они плохо видят, поэтому их можно поймать в сеть. Король платит по шиллингу за каждого пойманного корнуольца, за крупного — два. А какого они роста, если пускают стрелы по ярду? Все домашние предметы рассматриваются в новом свете: вертела, шпиговальные иглы, все, чем можно обороняться на близком расстоянии. Соседи тянутся в Уолтерову пивоварню, словно ожидают, что корнуольцы выпьют до капли весь английский эль. Оуэн Мадок приходит и просит выковать ему охотничий кинжал: гарда, желобок для стока крови, двенадцатидюймовое лезвие. — Двенадцать дюймов? — переспрашивает он. — Да ты им себе ухо отрежешь! — Послушаем, что ты запоешь, когда тебя схватят корнуольцы. Они насаживают таких мальцов на вертел и жарят на костре. — А ты не можешь просто пришибить их веслом? — Я тебя пришибу, чтобы меньше языком болтал! — орет Мадок. — О тебе еще до рождения шла дурная слава, сучонок паршивый! Он показывает Мадоку нож, который сделал для себя и повесил на шею под рубахой: короткое лезвие, похожее на острый клык. — Пресвятая Дева! — говорит Мадок. — Смотри, полегче с этой штуковиной.
Он спрашивает у сестры Кэт — положив четырехфунтовый молот на подоконник в «Пегасе», — почему обо мне дурная слава шла еще до рождения? Спроси Моргана Уильямса, отвечает она. Хватает его за голову, целует. Ой, Том, Том, не суйся ты туда, пусть он дерется. Кэт надеется, что корнуольцы убьют Уолтера. Она этого не говорит, но он понимает. Когда я стану главой семьи, говорит он, все переменится, вот увидишь. Морган объясняет, краснея (смущается неподобающей темы), что мальчишки, завидев его мать на улице, бежали за ней с криком: «Гляньте-ка, старая кобыла жеребая!» Бет говорит: — А еще у корнуольцев есть великан по имени Болстер, он влюблен в святую Агнессу, а она у них на знаменах, так что он идет на Лондон вместе с ними. — Великан? — хмыкает он. — Вот такого роста? — Погоди, — говорит Бет. — Увидишь его — живо разучишься шутки шутить. Окрестные кумушки, рассказывает Морган, глядя на его мать, притворно охали и прицокивали языками: трудненько ей будет разродиться, гляньте, она уже сейчас ни в одну дверь не проходит! Когда он появился на свет, крича, со сжатыми кулаками и мокрыми черными кудрями, Уолтер отправился шляться по улицам в компании дружков, горланя: «Сюда, красотки мои!» и «Эй, неплодные! Кому ребеночка заделать?» Дату никто не записал. Он говорит Моргану, ну и отлично. У меня нет гороскопа, а значит, нет и судьбы. Судьба распорядилась, чтобы сражения в Патни не было. Женщины уже приготовили хлебные ножи, мужчины держали под рукой плотницкие тесла и мясницкие топоры. Однако военная мясорубка Тюдора перемолола восставших раньше, в Блэкхите. Теперь страшиться было некого. Кроме Уолтера. Сестра Бет говорит: — А знаешь про великана, Болстера? Он узнал, что святая Агнесса умерла. От горя он отсек себе руку, кровь потекла в пещеру, которую нельзя заполнить, потому что там внизу дыра — через морское дно, к центру земли, до самого ада. И так он умер. — Хорошо, а то я из-за него весь извелся. — Умер до следующего раза, — говорит сестра Бет. Итак, он родился в неведомый день. В три года собирал хворост для кузни. — Видали моего? — говорил Уолтер, ласкового трепля его по голове. Отцовские пальцы пахли дымом, ладонь была твердая и черная. В последние годы, разумеется, ученые мужи не раз пытались вычислить дату его рождения по характеру и судьбе. Юпитер в благоприятном аспекте указывает на процветание. Восход Меркурия обещает умение легко и убедительно говорить. Если Марс не в Скорпионе, то я не знаю своего ремесла, говорит Кратцер. Его матери было пятьдесят два, и все думали, что она не сможет ни зачать, ни разродиться. Она таилась от всех, прятала живот под широкой одеждой, пока было можно. Он родился и все спросили: ой, что это?
В середине декабря Джеймс Бейнхем, барристер из Миддл-темпла, кается в ереси перед епископом Лондонским. В Сити говорят, Бейнхема пытали, сам Мор задавал ему вопросы, стоя рядом с палачом, пока тот вращал ворот дыбы, требовал назвать, кто еще в судебных иннах заражен лютеровым лжеучением. Через несколько дней сожгли вместе монаха и кожевника. Монах вез книги через Норфолкские порты и, на свою голову, через док святой Екатерины, где поджидал с приставами лорд-канцлер. У кожевника нашли собственноручно переписанное сочинение Лютера «О свободе христианина». Всех их он знал: униженного и раздавленного Бейнхема, монаха Бейфилда, Джона Тьюксбери, который, видит Бог, не был доктором богословия. Так заканчивается год: в клубах дыма, в облаке человеческого пепла над Смитфилдом.
В первое утро нового года он просыпается до света и видит рядом с кроватью Грегори. — Отец, надо вставать и ехать. Тома Уайетта арестовали. В следующий миг он уже на ногах. Первая мысль: Томас Мор нанес удар в сердце Анниного кружка. — Куда его увезли? В Челси? Грегори обескуражен. — Почему в Челси? — Король не может допустить… слишком близко… У Анны есть книги, она их ему показывала… он сам читал Тиндейла… кого Мор арестует следующим, короля? Он берет рубаху. — Мор тут ни при чем. Несколько остолопов устроили в Вестминстере дебош: прыгали через костер, били окна, как это обычно бывает… — Голос у Грегори усталый. — Затем подрались с дозорными, их отвели в участок, а сейчас прибежал мальчишка с запиской: не соблаговолит ли мастер Кромвель приехать и сделать стражнику новогодний подарок? — Боже… — Он садится на постель, внезапно остро сознавая свою наготу: ступни, икры, ляжки, срам, волосатую грудь, щетину — и внезапно проступивший на плечах пот. Натягивает рубаху. — Поеду как есть. И мне надо прежде позавтракать. Грегори говорит зло: — Ты обещал быть ему отцом, вот и будь. Он встает. — Позови Ричарда. — Я поеду с тобой. — Езжай, если хочешь, но Ричард мне нужен на случай осложнений. Никаких осложнений, просто долгий торг. Уже светает, когда молодые джентльмены, побитые, всклокоченные, в разорванной одежде цепочкой выходят во двор. — Фрэнсис Уэстон, доброе утро, сэр, — говорит Кромвель, а про себя думает: «Знал бы, что ты здесь, не стал бы выкупать». — Почему вы не при дворе? — Я там, — отвечает Фрэнсис, дыша вчерашними винными парами. — В Гринвиче, не здесь. Понятно? — Раздвоение. Конечно, — говорит он. — О, Господи. Господи Иисусе Христе. — Томас Уайетт щурится от слепящего снега, трет виски. — Больше никогда. — До следующего года, — хмыкает Ричард. Кромвель поворачивается и видит, как на улицу, волоча ноги, выходит последний из молодых джентльменов. — Фрэнсис Брайан. Я мог бы догадаться, что без вас тут не обошлось. Сэр. Кузен леди Анны дрожит от первого новогоднего морозца, как мокрый пес. — Клянусь грудями святой Агнессы, пробирает! Дублет на Фрэнсисе порван, ворот у рубашки болтается, одна нога в башмаке, другая — без, чулки спадают. Пять лет назад на турнире ему выбили глаз; повязка, видимо, свалилась в драке, и видна сморщенная, нездорового цвета глазница. Фрэнсис обводит двор единственным уцелевшим оком. — Кромвель? Я не помню, чтобы вы были с нами вчера ночью. — Я был у себя в постели и предпочел бы в ней оставаться. — Ну так езжайте обратно! — Фрэнсис, рискуя упасть, вскидывает руки. — У какой из городских женушек вы нынче ночуете? У вас, небось, по одной на каждый день святок? Он уже готов хохотнуть, но тут Брайан добавляет: — У вас ведь, у сектантов, женщины общие? — Уайетт, — поворачивается он к Тому. — Скажите своему другу прикрыться, пока не отморозил срам. Ему уже и без глаза не сладко. — Скажите спасибо! — орет Томас Уайетт, раздавая приятелям тычки. — Скажите спасибо мастеру Кромвелю и отдайте, сколько мы должны. Кто еще приехал бы в такую рань с открытым кошельком, да еще в праздник? Мы могли просидеть здесь до завтра. Не похоже, что у них на круг наберется хотя бы шиллинг. — Ничего, — говорит он. — Я запишу на счет.
II «Ах, чем бы милой угодить?»
Весна 1532
Пришло время пересмотреть договоры, на которых стоит мир: между правителем и народом, между мужем и женой. Договоры эти держатся на усердном попечении одной стороны об интересах другой. Господин и супруг защищают и обеспечивают, супруга и слуга повинуются. Над хозяевами, над мужьями — Господь. Он ведет счет нашим непокорствам, нашим человеческим безумствам и простирает Свою десницу. Десницу, сжатую в кулак. Вообразите, что обсуждаете эти материи с Джорджем, лордом Рочфордом. Джордж не глупее других, образован, начитан, однако сегодня больше занят огненно-алым атласом в прорезях бархатного рукава: поминутно тянет ткань пальцами, делая еще пышнее, так что похож на жонглера, катающего мячи на руке. Пришло время сказать, что такое Англия, ее пределы и рубежи; не просто измерить и счесть береговые форты и пограничные стены, а оценить ее способность самой решать собственные дела. Пришло время сказать, кто такой король, как он должен оберегать свой народ от любых посягательств извне, будь то военное вторжение или попытки указывать англичанам на каком языке им разговаривать с Богом. Парламент собирается в середине января. Задача на март — сломить сопротивление епископов, недовольных новым порядком, ввести в действие законы, по которым — хотя платежи приостановлены уже сейчас — церковные доходы не будут поступать в Рим, а король станет главой церкви не только на бумаге. Палата общин составляет петицию против церковных судов, столь произвольных в своих решениях, столь зарвавшихся в определении своей юрисдикции. Документ ставит под сомнение сферу их полномочий, само их существование. Бумаги проходят через множество рук, но под конец он сам сидит над ними целую ночь, с Рейфом и Зовите-меня-Ризли, вписывает поправки между строк. Его цель — побороть оппозицию: Гардинер, хоть и состоит при короле секретарем, счел своим долгом возглавить атаку прелатов на новый закон. Король посылает за мастером Стивеном. Гардинер входит в королевские покои: волосы на загривке дыбом, сам весь сжался, как мастифф, которого тащат к медведю. У короля для человека такой комплекции необычно высокий голос, который в минуты ярости становится пронзительно-визгливым. Клирики — его подданные или только наполовину? А может, и вовсе не подданные, если клянутся в верности Риму? Не правильнее ли будет, кричит король, чтобы они присягали мне? Стивен выходит из королевских покоев и прислоняется к стене, на которой резвятся нарисованные нимфы. Вынимает платок и, позабыв, зачем вынул, комкает ткань в огромной лапище, наматывает на ладонь, как повязку. По лицу катится пот. Он, Кромвель, зовет слуг: — Милорду епископу дурно! Приносят скамеечку, Стивен смотрит на нее, смотрит на него, затем садится с опаской, будто не доверяет работе плотника. — Как я понимаю, вы слышали? Каждое слово. — Если король посадит вас в тюрьму, я прослежу, чтобы вы не остались без самого необходимого. — Черт бы вас побрал, Кромвель! Да кто вы вообще! Какой пост занимаете? Вы никто. Ничто. Мы должны выиграть спор, а не просто раздавить несогласных. Кромвель виделся с Кристофером Сен-Жерменом, престарелым юристом, к чьим словам прислушивается вся Европа. В Англии нет человека, говорил Сен-Жермен, который не видел бы, что церковь нуждается в реформах, и чем дальше, тем больше; если церковь не способна сама себя реформировать, пусть ее реформируют король и парламент. К такому мнению я пришел, размышляя над этим вопросом несколько десятков лет. Конечно, говорит старик, Томас Мор со мной не согласен. Возможно, время Томаса Мора прошло. Нельзя жить в Утопии. Кромвель приходит к королю, и тот обрушивается на Гардинера: неверный, неблагодарный! Как может быть моим секретарем человек, возглавивший моих противников! (Давно ли Генрих превозносил Гардинера именно за независимость взглядов?) Он слушает молча, смотрит на Генриха, пытается усмирить бурю своим спокойствием, окутать короля тишиной, в которой тот услышит собственный голос. Великое дело — уменье отвратить гнев Льва Англии. — Думаю… — мягко произносит Кромвель, — с позволения вашего величества, я думаю… Епископ Винчестерский, как все мы знаем, любит поспорить. Но не с монархом. Он не стал бы перечить вашему величеству азарта ради. — Пауза. — Следовательно, его взгляды, хоть и ошибочные, вполне искренни. — Да, но… — Король осекается. Генрих наконец услышал свой голос: тот самый, которым кричал на опального кардинала. Гардинер не Вулси — хотя бы потому, что никто о нем не пожалеет. Однако Кромвелю важно, чтобы строптивый епископ пока сохранил свой пост; Кромвеля заботит репутация Генриха в Европе, поэтому он говорит: — Ваше величество, Стивен верой и правдой служил вам в качестве посла. Лучше прибегнуть к разумному убеждению, нежели всей тяжестью монаршей немилости подтолкнуть его к решительным действиям. Такой курс более приятен и более сообразен требованиям чести. Он внимательно смотрит на короля. Генрих весьма чуток ко всему, что затрагивает честь. — Это ваш совет на все времена? Он улыбается. — Нет. — Так вы не считаете, что я всегда должен править в духе христианской кротости? — Не считаю. — Мне известно, что вы недолюбливаете Гардинера. — Тем больше у вашего величества оснований прислушаться к моему совету. Кромвель думает, Стивен, за тобой должок. И в свое время вексель будет предъявлен к оплате. У себя дома он принимает парламентариев, джентльменов из судебных иннов и городских ливрейных компаний. Томас Одли, спикер, приходит вместе со своим протеже Ричардом Ричем, золотоволосым юношей, красивым, как вербный херувим, очень ясно, здраво и по-мирски мыслящим, и с Роуландом Ли, искренним неутомимым священником, меньше всего похожим на церковника. В последние месяцы Кромвель потерял многих друзей в Сити: одних сгубила болезнь, других — палачи. Томас Сомер, которого он знал много лет, умер, выйдя из Тауэра, куда его бросили за распространение Евангелия на английском. Сомер, любитель красивой одежды и быстрых скакунов, казался несгибаемым, пока не попал в руки лорда-канцлера. Джон Петит на свободе, но так слаб здоровьем, что не может заседать в палате общин и вообще не выходит из своей комнаты. Кромвель навещает Джона; больно слышать, как мучительно тот дышит. Весна 1532 года, наконец-то теплые деньки, но больному не лучше. Словно грудь стиснута железным обручем, жалуется Джон, и этот обруч стягивается все туже и туже. Томас, если я умру, вы позаботитесь о Люси? Временами, гуляя по саду с депутатами палаты общин или капелланами Анны, он остро чувствует отсутствие доктора Кранмера по правую руку от себя. Кранмер уехал в январе с посольством к императору, а по пути должен посетить немецких ученых-богословов, заручиться их согласием на брак короля. — Что я буду делать, если в ваше отсутствие его величеству приснится сон? — спросил он, провожая Кранмера. Тот улыбнулся. — В прошлый раз вы все истолковали сами, я только кивал. Он смотрит на Марлинспайка, который лежит, свесив лапы, на черном суку. «Джентльмены, это кот кардинала». Марлинспайк при виде гостей шмыгает вдоль стены и, подняв хвост трубой, исчезает неведомо куда. В кухне гардзони учатся печь вафли. Для этого нужны глазомер, точность и твердая рука. Этапов много, и на каждом легко допустить ошибку. Тесто должно быть определенной густоты, половинки вафельницы — тщательно смазаны жиром и раскалены. Они смыкаются со звериным визгом, валит пар. Если испугаешься и ослабишь хватку, будешь отскабливать от них вязкую массу. Надо выждать, пока пар перестанет идти, и начать отсчет. Если замешкаешься, в воздухе запахнет горелым. Успех и неудачу разделяют доли секунды. Внося в парламент билль о приостановке платежей Риму, он потребовал, чтобы депутаты разошлись на две стороны. Порядок более чем необычный,[54] члены палаты возмущены, однако покорно расходятся: те, кто за билль, в одну сторону, те, кто против, — в другую. Присутствующий в зале король внимательно смотрит, кто его поддержал, и вознаграждает своего советника одобрительным кивком. В палате лордов такая тактика не сработает: король вынужден трижды лично отстаивать законопроект. Старая аристократия вроде Эксетеров, имеющих собственные притязания на корону, на стороне Екатерины и папы и не боится говорить об этом королю — пока не боится. Однако теперь он знает своих врагов и старается, по мере возможности, их расколоть. Как только у кухонных мальчишек получилась одна приличная вафля, Терстон велит им испечь еще сотню. Скоро оно становится второй натурой — быстрое движение, которым еще мягкую вафлю вываливаешь на деревянную лопаточку и с нее — на решетку для сушки, чтобы стала хрустящей. Удачные вафли — со временем они все будут удачными — украшают эмблемой Тюдоров и складывают по дюжине в инкрустированные шкатулки, в которых их подадут на стол: каждый хрустящий золотистый диск надушен розовой водой. Он посылает партию вафель Томасу Болейну. Уилтшир считает, что как отец будущей королевы заслуживает особого титула, и дает понять, что не обиделся бы на обращение «монсеньор». После беседы с Болейнами — отцом и сыном — а также их друзьями, он, Кромвель, идет к Анне через покои Уайтхолла. Месяц от месяца ее положение все выше, но ему ее слуги кланяются. При дворе и в Вестминстере, где у него присутствие, он одет соответственно своему джентльменскому статусу, ни на йоту пышнее: в свободные куртки лемстерской шерсти, такой тонкой, что она струится, как вода, таких темных лиловых и синих оттенков, словно в них просочилась ночь; на темных волосах — черная бархатная шапочка, светлого только и есть, что быстрые глаза и движения крепких, мясистых рук, да еще — отблеск огня на бирюзе Вулси. В Уайтхолле — бывшем Йоркском дворце — по-прежнему идут работы. На Рождество король подарил Анне спальные покои. Его величество ввел ее туда сам, чтобы услышать, как она ахнет при виде занавесей серебряной и золотой парчи по стенам и резной кровати под алым атласным балдахином, расшитым изображениями цветов и детей. После Генри Норрис рассказал ему, что Анна не вскрикнула от восторга, только обвела взглядом опочивальню и улыбнулась. Лишь после этого она вспомнила об этикете и сделала вид, будто от оказанной чести лишилась чувств; король подхватил ее, и только очутившись в его объятиях, она ахнула. Я искренне надеюсь, сказал Норрис, что каждый из нас хоть раз в жизни исторгнет у женщины такой звук. После того как Анна, преклонив колени, выразила свою признательность, Генрих, разумеется, вынужден был удалиться, выйти из сияющего великолепия, ведя ее под руку, назад к новогоднему столу, к гостям, которые пристально изучали выражение его лица и в тот же день распространили новость по всему миру в посланиях, обычных и шифрованных. Когда, пройдя через бывшие покои кардинала, Кромвель застает Анну сидящей с дамами, она уже знает, или делает вид, будто знает, что сказали ее отец и брат. Они думают, что водительствуют ее тактикой, но она сама себе лучший тактик и стратег: умеет оглянуться и понять, что сделано не так. Его всегда восхищали люди, способные учиться на ошибках. Однажды — уже весна, и за открытым окном суетятся прилетевшие ласточки — она говорит: — Вы как-то сказали мне, что лишь кардинал может дать королю свободу. А знаете, что я сейчас думаю? Как раз Вулси это бы и не удалось. Он был так горд, что хотел стать Папой. Будь он смиреннее, Климент бы ему не отказал. — Возможно, в ваших словах что-то есть. — Думаю, нам следует извлечь урок, — замечает Норрис. Они разом оборачиваются. Анна спрашивает: «Вот как?», а он: «И какой же урок?» Норрис в растерянности. — Вряд ли кто-нибудь из нас станет кардиналом, — говорит Анна. — Даже Томас, который метит высоко, не претендует на этот сан. — Не знаю, я бы не стал биться об заклад. — Норрис выскальзывает из комнаты, как может выскользнуть только лощеный джентльмен, оставив Кромвеля наедине с дамами. — Итак, леди Анна, — говорит он, — размышляя о покойном кардинале, находите ли вы время помолиться за его душу? — Я думаю, что Господь ему судья, а мои молитвы ничего изменить не могут. Мария Болейн произносит мягко: — Анна, он тебя дразнит. — Если бы не кардинал, вы бы вышли за Гарри Перси. — По крайней мере, — бросает она резко, — я имела бы достойный статус супруги, в то время как сейчас… — Ах, кузина, — говорит Мэри Шелтон, — Гарри Перси сошел с ума, это все знают. Он расточает свое состояние. Мария Болейн смеется. — Моя сестра считает, это от несчастной любви к ней. — Миледи, — поворачивается Кромвель к Анне, — вам бы не понравилось в доме у Гарри Перси. Как все северные лорды, он держал бы вас в холодной, продуваемой всеми ветрами башне, дозволяя спускаться только к обеду. И вот сидите вы за пудингом из овсяной крупы, замешенной на крови добытого в набеге скота, входит ваш супруг и повелитель, размахивая мешком — ах, милый, что тут, неужели подарок? — да, мадам, коли соблаговолите принять, — и вам на колени из мешка выкатывается отрубленная голова шотландца. — Какой ужас! — шепчет Мэри Шелтон. — Так они там живут? Анна смеется, прикрывая рот рукой. — А вы, — продолжает он, — предпочитаете на обед куриную грудку-пашот под сливочным соусом с эстрагоном. И сыр, привезенный испанским послом для Екатерины, но загадочным образом очутившийся в моем доме. — Ах, о чем мне еще мечтать? — восклицает Анна. — Шайка разбойников подкарауливает на дороге Екатеринин сыр… — Совершив этот подвиг, я вынужден удалиться, оставив вас… — Он указывает на лютниста в углу, — с влюбленным, пожирающим вас глазами. Анна бросает взгляд на Марка. — И впрямь пожирает. Верно. Отослать его? В доме хватает и других музыкантов. — Не надо! — просит Мэри. — Он милый. Мария Болейн встает. — Я просто… — Сейчас у леди Кэри будет очередная беседа с мастером Кромвелем, — произносит Мэри Шелтон воркующим тоном, будто сообщает нечто очень приятное. Джейн Рочфорд: она вновь предложит ему свою добродетель. — Леди Кэри, что вы такое намерены сказать, о чем нельзя говорить при нас? Однако Анна кивает. Он может идти. Мария может идти. Очевидно, Марии предстоит передать ему нечто столь деликатное, чего Анна не может сказать сама. За дверью: — Иногда мне просто необходимо выйти на воздух. Он ждет. — Джейни наш брат Джордж, вам известно, что они терпеть друг друга не могут? Он с ней не спит и, если не ночует у другой женщины, до утра просиживает у Анны. Они играют в карты. В «Папу Юлия», до самой зари. Вы знаете, что король платит ее карточные долги? Ей нужно больше денег, нужен собственный дом, не слишком далеко от Лондона, где-нибудь у реки… — Чей дом она присмотрела? — Нет-нет, она не собирается никого выселять. — У домов обычно есть хозяева. Тут ему приходит в голову неожиданная мысль. Он улыбается. Мария продолжает: — Как-то я посоветовала вам держаться от нее подальше. Однако теперь мы не можем без вас обойтись. Даже мои отец и дядя так говорят. Ничто не делается без короля, без его расположения, а сегодня если вы не с Генрихом, он спрашивает: «Где Кромвель?» — Она отступает на шаг и оглядывает его с головы до пят, словно незнакомца. — И моя сестра тоже. — Мне нужна должность, леди Кэри. Мало быть советником — мне нужен официальный пост при дворе. — Я ей скажу. — Я хотел бы пост при сокровищнице. Или в казначействе. Мария кивает. — Она сделала Тома Уайетта поэтом. Гарри Перси — безумцем. Наверняка у нее есть какие-нибудь соображения, что можно сделать из вас.На третий или четвертый день парламентской сессии Томас Уайетт приходит с извинениями за то, что в Новый год поднял его до зари. — У вас есть полное право на меня сердиться, но я прошу, не надо. Сами знаете, что такое Новый год. Чашу пускают по кругу, и каждый должен пить до дна. Он смотрит, как Уайетт расхаживает по комнате — любопытство, природная подвижность и отчасти смущение не позволяют тому сесть и произнести покаянные слова лицом к лицу. Поворачивает глобус, упирается указательным пальцем в Англию. Разглядывает картины, маленький домашний алтарь, вопросительно оглядывается через плечо; это моей жены, объясняет Кромвель я сохранил в память о ней. На мастере Уайетте светлый джеркин из стеганой парчи, отделанный соболиным мехом, который ему, вероятно, не по средствам, и дублет из рыжего шелка. Глаза голубые, мягкие, и грива золотых волос, теперь уже немного поредевших. Время от времени Уайетт подносит пальцы ко лбу, словно еще мучается новогодним похмельем, а на самом деле проверяет, не увеличились ли залысины за последние пять минут. Замирает перед зеркалом; очень часто. Господи, как же меня угораздило — буянить на улице с толпой! Стар я для такого. А вот для лысины еще слишком молод. Как вы думаете, женщинам это важно? Очень? А если я отпущу бороду, она отвлечет… Скорее всего, нет. Впрочем, наверное, все равно отпущу. Королю борода идет, вы согласны? Он спрашивает: — Неужто отец ничего вам не советовал? — Советовал. Стакан молока с утра. Айва, запеченная в меду — думаете, поможет? Только бы не засмеяться! Кромвель старается относиться к ней серьезно, к своей новой роли Уайеттова отца. — Я хотел спросить: не советовал ли вам отец держаться подальше от женщин, которые нравятся королю? — Я держался. Помните, ездил в Италию? Потом еще год был в Кале. Сколько можно держаться подальше? Вопрос из его собственной жизни. Действительно, сколько можно? Уайетт садится на скамеечку, упирается локтями в колени, стискивает пальцами виски. Слушает биение собственного пульса, смотрит отрешенно — может, сочиняет стихи? Поднимает голову. — Отец говорит, после смерти Вулси вы — самый умный человек в Англии. Так может быть, вы поймете, если я скажу — один-единственный раз, и повторять не буду. Если Анна не девственница, то я тут ни при чем. Он наливает гостю вина. — Крепкое, — говорит Уайетт, опустошив бокал. Смотрит через стекло на свои пальцы. — Наверное, надо сказать все. — Если надо, скажите сейчас, и больше не повторяйте. — А за шпалерой точно никого нет? Кто-то мне сказал, что среди слуг в Челси есть ваши люди. В наши дни нельзя доверять даже собственной челяди — повсюдушпионы. — Скажите, когда их не было, — говорит Кромвель. — В доме у Мора жил мальчик, Дик Персер, сирота, которого Мор взял из гильдии. Не могу сказать, что Мор сам убил его отца — только посадил в колодки и бросил в Тауэр, а тот возьми да умри. Дик сказал другим мальчикам, что не верит, будто в церковной облатке присутствует Бог, и Мор приказал выпороть его перед всеми домашними. Я забрал Дика сюда. А что еще оставалось? Я готов взять любого, кого Мор будет притеснять. Уайетт с улыбкой трогает рукой царицу Савскую, читай — Ансельму. Король подарил Кромвелю шпалеру Вулси — вначале года, в Гринвиче, заметил, как он здоровается с ней взглядом, испросил с мимолетной усмешкой: вы знакомы с этой женщиной? Был знаком. Кромвель объяснил, повинился. Неважно, ответил король, за каждым из нас есть грехи молодости, на всех не женишься… И добавил, тихо: я имел в виду, что она принадлежала кардиналу Йоркскому, потом, резче: вернетесь домой, приготовьте для нее место, она переселяется к вам. Он наливает один бокал себе, другой — Уайетту, говорит: — Гардинер поставил у ворот своих людей, смотреть, кто входит и выходит. Это городской дом, не крепость — но если сюда заберется кто-нибудь, кому здесь быть не след, мои домашние с удовольствием его вышвырнут. Мы все не прочь подраться. Я бы предпочел оставить свое прошлое позади, да не дают. Дядя Норфолк постоянно напоминает, что я был простым солдатом, и даже не в его войске. — Вы так его называете? — Уайетт смеется. — Дядя Норфолк? — Между собой. Однако я могу не напоминать, что сами Говарды думают о своем положении. Вы росли по соседству с Болейнами и не станете ссориться с Уилтширом, какие бы чувства ни питали к его дочери. Надеюсь, вы ничего к ней не питаете. — Два года, — говорит Уайетт, — я умирал от мысли, что другой к ней прикоснется. Однако что я мог ей предложить? Я женат, а к тому же — не герцог и не принц. Думаю, я нравился Анне, а может, ей нравилось держать меня при себе рабом. Ее это забавляло. Наедине она разрешала мне себя целовать, и я думал… но вы знаете, у Анны такая тактика, она говорит, да, да, да, а потом сразу — нет. — А вы, конечно, образцовый джентльмен? — По-вашему, я должен был ее изнасиловать? Когда она говорит «нет», она не кокетничает — Генрих это знает. А назавтра она снова позволяла себя целовать. Да, да, да, нет. А хуже всего ее намеки, почти похвальба, что она говорит «нет» мне и «да» другим. — Кому? — Ах, имена… имена испортили бы ей удовольствие. Все должно быть устроено так, чтобы, видя любого мужчину, при дворе или в Кенте, ты думал: это он? Или он? Или вот он? Чтобы ты постоянно спрашивал себя, чего тебе недостает, почему ты никак не можешь ей угодить? — Думаю, стихи вы пишете лучше всех — можете утешаться этим. Стихи его величества несколько однообразны, не говоря уже о том, что как-то все о себе да о себе. — Его песня «В кругу друзей забавы» — когда я ее слышу, мне хочется завыть по-собачьи. — Да, королю за сорок. Больно слушать, когда он поет о днях, когда был молод и глуп. Он изучает Уайетта. Вид у юноши немного рассеянный, словно от неутихающей головной боли. Уверяет, будто Анна его больше не мучает, а по виду не скажешь. Он рубит безжалостно, как мясник: — Так сколько, по-вашему, у нее было любовников? Уайетт смотрит себе под ноги. Смотрит в потолок. Говорит: — Десять? Ни одного? Сто? Брэндон пробовал убедить Генриха, что она — порченый товарец. Король отослал Брэндона от двора. А если бы попытался я? Сомневаюсь, что вышел бы живым из комнаты. Брэндон заставил себя говорить, потому что думает: рано или поздно она уступит Генриху, и что тогда? Разве он не поймет? — Наверняка она это продумала. К тому же король тут плохой судья. С Екатериной ему потребовалось двадцать лет, чтобы понять, что брат его опередил. Уайетт смеется: — Когда придет тот день или та ночь, Анна вряд ли сможет ему такое сказать. — Послушайте. Вот мое мнение. Анна не беспокоится за первую брачную ночь, потому что ей нечего страшиться. — Он хочет сказать, потому что Анна живет не плотью, а расчетом, потому что за ее алчными черными глазами — холодный изворотливый мозг. — Я думаю, женщина, способная сказать «нет» королю — не раз и не два, — способна сказать «нет» любому числу мужчин, включая вас, включая Гарри Перси, включая всякого, кого ей угодно мучить ради забавы, пока она идет к тому положению, которое для себя наметила. Так что, я думаю, да, из вас сделали дурака, но не совсем так, как вы полагаете. — Это следует понимать как слова утешения? — Если они вас утешат. Будь вы и впрямь ее любовником, я бы за вас тревожился. Генрих верит в ее девственность. Во что еще ему верить? Но как только король женится, он начнет ревновать. — А он женится? — Я серьезно работаю с парламентом, поверьте мне, и думаю, что сумею уломать епископов. А дальше — Бог знает… Томас Мор говорит, когда в правление короля Иоанна Англия была под папским отлучением, скот не плодился, зерно не спело, трава не росла, а птицы падали на землю. Но если до такого дойдет, — он улыбается, — мы всегда можем отыграть назад. — Анна меня спросила: Кромвель, во что он на самом деле верит? — Так вы беседуете? И даже обо мне? Не только да, да, да, нет? Я польщен. Вид у Томаса Уайетта несчастный. — А вы не ошибаетесь? Насчет Анны? — Все возможно. Сейчас я верю тому, что она сама говорит. Мне так удобнее. Нам с ней так удобнее. Провожая гостя до дверей: — Заглядывайте к нам в ближайшее время. Мои девочки наслышаны о вашей красоте. Шляпу можете не снимать, если боитесь, что они разочаруются. Уайетт играет с королем в теннис и знает, что такое уязвленная гордость. Выдавливает улыбку. — Ваш отец рассказал нам историю про львицу. Мальчишки даже спектакль поставили. Может, заглянете как-нибудь и сыграете в нем собственную роль? — А, львица. Задним числом не могу поверить, что это был я. Стоять на открытом месте и приманивать ее к себе. — Пауза. — Больше похоже на вас, мастер Кромвель.
Томас Мор приходит в Остин-фрайарз, отказывается от еды, отказывается от питья, хотя, судя по виду, нуждается и в том, и в другом. Кардинал не принял бы отказа. Его милость усадил бы Мора за стол и заставил есть взбитые сливки с вином и пряностями. Или, будь сейчас весна — начало лета, дал бы гостю большую тарелку клубники и очень маленькую ложку. Мор говорит: — В последние десять лет турки захватили Белград. Жгли костры в великой библиотеке Буды. Всего два года назад они стояли у ворот Вены. Зачем вы хотите проделать еще одну брешь в стенах христианского мира? — Король Англии — не язычник. И я тоже. — Ой ли? Я не знаю, молитесь вы Богу Лютера и немцев, или языческому божку, которого отыскали в своих путешествиях, или английскому божеству собственного сочинения. Может быть, ваша вера продается. Вы служили бы султану, если бы вас устроила цена. Эразм вопрошает, рождала ли природа что-либо добрее, любезнее и гармоничнее, чем нрав Томаса Мора? Кромвель молчит. Сидит за письменным столом — Мор застал его за работой, — подперев голову руками. Поза, возможно, дает ему некое боевое преимущество. У лорда-канцлера вид такой, будто он сейчас разорвет на себе одежды — они бы от этого только выиграли. Зрелище жалкое, но он решает не жалеть Мора. — Мастер Кромвель, вы думаете, раз вы советник, вам можно за спиной короля вести переговоры с еретиками. Вы ошибаетесь. Я знаю все о вашей переписке с Воэном. Знаю, что он встречался с Тиндейлом. — Вы мне угрожаете? Мне просто интересно. — Да, — печально отвечает Мор. — Именно этим я и занимаюсь. Он чувствует, как между ними — не государственными мужами, а людьми — смещается баланс власти. Когда Мор уходит, Ричард говорит: — Напрасно он так. В смысле, угрожал вам. Сегодня, благодаря должности, ему это сошло с рук. Завтра — кто знает? Кромвель думает, мне было, наверное, лет девять, я убежал в Лондон и видел, как старуха пострадала за веру. Воспоминания вплывают в него, и он идет, словно подхваченный их течением, бросая через плечо: — Ричард, посмотри, есть ли у лорда-канцлера эскорт. Если нет, приставь к нему наших и постарайся, чтобы его усадили на лодку в Челси. Не хватало только, чтобы он шатался по Лондону, пугая своими речами каждого, к чьим воротам подойдет. Последнюю фразу он неожиданно для себя произносит по-французски. Ему представляется Анна, которая протягивает к нему руки. Maître Cremuel, à moi. Он не помнит, в каком году, но помнит, что в апреле, и еще помнит крупные капли дождя на светлых молодых листьях. Не помнит, за что злился Уолтер, но помнит холодный нутряной страх и бьющееся о ребра сердце. В те дни, если нельзя было спрятаться у дяди Джона в Ламбете, он уходил в Лондон — искал, где можно заработать пенни, бегал с поручениями по набережной, таскал корзины, помогал нагружать тачки. Если свистели, он подходил, и только чудом, как понимает задним числом, не втянулся в такие дела, за которые могут заклеймить или выпороть, не кончил дни одним из сотен маленьких утопленников в водах Темзы. В таком возрасте еще не думаешь своей головой. Если кто-нибудь говорил, там интересно, он бежал, куда указывали. И он ничего не имел против той старухи, просто никогда не видел, как сжигают на костре. В чем она провинилась? — спросил он, и ему ответили: она лоллардка. Из тех, кто говорит, что Бог на алтаре — просто кусок хлеба. Обычного хлеба, какой печет булочник? — переспросил он. Они сказали, пропустите мальчика вперед, пусть увидит поближе, ему это пойдет на пользу: впредь будет всегда ходить к мессе и слушать священника. Его вытолкнули в первый ряд. Давай сюда, малыш, встань со мной, сказала женщина в чистом белом чепце, широко улыбаясь. И еще она сказала: за то, что смотришь, тебе прощаются все грехи. А те, кто принесет вязанку дров, будут на сорок дней меньше мучиться в чистилище. Когда приставы вели лоллардку, зрители кричали и улюлюкали. Он увидел, что она бабушка — старенькая-престаренькая. На ней не было ни чепца, ни покрывала; волосы, казалось, вырваны из головы клоками. Люди в толпе говорили: это она сама их вырвала, от отчаяния. За лоллардкой шествовали два священника — важно, словно жирные серые крысы, с крестами в розовых лапках. Женщина в чистом чепце стиснула его плечо, как мать, если бы у него была мать. Смотри, сказала она, восемьдесят лет старухе, и так погрязла в грехе. Мужчина рядом заметил: мяса-то на костях всего ничего, сгорит быстро, если ветер не переменится. А в чем ее грех? — спросил он. Я тебе объяснила. Она говорит, будто святые — просто деревяшки. Как столб, к которому ее привяжут? Да, именно. Столб тоже сгорит. К следующему разу сделают новый, сказала женщина, снимая руку с его плеча. В следующий миг она выбросила кулаки в воздух и завопила истошно, пронзительно, как дьяволица: у-лю-лю! Напирающая толпа подхватила крик. Все протискивались вперед, кричали, свистели, топали ногами. При мысли о предстоящем зрелище его бросило разом в жар и в холод. Он повернулся к женщине, которая была его матерью в этой толпе. Смотри, сказала она и ласково-ласково развернула лицом к столбу. Смотри хорошенько. Приставы сняли цепи и привязывали старуху к столбу. Столб был установлен в груде камней. Подошли какие-то джентльмены и священники, может, епископы, он не разбирался. Они призывали лоллардку отречься от своей ереси. Он стоял близко и видел, как шевелятся ее губы, но не слышал слов. А если она сейчас передумает, ее отпустят? Нет, эти не отпустят, хохотнула женщина. Гляди, она призывает на помощь сатану. Джентльмены отошли. Приставы придвинули к старухе дрова и тюки с соломой. Женщина тронула его плечо. Будем надеяться, дрова сырые, а? Отсюда хорошо видать, прошлый раз я стояла в задних рядах. Дождь перестал, выглянуло солнце, и когда подошел палач с факелом, пламя было едва различимо — скорее как колыхание угря в мешке, чем как огонь. Монахи пели и протягивали лоллардке крест, и только когда они попятились от первых клубов дыма, зрители увидели, что костер горит. Они с ревом хлынули вперед. Приставы теснили их жезлами, кричали назад, назад, назад. Толпа отступила и тут же, с гиканьем и пеньем, будто это игра, вновь стала напирать. Дым мешал смотреть, зрители, кашляя, разгоняли его руками. Чуете, запашок пошел? Жарься-жарься, старая свинья! Он задержал дыхание. Из дыма неслись крики лоллардки. Вот, теперь-то она призывает святых, говорили в толпе. А знаешь, нагнувшись, зашептала ему женщина, что в огне они истекают кровью? Некоторые думают, они просто съеживаются, а я видела раньше и знаю. К тому времени, как дым рассеялся и стало хорошо видно, старуха уже пылала. Толпа ликующе завопила. Все вокруг говорили, она долго не протянет, но ему показалось, что прошло еще очень много времени, прежде чем крики затихли. Неужто никто о ней не молится? — спросил он, и женщина ответила: а что толку? Даже после того как кричать стало нечему, приставы по-прежнему ворошили дрова. Они ходили вокруг костра, затаптывали отлетевшую солому, а головешки башмаками придвигали назад к огню. Когда зрители, оживленно болтая, двинулись по домам, тех, кто стоял с подветренной стороны, можно было отличить по серым от золы лицам. Он тоже хотел домой, но вспомнил про Уолтера, который сказал, что живого места на нем не оставит, поэтому досмотрел, как приставы железными прутами отковыривали от цепей прижаренные человечьи останки. Подойдя к приставам, он спросил, каким должно быть пламя, чтобы сгорели кости. Он думал, они разбираются, но они не поняли вопроса. Люди, если они не кузнецы, думают, будто весь огонь одинаковый. Отец научил его отличать оттенки красного: малиново-красный, вишнево-красный и, наконец, тот огненно-алый, который называют багряным. Старухин череп остался на земле, большие кости тоже. Изломанная грудная клетка была не больше собачьей. Пристав железным прутом подцепил череп за глазницу и поставил на камни, лицом к себе, потом размахнулся что есть силы, чтобы разнести его вдребезги, но промазал (еще по замаху было видно, что не попадет). Маленький, похожий на звездочку осколок отлетел в грязь, но сам череп остался стоять. Тьфу ты, нелегкая, сказал пристав. Хочешь попробовать, малец? Один хороший удар — и в лепешку. Обычно он на любое предложение отвечал «да», но сейчас попятился, пряча руки за спиной. Кровь Господня, сказал пристав, хотел бы я иметь возможность быть таким разборчивым. Вскоре после этого начался дождь. Приставы вытерли руки, высморкались на землю и ушли. Ломы они побросали рядом с останками лоллардки. Он выбрал себе один на случай, если потребуется оружие. Потрогал острый конец, срезанный как у зубила, и попытался сообразить, сколько отсюда до дома и придет ли за ним Уолтер, а еще что значит «живого места не оставлю» — это ножом изрезать или в огне сжечь? Надо было спросить приставов, пока те не ушли — наверняка слуги закона в таком разбираются. В воздухе по-прежнему пахло горелым мясом. Он задумался, где теперь лоллардка — в аду или еще где-нибудь рядом, но призраки его не пугали. Для господ тут же, рядом, стояла трибуна, и хотя навес уже убрали, от дождя можно было укрыться под дощатым настилом. Он помолился о старухе, думая, что уж вреда-то по крайней мере не будет. Молясь, шевелил губами. Вода собралась на настиле в лужу и капала в щель. Он считал время между каплями, ловил их в горсть — просто так, для развлечения. Начало смеркаться. В обычный день он бы уже проголодался и побрел на поиски еды. В сумерках пришли какие-то люди; по тому, что среди них были женщины, он понял, что они не стражники и не станут его обижать. Они встали вокруг столба на груде камней. Он вынырнул из-под настила и подошел к ним, сказал, хотите, расскажу, что здесь было? Однако никто не поднял головы и не ответил. Они встали на колени, и он подумал, что они молятся. Я тоже о ней молился, сказал он. Правда? Хороший мальчик, сказал один мужчина, не поднимая глаз. Если бы этот человек на меня посмотрел, подумал он, то увидел бы, что я не хороший мальчик, а дрянной сорванец, который бегает со своей собакой и забывает приготовить соляной раствор для кузницы, и когда Уолтер кричит, где бадья для закаливания, ее нет. Живот схватило при воспоминании, что он не сделал и почему отец обещал не оставить на нем живого места. Он увидел, что пришедшие не молятся, а ползают на четвереньках. Это были друзья лоллардки, они пришли ее собрать. Одна из женщин — она стояла на коленях, расправив юбки, — держала в руках глиняную миску. Он всегда хорошо видел, даже в сумерках, поэтому вытащил из грязи осколок кости. Вот, сказал он. Женщина протянула миску. Вот еще. Один мужчина стоял в стороне. А этот почему не помогает? — спросил он. Это часовой. Свистнет, если появится стража. Она нас заберет? Быстрей, быстрей, сказал другой мужчина. Когда миска наполнилась, державшая ее женщина сказала: «Дай руку». Он послушался. Женщина опустила пальцы в миску и мазнула ему по тыльной стороне ладони жирной золой. — Джоанна Боутон, — сказала она. Теперь, вспоминая все это, он дивится своей дырявой памяти. Женщину, чьи останки унес в ту ночь на собственной коже, он не забыл, но вот отчего куски его детской жизни не складываются в одно целое? Он не помнит, как вернулся домой и что сделал с ним Уолтер, да и вообще почему он убежал, не приготовив раствор. Может, думает он, я рассыпал соль и побоялся сказать? Скорее всего, так. Ты боишься и потому не выполняешь, что тебе поручено; несделанная работа рождает еще больший страх; в какой-то момент нестерпимый ужас гонит тебя куда глаза глядят. Тогда ребенок оказывается в толпе и видит убийство. Он никому об этом не говорил. Можно рассказывать Рейфу и Ричарду истории из своего прошлого (в пределах разумного), однако он не намерен отдавать частицы себя. Шапюи часто приходит обедать и пытается отковырять от его жизни кусочки, как отковыривает мясо от кости. Кто-то мне сказал, что ваш отец был ирландцем. Ждет, насторожив уши. Впервые об этом слышу, отвечает он, но уверяю вас, отец был загадкой даже для меня самого. Шапюи шмыгает носом и говорит: у ирландцев очень буйный нрав. — Скажите, правда ли, что вы покинули Англию в пятнадцать лет, сбежав из тюрьмы?. — Конечно, — отвечает он. — Ангел разбил мои цепи. У Шапюи все услышанное идет в дело. «Я спросил Кремюэля, так ли это, и он ответил богохульством, непригодным для ушей вашего императорского величества». Посол всегда находит, чем заполнить очередное донесение. Если нет новостей, шлет сплетни — те, что черпает из сомнительных источников, и те, что скармливает императору сознательно. Английского Шапюи не знает, так что получает новости на французском от Томаса Мора, на итальянском — от Антонио Бонвизи и Бог весть на каком языке — на латыни? — от Стоксли, епископа Лондонского, у которого тоже часто обедает. Шапюи внушает императору, что англичане недовольны королем и поддержат испанцев, если те высадятся в Англии. Вот здесь посол глубоко заблуждается. Англичане любят Екатерину — по крайней мере, таково общее впечатление. Они могут не одобрять или не понимать последних решений парламента. Однако инстинкт ему подсказывает: они сплотятся перед лицом иностранного вторжения. Екатерину любят, забыли, что она испанка, потому что она здесь давным-давно. Это те же люди, что громили дома чужеземцев в майский бунт подмастерьев. Те же люди, черствые, упрямые, привязанные к своему клочку земли. Сдвинуть их может только превосходящая сила — скажем, коалиция императора и Франциска. Впрочем, конечно, нельзя исключить возможность, что такая коалиция будет создана. После обеда он провожает Шапюи к телохранителям, рослым фламандцам, которые от нечего делать болтают, в том числе о нем. Шапюи знает, что он жил в Нидерландах. Неужели думает, будто он не понимает по-фламандски? Или это какой-то изощренный двойной блеф? Были дни, не так давно, после смерти Лиз, когда с утра, прежде чем с кем-нибудь заговорить, надо было решать, кто он и зачем. Когда, пробудясь, искал мертвых, которых видел во сне. Когда его дневное «я» трепетало на пороге возвращения к яви. Однако нынешние дни — не те дни. Временами, когда Шапюи заканчивает выкапывать из могилы кости Уолтера и сочинять Кромвелю другую жизнь, он чувствует почти неодолимое желание выступить в защиту отца, в защиту своего детства. Однако бесполезно оправдываться. Бесполезно объяснять. Мудро — скрывать прошлое, даже если нечего скрывать. Отсутствие фактов — вот что пугает людей больше всего. В эту зияющую пустоту они изливают свои страхи, домыслы, вожделения.
14 апреля 1532 года король назначает его хранителем драгоценностей. С этого поста, сказал Генри Уайетт, вы сможете наблюдать за королевскими доходами и расходами. Король кричит во всеуслышание: — Почему, скажите, почему я не могу дать место при дворе сыну честного кузнеца? Он улыбается про себя такой характеристике Уолтера, куда более лестной, чем все, что навыдумывал испанский посол. Король говорит: — Тем, кто вы сейчас, вас сделал я. И никто другой. Все, что у вас есть, — от меня. Трудно обижаться на короля за эту детскую радость. Генрих в последнее время так благодушен, так сговорчив и щедр — надо прощать ему мелкие проявления тщеславия. Кардинал говорил, англичане простят королю все, кроме новой подати. И еще кардинал говорил, неважно, как официально зовется пост. Пусть только другой член совета на время отвернется: когда посмотрит снова, он увидит, что я выполняю его работу. Как-то апрельским днем он сидит в вестминстерском присутствии, и туда входит Хью Латимер, только что из Ламбетского дворца, где находился под стражей. — Ну? — говорит Хью. — Извольте оторваться от своей писанины и пожать мне руку. Он встает из-за стола и обнимает Хью: пыльная черная куртка, мышцы, кости. — Так вы произнесли перед Уорхемом речь? — Экспромтом по обыкновению. Она лилась сама, как из уст младенца. Может, старик, чувствуя близость собственного конца, утратил вкус к сожжениям. Он весь усох, словно стручок на солнце, и слышно, как громыхают кости. Так или иначе, я перед вами. — В каких условиях вас держали? — Голые стены — моя библиотека. По счастью, я все нужные тексты ношу в голове. Уорхем отпустил меня с предупреждением. Сказал, если я не понюхал огня, то понюхал дыма. Мне такое и раньше говорили. Уж, наверное, лет десять, как я стоял по обвинению в ереси перед Багряным Зверем. — Смеется. — Но Вулси вернул мне разрешение проповедовать. И еще поцеловал на прощанье. И перед этим сытно накормил. Итак? Скоро ли у нас будет королева, любящая слово Божье? Он пожимает плечами. — Мы… послы ведут переговоры с французами. Дело движется к миру. У Франциска целая свора кардиналов, их голоса в Риме будут не лишними. — По-прежнему пресмыкаемся перед Римом? — Приходится. — Мы должны обратить Генриха. Обратить его к слову Божию. — Возможно. Но не сразу. Постепенно. — Я хочу попросить епископа Стоксли, чтобы мне разрешили навестить Бейнхема. Пойдете со мной? Бейнхем — барристер, которого в прошлом году арестовал и пытал Мор. Перед самым Рождеством задержанный предстал перед епископом Лондонским, отрекся и к февралю был отпущен. Всякий человек хочет жить, что тут удивительного? Однако, выйдя на свободу, Бейнхем лишился сна. Однажды в воскресенье он с Библией Тиндейла в руках вышел на середину церкви и перед всем народом исповедал свою веру. Теперь он в Тауэре, ждет, когда объявят дату казни. — Так что? Идете или нет? — Я не хочу давать лорду-канцлеру оружие против себя. Я мог бы поколебать решимость Бейнхема, думает он. Сказать: верь во что хочешь, брат, поклянись в том, чего от тебя требуют, и скрести за спиной пальцы. Только теперь не важно, что скажет Бейнхем. Нет милости тем, кто отрекался прежде, они должны гореть. Хью Латимер уходит размашистой походкой. Милость Божия с Хью, когда тот идет к реке, и когда садится в лодку, и когда выходит из лодки у стен Тауэра, а коли так, зачем ему Томас Кромвель? Мор говорит, допустимо лгать еретикам или понуждать их к признанию хитростью. Они не имеют права хранить молчание, даже если собственные слова их обличают. Если они молчат, ломайте им пальцы, жгите каленым железом, вздергивайте на дыбу. Это законно, мало того, это богоугодно, — говорит Мор. В палате общин есть группа депутатов, которые обедают со священниками в таверне «Голова королевы». Они утверждают (и слова эти вскорости разносятся по всему Лондону), что всякий, поддержавший развод короля, проклят. Бог, говорят эти джентльмены, всецело на их стороне; на заседаниях присутствует ангел со свитком, который смотрит, кто как голосует, и помечает черным имена тех, кто боится Генриха больше, чем Всевышнего. В Гринвиче монах по имени Уильям Пето, глава английского отделения францисканского ордена, произносит перед королем проповедь, взяв за основу текст о злосчастном Ахаве — седьмом царе Израиля, жившем во дворце из слоновой кости. По наущению нечестивой Иезавели он воздвиг языческий алтарь и включил жрецов Ваала в свою свиту. Пророк Илия сказал Ахаву, что псы будут лизать его кровь. Разумеется, так и вышло, ведь помнят только успешных пророков. Псы Самарии лизали кровь Ахава. Его сыновья погибли и лежали непогребенными на улицах. Иезавель выбросили из окна. Дикие псы разорвали ее в клочья. Анна говорит: — Я — Иезавель. Вы, Томас Кромвель, — жрец Ваала. — Глаза ее горят. — Поскольку я женщина, то через меня грех входит в мир. Я — врата дьявола, мною нечистый искушает человека, к которому не смеет подступиться напрямик. Так представляется им. Мне представляется, что у нас слишком много неграмотных священников, которым нечем себя занять. И я желаю папе, императору и всем испанцам утонуть в море. А если кого и выкинут из окна… alors,[55] Томас, я знаю, кого хотела бы выкинуть. Только у маленькой Марии дикие псы не найдут и клочка мяса, а Екатерина такая жирная, что приземлится, как на подушки. Томас Авери возвращается в Англию, ставит дорожный сундучок со всеми пожитками на плиты двора и, словно ребенок, вскидывает руки, обнимает хозяина. Весть о его назначении достигла Антверпена. Стивен Воэн от радости побагровел, как свекла, и выпил целый кубок вина, даже не разбавив водой. Заходи, говорит Кромвель, тут пятьдесят человек ждут встречи со мной, но пусть ждут дальше, а ты заходи и рассказывай, как там все. Томас Авери сразу начинает говорить, но, переступив порог дома, умолкает. Смотрит на шпалеру, подаренную королем. Потом на хозяина. Потом снова на шпалеру. — Кто эта дама? — Не догадываешься? — Он смеется. — Царица Савская в гостях у Соломона. Подарок короля. Из бывших вещей кардинала. Король увидел, что она мне нравится. А он любит делать подарки. — Наверняка очень дорого стоит. — Авери смотрит на шпалеру уважительным взглядом юного счетовода. — Посмотри, — говорит он юноше. — У меня тут еще один подарок, как тебе? Возможно, единственное доброе, что вышло из монастыря. Брат Лука Пачоли писал ее тридцать лет. Книга переплетена в темно-зеленую кожу с золотым тиснением по краям, золотой обрез так и сияет. На застежках — круглые гранатовые кабошоны, почти черные, просвечивающие. — Даже страшно открывать, — говорит юноша. — Прошу. Тебе понравится. Это «Сумма арифметики». Кромвель открывает застежки. На первой странице гравюра — портрет автора с раскрытой книгой и двумя циркулями. — Недавно отпечатана? — Не совсем, но мои венецианские друзья только сейчас обо мне вспомнили. Вообще же я был ребенком, когда Лука ее писал, а тебя тогда не было и в помине. — Он едва прикасается к страницам кончиками пальцев. — Здесь он пишет о геометрии, видишь чертежи? А здесь — что не следует ложиться спать, не сведя приход и расход. — Мастер Воэн цитирует эту максиму. Мне из-за нее приходилось сидеть до зари. — И мне. — Много ночей во многих городах. — Лука был человек бедный. Родился в Сан-Сеполькро. Дружил с художниками, стал превосходным математиком в Урбино — это городок в горах, где великий кондотьер граф Федериго собрал библиотеку более чем в тысячу томов. Лука преподавал в университете Перуджи, затем Милана. Не понимаю, как такой человек мог оставаться монахом; впрочем, иных математиков и алгебраистов бросали в тюрьму как колдунов, и, возможно, он считал, что церковь его защитит… Я слушал его в Венеции, двадцать лет назад, примерно в твоем возрасте. Он говорил о пропорциях — в здании, музыке, живописи, правосудии, хозяйстве, государстве, как должны быть уравновешены права и власть государя и подданных, и как тщательно богатым людям следует вести бухгалтерию, молиться и помогать бедным. О том, как должна выглядеть печатная страница. Каким должен быть закон. И что делает красивым человеческое лицо. — Я узнаю об этом из его книги? — Томас Авери смотрит на царицу Савскую. — Думаю, тот, кто делал шпалеру, знал. — Как Женнеке? Юноша благоговейно перелистывает страницы. — До чего красивая книга! Наверное, венецианские друзья очень вас почитают. Значит, Женнеке больше нет, думает он. Либо умерла, либо полюбила другого. — Иногда, — говорит Кромвель, — итальянские друзья присылают мне стихи, однако я думаю, вся поэзия здесь… Не в том смысле, что страница цифр — стихотворение, а в том, что прекрасно все точное, все соразмерное в своих частях, все пропорциональное… ты согласен? Чем царица Савская так приковала взгляд Авери? Юноша не мог видеть Ансельму, даже слышать о ней не мог. Я рассказал о ней Генриху, думает он. В один из тех вечеров, когда сообщил королю мало, а король мне — много: как он дрожит от страсти, думая об Анне, как пытался утолить вожделение с другими женщинами, чтобы мыслить, говорить и действовать разумно, и как у него ничего с ними не получилось. Странное признание, однако король видит в этом оправдание себе, своей цели. Я преследую одну лань, говорит Генрих, дикую и робкую, она уводит меня с троп, по которым ступали другие, одного в чащу леса. — А теперь, — объявляет он, — мы положим эту книгу на твой стол, пусть тебя утешает, когда на душе такое чувство, будто все не сходится. Он возлагает большие надежды на Томаса Авери. Не так сложно нанять мальчишку, который будет суммировать числа в графах и подкладывать бумажку тебе на стол, чтобы ты ее подписал и спрятал в сундук. Но зачем? Страница из бухгалтерской книги — как стихи, нельзя покивать и забыть, ей надо открыть сердце. Над нею как над Писанием надо размышлять, учиться поступать правильно. Люби ближнего. Изучай рынок. Умножай благо. В следующем году увеличь прибыль.
Казнь Джеймса Бейнхема назначена на тридцатое апреля. Бесполезно просить короля о помиловании. Генрих с давних пор зовется Защитником веры и не хочет ронять свой титул. В Смитфилде на трибуне для знатных лиц он встречает венецианского посла, Карло Капелло. Они раскланиваются. — В каком качестве вы здесь, Кромвель? Как друг еретика или в соответствии со своим постом? И, кстати, какой у вас пост? Один дьявол знает. — В таком случае он и даст вашему превосходительству необходимые пояснения при следующей личной встрече. Объятый языками пламени, умирающий кричит: — Господь да простит сэра Томаса Мора!
15 мая епископы подписывают соглашение. Они не станут принимать новых церковных законов без дозволения короля и представят все ныне существующие на рассмотрение комиссии, в состав которой войдут миряне — члены парламента и представители, назначенные королем. Они не станут собирать конвокации без королевского разрешения. На следующий день Кромвель в Уайтхолле, в галерее, откуда видны внутренний двор и сад, где дожидается король и нервно расхаживает Норфолк. Анна тоже в галерее. На ней платье узорчатого дамаста, такого плотного, что узкие белые плечи будто поникли под тяжестью ткани. Иногда, потворствуя воображению, он представляет, как кладет руку Анне на плечо и ведет пальцем от ямочки между ключицами к подбородку или вдоль линии грудей над корсажем, словно ребенок, читающий по складам. Она поворачивается. На губах — полу-улыбка. — А вот и он. Без цепи лорда-канцлера. Интересно, куда он ее задевал? Томас Мор ссутулен, подавлен. Норфолк — напряжен. — Мой дядя добивался этого не один месяц, — говорит Анна, — но король стоял на своем. Не хотел терять Мора. Хотел быть хорошим для всех. Ну, вы понимаете. — Король знает Мора с младых ногтей. — Грехи юности. Они переглядываются и улыбаются. — Гляньте-ка, — говорит Анна. — Как вы думаете, что там у него в кожаном мешочке? Не государственная ли печать? Когда печать забирали у Вулси, он растянул процесс на два дня. А вот сейчас сам король, в своем собственном раю, ждет, протянув руку. — И кто теперь? — спрашивает Анна. — Вчера вечером Генрих сказал, от моих лордов-канцлеров одни огорчения. Может, мне и вовсе обойтись без лорда-канцлера? — Юристам это не понравится. Кто-то должен управлять двором. — Тогда кого вы предложите? — Посоветуйте королю спикера. Одли не подведет. Если король сомневается, пусть назначит его временно. Однако я думаю, все будет хорошо. Одли — хороший юрист и независимый человек, однако умеет быть полезным. И понимает меня. — Надо же! Хоть кто-то вас понимает. Идем вниз? — Не можете устоять? — Как и вы. Они спускаются по внутренней лестнице. Анна легко, одними пальцами, опирается на его руку. В саду на деревьях развешены клетки с соловьями. Птицы спеклись на солнце, не поют. Фонтан мерно роняет капли в чашу. От клумб с пряными травами тянет ароматом тимьяна. Из дворца доносится чей-то смех, и тут же умолкает, как будто захлопнулась дверь. Кромвель наклоняется, срывает веточку тимьяна, втирает в ладонь запах, переносящий в другое место, далеко-далеко отсюда. Мор кланяется Анне. Она отвечает небрежным кивком, потом низко приседает перед Генрихом и становится рядом, потупив взор. Генрих сжимает ее запястье: хочет что-то сказать или просто побыть наедине. — Сэр Томас? — Кромвель протягивает руку. Мор отворачивается, затем, передумав, все же пожимает ладонь. Пальцы бывшего лорда-канцлера холодны, как остывшая зола. — Что будете теперь делать? — Писать. Молиться. — Я посоветовал бы писать поменьше, а молиться побольше. — Это угроза? — улыбается Мор. — Возможно. Мой черед, вы не находите? Когда Генрих увидел Анну, его лицо озарилось. Сердце короля горит: тронешь — обожжешься.
Кромвель находит Гардинера в Вестминстере, в одном из дымных задних дворов, куда не заглядывает солнце. — Милорд епископ! Гардинер сводит густые черные брови. — Леди Анна просила меня подыскать ей загородный дом. — А при чем тут я? — Позвольте мне развернуть перед вами мою мысль, — говорит он, — так, как она развивалась. Дом должен быть где-нибудь у реки, чтобы добираться до Хэмптон-корта. До Уайтхолла и Гринвича на барке. Пригоден для жилья, чтобы ей не ждать, пока отделают заново. С хорошими садами… И тут я вспомнил: а как насчет особняка в Хэнворде, который король отдал Стивену в аренду, когда назначил его своим секретарем? Даже в полутемном дворе видно, как мысли одна за другой проносятся в мозгу Стивена. О мой ров и мостики, мой розарий и клубничные грядки, мой огород и ульи, мои пруды и плодовые деревья, ах, мои итальянские терракотовые медальоны, мои инкрустации, моя позолота, мои галереи, мой фонтан из морских раковин, мой парк с оленями. — Было бы весьма учтиво предложить ей аренду самому, не дожидаясь указаний короля. Благое дело, чтобы сгладить епископскую строптивость? Полно, Стивен. У вас есть и другие дома. Вам не придется ночевать в стогу. — А если бы пришлось, — говорит епископ, — вы прислали бы слуг с собаками, чтобы выставить меня и оттуда. Крысиный пульс Гардинера убыстряется, черные влажные глаза блестят. Внутренне епископ верещит от возмущения и сдерживаемой ярости. Впрочем, если подумать, для Гардинера даже проще, что вексель предъявлен к оплате так быстро и средства вернуть долг нашлись. Гардинер по-прежнему секретарь, но он, Кромвель, видится с Генрихом почти каждый день. Если королю нужен совет, Кромвель либо даст его сам, либо найдет человека, сведущего в нужном вопросе. Если король чем-то недоволен, Кромвель скажет, с вашего королевского дозволения предоставьте это мне. Если король весел, Кромвель готов смеяться, если король опечален, Кромвель будет предупредителен и мягок. Последнее время Генрих скрытничает, что не ускользнуло от зорких глаз испанского посла. — Он принимает вас в личных покоях, не в официальной приемной, — говорит Шапюи, — не хочет, чтобы знать видела, как часто он с вами совещается. Будь вы других габаритов, вас можно было бы проносить в корзине с бельем. Атак придворные злопыхатели наверняка обо всем докладывают своим друзьям, недовольным вашим возвышением, распространяют порочащие слухи, ищут вас погубить. — Посол улыбается. — Ну что, попал ли я не в бровь, а в глаз, если мне позволительно прибегнуть к такому выражению? Из письма Шапюи к императору, прошедшему через руки мастера Ризли, узнает кое-что о себе. Зовите-меня читает ему вслух: — Здесь написано, что ваше происхождение темно, а юность прошла в опасных авантюрах, что вы закоренелый еретик и позорите должность советника, но лично он находит вас человеком приятного нрава, щедрым и гостеприимным… — Я знал, что нравлюсь Шапюи. Надо бы попросить у него место. — Он пишет, что вы втерлись в доверие к королю, пообещав сделать его самым богатым монархом христианского мира. Кромвель улыбается. На исходе мая из Темзы вылавливают двух исполинских рыбин — вернее, их выбрасывает, снулых, на глинистый берег. — Я должен что-то в связи с этим предпринять? — спрашивает он Джоанну, когда та сообщает ему новость. — Нет, — отвечает она. — По крайней мере, я не думаю. Это знамение, верно? Знак свыше, вот и все.
В конце лета приходит письмо от доктора Кранмера из Нюрнберга. Прежде тот писал из Нидерландов, просил совета в переговорах с императором, в которых чувствовал себя не вполне уверенно, — это не его стезя. Затем из прирейнских городов: есть надежда, что император пойдет на союз с лютеранскими князьями ради их поддержки против турок. Кранмер пишет, как мучительно пытается освоить традиционную английскую дипломатию: предлагать дружбу английского короля, сулить английское золото, а в итоге не дать ровным счетом ничего. Однако это письмо необычное. Оно надиктовано писцу, и речь идет о действии Святого Духа в человеческом сердце. Рейф прочитывает все до конца и указывает на краткую приписку рукой самого Кранмера в левом нижнем углу: «Кое-что произошло. Дело не для письма, может иметь нежелательную огласку. Некоторые скажут, что я поспешил. Возможно, мне потребуется ваш совет. Храните это в тайне». — Что ж, — говорит Рейф, — давайте побежим по Чипсайду с криком: «У Томаса Кранмера есть тайна, и мы не знаем, в чем она состоит!»
Через неделю в Остин-фрайарз заходит Ганс; он снял дом на Мейден-лейн, а пока живет в Стил-ярде, дожидаясь, пока закончат отделку. — Дайте-ка взглянуть на вашу новую картину, Томас, — говорит Ганс, входя. Останавливается перед портретом. Складывает руки на груди. Отступает на шаг. — Вы знаете этих людей? Хорошо ли передано сходство? Два итальянских банкира, партнеры, один в шелках, другой в мехах, смотрят на зрителя, но жаждут обменяться взглядами; ваза с гвоздиками, астролябия, щегол, песочные часы с наполовину пересыпавшимся песком, за аркой окна — кораблик под шелковыми полупрозрачными парусами на зеркальном море. Ганс отворачивается довольный. — И как ему удается это выражение глаз — жесткое и в то же время хитрое? — Как у Элсбет? — Толстая. Грустная. — Еще бы! Вы приезжаете, награждаете ее ребенком, уезжаете снова. — Я не хороший муж. Просто посылаю домой деньги. — Надолго к нам? Ганс сопит, ставит кубок свином на стол и рассказывает о том, что оставил позади: о Базеле, о швейцарских кантонах и городах. О восстаниях и решающих битвах. Образы не образы. Статуи не статуи. Это тело Христово, это не тело Христово, это вроде как тело Христово. Это Его кровь, это не Его кровь. Священникам можно жениться, священникам нельзя жениться. Таинств семь, таинств три. Мы целуем Распятие и встаем перед ним на колени, мы рубим Распятие и сжигаем на городской площади. — Я не поклонник папы, но сил больше нет. Эразм сбежал во Фрайбург к папистам, теперь я убежал к юнкеру Хайнриху. Так Лютер называет вашего короля. «Его непотребство, король Англии». — Ганс утирает рот. — А я хочу работать и получать за это деньги. И желательно, чтобы какой-нибудь сектант не замазал мои фрески побелкой. — Вы ищете у нас мира и спокойствия. — Кромвель качает головой. — Вы опоздали. — Сейчас я шел по Лондонскому мосту и видел, что кто-то изуродовал статую Мадонны. Отбил Младенцу голову. — Это уже давно. Наверное, старый чертяка Кранмер буянил. Вы знаете, каков он во хмелю. Ганс широко улыбается. — Вы по нему скучаете. Кто бы подумал, что вы подружитесь! — Старый Уорхем дышит на ладан. Если он умрет летом, леди Анна попросит Кентербери для моего друга. — Архиепископом будет не Гардинер? — удивляется Ганс. — Он безнадежно рассорился с королем. — Он сам свой худший враг. — Я бы так не сказал. Ганс смеется. — Высокая честь для доктора Кранмера. Он откажется. Слишком много помпы. Он предпочитает свои книги. — Он согласится. Это его долг. Лучшие из нас вынуждены идти против собственной натуры. — Даже вы? — Против моей натуры было слышать, как ваш покровитель угрожает мне в моем доме, и терпеть. А я терпел. Вы были в Челси? — Да. Там грустно. — Во избежание лишних разговоров объявлено, что он ушел в отставку по нездоровью. — Он говорит, у него болит вот здесь, — Ганс трет грудь, — и боль усиливается, когда он садится писать. А все остальные выглядят неплохо. Семейство на стене. — Теперь вам не надо искать заказов в Челси. Король поручил мне перестройку Тауэра. Мы ремонтируем укрепления. Король нанял строителей, художников, золотильщиков. Мы переделываем старые королевские апартаменты и строим новые для королевы. Понимаете, у нас в стране король и королева проводят ночь перед коронацией в Тауэре. Так что, когда пробьет час Анны, увас не будет недостатка в работе. Предстоят шествия, пиршества. Город закажет королю в подарок золотую и серебряную посуду. Поговорите с ганзейскими купцами — наверняка и они захотят отличиться. Пусть думают уже сейчас. Советую поспешить, пока сюда не съехалась половина ремесленников Европы. — Король закажет ей новые драгоценности? — Он не настолько повредился в уме. Она получит Екатеринины. — Я бы хотел ее написать. Анну Болейн. — Не знаю. Возможно, она не захочет, чтобы ее разглядывали. — Говорят, она некрасива. — Возможно. Вы бы не стали писать с нее Весну. Или лепить статую Девы. Или аллегорию Мира. — Так кто она? Ева? Медуза? — Ганс смеется. — Не отвечайте. — У нее очень сильный характер, esprit. Вряд ли вы сумеете передать это на картине. — Вижу, вы в меня не верите. — Я убежден, что некоторые сюжеты вам неподвластны. Входит Ричард. — Приехал Фрэнсис Брайан. — Кузен леди Анны. — Кромвель встает. — Вам надо ехать в Уайтхолл. Леди Анна крушит мебель и бьет зеркала. Кромвель вполголоса чертыхается. — Накормите мастера Гольбейна обедом.
Фрэнсис Брайан хохочет так, что лошадь под ним нервно вздрагивает и шарахается, грозя задавить прохожих. К тому времени как они добираются до Уайтхолла, ему, Кромвелю, кое-как удается собрать по частям историю. Анна только что узнала, что жена Гарри Перси, Мэри Тэлбот, подает в парламент прошение о разводе. Два года, утверждает Мэри, муж не делил с ней ложе, а когда она наконец спросила, почему, ответил, что не в силах больше скрывать: они не женаты и никогда не были женаты, потому что его законная супруга — Анна Болейн. — Миледи в ярости. — Брайан хихикает; усыпанная драгоценностями повязка на глазу подмигивает. — Она говорит, Гарри все погубит. Никак не решит: зарубить его одним махом или публично резать на кусочки в течение сорока дней, как принято в Италии. — Слухи об этом виде казни сильно преувеличены. Он никогда не видел Анну в припадке неконтролируемой ярости и не очень верил, когда о том рассказывали. И вот его вводят в комнату, она расхаживает взад-вперед, маленькая и напряженная, словно ее прошили насквозь и слишком туго стянули нитку. Три дамы — Джейн Рочфорд, Мэри Шелтон и Мария Болейн — следят за Анной взглядом. Небольшой ковер, место которому, вероятно, на стене, лежит на полу, скомканный. «Битое стекло мы вымели», — сообщает Джейн Рочфорд. Сэр Томас Болейн, монсеньор, сидит за столом перед грудой бумаг, рядом, на табурете, его сын Джордж, подпер голову руками, рукава взбиты только наполовину. Герцог Норфолкский смотрит на незажженные дрова в камине — возможно, пытается воспламенить их взглядом. — Закройте дверь, Фрэнсис, — говорит Джордж, — и никого больше не впускайте. Из присутствующих в комнате он один — не Говард. — Я предложила сложить вещи и отправить Анну в Кент, — говорит Джейн Рочфорд. — Гнев короля, стоит ему вспыхнуть… Джордж: — Молчи, не то я могу тебя ударить. — Я просто честно дала совет. — Джейн Рочфорд, храни ее Господь, из тех женщин, которые не умеют вовремя остановиться. — Мастер Кромвель, король распорядился провести расследование. Дело будет разбираться в совете, на сей раз без всякого давления. Гарри Перси должен дать показания свободно. Король не может делать то, что уже совершил и намеревается совершить, ради женщины, скрывшей тайный брак. — Если б я только мог с тобой развестись! — говорит Джордж. — Если бы у тебя был тайный брак! Но видит Бог, никакой надежды: поля черны от женихов, бегущих в другую сторону. Монсеньор поднимает руку: — Прошу тебя. Мария Болейн говорит: — Какой прок звать мастера Кромвеля, если мы не расскажем ему, что произошло? Король уже говорил с госпожой моей сестрой. — Я все отрицаю, — говорит Анна. Как будто перед нею король. — Хорошо, — кивает он. — Хорошо. — Граф признавался мне в любви, да. Писал мне стихи, и я, будучи девушкой юной, не видела в этом вреда. Он только что не смеется. — Стихи? Гарри Перси? Они у вас сохранились? — Нет. Конечно нет. Ничего на бумаге. — Это упрощает дело, — мягко произносит Кромвель. — И разумеется, не было никаких обещаний либо контракта и даже речи о них. — И, — вставляет Мария, — никакого рода близости. Моя сестра — известная девственница. — И что ответил король? — Он вышел из комнаты, — говорит Мария, — оставив Анну стоять. Монсеньор поднимает голову. Откашливается. — В данной ситуации существует большое число разнообразных подходов, и мне представляется, что, возможно…. Норфолк взрывается. Ходит взад-вперед, стуча каблуками, как сатана в миракле. — Клянусь смердящим саваном Лазаря! Покуда вы перебираете подходы, милорд, и выражаете мнения, госпожу вашу дочь позорят на всю страну, слух короля отравляют клеветой, а благосостояние семьи рушится у вас на глазах! — Гарри Перси. — Джордж поднимает руки. — Послушайте, дадут мне сказать? Как я понимаю, Гарри Перси однажды уже отказался от своих претензий, а то, что удалось уладить один раз… — Да, — говорит Анна, — но тогда дело уладил кардинал, а кардинала, к величайшему прискорбию, нет в живых. Наступает тишина. Сладостная, как музыка. Кромвель, улыбаясь, смотрит на Анну, монсеньора, Норфолка. Жизнь — золотая цепь, и Господь порой вешает на нее изящную безделушку. Чтобы продлить мгновение, он идет через комнату и поднимает брошенный ковер. Узкий ткацкий станок. Темно-синий фон. Асимметричный узел. Исфахан? Маленькие существа чинно вышагивают через сплетение цветов. — Смотрите, — говорит он. — Знаете, кто это? Павлины. Мэри Шелтон подходит и заглядывает ему через плечо. — А такие, вроде змей с ножками? — Скорпионы. — Матерь Божия! Они ведь кусаются? — Жалят. — Кромвель говорит: — Леди Анна, коли папа не в силах помешать вам сделаться королевой, а я думаю, он не силах, то уж Гарри Перси не должен становиться для вас препятствием. — Так уберите его, — говорит Норфолк. — Я понимаю, почему вам, как родственникам, неудобно… — Убрать его самим, — заканчивает Норфолк. — Проломить ему голову. — Фигурально выражаясь, — уточняет он. — Милорд. Анна садится. На женщин не смотрит. Маленькие руки сжаты в кулаки. Монсеньор шуршит бумагами. Джордж в задумчивости снял шапочку и теперь играет драгоценной булавкой — пробует на палец острие. Кромвель скатал ковер и протягивает Мэри Шелтон. — Спасибо, — шепчет та, краснея, будто он предложил что-то фривольное. Джордж вскрикивает: игра с булавкой закончилась уколотым пальцем. Дядя Норфолк зло бросает: — Болван великовозрастный! Фрэнсис Брайан идет за ним к дверям. — Благодарю, сэр Фрэнсис, меня провожать не надо. — Я хотел бы пойти с вами и узнать, что вы будете делать. Он резко останавливается, упирает ладонь Брайану в грудь, разворачивает того вбок и слышит удар головой о стену. — Я спешу. Кто-то его окликает. Из-за угла появляется мастер Ризли. — Трактир «Марк и лев». В пяти минутах ходьбы отсюда. Зовите-меня поручил своим людям следить за Гарри Перси с тех самых пор, как тот приехал в Лондон. Кромвель опасался, что недоброжелатели Анны при дворе — герцог Суффолкский с женой и наивные люди, верящие в возвращение Екатерины, — встречаются с графом и убеждают его держаться той версии прошлого, которую считают полезной. Однако по всему выходит, что таких встреч не было — разве что в купальнях на Суррейском берегу. Зовите-меня резко сворачивает в проулок, и они выходят в грязный двор трактира. Кромвель оглядывается по сторонам: два часа хорошенько поработать метлой, и место стало бы вполне пристойным. Золотисто-рыжая шевелюра Ризли горит, словно маяк. У поскрипывающего над головой евангелиста Марка тонзура, как у монаха. Лев маленький, синий, улыбающийся. Зовите-меня трогает его за руку. — Сюда. Они уже готовы юркнуть в боковую дверь, когда сверху раздается пронзительный свист. Две девицы высовываются в окошко и с хохотом вываливают голые груди на подоконник. — Господи! — говорит он. — И здесь дамы из рода Говардов! Внутри «Марка и льва» полно слуг в ливрее Перси — одни лежат головой на столе, другие — под столом. Сам граф Нортумберлендский пьет в отдельном кабинете. Здесь можно было бы побеседовать без свидетелей, если бы не окно в общее помещение, откуда то и дело заглядывают ухмыляющиеся хари. Граф его замечает. — Хм. Я догадывался, что вы придете. Запускает пятерню в стриженые волосы, и они топорщатся, будто щетина. Он, Кромвель, подходит к окошку, поднимает палец и захлопывает ставень перед встрепенувшимися зрителями. Однако когда он садится напротив юноши, голос его вкрадчив, как всегда. — Итак, милорд, чем я могу вам помочь? Вы утверждаете, что не можете жить с женой. В красоте она не уступит ни одной женщине королевства, а если у нее и есть изъяны, то я о них не слышал. Почему бы вам не поладить? Однако Гарри Перси — не пугливый сокол, которого надо успокаивать лаской. Гарри Перси кричит и плачет: — Если мы не поладили в день свадьбы, как мы поладим теперь! Она меня ненавидит, потому что знает: наш брак незаконен. Или только королю дозволено быть совестливым? Когда он сомневается в законности своего брака, то кричит об этом на весь христианский мир, когда я сомневаюсь в законности моего, он присылает последнего из своих слуг, чтобы уговорами спровадить меня домой. Мэри Тэлбот знает, что я обручен с Анной, знает, кого я люблю и буду любить всегда. Прежде я говорил правду: мы заключили контракт при свидетелях, а посему мы оба не свободны. Кардинал угрозами заставил меня отречься от своих слов; отец сказал, что лишит меня наследства. Теперь мой отец умер, и я больше не боюсь говорить правду. Пусть Генрих король, но он хочет отнять чужую жену. Анна Болейн по закону моя супруга, и каково ему будет в день Суда, когда он предстанет перед Создателем, нагой и без свиты? Он дослушивает речь, становящуюся все более бессвязной… истинная любовь… обеты… поклялась отдать мне свое тело… дозволяла мне такие вольности, какие возможны только между женихом и невестой… — Милорд, — говорит он. — Вы сказали, что должны были сказать. Теперь выслушайте меня. Вы растратили почти все состояние. Я знаю, как вы это сделали. Вы набрали долгов по всей Европе. Я знаю ваших кредиторов. Одно мое слово — и все ваши долги потребуют к оплате. — И что ваши банкиры мне сделают? У них нет армий. — Армий не будет и у вас, милорд, если ваши сундуки пусты. Слушайте внимательно и постарайтесь понять. Ваш графский титул — от короля. Ваша обязанность — оборонять северные границы. Перси и Говарды защищают нас от Шотландии. Теперь допустим, что Перси не может выполнять эту свою обязанность. Ваши люди не станут сражаться за спасибо. — Они — мои арендаторы. Их долг сражаться. — Однако, милорд, им нужно снаряжение, оружие, провиант, им нужны исправные крепостные стены и форты. Если вы не в силах все это обеспечить, вы хуже чем бесполезны. Король отберет ваш титул, ваши земли и замки и отдаст их тому, кто справится лучше. — Не отдаст. Король чтит древние титулы. И древние права. — Тогда это сделаю я. Скажем так: я оставлю от вас пустое место. Я и мои друзья-банкиры. Как бы объяснить? Миром правят не из приграничных крепостей и даже не из Уайтхолла, что бы ни думал Гарри Перси. Миром правят из Антверпена, из Флоренции, из мест, о которых Гарри Перси представления не имеет: из Лиссабона, откуда кораблики под шелковыми парусами уходят на запад, в солнце и зной. Не из-за крепостных стен, а из контор, не по зову боевой трубы, а по стуку костяшек счет; миром правит не скрежет пушечного механизма, а скрип пера на векселе, которым оплачены и пушка, и пушечный мастер, и порох, и ядра. — Воображаю вас без денег и титула, — говорит он. — Воображаю вас в домотканой одежде, приносящим в лачугу кролика, добытого на охоте. И воображаю вашу законную супругу Анну, разделывающую этого кролика. Желаю вам всяческого счастья. Гарри Перси роняет голову на стол, заливаясь слезами ярости. — Никакого предварительного договора не было, — говорит Кромвель. — Никакие глупые обещания не имеют законной силы. Всякое взаимное согласие существовало исключительно в вашем воображении. И еще, милорд. Если вы хоть раз упомянете о «вольностях», — он вкладывает в одно слово столько брезгливости, что хватило бы на целую речь, — которые якобы дозволяла вам леди Анна, то будете отвечать передо мной, перед Говардами и Болейнами, и Джордж Рочфорд не станет с вами миндальничать, а милорд Уилтшир растопчет вашу гордость; что до герцога Норфолкского — если тот услышит, как вы бросаете тень на репутацию его племянницы, то отыщет вас в любой норе и откусит вам яйца. Теперь, — прежним благожелательным тоном, — вам все ясно, милорд? — Кромвель идет через комнату и открывает окошко. — Можно заглядывать. Появляются лица; точнее, тянущиеся вверх лбы и глаза. В дверях он задерживается и оборачивается к графу. — Для полной ясности: если вы думаете, будто леди Анна вас любит, вы глубоко заблуждаетесь. Она вас ненавидит. Лучшее, что вы можете для нее сделать, — если не умереть, то хотя бы отречься от слов, которые сказали своей бедной жене, и присягнуть в том, что от вас требуется, дабы расчистить ей путь к трону. По пути домой он говорит Ризли: — Мне искренне его жаль. Зовите-меня хохочет так, что вынужден прислониться к стене.
На следующее утро Кромвель встает рано, чтобы успеть на заседание королевского совета. Герцог Норфолкский занимает место во главе стола, потом, узнав, что прибудет сам король, пересаживается. «Уорхем тоже здесь», — говорит кто-то. Дверь открывается; долгое время ничего не происходит, наконец медленно-медленно, шажок за шажком, входит дряхлый прелат. Садится. Кладет руки на стол. Они сильно дрожат. Голова трясется. Кожа пергаментная, как на рисунке Ганса.[56] Обводит взглядом стол, медленно, по-змеиному моргая. Кромвель пересекает комнату, встает напротив Уорхема и осведомляется о здоровье — чистая формальность, поскольку всякому видно, что архиепископ умирает. Спрашивает: — Провидица, которую вы приютили в своей епархии, Элизабет Бартон. Как она поживает? Уорхем поднимает глаза. — Чего вы хотите, Кромвель? Моя комиссия ничего против нее не нашла. Вам это известно. — Мне сообщили, она говорит, что если король женится на леди Анне, он процарствует не больше года. — Не поручусь. Своими ушами я такого не слышал. — Как я понял, епископ Фишер приезжал на нее посмотреть. — Или чтобы она на него посмотрела. Либо то, либо другое. А что тут дурного? Господь и впрямь ее отметил. — Кто за ней стоит? Голова у архиепископа трясется так, будто вот-вот соскочит. — Возможно, она неправа. Возможно, ее сбили с толку. В конце концов, это простая деревенская девушка. Но что у нее дар, я не сомневаюсь. Когда к ней приходят, она сразу видит, что у человека на сердце. Какие грехи тяготят его совесть. — Вот как? Надо будет к ней съездить. Интересно, угадает ли она, что тревожит меня? — Тише, — говорит Томас Болейн. — Здесь Гарри Перси. Входит граф с двумя сопровождающими. Глаза красные, запах блевотины наводит на мысль, что он не дал слугам себя помыть. Появляется король. День жаркий, и его величество в палевом шелке. Рубины на пальцах — как кровавые пузыри. Король садится. Устремляет круглые голубые глаза на Гарри Перси. Томас Одли — исполняющий обязанности лорда-канцлера — задает вопросы. Предварительный договор? Нет. Какого-либо рода обещания? Никакой телесной — приношу извинения, что вынужден упомянуть, — близости? Клянусь честью, нет, нет и нет. — Как ни прискорбно, нам мало вашего честного слова, — говорит король. — Дело зашло слишком далеко, милорд. Гарри Перси испуган. — Что еще я должен сделать? — Подойдите к его милости Кентербери. Он приведет вас к присяге на Библии. По крайней мере, это то, что архиепископ пытается сделать. Монсеньор сунулся было помочь, Уорхем отталкивает его руку. Хватаясь за стол, так что сползает скатерть, старик встает на ноги. — Гарри Перси, вы много раз шли на попятную, делали заявление и брали свои слова обратно. Теперь вы здесь, чтобы вновь от них отречься, но уже не только перед людьми. Итак… готовы ли вы положить руку на Библию и поклясться передо мной, в присутствии короля и совета, что не состояли в блудной связи с леди Анной и не заключали с ней брачного договора? Гарри Перси трет глаза. Протягивает руку. Произносит дрожащим голосом: — Клянусь. — Дело сделано. Поневоле задумаешься, из-за чего вообще сыр-бор? — Герцог Норфолкский подходит к Гарри Перси и берет того за локоть. — Ну что, приятель, надеюсь, больше мы об этом не услышим? — Говард, он принес клятву, и довольно. Кто-нибудь, помогите архиепископу, ему нехорошо. — Король снова повеселел; обводит советников благодушным взглядом. — Господа, прошу в мою часовню, где Гарри Перси скрепит свою клятву святым причастием. Остаток дня мы с леди Анной проведем в размышлениях и молитвах. Прошу меня не беспокоить. Уорхем, шаркая, приближается к королю: — Епископ Винчестерский облачается, чтобы отслужить вам мессу. Я уезжаю в свою епархию. Король, склонившись, целует архиепископское кольцо. — Генрих, — говорит Уорхем, — я вижу, что вы приблизили к себе людей без чести и совести. Я вижу, что вы обожествляете свои похоти, к огорчению и стыду всех христиан. Я был вам верен, даже когда это шло вразрез с моими убеждениям. Я многое для вас сделал, но то, что я сделал сегодня, было последним.
В Остин-фрайарз его дожидается Рейф. — Да? — Да. — И что теперь? — Теперь Гарри Перси сможет занять еще денег и тем ускорить свое разорение, чему я охотно поспособствую. — Кромвель садится. — Думаю, со временем я отберу у него графство. — Каким образом, сэр? Он пожимает плечами. — Вы же не хотите, чтобы Говарды еще больше усилили свое влияние на севере? — Нет. Наверное нет. — Он молчит, размышляя. — А найди-ка мне, что там у нас есть про Уорхемову провидицу. Покуда Рейф ищет, он открывает окно и смотрит в сад. Розы на кустах поблекли от солнца. Бедная Мэри Тэлбот, думает он, ее жизнь теперь легче не станет. Несколько дней, всего несколько дней, она, а не Анна, была в центре внимания двора. Он вспоминает, как Гарри Перси приехал арестовать кардинала, с ключами в руках, как поставил стражу у постели умирающего. Кромвель высовывается в окно. Интересно, если посадить персиковые деревья, они примутся? Входит Рейф со свертком бумаг. Он разрезает ленточку, разворачивает письма и меморандумы. Вся эта нехорошая история началась шесть лет назад, когда к статуе Богородицы в заброшенной часовне на краю кентских болот начали стекаться паломники, и некая Элизабет Бартон принялась устраивать для них представления. Чем отличилась статуя? Ходила, наверное. Или плакала кровавыми слезами. Девушка — сирота, воспитанная в доме одного из земельных агентов Уорхема. Из родственников у нее — сестра. Он говорит Рейфу: — Она ничем не выделялась лет до двадцати, потом вдруг заболела, а выздоровев, сподобилась видений и начала говорить чужими голосами. Утверждает, будто видела святого Петра у врат рая, с ключами. Архангела Михаила, взвешивающего души. Если спросить у нее, где твои покойные родственники, она ответит. Коли они в раю, она говорит высоким голосом, коли в аду — низким. — Смешно, наверное, звучит, — замечает Рейф. — Ты так думаешь? Каких непочтительных детей я воспитал! — Он смотрит в бумаги, затем поднимает голову. — Иногда она по девять дней ничего не ест. Иногда падает на землю. Хм, неудивительно. Склонна к судорогам и трансам. Бедняжка. С ней беседовал милорд кардинал, но… — перебирает бумаги, — здесь никаких записей. Интересно, что между ними произошло. Вероятно, кардинал уговаривал ее поесть, а она отказывалась. Теперь… — читает, — … она в монастыре в Кентербери. У разрушенной часовни починили крышу, и деньги текут туда рекой. Происходят исцеления. Хромые ходят, слепые прозревают. Свечи зажигаются сами собой. Паломники валят валом. Откуда у меня чувство, будто я уже слышал эту историю? Блаженная окружена толпой священников и монахов, которые обращают взор людей к небу, а сами тем временем облегчают их кошельки. Естественно допустить, что те же священники и монахи поручили ей высказываться по поводу королевского брака. — Томас Мор тоже к ней ездил, не только Фишер. — Да, я помню. И… глянь-ка!.. она получила от Марии Магдалины письмо с золотыми буквицами. — И смогла его прочесть? — Выходит, что да. — Он понимает глаза. — Как ты думаешь? Король готов терпеть поношения, если они исходят от святой девственницы. Видать, привык. От Анны его величество слышит и не такое. — Возможно, он боится. Рейф бывал с ним при дворе и понимает Генриха лучше многих, знающих короля целую жизнь. — О да. Он верит в простых девушек, которые беседуют со святыми. И склонен верить в пророчества, тогда как я… Знаешь, я думаю, какое-то время мы не будем ее трогать. Посмотрим, кто к ней ездит. Кто делает пожертвования. Некоторые знатные дамы посещают блаженную — хотят узнать свое будущее и отмолить матерей из чистилища. — Миледи Эксетер, — говорит Рейф. Генри Куртенэ, маркиз Эксетерский — внук старого короля Эдуарда и, таким образом, ближайший родственник Генриха. Очевидная кандидатура для императора, если тот когда-нибудь высадится с войсками, чтобы сбросить Генриха и посадить на престол кого-то другого. — На месте Эксетера я бы не позволял своей жене увиваться вокруг полоумной монашенки, укрепляющей ее фантазии, будто со временем она сделается королевой. — Он начинает складывать бумаги. — А еще эта девица уверяет, что может воскрешать мертвых.
На похоронах Джона Петита, пока женщины остаются наверху, с Люси, Кромвель проводит внизу импровизированное собрание, чтобы поговорить с купцами о беспорядках в городе. Антонио Бонвизи, друг Мора, говорит, что пойдет домой. — Да благословит вас Святая Троица и да дарует вам процветание, — произносит Бонвизи, направляясь к дверям вместе с плавучим островком холода, вызванного его неожиданным приходом. На пороге останавливается. — Если надо будет помочь мистрис Петит, я с большой охотой… — Нет нужды. Она вполне обеспечена. — Но позволит ли ей гильдия продолжать мужнино дело? — С этим я разберусь, — обрывает Кромвель. Бонвизи кивает и выходит. — И как он посмел сюда заявиться! — У Джона Парнелла из гильдии суконщиков давние счеты с Мором. — Мастер Кромвель, то, что вы взяли заботы на себя, означает ли это… собираетесь ли вы поговорить с Люси? — Я? Нет. Хемфри Монмаут говорит: — Может, сперва собрание, а сватовство потом? Мы обеспокоены, мастер Кромвель, как, наверное, ивы, и король… Мы все… — обводит взглядом собравшихся, — полагаю, теперь, когда Бонвизи ушел, здесь остались лишь те, кто сочувствует делу, за которое пострадал наш покойный друг Петит, однако наша обязанность — сохранять мир, отмежеваться от кощунников… В прошлое воскресенье водном из городских приходов, в самый торжественный момент мессы, при возношении святых даров, когда священник возгласил: «Hoc est enim corpus meum»,[57] раздались выкрики: «Хок эст корпус, фокус-покус». А в соседнем приходе, при перечислении святых, когда иерей просит Бога даровать нам общение с мучениками и апостолами, «cum Joanne, Stephano, Matthia, Barnaba, Ignatio, Alexandra, Marcellino, Petro…»,[58] кто-то заорал: «И не забудь меня с моей двоюродной сестрицей Кэт, и Дика, который торгует рыбой в Лиденхолле, и его сестру Сьюзан, и ее собачку Пунш!» Он прикрывает рот рукой. — Если собачке потребуется защита в суде, вы знаете, где меня найти. — Мастер Кромвель, — говорит ворчливый старшина гильдии скорняков, — вы нас собрали, подайте же нам пример серьезности. — На улицах распевают баллады о леди Анне, — говорит Монмаут, — слова которых я не могу повторить в этом обществе. Слуги Томаса Болейна жалуются, что их обзывают и забрасывают навозом. Хозяевам следует приглядывать за своими подмастерьями и доносить, когда те ведут себя ненадлежащим образом. — Кому? Кромвель говорит: — Ну, например, мне. В Остин-фрайарз он застает Джоанну — она нашла предлог, чтобы не уезжать в Степни: простыла. — Спроси, что я знаю, — говорит Кромвель. Она честно трет пальцем кончик носа. — Попробую угадать. Ты знаешь, сколько денег у короля в казне с точностью до шиллинга. — До фартинга. Нет, другое. Спроси меня, любезная сестрица. Она делает еще несколько неудачных попыток, и наконец он говорит: — Джон Парнелл женится на Люси. — Что? Ведь Джон Петит еще не остыл в могиле. — Она отводит взгляд, перебарывая чувства. — А вы, сектанты, как я погляжу, держитесь вместе. У Парнелла в доме тоже попахивает ересью. Я слышала, его слуга — в тюрьме епископа Стоксли. Ричард Кромвель заглядывает в дверь. — Хозяин. Тауэр. Кирпичи. Пять шиллингов за тысячу. — Нет. — Хорошо. — Казалось бы, Люси могла найти человека, с которым ей жилось бы спокойно. Он идет к двери. — Ричард, постой! — Оборачивается к Джоанне. — Думаю, она таких просто не знает. — Сэр? — Сбей цену на шесть пенсов и проверь каждую партию. Отбери по нескольку кирпичей и прояви к ним повышенный интерес. Джоанна, из комнаты: — И вообще, ты поступил умно. — Например, измерь их… Джоанна, ты вправду думала, что я могу жениться по оплошности? Сгоряча? — Простите? — говорит Ричард. — Если ты начнешь измерять кирпичи, продавец испугается, и ты по его лицу увидишь, собирался ли он тебя надуть. — Наверняка ты кого-нибудь себе присмотрел. Какую-нибудь знатную даму. Король дал тебе новую должность… — Да, в отделении пошлин канцлерского суда… Я бы не сказал, что это прямая дорожка к амурной истории. Ричард, стуча каблуками, сбегает по лестнице. — Знаешь, о чем я думаю? — спрашивает Кромвель. — Ты думаешь, надо обождать. Пока она, та женщина, станет королевой. — Я думаю, что цена растет из-за перевозки. Даже если баржей по реке. Надо будет расчистить участок и построить свой кирпичный завод.
Воскресенье, первое сентября, в Виндзоре. Анна, преклонив колени перед королем, получает титул маркизы Пемброкской. Рыцари ордена Подвязки наблюдают со своих церемониальных мест, рядом с ней знатнейшие дамы королевства, дочь Норфолка Мария (герцогиня гневно отказалась, сопроводив свой отказ божбой) держит на подушке ее корону; Говарды и Болейны торжествуют. Монсеньор гладит бороду, кивает и улыбается, слушая тихие поздравления французского посла. Епископ Гардинер зачитывает новый титул Анны. Она в алом бархате и горностае, черные волосы по-девичьи распущены и змеистыми локонами ниспадают на грудь. Вместе с титулом она получает доходы от пятнадцати поместий — их обеспечил он, Кромвель. Поют «Te Deum».[59] Звучит проповедь. Когда церемония окончена и дамы наклоняются, чтобы поднять шлейф Анны, он замечает отблеск синевы, как от зимородкова крыла и, вглядевшись, видит среди дам из рода Говардов младшую дочь Сеймура. Боевой конь поднимает голову при звуке трубы, а знатные дамы вскидывают подбородок и улыбаются, однако, когда оркестр играет туш и процессия выходит из капеллы Святого Георгия, ее бледное лицо по-прежнему обращено долу, а глаза смотрят под ноги, словно она боится упасть. На пиру Анна сидит рядом с Генрихом, за разговором опускает черные ресницы. Она почти у цели, почти добилась своего, тело напряжено, как тетива, кожа в золотистой пыльце с оттенком абрикоса и меда, а когда губы раздвигаются в улыбке — что происходит часто, — видны маленькие острые зубки. Она хочет забрать себе Екатеринину барку — уничтожить вензеля «Г&Е», убрать все эмблемы прежней владелицы. Король послал к Екатерине за драгоценностями: Анна возьмет их во Францию, куда они вскорости собираются. Кромвель провел с ней вечер, два вечера, три теплых сентябрьских вечера, пока королевские ювелиры делали эскизы, а он как хранитель королевских драгоценностей давал им советы. Анна хочет заказать новые гарнитуры. Сперва Екатерина уперлась — она-де не отдаст достояние английской королевы в руки женщины, позорящей христианский мир, — и лишь прямой приказ короля заставил ее уступить. Анна обо всем ему рассказывает; она говорит со смехом: «мой Кромвель». Ветер попутный, прилив благоприятствует — Кромвель чувствует подошвами силу волн, влекущих вперед. Спикера Одли, его друга, наверняка утвердят в должности лорда-канцлера — король к нему привыкает. Старые придворные подали в отставку, чтобы не служить Анне; новый казначей двора, сэр Уильям Полет, — соратник по временам Вулси. Почти все новые придворные — соратники по тем временам. А кардинал не брал на службу дураков. После мессы и посвящения Анны в титул он заходит к Гардинеру — тот меняет церемониальное облачение на более приличествующее светскому торжеству. — Будете танцевать? — Кромвель сидит на каменном подоконнике, вполглаза следит за тем, что происходит во дворе: музыканты несут трубы и лютни, арфы и ребеки, гобои, виолы и барабаны. — У вас неплохо получится. Или, став епископом, вы больше не танцуете? Мысли Стивена заняты своим. — Вы не думаете, что стать маркизой в собственном праве — более чем достаточно для любой женщины? Теперь она ему уступит. Дай-то Бог, чтобы до Рождества она понесла. — Так вы желаете ей успеха? — Я желаю королю успокоиться, и чтобы из этого что-нибудь вышло. — А знаете, что Шапюи про вас говорит? Якобы у вас в доме живут две женщины, переодетые мальчиками. — Вот как? — хмурится Гардинер. — Полагаю, все лучше, чем два мальчика, переодетых женщинами. Вот это было бы возмутительно. Епископ отрывисто смеется. Они вместе идут на пир. Тра-ля-ля-ля, поют музыканты. «В кругу друзей забавы[60] век будут мне по нраву».[61] Душа музыкальна по своей природе, утверждают философы. Король приглашает Тома Уайетта петь вместе с собой и музыкантом Марком. «Ах, чем бы милой угодить? Для милой что мне совершить?» — Все, что угодно, — говорит Гардинер. — Насколько я вижу, предела нет. Кромвель говорит: — Король добр к тем, кто верит в его доброту. За музыкой никто, кроме епископа, не услышит. — Ну, — отвечает Гардинер, — тут надо иметь невероятно гибкий ум. Как у вас. Он говорит с мистрис Сеймур. — Смотрите. Она показывает свои рукава с каймой цвета зимородкова крыла — из того самого ярко-синего шелка, в который он завернул книгу с рисунками для вышивания. Как там в Вулфхолле, спрашивает он сколь можно деликатнее — в таких выражениях осведомляются о жизни в семействе, где произошел инцест. Она отвечает всегдашним звонким голоском: — Сэр Джон отменно здоров. Впрочем, сэр Джон всегда отменно здоров. — А остальные? — Эдвард злится, Том не находит себе места, госпожа моя матушка скрежещет зубами и хлопает дверьми. Урожай зреет, яблоки наливаются, молочницы при коровах, капеллан при молитвах, курицы несутся, лютни настроены, а сэр Джон… сэр Джон, как всегда, отменно здоров. Почему бы вам не придумать какое-нибудь дело в Уилтшире и не заехать к нам? Да, и если у короля будет новая жена, ей понадобятся новые фрейлины, и моя сестра Лиз займет место при дворе. Ее муж — губернатор Джерси. Антони Отред, вы его знаете? Я бы сама охотно присоединилась к королеве, да, говорят, она вновь переезжает и свита ее уменьшится. — Будь я вашим отцом… Нет, — торопливо поправляется Кромвель. — Будь я вправе давать советы, я порекомендовал бы вам служить леди Анне. — Маркизе, — говорит она. — Да, смиряться полезно. Она учит нас всех умерять гордыню. — Просто сейчас ей приходится нелегко. Думаю, добившись своей цели, она станет мягче. Еще не договорив, он понимает, что это не так. Джейн опускает голову, смотрит на него из-под ресниц. — Вот мое смиренное личико. Подойдет? Он смеется. — Оно откроет вам любые двери. Пока танцоры, обмахиваясь веерами, отдыхают после галиард, паван и аллеманд, они с Уайеттом поют а капелла солдатскую песенку: «Скарамелла ушел на войну, с копьем, со щитом». Она печальна, невзирая на слова, как всякая песня в предсумеречный час, когда полутьма приглушает человеческий голос. Чарльз Брэндон спрашивает: — О ком это? О женщине? — Нет, о юноше, который ушел на войну. — И что с ним сталось? «Scaramella fa la gala». — Для него война — сплошной праздник. — Да, славные были деньки, — говорит герцог. — Лучше, чем сейчас. Король поет сильным, красивым, протяжным голосом: «Когда в чащобе я бродил».[62] Некоторые дамы, перебрав крепкого итальянского вина, плачут. В Кентербери архиепископ Уорхем лежит на холодном камне, на глаза ему кладут монеты, словно хотят навсегда запечатлеть королевский профиль в мозгу усопшего. Потом тело опустят под плиты собора, в сырую черную пустоту рядом с костями Бекета. Анна сидит неподвижно, как статуя, устремив взор на короля. Движется только рука — она гладит собачку на коленях, снова и снова, наматывает на палец завитки шерсти. Когда затихает последняя нота, вносят свечи.
Октябрь, и все едут в Кале — кавалькада в две тысячи человек растянулась от Виндзора до Гринвича, от Гринвича через зеленые кентские поля до Кентербери; с герцогом едет сорок свитских, с маркизом — тридцать пять, с графом — двадцать четыре, виконт обойдется двадцатью, а Кромвель — Рейфом и одним писарем, которых можно приткнуть в любую крысиную нору на корабле. Король встречается с братской Францией — та обещала замолвить перед папой словцо за его новый брак. Франциск предлагает женить одного из трех своих сыновей — трех сыновей! вот кого Господь любит! — на племяннице папы Екатерине Медичи и обещает поставить условием, что братской Англии дадут уладить свои матримониальные дела в собственной юрисдикции, в суде английских епископов. Прошлое свидание монархов, названное «Встречей на поле золотой парчи», устраивал кардинал. Король говорит, нынешняя поездка обойдется дешевле, но как только речь заходит о частностях, выясняется, что его величество хочет того побольше и этого вдвое — еще богаче, еще пышнее, еще грандиознее. Генрих везет во Францию своих поваров и свою кровать, священников и музыкантов, собак и соколов, а также свою новоиспеченную маркизу, которую вся Европа считает его любовницей. Везет претендентов на престол, в том числе Йорка лорда Монтегю и Ланкастеров Невиллей, дабы показать, как они покорны и как прочен трон Тюдоров. Везет свою золотую посуду, постельное белье, своих пирожников, своих щипальщиков птицы и отведывателей пищи, даже собственное вино — на первый взгляд, перебор, но кто знает? Рейф, помогая упаковывать бумаги, замечает: — Я понимаю, что Франциск будет просить у папы одобрения на новый брак нашего короля, но никак не соображу, зачем это Франциску. — Вулси всегда говорил, что цель соглашения — само соглашение. Не важно, каковы условия, главное — что они есть. Важна добрая воля. Когда она иссякает, соглашение нарушается, что бы ни было записано в условиях. Важны шествия, обмен подарками, королевские игры в шары, турниры, придворные спектакли — это не вступление, а сам процесс. Анна, хорошо знающая французский двор и французский этикет, рассказывает о возможных затруднениях. — Если прибудет с визитом папа, король Франции обязан будет выйти ему навстречу, возможно, даже во двор. Монархи же, завидев друг друга, должны пройти равное число шагов. И это работает, если только один монарх не станет делать очень маленькие шаги, вынуждая второго пройти большее расстояние. — Клянусь Богом, это низость! — взрывается Чарльз Брэндон. — Неужто Франциск так поступит? Анна смотрит на него из-под полуопущенных век. — Милорд Суффолк, готова ли госпожа ваша супруга к путешествию? Суффолк багровеет. — Моя жена — бывшая королева Франции. — Мне это известно. Франциск будет рад снова ее повидать. Он находил ее очень красивой. Хотя, конечно, тогда она была молода. — Моя сестра по-прежнему красива, — умиротворяюще произносит Генрих, однако Чарльз Брэндон разражается криком, подобным раскату грома: — Вы ждете, что она будет прислуживать вам? Дочери Болейна? Подавать вам перчатки, мадам, садиться за стол ниже вас? Так запомните — этому не бывать! Анна поворачивается к Генриху, стискивает его руку. — Он унижает меня в вашем присутствии. — Чарльз, — говорит Генрих, — выйдите и возвращайтесь, когда овладеете собой. Не раньше. Вздыхает, делает знак рукой: Кромвель, идите за ним. Суффолк вне себя от ярости. — На свежем воздухе приятнее, милорд, — говорит Кромвель. Уже осень: мокрые листья хлопают на ветру, как флаги миниатюрных армий. — Мне в Виндзоре всегда чудился некоторый холодок, а вам, милорд? Я об общем положении вещей, не только о замке. — Его голос журчит тихо, успокаивающее. — Будь я королем, я старался бы больше времени проводить в Уокинге. Вам известно, что там никогда не бывает снега? По крайней мере, не было последние двадцать лет. — Будь вы королем? — Брэндон ускоряет шаг. — Если Анна Болейн может сделаться королевой, то почему бы и нет? — Беру свои слова назад. Мне следовало выразиться смиреннее. Брэндон сопит. — Она, моя жена, никогда не появится в свите этой распутницы. — Милорд, вам лучше считать ее целомудренной, как считаем мы все. — Ее воспитала мать, известная потаскуха, доложу я вам. Это она, Лиз Болейн, бывшая Лиз Говард, первая затащила Генриха в постель. Уж поверьте мне — я самый старый его друг. Ему было семнадцать, ион не знал, куда вставлять. Отец воспитывал его, как монашку. — Теперь никто из нас не верит в эту историю. Про жену монсеньора. — Монсеньора! Силы небесные! — Ему нравится, когда его так называют. Вреда в этом нет. — Ее воспитывала сестрица Мария, а Мария росла в борделе. Знаете, как они это делают во Франции? Супруга мне рассказала… Ну, не рассказала, а написала на бумаге, по-латыни. Мужчина возбуждается, и женщина берет его член в рот! Вообразите только! И можно ли называть целомудренной особу, которая вытворяла такие мерзости? — Милорд… если ваша супруга не хочет ехать во Францию, если вы не в силах ее убедить… давайте скажем, что она больна. Небольшая уступка ради вашего старинного друга. Это позволит ему избежать… — Он чуть было не говорит «ее попреков», но быстро поправляется: —…позволит избежать неловкости. Брэндон кивает. Они по-прежнему идут к реке, и он пытается шагать медленнее — не хочет уходить далеко, потому что Анна уже ждет его с известием, что Брэндон извинился. Герцог поворачивается к нему, на лице — страдание. — Тем более, что это правда. Она ведь и впрямь больна. Ее маленькие прелестные… — Брэндон складывает ладони чашечкой, — совсем усохли. Я все равно ее люблю. Она стала вся прозрачная. Я ей говорю, Мария, когда-нибудь я проснусь и не смогу найти тебя в постели — приму за нитку на простыне. — Очень вам сочувствую, — говорит он. Суффолк трет лицо. — О Боже. Ладно, идите к Гарри. Скажите ему, что мы не можем. — Раз ваша супруга не может ехать в Кале, стоит поехать вам. — Я бы не хотел ее оставлять, понимаете? — Анна злопамятна, — говорит Кромвель. — Ей трудно угодить, но ее очень легко задеть. Милорд, доверьтесь моим советам. Брэндон сопит. — А что еще остается? Вы теперь всем заправляете, Кромвель. Вы нынче все. Мы спрашиваем себя, как такое случилось? — Герцог тянет носом. — Но, клянусь кровью Христовой, так ни черта и не возьмем в толк. «Клянусь кровью Христовой», — так мог бы божиться Томас Говард, старший из герцогов. Когда он заделался толмачом при герцогах, истолкователем их слов? Он спрашивает себя, но так ни черта не возьмет в толк. Когда он возвращается к королю и будущей королеве, те смотрят друг на друга влюбленными глазами. «Герцог Суффолкский шлет свои извинения», — говорит он. Да, да, кивает король, приходите завтра, только не слишком рано. Можно подумать, они уже муж и жена, и впереди у них жаркая ночь, полная супружеских ласк. Можно было бы подумать, да только Мария Болейн сказала ему, что маркизатом король купил себе лишь право гладить внутреннюю сторону Анниной ляжки. Мария поведала это вслух и даже не на латыни. Обо всем, что происходит, когда они с Генрихом остаются наедине, Анна сообщает родственникам, не опуская ни малейшей подробности. Поневоле восхитишься ее просчитанной точностью, ее самообладанием. Она бережет себя, как солдат бережет порох, чтобы хватило подольше; подобно анатому в падуанской медицинской школе, она делит свое тело на части и каждой дает название: вот моя ляжка, вот моя грудь, вот мой язык. — Может быть, в Кале, — говорит он. — Может быть, там король добьется того, чего хочет. — Она должна быть уверена. — Мария идет прочь, затем останавливается и оборачивается, лоб нахмурен. — Анна говорит «мой Кромвель». Мне это не по душе. В следующие дни возникает новый мучительный вопрос: какая августейшая французская дама будет принимать Анну? От королевы Элеоноры, разумеется, согласия не дождешься — она сестра императора и возмущена тем, что его непотребство бросил Екатерину. Сестра Франциска, королева Наваррская, чтобы не встречать любовницу английского короля, сказалась больной. «Уж не та же ли это болезнь, что у бедной герцогини Суффолкской?» — спрашивает Анна. Быть может, предлагает Франциск, будет удобно, если новую маркизу встретит герцогиня Вандомская, его собственная официальная фаворитка? У Генриха от ярости разболелись зубы. Приходит доктор Беттс с сундучком лекарств. Сильное снотворное вроде помогает, однако просыпается король по-прежнему таким обиженным, что в следующие часы кажется, будто единственное решение — вообще отменить поездку. Как они не уяснят, что Анна — не любовница, а будущая жена? Впрочем, Франциску, чьи ухаживания никогда не длятся больше недели, этого не понять. Образец рыцарства? Христианнейший король? Да у него на уме один гон, но я вамскажу, когда он ослабеет, другие олени поднимут его на рога. Спросите любого охотника! Наконец решение найдено: будущая королева останется в Кале, на английской почве, где никто ее не оскорбит, пока король будет с Франциском в Булони. Кале — город маленький, там легче поддерживать порядок, даже если народ в порту кричит: «Путана!» и «Великая английская блудница!» А если на улицах будут распевать скабрезные песенки, всегда можно сделать вид, что мы их не понимаем. В Кентербери, где, кроме королевской свиты, собрались паломники со всего света, каждый дом забит от подвала до чердака. Они с Рейфом поселились в сносных условиях и близко к королю, но многие лорды ютятся по вонючим трактирам, рыцари — по задним комнатушкам борделей, а паломникам осталось место только в конюшнях да под открытым небом. По счастью, для октября погода необычно теплая. В прошлые годы король отправился бы поклониться мощам Бекета и сделал щедрое пожертвование. Однако непокорный Бекет — не тот архиепископ, какого мы сейчас хотим ставить в пример. В соборе еще висит дымка ладана от похорон Уорхема, молитвы за упокой его души — немолчное гудение, как от тысячи ульев. Кранмеру, который где-то в Германии, с двором императора, отправлены письма. Анна уже называет его «нашим будущим архиепископом». Никто не знает, когда Кранмер доберется до Англии. Со своей тайной, говорит Рейф. Конечно, отвечает он, со своей тайной, записанной на уголке листа. Рейф посетил гробницу Бекета. Впервые. Возвращается ошарашенный, говорит, рака усыпана драгоценными камнями размером с гусиное яйцо. — Знаю. Как ты думаешь, они настоящие? — Показывают череп, скрепленный серебряной пластиной, говорят, это череп Бекета, раздробленный рыцарями. За деньги к нему можно приложиться. И еще блюдо с фалангами его пальцев. Его засморканный носовой платок. Кусок башмака. И флакон, который они встряхивают — говорят, там его кровь. — В Уолсингеме есть флакон с молоком Богородицы. — Боже, молоко-то они из чего сделали? Кровь — явно вода с какой-то минеральной краской, она там плавает комочками. — Ладно, бери это гусиное перо, выдернутое из крыла архангела Гавриила, и напишем Стивену Воэну. Пусть едет за Кранмером, поторопит того домой. — Да уж, поскорее бы, — говорит Рейф. — Сейчас, хозяин, погодите, только смою Бекета с рук. Король, хоть и не идет к гробнице, хочет показаться народу вместе с Анной. После мессы, вопреки всем советам, Генрих шагает в толпе, окруженный придворными, стража чуть позади. Анна стремительно поворачивает голову на тонком стебельке шеи, стараясь разобрать, что о ней говорят. Люди тянут руки, чтобы коснуться короля. Норфолк, рядом с Кромвелем, деревянный от напряжения, стреляет глазами из стороны в сторону. «Не нравится мне эта затея, мастер Кромвель». Сам он, некогда проворный в обращении с кинжалом, следит за движениями ниже уровня глаз. Однако единственный предмет в пределах видимости, которым можно кого-нибудь убить, — огромное Распятие в руках у монаха. Народ расступается, пропуская целую процессию: францисканцы, приходские священники, бенедиктинцы из аббатства и, в толпе монахов, — молодая женщина в бенедиктинской рясе. — Ваше величество! Генрих оборачивается. — Клянусь Богом, это блаженная! — Стражники делают шаг вперед, но Генрих останавливает их движением руки. — Дайте мне на нее взглянуть. Она рослая и не очень молодая, лет, наверное, двадцати восьми, смуглое некрасивое лицо раскраснелось от волнения. Девица протискивается к королю, и на мгновение он видит Генриха ее глазами: ало-золотая приапическая туша, багровое лицо, тянущаяся к ней мясистая лапища. — Мадам, вы что-то хотели мне сказать? Девица пытается сделать реверанс, однако Генрих крепко держит ее за локоть. — Небеса и святые, с которыми я беседую, — говорит она, — сказали мне, что еретиков, которые вас окружают, надо бросить в один большой костер, и если вы его не зажжете, то сгорите сами. — Каких еретиков? Кто они? Я не приближаю к себе еретиков. — Вот одна! Анна приникает к королю, тает, как воск, на его алом с золотом джеркине. — И если вы вступите в какую-либо форму брака с этой недостойной женщиной, то не процарствуете и семи месяцев. — Семи месяцев?! Полноте, мадам, разве нельзя было округлить? Пророки не говорят «семь месяцев». — Так сказали мне небеса. — А когда семь месяцев истекут, кто меня сменит? Кто станет королем вместо меня? Монахи пытаются оттащить блаженную от короля: такое в их планы не входило. — Лорд Монтегю, у него кровь. Маркиз Эксетер, он королевской крови. — Теперь монахиня уже сама силится высвободить локоть из королевской хватки. — Я видела госпожу вашу матушку, — говорит она, — в языках бледного пламени. Генрих выпускает ее руку, словно обжегшись. — Мою матушку? Где? — Я хотела найти кардинала Йоркского. Я обыскала рай, ад и чистилище, но его там нет. — Она ведь сумасшедшая, да? — говорит Анна. — Если она сумасшедшая, ее нужно выпороть. Если нет — повесить. Один из священников объявляет: — Мадам, она великая праведница. Ее глаголы внушены небом. — Уберите ее от меня! — требует Анна. — Тебя поразит молния! — кричит монахиня Генриху. Тот нервно смеется. Норфолк проталкивается вперед, рычит сквозь сжатые зубы: — Уведите ее в тот бордель, из которого вытащили, пока она не испробовала вот этого, клянусь Богом! Герцог потрясает сжатыми кулаками. В давке один из монахов ударил другого Распятием, блаженную уволакивают, она пророчествует на ходу, гул толпы нарастает, Генрих, крепко держа Анну за руку, пятится туда, откуда пришел. Он, Кромвель, идет за монахами и, как только толпа редеет, трогает одного из них за плечо. — Я был слугой Вулси, — говорит он. — Я хотел бы побеседовать с блаженной. Посовещавшись между собой, монахи пропускают его к девице. — Сэр? — спрашивает она. — Не могли бы вы еще раз поискать кардинала? Если я сделаю пожертвование? Она пожимает плечами. Один из францисканцев говорит: — Это должно быть значительное пожертвование. — Как вас зовут? — Отец Рисби. — Я очень богат и заплачу, сколько скажете. — Вы хотите просто узнать местонахождение усопшего, чтобы молиться о нем самостоятельно, или предполагаете сделать вклад на помин души? — Как посоветуете. Однако, разумеется, я должен быть уверен, что он не в аду, чтобы не тратиться на мессы впустую. — Мне надо посоветоваться с отцом Бокингом, — говорит девица. — Отец Бокинг — ее духовный наставник. Он кивает. «Приходите за ответом», — говорит блаженная и, повернувшись, исчезает в толпе. Он дает монахам деньги для неведомого отца Бокинга, который, судя по всему, устанавливает здесь цены и ведет бухгалтерию.
Король удручен. А как еще должен чувствовать себя человек, которому сказали, что его поразит молния? К вечеру Генрих жалуется на боль в голове, лице и челюсти. «Подите прочь, — говорит его величество докторам, — все равно от вас никакого проку. А вы, сударыня, — это уже Анне, — велите вашим дамам вас уложить. Я не хочу разговоров. Пронзительные голоса мне мучительны». Норфолк бурчит себе под нос: у Тюдора вечно все не слава богу. В Остин-фрайарз, когда у кого-нибудь течет из носа или подвернулась нога, мальчишки разыгрывают интерлюдию под названием: «Если бы Норфолк был доктором Беттсом». Болит зуб? Вырвать! Прищемил палец? Отруби себе руку! Болит голова? Долой ее с плеч, новая вырастет! Пятясь к выходу, Норфолк замирает на полушаге. — Ваше величество, она не сказала, что молния вас убьет. — Верно! — радостно подхватывает Брэндон. — Живой, но низложенный с трона, живой, но черный и обугленный? Вот счастье-то! — Перечислив свои горестные обстоятельства, Генрих кричит слугам, чтобы принесли дров, пажу — чтобы согрел вина. — Неужто король Англии должен сидеть с пустым кубком возле гаснущего камина?! — Монарх, похоже, и вправду замерз. — Она говорит, что видела мою матушку. — Ваше величество, — произносит Кромвель осторожно, — известно ли вам, что ваша матушка изображена на одном из витражей в соборе? И когда сквозь витраж бьет солнце, может показаться, будто она окружена светом. Думаю, это и видела монахиня. — Вы не верите в ее видения? — Полагаю, она не отличает происходящего вовне от того, что творится у нее в голове. Такое бывает. Наверное, ее стоит пожалеть, но не слишком сильно. Король хмурится. Говорит: — Я любил матушку. — Потом: — Бекингем очень полагался на видения. Один монах сказал ему, что он станет королем. Нет надобности добавлять, что Бекингем казнен за государственную измену больше десяти лет назад.
Когда двор отправляется в Кале, Кромвель идет вместе с королем на «Ласточке». Стоит на палубе, смотрит, как удаляется английский берег. Рядом герцог Ричмондский, незаконный сын Генриха, взволнованный тем, что первый раз в жизни вышел в море на корабле, да еще с отцом. Фицрой — миловидный белокурый мальчик лет тринадцати, высокий, но тоненький, вылитый Генрих в его годы, полностью осознает свое положение. — Мастер Кромвель, — говорит мальчик, — я не видел вас с тех пор, как Вулси удалили от двора. Мгновенная неловкость. — Я рад, что вы процветаете. Потому что в книге «О придворном» сказано, что люди низкого происхождения часто богато одарены природой. — Вы читаете по-итальянски, сэр? — Нет, но отрывки из книги перевели мне на английский. Очень полезное для меня чтение. — Пауза. Мальчик поворачивает голову и говорит тихо: — Я очень жалею, что кардинал умер. Потому что теперь моим опекуном стал герцог Норфолкский. — И я слышал, вашу светлость женят на его дочери Мэри. — Да. А я не хочу. — Почему? — Я ее видел. У нее грудь плоская. — Однако она умна, милорд. А то, о чем вы сказали, время наверняка исправит, прежде чем вы сочетаетесь браком. Если вам переведут ту часть книги Кастильоне, где речь идет о достоинствах благородных дам, вы увидите, что Мэри Говард наделена ими сполна. Дай-то Бог, чтобы этот брак не оказался таким же, как у Гарри Перси или Джорджа Болейна. И для девушки в том числе. Кастильоне утверждает: женщины могут понять все то же, что и мужчины, у них такие же чувства, такие же способности, они так же любят и ненавидят. Кастильоне безумно любил свою жену Ипполиту, однако та умерла, прожив с ним только четыре года. Он написал ей элегию, но так, словно пишет сама Ипполита, словно умершая разговаривает с супругом. За кормой корабля чайки кричат, как погибшие души. Король выходит на палубу сообщить, что голова прошла. Кромвель говорит: — Ваше величество, мы беседовали о книге Кастильоне. У вас было время ее прочесть? — Конечно. Он восхваляет spezzaturata — искусство все делать изящно без видимых усилий. Это умение следует воспитывать в себе и государям. — Генрих добавляет неуверенно: — У короля Франциска оно есть. — Да. Однако помимо spezzaturata следует постоянно выказывать на людях сдержанность. Я подумываю заказать перевод и презентовать его милорду Норфолку. Король улыбается — наверняка вспомнил Томаса Говарда в Кентербери, угрожающего побить монахиню. — Непременно презентуйте. — Лишь бы он не усмотрел в этом упрека. Кастильоне пишет, что мужчине не следует завивать волосы и выщипывать брови. А как вам известно, милорд делает и то, и другое. Юный Фицрой хмурится. — Милорд Норфолк? Генрих гогочет совсем не по-королевски, без всякого изящества и сдержанности. Вот и славно. Корабельные доски скрипят. Король, чтобы удержать равновесие, берется за поручень. Ветер наполняет паруса. Солнечные зайчики прыгают по воде. «Через час мы будем в порту».
В Кале, последнем оплоте Англии на французской почве, у него много друзей, покупателей, клиентов. Он прекрасно знает город, Водяные и Фонарные ворота, церкви Святого Николая и Божьей Матери, башни и валы, рынки, дворцы и набережные, губернаторский дом, особняки Уэтхиллов и Уингфилдов с их тенистыми садами, где местные аристократы живут в блаженном удалении от Англии, которую, по собственным словам, уже не понимают. Знает городские укрепления (разваливающиеся) и земли за ними с их лесами, деревушками и болотами, шлюзами, дамбами и каналами. Знает дорогу на Булонь и дорогу на Гравелин — территорию императора; знает, что и Франциск, и Карл могли бы взять Кале одним решительным наступлением. Англичане владеют городом двести лет, но на улицах куда чаще слышишь французскую и фламандскую речь. Короля встречает губернатор. Лорд Бернерс, воин и ученый, воплощенная былая добродетель, если бы не хромота и явная озабоченность предстоящими крупными тратами, мог бы служить идеальной иллюстрацией к книге «О придворном». Губернатор даже сумел разместить короля и маркизу в смежных комнатах. — Полагаю, это весьма уместно, милорд, — говорит он Бернерсу. — Лишь бы у двери с обеих сторон были прочные щеколды. Мария сказала Кромвелю, еще до спуска на берег: — Раньше она не соглашалась, теперь она согласна, но не согласен он. Говорит, ребенок должен быть зачат в законном супружестве. Монархи проведут пять дней в Булони, затем пять дней в Кале. Анна расстроена, что ей придется ждать здесь одной. Это спорная территория, на которой может произойти все что угодно. А у него тем временем есть дело в Кале. Он оставляет Рейфа и потихоньку уходит в трактир на заднем дворе Кокуэлл-стрит.
Это заведение самого низкого разбора, здесь пахнет древесным дымом, рыбой и сыростью. На стене — тусклое зеркало, в котором он ловит отражение собственного лица. Оно бледное, только глаза живые. Малоприятная неожиданность — в такой дыре столкнуться нос к носу с самим собой. Он садится и ждет. Через пять минут в дальнем конце комнаты ощущается какое-то шевеление, однако ничего не происходит. Чтобы скоротать время, он начинает перебирать в голове цифры прошлогодних поступлений в казну от герцогства Корнуольского, и уже готов перейти к отчету, представленному канцлером Честера, когда перед ним материализуется темная фигура в мантии. Старик трясущейся походкой идет к столу, вскоре появляются и двое других. Они совершенно одинаковые: глухое покашливание, длинные бороды. Следуя некой иерархии, дружно сопя, они усаживаются на противоположную скамью. Он ненавидит алхимиков, а они явно этой породы: непонятные пятна на одежде, слезящиеся глаза, шмыганье носов, отравленных едкими испарениями. Он приветствует гостей на французском. Они дрожат от холода, и один спрашивает на латыни, можно ли им что-нибудь выпить. Он зовет мальчишку-слугу и без особой надежды спрашивает, что тот посоветует. — Выпить в другом месте, — любезно подсказывает мальчишка. Приносят кувшин чего-то кислого. Старики отпивают по большому глотку, и он спрашивает: — Кто из вас мэтр Камилло? Они обмениваются взглядами. Времени на это уходит столько же, сколько требовалось старухам-грайям,[63] чтобы передать друг другу единственный глаз. — Мэтр Камилло уехал в Венецию. — Зачем? Покашливание. — За советом. — Однако он намерен вернуться во Францию? — Весьма вероятно. — Я хотел бы купить то, что у вас есть, для своего господина. Молчание. Может, думает он, убрать вино и не выставлять, пока они не скажут чего-нибудь дельного? Один из алхимиков, словно угадав его мысль, хватает кувшин. Руки дрожат, и вино проливается на стол. Остальные возмущенно блеют. — Вы принесли чертежи? — спрашивает он. Они снова переглядываются. — О нет. — Однако они есть? — Чертежей, как таковых, не существует. Старики в горестном молчании смотрят, как пролитое вино впитывается в грубо отесанную столешницу. Один пальцем расковыривает проеденную молью дырку на рукаве. Он кричит мальчишке, чтобы принес еще кувшин. — Мы и рады бы вам угодить, — говорит старший из алхимиков, — однако сейчас мэтру Камилло покровительствует король Франции. — Он намерен построить королю модель? — Возможно. — Работающую модель? — Всякая модель по своей природе — работающая. — Если у него обнаружится хоть малейший повод для недовольства, мой господин Генрих охотно примет его в Англии. Входит мальчишка с кувшином. Все умолкают. Беседа возобновляется лишь после того, как дверь за мальчишкой хлопает. На сей раз Кромвель сам разливает вино по кружкам. Старики вновь переглядываются, и один говорит: — Магистр убежден, что ему не подойдет английский климат. Туман. К тому же у вас на острове — сплошные ведьмы. Разговор ни к чему не привел. Однако надо бы довести дело до конца. Выходя, он говорит слуге. — Можешь пойти вытереть со стола. — Я лучше подожду, пока они опрокинут второй кувшин, мсье. — Тоже верно. Отнеси им что-нибудь поесть. Чем у вас кормят? — Похлебкой. Я бы не советовал. С виду — вода, в которой шлюха стирала нижнюю юбку. — Я и не знал, что девицы в Кале что-то стирают. Читать умеешь? — Немного. — Писать? — Нет, мсье. — Надо учиться. А пока пусти вход свои глаза. Я хочу знать, придет ли еще кто-нибудь с ними поговорить, будут ли они доставать чертежи, пергаменты, свитки — что-либо в таком роде. — А что это, мсье? Что они продают? Он почти готов ответить — в конце концов, какой от этого вред? — однако не может подобрать слов.
На второй день переговоров в Булони ему передают, что король Франции хочет его видеть. Генрих долго раздумывает, прежде чем дать согласие: лицом к лицу монархи встречаются только с другими монархами, аристократами и высшими иерархами церкви. С самой высадки на берег Брэндон и Говард, на корабле бывшие с ним запанибрата, держатся холодно, давая французам понять, что невысоко его ставят: это-де причуда Генриха, новоявленный советник, которого скоро сменит барон, виконт или епископ. Посланец-француз говорит ему: — Это не аудиенция. — Конечно, — отвечает он. — Я понимаю. Франциск проводит не-аудиенцию в окружении немногочисленных придворных. Он длинный и тощий, как жердь, локти и колени торчат в разные стороны, большие костлявые ступни поминутно елозят в больших мягких туфлях. — Кремюэль, — говорит Франциск. — Я хочу в вас разобраться. Вы — валлиец. — Нет, ваше величество. Печальные собачьи глаза обводят его с ног до головы, с головы до пят. — Не валлиец. Он видит, что ставит французского короля в тупик. Если он — не захудалый вассал Тюдоров, то как получил пропуск ко двору? — Меня приставил к королевским делам покойный кардинал. — Знаю, — отвечает Франциск, — однако думаю, что за этим есть что-то еще. — Возможно, — говорит он сухо, — но отнюдь не валлийское происхождение. Франциск упирает палец в кончик крючковатого носа, пригибая его еще ближе к подбородку. Выбери себе государя: мало радости каждый день смотреть на такую физиономию. То ли дело гладкий бело-розовый крепыш Генрих! Франциск отводит взгляд. — Говорят, вы некогда сражались за честь Франции. Гарильяно. Он опускает глаза, будто припомнил неприятное уличное происшествие: давку с членовредительством. — В прискорбнейший день. — И все же… такое забывается. Кто теперь помнит Азенкур? Кромвель, едва сдерживаясь, чтобы не засмеяться, вслух говорит: — Верно. Поколение-два… может быть, три-четыре — и от этих событий не останется даже памяти. — По слухам, вы пользуетесь большим доверием известной дамы. — Франциск чмокает губой. — Скажите, мне крайне любопытно, о чем думает мой брат-король. Считает ли он, что она — девственница? Сам я ее не пробовал. При здешнем дворе она была слишком юная, да и плоская, как доска. А вот ее сестра… Ему хочется прекратить этот разговор, но королю не скажешь: «Помолчи». Франциск скользит голосом по голой Марии, от подбородка до пальцев ног, затем переворачивает ее, как оладушек, и повторяет все то же, от затылка до пят. Служитель подает чистую льняную салфетку, и Франциск, закончив говорить, промакивает уголок рта. — Довольно, — произносит Франциск. — Я вижу, вы не подтверждаете свое валлийское происхождение, а значит, моя теория неверна. Уголки рта идут вверх, локти двигаются, колени подрагивают: не-аудиенция окончена. — Мсье Кремюэль, — говорит король, — мы можем больше не встретиться. Ваша неожиданная удача может оказаться недолговечной. Итак, разрешите пожать вам руку как солдату Франции. И поминайте меня в своих молитвах. Он кланяется. — Молю о вас Бога, сэр. На выходе один из придворных встает и со словами: «Подарок его величества» — вручает ему пару вышитых перчаток.
Другой, наверное, был бы польщен и сразу их примерил, он же ощупывает подарок и находит, что искал. Аккуратно встряхивает перчатку, подставив горсть. Затем идет прямиком к Генриху. Король на солнечной площадке играет в кегли с французскими вельможами. Генрих катает шары так, будто сражается на турнире: с гиканьем, стонами, выкрикиванием счета, воплями и проклятьями. Король поднимает голову, спрашивает глазами: «Ну как?» Он глазами отвечает: «Наедине». Взгляд короля говорит: «Позже». Ни слова не произнесено вслух, и все это время король продолжает шутить с другими игроками, затем, не сводя глаз с катящегося шара, говорит: — Видите моего советника? Предупреждаю, никогда не играйте с ним ни во что. Ибо он не чтит вашу родословную. У него нет ни герба, ни имени, однако он уверен, что рожден побеждать. Один из французов замечает: — Умение достойно принимать проигрыш — искусство, которое воспитывает в себе всякий благородный человек. — Я тоже надеюсь воспитать его в себе, — говорит Кромвель. — Когда увидите пример, которому я мог бы следовать, не будете ли так добры мне на него указать? Ибо все они, как он видит, нацелены на выигрыш, на то, чтобы урвать себе толику английского золота. Азартные игры — не порок, если они тебе по средствам. Может, стоило бы выдать королю специальные игровые жетоны, подлежащие оплате лишь в особой палате Вестминстера, в присутствии определенного должностного лица, после утомительной волокиты и взяток служащим, с приложением особой печати. Это сэкономило бы много денег. Однако королевский шар уверенно катится к цели. Генрих выигрывает. Со стороны французов слышны вежливые хлопки.
Оставшись наедине с королем, он говорит: — Вот, думаю, вам понравится. Генрих удивлен. Толстым указательным пальцем, розовым английским ногтем трогает рубин на ладони. — Хороший камень, — говорит король. — Можете мне поверить. — Пауза. — Кто здесь лучший ювелир? Попросите его зайти ко мне. Камень темный, не узнать невозможно. Я надену это кольцо на встречу с Франциском. Пусть видит, как мне служат. — Короля разбирает веселье. — Впрочем, я выплачу вам его стоимость. — Кивает: можете идти. — Разумеется, вы сговоритесь с ювелиром, чтобы завысить цену, а разницу поделите между собой… но я буду щедр. Сделай лицо. Король хохочет. — Как бы я доверил мои дела человеку, неспособному позаботиться о своих? Когда-нибудь Франциск предложит вам пенсион. Соглашайтесь. Кстати, о чем он вас спрашивал? — Спросил, валлиец ли я. Ему этот вопрос представлялся важным, но я, увы, обманул его ожидания. — Вы никогда не обманываете ожиданий, — говорит Генрих. — Если когда-нибудь обманете, я тут же скажу. Два часа. Два короля. Ну как тебе, Уолтер? Он стоит на соленом ветру, разговаривая с мертвым отцом.
Оба короля в Кале. После пира Анна танцует с Франциском. Щеки порозовели, глаза под золоченой маской сверкают огнем. Когда она приподнимает маску и смотрит на французского короля, на лице у нее странная полуулыбка, не вполне человеческая, как будто под маской — другая маска. У Франциска отпадает челюсть и текут слюнки. Анна за руку ведет короля к дивану в оконной нише. Они разговаривают по-французски час, шепотом, ее изящная темная головка склоняется к его голове; иногда смеются, глядя друг другу в глаза. Без сомнения, тема беседы — условия нового соглашения; Франциск, кажется, вообразил, что текст договора — у Анны за корсажем. В какой-то момент он берет ее за руку. Она легонько упирается, и на миг впечатление такое, будто он хочет положить ее пальцы на свой омерзительный гульфик. Всем известно, что Франциск недавно лечился ртутью, однако никто не знает, помогло ли лечение. Генрих танцует с женами местной знати. Чарльз Брэндон, позабыв про больную супругу, заставляет партнерш вскрикивать, подбрасывая их в воздух так, что взлетают юбки. Однако взгляд Генриха то и дело устремляется через зал к Анне, к Франциску. Хребет парализован страхом. На лице — агонизирующая улыбка. Наконец Кромвель решает: я должен это прекратить. И тут же удивляется самому себе: неужто я, как и пристало верноподданному, люблю своего короля? Он вытаскивает Норфолка из темного угла, куда тот спрятался, чтобы не заставили танцевать с супругой губернатора. — Милорд, заберите оттуда вашу племянницу. На сегодня дипломатии довольно. Король ревнует. — Что? Какого дьявола ему теперь не так? Однако герцог с первого взгляда понимает, что творится, и, чертыхнувшись, идет через зал — наперерез танцующим, не в обход. Хватает Анну за руку, перегибает ее запястье, словно хочет сломать. — С вашего позволения, сир. Мадам, идемте танцевать. Рывком ставит ее на ноги. И они танцуют, если это можно назвать танцем: ничего подобного здесь сегодня не видели. У герцога громовой топот сатанинских копыт, у нее — полуобморочные подскоки, одна рука висит, словно подбитое крыло. Король наблюдает за ними со спокойным, праведным удовлетворением. Анну следовало наказать, и кому это сделать, если не родственнику? Французские придворные ухмыляются, сбившись в кучку. Франциск смотрит, сощурив глаза.
В тот вечер король удаляется рано, прогоняет даже камергеров, только Гарри Норрис снует туда-сюда в сопровождении слуги: относит королю вино, фрукты, большое одеяло, грелку: похолодало. Дамы тоже стали резкими и раздражительными. Анна на кого-то кричит. Хлопают двери. Кромвель разговаривает с Томасом Уайеттом, когда на них налетает мистрис Шелтон. — Госпожа требует Библию! — Мастер Кромвель может прочесть весь Новый завет наизусть, — любезно подсказывает Уайетт. Мэри смотрит затравленно. — Кажется, ей для присяги. — Тогда я не гожусь. Уайетт ловит фрейлину за руку. — Кого вы сегодня ночью согреваете, юная Шелтон? Она вырывается и бежит прочь, требуя Библию. — Я вам скажу, кого, — говорит Уайетт. — Генри Норриса. Он смотрит вслед фрейлине. — Она бросает жребий? — Я был в числе счастливцев. — Король? — Возможно. — В последнее время? — Анна вырвала бы обоим сердце и зажарила на вертеле. Кромвель не хочет уходить далеко на случай, если Генрих его потребует, и в конце концов садится играть в шахматы с Эдвардом Сеймуром. — Ваша сестра Джейн… — начинает он. — Странная она, да? — Сколько ей сейчас? — Не знаю… лет двадцать, наверное. Она ходила по Вулфхоллу, говоря: «Это рукава Томаса Кромвеля», и никто не понимал, о чем речь. — Эдвард смеется. — Очень довольная собой. — Отец ее уже просватал? — Были какие-то разговоры. А что? — Просто мешаю вам обдумывать ход. Распахивается дверь и влетает Том Сеймур. — Привет, дедуля! — кричит он, сбивает с брата берет и ерошит ему волосы. — Вставай! Нас ждут женщины! — Мой друг, — кивок в сторону Кромвеля, — не советует. — Эдвард отряхивает берет. — Говорит, они такие же, как англичанки, только грязнее. — Глас бывалого человека? — спрашивает Том. Эдвард старательно надевает берет. — Сколько лет нашей сестре Джейн? — Двадцать один — двадцать два. А что? Эдвард смотрит на доску, тянется к ферзю. Понимает, что в западне. Уважительно вскидывает взгляд. — Как вам это удалось?
Позже он сидит перед чистым листом бумаги, собирается написать Кранмеру и отправить письмо неведомо куда: искать «нашего будущего архиепископа» по всей Европе. Берет перо, но не пишет. В голове крутится разговор с Генрихом про рубин. Его господин уверен, что он готов пуститься на мелкое жульничество, как в ту пору, когда продавал кардиналам поддельных купидонов. Однако в таких случаях оправдываться — только усиливать подозрения. Если Генрих не вполне ему доверяет, что тут удивительного? Государь одинок: в зале совета, в опочивальне и, наконец, пред дверьми ада — нагой, как сказал Гарри Перси, вдень последнего суда. Поездка загнала все дворцовые интриги и дрязги в тесное пространство, ограниченное городскими стенами Кале. Придворные, как карты в колоде, плотно прижаты друг к другу, но их бумажные глаза ничего не видят. Интересно, думает он, где-то сейчас Томас Уайетт, в какие неприятности влез? Заснуть явно не удастся; не потому, что сон прогнала тревога об Уайетте. Он подходит к окну. Луна, словно отверженная, влачит за собой черные лохмотья облаков. В саду горят установленные на подставках факелы, но он идет прочь от света. Плеск волн о берег мерен и настойчив, как биение собственного сердца. Он чувствует, что в темноте кто-то есть; в следующий миг слышится шелест юбок, слабое грудное «ах», и на локоть ему ложится женская рука. — Вы, — говорит Мария. — Я. — Знаете? Они отодвинули щеколды. — Она издает короткий, недобрый смешок. — Сейчас Анна в его объятиях, нагая, как при рождении. Назад пути нет. — Мне казалось, сегодня у них была ссора. — Да. Они любят ссориться. Она сказала, что Норфолк сломал ей руку, Генрих назвал ее Магдалиной и еще кем-то, не помню. Вроде бы все это были римлянки. Не Лукреция. — Да уж. По крайней мере надеюсь, что так. Зачем ей нужна была Библия? — Чтобы он принес брачный обет. При свидетелях. При мне. При Норрисе. Теперь они женаты перед Богом. И еще он поклялся, что сразу по возвращении в Англию обвенчается с ней по всем правилам, а весной будет коронация. Он вспоминает монахиню в Кентербери: если вы вступите в какую-либо форму брака с этой недостойной женщиной, то не процарствуете и семи месяцев. — Ну вот, — говорит Мария, — теперь главное, чтобы у него получилось. — Мария. — Он берет ее за руку. — Не пугайте меня. — Генрих робок. Он думает, будто от него ждут королевских подвигов. Впрочем, если он оробеет, Анна знает, что делать. — Она добавляет торопливо: — В смысле, я дала ей все нужные наставления. — Кладет руку ему на плечо. — Так как насчет нас с вами? Мы много потрудились, чтобы их свести, и, думаю, заслужили отдых. Молчание. — Вы ведь больше не боитесь моего дяди Норфолка? — Мария, я смертельно боюсь вашего дяди Норфолка. И все же не из-за этого, а из-за чего-то другого он медлит в неуверенности. Мария касается губами его губ. Спрашивает: — О чем вы думаете? — Думаю, что не будь я преданнейшим слугой короля, еще можно было бы успеть на следующий корабль. — И куда бы мы отправились? Он не упомнит, чтобы кого-нибудь приглашал с собой. — На восток. Хотя, признаюсь, начинать сначала там нелегко. На восток от Болейнов. На восток от всех. Ему вспоминается Средиземное море, не эти северные воды, и в особенности одна ночь, теплая ночь в Ларнаке: огни беспокойной набережной за окном, шлепанье невольничьих ног по кафелю, запах благовоний и кориандра. Он обнимает Марию и натыкается на что-то мягкое, неожиданное: лисий мех. — Очень предусмотрительно. — О, мы привезли все, что у нас есть. На случай, если придется задержаться тут до зимы. Отблеск света на коже. Шея у Марии очень белая, очень нежная. Герцог в доме; здесь, сейчас, возможно все. Он раздвигает пальцами мех и находит плечи: теплые, надушенные и чуть влажные. Чувствует, как бьется жилка на ее шее. Шаги. Он оборачивается, в руке кинжал. Мария повисает на его локте. Острие кинжала упирается в мужской дублет под грудиной. — Ладно-ладно, — произносит по-английски раздраженный голос. — Уберите оружие. — О Боже! — восклицает Мария. — Вы чуть не убили Уильяма Стаффорда. Он заставляет незнакомца выйти на свет и, только увидев лицо, убирает кинжал. Ему неизвестно, кто такой Уильям Стаффорд. Чей-то конюший? — Уильям, я думала, вы не придете. — Как я вижу, в таком случае вы бы в одиночестве не остались. — Вы не представляете, каково это — быть женщиной. Ты думаешь, будто о чем-то с мужчиной условилась, а выясняется — ничего подобного. Думаешь, он придет, а он не приходит. Это — вопль сердца. — Доброй ночи, — говорит он. Мария поворачивается, как будто хочет сказать: «не уходите». — Пора мне помолиться и в постель. С моря налетел сильный ветер: скрипят мачты в порту, в городе дребезжат окна. Завтра, наверное, будет дождь. Он зажигает свечу и берется за письмо, однако не может сосредоточиться. Ветер рвет с деревьев листву. Образы движутся за стеклом, чайки проносятся как призраки: белый чепец Элизабет, когда та провожала его до дверей в последнее утро. Только не было этого: она спала во влажной постели, под одеялом желтого турецкого атласа. Жребий, который привел его сюда, привел и к тому утру пять лет назад, когда он выходил из дома женатым человеком с бумагами Вулси под мышкой. Был ли он тогда счастлив? Трудно сказать. В ту ночь на Кипре, теперь уже давнюю, он готов был уйти из банка или хотя бы попросить, чтобы его отправили с рекомендательными письмами на Восток. Ему хотелось увидеть Святую землю, ее растения и людей, поцеловать камни, по которым ступали апостолы, торговаться в неведомых закоулках странных городов и черных шатрах, где закутанные женщины порскают по углам, как тараканы. В ту ночь решалась его судьба. Глядя в окно на огни набережной, он слышал в комнате позади грудной смех и тихое «аль-хамду лиллах»,[64] с которым женщина встряхнула в руке кубики из слоновой кости, затем стук. Когда наступила тишина, он спросил: «Ну и что там?» Больше — Восток. Меньше — Запад. Азартные игры — не порок, если они тебе по средствам. — Три и три. Это много или мало? Не сразу сообразишь. Судьба не подтолкнула его решительно, а так, легонько тронула за плечо. — Я еду домой. — Только не сегодня. Уже прилив. На следующее утро он чувствует богов за спиной, как ветер. Он повернул к Европе. Домом тогда было узкое здание на тихом канале, за тяжелыми деревянными ставнями. Ансельма на коленях, золотисто-нагая под длинным ночным платьем зеленого дамаста, отливающего при свечах чернотой, на коленях перед маленьким серебряным алтарем у себя в комнате, про который она говорила: «Это самое ценное, что у меня есть». Подожди минутку, сказала Ансельма. Она молилась на родном языке, то вкрадчиво-умильно, то почти с угрозой, и, видимо, выпросила у серебряных святых чуточку снисхождения, а может, углядела за их блистательной праведностью некую лазейку-щелочку, потому что встала и со словами: «Теперь можно», — потянула шелковую шнуровку, чтобы он мог коснуться ее грудей.
III Ранняя обедня
Ноябрь 1532
Рейф стоит над ним, говорит, уже семь. Король ушел к мессе. Он провел ночь с призраками. — Мы не хотели вас будить. Вы никогда не спите допоздна. Ветер вздыхает в трубах. Пригоршня дождя ударяет в окно, как щебень, за ней другая. — Возможно, погода задержит нас в Кале. Пять лет назад, уезжая во Францию, Вулси попросил его следить за положением дел при дворе и отписать, как только Генрих и Анна разделят ложе. Он спросил тогда: а как я узнаю, что это произошло? Кардинал ответил: «Думаю, это будет видно по его лицу». К тому времени, как он дошел до церкви, ветер утих и дождь перестал, однако улицы превратились в грязь; местные жители, вышедшие поглазеть на знать, все сплошь на ходулях и с плащами, накинутыми на голову, как новое племя безголовых исполинов. Он протискивается через толпу зевак, затем шепчет плотно стоящим джентльменам: s'il vous plait, с'est urgent,[65] дайте дорогу великому грешнику. Он смеются и расступаются. Анна входит под руку с губернатором. Тот напряжен — видимо, разыгралась подагра, но предупредителен, шепчет любезности, на которые не получает ответа. Лицо Анны — нарочито непроницаемо. Король ведет супругу Уингфилда, болтает с ней весело, на Анну не смотрит вовсе. Король выглядит большим, добродушным. Шарит взглядом в толпе, отыскивает его, Кромвеля. Улыбается. Выходя из церкви, Генрих надевает шляпу. Шляпа большая, новая. И на этой шляпе — перо.ЧАСТЬ ПЯТАЯ
I Anna Regina[66]
1533
Двое малышей сидят на скамье в Остин-фрайарз, выставив вперед пятки. Оба еще в детских платьицах, не поймешь, кто мальчик, а кто девочка. Пухлые мордашки под чепчиками сияют. Их вид, сытый и довольный — очевидная заслуга молодой матери, Хелен Барр, которая тем временем рассказывает свою историю: дочь разорившегося мелкого торговца из Эссекса, жена Мэтью Барра, который ее бил, а потом и вовсе бросил — указывает на младшего — «вот с ним в пузе». Соседи привычно идут к нему со своими бедами: у кого-то дверь покосилась, кому-то чужие гуси мешают гоготом, кому-то не дают спать склочные муж и жена в доме напротив, которые ночь напролет бранятся и швыряют посуду. Эти мелочные заботы съедают его время, но уж лучше Хелен Барр, чем соседские гуси. Мысленно он наряжает ее в узорчатый бархат, который видел вчера — шесть шиллингов за ярд — вместо видавшего виды шерстяного платья. Руки женщины загрубели от тяжелой работы — он добавляет перчатки. — Может статься, его уже и в живых-то нету. Муж был пьяницей и задирой, каких мало. Его приятель говорит, убили твоего муженька, ищи на дне реки. А другие видели его с дорожной сумой на причале в Тилбери. Вот и разбери, кто я теперь: жена или вдова? — Я попробую разузнать. Хотя для тебя лучше, если он сгинул. На что живешь? — Как муж пропал, шила паруса, потом перебралась в Лондон искать его, нанималась на поденную работу. Раз в год в монастыре у собора Святого Павла стираю простыни. Сестры хвалили меня, сказали, что дадут тюфяк на чердаке, только они с детьми не пускают. Вот оно, церковное милосердие, ему не впервой такое слышать. — Незачем тебе гнуть спину на этих ханжей. Будешь жить тут. Работа найдется. В доме хватает народу, сама видишь, я строюсь. Она порядочная женщина, думает он, раз не обратилась к самому очевидному способу заработать, хотя, выйди она на улицу, отбою не будет. — Мне сказали, ты хочешь научиться грамоте, чтобы читать Писание. — Я сошлась тут с женщинами, они отвели меня в подвал в Бродгейте, который называют ночной школой. Я и раньше знала про Ноя, волхвов и Авраама, а вот про апостола Павла услыхала впервые. На ферме у нас жили домовые, они сквашивали молоко и вызывали грозу, но мне сказали, они нехристи. И все равно зря мы там не остались. Отцу не давалась городская работа. Хелен не сводит с детей тревожных глаз. Малыши сползли со скамейки и приковыляли к стене, где на их глазах рождается рисунок; каждый шажок заставляет Хелен обмирать от страха. Юный немец, которого Ганс приставил к несложным работам, поворачивает рисунок — по-английски он не говорит — показать, чем занимается. Видишь, роза. Три льва, смотри, прыгают. Две черные птицы. — Красный! — вопит малыш постарше. — Она знает цвета, — поясняет зардевшаяся от гордости Хелен. — А еще считает до трех. На месте, где раньше был герб Вулси, красуется его собственный, недавно пожалованный: три вздыбленных золотых льва на лазурном поле, на поясе червленая роза с зелеными шипами между двумя корнуольскими галками. — Смотри, Хелен, — говорит он, — эти черные птицы — эмблема Вулси. — Он смеется. — А ведь многие надеялись никогда больше их не увидеть! — Среди наших не все вас понимают. — Ты про тех, из ночной школы? — Они говорят, как может кто-то держаться евангельской веры и любить такого человека? — Мне никогда не была по душе его заносчивость, ежедневные процессии, роскошь. Однако от основания Англии никто не служил ей с большим рвением. А когда его милость приближал тебя, — добавляет он грустно, — он становился гак прост, так любезен… Хелен, переберешься сегодня? Кромвель думает о монахинях, которые стирают простыни раз в год. Воображает потрясенное лицо кардинала. Прачки следовали за его милостью, как шлюхи за армейским обозом, разгоряченные от ежечасных трудов. В Йоркском дворце стояла ванна высотой в человеческий рост, а комнату на голландский манер согревала печь. Сколько раз ему приходилось говорить о делах с распаренной кардинальской головой, торчащей из горячей воды. Ванну забрал Генрих и теперь плещется в ней с избранными друзьями, которые покорно терпят, если господину захочется от души макнуть их в воду. Художник протягивает кисть старшей девочке. Хелен сияет. — Осторожно, детка, — говорит она. На стене возникает синее пятно. Такая маленькая, а такая умелая, хвалит художник. Gefällt es Ihnen, Herr Cromwell, sind Sie stolz darauf? Художник спрашивает, — переводит он для Хелен, — нравится ли мне, горжусь ли я собой. Важно, что вами гордятся друзья, говорит Хелен. Я вечно перевожу: если не языки, то людей. Анну Генриху. Генриха Анне. Сейчас король так нуждается в сочувствии, а она колючая, словно репейник. Временами глаза короля останавливаются на других женщинах — и тогда Анна срывается с места и несется в свои покои. Он, Кромвель, мечется между ними, словно площадной поэт, неся заверения всепоглощающей страсти обеим сторонам. Еще нет трех, а в комнате уже стемнело. Он подхватывает младшего из детей, который тут же обмякает у него на плече, проваливается в сон, словно на ходу врезался в стену. — Хелен, — говорит он, — мой дом полон бойких молодых людей, и все они будут учить тебя грамоте, задаривать подарками и скрашивать твою жизнь. Учись, не отказывайся от подарков, будь счастлива среди нас, но если кто-нибудь позволит себе лишнее, говори мне или Рейфу Сэдлеру. Мальчишке с рыжей бородкой. Впрочем, он давно уже не мальчишка. Скоро двадцать лет, как он забрал Рейфа из отцовского дома; стоял такой же хмурый день, дождь хлестал как из ведра, а сонный мальчуган притулился к плечу, когда он вносил его в дом на Фенчерч-стрит.Из-за штормов они застряли вКале на десять дней. В Булони потерпели крушение корабли, Антверпен затопило, под водой оказалась значительная часть побережья. Кромвель хочет написать друзьям, узнать, живы ли, не разорены ли, но дороги размыты, да и сам Кале стал островком, на котором правит счастливый монарх. Он испрашивает аудиенцию — дела не ждут, — но получает ответ: «Сегодня утром король не сможет вас принять. Он с леди Анной сочиняет музыку для арфы». Они с Рейфом переглядываются и уходят. — Остается надеяться, что из-под их пера выйдет достойная пьеска. Томас Уайетт и Генри Норрис надираются в грязной таверне. Клянутся друг другу в вечной дружбе, а на заднем дворе их челядь лупит друг дружку и валяет в грязи. Марии Болейн нигде не видно. Вероятно, они со Стаффордом тоже нашли тихое местечко и сочиняют музыку. В полдень, при свечах, лорд Бернерс показывает ему свою библиотеку: живо ковыляет от стола к столу, бережно листает древние фолианты, которые переводит. Вот роман о короле Артуре. — Поначалу я едва не бросил. История слишком неправдоподобна, но мало-помалу мне открылась ее мораль. О том, что за мораль ему открылась, лорд Бернерс умалчивает. — А вот Фруассар[67] по-английски. Его величество сам велел мне заняться переводом. Пришлось согласиться, король пожаловал мне пятьсот фунтов. Не желаете посмотреть мои переводы с итальянского? Я делал их для себя, не для печати. Они проводят вечер за манускриптами и продолжают обсуждать их за ужином. Генрих даровал лорду Бернерсу пожизненный пост канцлера казначейства, но поскольку тот не в Лондоне, должность не приносит его светлости ни денег, ни влияния. — Мне известно, что вы человек дела. Не согласитесь посмотреть мои счета? Вряд ли вы найдете их в идеальном состоянии. Лорд Бернерс оставляет его наедине с писульками, которые называет своими счетами. Часы идут, ветер шуршит в кровле, колышется пламя свечи, дождь молотит в стекло. Он слышит шарканье хозяйской больной ноги, в дверях возникает встревоженное лицо. — Ну как? Ему удалось обнаружить лишь долги. Вот что бывает, когда посвящаешь жизнь ученым изысканиям и служишь королю за морем вместо того чтобы набивать мошну, работая зубами и локтями при дворе. — Жаль, что вы не обратились ко мне раньше. Всегда можно что-то исправить. — Откуда мне было знать, что вам можно довериться, мастер Кромвель? Мы обменялись письмами, только и всего. Дела Вулси, королевские дела. Я совсем вас не знал. И до сего времени не думал, что сподоблюсь. В день отплытия появляется мальчишка из таверны алхимиков. — Наконец-то! Что принес? Мальчишка демонстрирует пустые ладони и тараторит на своеобразном английском: — On dit[68] маги вернулись в Париж. — Я разочарован. — Вас не так-то просто найти, господин. Я пошел туда, где остановились le roi Henri со своей Grande Putaine,[69] спрашиваю je cherche milord Cremuel,[70] а они давай смеяться, еще и поколотили. — Потому что никакой я не милорд. — Уж тогда и не знаю, какие милорды в вашей стране! Он предлагает мальчишке монетку за услуги, тот мотает головой. — Я хочу поступить к вам на службу, мсье. Надоело сидеть на месте. — Как тебя звать? — Кристоф. — А фамилия у тебя есть? — Ça ne fait rien.[71] — Родители? Пожимает плечами. — Сколько лет? — Сколько дадите. — Читать ты умеешь. А драться? — А что, придется много драться chez vous?[72] Мальчишка широк в плечах, такого подкормить — и через пару лет его с ног не собьешь. На вид не больше пятнадцати. — Были неприятности с законом? — Во Франции, — роняет Кристоф небрежно, как другой сказал бы «в Китае». — Ты вор? Мальчишка втыкает в воздух воображаемый ножик. — Что, до смерти? — Ну, на живого тот малый не тянул. Кромвель усмехается. — Ты уверен, что хочешь зваться Кристофом? Сейчас ты еще можешь сменить имя, потом будет поздно. — Вы поняли меня, мсье. Иисусе, еще бы. Ты мог быть моим сыном. Он пристально вглядывается в мальчишку: нет, он не из тех юных разбойников, о которых говорил кардинал, оставленных им по берегам Темзы, и, весьма вероятно, у иных рек, иных широт. Глаза Кристофа сияют незамутненной голубизной. — Тебя не пугает путешествие по морю? — спрашивает Кромвель. — В моем доме многие говорят по-французски. Скоро ты станешь одним из нас. Теперь, в Остин-фрайарз, Кристоф донимает его расспросами. — Эти маги, что у них было? Карта зарытых сокровищ? Наставление по сборке, — мальчишка машет руками, — летающей машины? Машины, которая производит взрывы, или боевого дракона, изрыгающего пламя? — Ты слыхал о Цицероне? — спрашивает Кромвель. — Нет, но хотел бы. Раньше я и про епископа Гардинера не слыхал. On dit вы отняли его клубничные грядки и отдали их королевской любовнице, и теперь он… — Кристоф замолкает, снова машет руками, изображая боевого дракона, — не даст вам покоя в этой жизни. — И в следующей. Я его знаю. Гардинер еще легко отделался. Он хочет сказать, она больше не любовница, но тайна — хотя совсем скоро о ней узнают все — принадлежит не ему.
Двадцать пятое января 1533 года, рассвет, часовня в Уайтхолле, служит его друг Роуланд Ли, Анна и Генрих венчаются, скрепляя обещание, данное в Кале. Никаких пышных церемоний, горстка свидетелей, молодые почти бессловесны, даже обязательное «да» приходится вытягивать из них чуть ли не силой. Генри Норрис бледен и печален: ну не жестокость ли заставлять его дважды смотреть, как Анну отдают другому? Камергер Уильям Брертон выступает свидетелем. — Так вы здесь или где-нибудь еще? — спрашивает Кромвель. — Вы утверждали, что умеете находиться в двух местах сразу, точно святой угодник. Брертон злобно щурится. — Вы писали в Честер. — По делам короля, и что с того? Они переговариваются вполголоса — в эту минуту Роуланд соединяет руки жениха и невесты. — Предупреждаю еще раз, держитесь подальше от моих семейных дел. Иначе наживете неприятности, о которых и не помышляете, мастер Кромвель. Анну сопровождает единственная дама — ее сестра. Когда они удаляются — король тянет жену за собой, новобрачных ждет арфа, — Мария оборачивается, широко улыбается ему и разводит на дюйм большой и указательный пальцы. Она всегда говорила: я узнаю первой. Именно я буду расставлять ей корсаж. Он вежливо отзывает Брертона и говорит: вы пожалеете о том, что мне угрожали. Затем возвращается к себе в Вестминстер. Интересно, король уже знает? Вряд ли. Садится за бумаги. Приносят свечи. Он видит тень своей руки, тень движется по бумаге; ладонь, свободная, не затянутая в бархат перчатки. Ему хочется, чтобы между ним и шероховатостью бумаги, черной вязью букв не было ничего; он снимает перстень Вулси и рубин Франциска — на Новый год Генрих вернул ему камень в оправе, сделанной ювелиром из Кале, заявив в приступе королевской откровенности: пусть это будет наш тайный знак, Кромвель, запечатайте им письмо, и я буду знать, что оно от вас, даже если потеряете свою печать. Наперсник Генриха Николас Кэрью, стоящий рядом, замечает, надо же, а кольцо его величества вам впору. Впору, соглашается Кромвель. Он медлит. Перо подрагивает. Пишет: «Королевство Англия есть империя». Королевство Англия есть империя, каковою и почитается в мире, управляемая верховным главой и королем…[73] В одиннадцать, когда наконец-то светает, он обедает у Кранмера на Кэннон-роу, где тот живет в ожидании официального вступления в должность и переезда в Ламбетский дворец, упражняясь пока в новой подписи: Томас, архиепископ Кентерберийский. Скоро архиепископ будет обедать как полагается ему по статусу, но сегодня, словно нищий богослов, отодвигает бумаги, чтобы слуга постелил скатерть и поставил тарелки с соленой рыбой. Кранмер благословляет трапезу. — Не поможет, — говорит Кромвель. — Кто вам готовит? Придется прислать своего человека. — Итак, свадьба состоялась? Очень в духе Кранмера шесть часов терпеливо ждать, не поднимая голову от книги. — Роуланд справился. Ни Анну с Норрисом не обвенчал, ни короля с ее сестрицей. Он встряхивает салфетку. — Я кое-что знаю, но вам придется меня улестить. Кромвель надеется, что, пытаясь вытянуть у него секрет, Кранмер выдаст тайну, о которой намекнул на полях письма. Но, очевидно, речь шла о мелких недоразумениях, давным-давно забытых. И поскольку архиепископ Кентерберийский продолжает неловко ковыряться в чешуе и костях, он говорит: — Анна уже носит дитя. Кранмер поднимает глаза. — Если вы будете сообщать об этой новости таким тоном, люди решат, что без вашей помощи не обошлось. — Вы не удивлены? Не рады? — Интересно, что это за рыба? — спрашивает Кранмер с легким недоумением. — Разумеется, рад. Но я и так знаю, этот брак чист — почему бы Господу не благословить его потомством? И наследником. — Наследником прежде всего. Прочтите. — Он протягивает Кранмеру бумаги, над которыми трудился. Тот умывает рыбные пальцы и подается вперед, к пламени свечи. — Значит, после Пасхи обращения к папе, — замечает он, не переставая читать, — будут считаться нарушением закона и королевской прерогативы. Отныне о тяжбе Екатерины следует забыть. И я, архиепископ Кентерберийский, могу рассмотреть королевское дело в английском суде. Что ж, долго собирались. — Это вы долго собирались, — смеется Кромвель. Кранмер узнал о чести, оказанной ему королем, в Мантуе и двинулся в обратное путешествие кружным путем: Стивен Воэн встретил его в Лионе, спешно переправил через сугробы Пикардии и посадил на корабль. — Почему вы медлили? Каждый мальчишка мечтает стать архиепископом, разве нет? Впрочем, кроме меня. Я мечтал о медведе. Кранмер пристально смотрит на него: — Это легко устроить. Грегори как-то спросил, как понять, шутит ли доктор Кранмер? И не поймешь, ответил тогда Кромвель, его шутки редки, как яблоневый цвет в январе. А теперь и ему самому несколько недель трястись от страха: неровен час, наткнешься на медведя под собственной дверью. Он собирается уходить, Кранмер поднимает глаза: — Разумеется, официально я ничего не знаю. — О ребенке? — О свадьбе. Если предстоит рассматривать дело о предыдущем браке короля, негоже мне знать, что нынешний уже заключен. — Конечно, — говорит Кромвель. — Зачем Роуланд вскочил ни свет ни заря, касается лишь самого Роуланда. Он уходит, оставляя Кранмера над остатками трапезы, похоже, в раздумьях, как собрать рыбу заново. Поскольку разрыв с Ватиканом еще не оформлен, для введения в сан нового архиепископа необходимо одобрение папы. Посланцам в Риме поручено говорить то, обещать се, pro tern,[74] лишь бы Климент согласился. — Вы представляете, сколько стоят папские буллы? — Генрих ошеломлен. — И ничего не поделаешь, придется платить! А сама церемония! Разумеется, — добавляет король, — все должно быть устроено как нельзя лучше, тут скупиться нечего. — Это будут последние деньги, которые ваше величество отошлет в Рим, положитесь на меня. — А знаете, — король искренне удивлен, — оказывается, у Кранмера за душой ни пенни. Он ничего не может внести. От лица короны Кромвель берет в долг у старого знакомца, богатого генуэзца Сальваго. Чтобы убедить того дать ссуду, посылает гравюру, о которой давно мечтает Себастьян. На гравюре юноша в саду, глаза обращены к окну, в котором скоро появится его возлюбленная: ее аромат уже висит в воздухе, птицы в кустах всматриваются в пустой проем, готовые разом запеть при появлении дамы; в руках у юноши книга в форме сердца. Кранмер сутра до ночи заседает в задних комнатах Вестминстера, сочиняет оправдания для короля. Хотя брак Екатерины с его братом не был осуществлен, жених и невеста имели намерение вступить в брак, и одно это намерение создает между ними родственную связь. Кроме того, в те ночи, которые они провели вместе, супруги определенно намеревались зачать наследников, даже если не осуществили это должным образом. Чтобы не выставлять лжецами ни Генриха, ни Екатерину, члены комитета измышляют причины, по которым брак мог быть осуществлен частично. Им приходится вообразить все те постыдные неудачи, которые могут произойти в супружеской спальне. И нравится вам эта работа, спрашивает Кромвель. Глядя на согбенных невзрачных людей, заседающих в комитетах, он решает, что супружеская несостоятельность знакома им не понаслышке. В документах Кранмер именует королеву «светлейшей», стремясь разделить безмятежное лицо Екатерины и унизительные мальчишеские ерзания по ее бедрам. Тем временем Анна, тайная королева Англии, отрывается от компании джентльменов, прогуливающихся по галерее в Уайтхолле. Она хохочет и вприпрыжку несется прочь; ее, словно опасную умалишенную, пытаются схватить, но Анна вырывается, не переставая хохотать. — Знаете, я с ума схожу по яблокам, мне все время хочется яблок. Король сказал, что я жду ребенка, а я говорю ему нет, нет, неправда… Она словно заведенная крутится на месте, вспыхивает, слезы градом брызжут из глаз, как из сломанного фонтана. Томас Уайетт протискивается сквозь толпу. — Анна… — Он хватает ее за руки и притягивает к себе. — Анна, ш-ш-ш, милая, ш-ш-ш… Захлебываясь в рыданиях, Анна припадает к его плечу. Уайетт прижимает ее к себе; затравленно озирается, словно голым очутился на большой дороге и высматривает прохожего с плащом, чтобы прикрыть срам. Среди зевак оказывается Шапюи; посол со значительным видом удаляется, торопливо перебирая крохотными ножками, на лице ухмылка. Новость летит к императору. Лучше бы положение Анны открылось после того, как старый брак будет аннулирован, а новый признан в глазах Европы, однако жизнь не балует королевских слуг; как говаривал Томас Мор, на пуховой перине в Царство Божие не въедешь. Два дня спустя он беседует с Анной наедине. Она вписалась в оконный проем и, словно кошка, жмурится в скудных лучах зимнего солнца. Протягивает ему руку, едва ли осознавая, кто перед ней; ей и вправду все равно? Он касается кончиков пальцев; черные глаза распахиваются, словно ставни в лавке: доброе утро, мастер Кромвель, поторгуемся? — Я устала от Марии, — говорит она, — и с удовольствием от нее избавлюсь. Мария, дочь Екатерины? — Ее нужно выдать замуж, прочь с моих глаз. Я не желаю ее видеть. Не желаю думать о ней. Я давно решила отдать ее в жены какому-нибудь проходимцу. Кромвель по-прежнему ждет. — Полагаю, она станет хорошей женой тому, кто додумается приковать ее цепями к стене. — Вот оно что, Мария, ваша сестра. — А вы о ком подумали? А, — усмехается она, — вы о Марии, королевской приблуде? Что ж, ее тоже хорошо бы выдать замуж. Сколько ей? — В этом году семнадцать. — Все такая же карлица? — Анна не ждет ответа. — Я найду для нее какого-нибудь старца, почтенного немощного старикашку, который не сможет ее обрюхатить и которому я заплачу, чтобы держал ее подальше от двора. Но что делать следи Кэри? За вас она выйти не может. Мы дразним Марию, говорим ей, что вы — ее избранник. Некоторые дамы благоволят простолюдинам. Мы говорим ей, ах, Мария, только подумай, лежать в объятиях кузнеца, ты млеешь от одной мысли… — Вы счастливы? — спрашивает он. — Да, — Анна опускает глаза, складывает маленькие руки под грудью. — Из-за этого. Вы знаете, — задумчиво протягивает она, — меня желали всегда, но теперь меня ценят. Оказывается, это не одно и то же. Он молчит, не мешает Анне следовать ходу мыслей, которые ей приятны. — У вас есть племянник, Ричард, тоже Тюдор, хоть я и не совсем понимаю, с какого боку. — Я нарисую вам генеалогическое древо. Анна с улыбкой качает головой. — Не стоит. В последнее время, — ее рука скользит вниз, к животу, — я с трудом вспоминаю по утрам собственное имя. Меня всегда удивляло, отчего женщины так глупы, теперь я знаю. — Вы упомянули моего племянника. — Я видела его с вами. Такой решительный, как раз для нее. Ей нужны меха и драгоценности, но вы ведь сумеете их раздобыть? И по младенцу каждые два года. А уж от кого, это вы сами разберетесь. — Кажется, у вашей сестры уже есть кавалер. Это не месть, просто ему нужна ясность. — Правда? Ее кавалеры… приходят и уходят, порой весьма неподходящие, вам ли не знать. — Разумеется, он в курсе. — Приводите их ко двору, ваших детей. Дайте мне на них посмотреть. Анна вновь закрывает глаза. Он оставляет ее веки млеть в слабых лучах февральского солнца. Король пожаловал ему апартаменты в старом Вестминстерском дворце — на случай, когда он засиживается там допоздна. И тогда он мысленно проходит по комнатам Остин-фрайарз, собирая памятные зарубки там, где их оставил: на подоконнике, под табуретами, в тканых цветочных лепестках у ног Ансельмы. Вечерами он ужинает с Кранмером и Роуландом Ли, который целыми днями расхаживает между подчиненными, подгоняя нерадивых. Иногда к ним присоединяется Одли, лорд-канцлер, но ужинают без церемоний, словно перемазанные чернилами школяры, — просто сидят и разговаривают, пока Кранмеру не приходит время ложиться. Он хочет разобраться в этих людях, обнаружить их слабости. Одли — благоразумный юрист, который просеивает каждую строчку обвинительного заключения, как повар мешок риса. Красноречив, упорен, целеустремлен; сейчас его цель — заручиться доходом, достойным лорда-канцлера. Что до веры, то тут возможен торг; Одли верит в парламент, в королевскую власть, осуществляемую через парламент, а его религиозные убеждения… скажем так, довольно гибки. Неизвестно, верит ли в Бога Роуланд, что, впрочем, не мешает ему метить в епископы. — Роуланд, — просит Кромвель, — не возьмешь к себе Грегори? Кембридж дал ему все, но, вынужден признать, Грегори нечего дать взамен. — Поедет со мной на север, — говорит Роуланд, — я задумал пощипать перышки тамошним епископам. Грегори славный малый, не самый способный, но не беда. По крайней мере, найдем ему полезное применение. — А как насчет духовной карьеры? — спрашивает Кранмер. — Я сказал полезное! — рявкает Роуланд. В Вестминстере клерки Кромвеля снуют туда-сюда, разносят новости, сплетни и бумаги. Он держит при себе Кристофа, якобы для присмотра за платьем, а на деле — чтобы себя развлечь. Ему не хватает ежевечернего музицирования в Остин-фрайарз, женских голосов за стеной. Почти всю неделю он проводит в Тауэре, убеждает каменщиков не прекращать работу в дождь и туман; проверяет счета казначея; составляет опись королевских драгоценностей и посуды. Он призывает смотрителя Монетного двора и предлагает выборочно проверить вес королевской монеты. — Английская монета должна быть вне подозрений, чтобы торговцам за морем не приходило в голову ее взвешивать. — У вас имеются на это полномочия? — Неужели вам есть что скрывать? Он составляет для короля отчет, в котором подробно расписывает доходы и расходы казны. Отчет предельно лаконичен. Король читает, перечитывает, переворачивает лист в ожидании сложностей и неприятных сюрпризов, но сзади пусто, приходится верить своим глазам. — Тут нет ничего нового, — говорит Кромвель, чуть ли не извиняясь. — Покойный кардинал держал все расчеты в голове. С разрешения вашего величества я займусь Монетным двором. В Тауэре он навещает Джона Фрита. По его просьбе, в которой не смеют отказать, узника поместили в чистую сухую камеру с теплой постелью, сносной едой, возможностью получать вино, бумагу и чернила, хотя он и советует Фриту прятать написанное, заслышав скрип замка. Пока тюремщик отворяет камеру, Кромвель стоит, боясь поднять глаза, но Джон Фрит резво вскакивает из-за стола, кроткий молодой человек, эллинист, и говорит, мастер Кромвель, я знал, что вы придете. Он жмет холодную сухую руку в чернильных пятнах. Удивительно, что при такой субтильности юноша дожил до своих лет. Он был одним из тех, кого, за неимением иной темницы, заперли в подвале кардинальского колледжа. Когда летняя зараза проникла под землю, Фрит лежал в темноте рядом с мертвыми телами, пока о нем не вспомнили и не выпустили его на свет. — Мастер Фрит, — говорит Кромвель, — если бы я был в Лондоне, когда вас арестовали… — А пока вы были в Кале, Томас Мор не дремал. — Что заставило вас вернуться в Англию? Нет, не говорите, если это касается Тиндейла, мне лучше не знать. Говорят, в Антверпене вы обзавелись женой? Единственное, чего король не стерпит, впрочем, нет, не единственное — он ненавидит женатых священников. И Лютера, а вы переводили его на английский. — Вы верно изложили суть обвинений. — Помогите мне вас вызволить. Если я добьюсь для вас аудиенции у короля… вам следует знать, король весьма сведущ в богословии… сможете ли вы смягчить свои ответы? В камере горит камин, но от сырости и испарений Темзы никуда не деться. Голос Фрита еле различим. — Король по-прежнему верит Томасу Мору, а Мор написал королю, — тут губы Фрита трогает легкая улыбка, — что я — Уиклиф, Лютер и Цвингли в одном лице, один сектант внутри другого, словно фазан, зашитый в каплуне, которого зашли в гуся. Мор собирается мною отобедать, так что не портите отношения с королем, умоляя о милосердии. А что до смягчения ответов… моя вера тверда, и перед любым судом я готов… — Не надо, Джон. — Перед любым судом я готов утверждать то, что скажу перед судом высшим: причастие — всего лишь хлеб, нам нет нужды в покаянии, а чистилище — выдумка, о которой нет ни слова в Писании. — Если к вам придут люди и скажут, идемте с нами, Фрит, следуйте за ними. Они придут от меня. — Вы думаете, что сможете вывезти меня из Тауэра? В Тиндейловской Библии сказано: с Богом нет невозможного. — Пусть не из Тауэра, пусть вас допросят, дадут возможность оправдаться. Не отказывайтесь от спасения. — А для чего? — Фрит терпелив, словно разговаривает с юным учеником. — Вы же не будете прятать меня в своем доме, пока король не сменит гнев на милость? Уж лучше я выйду в город и у собора Святого Павла заявлю лондонцам то, что говорил раньше. — Ваше свидетельство не может подождать? — Пока Генрих смягчится? Я прожду до старости. — Тогда вас сожгут. — А по-вашему, я не выдержу боли? Вы правы, не выдержу. Но мне не оставили выбора. Как говорит Мор, не велика доблесть стоять в огне у столба, если тебя к нему приковали. Я не могу переписать свои книги. Не могу перестать верить в то, во что верю. Это моя жизнь, я не могу прожить ее заново. Он уходит. Четыре часа: на реке почти нет лодок, над водой висит пронизывающий туман. На следующий день, свежий и ясный, король осматривает строительство вместе с французским послом; рука Генриха дружески покоится на плече де Дентвиля, вернее, на толстой простежке Дентвилева дублета. Француз натянул на себя столько одежды, что, кажется, с трудом протиснется в дверь, но его все равно трясет. — Нашему другу стоит размяться, согреть кровь, — говорит король, — но лучник из него никудышный. В прошлый раз его так трясло, что я боялся, как бы он не угодил стрелой себе в ногу. Он жалуется, что мы не умеем обращаться с соколами, и я предложил ему поохотиться с вами, Кромвель. Обещание краткого отдыха? Король уходит вперед, оставляя их вдвоем. — Не так уж и холодно, — замечает посол, — но стоять посреди поля, когда ветер свистит в ушах, — для меня смерть! Когда же снова пригреет? — В июне, не раньше. Но соколы летом линяют. Я выпускаю своих не раньше августа, так что nil desperandum,[75] мсье, милости прошу. — Вы не отложите коронацию? Вот так всегда: легкая болтовня в устах посла — лишь прелюдия к серьезному разговору. — Заключая соглашение, мой господин не ожидал, что Генрих станет выставлять напоказ свою якобы жену и ее громадный живот. Ему следовало вести себя осмотрительнее. Кромвель качает головой. Никаких проволочек. Генрих утверждает, что его поддерживают епископы, лорды, судебная власть, парламент и народ; коронация Анны — случай это доказать. — Зря вы тревожитесь, — говорит он послу. — Завтра мы принимаем папского нунция. Вот увидите, мой господин с ним поладит. Сверху, со стены, раздается голос Генриха: — Поднимайтесь, сэр, посмотрите на мою реку сверху. — И вас удивляет, отчего меня трясет? — выпаливает француз. — Отчего я трепещу перед ним? Моя река. Мой город. Мое спасение, скроенное для меня. Сшитый по моей мерке английский Бог. Посол тихо чертыхается и начинает подъем. Когда папский нунций прибывает в Гринвич, Генрих берет его под руку и проникновенно жалуется на нечестивых советников. Рассказывает, как мечтает о скорейшем примирении с папой Климентом. Можно наблюдать за королем каждый день в течение десятилетий и всегда видеть разное. Выбери себе государя: Кромвель не устает восхищаться Генрихом. Порой король несчастен, порой слаб, то ведет себя как дитя, то — как мудрый правитель. Бывает, оценивает свою работу придирчиво, как художник, бывает — сам не видит, что делает. Не родись Генрих королем, стал бы странствующим лицедеем, верховодил бы в труппе бродячих комедиантов. По приказу Анны Кромвель приводит ко двору племянника, берет с собой и Грегори. Рейфа король уже знает: тот всегда рядом. Генрих долго и пристально вглядывается в Ричарда. — Да-да, что-то есть, определенно что-то есть. С его точки зрения, в лице Ричарда нет ничего тюдоровского, но король явно не прочь заполучить еще одного родственника. — Ваш дед, лучник Ап Эван, был славным слугой моему отцу. Вы отлично сложены. Я хотел бы увидеть вас на турнире в цветах Тюдоров. Ричард кланяется. Король, образец учтивости, поворачивается к Грегори: — И вы, мастер Грегори, тоже весьма приятный юноша. Когда король отходит, лицо Грегори расцветает детской радостью. Юноша вцепляется в свой рукав — там, где Генрих его коснулся, — словно вбирая пальцами королевскую милость. — Какой он необыкновенный, какой величественный! Кто бы мог подумать! И сам со мной заговорил! — Грегори оборачивается к отцу. — Везет тебе, можешь разговаривать с ним хоть каждый день. Ричард бросает на двоюродного брата косой взгляд. Грегори бьет Ричарда по руке. — Что твой дед, лучник — видел бы он твоего отца! — Большой палец Грегори оказывается лучником а указательный Морганом Уильямсом. — А вот я давным-давно занимаюсь на арене. Скачу на сарацина, кидаю копье прямо в черное сарациново сердце! — То ли еще будет, дурачок, — спокойно замечает Ричард, — когда вместо деревянного магометанина перед тобой окажется живой рыцарь! Да и стоит такая забава недешево: турнирные доспехи, конюшня… — Все это мы можем себе позволить, — говорит Кромвель. — Прошли времена, когда мы топали по-солдатски, на своих двоих. После ужина он просит Ричарда зайти. Возможно, зря он излагает замысел Анны как деловое предложение. — Особо не надейся. Мы еще не получили королевского согласия. — Но она же меня совсем не знает! — говорит Ричард. Это не довод; он ждет серьезных возражений. — Я не стану тебя неволить. Ричард поднимает глаза. — Точно? Скажи, когда, когда это я кого-нибудь неволил, начинает Кромвель. Ричард перебивает: — Согласен, сэр, никогда, вы умеете убеждать, однако сила вашего убеждения такова, что иной предпочел бы хорошую взбучку. — Я понимаю, леди Кэри старше тебя, но она очень красива, пожалуй, самая красивая женщина при дворе. И она вовсе не так ветрена, как утверждают некоторые, и в ней нет ни капли злобы, как в ее сестре. А ведь она и вправду была мне хорошим другом, думает он. — Вместо того чтобы остаться непризнанным кузеном короля, ты станешь его свояком. Для всех нас выгода очевидна. — Скажем, титул. Для меня и для вас. Отличные партии для Алисы и Джо. А Грегори? Грегори достанется, по меньшей мере, графиня. Ричард говорит ровным голосом. Убеждает себя, что брак того стоит? Как тут понять! Для Кромвеля сердца многих, пожалуй, большинства людей — открытая книга, но порой читать в сердцах дальних куда проще, чем заглянуть в душу близким. — Томас Болейн станет моим тестем, а Норфолк — настоящим дядюшкой. — Вообрази его физиономию! — О, ради такого зрелища можно пройти по горячим углям босиком. — Тебе решать. Никому не говори. Ричард кивает и, не сказав больше ни слова, выходит. Однако «никому не говори» для него означает «никому, кроме Рейфа», потому что спустя десять минут заходит Рейф и становится перед ним, высоко подняв брови. Лицо напряженное, как у всех рыжеволосых, вздумавших пошевелить почти невидимыми бровями. — Не рассказывай Ричарду, что Мария Болейн когда-то предлагала себя мне, — говорит он. — Между нами ничего нет. Тут тебе не Волчий зал, если ты об этом. — А если у невесты на уме другое? Что же вы Грегори на ней не жените? — Грегори еще мал, а Ричарду двадцать три, самое время обзавестись семьей, если есть на что. А тебе и того больше, так что ты следующий. — Пора убираться, пока вы не нашли для меня очередную Болейн. — Рейф поворачивает к двери и мягко замечает: — Только одно, сэр. Думаю, это смущает и Ричарда… Мы поставили наши жизни и будущее на эту женщину, а между тем она не только непостоянна, но и смертна, а история королевского брака учит: младенец в утробе — еще не наследник в колыбели.
В марте приходят вести из Кале: скончался лорд Бернерс. Тот вечер в библиотеке, ненастье, бушевавшее за окном, кажутся последней мирной гаванью, последними часами, которые Кромвель провел для себя. Он хочет предложить за библиотеку хорошую цену, чтобы поддержать леди Бернерс, — но манускрипты успели спрыгнуть со столов и ускакать: что-то ушло племяннику Фрэнсису Брайану, что-то другому родственнику, Николасу Кэрью. — Может быть, вы простите ему долги? — спрашивает он Генриха. — По крайней мере, пока жива жена? Вы ведь знаете, он не оставил… — Сыновей, — завершает фразу король. Мыслями Генрих устремлен вперед: когда-то и я пребывал в сем несчастливом статусе, но совсем скоро у меня родится наследник. Король дарит Анне майоликовые чаши: снаружи намалевано слово maschio,[76] внутри — пухлые светловолосые младенцы с крошечными кокетливыми фаллосами. Анна смеется. Итальянцы считают, мальчики любят тепло, говорит король. Согревайте вино, пусть веселит кровь, никаких фруктов и рыбы. — А как вы думаете, — спрашивает Джейн Сеймур, — это уже решено, или Господь решит потом? Интересно, знает ли сам младенец? Если бы мы могли заглянуть внутрь, то поняли ли бы, кто там? — Джейн, следовало оставить тебя в Уилтшире, — говорит Мэри Шелтон. — Незачем потрошить меня, чтобы удовлетворить ваше любопытство, мистрис Сеймур, — вступает Анна. — Это мальчик, и никто не смеет говорить или думать иначе. Анна хмурится, и вы видите, как она собирается, ощущаете великую силу ее воли. — Хотела бы я родить ребеночка, — говорит Джейн. — Не увлекайся, — советует ей леди Рочфорд. — Если у тебя вырастет живот, придется замуровать тебя заживо. — Ее семейство, — замечает Анна, — позор дочери не смутит. В Вулфхолле неведомы приличия. Джейн краснеет и начинает дрожать. — Я никого не хотела обидеть. — Оставьте ее, — говорит Анна, — это все равно что травить мышку. — Ваш билль еще не прошел, — поворачивается к Кромвелю Анна. — Отчего задержка? Билль, запрещающий апеллировать к Риму. Он говорит о противодействии, но Анна лишь недовольно поднимает бровь. — Мой отец поддержал вас в палате лордов, да и Норфолк. Кто смеет нам противиться? — Билль пройдет к Пасхе. — Женщина, которую мы видели в Кентербери; говорят, сторонники печатают книги ее пророчеств. — Возможно, но я приму меры, чтобы их не читали. — Говорят, в день Святой Екатерины, когда мы были в Кале, она видела так называемую принцессу Марию в короне. Анна сбивается на яростную скороговорку, вот мои враги, эта пророчица и те, кто с ней; Екатерина, которая сговаривается с императором; ее дочь Мария, мнимая наследница; старая наставница Марии Маргарет Пол, леди Солсбери со всем своим семейством; ее сын лорд Монтегю; ее сын Реджинальд Пол, который сейчас в изгнании, по слухам, претендует на трон — пусть вернется в Англию и тем докажет свою лояльность. Генри Куртенэ, маркиз Эксетер, тоже лелеет надежды, но когда родится мой сын, ему придется смириться с неизбежным. Леди Эксетер, Гертруда, вечно жалуется, что истинной знати перешли дорогу люди низкого происхождения, и вам прекрасно известно, кого она имеет в виду. Миледи, мягко перебивает Анну сестра, вам нельзя расстраиваться. — Я не расстроена. — Рука Анны лежит на животе. — Эти люди желают моей смерти, — добавляет она тихо. Дни коротки и сумрачны, настроение Генриха им под стать. Шапюи вертится и гримасничает перед королем, словно приглашает Генриха на танец. — Я с недоумением прочел умозаключения доктора Кранмера… — Моего архиепископа, — недовольно перебивает король: обошедшаяся недешево церемония все-таки состоялась. — …относительно королевы Екатерины… — Вы о супруге моего покойного брата, принцессе Уэльской? — …ибо вашему величеству известно, что диспенсация узаконила ваш брак, безотносительно того, был ли осуществлен предыдущий. — Я не желаю больше слышать слово «диспенсация», — говорит Генрих. — Не желаю слышать из ваших уст упоминания о моем так называемом браке. У папы нет власти узаконить кровосмешение. Я такой же муж Екатерине, как и вы. Шапюи кланяется. — Будь наш брак законен, — Генрих готов сорваться, — разве Господь покарал бы меня, лишив наследников! — Мы не можем знать наверняка, что достойная Екатерина уже не способна иметь детей. На губах посла играет ехидная ухмылка. — Как вы думаете, зачем я все это предпринял? — настойчиво требует король. — Считаете, мною движет похоть? Вы вправду так считаете? Зачем я уморил кардинала? Разделил страну? Расколол церковь? — Это было бы сумасбродство, — бормочет Шапюи. — Однако вы думаете именно так. Так говорите императору. Вы ошибаетесь. Я служу своей стране, сэр, и если ныне вступаю в брак, благословленный Господом, то для того лишь, чтобы жена родила мне законного наследника. — Нельзя поручиться, что у вашего величества родится сын. Или хотя бы живой младенец. — А почему бы нет? — Генрих багровеет, вскакивает на ноги, слезы брызжут из глаз. — Чем я отличаюсь от других мужчин? Чем? Скажите, чем? Императорский посол — настоящий охотничий терьер, маленький, но упорный, однако даже он понимает: если ты довел государя до слез, надо сдавать назад. Пытаясь загладить оплошность — расшаркиваясь, заученно унижаясь — Шапюи замечает: — Благополучие страны и благополучие Тюдоров — не одно и то же, не так ли? — В таком случае кого вы прочите на трон? Куртенэ? Или Пола? — Особы королевской крови не заслуживают такого презрительного тона. — Шапюи трясет рукавами. — По крайней мере, теперь я официально уведомлен о положении леди, тогда как раньше мог только догадываться о нем по ее безрассудным выходкам, коим был свидетелем… Вы понимаете, Кремюэль, сколько поставили на тело одной-единственной женщины? Будем надеяться, с нею не случится ничего дурного. Кромвель берет посла под руку, разворачивает лицом к себе. — О чем вы? — Будьте любезны, не трогайте мой рукав. Благодарю. Скоро вы опуститесь до драки, что меня не удивляет, учитывая ваше происхождение. — Посол хорохорится, но за бравадой — страх. — Оглянитесь вокруг! Своей непомерной гордыней и самонадеянностью она оскорбляет вашу знать. Даже собственный дядя не выносит ее выходок. Старые друзья короля ищут предлоги, чтобы держаться подальше от двора. — Подождите коронации, вот увидите, они мигом сбегутся обратно. Двенадцатого апреля, на Пасху, Анна вместе с королем присутствует на торжественной мессе, где молятся за королеву Англии. Его билль прошел лишь накануне; Кромвель ожидает скромной награды, и, перед тем как королевская чета отправится разговляться, Генрих жалует ему пост канцлера казначейства, который занимал покойный лорд Бернерс. — Бернерс желал, чтобы он достался вам, — улыбается Генрих. Король любит делать подарки, по-детски предвкушая радость того, кого облагодетельствовал. Во время мессы мысли Кромвеля далеко. Что ждет его дома: шумные гуси, уличные драки, младенцы, оставленные у церковных дверей, буйные подмастерья, которых придется учить уму-разуму? Интересно, Алиса и Джо покрасили яйца? Девочки выросли, но с удовольствием пользуются детскими привилегиями, пока их не сменит другое поколение. Пора искать им достойных мужей. Энн, если б не умерла, уже вышла бы за Рейфа, сердце которого до сих пор свободно. Он думает о Хелен Барр; как легко ей дается грамота, как быстро она стала незаменимой в Остин-фрайарз. Теперь он уверен, что ее муж не вернется, нужно сказать ей об этом, сказать, что отныне она свободна. Она добродетельна и не выкажет своей радости, но разве не облегчение узнать, что ты больше не принадлежишь такому человеку? Пока идет служба, Генрих не умолкает ни на минуту; шелестит бумагами, передает их советникам. Лишь во время освящения Святых Даров король опускается на колени в приступе благочестия: происходит чудо, облатка становится Господом. После слов священника: «Ite, missa est»,[77] Генрих шепотом велит Кромвелю следовать за собой, одному. Однако сначала придворные должны выразить почтение Анне. Фрейлины отступают назад, оставляя ее в одиночестве на залитом солнечным светом пятачке. Он разглядывает их, джентльменов и советников; праздник, собрались старые друзья Генриха. Вот сэр Николас Кэрью — его поклон новой королеве безупречен, но уголки губ кривятся. Сделайте лицо, Николас Кэрью, ваше породистое знатное лицо. В ушах голос Анны: вот мои враги; он добавляет в список Кэрью. За парадными залами личные покои короля, доступные лишь избранным друзьям и слугам, куда не пускают ни послов, ни шпионов. Это вотчина Генри Норриса, который сдержанно поздравляет Кромвеля с новым назначением и удаляется на бархатных лапках. — Кранмер созвал суд, чтобы утвердить формальное расторжение… — Генрих сказал, что не хочет слышать о своем предыдущем браке, поэтому не произносит это слово. — Я просил его созвать суд в Данстебле, оттуда до Амтхилла, где живет… она, десять-двенадцать миль. Если захочет, она может прислать своих поверенных или явиться сама. Посетите ее тайно, поговорите… Удостоверьтесь, что от Екатерины не придется ждать сюрпризов. — А на время вашего отсутствия пришлите ко мне Рейфа. Приятно быть понятым с полуслова, и у короля поднимается настроение. — Я рассчитываю, что на время он заменит мне вас. Славный юноша. И гораздо лучше, чем вы, владеет собой. Я видел, как вы на совете прикрывали рукой рот. Иногда меня самого разбирает смех. Генрих падает в кресло, прячет глаза. Кромвель видит, что король снова готов расплакаться. — Брэндон говорит, моя сестра умирает. Доктора бессильны. Знаете, какие у нее были волосы, чистое золото — у моей дочери такие же. В семь лет она была вылитая сестра, словно святая на фреске. Что мне с ней делать? До него не сразу доходит, что вопрос адресован ему. — Будьте с ней ласковы, сэр. Утешьте ее. Она не должна страдать. — Но я собираюсь объявить ее незаконнорожденной. Я должен оставить Англию своим законным наследникам. — Решение примет парламент. — Верно, — Генрих шмыгает носом, — после коронации Анны. Кромвель, еще одно слово — и завтракать, я голоден как волк. Я думал о моем кузене Ричарде… Он перебирает в уме английскую знать, но нет, кажется, король говорит о его Ричарде, Ричарде Кромвеле. — Леди Кэри… — Голос короля теплеет. — Я подумал и решил, что не стоит. По крайней мере, сейчас. Кромвель кивает, догадывается о мотивах. Когда догадается Анна, придет в ярость. — Какое облегчение, — говорит король, — когда ничего не нужно разжевывать. Вы рождены, чтобы меня понимать. Можно сказать и так. Он появился на свет лет за шесть до короля, и эти годы не прошли даром. Генрих срывает с головы вышитый колпак, отбрасывает в сторону, запуская в волосы пятерню. Как и золотая шевелюра Уайетта, волосы Генриха поредели, обнажив массивный череп. Сейчас король похож на деревянную статую, грубую копию себя или одного из своих предков, великанов, некогда бродивших по Британии и не оставивших следов, кроме как во снах жалких потомков. Получив дозволение, Кромвель возвращается в Остин-фрайарз. В кои-то веки ему дарован день отдыха. Насытившись, толпа у ворот рассеялась. Первым делом он спускается на кухню, наградить повара подзатыльником и золотой монетой. — Сотня разверстых ртов, клянусь! — восклицает Терстон. — И увидите, к ужину снова будут тут как тут. — Жаль, что у нас в стране столько нищих. — Как же, нищие, держи карман шире! Блюда, которые готовятся на этой кухне, такого отменного качества, что к нам захаживают, закрыв лица капюшонами, чтобы их не узнали, даже олдермены. Есть вы или нет, у нас всегда полон дом гостей: французы, немцы, флорентийцы, все клянутся, что знают вас, все заказывают обеды по своему вкусу, а на кухне толпятся их слуги: там отщипнул, тут отхлебнул. Пора жить скромнее или придется строить новую кухню. — Что-нибудь придумаю. — Мастер Рейф говорит, что для Тауэра вы прикупили целую каменоломню в Нормандии. Вы, мол, подкопались под французов, и они все попадали в ямы. Такой прекрасный камень цвета масла. Четыреста рабочих на жаловании, и если кто-то стоит без дела, его тут же переводят на строительство в Остин-фрайарз. — Терстон, пусть отхлебывают, лишь бы ничего не подсыпали. Он помнит, как чуть не преставился епископ Фишер; если, конечно, дело было не в грязном котле и не в прокисшем супе. Котлы Терстона всегда безукоризненно чисты. Он наклоняется над кипящим варевом. — Где Ричард? — Чистит лук на заднем крыльце. А, вы про мастера Ричарда? Наверху. Обедает, да все там. Он поднимается наверх. Ошибиться невозможно — на пасхальных яйцах его лицо. На одном Джонарисовала ему головной убор, волосы и по меньшей мере два подбородка. — И то правда, отец, — замечает Грегори, — ты становишься все тучнее. Стивен Воэн тебя не узнает, когда приедет. — Мой господин кардинал прибавлялся, как луна, — говорит Кромвель. — Чудно, ведь он почти никогда не обедал — то одно, то другое — а когда наконец усаживался за стол, в основном вел беседы. Бедный я, бедный. С прошлого вечера не преломил и куска хлеба. Преломив хлеб, говорит: — Ганс хочет меня написать. — Надеюсь, он поторопится, — говорит Ричард. — Ричард… — Ешьте свой обед. — Мой завтрак. После, идем со мной. — Счастливый женишок! — дразнится Грегори. — А ты, — сурово одергивает его отец, — отправляешься на север с Роуландом Ли. И если ты считаешь деспотом меня, посмотрим, что ты запоешь под его началом. В кабинете он спрашивает: — Как подготовка к турниру? — Кромвели никому не дадут спуску. Он боится за сына; боится, что Грегори упадет, поранится, убьется. Переживает и за Ричарда, эти юноши — надежда его рода. — Счастливый женишок? — спрашивает Ричард. — Король сказал — нет. Не из-за моей семьи или твоей — он назвал тебя кузеном. Должен заметить, Генрих как никогда к нам расположен. Но Мария нужна ему самому. Ребенок родится в конце лета, король боится подходить к Анне, а снова жить монахом не желает. Ричард поднимает глаза. — Он сам так сказал? — Дал понять. И я говорю как понял. Неприятное открытие, но, думаю, мы переживем. — Я бы не удивился, будь сестры похожи… — Возможно, ты прав. — А ведь он глава нашей церкви. Немудрено, что чужеземцы смеются. — Если бы король был обязан являть пример в частной жизни, его поведение, возможно, и вызывало бы… удивление… но для меня… видишь ли, меня волнует, как он правит страной. Стань он деспотом, упраздни парламент, правь единолично, не считаясь с палатой общин… но он так не поступает. Поэтому мне все равно, как король управляется со своими женщинами. — Но не будь он королем… — Верно. Тогда его следовало бы запереть. И все же, если не брать в расчет Марию, разве его поведение предосудительно? Он не плодит бастардов, как шотландские короли. Кто назовет имена его женщин? Мать Ричмонда да Болейны. Генрих умеет быть скрытным. — Возможно, они известны Екатерине. — Кто знает про себя, будет ли верен в браке? Ты? — Мне может не представиться случая. — Напротив. Я нашел тебе жену. Дочь Томаса Мерфина. Породниться с лордом-мэром — неплохая партия. А состояние у тебя будет не меньше, чем у нее, об этом я позабочусь. Да и Франсис к тебе расположена. Я спрашивал. — Вы сделали ей предложение за меня? — Вчера за обедом. Есть возражения? — Никаких, — смеется Ричард, откидываясь на спинку стула. Его тело — мощное и крепкое, так восхитившее короля — омывает волна облегчения. — Франсис, хорошо. Франсис мне по нраву. Мерси одобряет. Кромвель понятия не имеет, как она отнеслась бы к леди Кэри — свои планы он с женщинами не обсуждал. — Пора подыскать пару и для Грегори, — говорит она. — Я знаю, он еще очень юн, но некоторые мужчины взрослеют, только обзаведясь сыновьями. Над этим он не задумывался, но, возможно, Мерси права. В таком случае у Англии есть надежда. Спустя два дня он возвращается в Тауэр. Между Пасхой и Троицей, когда Анну должны короновать, время летит незаметно. Он осматривает апартаменты королевы, велит поставить жаровни, чтобы высушить штукатурку. Надо поскорее расписать стены; он надеялся на Ганса, но тот занят портретом де Дентвиля[78] — посол умоляет Франциска отозвать его на родину, отправляя с каждым кораблем новое слезное послание. Никаких охотничьих сцен, грозных святых с орудиями пыток; для новой королевы — лишь богини, голубки, белокрылые соколы да полог из зеленых листьев. Вдали города на холмах, на переднем плане — храмы, рощи, поваленные колонны и жаркая синева, заключенные, как в раму, в орнаментальную кайму витрувианских цветов: ртуть и киноварь, жженая охра, малахит, индиго и пурпур. Он разворачивает эскизы. Сова Минервы простерла крыла. Диана натягивает лук. Белая голубка выглядывает из веток. Он оставляет указания мастеру: «Лук позолотить. Глаза у всех богинь должны быть черными». Словно прикосновение крыла во тьме, его захлестывает ужас: что если Анна умрет? Генриху потребуется новая женщина. Он приведет ее в эти покои. А если она окажется голубоглазой? Придется стереть лица и нарисовать их заново на фоне все тех же городов, тех же лиловых холмов. На улице дерутся, он останавливается посмотреть. Каменщик и старшина кирпичников молотят друг друга досками. Он стоит в кругу их товарищей. — Чего дерутся-то? — Да так, каменщики схлестнулись с кирпичниками. — Как Ланкастеры с Йорками? — Точно. — Ты слыхал про битву при Тоутоне? Король сказал мне, там полегло больше двадцати тысяч англичан. Собеседник разевает рот. — С кем же они бились? — Друг с другом. Вербное воскресенье, лето тысяча четыреста шестьдесят первое. Армии двух королей встретились в метель. Эдуард, дед нынешнего короля, вышел победителем, если тут уместно говорить о победе. Горы трупов запрудили реку. Бессчетные раненые, спотыкаясь в лужах собственной крови, разбредались кто куда: слепые, изувеченные, полумертвые. Дитя в утробе Анны — гарантия того, что гражданская война не повторится; начало, обновление, обещание иной страны. Он делает шаг вперед, велит драчунам разойтись, дает каждому по тумаку; каменщики разлетаются в стороны: английские рохли, кости хилые, зубы крошатся. Победители при Азенкуре. Хорошо, Шапюи не видит.
Он скачет в Бедфордшир с небольшой свитой, когда деревья уже покрылись зеленью. Кристоф едет рядом и донимает вопросами: вы обещали рассказать про Цицерона и Реджинальда Пола. — Цицерон был римлянином. — Полководцем? — Нет, войну он оставлял другим. Как я, к примеру, могу оставить ее Норфолку. — А, Норферк. — Кристоф изобрел собственный способ именовать герцога. — Тот, кто мочится на вашу тень. — Господи, Кристоф! Правильно — плюет на чью-то тень. — Но мы ведь о Норферке говорим. А что Цицерон? — Мы, законники, стараемся запомнить все его речи. Если б сегодня у кого-нибудь было столько мудрости, сколько у Цицерона, он был бы… Кем, интересно? — …он был бы на стороне короля. Кристоф не впечатлен. — А Пол — полководец? — Священник, хотя не совсем… Он занимает церковные должности, но в сан не посвящен. — Почему? — Чтобы иметь возможность жениться. Опасным его делает кровь. Видишь ли, Пол — Плантагенет. Его братья здесь, под присмотром, а Реджинальд за границей, и мы боимся, что он вместе с императором замышляет заговор. — Пошлите кого-нибудь его убить. Хотите, я съезжу? — Нет, Кристоф, кто тогда будет защищать от дождя мои шляпы? — Как хотите. — Кристоф пожимает плечами. — Но я с удовольствием убью этого Пола, только скажите. Поместье Амтхилл, некогда хорошо укрепленное, славится грациозными башенками и превосходными воротами. С холма открывается обширный вид на леса; красивое место, в таком доме хорошо набираться сил после болезни. Его построили на деньги от французских войн, в те дни, когда англичане еще побеждали. В соответствии с новым статусом Екатерины, ныне вдовствующей принцессы Уэльской, Генрих урезал ей свиту, но она по-прежнему окружена священниками и духовниками, придворными с собственным штатом слуг, дворецкими и стольниками, лекарями и поварами, поварятами, арфистами, лютнистами, птичниками, садовниками, прачками, аптекарями, целой свитой фрейлин, отвечающих за ее гардероб, камеристками и горничными. Когда Кромвель входит, Екатерина делает приближенным знак удалиться. Он не сообщал о своем приезде, но, должно быть, шпионы сидят вдоль дороги. Так или иначе, она подготовилась: на коленях молитвенник, в руках вышивка. Он преклоняет колени, кивает на книгу и работу. — Либо то, либо другое, мадам. — Стало быть, сегодня говорим по-английски? Встаньте, Кромвель. Не будем тратить ваше драгоценное время, выбирая язык, как в прошлый визит. Теперь вы занятой человек. Покончив с формальностями, Екатерина объявляет: — Во-первых, я не появлюсь на судилище в Данстебле. Вы ведь поэтому приехали? Я его не признаю. Моя тяжба в Риме, дожидается решения его святейшества. — Стало быть, папа не торопится? — улыбается он Екатерине. — Ничего, я подожду. — Но король желает устроить свои дела. — У него есть кому это поручить. Я не называю этого человека архиепископом. — Климент подписал буллы. — Папу ввели в заблуждение. Доктор Кранмер — еретик. — Вы и короля считаете еретиком? — Нет. Всего лишь схизматиком. — Если созовут собор, король подчинится его решению. — Будет поздно, если к тому времени его отлучат от церкви. — Мы все — полагаю, и вы, мадам — верим, что до этого не дойдет. — Nulla salus extra ecclesiam. Вне церкви нет спасения. Даже короли не избегнут высшего суда. Генрих знает это и страшится. — Мадам, уступите ему. Возможно, завтра все изменится. Стоит ли окончательно разрывать отношения с королем? — Говорят, дочь Томаса Болейна ждет ребенка. — Это так, однако… Ей ли не знать, что беременности заканчиваются по-разному. Екатерина угадывает, отчего он запнулся, размышляет над его словами, кивает. — Я могу представить обстоятельства, в которых он ко мне вернется. Я имела возможность изучить ее характер: в ней нет ни терпения, ни доброты. Неважно; главное, что нужно Анне, — везение. — Думайте о дочери. На случай, если у них не будет детей. Умиротворите его, мадам. Возможно, он признает ее наследницей. Если вы отступитесь, король дарует вам любые почести. — Почести! — Екатерина встает; вышивка соскальзывает с колен, молитвенник шлепается на пол с глухим кожаным стуком, а серебряный наперсток катится в угол. — Прежде чем вы изложите свои нелепые предложения, мастер Кромвель, позвольте мне предложить вам главу из моей истории. После смерти милорда Артура я пять лет бедствовала. Не могла заплатить слугам. Мы покупали самую дешевую, несвежую еду, черствый хлеб, вчерашнюю рыбу — любой завалящий торговец мог похвастать лучшим столом, чем дочь Испании. Покойный король Генрих не позволял мне вернуться к отцу, говорил, что тот ему должен — он торговался за меня, как те женщины, что продавали нам тухлые яйца. Я доверилась Божьей милости, я не отчаялась, но я познала всю бездну унижения. — Так зачем вы хотите вновь его испытать? Лицом к лицу. Пожирают друг друга глазами. — Если только, — говорит Кромвель, — король ограничится унижением. — Говорите яснее. — Если вас обвинят в измене, то будут судить как любую из его подданных. Ваш племянник грозит нам вторжением. — Этому не бывать. — И я о том толкую, — его голос теплеет. — Император занят турками и, уж простите, мадам, не настолько привязан к своей тетке, чтобы собрать еще одну армию. Однако мне говорят: откуда вам знать, Кромвель? Надо укреплять гавани, собирать войска, готовить страну к войне. Шапюи, как вам известно, без устали уговаривает Карла объявить нам блокаду, задерживать наши товары и суда. В каждой депеше императорский посол призывает к войне. — Я понятия не имею, о чем пишет Шапюи в своих депешах. Ложь столь отчаянная, что он невольно восхищается, но, кажется, эта бравада забирает у Екатерины все силы. Она садится в кресло и, опередив его, нагибается за вышивкой. Пальцы у нее опухшие, от простого усилия перехватывает дух. Отдышавшись, она снова обращает к нему взвешенную и спокойную речь: — Мастер Кромвель, я знаю, что разочаровала вас. То есть вашу страну, которая стала и моей страной. Король был мне хорошим мужем, а я не смогла исполнить первейший долг любой жены. Тем не менее я была, я есть его жена — неужели вы не понимаете, я не в силах признать, что двадцать лет состояла при нем шлюхой? И пусть я принесла Англии мало добра, но я не желаю ей зла. — Однако сейчас вы несете ей зло помимо воли, мадам. — Ложь не спасет Англию. — Именно так считает доктор Кранмер. И именно поэтому он аннулирует ваш брак, в вашем присутствии или без вас. — Доктор Кранмер тоже будет отлучен. Неужели это его не остановит? Неужели он так погряз в грехе? — Сотни лет у церкви не было такого самоотверженного защитника, как новый архиепископ, мадам. Он думает о словах Бейнхема перед казнью: восемь столетий лжи и только шесть лет правды и света; шесть лет, с тех пор как Писание на английском пришло в Англию. — Кранмер не еретик. Он верит в то же, во что верит король. Реформирует лишь то, что нуждается в реформе. — Я знаю, чем все кончится. Вы отберете земли у церкви и отдадите королю. Екатерина смеется. — Молчите? Я угадала! Именно так вы и поступите. В ее тоне сквозит отчаянная беспечность умирающего. — Мастер Кромвель, можете уверить короля, что я не приведу сюда армию. Скажите ему, что каждый день я за него молюсь. Те, кто не знает короля так, как знаю я, скажут: «Он добьется своего, чего бы это ни стоило». Но я-то вижу, Генриху важно быть на правой стороне. Он не похож на вас; вы набиваете своими грехами переметные сумы и кочуете из страны в страну, а когда устанете, наймете мулов, и скоро за вами кочует целый караван вместе с погонщиками. Генрих может ошибаться, однако ему необходимо прощение. Поэтому я всегда верила и продолжаю верить, что когда-нибудь он сойдет с неправедного пути и обретет душевный мир. А мир — это то, в чем все мы так нуждаемся. — Как гладко у вас получается, мадам. Мир — это то, в чем все мы так нуждаемся. Чистая аббатиса. Вы никогда не задумывались над тем, чтобы принять постриг? Улыбка, широкая улыбка в ответ. — Мне будет жаль, если мы больше не увидимся. С вами куда занятнее беседовать, чем с герцогами. — Придет черед и герцогов. — Я готова. Есть вести о миледи Суффолк? — Король сказал, что она умирает. Брэндон не находит себе места. — Охотно верю, — бормочет она. — Ее вдовья доля французской королевы умрет вместе с нею, а это значительная часть его дохода. Впрочем, вы наверняка устроите ему заем под чудовищный процент. Екатерина поднимает глаза. — Моя дочь удивится вашему приезду. Ей кажется, что вы к ней добры. Насколько он помнит, он лишь подал Марии табурет. Как уныла ее жизнь, если она способна оценить такую малость. — Ей следовало стоять, пока я не разрешу сесть. Ее изнемогающая от боли дочь. Екатерина может улыбаться, но не уступит ни дюйма. Юлий Цезарь, Ганнибал, и те были не так неумолимы. — Скажите, — Екатерина осторожно прощупывает почву, — читает ли король мои письма? Генрих рвет их или бросает в огонь, не вскрывая. Говорит, ее любовные признания вызывают в нем отвращение. Ему, Кромвелю, не хватает духу сказать Екатерине правду. — В таком случае обождите час, пока я ему напишу. Или останетесь до утра? Отужинайте с нами. — Благодарю вас, но я должен возвращаться. Завтра совет. Да и мулам тут негде приткнуться. Не говоря уже о погонщиках. — О, мои стойла полупусты. Король об этом позаботился. Боится, что я обманом выберусь отсюда, доскачу до побережья и морем сбегу во Фландрию. — А вы? Он поднимает наперсток и подает хозяйке; она подкидывает наперсток на ладони, словно игральную кость. — А я остаюсь здесь. Или там, куда меня отправят. Как пожелает король. Как надлежит жене. Пока короля не отлучат от церкви, думает он. Это освободит вас от всех уз как жену, как подданную. — Это тоже ваше, — говорит он. Открывает ладонь, на ней игла, острым концом к Екатерине.
В городе судачат, будто Томас Мор впал в бедность. Они с королевским секретарем Гардинером смеются над слухами. — Какая бедность? Алиса была богатой вдовой, когда он на ней женился, — говорит Гардинер. — А еще у него есть собственные земли. Да и дочери хорошо пристроены. — Не забывайте о королевской пенсии. Он собирает бумаги для Стивена, который готовится выступить главным советником Генриха на суде в Данстебле. Успел перелопатить все показания на процессе в Блэкфрайарз — кажется, будто все это происходило в прошлом веке. — Силы небесные, — говорит Гардинер, — осталось хоть что-то, чего вы не раскопали? — Если я доберусь до дна этого сундука, то отыщу любовные письма вашего батюшки к вашей матушке. — Он сдувает пыль с последней пачки. — Вот они. — Бумаги шлепаются на стол. — Стивен, можем ли мы что-нибудь сделать для Джона Фрита? В Кембридже он был вашим учеником. Не бросайте его. Гардинер мотает головой и углубляется в бумаги, что-то бормочет, время от времени восклицая: «Нет, кто бы мог подумать!» Кромвель добирается до Челси на лодке. Бывший лорд-канцлер сидит в кабинете, Маргарет едва слышно бубнит по-гречески; он слышит, как Мор поправляет ошибку. — Оставь нас, дочь, — говорит Мор при его появлении. — Нечего тебе делать в этой нечистой компании. Однако Маргарет поднимает глаза и улыбается, и Мор с опаской — вероятно, боится потревожить больную спину — встает с кресла и протягивает руку. Нечистым назвал его Реджинальд Пол, сидящий в Италии. Причем для Пола это не образ, не фигура речи, а святая правда. — Говорят, вы не придете на коронацию, так как не можете позволить себе новый дублет. Епископ Винчестерский готов купить вам дублет за собственные деньги, лишь бы узреть ваше лицо на церемонии. — Стивен? Неужто? — Клянусь. Он предвкушает, как, вернувшись в Лондон, попросит у Гардинера десять фунтов. — Или пусть гильдии скинутся на новую шляпу и дублет. — А в чем идете вы? — мягко спрашивает Маргарет, словно забавляет двух малых детей, с которыми ее попросили посидеть. — Для меня что-то шьют. Я не вникаю. Только бы меня не заставляли плясать от радости. На мою коронацию, сказала Анна, не пристало вам наряжаться как поверенному. Джейн Рочфорд записывала, словно секретарь. Томас должен быть в темно-красном. — Мистрис Ропер, — спрашивает Кромвель, — а вам не любопытно посмотреть коронацию? Отец не дает Маргарет вставить слова: — Это день стыда для англичанок. Знаете, что говорят на улицах? Когда придет император, жены обретут утраченные права. — Отец, вряд ли кто-нибудь осмелится сказать такое при мастере Кромвеле. Кромвель вздыхает. Мало удовольствия знать, что все беззаботные юные шлюхи на твоей стороне. Все содержанки и сбившиеся с пути дочери. Теперь Анна замужем и пытается стать примерной женой. Залепила пощечину Мэри Шелтон, рассказывает леди Кэри, за то, что та написала в ее молитвеннике невинную загадку. Ныне королева сидит очень прямо, в животе шевелится младенец, в руках вышивка, и когда ее приятели Норрис и Уэстон с шумной компанией вваливаются в покои, чтобы припасть к ногам госпожи, смотрит так, словно те усеивают ее подол пауками. Без цитаты из Писания на устах к ней в эти дни и не подходи. Кромвель спрашивает: — Блаженная пыталась с вами увидеться? Пророчица? — Пыталась, — отвечает Мэг, — но мы ее не приняли. — Она виделась с леди Эксетер, та сама ее пригласила. — Леди Эксетер неумная и много мнящая о себе женщина, — замечает Мор. — Блаженная сказала ей, что она станет королевой Англии. — Могу лишь повторить свои слова. — Вы верите в ее видения? В их божественную природу? — Нет, она самозванка. Хочет привлечь к себе внимание. — И только? — Эти молоденькие дурочки все как одна. У меня полон дом дочерей. Он молчит. — Вам повезло. Мэг поднимает глаза, вспоминает о его утратах, хоть и не слышала, как Энн Кромвель спросила: за что дочке Мора такая преференция? — Она не первая, — говорит Мэг. — В Ипсвиче жила девочка двенадцати лет, из хорошей семьи. Говорят, она творила чудеса, совершенно бескорыстно. Умерла молодой. — А еще была дева из Леоминстера, — с мрачным удовлетворением подхватывает Мор. — Говорят, сейчас она шлюха в Кале, смеется с клиентами над трюками, которые вытворяла. Значит, святых девственниц Мор не жалует. В отличие от епископа Фишера. Тот привечает блаженную и часто с ней видится. Словно услышав его мысли, Мор говорит: — Впрочем, у Фишера другое мнение. — Фишер верит, что она может воскрешать мертвых. Мор поднимает бровь. Кромвель продолжает: — Но только чтобы они покаялись и получили отпущение, после чего оживший труп вновь падает замертво. — Понятно, — улыбается Мор. — А вдруг она ведьма? — спрашивает Мэг. — Про них есть в Писании, могу привести цитаты. Не стоит, говорит Мор. — Мэг, я показывал тебе, где положил письмо? Маргарет встает, ниткой закладывает страницу в греческой книге. — Я писал этой девице, Бартон… теперь сестре Элизабет, она приняла постриг. Советовал ей не смущать людей, не донимать короля своими пророчествами, избегать общества сильных мира сего, прислушиваться к своим духовникам, но главное — сидеть взаперти и молиться. — Как надлежит всем нам, сэр Томас. Следуя вашему примеру. — Кромвель живо кивает. — Аминь. Полагаю, вы храните копию? — Принеси, Мэг, иначе мы от него не отделаемся. Мор в нескольких словах объясняет дочери, где лежит письмо. Хорошо хоть не велит ей наскоро состряпать подделку. — Отделаетесь, скоро ухожу. Не хочу пропустить коронацию. У меня и новый дублет имеется. Так не составите нам компанию? — Составите друг другу компанию в аду. Он успел забыть, каким непреклонным и суровым бывает Мор; о его способность и зло шутить самому и не понимать чужих шуток. — Королева в добром здравии, — говорит Кромвель. — Ваша королева, не моя. Кажется, ей по душе жизнь в Амтхилле. Да вы и сами знаете. Я не состою в переписке с вдовствующей принцессой, не моргнув глазом, заявляет Мор. Вот и хорошо, кивает Кромвель, потому что я слежу за двумя францисканцами, которые доставляют ее письма за границу, — кажется, они всем орденом заняты только тем, чтобы вредить королю. Если я схвачу этих монахов и не смогу убедить — а вы знаете, я бываю очень убедителен — признаться добром, придется вздернуть их на дыбу и ждать, в ком первом проснется благоразумие. Разумеется, я бы с радостью отпустил их домой, накормив и напоив на прощанье, но я подражаю вам, сэр Томас. В таких делах вы — мой учитель. Кромвель должен успеть сказать ему все до того, как вернется Маргарет Ропер. Легким стуком по столу он привлекает внимание хозяина. Джон Фрит, говорит он. Попросите аудиенцию у Генриха. Он будет счастлив. Уговорите его встретиться с Джоном наедине. Я не прошу вас соглашаться с Джоном, я знаю, вы считаете его еретиком, пусть, но скажите королю, что Фрит — чистая душа, превосходный ученый, он должен жить. Если он заблуждается, вы сможете его убедить, с вашим-то красноречием, что-что, а убеждать вы умеете, куда мне до вас. Кто знает, еще и обратите его в истинную веру. Но если он умрет, вам уже никогда не спасти его душу. Шаги Маргарет. — Это, отец? — Отдай ему. — Копия с копии? — А чего вы ждали? Нам приходится быть осторожными, — говорит Маргарет. — Мы с вашим отцом обсуждали монахов. Могут ли они считаться добрыми подданными короля, если должны хранить верность главам орденов, подданным Франциска и императора? — Они же не перестают быть англичанами. — Такие ныне редки. Отец вам объяснит. Он кланяется Маргарет. Пожимая жилистую руку Мора, задерживает взгляд на своей руке. Она белая, господская, гладкая, а он-то думал, ожоги, память о кузне, не сойдут никогда. Дома его встречает Хелен Барр. — Закидывал сети, — говорит он, — в Челси. — Поймали Мора? — Не сегодня. — Прислали ваш дублет. — Да? — Темно-красный. — О Боже! — смеется он. — Хелен… Она вопросительно смотрит на него. — Я не нашел вашего мужа. Хелен опускает руки в карман, шарит там, словно что-то ищет; стискивает руки. — Значит, он умер? — Будем считать, что умер. Я разговаривал с человеком, который видел, как он утонул, его свидетельству можно доверять. — Значит, я смогу выйти замуж. Если возьмут. Хелен смотрит ему в лицо, молчит, просто стоит. Время идет. — А где ваша картина? С юношей, который держит сердце в виде книги? Или книгу в виде сердца? — Я отдал ее генуэзцу. — Зачем? — Пришлось заплатить за архиепископа. Она с неохотой отводит глаза от его лица. — Пришел Ганс. Ждет вас. Злится, говорит, время — деньги. — Я возмещу. Ганс с трудом выкроил для него время в предпраздничных приготовлениях. По заказу ганзейских купцов художник строит на Грейсчерч-стрит гору Парнас — мимо нее Анна поедет на коронацию — и сегодня должен выбрать муз, а тут еще Томас Кромвель опаздывает! Ганс так яростно топает башмаками в соседней комнате, будто двигает мебель.
Фрита ведут в Кройдон, на допрос к Кранмеру. Новый архиепископ мог бы встретиться с узником в Ламбете, но Кройдон дальше, и путь туда лежит через лес. В самой глуши ему говорят, как бы нам тебя не упустить. Леса в сторону Уондсворта глухие, можно спрятать целую армию. Будем рыскать тут два дня, нет, больше, но если все время забирать к востоку, в сторону Кента, твой след простынет, прежде чем мы доберемся до реки. Однако Фрит знает свою дорогу; она ведет к смерти. Они стоят на тропе, посвистывают, болтают о погоде. Один мочится, отвернувшись к дереву, другой следит за полетом сойки. Но когда они оборачиваются, узник спокойно ждет.
Четыре дня. Пятьдесят барок, украшенных на средства городских ливрейных компаний, на снастях — флажки и колокольцы; два часа до Блэквелла, ветер легкий, но свежий, как он и заказал Богу в своих молитвах. А теперь пусть ветер уляжется, якорь брошен у пристани Гринвичского дворца, королева садится в свою барку — бывшую Екатеринину, в двадцать четыре весла: рядом фрейлины, стражники, все украшение двора, все знатные гордецы, клявшиеся, что не придут на коронацию. Три сотни матросов, флаги и вымпелы трепещут на ветру, музыка несется к берегам, усеянным лондонцами. Вниз по течению, вслед за водяным драконом, изрыгающим огонь, в сопровождении дикарей, разряжающих хлопушки. Морские суда палят из пушек. Когда они достигают Тауэра, из-за туч выходит солнце. Темзу словно охватывает пламя. Анна сходит на берег, Генрих приветствует жену горячим поцелуем, распахивает на ней плащ, демонстрируя Англии ее живот. Пока Генрих посвящает в рыцари толпу Говардов и Болейнов, своих друзей и сторонников, Анна отдыхает. Дядя Норфолк пропускает церемонию. Генрих отослал его к королю Франциску, в подтверждение самых искренних связей между королевствами. Норфолк — граф-маршал и должен проводить коронацию, но его заменяет другой Говард, а кроме того, есть он, Томас Кромвель, отвечающий за все, включая погоду. Он беседует с Артуром, лордом Лайлом, который будет председательствовать за пиршественным столом, Артуром Плантагенетом, тихим пережитком минувшего века. Сразу после коронации Плантагенету предстоит заступить на место покойного лорда Бернерса, получив от него, Кромвеля, соответствующие инструкции. У Лайла длинное костлявое лицо Плантагенетов, он высок, как его отец король Эдуард, у которого было не счесть бастардов, но ни один не достиг таких высот, как этот старец, преклоняющий скрипучее колено перед дочерью Болейна. Хонор, его вторая супруга, на двадцать лет моложе мужа, хрупкая и маленькая, игрушечная жена. В платье темно-желтого шелка, на руках — коралловые браслеты с золотыми сердечками, на лице выражение вечного недовольства, переходящее в сварливость. Хонор мерит его взглядом с ног до головы. — Так вы и есть Кромвель? Если заговорит с тобой в таком тоне мужчина, ты предложишь ему отойти в сторонку и попросишь кого-нибудь подержать твой плащ. День второй: Анну вводят в Вестминстер. Он встает до рассвета, смотрит с зубчатой стены, как редеют облака над Бермондсейской отмелью и на смену утренней прохладе приходит ровная золотистая жара. Шествие возглавляет свита французского посла, затем следуют судьи в алом, рыцари ордена Бани в сине-фиолетовых облачениях древнего покроя, епископы, лорд-канцлер Одли со свитой, знать в темно-красном бархате. Шестнадцать дюжих рыцарей несут Анну в белом паланкине, колокольчики звенят при каждом шаге, каждом дыхании; королева в белом, кожа словно мерцает изнутри; на лице торжественная всезнающая улыбка, волосы забраны самоцветным обручем. За паланкином дамы на лошадях под белым бархатом, престарелые вдовы в каретах, с кислой миной на лице. На каждом перекрестке процессию встречают живые картины и статуи, восхваление добродетелей королевы и дары от городского купечества; белокрылый сокол — эмблема Анны — увенчан короной и увит розами; шестнадцать здоровяков топчут цветы, аромат поднимается, словно дым. Чтобы лошадиные копыта не скользили, землю по приказу Кромвеля посыпали гравием, а толпу на случай давки и волнений оттеснили за ограждение; все лондонские приставы на службе, чтобы впоследствии никто не сказал: коронация Анны, как же, помню, в тот день у меня вытянули кошель. Фенчерч-стрит, Леденхолл, Чип, собор Святого Павла, Флит, Темпл-бар, Вестминстер-холл. Фонтанов с вином больше, чем с обычной водой. А сверху на них взирают другие лондонцы, чудища, живущие на высоте — несметные каменные мужчины, женщины и звери, существа, что не человеки и не звери, клыкастые кролики и летучие зайцы, птицы о четырех лапах и крылатые змеи, бесенята с выпученными глазами и утиными клювами, люди в венках из листьев с козлиными и бараньими мордами, свитые в кольца твари с кожаными крыльями, волосатыми ушами и раздвоенными копытами, ревущие и трубящие в роги, покрытые перьями и чешуей. Иные хохочут, иные поют или скалятся. Львы и монахи, ослы и гуси, черти, жрущие младенцев, беспомощно сучащих ножками. Каменные и свинцовые, железные и мраморные, визжащие и хихикающие, улюлюкающие, кривляющиеся и блюющие с контрфорсов, крыш и стен. Вечером, получив разрешение короля, он возвращается в Остин-фрайарз. Навещает соседа Шапюи, укрывшегося за ставнями, заткнувшего уши, чтобы не слышать фанфар и пушечной пальбы. Он заходит в хвосте комической процессии, которую возглавляет Терстон с цукатами — подсластить дурное настроение посла — и превосходным итальянским вином, подарком Суффолка. Шапюи встречает его без улыбки. — Что ж, вам удалось преуспеть там, где не смог кардинал, и Генрих получил то, что хотел. Я говорю своему господину, который способен взглянуть на вещи беспристрастно, Генрих жалеет, что не приблизил Кромвеля раньше. Давным-давно бы своего добился. Кромвель хочет сказать, это кардинал, это он научил меня всему, но Шапюи не дает вставить слово. — Подходя к запертой двери, кардинал поначалу пытался улестить ее: о, прекрасная отзывчивая дверца! — затем действовал хитростью. Вы такой же, ничем не лучше. — Посол наливает себе герцогского вина. — Только в конце вы просто вышибаете дверь плечом. Вино из тех настоящих благородных вин, в которых Брэндон знает толк. Шапюи смакует вино и жалуется, не понимаю, ничего-то я не понимаю в этой непросвещенной стране. Кранмер теперь папа? Или Генрих? Или, может быть, вы? Мои люди, толкавшиеся сегодня в городе, говорят, мало кто приветствовал любовницу, почти все призывали Божье благословение на Екатерину, законную королеву. Вот как? Не ведаю, о каком городе речь. Шапюи фыркает: и впрямь не поймешь, вокруг короля одни французы, и она, Болейн, наполовину француженка, полностью на их содержании, все ее семейство в кармане у Франциска. Но вы, Томас, надеюсь, вы им не служите? Что вы, дорогой друг, ни в коей мере. Шапюи плачет; благородное вино развязало послу язык. — Я подвел моего господина императора, подвел Екатерину. — Не печальтесь, — успокаивает он посла. Завтра будет новая битва, новый мир.
На рассвете он в аббатстве. Начало в шесть. Генрих будет наблюдать за церемонией из зарешеченной ложи. Когда он просовывает голову внутрь, король уже нетерпеливо ерзает на бархатной подушке, а коленопреклоненный слуга подает завтрак. — Со мной завтракает французский посол, — говорит Генрих, и на обратном пути Кромвель встречает этого господина. — Говорят, с вас написали портрет, мэтр Кремюэль. С меня тоже. Вы его видели? — Нет еще. Ганс слишком занят. Даже в такое прекрасное утро, в помещении под ребристыми сводами, посол умудрился посинеть от холода. — Что ж, — обращается Кромвель к де Дентвилю, — эта коронация — признание того, что наши народы достигли совершенного согласия. Как углубить эту близость? Что скажете, мсье? Посол кланяется. — Самое трудное позади? — Мы должны сохранить полезные связи, если нашим правителям пристанет охота снова разбраниться. — Встреча в Кале? — Через год. — Не раньше? — Ни к чему без крайней нужды подвергать моего короля опасностям морского путешествия. — Нужно это обсудить, Кремюэль. Плоской ладонью посол хлопает его по груди, над сердцем. В девять процессия готова выступить. Анна в мантии алого бархата с отделкой из горностая. Ей нужно пройти семьсот ярдов по синей ткани, протянутой к алтарю, на лице — отрешенность. Вдовствующая герцогиня Норфолкская держит шлейф, епископ Винчестерский и епископ Лондонский с обеих сторон вцепились в подол длинной мантии. И Гардинер, и Стоксли выступают со стороны короля на суде о разводе, но, если судить по их виду, оба не прочь оказаться подальше от виновницы процесса. На высоком лбу Анны блестит пот, а поджатые губы, к тому времени когда она доходит до алтаря, кажется, и вовсе втягиваются внутрь. Кем установлено, что края мантии должны поддерживать епископы? Правило записано в фолиантах столь древних, что разрушить их может простое прикосновение, не говоря уж о дыхании. Лайл помнит их наизусть. Пожалуй, стоит снять копии и напечатать, думает Кромвель. Он делает мысленную зарубку и направляет свою волю на Анну: лишь бы она не споткнулась, простираясь ниц перед алтарем. Служители выступают вперед, чтобы поддержать ее на последних двенадцати дюймах, перед тем как живот коснется освященных плит. Он ловит себя на том, что молится: это дитя, чье не до конца сформированное сердечко бьется по соседству с каменным полом, да будет благословенно. Пусть вырастет сыном своего отца, как его дяди-Тюдоры; пусть будет жестким, бдительным, способным выжать все из благосклонности фортуны. Если Генрих проживет еще лет двадцать — Генрих, творение Вулси, — и оставит это дитя наследником, я выращу собственного правителя: во славу Господа и ради процветания Англии. Ибо я буду еще в силе, Норфолку почти шестьдесят, а его отцу было семьдесят, когда он сражался при Флоддене. Я не уподоблюсь Генри Уайетту, отошедшему от дел, ибо ради чего тогда жить? Анна с трудом поднимается на ноги. Кранмер, в облаке ладана, вкладывает ей в руку скипетр, жезл из слоновой кости, и на миг опускает корону святого Эдуарда на ее голову, чтобы тут же возложить убор полегче: ловкий трюк, руки Кранмера словно всю жизнь тасовали короны. Прелат выглядит слегка польщенным, как будто кто-то предложил ему стакан теплого молока. Приняв миропомазание, она удаляется, Anna Regina, в приготовленные для нее покои, готовиться к пиру в Вестминстер-холле, тает в облаке воскурений. Кромвель бесцеремонно расталкивает знать — все вы, все вы клялись, что ноги вашей здесь не будет, — и ловит взгляд Чарльза Брэндона, констебля Англии, готового въехать в зал на белом коне. Он отрывает глаза от сияющей громадной фигуры; Чарльз вряд ли меня переживет. Обратно к Генриху, в темноту. В последний миг его внимание привлекает мелькнувший за углом край багровой мантии; видимо, кто-то из судей покинул процессию. Венецианский посол заслоняет обзор, но Генрих машет ему рукой. — Кромвель, разве моя жена не хороша, разве она не прекрасна? Не могли бы вы пойти к ней и передать… — король оглядывается в поисках подарка, срывает с пальца кольцо, — вот это? Король целует кольцо. — И это тоже. — Надеюсь, что смогу передать ваш пыл, — говорит Кромвель и вздыхает, совсем как Кранмер. Король смеется. Его лицо сияет. — Это мой лучший, лучший день! — Подождите рождения наследника, — кланяется венецианец.
Дверь открывает Мэри Говард, юная дочь Норфолка. — Нет, ни в коем случае, — говорит она, — ни за что. Королева одевается. Ричмонд прав: грудей у нее нет. Пока. Ей четырнадцать. Нужно очаровать эту юную Говард, думает он, и принимается опутывать девушку комплиментами, восхищаться платьем и украшениями, пока из покоев не раздается приглушенный, словно из могилы, голос. Мэри Говард отпрыгивает в сторону, ах, раз она сама вас зовет, можете войти. Прикроватные занавеси плотно задернуты. Кромвель распахивает их. Анна лежит в сорочке, плоская, как тень, только холмом вздымается огромный шестимесячный живот. В парадной мантии ее положение было почти незаметно. Если б не тот священный миг, когда Анна лежала ниц на полу, ему, Кромвелю, было бы трудно поверить, что королева Англии и это тело, распростертое, словно жертва на алтаре — груди под сорочкой выпирают, босые ноги отекли — и впрямь одно. — Матерь Божья, и дались вам эти женщины Говардов! Для такого безобразного мужчины вы слишком самоуверенны. Дайте я на вас посмотрю. — Она поднимает голову. — И это темно-красный? Слишком мрачный. Так-то вы исполняете мои приказы! — Ваш кузен Фрэнсис Брайан сказал, что я похож на ходячий синяк. — Кровоподтек на теле политики, — смеется Джейн Рочфорд. — Справитесь? — спрашивает Кромвель с сомнением, почти с нежностью. — Вы устали. — Она выдержит, — в голосе Марии нет и следа сестринской гордости. — Разве не для этого она рождена на свет? — Король видел? — спрашивает Джейн Сеймур. — Король гордится ею. — Кромвель обращается к Анне, вытянувшейся на своем катафалке. — Сказал, никогда еще вы не были так прекрасны. Прислал вам это. Анна издает слабый звук, что-то среднее между благодарностью и стоном: опять алмаз? — И поцелуй, который я посоветовал королю доставить самому. Она не протягивает руку за подарком, и он испытывает почти непреодолимое желание положить кольцо ей на живот и удалиться. Вместо этого он передает подарок ее сестре. — Пир начнется, когда вы будете готовы, ваше королевское величество, не раньше. Хорошенько отдохните. Она со стоном выпрямляется. — Я готова. Мэри Говард бросается к ней и начинает неумело, по-девичьи, словно гладит птенца, растирать ей ноги. — Поди прочь, — недовольно бурчит помазанная королева. Она выглядит больной. — Где вы пропадали вчера? Толпа приветствовала меня, я слышала собственными ушами. Говорят, народ любит Екатерину, на деле женщины ее просто жалеют. От нас они получат больше. Они еще полюбят меня, когда родится ребенок. — Но мадам, — вступает Джейн Рочфорд, — они любят Екатерину, потому что она дочь помазанных монархов. Смиритесь, мадам, они никогда не полюбят вас… больше, чем любят сейчас… Вот и Кромвель вам скажет. Их чувства не имеют отношения к вашим достоинствам. Так вышло. Стоит ли обманываться? — Довольно об этом, — произносит Джейн Сеймур. Кромвель оборачивается и видит нечто удивительное: малышка выросла. — Леди Кэри, — говорит Джейн Рочфорд, — мы должны облачить вашу сестру. Проводите мастера Кромвеля. Наверняка вам есть о чем поболтать, так что не нарушайте традицию. За дверью он оборачивается: — Мария? Замечает крути у нее под глазами. — Да? В ее тоне ему слышится: «Да, и что теперь?» — Я сожалею, что брак с моим племянником не сложился. — А я и не напрашивалась, — криво улыбается она. — Теперь я никогда не увижу ваш дом, о котором столько наслышана. — И что же вы слышали? — Про сундуки, лопающиеся от золотых монет. — Мы бы такого не допустили. Заказали бы сундуки повместительнее. — Говорят, там лежат деньги короля. — Все деньги принадлежат королю. На них его портрет. Мария, — он берет ее руку, — я не смог убедить его отказаться от вас. Он… — А вы пытались? — В моем доме вам бы такое не грозило. Впрочем, вы, сестра королевы, вправе рассчитывать на лучшую партию. — Сомневаюсь, что в сестринские обязанности входит то, чем я занимаюсь по ночам. Она родит Генриху еще ребенка, и Анна задушит его в колыбели. — Ваш приятель Уильям Стаффорд при дворе. Вы по-прежнему друзья? — Вообразите, в каком восторге он от моего теперешнего положения. Однако по крайней мере теперь я в фаворе у отца. Монсеньор вспомнил про дочь. Боже упаси, чтобы король объезжал кобылок из другого стойла. — Когда-нибудь это закончится. Они вас отпустят. Король обеспечит вас, выделит пенсию. Я замолвлю словечко. — Пенсию? Грязной половой тряпке? — взвивается Мария; она сломлена; крупные слезы катятся по лицу. Он ловит и смахивает слезинки, шепчет слова утешения, больше всего на свете желая оказаться подальше отсюда. Уходя, оборачивается и смотрит на нее, одиноко стоящую у двери. Во что бы то ни стало нужно ей помочь, думает он, она теряет привлекательность.
Генрих наблюдает с галереи Вестминстер-холла, как занимает почетное место за столом его королева, ее фрейлины, цвет английского дворянства. Король сыт, и теперь обмакивает в корицу тонкие ломтики яблока. Рядом с ним, encore les ambassadeurs,[79] Жан де Дентвиль — кутается в меха, спасаясь от июньской прохлады — и второй посол, друг Дентвиля, епископ Лаворский в великолепной парчовой мантии. — Это было весьма впечатляюще, Кремюэль, — говорит де Сельв; проницательные карие глаза сверлят его, ничего не упуская. От него тоже ничего не ускользает: строчки и швы, крой и глубина окраски; он восхищен насыщенным цветом епископской мантии. Говорят, эти двое французов евангельской веры, но при дворе Франциска им негде развернуться, жалкий кружок богословов, к которым, тщеславия ради, благоволит король; у Франциска нет ни своего Томаса Мора, ни своего Эразма, неудивительно, что его гордость уязвлена. — Взгляните на мою королеву. — Генрих перевешивается через перила. С таким же успехом мог бы сидеть внизу. — Она стоит пышной церемонии, не правда ли? — Я велел вставить новые стекла, — говорит Кромвель, —чтобы любоваться королевой во всей красе. — Fiat lux,[80] — бормочет де Сельв. — Она была на высоте, — замечает де Дентвиль. — Шесть часов на ногах. Можно поздравить ваше величество с обретением супруги, по-крестьянски выносливой. Не сочтите мои слова неуважением. В Париже лютеран жгут на кострах. Он хотел бы обсудить это с послами, но ароматы жареных лебедей и павлинов, поднимающиеся снизу, мешают развить тему. — Господа, — спрашивает Кромвель (музыка набегает, словно рябит серебром волна на мелководье), — знаком ли вам некий Гвидо Камилло?[81] Я слышал, он принят при дворе вашего господина. Французы переглядываются. Кажется, он застал их врасплох. — А, это тот, что построил деревянный ящик, — бормочет Жан. — Знаком. — Театр, — говорит Кромвель. Де Сельв кивает. — В котором вы и есть пьеса. — Эразм писал нам об этом, — замечает Генрих через плечо. — Камилло нанял столяров, которые изготовили деревянные полки и ящички, одни внутри других. Система для запоминания речей Цицерона. — Не только, если позволите. Это античный театр по плану Витрувия, но пьесы в нем не ставят. Как говорит милорд епископ, вы — владелец театра — становитесь в центре и смотрите вверх. Вас окружает упорядоченная система человеческих знаний. Похоже на библиотеку, только в каждой книжке спрятана следующая, а в ней другая, поменьше. Хотя и это не все. Король хрустит анисовыми цукатами. — На свете и так слишком много книг, и каждый день появляются новые. Человеку не под силу прочесть все. — Не понимаю, откуда вы столько знаете! — удивляется де Сельв. — Однако приходится верить на слово, мэтр Кремюэль. Гвидо говорит только на своем итальянском диалекте, да и то с запинкой. — Лишь бы вашему господину было в радость тратить на это деньги, — замечает Генрих. — А он случаем не колдун, ваш Гвидо? Не хочется, чтобы Франциск попал в сети колдуна. Кстати, Кромвель, я отослал Стивена обратно во Францию. Стивена Гардинера. Значит, французам не по душе иметь дело с Норферком. Неудивительно. — Как долго продлится его миссия? — спрашивает Кромвель. Де Сельв ловит его взгляд: — А кто будет исполнять обязанности королевского секретаря? — Кромвель, кто ж еще. Надеюсь, вы не против? — улыбается Генрих.
На пороге главного зала ему преграждает путь мастер Ризли. Сегодня большой день для герольдов, их помощников, сыновей и друзей; жирные куски плывут прямо в руки. Он говорит это Ризли, на что тот возражает: жирный кусок приплыл в руки вам. Что ж, это можно было предвидеть — Генрих устал от Винчестера, от педантичной критики каждого своего шага; королю надоело спорить, теперь он женат и склонен стать более douceur.[82] Это с Анной-то? спрашивает Кромвель. Зовите-меня смеется. Вам лучше знать, но если она и вправду остра на язык, тем нужнее Генриху покладистые министры. Держите Стивена за границей, и скоро король утвердит вас в должности. Нарядно одетый Кристоф маячит неподалеку, пытаясь привлечь внимание Кромвеля. Вы позволите, спрашивает он Ризли, но тот дотрагивается до его темно-красного дублета, словно на удачу, и говорит: вы хозяин дома, устроитель пиров, вам король обязан своим счастьем, вы добились того, чего не смог добиться кардинал, и даже большего. Смотрите — Ризли показывает на знатных господ, которые позабыли, что не собирались сюда приходить, и сейчас уплетают обед из двадцати трех блюд, — даже пир выше всяких похвал; все под рукой, не успеют гости подумать о чем-то, оно тут как тут. Он склоняет голову, Ризли удаляется, он подзывает Кристофа. Не хотел болтать лишнего при Зовите-меня, заявляет тот, а то Рейф говорит, этот тип тут же помчится на задних лапках к Гардинеру, доносить. А теперь, сэр, у меня для вас сообщение. Вас ждет архиепископ, сразу по окончании пира. Он поднимает глаза на помост, где под величественным балдахином восседают Анна с архиепископом. Оба застыли перед пустыми тарелками — впрочем, Анна пытается делать вид, будто ест. Оба разглядывают гостей. — Я тоже поскачу на задних ножках, — повторяет он понравившуюся фразу. — Куда? — В его старое жилище, он сказал, вы знаете. Еще сказал никому не говорить. И никого с собой не брать. — Ты можешь пойти, Кристоф. Ты никто. Мальчишка ухмыляется. Кромвель осторожничает не зря: глупо разгуливать одному в темноте, в окрестностях аббатства, среди пьяных толп. Увы, глаз на спине у него нет.
Они уже почти у Кранмера, когда усталость вдруг опускается на плечи железным плащом. — Постой, — говорит он Кристофу. Несколько ночей Кромвель почти не смыкал глаз. В темноте делает глубокий вдох; холодно и темно, хоть глаз выколи. Комнаты заброшены, пусты и молчаливы. Откуда-то сзади, с вестминстерских улиц, доносится слабый крик, словно кто-то аукается в лесу после сражения. Кранмер поднимает глаза от письменного стола. — Эти дни не забудутся, — говорит архиепископ. — Те, кто пропустил их, не поверят очевидцам. Король вас хвалил. Думаю, он хотел, чтобы я передал вам его слова. — Мне странно, неужели меня когда-то волновало, сколько заплатить каменщикам в Тауэре? Какой мелочью кажется это теперь. А завтра турнир. Мой Ричард будет сражаться пешим и в одиночку. — Он их всех уложит, — заявляет Кристоф. — Хрясь — и готово. — Тс-с, — шипит Кранмер. — Чтоб я тебя больше не слышал, дитя. Кромвель, идемте. Хозяин открывает низкую дверцу в задней стене, опускает голову, и в проеме Кромвель видит слабо освещенный стол, табурет и юную кроткую женщину, склонившуюся над книгой. Она поднимает голову. — Ich bitte Sie, ich brauch eine Kerze.[83] — Кристоф, принеси свечу. Кромвель узнает книгу, которую читает женщина: трактат Лютера. — Вы позволите? — Он забирает у нее книгу. Читает, мысли скачут между строк. Кто она, беглянка, которую Кранмер прячет? Понимает ли архиепископ, чем рискует? Он успевает прочесть половину страницы, когда появляется виноватый Кранмер. — Эта женщина?.. — Моя жена Маргарита, — говорит Кранмер. — Боже милосердный! — Он швыряет Лютера на стол. — Что вы наделали! Где вы ее взяли? Очевидно, в Германии. Так вот почему вы не спешили возвращаться! Теперь мне все ясно. Но зачем? — У меня не было выхода, — мямлит Кранмер. — Вы понимаете, что с вами сделает король, если тайна откроется? Парижский палач изобрел механизм с противовесом — хотите, нарисую? — который опускает и поднимает еретика из пламени, чтобы толпа хорошенько рассмотрела агонию. Теперь Генриху понадобится такой же. Или король закажет устройство, которое будет в течение сорока дней откручивать вам голову. Женщина поднимает глаза. — Mein Onkel…[84] — Кто он? Она называет теолога Андреаса Осиандера, нюрнбержца, лютеранина. Ее дядя, его друзья, и все образованные люди города считают… — Возможно, мадам, в вашей стране и верят, что пастору полагается иметь жену, но не здесь. Доктор Кранмер вас не предупредил? — Прошу вас, скажите, о чем она говорит. Проклинает меня? Хочет вернуться домой? — спрашивает Кранмер. — Нет, она говорит, вы к ней добры. Что на вас нашло? — Я же писал вам, что у меня есть тайна. Писал на полях письма. — Но это безумие — держать ее здесь, под носом у короля. — Я поселил ее в деревне, но она так хотела посмотреть церемонию! — Она что, и на улицу выходила? — Но ведь ее никто не знает! Верно. Чужеземцу легко затеряться в большом городе; еще одна юная женщина в аккуратном чепце и платье, еще одна пара глаз среди тысяч других; иголка в стоге сена. Кранмер шагает к нему, протягивает руки, на которых еще так недавно было священное миро: тонкие длинные пальцы, бледные прямоугольники ладоней, испещренные знаками морских путешествий и брачных союзов. — Я прошу вас как друга. Ибо на этом свете у меня нет друга ближе, чем вы, Кромвель. У него не остается другого выхода, кроме как сжать эти худые пальцы в ладонях. — Хорошо, что-нибудь придумаем. Спрячем вашу жену. Но меня удивляет, почему вы не оставили ее в родительском доме, пока мы не убедим короля перейти на нашу сторону. Голубые глаза Маргариты мечутся между ними. Она встает, отодвигает стол — и его сердце падает. Он уже видел это движение, его жена так же опиралась на столешницу, помогая себе встать. Маргарита высока ростом, и ее живот выпирает прямо над столом. — Иисусе! — Я надеюсь, будет дочь, — говорит архиепископ. — Когда? — спрашивает он Маргариту. Вместо ответа она берет его руку и прижимает к своему животу. Отмечая коронацию, младенец танцует: спаньолетта, эстампи рояль. Вот пятка, а вот локоток. — Вам нужна помощница, — говорит он. — Женщина, которая будет за вами приглядывать. Кранмер выходит вместе с ним. — Насчет Фрита… — Да? — С тех пор как его перевели в Кройдон, я трижды беседовал с ним наедине. Достойный молодой человек, чистая душа. Я провел с ним несколько часов — и не жалею ни об одной секунде, — но так и не смог убедить его свернуть с пути. — Ему следовало бежать там, в лесу. Вот его путь. — Мы не вольны… — Кранмер опускает глаза. — Простите, но не всем дано умение выбирать из многих путей. — А значит, вам придется передать арестанта Стоксли, Фрита взяли в его епархии. — Когда король даровал мне этот пост, когда он настаивал, я и помыслить не мог, что мне придется убеждать Джона Фрита отступиться от его веры. Добро пожаловать в наш низкий мир. — Я больше не могу откладывать. — Как и ваша жена.
Улицы вокруг Остин-фрайарз пустынны. Дым факелов затмевает звезды. Сторожа у ворот, трезвые, с удовольствием отмечает Кромвель. Останавливается перекинуться с ними словом; большое искусство — спешить, но не подавать виду. Войдя в дом, он говорит: — Мне нужна мистрис Барр. Почти все его домочадцы ушли смотреть фейерверки и танцевать, появятся не раньше полуночи. Он сам разрешил: кому тогда праздновать коронацию Анны, если не им? Выходит Джон Пейдж: чего желаете, сэр? Уильям Брабазон, с пером в руке, из бывшего окружения Вулси, королевские дела не ждут. Томас Авери, весь в заботах: деньги все время в движении, приход, расход. Когда Вулси впал в немилость, свита покинула кардинала, но слуги Томаса Кромвеля оставались с ним до конца. Наверху хлопает дверь. Растрепанный Рейф сбегает вниз, стуча башмаками. Молодой человек выглядит смущенным. — Сэр? — Тебя я не звал. Хелен дома? — Зачем она вам? Появляется Хелен. На ходу завязывает чистый чепец. — Собирайся, пойдешь со мной. — Надолго, сэр? — Не могу сказать. — Мне придется уехать из Лондона? Он размышляет, нужно все устроить, жены и дочери горожан, которым можно доверять, найдут служанок и повитуху, опытную матрону, которая передаст ребенка Кранмера ему в руки. — Возможно, ненадолго. — Дети… — О детях не беспокойся. Она кивает и убегает. Если бы все подчиненные были так проворны. — Хелен! — в ярости зовет Рейф. — Куда вы ее посылаете, сэр? Вы не можете просто увести Хелен из дома среди ночи… — Могу, — возражает он мягко. — Я должен знать. — Поверь, не должен. — Кромвель сдается. — Ладно, только не сейчас, я устал, Рейф, и спорить не собираюсь. Он мог бы поручить это Кристофу или другим нелюбопытным домочадцам: вырвать Хелен из тепла Остин-фрайарз в монастырский холод; или отложить решение до утра. Но из головы нейдет одиночество Кранмеровой жены, город en fête,[85] пустынная Кэнон-роу, где грабители рыщут в тени монастырских стен. Уже во времена короля Ричарда эта сторона прославилась воровскими шайками, которые выходили на промысел после заката, а утром, как рассветет, просили убежища в церкви — надо думать, за часть добычи. Нужно заняться этим местом; мои люди достанут и грабителей, и монахов-укрывателей из-под земли, хорьками залезут в любую нору. Полночь: мшистое дыхание камня, скользкая от городских испарений мостовая. Хелен вкладывает руку в его ладонь. Слуга впускает их, не поднимая глаз; Кромвель сует ему монетку, чтобы и дальше смотрел в пол. Архиепископа не видать; хорошо. Горит лампа. Он толкает дверь. Жена Кранмера съежилась на крохотной кровати. Он обращается к Хелен: — Вот женщина, которая нуждается в твоем милосердии. Ты все видишь сама. Она не говорит по-английски. В любом случае, ты не должна спрашивать ее имя. Затем, жене Кранмера: — Это Хелен. У нее двое детей. Она вам поможет. Не открывая глаз, мистрис Кранмер еле заметно кивает и улыбается, но когда Хелен накрывает руку женщины своей нежной ладонью, тянется, чтобы ее погладить. — Где ваш муж? — Er betet.[86] — Надеюсь, он не забудет помянуть меня в своих молитвах.
В день, когда Фрита сжигают на костре, Кромвель охотится с королем в Гилфорде. Дождь начался перед рассветом, порывистый ветер мотает верхушки деревьев: дождливо во всей Англии, в полях мокнет урожай. Однако Генрих по-прежнему в отличном расположении духа. Король садится писать Анне в Виндзор. Вертит перо, переворачивает лист, наконец сдается: напишите за меня, Кромвель, я скажу, о чем. Вместе с Фритом к столбу привяжут Эндрю Хьюитта, портновского подмастерья. Екатерина во время родов держала в руке реликвию, пояс Пресвятой Девы, говорит Генрих. Я его выписал. Не думаю, что королева согласится его взять. И не забыть про особые молитвы Святой Маргарите. Женские дела. Они сами разберутся, сэр. Позже он узнает, как умер Фрит и его товарищ; ветер без конца сдувал от них пламя. Смерть — злая шутница, зовешь ее, а она нейдет; притаилась во тьме, закрыв лицо черной тканью. В Лондоне снова потовая лихорадка. Король, оплот всех своих подданных, каждый день ощущает все симптомы до единого. Сейчас Генрих уставился на дождь за окном. Ничего, еще распогодится, утешает себя король, Юпитер благоприятствует. Итак, скажите ей, скажите королеве… Кромвель ждет, перо замерло в руке. Нет, хватит, давайте сюда, Томас, я подпишу. Он думает, что король нарисует сердце, но легкомысленные ухаживания позади, брак — дело серьезное. Henricus Rex. У меня колики, головная боль, тошнота и перед глазами черные точки, говорит король, значит, я заразился? Вашему величеству нужно отдохнуть. И запастись мужеством. Вы же знаете, как говорят: утром пел, к полудню помер. Неужели можно сгореть за два часа? Я слыхал, умереть можно и от страха. К полудню из-за туч выглядывает солнце. Генрих, хохоча, скачет под мокрыми от дождя деревьями. В Смитфилде лопатой сгребают останки Фрита, его молодость и мягкость, ученость и миловидность: комок слякоти и кучка обугленных костей. У короля два тела. Первое существует в пределах физического, его можно измерить, что частенько проделывает Генрих: талию, икру, другие части. Второе — его двойник-правитель, ускользающий, бестелесный, который может находиться в нескольких местах сразу. Генрих охотится, а его двойник сочиняет законы. Один сражается — другой молится о ниспослании мира. На одном держится таинство управления государством, другой поедает утку с зеленым горошком. Папа провозглашает его женитьбу на Анне незаконной. Угрожает отлучить короля от церкви, если тот не вернется к Екатерине. Христианский мир отринет нечестивца, подданные восстанут, и Генриха ждет позорное изгнание. Ни в одном христианском сердце не найдет сочувствия, а когда король сгинет, его труп зароют в яме вместе с собачьими костями. Кромвель учит Генриха называть папу епископом Римским. Смеяться при упоминании его имени. Даже неуверенный смешок лучше прежнего преклонения. Кранмер приглашает провидицу Элизабет Бартон в свой дом в Кенте. У нее было видение Марии, бывшей принцессы, в королевской короне? Да. И Гертруды, леди Эксетер? Да. Либо та, либо другая, мягко замечает архиепископ. Я говорю, что вижу, возражает блаженная. Кранмер записывает, что пророчица — самоуверенная хвастунья, привыкшая болтать с архиепископами, и теперь видит в нем нового Уорхема — тот прислушивался к каждому ее слову. Она — мышка в кошачьих лапах. Королева Екатерина вместе со своим поредевшим двором вновь снимается с места, переезжает во дворец епископа Линкольнского в Бакдене. Старый дом красного кирпича с большими садами, спускающимися к рощам, полям и болотам. Сентябрь принесет Екатерине первые осенние плоды, октябрь одарит туманами. Король велит Екатерине отдать крестильную рубашку ее дочери Марии. Выслушав ответ королевы, он, Томас Кромвель, хохочет. Ей следовало родиться мужчиной, своими деяниями она посрамила бы героев древности. Перед Екатериной кладут документ, в котором к ней обращаются «вдовствующая принцесса»; ему показывают, где ее перо распороло бумагу, когда она зачеркивала свой новый титул. Короткими летними ночами слухи падают во влажную почву. На рассвете они уже торчат из мокрой травы, словно шампиньоны. Ранним утром домочадцы Томаса Кромвеля ищут повитуху. Он прячет в своем загородном доме чужестранку, подарившую ему дочь. Не смей защищать мою честь, говорит он Рейфу. У меня таких женщин пруд пруди. Не сомневайтесь, они поверят, соглашается Рейф. В городе толкуют, что у Томаса Кромвеля непомерная… Память, перебивает он. Толстенные конторские книги. Чудовищная система, в которой значатся (под своими именами, а также по тяжести проступков) те, кто осмелился мне перечить. Все астрологи наперебой твердят, что у короля родится сын. Но лучше не иметь дел с этой публикой. Несколько месяцев назад некто предложил ему изготовить для короля философский камень, а когда гостю вежливо указали на дверь, обозлился и, как свойственно алхимикам, начал пророчествовать, что король умрет до конца года. В Саксонии, утверждает алхимик, живет старший сын покойного короля Эдуарда; вы решили, что его кости схоронены под тауэрской мостовой — где, ведомо лишь убийце, — но вас обманули, он жив, здоров, и готов предъявить права на трон. Кромвель считает в уме: королю Эдуарду Пятому, доживи тот до сего дня, в ноябре стукнуло бы шестьдесят четыре. Староват для драки, замечает он алхимику и отправляет того в Тауэр, пораскинуть мозгами. Из Парижа никаких вестей. Что бы ни замышлял мэтр Гвидо, он скрытничает. — Томас, — говорит Ганс Гольбейн, — я закончил ваши руки, а до лица никак не доберусь. Обещаю, осенью портрет будет готов. Вообразите, в каждой книге скрыта другая книга, в каждой букве на каждой странице раскрывается новый том; и все эти книги не имеют объема. Вообразите знание, уменьшенное до своей сути, внутри картины, знак — в месте, не занимающем места. Вообразите, что человеческий мозг расширился, и внутри открылись новые пространства, жужжащие, словно ульи. Лорд Маунтджой, управляющий Екатерины, прислал ему перечень того, без чего английская королева не может разродиться. Его забавляет эта вежливая передача полномочий; двор живет заведенным порядком, меняются только действующие лица, ясно одно: именно Кромвель, по мнению лорда Маунтджоя, отвечает за все. Он едет в Гринвич, подновить апартаменты, приготовленные для Анны. Прокламации (пока без даты) отпечатаны и готовы возвестить народу Англии и правителям Европы о рождении принца. Оставьте место, советует он, после слова «принц», возможно, придется вписать еще буквы… На него смотрят как на предателя, и он решает махнуть рукой. Когда женщина уединяется, чтобы произвести на свет дитя, ставни плотно закрывают. Ее держат в темноте, и роженице остается только спать. Сны уносят ее далеко, от terra firma[87] к топям, пристани, реке, где туман висит над дальним берегом, а земля и небо неразделимы; здесь ей предстоит отправиться навстречу жизни или смерти, закутанная фигура на корме правит ладьей. Молитвы, что звучат там, мужчинам слышать не дано. Там заключаются сделки между женщиной и ее Господом. Река подвержена приливам и отливам; ее течение может перемениться меж двумя росчерками скользящего по бумаге пера. Двадцать шестого августа 1533 года королеву отвозят в тайные комнаты Гринвича. Муж целует ее, адье и бон вояж, в ответ — ни улыбки, ни звука. Анна очень бледна и очень серьезна; маленькая, усыпанная драгоценностями головка гордо поднята, ниже колышется шатер тела; шаги осторожны и мелки, в руках молитвенник. На причале Анна оборачивается: один долгий взгляд. Она смотрит на Кромвеля, смотрит на архиепископа. Последний взгляд, затем фрейлины подхватывают королеву под руки, и она ставит ногу на корму.
II Плевок дьявола
Осень-зима 1533 года
Это поразительно. В момент потрясения глаза короля открыты, тело готово к atteint,[88] броня, принимающая удар, крепка, движения выверены. Лицо не краснеет и не бледнеет. Голос не дрожит. — Жива? — спрашивает король. — Возблагодарим же Господа за Его милость. И вы, милорды, примите мою благодарность за столь утешительное известие. Генрих репетировал, думает Кромвель. Как и мы все. Король удаляется в свои покои. Бросает через плечо: — Назовите ее Елизаветой. Турниры отменить. — А остальные церемонии? — мямлит Болейн. Нет ответа. Все остается в силе, говорит Кранмер, пока не получим иных указаний. Я буду крестным отцом… принцессы. Запинается. Не может поверить. Кранмер просил дочь — ее и получил. Архиепископ провожает глазами удаляющуюся спину Генриха. — Он не спросил про королеву. Как она. — А какое это теперь имеет значение? — Эдвард Сеймур произносит вслух то, что остальные думают про себя. Генрих оборачивается на ходу. — Милорд архиепископ. Кромвель. Вы двое. В личных покоях: — Вы могли такое вообразить? Другой улыбнулся бы, но не он. Король падает в кресло. Хочется положить Генриху руку на плечо, как любому живому существу, нуждающемуся в сочувствии, однако Кромвель сдерживает порыв и просто сжимает ладонь, где хранится королевское сердце. — Когда-нибудь мы закатим для нее великолепную свадьбу. — Никому-то она не нужна. Даже собственной матери. — Ваше величество еще молоды, — говорит Кранмер. — Королева сильна и здорова, а род ее славен своей плодовитостью. У вас еще будут дети. Возможно, Господь уготовил для принцессы великую судьбу. — Дорогой друг, а ведь вы правы, — нерешительно произносит Генрих и оглядывается, словно ища опоры, дружеского послания от Господа, начертанного на стене, хотя известны лишь прецеденты противоположного свойства. Король глубоко вздыхает, встает и отряхивает рукава. Улыбается, и можно поймать — словно птицу в полете — миг, когда одной лишь силой воли из жалкого страдальца Генрих превращается в надежду нации. — Словно воскрешение Лазаря, — шепчет Кромвель Кранмеру. Скоро Генрих вышагивает по Гринвичскому дворцу, следя за приготовлениями к празднованию. Мы еще молоды, говорит король, в следующий раз обязательно будет мальчик. Когда-нибудь мы закатим для нее великолепную свадьбу. Поверьте мне, Господь уготовил для принцессы великую судьбу. Лица Болейнов светлеют. Воскресенье, четыре пополудни. Кромвель поддразнивает самонадеянных клерков, которым теперь предстоит втискивать несколько лишних букв, затем рассчитывает, во сколько обойдется содержание двора юной принцессы. Он предлагает взять Гертруду, леди Эксетер, в крестные матери. Вольно ей являться лишь блаженной, в ее видениях! Пусть предстанет перед всем двором у купели, с натужной улыбкой держа на руках Аннину дочь.Блаженная, которую перевезли в Лондон, живет уединенно. Постель мягка, а голоса — голоса женщин из дома Кромвеля — не тревожат ее молитв; ключ в смазанном замке поворачивается с хрустом ломаемой птичьей косточки. — Она ест? — спрашивает он Мерси. За двоих. Как ты, Томас, хотя нет, пожалуй, тебе она уступает. — А как же ее намерение питаться одними облатками? — Они ведь не видят, как она обедает. Священники и монахи, сбившие ее с пути. Без пригляда монахиня ведет себя как обычная женщина, не отвергающая телесных нужд; как любое существо, стремящееся выжить, но, кажется, уже поздно. Ему по душе, что Мерси не причитает, ах, бедная безобидная овечка. То, что пророчица не безобидна, становится ясно, как только ее доставляют в Ламбетский дворец для допроса. Казалось бы, деревенская девочка должна оробеть при виде внушительного лорда-канцлера Одли с его сверкающей цепью. Добавьте архиепископа Кентерберийского, и юная монашка затрепещет. Ничуть не бывало. Блаженная разговаривает с Кранмером снисходительно, будто тот ничего не смыслит в религиозной жизни. Когда архиепископ спрашивает: «Откуда вы это знаете?» — она сочувственно улыбается: «Мне ангел сказал». На второй допрос Одли приводит Ричарда Рича, вести запись и вообще помогать, чем сочтет нужным. Теперь он сэр Ричард, генеральный стряпчий. В студенческие годы Рич славился острым языком и непочтительностью к старшим, кутежами и отчаянной игрой. Впрочем, если бы о нас судили по тому, какими мы были в двадцать, кто осмелился бы ходить с высоко поднятой головой? У Рича обнаружился талант к составлению законов, в котором тот уступает лишь ему, Кромвелю. Лицо в обрамлении мягких белокурых волос сморщилось от усердия; мальчишки из Остин-фрайарз прозвали Рича «сэр Кошель». Глядя, с каким важным видом генеральный стряпчий раскладывает бумаги, и не поверишь, что перед тобой бывший позор Иннер-Темпла.[89] О чем он и сообщает Ричу вполголоса, пока они ждут пророчицу. А как поживает ваша аббатиса из Галифакса, мастер Кромвель? — парирует Рич. Он не говорит, ах, выдумки, как не отрицает ни одну из историй, придуманных кардиналом. — А, пустяки, в Йоркшире так принято. Ему кажется, девчонка слышала разговор, потому что сегодня, занимая свое место, она одаривает его тяжелым взглядом. Пророчица расправляет юбки, подтягивает рукава и спокойно ждет, когда ее начнут развлекать. Его племянница Алиса Уэллифед сидит на табурете у двери на случай обморока или иного недомогания. Впрочем, судя по виду, скорее уж Одли лишится чувств, чем пророчица. — Вы позволите мне?.. — спрашивает Рич. — Начать? — Почему бы нет? — говорит Одли. — Вы молоды и рьяны. — Поговорим о твоих пророчествах: ты всегда изменяешь срок бедствий, которые предсказываешь, но насколько мне известно, ты утверждала, что король, если вступит в брак с леди Анной, процарствует всего месяц. Месяц прошел, леди Анну короновали, она подарила его величеству прекрасную дочь. Что скажешь теперь? — Я скажу, что пусть в глазах мира он король, в глазах Господа, — она пожимает плечами, — уже нет. Он не больше король, чем вот этот человек, — показывает на Кранмера, — архиепископ. Однако Рич упрямо гнет свою линию. — Стало быть, нет ничего зазорного в том, чтобы его свергнуть? Подослать к королю убийц? Посадить на трон другого? — А вы как считаете? — И из всех претендентов на трон ты выбрала Куртенэ, не Полей. Генри, маркиза Эксетерского — не Генри, лорда Монтегю. Или, — интересуется он сочувственно, — ты их не различаешь? — Еще чего! — пророчица вспыхивает. — Я встречалась с обоими джентльменами. Рич делает пометку. — Куртенэ, лорд Эксетер, происходит от дочери короля Эдуарда, — говорит Одли. — Лорд Монтегю — от брата короля, герцога Кларенса. Как ты оцениваешь их притязания? Ибо если вести речь о королях истинных и мнимых, сам Эдуард, как утверждают, был зачат своей матерью от простого лучника. Тебе что-нибудь об этом известно? — Ей-то откуда знать? — удивляется Рич. Одли округляет глаза. — Как же, она ведь беседует со святыми на небесах. Им ли не ведать! Кромвель смотрит на Рича и читает его мысли. В книге Никколо сказано: мудрый правитель уничтожает завистников. Будь я, Рич, королем, я бы казнил всех претендентов вместе с их семьями. Пророчице задают следующий вопрос: как объяснить, что она видела двух королев? — Вероятно, это решится в бою, — говорит Кромвель. — Хорошо иметь несколько королей и королев про запас, если в планах гражданская война. — В войне нет необходимости, — отвечает пророчица. Вот как! Сэр Кошель выпрямляется в кресле: это что-то новенькое. — Господь нашлет на Англию чуму. Не пройдет и полугода, Генрих умрет. И она, дочь Томаса Болейна. — И я? — Вы тоже. — Все мы, сидящие в этой комнате? Кроме тебя, разумеется. Даже Алиса Уэллифед, не сделавшая тебе ничего дурного? — Все женщины в вашем доме еретички, чума пожрет их тела и души. — А как насчет принцессы Елизаветы? Она оборачивается, адресуя свои слова Кранмеру: — Говорят, когда вы крестили ее, то подогрели воду. Лучше бы вы налили в купель кипятка. Господь милосердный, восклицает Рич, нежный отец крошки-дочери, и отбрасывает перо. Кромвель кладет ладонь на руку генерального стряпчего. Естественно подумать, что в утешении нуждается его племянница, но Алиса только ухмыльнулась, услышав из уст блаженной свой приговор. — Она не сама додумалась до слов о кипятке, — объясняет он Ричу. — Так болтают на улицах. Кранмер цепенеет; блаженная нанесла ему удар, теперь преимущество на ее стороне. — Вчера я видел принцессу, — говорит Кромвель. — Она жива и здорова, несмотря на домыслы злопыхателей. Он намеренно спокоен, нужно дать архиепископу время прийти в себя. Обращается к пророчице: — Скажи, удалось ли тебе обнаружить кардинала? — Кого? — удивляется Одли. — Сестра Элизабет обещала поискать моего бывшего господина в его странствиях: в раю ли, аду, в чистилище. Я предложил оплатить дорожные издержки, передал ее сподвижникам аванс — как продвигаются поиски? — Вулси мог бы прожить еще пятнадцать лет, — заявляет пророчица. Он кивает: блаженная повторила его собственные слова. — Однако Господь покарал его, в назидание остальным. Я видела, как черти спорили о его душе. — И каков итог? — Никакого. Я все обыскала. Думаю, Господь его отверг. Но однажды ночью я увидела кардинала. — Она надолго замолкает. — Его душа томилась среди нерожденных. Воцаряется молчание. Кранмер съеживается в кресле. Рич деликатно грызет кончик пера. Одли крутит пуговицу на рукаве, пока нитка не натягивается. — Если желаете, я помолюсь за него, — говорит дева. — Господь прислушивается к моим просьбам. — Будь рядом твои советчики — отец Бокинг, отец Голд, отец Рисби и прочие — они бы начали с торга. Я бы предложил цену, а твои духовные наставники постарались ее взвинтить. — Постойте, — Кранмер кладет руку на грудь, — давайте вернемся назад. Лорд-канцлер? — Куда скажете, милорд архиепископ. Будем ходить кругами хоть до второго пришествия. — Ты видишь чертей? Кивок. — Они являются тебе… — В виде птиц. — И то ладно, — сухо замечает Одли. — Нет, сэр, Люцифер смердит. Его когти кривы. Петух, измазанный в крови и дерьме. Кромвель смотрит на Алису. Нужно ее отослать. Что сделали с этой женщиной? — Должно быть, неприятное зрелище, — говорит Кранмер. — Но насколько я знаю, чертям свойственно являться в разных обличиях. — Так и есть. Они морочат вас. Дьявол приходит в виде юноши. — Неужели? — А однажды ночью привел женщину. В мою келью. — Она замолкает. — Лапал ее. Говорит Рич: — Дьявол известный бесстыдник. — Не более, чем вы. — А что потом, сестра Элизабет? — Задрал ей юбку. — Она не сопротивлялась? — спрашивает Рич. — Удивительно. Говорит Одли: — Не сомневаюсь, князь Люцифер знает толк в обольщении. — Перед моими глазами, на моей кровати, он совершил с нею грех. Рич делает пометку. — Эта женщина, ты ее знаешь? Нет ответа. — А дьявол не пытался заняться этим с тобой? Можешь не стесняться. Тебя не осудят. — Он улещивал меня, такой важный в своем лучшем синем шелковом дублете. А чулки усыпаны алмазами сверху донизу. — Алмазами сверху донизу, — повторяет он. — Должно быть, тебя одолевал соблазн? Она мотает головой. — Но ведь ты привлекательная молодая женщина. Ты достаточно хороша для любого мужчины. Она поднимает глаза, на губах слабая тень улыбки. — Я — не для мастера Люцифера. — Что он сказал, когда ты его отвергла? — Он просил меня стать его женой. Кранмер прижимает руки к лицу. — Я ответила, что дала обет целомудрия. — Он не разгневался, когда ты ему отказала? — Еще как разгневался! Плюнул мне в лицо. — Другого я от него не ждал, — замечает Рич. — Я вытерла лицо салфеткой. Слюна была черной и смердела адом. — На что похож адский запах? — На гниль. — И где теперь эта салфетка? Надеюсь, ты не отдала ее прачке? — У отца Эдварда. — Он показывает ее толпе? За деньги? — За пожертвования. Кранмер отнимает руки от лица. — Предлагаю прерваться. — Четверти часа хватит? — спрашивает Рич. — Говорил я вам, он молод и рьян, — замечает Одли. — Перенесем на завтра, — предлагает Кранмер. — Мне нужно помолиться, и четверти часа мне мало. — Но завтра воскресенье, — подает голос монашка. — Как-то раз один человек отправился в воскресенье на охоту и свалился в бездонную адскую яму. — Значит, все-таки не бездонную, раз ад его принял, — замечает Рич. — Жалко, я не охочусь, — говорит Одли. — Господь свидетель, я бы рискнул. Алиса встает и делает знак стражникам. Блаженная, широко улыбаясь, поднимается на ноги. Она заставила архиепископа вздрогнуть и похолодеть, а генеральный стряпчий чуть не прослезился от ее слов об ошпаренных младенцах. Ей кажется, она побеждает, но она проигрывает, проигрывает, все время проигрывает. Алиса опускает нежную ладонь ей на плечо, однако блаженная стряхивает ее руку. Снаружи Ричард Рич говорит: — Придется ее сжечь. — Как бы нам ни претили ее россказни о встречах с покойным кардиналом и дьяволе в келье, — возражает Кранмер, — она просто пытается подражать, как ее учили, историям дев, которых Рим почитает святыми. Я не могу задним числом осудить их за ересь, как не вижу ереси в ее бреднях. — Я имел в виду — сжечь за измену. Костер — наказание для женщин, мужчин за измену душат до полусмерти, оскопляют и потрошат. — Она не совершила ничего дурного, — замечает Кромвель. — Ей можно вменить в вину только намерения. — Намерение поднять бунт, сместить короля — разве это не измена? Слова могут быть истолкованы как измена, есть прецеденты, сами знаете. — Я бы удивился, — говорит Одли, — если бы это обстоятельство ускользнуло от Кромвеля. Их словно преследует вонь дьявольской слюны, и, чуть ли не толкаясь, они выскакивают на свежий воздух, мягкий и влажный: в нежный аромат листвы, в золотисто-зеленое шуршание. Он понимает, что в грядущие годы измена обретет новые, неведомые прежде формы. Когда принимался последний акт об измене, никто не мог распространять свои слова в виде книг или листовок, поскольку до печатных книг еще не додумались. На краткий миг его охватывает зависть к мертвым, служившим королю во времена не столь торопливые; ныне измышления продажных и отравленных умов разносятся по Европе за какой-нибудь месяц. — Нужны новые законы, — говорит Рич. — Я этим займусь. — И еще, ее надо поместить в более суровые условия. Мы чрезмерно мягки. Хватит с ней играть. Кранмер уходит, сутулясь, подолом метя листву. Сияя цепью, Одли поворачивается к нему, твердо намереваясь сменить тему: — Так значит, вы говорите, принцесса здорова?
Принцесса без пеленок лежит на подушке у ног Анны: вечно недовольный багровый комочек человеческой плоти, с торчащим рыжим хохолком и привычкой взбивать ножками рубашонку, демонстрируя свой главный недостаток. Кто-то пустил слух, что дитя Анны родилось с зубами, шестью пальцами на каждой руке, к тому же мохнатое, как обезьянка, поэтому ее родитель не устает выставлять голенькую малышку перед послами, а мать показывает дочь всем и каждому без пеленок в надежде опровергнуть слухи. Король определил местом пребывания принцессы Хэтфилд, и Анна предлагает: — Можно избежать ненужных трат и одновременно соблюсти этикет, если двор испанской Марии будет распущен, а сама она присоединится ко двору Елизаветы, моей дочери. — В каком качестве? Малышка молчит, но лишь потому, что засунула в ротик кулачок и с увлечением его сосет. — В качестве служанки. На что еще она может рассчитывать? Ни о каком равенстве речи нет. Мария — незаконнорожденная. Краткая передышка позади: визг принцессы разбудит мертвых. Анна отводит глаза, лицо расцветает в улыбке затаенного обожания, она тянет руки к дочери, но не успевает дотянуться: со всех сторон, суетясь и хлопоча, к малютке устремляются служанки; вопящее создание подхвачено с подушки, спеленуто и унесено прочь. Глаза королевы с грустью смотрят, как плод ее чрева умыкает шумная процессия. — Думаю, она проголодалась, — мягко произносит Кромвель.
Вечер субботы: обед в Остин-фрайарз в честь неуловимого Стивена Воэна: Уильям Беттс, Ганс, Кратцер, Зовите-меня-Ризли. Разговор ведется на нескольких языках, Рейф Сэдлер переводит — умело, ненавязчиво, вертя головой из стороны в сторону: темы высокие и низкие, искусство правления и сплетни, богословие Цвингли, жена Кранмера. О ней судачат и в Стилъярде, и в городе; Воэн спрашивает: — Может Генрих знать и не знать? — Весьма вероятно. Генрих — правитель весомых достоинств. Весомее день ото дня, смеется Ризли; доктор Беттс замечает, людям его склада необходимо движение, в последнее время короля беспокоит нога, старая рана; но стоит ли удивляться, если Генрих, никогда не щадивший себя на охоте и в турнирах, дожив до своих лет, заимел пару болячек. В этом году ему исполняется сорок три, и я был бы признателен вам, Кратцер, если бы вы поделились своими суждениями о том, что в будущем обещают планеты человеку, в чьей небесной карте так сильно влияние воздуха и огня; между прочим, разве я не предупреждал о Луне в Овне (знаке вспыльчивом и опрометчивом), не благоприятствующей устойчивости браков? Что-то мы не слышали о Луне в Овне те двадцать лет, что Генрих был женат на Екатерине, замечает Кромвель. Нас делают не звезды, доктор Беттс, а обстоятельства и necessita,[90] решения, которые мы принимаем под давлением обстоятельств; наши добродетели, правда, одних добродетелей мало — временами нас выручают наши грехи. Вы не согласны? Он кивает Кристофу, веля наполнить бокалы. Говорят о Монетном дворе, где Воэн получил должность, о Кале, где заправляет Хонор Лайл, оттеснившая мужа-губернатора. Он думает о Гвидо Камилло в Париже, раздраженно вышагивающем между деревянными стенками своей машины, и знаниях, которые невидимо, сами по себе, растут в ее пустотах и полостях. Думает о святой девственнице — ныне признанной не святой и не девственницей, — ужинающей с его племянницами. О коллегах-дознавателях: Кранмер на коленях погружен в молитву, сэр Кошель хмурится над записями сегодняшнего допроса, Одли — чем же занят лорд-канцлер? Полирует цепь, решает он. Он хочет под шумок спросить у Воэна, жила ли в его доме некая Женнеке? Что с ней стало? Однако Ризли прерывает ход его мыслей: — Когда мы увидим портрет моего хозяина? Вы давно над ним трудитесь, Ганс, пора и честь знать. Мы сгораем от нетерпения, хотим увидеть, каким вы его нарисовали. — Он все еще пишет французских послов, — говорит Кратцер. — Де Дентвиль хочет забрать картину с собой, когда его отзовут… За столом смешки: французский посол без конца упаковывает и распаковывает вещи, ибо Франциск всякий раз велит ему оставаться на месте. — В любом случае, я надеюсь, он заберет его не сразу, — говорит Ганс, — я хотел выставить портрет, с прицелом на будущие заказы. Хочу, чтобы портрет увидел король, я думаю написать его, как по-вашему, это можно устроить? — Я ему передам, — говорит он просто. — Найду подходящее время. Он оглядывает стол, наблюдает, как Воэн лучится от гордости, словно Юпитер на расписном потолке. Гости встают из-за стола, лакомятся засахаренным имбирем и фруктами, Кратцер делает несколько набросков. Астроном рисует солнце и планеты, вращающиеся на своих орбитах в соответствии со схемой отца Коперника. Показывает, как мир вертится на оси; никто из гостей не спорит. Ногами вы ощущаете рывки и тяжесть, горы со стоном отрываются от подножий, океаны с шумом накатывают на берег, головокружительные вершины Альп движутся, рябь пронизывает рвущееся на свободу сердце немецких лесов. Мир уже не тот, каким был в его с Воэном юности, не тот, что при кардинале. Гости расходятся, когда появляется Алиса в плаще. Ее сопровождает Томас Ротерхем — один из его подопечных. — Не волнуйтесь, сэр, с сестрой Элизабет сидит Джо, а мимо Джо муха не пролетит. Вот как? Девчонка, вечно глотавшая слезы над кривыми стежками? Маленькая неряха, любившая побарахтаться под столом с мокрой собакой и подразнить на улице лоточника? — У вас есть время со мной поговорить? — спрашивает Алиса. Конечно, отвечает он, берет Алису за руку, сжимает ладонь; к его удивлению Томас Ротерхем бледнеет и выскальзывает из комнаты. В кабинете Алиса зевает. — Простите, но приглядывать за ней — тяжкий труд, да и время так тянется. Заправляет под чепец выбившуюся прядь. — Она скоро сломается. Это перед вами она храбрится, а по ночам рыдает, понимает, что мошенница. Но даже когда плачет, хочет знать, какое впечатление производит, подглядывает из-под век. — Я хочу скорее с этим покончить, — говорит он. — Вдобавок ко всем беспокойствам, которые она причинила, нам — а трое или четверо из нас ученые богословы и правоведы — надоело выступать в этом балагане, каждый день сражаясь с какой-то соплячкой. — Почему вы не схватили ее раньше? — Не хотел, чтобы она прикрыла свою лавочку. Было любопытно увидеть, кто прибежит на ее свист. Леди Эксетер, епископ Фишер, монахи, два десятка безрассудных священников, имена которых я знаю, и сотни, которых пока не знаю. — И теперь король всех казнит? — Надеюсь, очень немногих. — Вы склоните его к милосердию? — Скорее, к терпению. — А что будет с нею?Сестрой Элизабет? — Мы предъявим ей обвинение. — Ее посадят в темницу? — Нет, я попрошу короля отнестись к ней снисходительно, он всегда… обычно он с уважением относится к представителям духовенства. Впрочем, Алиса, — он видит, что племянница готова утонуть в слезах, — я вижу. С тебя довольно. — Нет-нет, мы — солдаты вашей армии. — Эта блаженная напугала тебя, толкуя о мерзких предложениях, которыми смущал ее дьявол? — Нет, это Томас Ротерхем, это он предложил мне… он хочет на мне жениться. — Ах, вот оно что! — Он доволен. — А почему Томас сам не пришел? — Боится, что вы так посмотрите на него… как вы умеете смотреть, словно взвешиваете. Как подпиленную монету? — Алиса, он владеет изрядным куском Бедфордшира, и под моим приглядом разорение его поместьям не грозит. Если вы любите друг друга, разве стану я возражать? Ты умная девочка, Алиса. Твои родители, — он смягчает голос, — тобою бы гордились. Вот и открылась причина Алисиных слез. Девушке приходится просить разрешения у дяди, потому что прошедший год ее осиротил. В день, когда умерла его сестра Бет, он был в отъезде с королем. Генрих, боясь заразы, не принимал гонцов из столицы, поэтому сестру успели схоронить прежде, чем он узнал, что она слегла. Когда новость наконец доползла до них, король утешал его, похлопывал по плечу, говорил о своей сестре, красавице с золотыми, как у сказочной принцессы, локонами, бродящей ныне в райских кущах, отведенных для особ королевской крови, ибо невозможно представить ее в местах унылых и безрадостных, в запертом склепе чистилища, где только пепел и серная вонь, где кипит смола и тучи набухают ледяным дождем. — Алиса, вытри слезы, иди к Томасу Ротерхему, прекрати его страдания. Завтра в Ламбетский дворец вместо тебя отправится Джо, раз уж она так непреклонна, как ты утверждаешь. В дверях Алиса оборачивается. — Я ведь увижу ее? Элизу Бартон? Мне хотелось бы увидеться с ней, прежде чем… Прежде чем ее казнят. Алиса не наивна. Что ж, к лучшему. Посмотрите, что делает с наивными жизнь; циничные и погрязшие в грехе используют их, а выжав, втаптывают в грязь. Он слышит, как Алиса сбегает по ступенькам. Зовет, Томас, Томас… Это имя поднимет полдома, оторвет от молитвы, выдернет из постели, я здесь, вы меня звали? Он запахивает подбитый мехом плащ и выходит посмотреть на звезды. Вокруг дома светло; в саду, где идет строительство, горят факелы, котлованы выкопаны под фундамент, рядом высятся холмы вырытой земли. Огромный деревянный каркас нового крыла заслоняет небо; ближе — новые посадки, городской сад, где Грегори однажды сорвет с дерева плоды, и Алиса, и ее сыновья. У него уже есть плодовые деревья, но он хочет посадить вишни и сливы заморских сортов, и поздние груши, чтобы, на тосканский манер, оттенять их хрусткую прохладную мякоть соленой треской. В следующем году он задумал разбить сад в охотничьих угодьях в Кэнонбери, отдушину от городской суеты, летний домик среди лугов. Дом в Степни тоже расширяется, за строительством присматривает Джон Уильямсон. Удивительное дело, наступившие времена семейного благоденствия излечили его от запущенного кашля. Мне нравится Джон Уильямсон, и как только я мог, с его женой… Из-за ворот доносятся вопли и плач, Лондон никогда не затихает; сколько людей лежит в могилах, но еще больше разгуливает по улицам, пьяные драчуны падают с Лондонского моста, воры, нашедшие прибежище в церкви, выходят на промысел, саутуоркские шлюхи выкликают цену, словно мясники, продающие убоину. Он возвращается в дом, к письменному столу. В маленьком сундучке он хранит книгу жены, ее часослов. В книгу вложены молитвы на отдельных листках — их убрала туда Лиз. Скажи имя Господа тысячу раз — и лихорадка отступит. Но ведь она не отступит! Беспощадная хворь придет и убьет тебя. Рядом с именем первого мужа она написала его имя, но имя Томаса Уильямса не зачеркнула. Даты рождения детей — и вписанные его рукой даты смерти дочерей. Он находит пустое место, где сделает запись о свадьбах детей сестры: Ричарда и Франсис Мерфин, Алисы и его воспитанника. Возможно, я уже привык без Лиз, думает он. Казалось, эта тяжесть никогда не перестанет давить на грудь, но бремя уже не мешает жить дальше. Я снова могу жениться, разве не об этом без конца твердят все вокруг? Я уже забыл Джоанну Уильямсон: она перестала быть для меня прежней Джоанной. Ее тело больше не имеет надо мной власти; плоть, оживавшая под ненасытными пальцами, стала обычной плотью увядающей горожанки, женщины без особых примет. Он ловит себя на мысли, что давно не вспоминает об Ансельме, теперь она всего лишь женщина со шпалеры, женщина из переплетенных нитей. Он тянется за пером, говорит себе: я привык жить без Лиз. Привык ли? Он застывает с пером в руке; прижимает страницу и вычеркивает имя ее первого мужа. Я столько лет хотел это сделать. Поздно. Он закрывает ставни; луна зияет ввалившимися глазницами пьяницы из подворотни. Кристоф, складывая его одежду, спрашивает: — В вашем королевстве есть оборотни? — Все волки передохли, когда извели леса. Этот вой издают лондонцы.
Воскресенье: в розоватом свете утра они покидают Остин-фрайарз, его люди в новых серых ливреях забирают монашку вместе с охраной из дома, где она содержалась. Удобнее было бы иметь под рукой барку королевского секретаря, думает он, чем нанимать лодку всякий раз, как надо переправиться через реку. Он уже был у мессы; Кранмер настаивает, чтобы теперь они прослушали мессу все вместе. Он смотрит на блаженную — по ее лицу ручьем текут слезы. Алиса права: она устала врать. К девяти блаженная успевает размотать клубок, который наматывала годами. Пророчица кается так горячо и страстно, что Рич не успевает записывать. Она обращается к ним как к людям бывалым, умудренным в житейских делах: — Вы знаете, как это бывает. Ты случайно что-то обронишь, а люди спрашивают, о чем это ты, что ты имела в виду? Ты говоришь, что у тебя было видение, и они уже не хотят слышать ничего другого. — Трудно разочаровывать людей? — спрашивает он. Да, трудно. Трудно остановиться. Отступишься — и тебя затопчут. Она кается, что ее видения — выдумка, она никогда не беседовала с ангелами. Не воскрешала мертвых; все это обман. Не совершала чудес. Письмо от Марии Магдалины написал отец Бокинг, а буквы позолотил монах, сейчас вспомню, как его имя. Ангелы — ее собственная выдумка, ей казалось, она их видит, но теперь она знает, что то были лишь солнечные зайчики на стене. Их голоса — и не голоса вовсе, а пение ее сестер в часовне, плач женщины, которую избивали или грабили на дороге, а то и вовсе звон посуды на кухне; вопли и стоны проклятых душ — скрежет табурета и визги брошенной собаки. — Теперь я знаю, что эти святые не настоящие. Не такие настоящие, как вы. Что-то внутри нее сломалось, и он гадает, что именно. — Меня отпустят обратно в Кент? — Посмотрим. Сидящий с ними Хью Латимер смотрит исподлобья: к чему обманывать, давать ложные обещания? Нет-нет, постойте, я сам разберусь. — Перед тем как ты отправишься куда бы то ни было, — мягко говорит Кранмер, — тебе придется публично признать свой обман. Публично покаяться. — Она толпы не боится, верно? Все эти годы она забавляла народ на большой дороге, теперь ей снова предстоит кривляться перед толпой, но в ином представлении: каяться в Лондоне перед собором Святого Павла и, возможно, в провинции. Кромвель чувствует, что ей нравится новая роль мошенницы, как нравилась и предыдущая, святой. Он говорит Ричу, Никколо учил, что безоружный провидец всегда терпит поражение. Я упомянул об этом, Рикардо, улыбается он, потому что вы любите следовать букве. Кранмер подается вперед и спрашивает, ваши сторонники, Эдвард Бокинг и прочие, они были вашими любовниками? Блаженная ошеломлена: вопрос исходит от самого доброго из ее судей. Она смотрит на Кранмера, словно кто-то из них двоих сморозил глупость. Кромвель вполголоса замечает, возможно, любовники — не совсем верное слово. Довольно. Для Одли, Латимера, Рича он говорит: — Я займусь теми, кто шел за ней, и теми, кто ее направлял. Она сгубит многих, если мы дадим делу ход. Фишера определенно, Маргарет Пол возможно, Гертруду и ее мужа — вне всяких сомнений. Леди Марию, королевскую дочь, весьма вероятно. Томаса Мора нет, Екатерину нет, но изрядное число францисканцев. Суд встает, если суд — подходящее слово. Джо поднимается с места. Она вышивала, вернее, наоборот, спарывала гранаты с Екатерининой вышивки — остатков пыльного королевства Гранады на английской земле. Джо складывает работу, опускает ножницы в карман, поддергивает рукава и вдевает иголку в ткань. Затем подходит к пророчице и кладет руку ей на плечо. — Пора прощаться. — Уильям Хокхерст, — говорит блаженная, — вспомнила. Монах, который золотил буквы. Ричард Рич делает пометку. — Пожалуй, хватит на сегодня, — советует Джо. — Вы пойдете со мной, мистрис? Куда меня поведут? — Никто с тобой не пойдет, — отвечает Джо. — Ты еще не поняла, сестра Элиза. Ты отправляешься в Тауэр, а я — домой, обедать.
Лето 1533 года запомнилось безоблачными днями, клубничным изобилием в лондонских садах, гудением пчел и теплыми вечерами — в самый раз для прогулок среди роз под крики молодых уличных бражников. Пшеница уродилась даже на севере, деревья сгибаются под тяжестью перезрелых плодов. Словно король повелел жаре не кончаться, двор пылает яркими красками, не замечая наступления осени. Монсеньор отец королевы сияет, как солнце, а вокруг него вращается мелкая, но не менее яркая полуденная планета, его сын Джордж Рочфорд. Однако никому не перетанцевать Брэндона, когда тот скачет по залу, волоча за собой четырнадцатилетнюю жену, наследницу, некогда обрученную с его сыном, которой многоопытный Чарльз нашел лучшее применение. Сеймуры оставили бурные семейные ссоры, их влияние растет. — Мой брат Эдвард, — говорит Джейн Сеймур, не поднимая глаз, — на прошлой неделе улыбнулся. — Надо же! Что его подвигло? — Он прослышал о болезни жены. Старой жены. Той, которую отец… ну, вы знаете. — Она умрет? — Весьма вероятно. И тогда он возьмет новую. Но держать ее будет в своем доме в Элвтеме, теперь он и на милю не подойдет к Волчьему залу. А если отцу случится гостить у брата, ее запрут в бельевой, пока он не уедет. Сестра Джейн Лиззи тоже при дворе, с мужем, губернатором Джерси, который приходится родственником новой королеве. Лиззи в кружевах и бархате, черты лица столь же строги и четки, сколь расплывчаты и нерезки черты ее сестры; взгляд светло-карих глаз дерзок и выразителен. Джейн шепчет ей вслед: глаза у нее словно вода, в которой мысли скользят стремительными золотыми рыбками, такими крохотными, что их не поймать ни сетью, ни багром. Джейн Рочфорд, которой явно нечем себя занять, замечает, как Кромвель разглядывает сестер. — У Лиззи Сеймур наверняка есть любовник, — говорит она, — невозможно поверить, что этот огонь зажег ее муж. Он был стар еще во времена шотландских войн. Сестры похожи, замечает она, та же манера наклонять голову и поджимать губы. — Если б не это, — ухмыляется Джейн Рочфорд, — я решила бы, что их мать не уступала своему мужу. В свое время она славилась красотой, Марджери Вентворт. Никто не знает, что там случилось, в Уилтшире. — Даже вы? Я удивлен, леди Рочфорд. Кажется, вам ведомы все тайны. — Вы и я, мы держим глаза открытыми. — Она опускает голову, словно адресуя слова своему телу. — Если пожелаете, я буду держать их открытыми там, куда вам нет доступа. Господи, чего она хочет? Уж не денег ли? — С чего вдруг? — спрашивает, холоднее, чем намеревался. Она поднимает глаза и смотрит в упор. — Мне нужна ваша дружба. — Она не требует никаких условий. — Я могла бы вам помочь. Вашу союзницу леди Кэри отослали в Хивер, к дочери. Она не нужна, раз Анна вернулась к своим обязанностям в супружеской спальне. Бедняжка Мария! — Она смеется. — Господь отмерил ей немало, но она никогда не умела этим пользоваться. Скажите, что вы станете делать, если королева больше не родит? — Пустые страхи. Ее мать производила на свет по младенцу в год. Болейн жаловался, что она его разорит. — Вы замечали, когда у мужчины рождает сын, он приписывает все заслуги себе, а когда дочь — во всем виновата жена? А если они не производят потомства, говорят, что жена бесплодна. Почему бы не предположить, что его семя испорчено? — То же и в Писании. Всегда винят каменистую землю. Каменистая земля, заросшая тернием бесплодная пустыня. После семи лет брака Джейн Рочфорд по-прежнему бездетна. — Мой муж хочет моей смерти, — говорит она беспечно. Он не находит слов для ответа, просто не готов к ее откровениям. — Если я умру, — говорит она все так же беззаботно, — прошу вас как друга, распорядитесь, чтобы мое тело вскрыли. Я боюсь яда. Мой муж и его сестра часами сидят взаперти, а уж она-то разбирается в ядах. Анна хвастала, что угостит Марию завтраком, от которого та не оправится. Он ждет. — Я про Марию, дочь короля. Хотя я не сомневаюсь, Анна, не колеблясь, расправится и с собственной сестрой. Она снова поднимает на него глаза. — Не обманывайте свое сердце, если вы честны с самим собой, вы не откажетесь узнать то, что знаю я. Она одинока, думает он, и у нее звериное сердце; Леонтина в клетке. Она принимает на свой счет все косые взгляды и перешептывания. Джейн Рочфорд боится, что женщины вокруг ее жалеют — больше всего на свете она ненавидит чужую жалость. — Что вы знаете о моем сердце? — спрашивает он. — Я знаю, кому вы его отдали. — Тогда вам известно больше, чем мне. — Мужчинам это свойственно. Я скажу вам, в кого вы влюблены. Почему вы не попросите ее руки? Сеймуры небогаты. Они с радостью уступят вам Джейн по сходной цене. — Вы заблуждаетесь, я стараюсь не для себя. У меня в доме хватает юных неженатых джентльменов и воспитанников, о чьем будущем я пекусь. — Ой-ой-ой, вот как вы запели! — дразнит она. — Скажите это кому-нибудь другому. Младенцам в колыбели. Или в палате общин, где вам не впервой врать. Но не думайте, что проведете меня. — Для леди, предлагающей свою дружбу, у вас грубоватые манеры. — Привыкайте, если нуждаетесь в моих сведениях. Зайдите в покои Анны, и что вы увидите? Королева молится. Королева в платье, усыпанном жемчужинами размером с горошину, шьет сорочку для нищенки. Он с трудом удерживается от улыбки. Портрет весьма точен. Анна очаровала Кранмера. Архиепископ считает ее образцом праведной женщины. — Так вас интересует, как обстоят дела на самом деле? Думаете, она перестала любезничать с шустрыми юнцами? Все эти воспевающие ее прелести стишки, загадки и песенки, думаете, она их не поощряет? — Для этого у нее есть король. — Анна не дождется от короля доброго слова, пока ее живот снова не округлится. — Но что может этому помешать? — Ничего. Если он займется своим делом. — Осторожнее, — улыбается он. — Разве обсуждать то, что творится в спальнях правителей, — страшная измена? Вся Европа судачила о Екатерине, лишили ее невинности или нет, а если да, то знает ли она об этом. — Джейн хихикает. — По ночам Гарри беспокоит нога. Он боится, что королева лягнет его в порыве страсти. — Она подносит руку к губам, но слова просачиваются между пальцами. — Однако если Анна лежит под ним тихо, он недоволен: так-то вы, мадам, заботитесь о продолжении моего рода? — Не знаю, что ей и делать. — Она жалуется, что он ее не удовлетворяет. А король, после семилетней борьбы, боится признать, что охладел так скоро. Он выдохся еще до того, как они покинули Кале, вот что я вам скажу. Что ж, похоже на правду; возможно, ожидание обессилило их. Однако король продолжает осыпать королеву подарками. Да и ссорятся они по-прежнему горячо, трудно поверить, что их страсть охладела. — Поэтому, — продолжает она, — учитывая его больную ногу и ее привычку лягаться, недостаток усердия с его стороны и желания — с ее, вероятность того, что вскорости она произведет на свет принца Уэльского, крайне мала. Раньше он менял женщин как перчатки. Если его тянет на новизну, так ли она безгрешна? К ее услугам собственный брат. Он смотрит на нее. — Помилуй Бог, что вы такое говорите, леди Рочфорд? — Чтобы переманивать на ее сторону его друзей, а вы что подумали? — Она испускает хриплый смешок. — Вы-то сами что имели в виду? Вы давно при дворе, вам не внове эти игры. Никого не заботит, что женщина принимает стихи и комплименты, даже если она замужем. Ей прекрасно известно, что тем временем ее супруг расточает любезности другим дамам. — О да, ей это известно. А уж мне и подавно. На расстоянии в тридцать миль не осталось ни одной прелестницы, которой Рочфорд не посвятил свои вирши. Однако если вы считаете, что ухаживания прекращаются на пороге спальни, вы наивнее, чем я думала. Можете сколько угодно сходить с ума по дочери Сеймура, но незачем подражать ей в овечьей бестолковости. Он улыбается. — На овец клевещут. Пастухи утверждают, что овцы узнают друг друга, отзываются на имена, заводят друзей. — А знаете, кто имеет доступ во все спальни? Этот мелкий проныра Марк, этот всеобщий посредник! Мой муж расплачивается с ним перламутровыми пуговицами, цукатами и перьями для шляпы. — Неужто у лорда Рочфорда не хватает денег? — А вы знаете способ увеличить их количество? — Почему бы нет? — Что ж, думает он, по крайней мере, в одном мы совпали — в беспричинной неприязни к Марку. В доме Вулси у него были обязанности: Марк учил детей-хористов. Здесь просто живет при дворе, болтается поблизости от покоев королевы. — По-моему, он безобиден. — Он торчит, как бельмо на глазу. Забыл свое место. Выскочка без роду и племени, который выбился в люди, пользуясь смутными временами. — То же самое вы можете сказать и обо мне, леди Рочфорд. Да вы и говорите.
Томас Уайетт приезжает в Остин-фрайарз на телеге, привозит корзины лесного ореха, бушели кентских яблок. — Дичь прибудет следом, — говорит Уайетт, спрыгивая на землю. — Я вез свежие плоды, не туши. Волосы пропахли яблоками, одежда в пыли. — Сейчас вы устроите мне взбучку за то, что я чуть не испортил дублет, который стоит… — Больше, чем возчик зарабатывает за год. Уайетт виновато опускает глаза. — Я забыл, что вы — мой отец. — Я вас пристыдил, теперь можно и поболтать по-свойски. — Солнце палит. Кромвель тонким ножичком срезает с яблока кожуру, и она ложится на его бумаги, как тень яблока, зеленая на белых исписанных листах. — Вы там не видели леди Кэри? — Мария Болейн в деревне… Какие буколические радости сразу приходят на ум! Думаю, она предается любовным утехам на сеновале. — Я интересуюсь, куда за ней посылать, — говорит он, — когда ее сестра вновь не сможет выполнять супружеские обязанности. Уайетт садится между стопками бумаг. В руке яблоко. — Кромвель, допустим, вы уехали из Англии на семь лет. Или, как рыцарь в сказке, семь лет проспали зачарованным сном. Вы смотрите вокруг и дивитесь, кто все эти люди? Нынешнее лето Уайетт поклялся провести в Кенте. Читать и писать в дождливую погоду, охотиться в солнечную. Однако наступила осень, ночи удлинились, и несчастного вновь потянуло к Анне. Уайетт верит, что сердце его не обманывает, а если лукавит Анна, то трудно понять, в чем именно. Говоря с ней теперь, нельзя шутить. Смеяться. Надо признавать ее воплощением совершенства, иначе она найдет способ отомстить. — Мой старый отец рассказывает о временах Эдуарда, говорит, теперь-то вы понимаете, почему королю не след жениться на своей подданной, на англичанке. Беда в том, что несмотря на все перемены, произведенные Анной при дворе, там остались люди, знавшие ее прежде, когда она только приехала из Франции и принялась обольщать Гарри Перси. Они вечно твердят о ее недостоинстве. О том, что она не человек, а змея. Или лебедь. Una Candida cerva. Одна-единственная белая лань в серебристо-зеленой чаще; она трепещет и ждет возлюбленного, который из лани превратит ее обратно в богиню. — Отправьте меня снова в Италию, — просит Уайетт. — Ее темные, жгучие, чуть раскосые глаза — они меня преследуют. По ночам она приходит в мою одинокую постель. — Одинокую? Что-то не верится. Уайетт смеется. — Вы правы. В этом я себе не отказываю. — Вы слишком много пьете. Разбавляйте воду вином. — А ведь могло быть совсем иначе. — Все могло быть совсем иначе. — Вы никогда не думаете о прошлом. — Я о нем не говорю. Уайетт просит: — Отправьте меня куда-нибудь. — Отправлю. Когда королю понадобится посол. — Правда ли, что Медичи сватают принцессу Марию? — Не принцессу Марию. Вы хотели сказать, леди Марию. Я просил короля подумать об этом предложении. Однако они для него недостаточно знатны. Знаете, если бы Грегори выказал хоть какой-нибудь интерес к банковскому делу, я бы нашел ему невесту во Флоренции. Приятно было бы видеть в доме итальянку. — Отправьте меня туда. Придумайте дело, в котором я был бы полезен вам или королю, а то тут я сам себе хуже чем бесполезен и всех раздражаю. Кромвель говорит: — Клянусь иссохшими костями Бекета! Прекратите же себя жалеть! У Норфолка свое мнение о друзьях королевы. Выражая его, герцог весь трясется, позвякивая образками; кустистые брови лезут на лоб. Уж эти мне дамские угодники! Норрис, вот уж от кого не ждал. И сынок Генри Уайетта. Пишет стишки! Распевает песенки! Трещит, как сорока! — Какой прок разговаривать с женщинами? — вопрошает герцог. — Кромвель, вы ведь с ними не разговариваете? О чем с ними говорить? Ведь и не придумаешь! Я побеседую с Норфолком, решает он, как только тот вернется из Франции, посоветую предостеречь Анну. Франциск принимает папу в Марселе, и Генриха должен представлять старший из английских пэров. Гардинер уже там. Для меня каждый день праздник, говорит он Тому Уайетту, пока этих двоих тут нет. Уайетт все о своем: — Мне кажется, у короля новое увлечение. На следующий день Кромвель следит за тем, как Генрих обводит взглядом придворных дам, и не замечает ничего, кроме естественного мужского интереса; только Кранмер считает, что, посмотрев на женщину дважды, ты обязан на ней жениться. Король танцует с Лиззи Сеймур, задерживает руку на ее талии. Анна наблюдает холодно, поджав губы. На следующий день он ссужает Эдварду Сеймуру деньги на очень выгодных условиях.
Сырым осенним утром, в предрассветных сумерках, все его домочадцы отправляются в насквозь вымокший лес. Нельзя приготовить torta di funghi, грибной пирог, не собрав ингредиентов. Ричард Рич приходит в восемь — с лицом озадаченным и обиженным. — Меня остановили у ваших ворот, сэр, и спросили, где грибы, сегодня никто не входит сюда без грибов. — Гордость Рича уязвлена. — Вряд ли у лорда-канцлера потребовали бы грибы. — Потребовали бы, Ричард. Однако через час вы будете есть их запеченными в сметане, а лорд-канцлер — нет. Ну что, приступим к делам? Весь сентябрь он одного за другим арестовывал священников и монахов, близких к блаженной. Они с сэром Кошелем сидят за бумагами, проводят допросы. Клирики, угодив под замок, тут же отрекаются от Бартон, наговаривают друг на друга: я никогда в нее не верил, меня убедил отец такой-то, а сам я ни сном ни духом. Что до связей с женой Эксетера, с Екатериной, с Марией — каждый торопится доказать свою непричастность и обвинить брата во Христе. Люди из окружения Бартон постоянно виделись и переписывались к Эксетерами. Сама блаженная побывала во многих главных монастырях королевства — в Сионском аббатстве, у картезианцев в Шине, у францисканцев в Ричмонде. Он знает об этих визитах от своих людей. В каждом монастыре среди монахов есть недовольные; он выбирает из них тех, кто поумнее, и они доносят ему обо всем. Сама Екатерина с монахиней не встречалась. Да и зачем? У нее есть посредники — Фишер и Гертруда, жена лорда Эксетера. Король говорит: — Не могу поверить, что Генри Куртенэ мне изменил. Рыцарь ордена Подвязки, великолепный боец на турнирах, друг детства. Вулси хотел нас рассорить, но я не поддался. — Король смеется. — Брэндон, помните Гринвич, Рождество… какой это был год? Когда мы кидались снежками. Как же тяжело вести дела с людьми, которые поминутно вспоминают древние родословные, детскую дружбу, события тех времен, когда ты еще торговал шерстью на антверпенской бирже. Суешь им под нос свидетельства, а они роняют умильную слезу: ах, как мы тогда играли в снежки! — Послушайте, — говорит Генрих, — виновата только жена Куртенэ. Едва он обо всем узнает — захочет от нее избавиться. Она слаба и переменчива, как все женщины, не может удержаться от интриг. — Так простите ее, — говорит Кромвель. — Даруйте ей помилование. Пусть эти люди будут вам обязаны — так они скорее избавятся от глупых чувств к Екатерине. — Думаете, что способны покупать сердца? — спрашивает Чарльз Брэндон. По тону ясно, что ответ «да» сильно огорчил бы герцога. Сердце такой же орган, как любой другой, его можно взвесить на весах. — Мы предлагаем не деньги. У меня довольно свидетельств, чтобы отправить под суд всех Эксетеров, всех Куртенэ. Если мы не станем этого делать, то подарим им свободу и земли. А также возможность смыть позор со своего имени. Генрих говорит: — Его дед оставил горбуна и перешел на сторону моего отца. — Если мы их простим, они сочтут, что нас можно морочить и дальше, — говорит Чарльз. — Вряд ли, милорд. Отныне я буду пристально следить за ними. — А Поли, лорд Монтегю, как вы предлагаете поступить с ним? — Не давать ему оснований думать, что его простят. — Пусть попотеет от страха? — спрашивает Чарльз. — Не очень-то мне по нраву ваше обхождение со знатью. — Эти люди получат, что заслужили, — говорит король. — Помолчите, милорд, мне надо подумать. Пауза. Брэндон хочет сказать: Кромвель, казните их за измену, но со всем уважением к знатности, однако не смеет произнести таких слов вслух. Внезапно лицо герцога проясняется. — О, я вспомнил Гринвич! Снега в тот год намело по колено. До чего же мы были молоды, Гарри! Теперь такого снега не бывает. Кромвель собирает бумаги и откланивается. Воспоминания грозят растянуться на весь вечер, а у него много дел. — Рейф, скачи в Вест-Хорсли. Скажи жене Эксетера, что король считает всех женщин слабыми и переменчивыми, хотя, по-моему, он видел достаточно свидетельств обратного. Пусть она сядет и напишет, что ума у нее не больше, чем у блохи. Что она невероятно легковерна даже для женщины. Пусть пресмыкается и лебезит. Посоветуй ей, какие выражения подобрать, ты сумеешь. Чем униженнее будет письмо, тем лучше. Самоуничижение витает в воздухе. Из Кале сообщают, что Франциск упал перед папой ниц и облобызал его туфлю. Генрих разражается непристойной бранью и рвет донесение в клочья. Кромвель собирает обрывки с пола, складывает их на столе и читает. — А Франциск, как ни странно, сдержал данное вам обещание, — говорит он королю. — Убедил папу отложить буллу об отлучении. Англия получила передышку. — Хоть бы папа Климент поскорее сдох, — вздыхает Генрих. — Видит Бог, он ведет беспутную жизнь, да и болеет постоянно, давно бы уже умер. Иногда, — продолжает король, — я молюсь о переходе Екатерины в вечную жизнь. Это дурно? — Щелкните пальцами, ваше величество, и сотня монахов сбежится объяснить вам, что дурно, а что нет. — Я предпочел бы услышать от вас. — Гнетущая, нервная тишина. — Если Климент умрет, кто станет следующим негодяем на этом месте? — Я бы поставил на Александра Фарнезе. — Правда? — Генрих выпрямляется в кресле. — Кто-то заключает пари? — Против Фарнезе ставят только самые отчаянные. За эти годы он так прикормил римскую толпу, что, когда придет время, она задаст кардиналам страху. — Напомните мне, сколько у него детей. — Я знаю о четырех. Король разглядывает шпалеру на ближайшей стене — белоплечая женщина идет босиком по ковру из весенних цветов. — У меня скоро может быть еще ребенок. — Королева с вами говорила? — Пока нет. Однако Кромвель, как и все, видел румянец на щеках Анны, гладкость ее лица, слышал повелительные нотки в голосе, когда она оказывала благоволение и раздавала награды приближенным. В последнюю неделю благоволения больше, чем недовольства; супруга Стивена Воэна, камеристка, говорит, что у королевы не было в срок обычного женского. Король говорит: «У нее не было в срок…» — и осекается, покраснев, как школьник. Идет через всю комнату, раскрывает объятия и стискивает его, сияя, как звезда; массивные руки в сверкающих перстнях мнут черный бархат. — На сей раз наверняка. Англия наша! Боевой клич из самого сердца, как будто Генрих стоит на поле битвы средь окровавленных знамен, у ног лежат поверженные враги, а корона Англии, скатившаяся с головы узурпатора, валяется в терновом кусте. Кромвель с улыбкой высвобождается из королевских объятий, расправляет записку, которую смял, когда король сдавил его медвежьей хваткой, — разве ж это объятия, когда мужчины мутузят друг друга кулачищами, словно хотят повалить? — Томас, вас обнимать — все равно что причал. Из чего вы сделаны? — Король берет записку, охает. — И это все мы должны разобрать за сегодняшнее утро? Весь список? — Тут всего-то пятьдесят пунктов. Управимся быстро. До конца дня он не перестает улыбаться. Кому есть дело до Климента и его булл? С тем же успехом папа мог бы встать на Чипе, где народ забросает его грязью. Или под рождественскими гирляндами — которые мы в бесснежные зимы посыпаем мукой — и распевать: «Хей нонно-ной, фа-ля-ля, в роще зелено-о-ой».
Холодным днем в конце ноября блаженная и шестеро главных ее сторонников приносят покаяние у креста перед собором Святого Павла. Они стоят в кандалах, босые, на пронизывающем ветру. Толпа большая и шумная, проповедь увлекательная: толпе рассказывают, что блаженная вытворяла по ночам, пока ее сестры спали, и какими сказками про бесов запугивала легковерных. Зачитывают признание Бартон, в конце которого она просит лондонцев молиться о ней и взывает к королевскому милосердию. Никто бы не узнал в Бартон ту цветущую девицу, которую они видели в Ламбете. Она исхудала и постарела на десять лет. Ее не мучили — он бы не позволил пытать женщину, да и вообще признаний ни из кого выбивать не пришлось. Скорее наоборот — стоило большого труда остановить арестованных, дабы те своими измышлениями не втянули в эту историю пол-Англии, запутав и осложнив дело. Священника, который постоянно лгал, Кромвель просто запер водной камере с доносчиком, человеком, задержанным за убийство. Отец Рич тут же принялся спасать его душу, пересказывать пророчества блаженной и для вящего впечатления сыпать именами своих высокопоставленных знакомых. Жаль их всех, на самом деле. Однако надо было показать лжепровидицу народу; теперь он повезет ее в Кентербери, чтобы сестра Элизабет покаялась у себя на родине. Надо ослабить влияние людей, которые запугивают нас наступлением последних времен, моровыми поветриями и проклятиями. Надо прогнать посеянный ими страх. Томас Мор здесь, протискивается к нему через толпу горожан. Проповедник как раз покидает кафедру, арестантов уводят с помоста. Мор трет замерзшие руки, дует на них. — Преступление Бартон в том, что ее использовали. Он думает, почему Алиса отпустила вас без перчаток? — При всех свидетельствах, которые у меня есть, — говорит Кромвель, — я все равно не пойму, как она проделала путь от болот до публичного эшафота у собора Святого Павла. Ибо совершенно точно она нисколько на этом не нажилась. — Как вы сформулируете обвинения? — спрашивает Мор с бесстрастным любопытством, как юрист юриста. — Общее право не занимается женщинами, которые утверждают, будто могут летать или воскрешать мертвых. Я проведу через парламент акт о государственной измене. Смертная казнь для главных участников. Для сообщников — пожизненное тюремное заключение, конфискация имущества, штрафы. Король, думаю, будет умерен. Даже милостив. Для меня важнее не наказать этих людей, а расстроить их планы. Мне не нужен суд с десятками обвиняемых и сотнями свидетелей, который растянется на годы. Мор хочет что-то сказать, но мнется. — Бросьте, — говорит Кромвель, — вы в бытность лордом-канцлером сделали бы то же самое. — Возможно. По крайней мере, я чист. — Пауза. Мор говорит: — Томас. Во имя Христа, вы знаете, что это так. — По крайней мере, пока так считает король. Надо постараться, чтобы королевская память не ослабела. Возможно, вам стоит написать ему письмо, осведомиться о здоровье принцессы Елизаветы. — Это я могу сделать. — Ясно дав понять, что вы признаете ее права и титулы. — Никаких затруднений. Брак заключен и должен быть признан. — Не сможете заставить себя вознести хвалы супруге короля? — Зачем королю нужно, чтобы кто-то другой хвалил его жену? — Допустим, вы напишете открытое письмо. Скажете, что наконец прозрели и теперь признаете естественное верховенство короля над церковью. — Он смотрит на арестантов — их сажают на телеги. — Сейчас повезут в Тауэр. — Пауза. — Вам не стоит мерзнуть. Идемте ко мне, отобедаем. — Нет, — качает головой Мор, — лучше уж я позволю ветру трепать меня на реке и вернусь домой голодным. Если бы вы вложили в мои уста только пищу — но вы же вложите в них еще и слова. Он смотрит, как Мор исчезает в толпе расходящихся по домам олдерменов, и думает: Мор не откажется от своей позиции. Не позволят гордость и боязнь упасть в глазах европейских ученых. Нужно придумать для него какой-нибудь выход, не связанный с унижением. Небо расчистилось и сияет безупречной лазурью. Лондонские сады пестрят ягодами. Впереди суровая зима, однако он ощущает в себе силу пробиться, как росток пробивается из мертвого древесного ствола. Слово Божье распространяется, все больше людей видят новую истину. Подобно Хелен Барр, они знали про Ноя и потоп, но не слышали про апостола Павла. Могли перечислить скорби Пресвятой Богородицы и затвердили, что грешники попадут в ад. Однако им оставались неведомы многие чудеса и речения Христа, слова и деяния апостолов, простых людей, которые, подобно лондонской бедноте, занимались немудреным ремеслом, не требующим слов. Евангельская истина куда больше, чем им представлялось. Он говорит своему племяннику Ричарду, нельзя рассказать часть и на этом остановиться или выбрать отрывки по своему усмотрению. Люди видели свою религию нарисованной на стенах церквей или вырезанной из камня, а теперь Божье перо очинено, и Он готов начертать Свои слова в книге их сердец. Однако на тех же лондонских улицах Шапюи усмотрел недовольство и убежден, что город готов открыть свои ворота императору. Кромвель не видел разграбление Рима, но оно иногда ему снится: черные внутренности на древних мостовых, умирающие в фонтанах, колокольный трезвон в болотном тумане, отблески факелов на стенах — предвестье поджогов. Рим пал, и все вместе с ним; не захватчики, а папа Юлий разрушил древнюю базилику Святого Петра, простоявшую тысячу двести лет на том самом месте, где император Константин собственными руками проложил первую канаву, двенадцать мер земли, по одной в память каждого из апостолов; на том самом месте, где псы рвали христиан, зашитых в шкуры диких зверей. На двадцать пять футов приказал углубиться Юлий, чтобы заложить основание своего нового собора, сквозь двенадцать столетий рыбьих костей и пепла; землекопы разбивали кирками черепа святых. Там, где приняли смерть святые, теперь стоят призрачно-белые глыбы мрамора: дожидаются Микеланджело. Священник несет гостию, без сомнения, какому-то умирающему лондонцу; прохожие снимают шапки и встают на колени, но из окна в верхнем этаже высовывается мальчишка и кричит: «Покажи нам твоего воскресшего Христа! Покажи нам твоего чертика из табакерки!» Кромвель поднимает голову и до того, как окно захлопывается, успевает различить ярость на мальчишеском лице. Он говорит Кранмеру, людям нужна хорошая власть, такая, которой не стыдно подчиняться. Столетиями Рим заставлял их верить в то, во что могут верить лишь дети. Уж конечно они признают, что естественнее подчиняться английскому королю, действующему согласно воле Бога и парламента. Через два дня после встречи с продрогшим Мором Кромвель отправляет леди Эксетер королевское прощение. Оно сопровождается едкими словами короля, адресованными ее мужу. День Святой Екатерины; в память о той, кому угрожали мученичеством на колесе, мы все идем по кругу к нашему предназначению. По крайней мере, в теории. На деле он никогда не видел, как кто-нибудь старше двенадцати лет ходил в этот день кругами. Нерастраченная мощь отдается в костях, как дрожь сжатого в руке топорища. Можешь рубануть, а можешь удержаться, и тогда по-прежнему ощущаешь в себе отголосок несделанного.
На следующий день, в Хэмптон-корте, сын короля герцог Ричмондский женится на дочери Норфолка Мэри. Анна устроила этот брак, чтобы еще больше возвысить Говардов, а также чтобы Генрих не женил своего бастарда на какой-нибудь заморской принцессе. Она убедила короля отказаться от богатого приданого, которого тот вправе был ожидать, и теперь, празднуя свой успех, присоединяется к танцам: узкое лицо сияет, в волосы вплетены алмазные подвески. Генрих не может оторвать от нее глаз, и он, Кромвель, тоже. Остальные взгляды привлекает к себе Ричмонд, который резвится, как жеребенок: крутится, подпрыгивает, скачет, выступает чинно, демонстрируя богатство свадебного наряда. Гляньте на него, говорят пожилые дамы, и увидите, каким был в юности Генрих: тот же румянец, та же нежная, как у девушки, кожа. — Мастер Кромвель, — настаивает Ричмонд, — скажите моему отцу королю, что я хочу жить с женой. Он велит мне возвращаться к себе, а Мэри оставляет при королеве. — Король заботится о вашем здоровье, милорд. — Мне почти пятнадцать. — До вашего дня рождения еще полгода. Блаженная улыбка на лице юноши сменяется каменным выражением. — Полгода ничего не значат. В пятнадцать лет мужчина уже все может. — Да уж, — замечает стоящая рядом леди Рочфорд. — Король твой отец представил в суде свидетелей, которые сообщили, что его брат в пятнадцать очень даже мог, и не один раз за ночь. — Кроме того, следует подумать и о здоровье вашей супруги. — Жена Брэндона моложе моей, а он с нею спит. — Всякий раз, как ее видит, — добавляет леди Рочфорд. — Я сужу по ее несчастному лицу. Ричмонд готовится к долгому спору, возводит вокруг себя земляные валы прецедентов. — А разве моя прабабка, леди Маргарита Бофорт, не родила в тринадцать лет принца, который стал Генрихом Тюдором? Босворт, изорванные штандарты, кровавое поле; запятнанная родильная простыня. Никого бы из нас не было, думает Кромвель, если бы не это потаенное: отдайся мне, милая. — Насколько я знаю, это не улучшило ни ее здоровье, ни ее нрав. И детей у нее больше не было. — Внезапно он чувствует, что не в силах продолжать спор, и говорит устало, не допускающим возражений тоном: — Проявите благоразумие, милорд. Попробовав первый раз, вы в следующие года три будете хотеть только этого. Так всегда бывает. А у вашего отца на вас другие планы. Возможно, он отправит вас правителем в Дублин. Джейн Рочфорд говорит: — Не печалься, мой ягненочек. Все поправимо. Мужчина и женщина всегда могут сойтись, было бы желание с ее стороны. — Позволите сказать вам по-дружески, леди Рочфорд? Вмешиваясь в это дело, вы рискуете навлечь неудовольствие короля. — Пустяки, — беспечно отвечает она, — красивой женщине Генрих все простит. А желание молодых вполне естественно. Мальчик говорит: — Почему я должен жить как монах? — Как монах? Да они блудливее козлов! Спросите мастера Кромвеля. — Я подозреваю, — говорит Ричмонд, — что нашего соединения не желает королева. Она не хочет, чтобы внук у короля появился раньше сына. — Ты разве не знаешь? — Джейн Рочфорд поворачивается к юноше. — Не слышал, что Ла Ана enceinte?[91] Так называет Анну Шапюи. На лице мальчика неприкрытое отчаяние. Джейн говорит: — Боюсь, милый мой, к лету ты утратишь свое положение. Как только у короля родится законный сын, тебе позволят сношаться, сколько душе угодно. Ты никогда не будешь править, а твои дети не станут наследниками. Нечасто увидишь, как надежды королевского сына гасят, словно свечу, так же быстро и тем же умелым движением, отточенным многолетней привычкой. Джейн даже пальцев не облизнула. Ричмонд говорит убитым голосом: — Может снова родиться девочка. — Надеяться на это — почти измена, — замечает леди Рочфорд. — А даже если и так, она родит третьего ребенка и четвертого. Я думала, она больше не зачнет, но я ошиблась, мастер Кромвель. Она доказала свою плодовитость.
Кранмер в Кентербери, идет босиком по песчаной дорожке, чтобы торжественно взойти на свою кафедру. Сразу после церемонии интронизированный примас наводит порядок в аббатстве Христа, члены которого горячо поддержали лжепророчицу. Долгое это дело — говорить с монахами, разобраться с каждым по отдельности. Роуланд Ли приезжает, чтобы его ускорить. Грегори с Роуландом, а Кромвель сидит в Лондоне, читает письмо от сына, не длиннее и не содержательнее школьных: «На сем, за недостатком времени, заканчиваю…» Он пишет Кранмеру, будьте милосердны к здешним монахам, они всего лишь подпали под дурное влияние. Пощадите того, кто золотил письмо от Магдалины. Пусть сделают королю денежный подарок, трехсот фунтов будет довольно. Вычистите аббатство Христа и всю епархию; Уорхем был архиепископом тридцать лет и везде насадил родственников, его незаконный сын — архидьякон, пройдитесь по ним новой метлой. Выпишите людей из ваших родных краев, унылых клириков, рожденных под трезвыми небесами. Что-то такое у него под ногой, не хочется думать, что. Он отодвигает стул: это полу-обглоданная мышка, подарок от Марлинспайка. Он нагибается за ней и вспоминает сэра Генри Уайетта в темнице. Пышно разодетого Вулси в Кардинальском колледже. Бросает мышку в огонь. Трупик шипит и съеживается, кости вспыхивают с негромким глухим хлопком. Он берет перо и пишет Кранмеру: вышвырнитеиз епархии оксфордцев, замените их знакомыми нам кембриджцами. Пишет сыну: приезжай домой, проведем вместе Новый год.
Декабрь. Угловатая, как льдышка, в голубых отсветах заснеженного двора за открытой дверью, Маргарет Пол выглядит так, будто сошла с церковного витража; платье поблескивает осколками стекла, хотя на самом деле это алмазы. Он вынудил ее, графиню, явиться к нему домой, и теперь она с плантагенетовским высокомерием смотрит на него из-под тяжелых век. Короткое приветствие обдает его холодом. «Кромвель». Больше ничего. Маргарет Пол переходит к делу: — Принцесса Мария. Почему она должна покинуть эссекское поместье? — Оно нужно милорду Рочфорду. Там большие охотничьи угодья. Мария присоединится к свите своей августейшей сестры в Хэтфилде. Собственные фрейлины ей там не понадобятся. — Я готова оставаться при ней за свой счет. Вы не можете мне запретить. А вот и могу. — Я всего лишь исполняю волю короля, и вы, полагаю, не меньше меня желаете ей следовать. — Это воля его любовницы. Мы с принцессой не верим, что такова воля самого короля. — Постарайтесь поверить, мадам. Леди Маргарет смотрит на него сверху вниз, с высоты своего пьедестала: она дочь Кларенса, племянница старого короля Эдуарда. В ее времена люди его звания, говоря с такими, как она, преклоняли колени. — Я была в свите Екатерины со дня их свадьбы. Принцессе я вторая мать. — Кровь Христова, мадам, вы считаете, ей нужна вторая мать? Ее и одна-то в гроб вгонит. Они смотрят друг на друга через пропасть. — Леди Маргарет, если позволите дать вам совет… лояльность вашей семьи под сомнением. — Так утверждаете вы. За это вы и разлучаете меня с Марией — в наказание. Будь у вас свидетельства, вы отправили бы меня в Тауэр вместе с Элизабет Бартон. — Это противоречило бы желанию короля, который очень вас чтит, мадам. Вашу родословную, ваш преклонный возраст. — У него нет свидетельств. — В июне прошлого года, сразу после коронации королевы, ваш сын лорд Монтегю и ваш Джеффри Пол обедали следи Марией. Всего через две недели Монтегю обедал с ней снова. И что же они обсуждали? — Это вопрос? — Нет, — с улыбкой отвечает он. — Мальчик, который подавал спаржу, у меня на жаловании. И мальчик, который резал абрикосы, тоже. Они говорили об императоре, о том, как убедить его вторгнуться в Англию. Как видите, леди Маргарет, ваши близкие многим обязаны моему долготерпению. Надеюсь, в будущем они отплатят королю верностью. Он не говорит: я хочу использовать ваших сыновей против их неуемного братца в Генуе. Не говорит: ваш сын Джеффри тоже у меня на жаловании. Джеффри Пол подвержен страстям и переменчив, неизвестно, чего от него ждать. В этом году Кромвель заплатил ему сорок фунтов, рассчитывая на его верность Кромвелю. Графиня кривит губы. — Принцесса не покинет свой дом безропотно. — Милорд Норфолк намерен съездить в Болье и побеседовать с ней. Разумеется, она может выказать герцогу свое несогласие. Он посоветовал Генриху не ущемлять Марию ни в чем, не лишать нынешнего статуса. Не давать ее кузену императору повода к войне. Генрих вспылил. — Вы сами пойдете к королеве и скажете, что Марию надо оставить принцессой? Потому что, мастер Кромвель, я не пойду. А если королева придет в ярость и у нее от волнения случится выкидыш, виноваты будете вы. И не ждите от меня милосердия! Выйдя от короля, он прислоняется к стене, закатывает глаза и говорит Рейфу: — Силы небесные, немудрено, что кардинал состарился до срока. Теперь король считает, что она может выкинуть от злости. На прошлой неделе я был его соратником, на этой он угрожает мне расправой. Рейф говорит: — Хорошо, что вы не такой, как кардинал. И впрямь: кардинал ждал от своего государя благодарности и обижался, когда ее не получал. При всех своих дарованиях Вулси оставался пленником чувств, они-то и подтачивали его силы. Он, Кромвель, больше не подвластен переменам настроений, поэтому почти никогда не устает. Препятствия можно устранить, недовольство — утишить, узлы — распутать. Сейчас, на исходе 1533 года, его дух тверд, воля крепка, оборона несокрушима. Придворные видят, что он в силах направлять события. Он способен рассеять чужие страхи, дать людям ощущение устойчивости в этом зыбком мире: веру в этот народ, в эту династию, в этот жалкий дождливый остров на краю света. Под конец дня он для отдыха просматривает реестр Екатерининых земель и решает, что можно перераспределить. Сэр Николас Кэрью, не любящий его и не любящий Анну, неожиданно для себя получает новые поместья, в том числе два по соседству со своими суррейскими владениями, и тут же просит встречи, чтобы выразить благодарность. С такими просьбами теперь обращаются к Ричарду, который следит за расписанием Кромвеля, и тот отвечает: «Только через послепослезавтра». Как говаривал кардинал, хочешь, чтобы люди тебя уважали, заставь их ждать. Кэрью входит с тщательно подготовленным лицом. Холодный, самодовольный, царедворец до мозга костей, уголки губ чуточку приподняты. Итог — девичья усмешка, несообразная с пышной бородой. — О, я убежден, что подарок вполне заслужен, — отмахивается Кромвель от благодарностей. — Король знает вас с детства, а вознаграждать старых друзей для его величества — всегда радость. Ваша супруга, насколько я знаю, близка к леди Марии? Я не ошибся? Тогда пусть, — продолжает он мягко, — даст ей добрый совет: повиноваться королю. Его величество в последнее время раздражителен, и я не могу отвечать за последствия непокорства. Второзаконие учит нас, что дары ослепляют глаза мудрых. Кэрью, по убеждению Кромвеля, не так уж мудр, но принцип все равно действует: королевский друг если не ослеплен, то по меньшей мере ошеломлен такой щедростью. — Считайте это ранним рождественским подарком, — говорит Кромвель, придвигая Кэрью бумаги. В Остин-фрайарз расчищают кладовые и строят надежные хранилища. Праздновать будут в Степни. Ангельские крылья перевозят туда — он хочет сохранить их до времени, когда в доме вновь будет ребенок подходящего возраста. Он смотрит, как их выносят, трепещущие под саваном тонкого полотна, как грузят на телегу рождественскую звезду. — И как же с ней управляться, с этой жуткой машиной? — спрашивает Кристоф. Кромвель стягивает с одного из лучей полотняный чехол, показывает Кристофу позолоту. — Матерь Божия! — изумляется мальчик. — Это звезда, которая ведет в Вифлеем! А я думал — орудие пытки. Норфолк едет в Болье сказать Марии, что та должна перебраться в Хэтфилд и служить маленькой принцессе под началом королевиной тетки, леди Анны Шелтон. Последующий разговор герцог излагает в скорбном тоне. — Королевиной тетки? — переспрашивает Мария. — Королева только одна, и это моя мать. — Леди Мария… — начинает Норфолк. От этих слов бывшая принцесса разражается слезами, убегает к себе в комнату и запирается на щеколду. Суффолк едет в Бакден склонять Екатерину к новому переезду. Она слышала, будто ее хотят поселить в еще более гиблом месте, и говорит, что сырость ее убьет. Поэтому она тоже захлопывает дверь, задвигает щеколды и на трех языках велит Суффолку уходить. Я никуда не поеду, говорит Екатерина, разве что вы взломаете дверь, свяжете меня и увезете силой. На такое Чарльз пока не готов. Брэндон пишет в Лондон, просит указаний. В каждой строчке сквозит жалость к себе: неужто мне торчать на болотах в праздники, когда дома меня ждет четырнадцатилетняя жена? Письмо зачитывают в совете, и он, Кромвель, хохочет. Безудержное веселье увлекает его в новый год. По дорогам королевства бродит молодая женщина, рассказывает, что она — принцесса Мария и король выгнал ее из дома. Самозванку видели чуть ли не по всей стране — на севере, в Йорке и на востоке, в Линкольне. Простые люди кормят ее, принимают на ночлег, дают в дорогу денег. Он велел задержать эту женщину, но пока она неуловима. Непонятно, что с ней делать после ареста. Взвалить на себя бремя пророчества и плестись по зимним дорогам без всякой защиты — уже суровое наказание. Он воображает ее, крошечную бурую фигурку, бредущую к горизонту по размокшим пустым полям.
III Глаз художника
1534
Когда Ганс приносит в Остин-фрайарз готовый портрет, он пугается. Вспоминает, как Уолтер говорил: смотри в глаза, когда врешь. Взгляд медленно ползет вверх от нижнего края рамы. Перо, ножницы, бумаги, печать в мешочке и тяжелый том с золотым обрезом, переплетенный в зеленую кожу с золотым тиснением. Ганс сперва попросил его Библию, но счел ее слишком простой и затертой. Он обшарил дом в поисках книги побогаче и нашел-таки роскошный том на столе Томаса Авери — работу монаха Пачоли[92] о том, как вести счета, подаренную старыми друзьями-венецианцами. Он смотрит на руку, лежащую на столе, в кулаке зажата бумага. Странно разглядывать себя по частям, меру за мерой. Ганс сделал его кожу гладкой, как у куртизанки, но в движении, в этих сжатых пальцах — уверенность палача, хватающего кинжал. На пальце кардинальский перстень с бирюзой. Когда-то у него был свой перстень с бирюзой, подарок от Лиз на рождение Грегори. С камнем в форме сердца. Он поднимает глаза к лицу на портрете. Не намного привлекательнее, чем на пасхальных яйцах, которые расписывает Джо. Ганс поместил свою модель в замкнутое пространство, задвинув в глубину картины массивным столом. Пока Ганс рисовал, у Кромвеля было время поразмышлять, унестись мыслями в иную страну, но на картине его взгляд непроницаем. Он просил написать его в саду, однако Ганс заартачился: от каждого лишнего движения меня бросает в пот, стоит ли усложнять? На картине на нем зимняя одежда. Кажется, что под ней субстанция более плотная, чем у прочих людей, более сжатая, вроде доспехов. Он предвидит день, когда и вправду придется в них облачиться. Здесь и за границей (теперь не только в Йоркшире) хватает людей, готовых, не раздумывая, броситься на него с кинжалом. Впрочем, вряд ли кинжал дойдет до сердца. Надо же, из чего вы сделаны, удивлялся король. Он улыбается. Лицо на портрете хранит каменное выражение. — Хорошо. — Кромвель выходит в соседнюю комнату. — А теперь можете посмотреть. Они толпятся у картины, отпихивая друг друга. Короткое оценивающее молчание. Молчание длится. — Он сделал вас дороднее, чем вы есть, дядя, — говорит Алиса. — Кажется, он перестарался. — Как учит нас Леонардо, покатые поверхности лучше отражают удары ядер, — замечает Ричард. — Мне кажется, в жизни вы не такой, — произносит Хелен Барр. — Черты ваши, но выражение передано неверно. — Он приберегает его для мужчин, Хелен, — возражает Рейф. — Пришел императорский посол, впустить? — спрашивает Томас Авери. — Ему тут всегда рады. Вбегает Шапюи. С видом знатока становится перед картиной, отклоняется назад, подается вперед. На нем шелка, отороченные мехом куницы. — Господи ты боже мой, он похож на танцующую обезьянку! — прикрыв рот рукой, шепчет Джоанна. — Увы, боюсь, что нет, — говорит Эсташ. — Нет, нет и нет, на этот раз ваш протестантский художник сел в лужу. Вас невозможно представить одного, Кремюэль, вы всегда среди людей, изучаете лица, словно собираетесь их рисовать. Вы заставляете окружающих думать не «как он выглядит?», а «как выгляжу я?» — Шапюи отворачивается, делает оборот на месте, словно таким способом хочет поймать сходство. — Впрочем, взглянув на портрет, не всякий посмеет стать у вас на пути. И в этом смысле портрет удался. Когда Грегори возвращается из Кентербери, Кромвель ведет его посмотреть на картину, даже не дав снять плащ и смыть дорожную грязь; ему важно узнать мнение сына до того, как мальчик услышит суждения остальных домочадцев. — Твоя мать всегда говорила, что выбрала меня не за красоту. Когда привезли картину, я обнаружил, что заблуждался относительно своей внешности. Я привык думать о себе таком, каким вернулся из Италии, двадцать лет назад, еще до твоего рождения. Грегори стоит рядом, плечо к плечу, молча разглядывая портрет. Он ощущает, что сын выше него, — что ж, для этого не надо быть очень высоким. Мысленно отступает назад, оглядывая Грегори глазами живописца: юноша снежной кожей и светло-карими глазами, стройный ангел на фреске, испещренной пятнами сырости, в далеком городе на холме. Он воображает Грегори на пергаменте, пажом, скачущим через лес, черные кудри выбились из-под золотой повязки; тогда как юноши, окружающие его, молодежь Остин-фрайарз, жилисты, как боевые псы, их волосы вечно всклокочены, а глаза остры, как лезвия мечей. В Грегори есть все, думает он, что должно быть. Все, на что я мог надеяться: открытость, мягкость, сдержанность и рассудительность, с которой тот обдумывает свои слова, прежде чем высказаться. Он ощущает такую нежность к сыну, что готов разрыдаться. Затем поворачивается к картине: — Боюсь, Марк был прав. — Что за Марк? — Один глупый мальчишка, который всюду таскается за Джорджем Болейном, однажды сказал, что я похож на убийцу. — А то ты не знал! — удивляется Грегори.ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
I Супрематия
1534
В праздничные дни между Рождеством и Новым годом, когда весь двор веселится, а Чарльз Брэндон в болотах орет на запертую дверь, он перечитывает Марсилия Падуанского.[93] В лето 1324-е Марсилий написал сорок две пропозиции. Как только святки заканчиваются, он идет с некоторыми из этих пропозиций к королю. Одни королю известны, о других тот слышит впервые. Одни готов сейчас принять всей душой, про другие помнит, что их разоблачили как еретические. Утро ясное, жгуче-морозное, ветер с реки режет, как нож. Мы летим на всех парусах, не страшась волн. Марсилий учит, что Христос пришел в этот мир не правителем и не судьей, а подданным — подданным того государства, которое застал. Он не стремился к власти и не говорил, что апостолы должны повелевать людьми. Он не ставил никого из своих учеников над другими — если сомневаетесь, перечитайте стихи про Петра. Христос не назначал пап, не давал своим последователям права устанавливать законы и взимать подати — права, на которые претендуют нынешние церковники. Генрих замечает: — Кардинал мне об этом не говорил. — А вы бы сказали, будь вы кардиналом? Если Христос не наделил своих последователей земной властью, как можно утверждать, что нынешние государи получают ее от пап? На самом деле все пресвитеры — подданные, как установил Христос. Народом управляет монарх, он и постановляет, кто женат и кому можно жениться, кто законный ребенок, а кто — нет. Каким образом монарх получает власть? Ее дает ему законодательный орган, действующий в интересах граждан. Воля народа, выраженная через парламент, наделяет короля полномочиями. Когда он это излагает, Генрих настораживается, будто заслышал поступь народа, идущего вышвырнуть его из дворца. О нет, спешит успокоить Кромвель, Марсилий не признает законности за мятежниками. Граждане имеют право объединиться и низвергнуть деспота. Однако он, Генрих, не деспот, а монарх, правящий в согласии с законом. Генриху нравится, когда народ на улицах Лондона приветствует его криками, однако мудрый монарх не всегда самый популярный — это ему известно. Еще о пропозициях Марсилия. Христос не раздавал ученикам земли, монополии, должности и чины. Все это — в ведении мирской власти. Как может обладать собственностью человек, давший обет бедности? Как могут монахи быть землевладельцами? Король говорит: — Кромвель, при вашем умении считать… Смотрит вдаль, теребя серебряную обшивку манжеты. — Законодательный орган, — продолжает он, — должен заботиться о содержании священников и епископов, а прочие церковные богатства использовать на общественное благо. — Вот только как это богатство высвободить? — говорит Генрих. — Думаю, раки можно было бы вскрыть. — Король, усыпанный драгоценностями с головы до ног, думает в первую очередь и том богатстве, которое можно взвесить на весах. — Если бы нашлись смельчаки… Это очень характерно для Генриха: забегать вперед, причем не туда, куда ты ведешь. Он намеревался мягко направить короля к перераспределению собственности: восстановить древние права суверена, вернуть то, что принадлежит ему по старинному праву. Он еще вспомнит этот разговор, когда Генрих первым предложит взять зубило и выковырять у святых сапфировые глаза. Однако он готов следовать за мыслью короля. — Христос научил нас, что следует делать в его воспоминание. Он оставил нам хлеб и вино, тело и кровь. Что еще нужно? Нигде не сказано, что Он предписывал делать раки и торговать частицами мощей, ногтями и волосами или что Он учил молиться каменным изображениям. — Могли бы вы прикинуть… хотя… нет, вряд ли. — Генрих встает. — Что ж, день солнечный… Жаль сидеть в четырех стенах. Кромвель собирает бумаги. «Дальше я закончу сам». Генрих встает, облачается в охотничий джеркин на двойной простежке. Он думает: негоже нашему королю быть беднейшим в Европе. В Испанию и Португалию течет золото из Америки. А где наше богатство? Оглядитесь. По его прикидкам, церковники владеют третью Англии. Скоро Генрих спросит, как перевести ее под власть короны. Это как с ребенком: приносишь коробку, и он спрашивает, а что там? Потом ложится спать и забывает, а на следующий день снова спрашивает. Пока коробку не вскроют и подарки не достанут, ребенок не успокоится. Скоро открытие парламента. Кромвель говорит королю: ни один парламент в истории не трудился так, как я заставлю трудиться этот. Генрих отвечает: — Делайте все, что надо. Я вас поддержу. Это как услышать слова, которых ждал всю жизнь. Как услышать совершенную поэтическую строку на языке, который знал до рождения. Он уходит домой счастливый, но за углом его поджидает кардинал: пухлый, как подушка, в своем багровом облачении, на лице — мятежный задор. Вулси говорит: а вы знаете, что все ваши заслуги он припишет себе, а промахи свалит на вас? Когда фортуна вам изменит, вы ощутите ее удары — вы, не он. Он говорит, мой дорогой Вулси. (Теперь, когда кардинал отошел в мир иной, он обращается к нему не как к господину, а как к коллеге.) Мой дорогой Вулси, не совсем так. Когда Брэндон чуть копьем не выбил королю глаз, тот винил не Брэндона, а себя, что не опустил забрало. Кардинал говорит, вы думаете, это турнир? Думаете, тут есть уложения, правила, судьи, следящие, чтобы все было по чести? Однажды, когда вы будете застегивать доспехи, вы поднимете голову и увидите короля, мчащего во весь опор прямо на вас. Кардинал исчезает, хохотнув. Еще до первого заседания палаты общин его противники собираются обсудить тактику. Ему известно, что происходит на этих встречах. Слуги входят и выходят, метод, отработанный на Полях, действует безотказно. В доме хватает молодых людей, которые не считают зазорным надеть фартук и внести пудинг или кусок говядины. Нынче многие английские джентльмены просят его взять к себе своих сыновей, племянников, воспитанников, чтобы те освоили науку государственного управления, изящную секретарскую скоропись, навыки ведения зарубежной переписки, узнали, какие книги надо прочесть будущему придворному. Он со всей ответственностью берется за воспитание доверенных ему шумных юнцов: мягко забирает у них из рук кинжалы и перья, выясняет, что по-настоящему стоящего кроется за молодой спесью пятнадцати — двадцатилетних, что они ценят и за что готовы стоять до конца. Унижая и ломая человека, ничего о нем не узнаешь. Надо выспросить, что он умеет, что умеет он один во всем мире. Юнцы дивятся его расспросам и открывают душу. Похоже, никто с ними прежде не разговаривал. Отцы так уж точно. Первое дело — приставить этих буйных невежд к смиренным занятиям. Он учат псалмы. Учатся орудовать обвалочными и разделочными ножами и лишь потом, исключительно для самозащиты и не на формальном уроке, осваивают эсток — тот смертельный удар под ребра, простое движение запястья, которое гарантированно достигает цели. Кристоф предлагает себя в инструкторы. Эти мсье, говорит, известное дело, белоручки. То ли оленю голову отрезают, то ли крысе хвост, уж не знают, что отправить в подарок дражайшему папа. Только мы с вами, хозяин, да Ричард Кремюэль знаем, как спровадить ублюдка на тот свет, чтобы даже не вскрикнул. Еще до конца зимы некоторые из бедняков, томящихся у ворот, оказываются в доме. Уши и глаза у неграмотных не хуже, чем у знати, а быстро соображать можно и без университетской степени. Грумы и псари слышат то, что графы говорят не для посторонних. Мальчишка с дровами и мехами приходит на заре растопить камин и ловит выбалтываемые спросонок тайны. Как-то неожиданно солнечным, обманчиво-теплым днем в Остин-фрайарз приходит Зовите-меня-Ризли. Рявкает «доброе утро, сэр», бросает куртку, садится за стол и со скрипом придвигает табурет. Берет перо, разглядывает. «Ну, что у вас для меня?» Глаза блестят, кончики ушей порозовели. — Как я понимаю, вернулся Гардинер, — говорит Кромвель. — Откуда вы знаете? — Зовите-меня бросает перо, вскакивает и начинает расхаживать по комнате. — Ну почему он такой? Цепляется к каждому слову, сыплет вопросами, ответов не слышит. — В Кембридже вам это было по душе. — А, тогда, — бросает Ризли с глубоким презрением к себе юному. — Считалось, что это воспитывает в нас умение мыслить. Не знаю. — Мой сын Грегори говорит, университетская практика диспутов его утомляет. Он зовет ее практикой бесплодных споров. — Похоже, Грегори — не полный тупица. — Мне было бы приятно думать, что так. Зовите-меня заливается краской. — Я не хотел вас обидеть, сэр. Вы же знаете, Грегори не такой, как мы. Слишком хороший для этого жестокого мира. Но и таким, как Гардинер, тоже быть не обязательно. — Когда мы собирались у кардинала, мы предлагали планы, и каждый раз возникали споры. Однако мы доводили их до конца, а потом улучшали планы и проводили их в жизнь. В королевском совете не так. — А чего еще от них ждать? От Норфолка? От Чарльза Брэндона? Они спорят с вами, потому что вы — это вы. Они будут спорить, даже если согласны. Даже если знают, что вы правы. — Я так понимаю, Гардинер вам угрожал. — Сказал, что уничтожит меня. — Ризли стискивает руки. — Мне безразличны его слова. — Напрасно. Винчестер — влиятельный человек, и если он говорит, что уничтожит, значит, намерен это сделать. — Он обвинил меня в двурушничестве. Сказал, пока он был за границей, я должен был блюсти его интересы, а не ваши. — Как я понимаю, вы служите государственному секретарю, кто бы ни исполнял эту должность. А если… — долгая пауза, — если… Ризли, я делаю вам такое предложение. Если меня утвердят на этом посту, вы получите малую печать. — Я стану начальником канцелярии? Видно, как Зовите-меня в уме суммирует доходы. — А теперь идите к Гардинеру, принесите извинения, и пусть он предложит вам что-нибудь получше. Обезопасьте себя. Зовите-меня медлит в нерешительности, лицо встревоженное. — Беги, малыш! — Кромвель сует Ризли куртку. — Гардинер по-прежнему секретарь и еще может получить свои печати назад. Только передай ему, что он должен сам за ними сюда прийти. Зовите-меня смеется. Ошарашенно трет лоб, словно побывал в драке. Накидывает куртку. — Мы неисправимы, да? Голодные псы. Волки, которые грызутся над падалью. Львы, дерущиеся у тел христиан.Король приглашает его и Гардинера обсудить билль, который он намерен провести через парламент, чтобы закрепить трон за Анниными детьми. Королева с ними; он думает: многие придворные видятся со своими женами реже, чем король. Если Генрих на охоте, то и Анна на охоте. Если Генрих на верховой прогулке, то и Анна с ним. Все друзья короля — теперь и ее друзья. У нее привычка: читать, заглядывая Генриху через плечо. Вот и сейчас так; пальцы тем временем путешествуют вдоль его шеи, под слоями шелка, коготки забираются под расшитый ворот рубахи и чуть-чуть, самую малость, отводят ткань от бледной королевской кожи. Генрих гладит ее руку — рассеянно, бездумно, как будто они наедине. В проекте говорится, снова и снова, и, как видно, без всякого преувеличения: «ваша дражайшая и всемерно обожаемая супруга королева Анна». Епископ Винчестерский смотрит, разинув рот. Как мужчина он не может оторвать глаз от этого зрелища, как епископ вынужден деликатно кашлянуть. Анна не обращает внимания: по-прежнему гладит короля и читает билль, потом внезапно вскидывает глаза, возмущенная: здесь говорится о моей смерти! «В случае же, если вашу дражайшую и всемерно обожаемую супругу королеву Анну постигнет кончина…» — Я не вправе исключить этот пункт, — говорит Кромвель. — Парламент может все, мадам, кроме того, что противоречит законам природы. Она вспыхивает. — Я не умру родами. Я крепкая. А вот Лиз во время беременности не глупела. Скорее становилась еще приземленнее и бережливее, проводила ревизию шкафов и кладовых. Анна забирает у Генриха проект, гневно потрясает им в воздухе. Она злится на бумагу, ревнует к чернилам. Говорит: — Тут написано, если я умру, скажем, умру сейчас, скажем, умру от лихорадки до разрешения от бремени, он может взять себе новую жену. — Милая, — произносит король, — я не могу представить себе другую на твоем месте. Это чисто умозрительно. Он должен предусмотреть и такой случай. — Мадам, — вступает в разговор Гардинер, — позвольте мне вступиться за Кромвеля: он всего лишь учитывает возможные исходы. Вы же не хотите обречь его величество на вечное вдовство? И никто из нас не знает своего часа. Анна не замечает Винчестера, будто его здесь нет. — И еще тут говорится, если у короля будет сын, этот сын унаследует престол. «Наследники мужеского пола, зачатые в законном браке». А что будет с моей дочерью? — Она по-прежнему принцесса Англии, — отвечает Генрих. — Если ты заглянешь дальше, там сказано… Закрывает глаза. Боже, дай мне сил. Гардинер спешит вмешаться: — Если у короля не будет сыновей, прижитых в законном браке, королевой станет ваша дочь. Вот что предлагает Кромвель. — Но почему это должно быть записано именно так? И где здесь сказано, что испанская Мария — незаконнорожденная? — Леди Мария исключена из линии наследования, — говорит Кромвель, — так что вывод очевиден, нет надобности добавлять что-либо еще. Вы должны простить холодность выражений. Мы стремимся сделать закон лаконичным, так что здесь нет ничего личного. — Клянусь Богом! — ухмыляется Гардинер. — Уж если это не личное, что тогда личное? Король, похоже, пригласил сегодня Стивена нарочно, чтобы унизить. Завтра, разумеется, все будет наоборот: Кромвель увидит Генриха, прогуливающегося с Винчестером под ручку в заснеженном саду. Он говорит: — Мы хотим скрепить акт присягой. Подданные его величества должны поклясться, что принимают закон о престолонаследии, изложенный в этом документе и ратифицированный парламентом. — Присягой? — переспрашивает Гардинер. — Что это за акт, который необходимо скреплять клятвой? — Всегда найдутся те, кто скажет, что парламент подкуплен, или введен в заблуждение, или почему-либо не вправе представлять народ. Опять-таки есть люди, которые считают, что парламент не может устанавливать законы в определенных сферах — это компетенция Рима. Я убежден, что они заблуждаются. Рим не имеет юридической власти над Англией. В своем билле я намерен сделать утверждение. Довольно скромное. Я его составил, парламент, смею надеяться, примет, король, смею надеяться, подпишет. Тогда я попрошу страну скрепить его клятвой. — И как же вы намерены это осуществить? — глумится Стивен. — Разошлете своих молодчиков из Остин-фрайарз по городам и весям приводить к присяге каждого встречного и поперечного? — А почему бы и нет? Или вы считаете, что все, кто не епископы, — скоты? Присяга всякого христианина одинаково ценна. Поглядите на любую часть этого королевства, милорд епископ, и увидите упадок, обнищание. Мужчины и женщины скитаются по дорогам. Овцеводы захватили все: селянина выгоняют из дома, землепашца лишили земли. За поколение эти люди могут научиться читать. Пахарь мог бы взять книгу. Поверьте мне, Гардинер, Англия способна быть иной. — Я вас разозлил, — замечает Гардинер, — и вы, разозлившись, неверно поняли вопрос. Я спрашивал, не хороша ли их клятва, а скольких из них вы намерены привести к присяге. Однако, разумеется, поскольку вы провели через палату общин билль против овец… — Против овцеводов, — с улыбкой поправляет Кромвель. Король говорит: — Гардинер, это нужно, чтобы помочь простым людям — никому не дозволяется держать больше двух тысяч овец… Епископ перебивает короля как маленького ребенка. — Две тысячи, да, так что пока ваши комиссары будут разъезжать по графствам, считая овец, может быть, они заодно приведут к присяге пастухов? И этих ваших пахарей, пока еще не обучившихся грамоте? И каждую потаскуху, которую найдут в канаве? Епископ говорит с таким пылом, что Кромвеля разбирает смех. — Милорд, я приведу к присяге тех, чья клятва необходима для надежности престолонаследия и единства страны. У короля есть чиновники, есть мировые судьи, и лорды совета подадут другим пример — или я с ними разберусь. Генрих добавляет: — Епископы тоже присягнут. Надеюсь, они не заартачатся. — Нам нужны новые епископы, — говорит Анна. Она называет своего друга, Хью Латимера. Его друга, Роуланда Ли. Значит, у нее все-таки есть список, который она носит в голове. Лиз заготавливала овощи. Анна назначает пресвитеров. — Латимер? — Гардинер качает головой, но не может сказать вслух, что королева покровительствует еретикам. — Роуланд Ли, как мне доподлинно известно, никогда в жизни не стоял за кафедрой. Некоторые люди приходят в церковь только из честолюбия. — И благородно пытаются это скрыть. — Я не сам выбрал для себя этот путь, — говорит епископ, — но, видит Бог, Кромвель, я честно им иду. Кромвель смотрит на Анну. Ее глаза торжествующе блестят. От нее не ускользает ни единое слово. Генрих говорит: — Милорд Винчестер, вы долго пробыли за границей по посольским делам. — Надеюсь, ваше величество согласится, что к вашей пользе. — И тем не менее вы невольно пренебрегали делами своей епархии. — Как пастырь вы должны заботиться о своих овцах, — говорит Анна. — Возможно, считать их. Гардинер кланяется: — Мои овцы надежно присмотрены. Что еще может сделать король? Самолично спустить епископа с лестницы, кликнуть стражу, чтобы того уволокли силой? Генрих произносит негромко: — И все же не стану вас удерживать. Можете со спокойной душой съездить в свою епархию. От пса, когда тот готов броситься в драку, идет особый запах. Сейчас он наполняет комнату. Анна брезгливо отводит взгляд, Стивен кладет руку на грудь, словно хочет вздыбить шерсть, стать больше, прежде чем оскалить клыки. — Я вернусь к вашему величеству через неделю, — говорит Стивен. Елейные слова вырываются из глотки, как утробный рык. Король хохочет. — А пока нам по душе Кромвель. Мы довольны его обхождением. Как только Винчестер выходит, Анна вновь прижимается к королю, стреляет глазами, словно предлагает ему разделить тайну. Она по-прежнему туго зашнурована; единственный внешний признак беременности — чуть набухшая грудь. Никто официально не объявляет, что королева ждет наследника: когда речь идет о женской утробе, ничего нельзя знать наверняка. Возможны ошибки. Однако весь двор уверен, что она носит под сердцем дитя, и сама Анна так говорит: яблоки на сей раз не упоминаются, все, на что ее тянуло тогда, теперь вызывает отвращение — так что по всем признакам будет мальчик. Билль, который он намерен предложить палате общин, не предвосхищает несчастье, как думается Анне, а напротив, упрочивает ее статус. В этом году ей исполнится тридцать три. И как он мог столько лет смеяться над ее плоской грудью и желтоватой кожей? Теперь, когда она королева, даже Кромвель видит, что Анна — красавица. Черты правильные, точеные, головка маленькая, как у кошки, шея отливает минеральным блеском, словно припудренная золотой обманкой. Генрих говорит: — Как посол Стивен несомненно хорош, однако я не могу держать его при себе. Я доверял ему в самом важном, а теперь он против меня. — Качает головой. — Я ненавижу неблагодарность. Ненавижу вероломство. Вот за что я ценю вас. Вы не отступились от своего господина, когда того постигла беда. Для меня это — лучшая рекомендация. — Можно подумать, беда постигла Вулси без всякого участия короля. Можно подумать, с вершины власти его сбросила молния. — И еще меня огорчает Томас Мор. Анна говорит: — Когда будете составлять билль против лжепророчицы Бартон, включите туда, кроме Фишера, еще и Мора. Кромвель качает головой. — Не выйдет. Парламент не примет. Против Фишера довольно свидетельств, и члены палаты общин его не любят, он говорит с ними, словно с турками. Однако Мор приходил ко мне еще до ареста Бартон и доказал свою полную непричастность. — Но это его напугает, — говорит Анна. — Так пусть испугается. Страх лишает человека воли. Мне случалось такое наблюдать.
Три часа дня. Вносят свечи. Он сверяется с журналом Ричарда: Джон Фишер ждет. Сейчас надо вызвать в себе злость. Он пробует думать о Гардинере, но его разбирает смех. — Сделайте лицо, — говорит Ричард. — Вы не поверите, но Гардинер мне должен. Я оплатил его назначение на Винчестерскую епархию. — Стребуйте с него долг, сэр. — Я уже забрал для королевы его дом. Он до сих пор горюет. Я не хочу припирать Стивена к стене — надо оставить ему путь к отступлению. Епископ Фишер сидит, возложив костлявые руки на трость черного дерева. — Доброе утро, милорд, — говорит Кромвель. — Почему вы так легковерны? Епископ удивлен, что они не начали с молитвы, тем не менее бормочет благословение. — Вам следует молить короля о прощении. Сошлитесь на свои лета и телесную немощь. — Я не знаю, в чем моя вина. И что бы вы ни воображали, я еще не выжил из ума. — А я думаю, что выжили. Иначе как бы вы поверили этой Бартон? Увидев на улице кукольный балаган, вы не станете кричать: «Ах, как они ступают деревянными ножками, как машут деревянными ручками! Слушайте, как они дудят в свои трубы!» Ведь не станете же? — Я никогда не видел кукольного балагана, — печально говорит Фишер. — По крайней мере такого, как вы описываете. — Но вы в него попали, милорд епископ! Оглянитесь! Это все — один большой балаган. — Однако очень многие ей поверили, — кротко отвечает Фишер. — Сам Уорхем, тогдашний архиепископ Кентерберийский. Десятки, сотни набожных и образованных людей. Они засвидетельствовали ее чудеса. И она не могла прямо говорить о том, что открыли ей небеса. Мы знаем, что Господь изъявляет свою волю через своих служителей. У пророка Амоса сказано… — Не тычьте мне в нос пророком Амосом! Она угрожала королю. Предсказывала ему смерть. — Предсказывать не значит желать. А уж тем более — замышлять. — Она никогда не предсказывала того, чего не желала. Она встречалась с недругами короля и обнадеживала их, описывая им, как все будет. — Если вы о лорде Эксетере, — говорит епископ, — то король его уже простил, как и леди Гертруду. Будь они виновны, король привлек бы их к суду. — Одно из другого не вытекает. Генрих стремится к миру и потому решил их помиловать. Возможно, он помилует и вас, но прежде вам следует признать свою вину. Эксетер не печатал инвективы против короля, а вы печатали. — Какие инвективы? Покажите. — Вы подписывали их чужим именем, милорд, однако меня не обмануть. Больше вы ничего не опубликуете. Фишер вскидывает глаза. Видно, как движутся кости под сухой старческой кожей; пальцы сжимают трость с рукоятью в виде золоченого дельфина. — Ваши заграничные издатели теперь работают на меня. Стивен Воэн предложил им более высокую плату. — Вы преследуете меня из-за развода, — говорит Фишер. — Не из-за Элизабет Бартон, а потому, что королева Екатерина просила у меня совета, и я его дал. — Когда я требую соблюдать закон, вы говорите, что я вас преследую? Не пытайтесь увести меня от своей провидицы, не то я отправлю вас к ней и запру в соседней камере. Поверили бы вы, если бы она увидела коронацию Анны за год до самого события и объявила, что небеса благоволят новому браку короля? Не сомневаюсь, в таком случае вы бы объявили ее ведьмой. Фишер трясет головой, уводит в сторону: — Знаете, я всю жизнь мучился вопросом: Мария Магдалина и Мария, сестра Марфы — одно ли это лицо? Элизабет Бартон сказала мне твердо, что — да. У нее не было ни малейших сомнений. Кромвель смеется. — О, это ее ближайшие знакомые, она запросто к ним заглядывает. Не раз ела с Богородицей из одной миски. А теперь послушайте, милорд, святая простота была хороша в свое время, но оно миновало. Идет война. Если вы не видите за окном воинов императора, не обманывайтесь: мы воюем, и вы в стане врага. Епископ молчит, слегка покачиваясь на табурете. Фыркает. — Теперь я понимаю, почему Вулси взял вас на службу. Вы негодяй, как и он. Я сорок лет ношу священнический сан и никогда не видел таких подлецов, как те, что сейчас у трона. Таких нечестивых советников. — Заболейте, — говорит Кромвель. — Слягте в постель. Это мой вам совет.
Билль против кентской девственницы и ее сообщников поступает в палату лордов утром двадцать первого февраля, в субботу. Там значится имя Фишера и, по настоянию короля, Мора. Он отправляется в Тауэр к Бартон — выяснить, не хочет ли она перед смертью рассказать что-нибудь еще. Она пережила эту зиму, когда ее возили по стране и в каждом городе заставляли повторять признание, стоя на эшафоте, на пронизывающем ветру. Он приносит свечу и видит, что она обмякла на табурете, как плохо увязанный тюк с тряпьем. Воздух разом холодный и затхлый. Она поднимает голову и говорит, словно продолжая недавно прерванный разговор: — Мария Магдалина сказала мне, что я умру. Возможно, думает он, она разговаривала со мной у себя в голове. — А день она назвала? — Вы хотите его знать? — спрашивает Бартон, и у него мелькает мысль: уж не проведала ли она, что парламент, возмущенный тем, что в список включили Мора, готов отложить принятие билля до весны. — Я рада, что вы пришли, мастер Кромвель. Здесь ничего не происходит. Даже самые долгие, самые изощренные допросы ее не запугали. На какие только ухищрения он ни шел, чтобы притянуть к делу Екатерину, — все безрезультатно. Он спрашивает: — Тебя хорошо кормят? — О да. И одежду мне стирают. А я все вспоминаю, как ходила в Ламбет к архиепископу. Так было хорошо. Река, народ суетится, лодки разгружают. Вы знаете, что меня сожгут? Лорд Одли сказал, что меня сожгут. Она говорит об Одли, как о старинном друге. — Надеюсь, тебе заменят казнь на более легкую. Это решает король. — Я ночами бываю в аду, — говорит она. — Господин Люцифер показал мне кресло, сделанное из человеческих костей и обитое огненными подушками. — Для меня? — Христос с вами, нет конечно. Для короля. — Вулси больше не видели? — Кардинал все там же. — То есть среди нерожденных. Долгая пауза, за время которой ее мысль вновь уплывает в другую сторону. — Говорят, тело горит час. Матерь Мария меня прославит. Я буду купаться в пламени, как в ручье. Для меня оно будет прохладным. — Она смотрит ему в лицо, но, увидев его выражение, отводит взгляд. — Иногда в дрова подкладывают порох, да? Чтобы горели быстрее. Скольких сожгут со мной? Шестерых. Он называет имена. — Их могло быть и шестьдесят, ты понимаешь? И всех сгубило твое тщеславие. — Говоря это, он думает: верно и то, что ее сгубило их тщеславие. И еще он видит, что она не прочь была бы утащить с собой шестьдесят человек, сгубить семейства Полей и Куртенэ — ведь это упрочило бы ее славу. Если так, странно, что она не указала на Екатерину. Какой триумф для пророчицы — уничтожить королеву! Вот как я должен был действовать — сыграть на ее ненасытном честолюбии. — Я вас больше не увижу? — спрашивает она. — Или вы будете при моем мученичестве? — Этот трон, — говорит он, — кресло из костей. Лучше о нем помолчать. Чтобы не дошло до короля. — Думаю, ему стоит знать, что ждет его после смерти. А что он мне сделает хуже того, что уже присудил? — Не хочешь сказать, что беременна? Казнь отложат. Она краснеет. — Я не беременна. Вы надо мной смеетесь. — Я всякому посоветовал бы выгадать несколько недель жизни, любым способом. Скажи, что тебя обесчестили в дороге. Что стражники над тобой надругались. — Тогда мне придется сказать, кто это был, и этих людей приведут к судье. Он качает головой, жалея Бартон. — Стражник, который насилует арестантку, не сообщает ей своего имени. Впрочем, видно, его совет ей не по душе. Он уходит. Тауэр — целый город, и вокруг уже громыхает обычная утренняя суета. Стража и работники Монетного двора здороваются с ним, начальник королевского зверинца подходит сказать, что пришло время кормежки — звери едят рано, — и не угодно ли вам будет посмотреть? Премного благодарен, отвечает он, как-нибудь в другой раз. Сам он еще не ел, и его слегка мутит. От клеток пахнет несвежей кровью, слышно урчание и приглушенный рык. Высоко на стене невидимый стражник насвистывает старую песенку, потом затягивает припев. Я веселый лесник, поет стражник. Вот уж неправда! Он ищет взглядом своих гребцов. Бартон выглядит не ахти — если она больна, то доживет ли до казни? Ее не истязали, только заставляли бодрствовать ночь или две кряду, не больше, чем сам он бодрствовал на королевской службе, а меня, думает он, это не заставило никого оговорить. Сейчас девять утра; в десять обед с Норфолком и Одли; по крайней мере, можно надеяться, что они не будут рычать, как звери в зверинце, обдавая его смрадом. Бледное солнце украдкой смотрит из-за облаков, над рекой завивается дымка — белые росчерки тумана. В Вестминстере герцог гонит прочь слуг. — Если захочу вина, сам себе налью! Вон, пошли все вон! И дверь закройте! Поймаю у замочной скважины — освежую и засолю! Кромвель, кряхтя, садится на стул. — А что если я встану перед ним на колени и скажу, Генрих, Христа ради, вычеркните Томаса Мора из билля об опале? — Что если мы все встанем на колени? — подхватывает Одли. — Да, и Кранмер тоже. Мы не дадим ему отвертеться от этого миленького спектакля. — Король клянется, — говорит Одли, — что если билль не примут, он сам придет в парламент, если надо, в обе палаты, и будет настаивать. — И сядет в лужу, — отвечает герцог, — при всем честном народе. Бога ради, Кромвель, отговорите его. Позволил же он Мору уползти в Челси и нянчиться там со своей бесценной совестью, хоть и знал, что тот думает. Бьюсь об заклад, крови Мора требует моя племянница. Она на него злится. Женская месть. — Думаю, на него злится король. — А это, на мой взгляд, слабость, — объявляет Норфолк. — Что королю до Мора с его суждениями? Одли неуверенно улыбается. — Вы назвали короля слабым? — Назвал короля слабым?! — Герцог подается вперед и трещит Одли в лицо, как говорящая сорока: — Что это, у лорда-канцлера прорезался собственный голос? Обычно вы ждете, пока заговорит Томас Кромвель, а потом чирик-чик-чик, да, сэр, нет, сэр, как скажешь, Том Кромвель. Дверь открывается, и в нее заглядывает Зовите-меня-Ризли. — Клянусь Богом! — взрывается герцог. — Будь у меня арбалет, я бы отстрелил вам башку. Я велел никого не впускать! — Пришел Уилл Ропер. С письмами от тестя. Мор желает знать, как вы с ним поступите, сэр, если признали, что по закону он чист. — Скажите Уиллу, мы репетируем, как будем на коленях просить короля, чтобы тот вычеркнул Мора из списка. Герцог опрокидывает в глотку вино из кубка — которого собственноручно себе налил — и с грохотом ставит кубок на стол. — Ваш кардинал говорил, Генрих скорее отдаст полцарства, чем поступится своим капризом. — Однако я его уговариваю… и вы, лорд-канцлер, ведь тоже?.. — О да! — восклицает герцог. — Если Том уговаривает, то и лорд-канцлер туда же. Курлы-мурлы! Зовите-меня хлопает глазами. — Можно пригласить Уилла? — Так мы согласны? Молим на коленях? — Я без Кранмера не пойду, — объявляет герцог. — С какой стати мирянину утруждать суставы? — Позвать милорда Суффолка тоже? — спрашивает Одли. — Нет. У него сын при смерти. Наследник. — Герцог утирает рукой рот. — Без месяца восемнадцать лет. — Перебирает реликварии, образки. — У Брэндона только один сын. И у меня. И у вас, Кромвель. И у Томаса Мора. У всех по одному. Дай Бог Чарльзу сил, придется ему, не щадя себя, заводить новых детей с новой женой. — Лающий смешок. — Если бы я мог отправить в отставку старую жену, я бы тоже взял себе славненькую пятнадцатилетку. Да только поди ее сплавь! Одли багровеет: — Милорд, вы женаты, и благополучно женаты, двадцать лет! — А то я без вас не знаю. Все равно что заталкивать себя в старый кожаный мешок. — Костлявая рука герцога стискивает его плечо. — Добудьте мне развод, Кромвель, а? Вы с милордом архиепископом придумайте какую-нибудь лазейку. Обещаю, из-за моего развода никого не убьют. — А кого убивают? — спрашивает Ризли. — Мы собираемся убить Томаса Мора, разве нет? Точим нож на старика Фишера. — Боже упаси. — Лорд-канцлер встает, запахивает мантию. — О смертной казни речи не идет. Мор и епископ Рочестерский всего лишь соучастники. — Что, — говорит Ризли, — безусловно, тоже тяжкое преступление. Норфолк пожимает плечами. — Сейчас или позже — разница невелика. Мор не примет вашу присягу. И Фишер тоже. — Я совершенно убежден, что они ее примут, — говорит Одли. — Мы приведем неоспоримые доводы. Ни один разумный человек не откажется присягнуть будущему наследнику престола ради блага своей страны. — Значит, Екатерина тоже должна присягнуть, — говорит герцог, — чтобы дети моей племянницы правили без помех? А как насчет Марии — вы и ее намерены привести к присяге? А если они откажутся, что вы будете делать? Отволочете их на Тайберн и вздернете, на радость их родичу-императору? Они с Одли обмениваются взглядами. Одли говорит: — Милорд, вам не следует пить до обеда так много вина. — О, чирив-чив-чив, — отвечает герцог.
Неделю назад он навещал в Хэтфилде двух августейших особ, принцессу Елизавету и леди Марию, дочь короля. — Упаси тебя Бог перепутать титулы, — сказал он Грегори по дороге. Грегори ответил: — Ты уже жалеешь, что взял не Ричарда. Ему не хотелось уезжать из Лондона, когда в парламенте такое жаркое время, но король настоял: обернетесь за два дня, я хочу, чтобы вы своими глазами взглянули, что там у них и как. Снег тает, по дорогам бегут ручьи, в рощицах, где всегда тень, на лужах еще по-прежнему лед. Когда они переправлялись через реку в Хертфордшир, ненадолго выглянуло солнце; терновник тянет корявые ветки с белыми цветочками — хочет вручить ему петицию против излишне долгой английской зимы. — Я здесь бывал, давно. Тогда это был дворец кардинала Мортона, архиепископа Кентерберийского. Весной, когда заканчивалась судебная сессия и становилось теплее, он перебирался сюда. Мне было лет девять-десять. Дядя Джон сажал меня на провиантскую телегу с лучшими сырами и паштетами, чтобы их не стащили при остановке. — А охраны у вас не было? — Охраны-то он и боялся. — Quis custodiet ipsos custodes?[94] — Я, очевидно. — А что бы ты сделал? — Не знаю. Покусал их? Старый кирпичный фасад оказался ниже, чем ему помнилось, но с детскими воспоминаниями так всегда. Пажи и джентльмены выбегают во двор, конюхи берут лошадей под уздцы и ведут на конюшню, в доме ждет подогретое вино — совсем не так его встречали здесь прежде. Таскать воду и дрова, топить печи — тяжелое занятие для ребенка, но он упорно работал наравне со взрослыми, голодный и грязный, пока кто-нибудь не замечал, что он валится с ног, или пока не падал на самом деле. Всем этим странным хозяйством заведует сэр Джон Шелтон, но Кромвель подгадал время, когда сэр Джон в отъезде: ему надо поговорить с женщинами, а не слушать, как Шелтон после обеда разглагольствует о лошадях, собаках и своих юношеских подвигах. Впрочем, на пороге он жалеет о своем решении: по лестнице старческой походкой семенит леди Брайан, мать одноглазого Фрэнсиса, воспитательница маленькой принцессы. Ей почти семьдесят, она давным-давно бабушка, и он видит, как шевелятся ее губы, до того как может различить голос: ее милость спала до одиннадцати, кричала до полуночи, измучилась совсем наша ласточка, часик подремала, проснулась квелая, щечки красные, заподозрили лихорадку, разбудили леди Шелтон, подняли врачей, уже зубки режутся, опасное время! Дали успокаивающую микстурку, к рассвету угомонилась, проснулась в девять, покушала… — Ой, мастер Кромвель! — говорит леди Брайан. — Да неужто это ваш сын! Какой статный, благослови его Бог, да какой высокий! А лицом-то как пригож, наверное, в мать. А сколько ему годочков? — Столько, что он уже сам умеет говорить. Леди Брайан обращает к Грегори счастливое лицо, словно предвкушая, что сейчас они вместе прочтут детский стишок. Вплывает леди Шелтон. — Добрый день, господа. — Секундная заминка: должна ли тетка королевы сделать реверанс перед хранителем королевских драгоценностей? Подумав, леди Шелтон решает, что не должна. — Полагаю, леди Брайан уже сполна отчиталась вам о своей подопечной? — О да, и, возможно, теперь мы можем выслушать отчет о вашей. — Вы не хотите посетить леди Марию? — После того как ее предупредят… — Конечно. Я вхожу к леди Марии без оружия, хотя моя племянница Анна и советует ее бить. — Она окидывает его взглядом, проверяя, какое впечатление произвела; воздух потрескивает, словно перед грозой. И как женщинам такое удается? Не исключено, что этот трюк можно освоить. Он не столько видит, сколько чувствует, как его сын отступает назад, пока не упирается в буфет, в котором выставлена уже довольно внушительная коллекция золотой и серебряной посуды, подаренной принцессе Елизавете. Леди Шелтон говорит: — Мне поручено, если леди Мария не будет меня слушать — и здесь я дословно цитирую королеву, — бить ее смертным боем, приблуду этакую. — О, матерь Божия! — стонет леди Брайан. — Я ведь и Марию тоже воспитывала, уж такая она была упрямица в детстве — если с годами не исправилась, то и бейте, раз позволили. Вы ведь сперва захотите посмотреть на малютку, господа? Идемте со мной. — Хваткой няньки или стражника она берет Грегори за локоть и продолжает трещать без умолку: в таком возрасте жар это так страшно! Вдруг, не приведи Господи, корь. Или оспа. Когда у шестимесячного ребенка жар, это может быть любая болезнь… Говоря, леди Брайан часто облизывает пересохшие губы. На горле пульсирует жилка. Он понимает, зачем Генрих послал его сюда. То, что здесь происходит, в письме не изложишь. Он спрашивает леди Шелтон: — Вы хотите сказать, королева в письме распорядилась бить леди Марию? Этими самыми словами? — Нет, это были устные указания. — Она обгоняет его на ходу. — Вы считаете, что я должна им следовать? — Пожалуй, нам лучше побеседовать наедине, — тихо отвечает он. — Можно и наедине, — бросает она через плечо. Маленькая Елизавета туго спеленута в несколько слоев, кулачки примотаны, и хорошо, потому что вид у нее такой, будто она не прочь двинуть тебе в глаз. Жесткие рыжие волосенки выбились из-под чепчика, глаза смотрят настороженно — он никогда не видел, чтобы младенец в колыбели выглядел таким обидчивым. Леди Брайан спрашивает: — Ведь правда похожа на короля? Он мнется, не желая обидеть ни одну из родственных сторон. — Насколько может быть похожа юная дама. — Будем надеяться, комплекцией она не в него, — замечает леди Шелтон. — Он ведь еще раздался, да? — Все говорят, что похожа, кроме Джорджа Рочфорда. — Леди Брайан склоняется над колыбелью. — А его послушать, так она — вылитая Болейн. — Мы знаем, что моя племянница почти тридцать лет блюла себя в чистоте, — говорит леди Шелтон, — но даже Анна не сумела бы зачать непорочно. — И волосы, — добавляет он. — Точно, — вздыхает леди Шелтон. — Не в обиду ее милости и со всем почтением к его величеству, она у нас светленькая, что твой поросеночек — хоть на ярмарку вези. Она пытается заправить рыжие волосенки под чепчик. Младенец сморщивает личико и возмущено икает. Грегори хмуро смотрит на принцессу: — Она может быть чья угодно. Леди Шелтон прикрывает рот, пряча улыбку: — Вы хотели сказать, Грегори, что все младенцы на одно лицо? Идемте, мастер Кромвель. Она берет его за рукав и тянет прочь. Леди Брайан остается перепеленывать малютку — опять та сбила все пеленки. Он бросает на ходу: «Бога ради, Грегори!» В Тауэр можно угодить и за меньшее. Леди Шелтон он говорит: — Я не понимаю, как Мария может быть приблудой. Ее родители честно верили, что состоят в браке. Она останавливается, поднимает брови. — Скажете ли вы это моей племяннице-королеве? В лицо? — Уже сказал. — А она? — Знаете, леди Шелтон, будь у нее в руке топор, она бы попыталась отрубить мне голову. — Тогда и я вам скажу, можете, если хотите, передать моей племяннице. Будь Мария и впрямь приблудой, будь она приблудой последнего безземельного джентльмена в Англии, от меня она все равно видела бы только доброту. Потому что она славная девушка, и надо иметь каменное сердце, чтобы не испытывать к ней жалости. Она стремительным шагом, волоча шлейф по каменным плитам, идет в центральную часть дома. Навстречу им попадаются прежние слуги Марии, он узнает лица; под эмблемами Генриха у них на одежде следы эмблем бывшей хозяйки. Он смотрит по сторонам и все узнает. Останавливается перед парадной лестницей. Прежде ему не разрешали по ней бегать: для мальчишек вроде него, с дровами или углем, была черная лестница. Как-то он нарушил правило и на верхней ступеньке получил из темноты удар в ухо. Кто там подкарауливал? Сам кардинал Мортон? Он трогает камень, холодный, как надгробие: сплетенье виноградных лоз и неведомых цветов. Леди Шелтон смотрит с вопросительной улыбкой, не может понять, что его остановило. — Может, нам стоит сменить дорожное платье, прежде чем идти к леди Марии. Она может оскорбиться… — А если вы промедлите, она тоже оскорбится. Так или иначе, она найдет, что поставить вам в вину. Я сказала, что жалею ее, но о как же с ней непросто! Она не выходит ни к обеду, ни к ужину, потому что не хочет сидеть ниже маленькой принцессы. А моя племянница постановила, чтобы ей не носили еду в комнату, кроме хлеба на завтрак, как всем нам… Леди Шелтон подводит их к закрытой двери. — Вы по-прежнему называете эту комнату синей? — Ваш отец бывал здесь раньше, — обращается леди Шелтон к Грегори. — Мой отец везде бывал, — отвечает тот. Она поворачивается к ним: — Успеха вам. И, кстати, она не откликается на «леди Марию». Комната длинная, почти без мебели, и холод, словно камердинер, встречает их у входа. Синие шпалеры сняли, оставив голую штукатурку. У почти погасшего камина сидит Мария: сгорбленная, маленькая и пронзительно-юная. Грегори говорит: она похожа на эльфийского подменыша. Бедный эльфийский подменыш! Ест по ночам, питается хлебными крошками и яблочной кожурой; если рано утром спуститься по лестнице тихо-тихо, можно застать его сидящим в золе. Мария поднимает глаза, и — удивительное дело! — ее миниатюрное личико светлеет. — Мастер Кромвель. Она встает, делает шаг и тут же едва не падает, запутавшись в подоле. — Сколько времени прошло с нашей последней встречи в Виндзоре? — Трудно сказать, — серьезно отвечает он. — За эти годы вы успели расцвести. Мария хихикает; ей уже почти восемнадцать. Она растерянно озирается, ища глазами, на чем сейчас сидела. «Грегори», — говорит он, и его сын делает стремительный шаг вперед, подхватывает бывшую принцессу, пока та не села мимо табурета. Движение похоже на танцевальное па — даже и от Грегори может быть прок. — Простите, что заставляю вас стоять. Вы можете, — она машет рукой в неопределенную сторону, — сесть на сундук. — Думаю, нам хватит сил постоять. А вот вам, полагаю, нет. — Он ловит на себе взгляд Грегори: сын смотрит так, будто никогда не слышал его смягчившегося тона. — Вас ведь не оставляют сидеть одну возле потухшего огня? — Слуга, который приносит дрова, не хочет обращаться ко мне «принцесса». — Обязательно ли вам с ним говорить? — Нет, но если я стану молчать, это будет уловка. Умница, осложняй себе жизнь чем только можешь. — Леди Шелтон рассказала мне про затруднения с… про обеденные затруднения. Что если я пришлю врача? — У нас есть врач. Вернее, у девочки. — Я могу прислать более толкового. Он пропишет вам режим и потребует, чтобы сытный завтрак приносили сюда, в комнату. — Мясо? — спрашивает Мария. — Много мяса. — А кого вы можете прислать? — Скажем, доктора Беттса. Ее лицо смягчается. — Я его помню по двору в Ладлоу. Когда я была принцессой Уэльской. Была и остаюсь. Как вышло, что я больше не наследница трона, мастер Кромвель? Разве это законно? — Законно то, что решил парламент. — Есть закон выше парламента. Закон Божий. Спросите епископа Фишера. — Я не умею определять Божий Промысел и, Господь свидетель, не считаю епископа Фишера достойным его истолкователем. Воля парламента, напротив, выражена вполне отчетливо. Она закусывает губу, не желает на него смотреть. — Я слышала, доктор Беттс теперь еретик. — Он верит в то же, во что ваш отец король. Он ждет. Мария поднимает голову, впивается серыми глазами в его лицо. — Я не назову еретиком милорда моего отца. — Правильно. Лучше, чтобы эти ловушки сперва проверили ваши друзья. — Я не понимаю, как вы можете быть мне другом, если вы друг этой особы. Маркизы Пемброкской. Она не хочет именовать Анну королевой. — Положение упомянутой дамы таково, что ей не нужны друзья, только слуги. — Пол говорит, вы — сатана. Мой кузен Реджинальд Пол. Который бежал в Геную. Он сказал, при рождении вы были такой же, как все другие христианские души, но потом в вас вошел дьявол. — А вам известно, леди Мария, что я бывал тут ребенком? Лет девяти-десяти. Мой дядя был у Мортона поваром, а я, сопливый мальчишка, на заре складывал хворост для растопки печей и сворачивал шеи курам. — Он говорит серьезным тоном. — Как вы думаете, дьявол тогда в меня вошел? Или раньше, примерно в том возрасте, когда другие принимают крещение? Как вы понимаете, мне хотелось бы знать. Мария наблюдает за ним искоса; на ней старомодный жесткий чепец домиком, из-под которого она смотрит, как лошадь, которой набросили на голову тряпку, а та сползла. Он говорит мягко: — Я не сатана. И милорд ваш отец не еретик. — А я не приблуда. — Конечно. — Он повторяет то же, что сказал Анне Шелтон: — Ваши родители верили, что состоят в браке. Это не означает, что их брак был законным. Вы ведь понимаете разницу? Она трет пальцем под носом. — Да, понимаю. Только на самом деле их брак был законным. — Скоро королева приедет навестить свою дочь. Если вы просто выкажете ей уважение как супруге своего родителя… — Только она его сожительница… — …ваш отец вернет вас ко двору и вы получите все, чего лишены сейчас: тепло и приятное общество. Послушайте меня, я желаю вам добра. Королева не ждет от вас дружбы, ей нужен лишь декорум. Прикусите язык и сделайте реверанс. Это займет одно мгновение и переменит все. Помиритесь с ней сейчас, до того, как она родит. Потому что если будет мальчик, у нее не останется поводов с вами ладить. — Она меня боится, — говорит Мария, — и будет бояться, даже если родит мальчика. Она боится, что я выйду замуж и мои сыновья станут ей угрозой. — Кто-нибудь говорит с вами о замужестве? Сухой недоверчивый смешок. — Еще в младенчестве меня помолвили с французским дофином. Затем с императором, потом с французским королем, с его старшим сыном, с его вторым сыном, со всеми его сыновьями, сколько их ни на есть, потом один раз опять с императором и один раз с его кузеном. Меня сватали без передышки. Однако когда-нибудь я выйду замуж на самом деле. — Но только не за Пола. Она вздрагивает, и он понимает, что кто-то ей такую мысль подсказал: может быть, прежняя воспитательница Маргарет Пол, а может, Шапюи, который ночи напролет изучает генеалогию английской знати — укрепить ее притязания, сделать их неоспоримыми, выдать полу-испанку Тюдор за коренного Плантагенета. Он говорит: — Я видел Пола. Знал его еще до отъезда. Вам такой не годится. Вашему мужу нужна будет твердая рука, чтобы крепко держать меч. Пол похож на старуху, которая сидит в углу и боится леших и домовых. В жилах у него не кровь, а святая вода, и говорят, он рыдает в три ручья, если его слуги убьют муху. Мария улыбается и тут же затыкает рот рукой, как кляпом. — Вот и правильно, — кивает он. — Никому ничего не говорите. Мария произносит, не отнимая пальцев ото рта: — Я не могу читать. Не вижу букв. — Что, вам не дают свечей?! — Нет, я хочу сказать, у меня слабеет зрение. И голова все время болит. — Вы много плачете? Она кивает. — Доктор Беттс привезет лекарства. А до тех пор пусть кто-нибудь читает вам. — Мне читают. Читают Тиндейлово Евангелие. Вы знаете, что епископ Тунстолл и Томас Мор нашли в этом так называемом Писании две тысячи ошибок? Там больше еретического, чем в священной книге магометан. Сказано с вызовом, однако он видит, что ее глаза наполняются слезами. — Все это исправимо, — говорит он. Мария встает; в первый миг ему кажется, что сейчас она, забывшись, уткнется с рыданиями в его дорожную куртку. — Доктор приедет на днях. А пока я велю, чтобы вам растопили камин и подали ужин. Куда захотите. — Дайте мне повидаться с матерью. — Сейчас король этого не допустит. Однако все может измениться. — Отец меня любит. Это все она, эта подлая женщина, нашептывает ему всякие гнусности. — Леди Шелтон будет к вам добра, если только вы ей позволите. — Что мне до ее доброты? Я переживу Анну Шелтон, поверьте. И ее племянницу. И всех, кто посягает на мой титул. Пусть делают что хотят. Я молода. Я могу подождать. Он выходит, Грегори за ним, завороженно оглядываясь на девушку, которая вновь садится у погасшего камина, складывает руки и с каменным лицом принимается ждать. — Этот ее кроличий мех, — говорит Грегори, — такое впечатление, будто его грызли. — Да уж, она истинная дочь Генриха. — А разве кто-то сомневался? Он смеется. — Нет, не в этом смысле. Представь… если бы у старой королевы были любовники, избавиться от нее не составило бы труда, но как очернить женщину, которая делила ложе только с одним мужчиной? — Он осекается; даже тем, кто безусловно поддерживает короля, трудно упомнить, что по официальной версии Екатерина была женой принца Артура. — Мне следовало сказать, только с двумя мужчинами. — Он окидывает сына взглядом. — Мария ни разу не посмотрела на тебя, Грегори. — А по-твоему должна была? — Леди Брайан считает, что ты чрезвычайно мил. Разве для женщины это не естественно? — Я не заметил в ней ничего естественного. — Найди кого-нибудь, кто растопит камин. А я распоряжусь насчет ужина. Вряд ли король хочет уморить ее голодом. — А ты ей понравился, — говорит Грегори. — Странно. Он понимает, что сын говорит искренне. — Разве такого не может быть? Мне кажется, дочери меня любили. Бедняжка Грейс, я так и не знаю, понимала ли она толком, кто я. — Она тебя обожала, когда ты сделал ей ангельские крылья. Говорила, что будет хранить их всегда-всегда. — Сын отворачивается; в голосе как будто страх. — Рейф утверждает, что скоро ты будешь вторым человеком в королевстве. Что это уже и теперь так, неофициально. Что король поставит тебя выше лорда-канцлера и всех остальных. Даже выше Норфолка. — Рейф забегает вперед. Послушай, сын, не говори никому о Марии. Включая Рейфа. — Я услышал больше, чем следовало? — Что, по-твоему, будет, если король завтра умрет? — Мы будем скорбеть. — А кто займет трон? Грегори кивает в сторону леди Брайан, в сторону девочки в колыбели. — Так сказал парламент. Или королем станет сын королевы, который еще не родился. — Но произойдет ли это? На самом деле? Еще не родившийся младенец? Девочка, которой нет и года? При регентстве Анны? Болейны были бы рады, это да. — Тогда Фицрой. — Надо ли искать так далеко? Взгляд Грегори обращается к дверям комнаты, из которой они вышли. — Вот именно, — говорит Кромвель. — И вот что, Грегори. Очень разумно составлять планы на полгода, на год вперед, но грош им цена, если у тебя нет планов на завтрашний день.
После ужина он беседует с леди Шелтон. Леди Брайан уходит спать, потом спускается их урезонить. — Вы так за ночь совсем не отдохнете! — Да-да, — машет на нее Анна Шелтон. — Проснемся квелые, кушать не захотим. Когда слуги, зевая, уходят, а свечи догорают, они перебираются в другие покои, поменьше и потеплее, продолжают беседу там. Вы дали Марии добрый совет, говорит леди Шелтон, хорошо бы она ему последовала, боюсь, ей предстоят трудные времена. Она говорит о своем брате Томасе Болейне: эгоистичнее человека я не знаю, и не мудрено, что Анна такая хищница, что она от него слышала, кроме разговоров о деньгах, да как выдвинуться за счет других; он бы продал дочерей голыми на берберийском невольничьем рынке, если бы рассчитывал получить хорошую цену. Он улыбается, представив, как в окружении слуг с ятаганами торгуется за Марию Болейн; затем вновь переносит внимание на ее тетку. Та посвящает его в секреты Болейнов, он не посвящается в свои секреты, хоть ей и кажется, что посвятил. Когда он входит в спальню, Грегори уже спит, но приоткрывает глаза и спрашивает: — Дорогой отец, где ты был, в постели у леди Шелтон? Это бывает, но не с женщинами из семейства Болейн. — Чудные сны тебе снятся. Леди Шелтон тридцать лет замужем. — Я думал после ужина посидеть следи Марией… надеюсь, я не сказал чего плохого? Только она такая язвительная. Я не могу разговаривать с такой язвительной девушкой. Грегори взбрыкивает на перине и тут же засыпает снова.
Когда Фишер наконец приходит в себя и молит короля о прощении, он ссылается на болезнь и старческую немощь. Король отвечает, что не отзовет билль, однако, по своему обыкновению, помилует тех, кто признал свою вину. Блаженную повесят. Кромвель молчит о троне из костей, только сообщает Генриху, что она больше не пророчествует, и надеется, что на Тайберне, с петлей на шее, она не выставит его лжецом. Когда советники встают на колени и умоляют вычеркнуть из списка имя Томаса Мора, король уступает. Возможно, Генрих только этого и ждал: чтобы его уговорили. Анны с ними нет; не исключено, что в ее присутствии все повернулось бы иначе. Они выходят, отряхивая колени. Ему кажется, он слышит смех кардинала из какой-то невидимой части комнаты. Достоинство Одли не пострадало, а вот Норфолк взвинчен, потому что не сумел подняться сам — подвели суставы, — и пришлось им с Одли вдвоем поднимать герцога с колен. — Я думал, буду стоять там еще час, — говорит тот. — Умоляя и упрашивая. — Штука в том, — обращается Кромвель к Одли, — что Мор по-прежнему получает из казны пенсион. Думаю, пора это прекратить. — Он получил передышку. Дай Бог, чтобы одумался. Он привел в порядок свои дела? — Переписал все, что мог, на детей. Я слышал от Ропера. — Стряпчие! — ворчит герцог. — Если я впаду в опалу, кто позаботится о моих делах? Норфолк вспотел; Кромвель умеряет шаг, Одли тоже; пока они топчутся, Кранмер нагоняет их, как запоздалая мысль. Он оборачивается и берет архиепископа под руку. Тот присутствует на всех заседаниях парламента: на скамье епископов, где в последнее время подозрительно много свободных мест. Папа подгадал время — как раз когда Кромвель проводит через парламент свои великие билли — чтобы наконец-то вынести вердикт по делу о браке Екатерины, с которым столько тянул, — он уже думал, папа хочет сойти в могилу, не сказав ни да, ни нет. Решение Климента: диспенсация обоснована, брак действителен. Сторонники императора жгут на улицах Рима фейерверки. Генрих высокомерно-насмешлив и выражает свое отношение танцами. Анна еще танцует, хотя живот уже заметен; летом ей нужно будет себя беречь. Кромвель помнит руку короля на талии Лиззи Сеймур. Дальше дело не пошло — Лиззи не дурочка. Теперь король увивается вокруг маленькой Мэри Шелтон — подбрасывает ее в воздух, щекочет, стискивает и доводит до беспамятства комплиментами. Это ничего не значит; он видит, как Анна вздергивает подбородок и, откинувшись в кресле, бросает какое-то тихое замечание; глаза лукавы, вуаль на миг задевает джеркин наглеца Фрэнсиса Уэстона. Очевидно, что Анна намерена терпеть Мэри Шелтон, даже умасливать. Лучше не выпускать короля за пределы семьи, а сестры под рукой нет. Где Мария Болейн? В деревне; наверняка, как и он, ждет не дождется тепла. И лето приходит, без паузы на весну, утром в понедельник, словно новый слуга с сияющим лицом, — тринадцатого апреля. Они в Ламбете — Одли, Кромвель и архиепископ. Солнце бьет в окна. Он смотрит вниз на дворцовый сад. Так начинается «Утопия»: друзья беседуют в саду. На дорожке королевские капелланы дурачатся, словно школяры: Хью Латимер повис на плечах у двух собратьев-клириков, так что ноги оторвались от земли. Для полного счастья им не хватает только мяча. — Мастер Мор, — говорит он, — что если вам прогуляться на солнышке? А через полчаса мы вас снова вызовем и предложим присягнуть; вы дадите нам другой ответ, не так ли? Мор встает; слышно, как щелкают суставы. — Томас Говард стоял ради вас на коленях! — говорит Кромвель. Кажется, это было недели назад. Работа за полночь и постоянные дискуссии по утрам вымотали его, зато обострили чувства, и он спиной ощущает, что Кранмер вот-вот сорвется. Надо выставить Мора на улицу, пока этого не произошло. — Не знаю, что, по-вашему, изменят полчаса, — говорит Мор. Тон беззлобный, добродушно-шутливый. — Конечно, для вас они многое могут изменить. Мор попросил, чтобы ему показали акт о престолонаследии. Одли разворачивает документ, и Мор принимается читать, хотя читал уже раз десять. — Очень хорошо. Однако я надеюсь, что выразился вполне ясно. Я не могу присягнуть, но не скажу ни слова против вашей присяги и не стану отговаривать тех, кто намерен ее принять. — Вы прекрасно знаете, что этого недостаточно. Мор кивает и стремительным зигзагом идет к двери, задевая угол стола, так что Кранмер вздрагивает и бросается ловить качнувшуюся чернильницу. Мор прикрывает за собой дверь. — Итак? Одли сворачивает документ и постукивает им по столу, глядя туда, где стоял Мор. Кранмер говорит: — Послушайте, я придумал. Что если мы позволим ему присягнуть тайно? Он клянется, но мы обещаем никому не говорить. Или, если не может дать эту присягу, мы спросим, какая бы его устроила? Кромвель смеется. — Вряд ли король с этим согласится. — Одли вздыхает. Тук, тук, тук. — После всего, что мы сделали для него и для Фишера. Его имя вычеркнуто из билля. Фишера оштрафовали, а не бросили в темницу до конца жизни. И мы же теперь это расхлебывай. — Блаженны миротворцы, — цедит Кромвель. Ему хочется кого-нибудь задушить. Кранмер говорит: — Мы побеседуем с Мором еще раз. Если он не хочет присягать, пусть хоть приведет основания. Кромвель, чертыхнувшись вполголоса, отворачивается от окна. — Мы знаем его основания. Вся Европа их знает. Мор против развода. Мор считает, что король не может быть главой церкви. Скажет он это? Ни за что, уж поверьте. А знаете, что бесит больше всего? Меня бесит, что я участвую в пьесе, которую он сочинил, от начала и до конца. Меня бесит, что мы тратим время, которое могли бы употребить на что-нибудь дельное, что наша жизнь уходит, и мы успеем состариться, прежде чем доиграем этот фарс. А больше всего меня бесит, что сэр Томас Мор сидит в зрительном зале и злорадно посмеивается, когда я сбиваюсь и путаю слова, потому что он сам написал роли. Писал их все эти годы. Кранмер, как мальчишка-слуга, наливает ему вина, подходит бочком: — Вот. В руках архиепископа чаша неизбежно обретает сакральный смысл: не разбавленное водой вино, но некая двусмысленная смесь, это Моя кровь, это похоже на Мою кровь, это более-менее похоже на Мою кровь; сие творите в Мое воспоминание. Кромвель протягивает кубок обратно. Северные немцы получают перегонкой крепкое зелье — аквавите; оно бы сейчас лучше помогло. — Зовите Мора, — говорит он. Мгновение, и Мор в дверях, негромко чихает. — Бросьте, — улыбается Одли, — так ли надлежит являться герою? — Уверяю вас, я ни в коей мере не стремлюсь быть героем, — отвечает Мор. — Там траву скосили. Снова чихает, поправляет мантию, садится в поставленное ему кресло. А в первый раз отказался. — Так-то лучше, — говорит Одли. — Я знал, что воздух пойдет вам на пользу. Поднимает глаза, мол, давайте к нам, но он, Кромвель, дает понять, что останется, где стоял, у окна. — Уж и не знаю, — добродушно говорит Одли. — Сперва один не садится. Теперь другой. Вот, — придвигает Мору бумагу, — имена пресвитеров, которые вчера принесли клятву и подали вам пример. И вам известно, что все члены парламента согласились. Почему не соглашаетесь вы? Мор смотрит из-под бровей: — Нам всем сейчас здесь неуютно. — Там, куда отправитесь вы, много неуютнее, — говорит Кромвель. — Надеюсь, это будет не ад, — улыбается Мор. — Если вы, присягнув, обречете себя на погибель, то как насчет остальных? — Кромвель рывком отделяется от стены, хватает бумагу и шлепает ее на плечо Мору. — Они все прокляты? — Я не могу отвечать за их совесть, только за свою собственную. Если я принесу вашу присягу, то буду проклят. — Многие позавидовали бы вашему умению читать волю Божью, — говорит Кромвель. — Впрочем, вы с Богом давно запанибрата, верно? Меня изумляет ваша дерзость. Вы говорите о своем Творце как о приятеле, с которым в воскресенье вместе удили рыбу. Одли подается вперед. — Давайте проясним. Вы не можете присягнуть, потому что вам не позволяет совесть? — Да. — Не соблаговолите ли объяснить более внятно? — Нет. — Вы возражаете, но не станете говорить, почему? — Да. — В данном случае для вас неприемлем статут, или форма присяги, или сама идея присяги как таковая? — Я предпочел бы не отвечать. Кранмер вмешивается: — В вопросах, затрагивающих совесть, всегда остается место для сомнений… — О да, но это не каприз. Я долго и прилежно советовался с собой, и в данном вопросе голос моей совести вполне отчетлив. — Мор склоняет голову набок, улыбается. — Разве с вами не так, милорд? — И все же наверняка есть какие-то сомнения. Вы ученый, привыкли к дебатам и разногласиям, так что наверняка спрашиваете себя: почему столько образованных мужей думает так, а я — иначе? Одно бесспорно: естественный долг подданного — покорствовать королю. К тому же давно, вступая в должность в совете, вы клялись ему повиноваться. Почему же не повинуетесь? — Кранмер моргает. — Противопоставьте свои сомнения этой непреложности и присягните. Одли откидывается в кресле и закрывает глаза, словно говоря: никто из нас лучше не скажет. Мор говорит: — Когда вы вступали в сан архиепископа, назначенного папой, вы присягнули Риму, но утверждают, будто во время всей церемонии вы держали в кулаке сложенную записку, где говорилось, что вы клянетесь против своей воли. Или это неправда? Утверждают, будто текст записки составил мастер Кромвель. Одли резко открывает глаза: лорду-канцлеру кажется, что Мор отыскал для себя лазейку. Однако за улыбкой Мора прячется злоба. — Я не пойду на такие фокусы, — мягко произносит Мор, — не стану ломать комедию перед моим Господом Богом, не говоря уже об английских верующих. Вы говорите, что за вами большинство. Я говорю, что оно за мной. Вы говорите, за вами парламент, а я говорю, что за мною ангелы и святые, и весь сонм усопших христиан, все поколения с основания церкви Христовой, тела единого и нераздельного… — О, ради Христа! — вскипает он. — Ложь не перестает быть ложью из-за того, что ей тысяча лет. Ваша нераздельная церковь ничего так не любит, как терзать собственных чад, жечь их и рубить, когда они отстаивают свою совесть, вспарывать им животы и скармливать внутренности псам. Вы зовете себе на помощь историю, но что она для вас? Зеркало, которое льстит Томасу Мору. Однако у меня есть другое зеркало, и в нем отражается опасный честолюбец. Я поворачиваю его, и в нем отражается убийца, ибо один Бог ведает, скольких вы утащите за собой — им достанутся только страдания, но не ваш ореол мученика. Вы не простая душа, так что не пытайтесь упрощать. Вы знаете, что я вас уважал. Уважал с детства. Мне легче было бы потерять сына, легче было бы видеть, как ему отрубят голову, чем смотреть, как вы отказываетесь от присяги на радость всем врагам Англии. Мор поднимает глаза и мгновение выдерживает его взгляд. — Грегори — милый юноша. Не желайте ему смерти. Если он что-нибудь делает не так, он исправится. То же самое я говорю о своем сыне. На что он годен? И все же он стоит больше любого дискуссионного вопроса. Кромвель готов прибить Мора за один этот добродушный тон. Кранмер в отчаянии трясет головой: — Это не дискуссионный вопрос. — Вы упомянули своего сына, — говорит Кромвель. — Что будет с ним? С вашими дочерьми? — Я посоветую им присягнуть. Я не предполагаю в них моей щепетильности. — Я не об этом, и вы прекрасно меня поняли. Вы хотите поработить их императору? Вы — не англичанин. — Вы сам едва ли англичанин, — говорит Мор. — Французский солдат, итальянский банкир. Едва выйдя из отрочества, вы бежали на чужбину, спасаясь от тюрьмы или от петли, грозивших вам за вашу юношескую необузданность. Я скажу вам, кто вы, Кромвель. Вы итальянец до мозга костей, со всеми их страстями и пороками. Ваша неизменная обходительность — я знал, что когда-нибудь она кончится. Это монета, которая слишком часто переходила из рук в руки. Тонкий слой серебра стерся, и мы видим низкий металл. Одли ухмыляется: — Вы, кажется, не следите за трудами мастера Кромвеля на Монетном дворе. Деньги, которые он чеканит — высшей пробы. Одли не может не зубоскалить, такой уж у лорда-канцлера характер; кто-то должен сохранять спокойствие. Кранмер бледен и в поту, у Мора на виске пульсирует жилка. Кромвель говорит: — Мы не можем отпустить вас домой. Однако мне представляется, что вы сегодня не в себе. Поэтому, чем отправлять в Тауэр, мы, очевидно, попросим аббата Вестминстерского подержать вас под арестом у себя дома… Вы согласны, милорд Кентербери? Кранмер кивает. Мор говорит: — Мне не следовало насмехаться над вами, мастер Кромвель. Теперь я вижу, что вы мой самый дорогой и заботливый друг. Одли кивает страже. Мор встает легко, словно мысль об аресте добавила ему молодых сил; впечатление несколько подпорчено тем, что он по обыкновению поддергивает мантию и, делая семенящее движение, как будто запутывается в своих ногах. Ему, Кромвелю, вспоминается Мария в Хэтфилде: как та встала и тут же забыла, где ее табурет. Мора наконец спроваживают из комнаты. — Теперь наш друг получил в точности что хотел, — говорит Кромвель. Он прикладывает руку к окну и видит отпечатки своих пальцев на старом бугристом стекле. С реки натянуло облаков; лучшая часть дня позади. Одли идет к нему через комнату и неуверенно встает рядом. — Если бы только Мор указал, какие части присяги для него неприемлемы, можно было бы что-нибудь добавить, чтобы снять возражения. — Забудьте. Если он что-нибудь укажет, ему конец. Теперь единственная его надежда в молчании, и та призрачная. — Король мог бы согласиться на какой-то компромисс, — говорит Кранмер. — А вот королева, боюсь, нет. Да и впрямь, — продолжает архиепископ слабым голосом, — с какой стати ей соглашаться? Одли кладет руку ему на локоть. — Мой дорогой Кромвель. Кто в силах понять Мора? Его друг Эразм советовал ему держаться подальше от власти, для которой он не создан, и был совершенно прав. Ему не следовало принимать мой нынешний пост. Он сделал это исключительно в пику Вулси, из ненависти к тому. Кранмер говорит: — Эразм советовал ему воздерживаться и от богословия тоже. Или я ошибаюсь? — Как вы можете ошибаться? Мор публикует все письма своих друзей. Даже содержащиеся в них упреки обращает к своей выгоде — смотрите, мол, на мое смирение, я ничего не скрываю. Он живет на публику. Каждая посетившая его мысль излагается на бумаге. Он ничего не держал при себе до сего дня. Одли, перегнувшись через него, распахивает окна. Через подоконник в комнату перехлестывает птичий гомон — заливистый, громкий свит дрозда-дерябы. — Думаю, Мор напишет отчет о сегодняшнем дне, — говорит Кромвель, — и отошлет печатать за границу. В глазах Европы мы предстанем дураками и мучителями, а он — невинным страдальцем и автором блистательных афоризмов. Одли похлопывает его по плечу — хочет утешить. Однако кому это под силу? Он безутешный мастер Кромвель: непостигаемый, неизъяснимый и, возможно, неупраздняемый.
На следующий день король за ним посылает. Он думает, Генрих хочет распечь его за неспособность привести Мора к присяге. — Кто будет сопровождать меня на эту фиесту? — спрашивает Кромвель. — Мастер Сэдлер? Как только он входит, Генрих грозным движением руки велит приближенным освободить ему место. Лицо мрачнее тучи. — Кромвель, разве я был вам дурным государем? Незаслуженная доброта вашего величества… ваш ничтожный слуга… если не оправдал ожиданий в чем-либо конкретном, умоляю всемилостивейше простить… Он может так говорить часами. Научился у Вулси. Генрих перебивает: — Милорд архиепископ считает, что я не воздаю вам по заслугам. Однако, — обиженный тон человека, которого неправильно поняли, — я славлюсь своей щедростью. — Генрих явно озадачен: как же так вышло? — Вы станете государственным секретарем. Награды воспоследуют. Не понимаю, почему я не сделал этого раньше. Но скажите мне: на вопрос о лордах Кромвелях, которые некогда были в Англии, вы ответили, что никак с ними не связаны. Вы ничего с тех пор не надумали? — Сказать по чести, я больше об этом не вспоминал. Я не возьму ни чужое платье, ни чужой герб, иначе покойник встанет из могилы и разоблачит меня как самозванца. — Милорд Норфолк говорит, вы нарочно выставляете свое низкое происхождение напоказ, желая ему досадить. — Генрих берет его под руку. — Отныне куда бы я ни ехал — хотя этим летом мы воздержимся от дальних поездок, учитывая состояние королевы, — вам будут отводить комнаты рядом с моими, чтобы мы могли разговаривать, когда мне потребуется, и по возможности смежные, чтобы никого за вами не посылать. — Король улыбается придворным, и те приливают, как волна. — Разрази меня Бог, — продолжает Генрих, — если умышленно вами пренебрегал. Я знаю, кто мне друг. На улице Рейф говорит: — Разрази его Бог… Как же он страшно божится! — Обнимает хозяина. — Что ж, лучше поздно, чем никогда. Но послушайте, я должен вам кое-что рассказать, пока мы не дома. — Говори сейчас. Что-то хорошее? Подходит джентльмен и говорит: — Господин секретарь, ваша барка готова доставить вас домой. — Надо мне завести дом возле реки, — произносит Кромвель. — Как у Мора. — И оставить Остин-фрайарз? — спрашивает Рейф. — Вспомните свой теннисный корт. Сады. Король все подготовил втайне. Герб Гардинера сбили, и над флагом с розой Тюдоров сейчас поднимают флаг с гербом Кромвеля. Он впервые поднимается на борт собственной барки, и на реке Рейф сообщает свои новости. Качание суденышка под ногами едва ощутимо. Флаги обвисли. Все еще утро, мглистое, пегое; кожа, ткань или свежая листва — там, где на них попадает солнце — поблескивают, словно яичная скорлупа. Углы сглажены, весь мир лучится и напоен влажным зеленым ароматом. — Я уже полгода женат, — говорит Рейф, — и никто не знает, только вы теперь знаете. Я женился на Хелен Барр. — О, кровь Христова! — восклицаетон. — В моем собственном доме! О чем ты думал? Рейф безмолвно выслушивает все: ни гроша за душой, ни связей, ни положения, ничего, кроме красивой мордашки, ты мог бы жениться на богатой наследнице. Вот погоди, я сообщу твоему отцу! Он будет в ярости, скажет, что я за тобой не доглядел. — А вообрази, что вдруг объявится ее муж! — Вы сказали ей, что она свободна. — Рейф дрожит. — Кто из нас свободен? Он вспоминает, как Хелен спросила: «Так я могу снова выйти замуж? Если кто-нибудь меня возьмет?» Вспоминает ее долгий многозначительный взгляд, которого тогда не понял. С тем же успехом она могла пройтись перед ним колесом, он бы не заметил: для него разговор был окончен, и мысли уже двинулись в другую сторону. Если бы я сам перед нею не устоял, кто бы меня осудил за женитьбу на бедной прачке — да хоть на уличной попрошайке? Люди сказали бы: вот чего хотел мастер Кромвель, упругую женскую плоть, мудрено ли, что он пренебрег богатыми вдовушками. Ему не нужны деньги, не нужны связи, он волен следовать своим влечениям, он уже сегодня государственный секретарь, а завтра — кто знает? Он смотрит на воду, то бурую, то прозрачную под солнцем, но всегда подвижную: в глубине ее рыбы, водоросли; утопленники колышут неживыми руками. На илистый берег выбрасывает пряжки от ремней, осколки стекла, мелкие монетки со стершимся профилем короля. Как-то в детстве он нашел подкову. Лошадь в реке? Ему казалось это большим везением. Однако отец сказал: если бы подковы приносили счастье, я был бы королем Страны Обжор.
Первым делом он идет на кухню рассказать Терстону новости. — Ну, — весело говорит повар, — вы так и так эту работу исполняете. — Смеется. — Епископ Гардинер сгорит от злости. Его кишки изжарятся в собственном жиру. — Сдергиваете подноса окровавленное полотенце. — Видите этих перепелок? У осы и то больше мяса. — Потушить их в мальвазии? — предлагает он. — Что, три дюжины? Только вино переводить. Для вас, если хотите, могу и потушить. Это от лорда Лайла из Кале. Будете ему писать, скажите, пусть следующий раз, как захочет сделать вам подарок, шлет жирненьких или никаких. Запомните? — Запишу для памяти, — серьезно отвечает он. — Думаю, теперь совет будет время от времени собираться здесь, когда без короля. Можно будет сперва кормить всех обедом. — Верно. — Терстон хихикает. — Норфолку не помешало бы нарастить мясца на его тощие ноги. — Терстон, ты можешь больше не пачкать руки. У тебя довольно помощников — надень золотую цепь и расхаживай между ними. — А вы разве так поступаете? — Птичья тушка шмякается на поднос, Терстон счищает с пальцев налипшие перья. — Нет уж, я лучше сам. На случай, если все повернется иначе. Я не говорю, что так будет, но вспомните кардинала. Он вспоминает Норфолка: велите ему убираться с глаз долой, иначе я сам к нему явлюсь и разорву его вот этими зубами. Могу я сказать не «разорвете», а «покусаете»? На память приходит пословица: homo homini lupus est, человек человеку волк.
— Итак, — говорит он Рейфу, — ты сделал себе имя, мастер Сэдлер. Подал отличный пример, как человек может сгубить свою будущность. Отцы будут указывать на тебя сыновьям. — Я ничего не мог с собой поделать, сэр! — Это как? Рейф отвечает насколько может сухо: — Я был охвачен сильнейшей страстью. — И что это за ощущение? Вроде сильнейшего гнева? — Наверное. Возможно. Чувствуешь себя более живым. Интересно, думает он, влюблялся ли кардинал? Впрочем, какие могут быть сомнения? Всепоглощающая любовь Вулси к Вулси опалила всю Англию. — Скажи мне, в тот вечер, после коронации… — Он встряхивает головой, перебирает бумаги на столе: письма от мэра Гулля. — Я все расскажу, что ни спросите, — говорит Рейф. — Понять не могу, как я вам сразу не открылся. Только Хелен, моя жена, она думала, нам лучше хранить тайну. — А теперь, как я понимаю, она ждет ребенка, и скрывать больше нельзя? Рейф краснеет. — В тот вечер, когда я пришел в Остин-фрайарз, чтобы отвезти ее к жене Кранмера, она спустилась… — его глаза движутся, словно снова видят ту картину, — она спустилась без чепца, а ты выбежал следом, взъерошенный, и был очень на меня зол… — Да. — Рейф непроизвольно приглаживает волосы, будто сейчас это что-то исправит. — Все ушли на праздник. Тогда мы впервые сошлись, но это был не блуд. Она поклялась быть навеки моей. Он думает, хорошо, что я взял к себе в дом не бесчувственного юнца, думающего только о своей выгоде. Тот, кто не знает порывов, не ведает и настоящей радости. Под моим покровительством Рейф может позволить себе следовать душевным порывам. — Слушай, Рейф. Это… ну, видит Бог, это глупость, но не катастрофа. Скажи отцу, что мое возвышение обеспечит твою карьеру. Конечно, он будет рвать и метать. На то они и отцы. Он скажет, будь проклят день, когда я отдал сына в распутный дом Кромвеля. Но мы его урезоним. Постепенно. До сих пор Рейф стоял, теперь оседает на табурет — голова запрокинута, руки стиснули виски, облегчение разливается по всему телу. Кого он так боялся? Меня? — Послушай, как только твой отец увидит Хелен, он поймет, если только он не… Если только что? Надо быть мертвым и в могиле, чтобы не увидеть ее прекрасное, дерзкое тело, ее кроткие глаза… — Только надо снять полотняный фартук и нарядить ее как мистрис Сэдлер. И конечно, тебе потребуется свой дом. Тут я могу помочь. Я буду скучать по детям, я к ним привязался, и Мерси тоже, мы все их любим. Если хочешь, чтобы твой ребенок был первым в доме, мы можем оставить их здесь. — Спасибо. Но Хелен с ними не расстанется. Мы уже все меж собой решили. Значит, у меня в Остин-фрайарз больше не будет детей, думает он. Во всяком случае, пока я не оторвусь от королевских дел и не выделю время для ухаживаний; и пока не научусь слушать женщину, когда та ко мне обращается. — Чтобы твой отец смягчился, скажем ему вот что: отныне, если я отлучаюсь от короля, с ним остаешься ты. Мастер Ризли пусть занимается шифрами и слежкой за иностранными послами — эта работа как раз для его хитрой натуры. Ричард будет в мое отсутствие за старшего в доме и конторе, мы же с тобой станем обхаживать Генриха как две нянюшки, исполняя каждый его каприз. — Он смеется. — Ты джентльмен по рождению. Король может приблизить тебя к себе, назначить камергером. Мне это было бы полезно. — Я этого не ждал. Даже не думал о таком! — Рейф опускает глаза. — Конечно, я не смогу представить Хелен ко двору. — В нынешнем мире — да. И я не думаю, что он изменится при нашей жизни. Однако ты сделал выбор. Не раскаивайся в нем ни сейчас, ни потом. Рейф говорит с чувством: — Разве я мог что-то от вас скрыть? Вы все видите! — Хм. Только до определенного предела. После ухода Рейфа он приступает к вечерней работе: бумага за бумагой ложится в свою стопку. Его билли приняты парламентом, но всегда есть следующий билль, который надо готовить. Составляя законы, проверяешь слова на прочность. Если закон предполагает наказание, имей силу наказывать: не только бедных, но и богатых, не только в Сассексе и Кенте, но и в Корнуолле, на границе с Шотландией и в болотах Уэльса. Он составил присягу, проверку на верность Генриху, и намерен привести к ней всех мужчин по городам и весям, а также всех сколько-нибудь значимых женщин: богатых вдов, землевладелиц. Его комиссары пройдут по холмам и долам, требуя от людей, едва слышавших об Анне Болейн, признать наследником ребенка в ее утробе. Если человек знает, что короля зовут Генрихом, пусть клянется; плевать, что он путает нынешнего монарха с его отцом или каким-нибудь другим Генрихом. Народ не помнит своих государей; их черты на монетах, которые он в детстве выуживал из речного ила, были едва ощутимой неровностью под пальцами; даже дома, счистив грязь, он не мог разобрать, кто на них. Это кто, король Цезарь? — спросил он. Уолтер сказал, дай глянуть, и тут же с отвращением отбросил монетку, сказав, это фартинг одного из тех королей, которые воевали во Франции. Иди зарабатывай, сказал отец, и выкинь из головы Цезаря — когда Адам лежал в колыбели, Цезарь уже был стариком. Он мог бы пропеть: «Кто джентльменом был спервоначала, когда Адам пахал, а Ева пряла?» — Уолтер погнался бы за ним и, если бы догнал, навешал оплеух: это бунтарская песенка, у нас с бунтовщиками разговор короткий. Мятежные корнуольцы из дней его детства лежат в неглубоких могилах, но всегда есть другие корнуольцы. А под Корнуоллом, под всей Англией и дальше, под топкими болотами Уэллса и гористым шотландским приграничьем есть другая земля, куда вряд ли доберутся его комиссары. Кто приведет к присяге хобгоблинов, обитающих в дуплах и колючих изгородях? Диких людей в лесной чаще? Святых в нишах? Духов священных источников, чьи голоса звучат в шелесте жухлой листвы? Выкидышей, зарытых в неосвященную землю? Незримых покойников, что теснятся зимой у кузниц и сельских очагов, силясь согреть голые кости? Ибо и они — его соотечественники, несметные поколения мертвецов, застящих живым свет: бескровные призраки господина и слуги, монашки и шлюхи, попа и монаха — они пожирают живую Англию, высасывают соки из ее будущего. Он смотрит в бумаги на столе, но мысли далеко. Моя дочь Энн сказала: «Я выбираю Рейфа». Он закрывает лицо руками; Энн Кромвель встает перед ним, десяти-одиннадцати лет от роду, коренастая и решительная, как боец, ее маленькие глаза не мигают, уверенные в своей власти над судьбой. Он трет веки. Перебирает бумаги. Что это? Аккуратный писарский почерк, все слова разборчивы, но смысла в них нет.
Два ковра. Один разрезан на куски. 2 простыни, 2 подушки, 1 тюфяк. 2 тарелки, 4 миски, 2 блюдца. Один таз, весом 12 фунтов, 4 пенса за фунт; приобретен аббатисой за 4 шиллинга.Он переворачивает бумагу, пытаясь понять, откуда она взялась, и осознает, что смотрит на опись имущества Элизабет Бартон, оставшегося в монастыре. Все это отошло королю: доска, служившая столом, три наволочки, два подсвечника, плащ стоимостью пять шиллингов. Старая пелерина пожертвована младшей монахине обители. Еще одна монахиня, сестра Алиса, получила одеяло. Он сказал Мору: «Пророчества ее не обогатили». Делает для себя пометку: «Передать Элизабет Бартон деньги для палача». Последним, кого она увидит, поднимаясь по лестнице, будет палач с протянутой лапищей. Блаженная должна дать ему монету, иначе перед смертью ее ждут лишние мучения. Она думала о том, за какое время сгорает тело, но не о том, сколько повешенный задыхается в петле. Англия немилосердна к беднякам. За все надо платить, даже за то, чтобы тебе переломили шею. Семья Томаса Мора присягнула. Он сам при этом присутствовал, и леди Алиса ясно дала понять, что считает Кромвеля ответственным за неспособность урезонить ее мужа. — Спросите его, о чем он, во имя Господа, думает. Спросите, он что, считает это умно: оставить жену без поддержки, сына — без совета, дочерей — без защиты, и всех нас — во власти такого человека, как Томас Кромвель? — Ну вот, и вам досталось, — с тихой полуулыбкой произносит Мэг, беря его руки в свои. — Мой отец очень тепло о вас отзывался. О вашей учтивости и вашей резкости, которую считает не менее для себя лестной. Он говорит, что надеется, вы его понимаете. Как он понимает вас. — Мэг! Вы в силах посмотреть мне в глаза? Еще одно женское лицо, поникшее под тяжестью жесткого чепца: Мэг теребит вуаль, словно они стоят на ветру и тонкая ткань в силах ее защитить. — Я уговорю короля повременить день-другой. Думаю, ему самому не хочется отправлять вашего отца в Тауэр, он только и ждет малейшего намека на… — Капитуляцию? — Поддержку. И тогда… награда превысит все ожидания. — Сомневаюсь, что король может предложить ту награду, к которой он стремится, — говорит Уилл Ропер. — Увы. Идем, Мэг, надо увести твою мать, пока она не устроила сцену. — Ропер протягивает руку. — Мы знаем, что вы не мстительны, сэр. Хотя, видит Бог, он не был другом вашим друзьям. — Вы сами были когда-то их братом. — Люди меняют взгляды. — Всецело согласен. Скажите это своему тестю. Неутешительные слова для прощания. Я не позволю Мору, да и его семье, думает Кромвель, тешиться иллюзией, будто они меня понимают. Как им меня понять, если мои мотивы скрыты от меня самого? Он делает пометку: Ричарду Кромвелю явиться к аббату Вестминстерскому, чтобы сопроводить арестованного сэра Томаса Мора в Тауэр. Почему я медлю? Дадим-ка ему еще день. Пятнадцатое апреля 1534 года. Он зовет клерка разобрать завтрашние бумаги, а сам остается у камина. Полночь, свечи почти догорели. Он берет одну и поднимается наверх. В ногах большой одинокой кровати храпит, разметавшись, Кристоф. Боже, думает он, как комична моя жизнь. «Проснись!» — он не кричит, а шепчет, и когда Кристоф не просыпается, начинает катать того взад-вперед, как тесто на доске. Наконец мальчишка открывает глаза и выдает затейливое французское богохульство. — Мой добрый хозяин, я не знал, что это вы, мне снилось, что я пирожок. Простите, я вдребезги пьян, мы отмечали союз прекрасной Хелен со счастливчиком Рейфом. Кристоф поднимает сжатый кулак и делает непристойный жест, потом рука безвольно падает на грудь, веки сами собой закрываются. Последний раз икнув, Кристоф снова проваливается в сон. Кристоф тяжел, как упитанный щенок бульдога. Он стаскивает слугу на лежанку; тот сопит, бормочет, но больше не просыпается. Кромвель складывает одежду и читает молитвы. Кладет голову на подушку. «7 простынь, 2 подушки, один тюфяк». Он засыпает, едва задув свечу, но во сне к нему приходит дочь Энн. Она скорбно поднимает левую руку, показывая, что на пальце нет обручального кольца, потом закручивает волосы в жгут и наматывает себе на шею, как удавку.
Преполовение лета: женщины спешат в покои королевы со стопками чистых простынь. Глаза пустые, напуганные, поступь торопливая, сразу понятно — их лучше не останавливать. Разводят огонь в камине, жгут окровавленное тряпье. Если есть что хоронить, эта тайна надежно сберегается женщинами. В ту ночь, ссутулившись в оконной нише, под острыми, как ножи, звездами, Генрих сказал ему: я виню Екатерину. Ее утроба поражена недугом. Все эти годы она меня обманывала: она не могла выносить мальчика и знала об этом от своих врачей. Екатерина утверждает, что по-прежнему меня любит, а на самом деле сживает меня со свету. Она приходит по ночам, с холодными руками и холодным сердцем, и ложится между мной и женщиной, которую я люблю. Она кладет руку на мои чресла, и от ее ладони пахнет могилой. Лорды и леди дают служанкам и повитухам деньги, спрашивают, какого пола был ребенок, но женщины отвечают то так, то эдак. Да и неизвестно, что хуже: если Анна зачала еще девочку или если выкинула мальчика. Преполовение лета: по всему Лондону жгут костры, все короткие ночи напролет. По улицам бродят драконы, пускают из ноздрей дым и лязгают механическими крыльями.
II Карта христианского мира
1534–1535
— Хотите место Одли? — спрашивает его Генрих. — Только скажите. Лето кончилось. Император не напал. Папа в могиле вместе со своим вердиктом; игру можно начинать по новой. Он оставил дверь приоткрытой, самую малость, чтобы новый епископ Римский мог разговаривать с Англией. Сам он предпочел бы захлопнуть дверь наглухо, но здесь не до личных предпочтений. Кромвель задумывается: надо ли становиться канцлером? Хорошо бы иметь пост в судебной иерархии, так почему не высший? — Мне не хотелось бы трогать Одли. Если ваше величество им довольны, то и я тоже. Он помнит, что Вулси как лорд-канцлер вынужден был торчать в Лондоне, когда король находился в другом месте. Да, Вулси много заседал в судах, но у нас довольно стряпчих. Генрих говорит, просто скажите, что, по-вашему, лучше. Мольба влюбленного: что же тебе подарить? Король говорит, Кранмер убеждает меня, слушайте Кромвеля; если ему нужен пост, налог, пошлина, закон или королевская прокламация, дайте их. Место начальника судебных архивов свободно. Это древний пост главы одной из важнейших канцелярий Англии. Все эти высокоученые мужи, по большей части епископы, которые лежат под мраморными надгробьями с латинскими надписями, перечисляющими их добродетели, станут его предшественниками. Он никогда не чувствовал себя таким живым, как сейчас, когда срывает с дерева этот сочный плод. — Вы были правы насчет кардинала Фарнезе, — говорит Генрих. — Теперь у нас новый папа — я должен был сказать, епископ Римский, — и я выиграл свое пари. — Вот видите, — отвечает Кромвель, улыбаясь. — Кранмер был прав. Слушайтесь моих советов. Двор веселится, узнав, как римляне отметили смерть папы Климента: вскрыли гробницу и протащили голое тело по улицам.Дом архивов на Чансери-лейн — престранное место; он в жизни не видел ничего диковиннее. Внутри пахнет плесенью, пылью и свечным салом. Сразу за кособоким фасадом начинается лабиринт узких коридоров с низкими дверьми. Интересно, были наши предки карликами или просто не умели как следует подпирать потолки? Дом построен триста лет назад тогдашним Генрихом в качестве убежища для евреев, желавших перейти в христианство. Если они решались на этот шаг — весьма разумный для тех, кто хотел спастись от преследований, — то должны были передать все имущество короне. Это справедливо, что после корона обеспечивала им кров и пропитание до конца дней. Кристоф впереди него бежит вглубь дома. — Гляньте! Ведет пальцем через огромную паутину, оставляя в ней длинную прореху. — Бессердечный мальчишка! Ты разрушил ее дом! — Он разглядывает иссохшую жертву Ариадны: лапка, крылышко. — Идем, пока она не вернулась. Через пятьдесят лет после создания приюта евреев навеки изгнали из королевства. Однако дом никогда не пустовал; даже и сейчас здесь живут две женщины. Я к ним загляну, говорит он. Кристоф простукивает стены и потолок с таким видом, будто знает, что ищет. — А не дашь ли ты стрекача, — с удовольствием произносит он, — если на твой стук ответят? — О, Господи! — Мальчишка крестится. — Тут, небось, человек сто померло, и евреев, и христиан. За штукатуркой точно лежат мышиные скелетики: сотни поколений, некогда проворные лапки отбегали свое и обрели вечный покой. Запах их живых потомков чувствуется в воздухе. Вот работа для Марлинспайка, если мы сумеем его поймать. Кардинальский кот одичал, разгуливает по лондонским садам, соблазняясь запахом карпов в монастырских прудах, и — кто знает — возможно, ходит за реку понежиться на руках у продажных женщин, подле дряблых грудей, натертых розовыми лепестками и амброй. Он воображает, как Марлинспайк мурлычет, потягивается, отказываясь возвращаться домой. — Какой из меня начальник архивов, если я не могу призвать к порядку собственного кота? — говорит он Кристофу. — У бумаг нет лап, не убегут. — Кристоф пинает деревянный порожек. — Видите? Он рассыпается под ногой. Оставит ли он привычный уют Остин-фрайарз ради крохотных окошек с тусклыми стеклами, ради этих скрипучих коридоров и древних сквозняков? «Отсюда ближе до Вестминстера», — говорит он. Уайтхолл, Вестминстер и река, секретарской баркой вниз до Гринвича или вверх до Хэмптон-корта. Я буду часто наведываться в Остин-фрайарз, обещает он себе, почти каждый день. Он строит окованное железом хранилище для ценностей, которые доверяет ему король; все их можно быстро обратить в живые деньги. Сокровища привозят на обычных телегах, правда, под охраной вооруженных всадников. Чаши упакованы в специальные кожаные футляры, блюда путешествуют в холщовых мешках, переложенные белой шерстяной тканью по семь пенсов за ярд. Драгоценные камни завернуты в шелк и уложены в шкатулки с новыми блестящими замками; ключи от этих замков у него. Влажно поблескивают огромные океанские жемчужины, в сапфирах — весь жар Индии. Иные камни похожи на ягоды, которые срываешь, гуляя вечером по округе: гранаты — терн, розовые алмазы — шиповник. Алиса говорит: — За пригоршню таких камней я бы сбросила любую королеву в христианском мире. — Счастье, что король с тобой незнаком, Алиса. Джо замечает: — А я бы предпочла лицензии на заморскую торговлю. Или военные контракты. На ирландских войнах кто-нибудь здорово обогатится. Бобы, мука, солод, лошади… — Я выясню, что можно для тебя сделать, — говорит он. Дом в Остин-фрайарз арендован на девяносто девять лет. Там будут жить его праправнуки — какие-то неведомые лондонцы. Когда они возьмут в руки документы на дом, прочтут его имя. Его герб будет красоваться над их дверью. Он кладет руку на перила парадной лестницы, смотрит на пляску пылинок в снопе света из высокого окна. Когда я последний раз стоял вот так? В Хэтфилде, в начале года: подняв голову, вслушивался в давно умолкшие звуки. Если я ездил в Хэтфилд, наверняка туда ездил и Томас Мор. Может быть, его-то легкие шаги я различил сквозь время? Чей же это все-таки был кулак из ниоткуда? Поначалу он думал перевезти на Чансери-лейн бумаги и клерков, чтобы Остин-фрайарз снова стал домом. Но для кого? Он достал часослов Лиз и на странице, где она отмечала семейные события, сделал поправки, дополнения. Рейф скоро переедет в Хакни, новый дом уже почти готов; Ричард строится рядом, будет жить там со своей женой Франсис. Алиса выходит за его воспитанника Томаса Ротерхема. Ее брат Кристофер принял сан и получил приход. Заказано свадебное платье для Джо: она идет под венец с его другом, правоведом Джоном ап Райсом, которым он восхищается и на чью преданность рассчитывает. Я хорошо позаботился о своих близких, думает Кромвель; никто не бедствует, никто не страдает, все надежно устроены в этом ненадежном мире. Он медлит, глядя на сноп света, то золотистый, то голубоватый, когда на солнце находит облако. Если кто-то хочет спуститься по его душу, пусть спустится сейчас. Дочь Энн с ее громоподобным топотом; он бы сказал ей, давай обмотаем тебе копыта тряпьем, как лошадке? Грейс, бесшумная, как круженье пылинок в воздухе — они были, и вот их нет. Лиз, спустись. Однако Лиз молчит: не уходит и не остается. Она с ним и не с ним. Он отводит взгляд. Итак, этот дом станет конторой. Как любое место, где он будет жить. Мой дом там, где мои бумаги и мои клерки; в остальное время мой дом рядом с королем, куда бы тот ни отправился. — Теперь, когда мы переезжаем в Дом архивов, я могу сказать, cher maître,[95] как я рад, что вы меня не бросили. Без вас меня тут дразнили бы тупицей и говорили, что у меня вместо головы репа. — Ну, — он оглядывает Кристофа, — голова у тебя и впрямь похожа на репу. Спасибо, что обратил мое внимание. Перебравшись в Дом архивов, он оценивает свое положение: неплохо. Два поместья в Кенте он продал, но король пожаловал ему имение в Монмаутшире, а еще одно, в Эссексе, он покупает сам. Кроме того, он присмотрел землю в Хакни и Шордиче и собирается арендовать участки, прилегающие к дому в Остин-фрайарз; там намечено кое-какое строительство, а потом можно будет обнести все общей стеной. Готовы землемерные планы и описи четырех имений — по одному в Бедфордшире и Монмаутшире и двух в Эссексе — для передачи в управление, чтобы доходы от них шли Грегори. Все это мелочи по сравнению с тем, чего он намерен добиться. Что будет должен ему Генрих. Тем временем его издержки напугали бы человека более слабого. На осуществление королевских желаний нужны люди и средства. Траты советников короля огромны, а ведь многие не вылезают из ломбарда и каждый месяц приходят к нему, латать дыры в бюджете. Он продолжает давать им в долг и пока не требует возврата: в Англии расплачиваются не только деньгами. Он чувствует, как вокруг него раскидывается огромная паутина, сеть полученных показанных услуг. За близость к королю положено платить, а он сейчас ближе к государю, чем кто-либо иной. Тем временем из уст в уста передается молва: помоги Кромвелю, и он поможет тебе. Будь верен, прилежен, блюди его интересы, и ты без награды не останешься. Тем, кто ему служит, обеспечены карьера и покровительство. Он добрый друг и хозяин — так говорят о нем повсюду. В остальном — старая песня. Его отец был кузнец, бесчестный пивовар, ирландец, преступник, еврей; он сам — в прошлом суконщик, да нет, не суконщик, а стригаль, а теперь колдун — кто, кроме колдуна, мог бы забрать такую власть? Шапюи пишет о нем императору: его молодость покрыта мраком, однако он весьма приятен в обхождении, а дом содержит на самую широкую ногу. Владеет множеством языков, пишет Шапюи, и весьма красноречив, однако, добавляет посол, его французский всего лишь assez bien.[96] Он думает: для тебя и это слишком. Теперь хватило бы и кивка. Последние месяцы совет трудится без устали. Все лето шли переговоры с шотландцами, теперь с ними заключен мир, но взбунтовались ирландцы. Только Дублинский замок и Уотерфорд верны королю; мятежные лорды предлагают императорским войскам свои услуги и свои порты. Ирландия — гнусная дыра, доходы от которой не покрывают королю расходов на содержание войск, но и уйти оттуда нельзя — ее вмиг займут другие. Там почти нет закона; ирландцы считают, что убийство можно загладить денежным возмещением, и, как валлийцы, исчисляют человеческую жизнь в головах скота. Народ разоряют податями и штрафами, конфискациями и просто грабежом среди бела дня; благочестивые англичане воздерживаются от мяса по средам и пятницам, ирландцы же, как гласит шутка, еще набожнее — они не едят мяса и во все остальные дни. Их владетельные лорды жестоки и дерзки, коварны и вероломны; кровная месть, вымогательство и захват заложников — главные занятия знати. Верность Англии они не ставят ни во что, никому не хотят служить и предпочитают силу закону. А вожди кланов не признают никаких ограничений своей власти. Они говорят, что на своей земле владеют всем: папоротником на склоне и вереском на пустоши, травой на лугу и ветром, который ее колышет, каждым человеком, и как скотом; в голодные зимы они забирают у людей хлеб, кормят им охотничьих псов. Разумеется, они не хотят быть англичанами: ведь Англия не позволит им владеть рабами. У Норфолка по-прежнему есть крепостные, и даже когда суд постановляет их отпустить, герцог ждет денежного возмещения. Король предлагает отправить Норфолка в Ирландию, но тот отвечает, что и так там насиделся и поедет с одним условием: если ему выстроят мост, чтобы в конце недели возвращаться домой, не замочив ног. Они с Норфолком сражаются в зале совета. Герцог бушует, Кромвель сидит, сложив руки на груди, и спокойно смотрит. Надо отправить в Дублин юного Фицроя, говорит он совету. Пусть поучится королевскому ремеслу: людей посмотрит и себя покажет. Ричард говорит ему: — Может быть, нам поехать в Ирландию, сэр? — Думаю, я свое отвоевал. — А я хотел бы попасть на войну. Каждый мужчина должен через это пройти. — В тебе говорит твой прадед, лучник ап Эванс. Думай пока о том, как достойно выступить на турнире. Ричард успел зарекомендовать себя отменным бойцом. Все более или менее так, как говорит Кристоф: хрясь! — и они лежат. Можно подумать, рыцарское искусство у племянника в крови, как у знатных лордов, с которыми тот состязается. Ричард выступает в цветах Кромвеля, и королю это по сердцу, как по сердцу все, кто отважен и силен. Сам король из-за больной ноги все чаще остается зрителем. Когда боль накатывает, Генрих пугается, когда отпускает, не находит себе места. Не зная, как будет чувствовать себя завтра, король остерегается затевать большие турниры, хлопотные и дорогостоящие. Если он все-таки выезжает на поле, то при своем опыте, весе, росте, при своих отличных конях и бойцовском характере обычно побеждает, однако для спокойствия предпочитает знакомых противников. Генрих говорит: — Император, года два-три назад… он ведь страдал от дурных гуморов в бедре, верно? Говорят, из-за сырости. Однако владения Карла столь обширны, что ему ничего не стоит сменить климат. А в моем королевстве погода всюду одинакова. — О, полагаю, в Дублине куда хуже. Генрих с тоской смотрит, как льет за окном. — А когда я проезжаю по улицам, мне кричат вслед. Люди встают из канав и кричат, чтобы я взял Екатерину обратно. Как бы им понравилось, если бы я вмешивался в их семейную жизнь? Даже когда погода проясняется, королевские страхи не идут на убыль. — Она сбежит и соберет против меня армию. Екатерина. От нее чего угодно можно ждать. — Она сказала мне, что не сбежит. — А по-вашему, она никогда не лжет? Я знаю, что это не так. У меня есть доказательства. Она солгала про свою девственность. Ну да, конечно, устало думает он. Генрих не верит в мощь вооруженной стражи, ключей и замков. Думает, нанятый императором ангел коснется их, и запоры рассыплются. В поездки король берет большой железный замок, который вешает на дверь особый слуга. Всю королевскую пищу пробуют специальные люди, а в постели проверяют, нет ли там отравленных иголок; и все равно Генрих боится, что его умертвят во сне.
Осень. Томас Мор худеет — и прежде поджарое тело стало, как щепка. Кромвель позволяет Антонио Бонвизи передать арестанту еду. — Хоть, правду сказать, вы в Лукке не умеете готовить. Я бы и сам что-нибудь ему послал, да если он заболеет, сами понимаете, что люди скажут. Он любит блюда из яиц. Любит ли что-нибудь еще — не знаю. Вздох. — Молочные пудинги. Он улыбается. Сейчас мясоед. — Немудрено, что он такой худосочный. — Я знаю его сорок лет, — говорит Бонвизи. — Целую жизнь, Томмазо. Вы же не станете его мучить? Пообещайте мне, если можете, что никто не будет его мучить. — Почему вы думаете, будто я такой же, как он? Послушайте, мне нет надобности давить. Это сделают его друзья и близкие. Я ведь прав? — Нельзя ли просто оставить его в покое? Забыть? — Если позволит король. Он разрешает Мэг Ропер навещать арестанта в Тауэре. Отец и дочь гуляют по саду под руку. Иногда он смотрит на них из окна в доме коменданта. К ноябрю такое отношение доказало свою бесполезность и даже хуже: все обернулось против него, как бродячая собака, которую ты из доброты подобрал на улице, а она вцепилась тебе в руку. Мэг говорит: — Он сказал мне, он просил передать друзьям, что не даст никаких клятв, а если мы услышим, что он присягнул, значит, его вынудили жестоким обращением. И если в совете покажут бумагу с его подписью, мы должны знать: он ее не ставил. От Мора теперь требуют под присягой признать Акт о супрематии, в котором перечислены все полномочия, принятые королем в последние два года. Акт не назначает короля главой церкви, как утверждают некоторые; акт констатирует, что король был и остается главой церкви. Если люди не принимают новых идей, дадим им старые. Если им нужны прецеденты, у него есть прецеденты. Во второй редакции, которая вступит в силу с нового года, прописано, что квалифицируется как государственная измена. Измена — не признавать титулы или юрисдикцию Генриха, хулить его устно или письменно, называть еретиком или схизматиком. Закон даст управу на монахов, которые сеют панику, утверждая, будто испанцы вот-вот высадятся и коронуют леди Марию. На священников, которые в проповедях вопят, что король тащит англичан за собой в геенну. Разве монарх много требует, когда предлагает своим подданным держаться в рамках приличий? Это что-то новое, говорят ему, наказывать за слова. Нет, отвечает он, не сомневайтесь, это старое. Мы лишь придали форму тому, что судьи в своей мудрости уже определили как прецедентное право. Разъяснительная мера. Я за полную четкость в законах. После того как Мор отказывается признать этот второй документ, принимается билль о конфискации его имущества в пользу короны. Об освобождении теперь не может быть и речи, вернее, никто теперь не поможет Мору, кроме самого Мора. Долг Кромвеля — сообщить арестанту, что отныне тому запрещается принимать посетителей и гулять в саду. — Не на что смотреть, в это время года. — Мор поднимает глаза к узкой серой полоске неба в высоком окне. — Мне по-прежнему можно читать книги? Писать письма? — Пока да. — А Джон Вуд остается со мной? Слуга. — Да, конечно. — Он время от времени приносит мне кое-какие новости. Говорят, среди королевских войск в Ирландии началась потовая лихорадка? Надо же, не в сезон. Не только потовая лихорадка, но и чума. Только он не станет говорить этого Мору, как и того, что вся Ирландская кампания — позорная неудача и перевод денег; надо было послушать Ричарда и ехать туда самому. — Потовая лихорадка косит многих, — говорит Мор, — так быстро, во цвете лет. А если и выздоровеешь, будешь не в силах сражаться с дикими ирландцами, в этом я уверен. Помню, как Мэг болела; она тогда чуть не умерла. А вы болели? Нет, вы никогда не болеете, как я понимаю. — Мор еще какое-то время болтает ни о чем, затем вскидывает голову. — Скажите, есть ли новости из Антверпена? Говорят, Тиндейл там. Говорят, он прячется в домах английских купцов и не смеет выйти на улицу. Говорят, он в тюрьме, почти как я. Это так или почти так. Тиндейл трудился в бедности и безвестности, и теперь его мир сжался до размеров каморки. А тем временем в городе по велению императора печатников клеймят и ослепляют, братьев и сестер убивают за веру: мужчинам рубят головы, женщин жгут на костре. Липкая паутина, протянутая Мором по всей Европе, по-прежнему действует; паутина из денег. У Кромвеля есть основания думать, что за Тиндейлом следят, но никакими ухищрениями, при том, что Стивен Воэн в Антверпене, не удалось выяснить, кто из англичан, приезжающих в крупный торговый город, — агенты Мора. — В Лондоне Тиндейлу было бы спокойнее, — говорит Мор. — Здесь его оберегали бы вы, защитник заблуждений. Только посмотрите, что творится в Германии. Вы видите, Томас, к чему ведет нас ересь? Она ведет в Мюнстер. В Мюнстере власть захватили сектанты, анабаптисты. Худший кошмар — когда просыпаешься, парализованный, и думаешь, что умер, — счастье по сравнению с тем, что творится там. Городских старшин выбросили из ратуши, их место заняли воры и безумцы, объявившие, что пришли последние дни и все должны креститься заново. Несогласных выгнали за городские стены, нагишом, умирать на снегу. Теперь город осажден собственным князем-епископом, который надеется взять защитников измором. Защитники, говорят, по большей части женщины и дети; их держит в страхе портной по фамилии Бокельсон, недавно короновавший себя королем Иерусалимским. По слухам Бокельсон и его присные установили многоженство, как предписывает Ветхий завет, и многие женщины предпочли смерть на виселице или в реке изнасилованию по Авраамову закону. Под видом того, что все теперь будет общее, «пророки» творят разбой среди бела дня. Говорят, они захватили дома богачей, сожгли их письма, изрезали картины, пустили искусные вышивки на половые тряпки и порвали все документы, кто чем владеет, чтобы не вернулись старые времена. — Утопия, — говорит Кромвель, — не правда ли? — Я слышал, они жгут книги из городских библиотек. Сочинения Эразма сгорели в пламени. Какими дьяволами надо быть, чтобы жечь милейшего Эразма? Но без сомнения, без сомнения, — кивает Мор, — порядок в Мюнстере скоро восстановят. Филипп Гессенский — друг Лютера; уж конечно, он одолжит доброму епископу пушки и пушкарей. Один еретик уничтожит другого. Братья передрались, вы видите? Как бешеные псы, пускающие слюну, рвут друг другу кишки при встрече. — Я вам скажу, чем все закончится в Мюнстере. Кто-нибудь из осажденных сдаст город. — Вы так думаете? У вас такой вид, будто вы хотите предложить пари. Увы, я и прежде не имел обыкновения биться об заклад, а теперь еще и король забрал все мои деньги. — Такой человек, портной, забирает власть на месяц-два… — Суконщик, сын кузнеца, забирает власть на год-два… Он встает, подхватывает плащ: черная шерсть, мерлушковая подкладка. Мор сверкает глазами: ага, я обратил вас в бегство. И тут же, обычным тоном, словно гостю после обеда: неужто вам уже пора? Может, побудете еще? Вскидывает подбородок. — Так я больше не увижу Мэг? В голосе пустота, боль, пробирающая до сердца. Кромвель отворачивается, говорит буднично: — Вам надо произнести несколько слов. Вот и все. — А. Просто слова. — Если вы не хотите произносить, я их напишу. Поставите снизу свое имя, и король будет счастлив. Я отряжу свою барку, вас доставят в Челси, к причалу на краю вашего сада — не на что смотреть в это время года, как вы сказали, зато каким теплым будет прием! Леди Алиса ждет — уже одна ее стряпня сразу вернет вам силы, — Алиса стоит рядом с вами, смотрит, как вы едите, и едва вы утираете рот, хватает вас на руки, целует в жирные от баранины губы, ах, муженек, как же я по тебе соскучилась! Она несет вас в спальню, запирает дверь, прячет ключ в карман и рвет с вас одежду, пока вы не остаетесь в одной рубашке, из-под которой торчат худые белые ноги, — что ж, согласитесь, тут женщина в своем праве. На следующий день — только вообразите! — вы поднимаетесь до рассвета, спешите в привычную келью, бичуете себя, требуете принести хлеб и воду, а к восьми утра вы уже в своей власянице, поверх накинут старый шлафрок — тот самый, кроваво-красный, с прорехой… ноги на скамеечке, и единственный сын приносит вам почту… ломаете печать своего возлюбленного Эразма… А прочтя письма, вы сможете — скажем, если не будет дождя — пойти к своим птицам, к своей лисичке в клетке, и сказать им: я тоже был узником, а теперь я на воле, потому что Кромвель показал мне выход… Разве вы этого не хотите? Разве вы не хотите вернуться домой? — Вам надо написать пьесу, — говорит Мор восхищенно. Кромвель смеется: — Может, еще напишу. — Это лучше Чосера. Слова. Слова. Просто слова. Он оборачивается. Смотрит на Мора. Как будто освещение переменилось. Открылось окно в страну, где дуют холодные ветры его детства. — Та книга… Это был словарь? Мор хмурится. — Простите? — Я поднялся по лестнице в Ламбете… минуточку… Я взбежал по лестнице в Ламбете, неся вам питье и пшеничный хлебец на случай, если вы ночью проснетесь и захотите есть. Было семь вечера. Вы читали, а когда подняли голову, прикрыли ее руками, — он раскрывает ладони крыльями, — словно защищая. Я спросил вас, мастер Мор, что в этой большой книге? А вы ответили, слова, слова, просто слова. Мор склоняет голову набок. — Когда это произошло? — Думаю, мне было лет семь. — Чепуха, — искренне говорит Мор. — Мы не были тогда знакомы. Хотя… — хмурит лоб, — вы, наверное, были… а я… — Вы собирались в Оксфорд. Вы не помните, да и с какой стати? — Кромвель пожимает плечами. — Я подумал, вы надо мной посмеялись. — Вполне возможно, — говорит Мор. — Если эта встреча и впрямь была. А теперь вы приходите сюда смеяться надо мной. Говорите про Алису. Про мои худые белые ноги. — Полагаю, это все же был словарь. Вы точно не помните?.. Что ж… моя барка ждет, и я не хочу держать гребцов на холоде. — Дни здесь очень длинные, — говорит Мор. — А ночи еще длиннее. У меня болит в груди. Дышать тяжело. — Так вперед, в Челси! Доктор Беттс придет с визитом: ай-ай-ай, Томас Мор, до чего вы себя довели! Зажмите нос и выпейте эту гадкую микстуру… — Иногда мне кажется, что я не увижу утра. Кромвель открывает дверь. — Мартин! Мартину лет тридцать, светлые волосы под беретом заметно поредели, лицо худощавое, улыбчивое. Мартин родился в Колчестере, в семье портного, читать учился по Евангелию Уиклифа, которое отец хранил на крыше под соломой. Это новая Англия; Англия, в которой Мартин может вытащить старую книгу и показать соседям. У него есть братья, все — евангельской веры. Жена вот-вот должна разродиться третьим. — Есть новости? — Пока нет. Но ведь вы согласитесь быть крестным? Томас — если мальчик, если девочка — то как назовете, сэр. Рукопожатие, улыбка. — Грейс, — говорит он. От него ожидается денежный подарок — обеспечить ребенку будущее. Он снова поворачивается к больному, который теперь сгорбился за столом. — Сэр Томас говорит, по ночам ему трудно дышать. Принесите ему тюфяки, подушки, что найдете — пусть сидит, если так легче. У него должны быть все возможности дожить до того, чтобы одуматься, выказать верность королю и вернуться домой. А теперь, желаю вам обоим доброго вечера. Мор поднимает глаза. — Я хочу написать письмо. — Конечно. Вам принесут бумагу и чернила. — Я хочу написать Мэг. — В таком случае напишите ей что-нибудь человеческое. Письма Мора чужды обычному человеческому. Они адресованы Мэг, но рассчитаны на друзей в Европе. — Кромвель!.. Голос Мора разворачивает его назад. — Как королева? Мор всегда точен, никогда не назовет королевой Екатерину. Вопрос означает: как Анна? Но что тут можно ответить? Он выходит за дверь. В узком окошке сизая мгла сменилась вечерней синью.
Он слышал ее голос из соседней комнаты: тихий, неумолимый. И гневные крики Генриха: «Это не я! Не я!» Во внешней приемной Томас Болейн, монсеньор: узкое лицо напряжено. Рядом прихлебатели Болейнов, переглядываются: Фрэнсис Уэстон, Фрэнсис Брайан. В углу, пытаясь выглядеть как можно более незаметным, лютнист Марк Смитон — он-то что здесь делает? Не вполне семейный конклав: Джордж Болейн в Париже, ведет переговоры. Родилась мысль выдать двухлетнюю принцессу Елизавету за сына французского короля; Болейны всерьез считают, что у них это получится. — Какое событие так огорчило королеву? — спрашивает он удивленно, словно в остальное время она — спокойнейшая из женщин. Уэстон отвечает: — Леди Кэри… она, так сказать… Брайан фыркает: — Брюхата очередным бастардом. — Хм. А вы не знали? — Приятно видеть их потрясенные лица. — Я думал, это дело семейное. Брайанова повязка ему подмигивает — сегодня она ядовито-желтого цвета. — А вы, должно быть, очень внимательно за ней следили, Кромвель. — В чем я, увы, не преуспел, — говорит Болейн. — Она говорит, отец ребенка — Уильям Стаффорд, и она за ним замужем. Вы знаете этого Стаффорда? — Мельком. Что ж, — бодро говорит он, — каковы наши действия? Марк, музыкальное сопровождение не потребуется — отправляйся куда-нибудь, где можешь быть полезен. С королем только Генри Норрис, с королевой — Джейн Рочфорд. Широкое лицо Генриха бело. — Мадам, вы вините меня в том, чтобыло еще до нашего знакомства. Остальные тоже вошли и теперь теснятся за его спиной. Генрих говорит: — Милорд Уилтшир, неужто у вас нет управы на ваших дочерей? — Кромвель знал! — хмыкает Брайан. Монсеньор начинает говорить, запинаясь — и это Томас Болейн, дипломат, прославленный своей отточенной речью. Анна перебивает отца. — С чего бы ей беременеть от Стаффорда? Я не верю, что ребенок его. Зачем бы он на ней женился, если не из честолюбия? Что ж, он просчитался, потому что теперь ноги ее не будет при дворе! Хоть бы она и на коленях ко мне приползла, я не стану ничего слушать. Пусть подохнет с голоду! Будь Анна моя жена, думает он, я бы ушел из дома на весь вечер. Лицо заострилось, движения дерганые — сейчас ей лучше не давать в руки острые предметы. «Что делать?» — шепчет Норрис. Джейн Рочфорд стоит, прислонившись к шпалере, на которой нимфы переплетаются в древесной листве; ее подол в каком-то воспетом поэтами ручье, вуаль задевает облако с выглядывающей из-за него богиней. Она поднимает голову; на лице выражение сдержанного торжества. Я мог бы вызвать архиепископа, думает Кромвель, при нем Анна не посмеет кричать и топать ногами. Теперь она схватила Норриса за рукав — что это означает? — Моя сестра все нарочно затеяла, чтобы меня позлить! Она думает, что будет расхаживать с пузом, жалеть меня и насмехаться надо мной, потому что я потеряла ребенка. — Я совершенно убежден, что если вникнуть в вопрос… — начинает ее отец. — Прочь! — кричит Анна. — Убирайтесь и скажите ей… скажите мистрис Стаффорд, что она больше не член моей семьи! Я ее не знаю. Отныне она не Болейн. — Идите, Уилтшир, — добавляет Генрих тоном учителя, обещающего школяру порку. — Я поговорю с вами позже. Кромвель говорит королю невинным голосом: — Ваше величество, может, не будем сегодня заниматься делами? Генрих смеется.
Леди Рочфорд бежит рядом с ним. Он не замедляет шаг, так что ей приходится подобрать юбки. — Вы правда знали, господин секретарь? Или сказали для того лишь, чтобы посмотреть на их лица? — Где мне с вами тягаться? Вы видите мои уловки. — Счастье, что я вижу уловки леди Кэри. — Так это вы ее разоблачили? Кто же еще? — думает Кромвель. Ну конечно, мужа Джорджа рядом нет, шпионить ей не за кем. Постель Марии закидана ворохом шелков — оранжевых, вишневых, малиновых — словно перина занялась огнем. На табуретах и на подоконниках — лифы, спутанные ленты и непарные перчатки. Зеленые чулки — не те ли самые, которые она показала до самого колена, несясь к нему в тот день, когда предложила на ней жениться? Он стоит в дверях. — Уильям Стаффорд, хм? Мария выпрямляется, раскрасневшаяся, в руке — бархатная домашняя туфля. Теперь, когда тайна раскрыта, она ослабила шнуровку. Взгляд скользит мимо него. — Спасибо, Джейн, неси это сюда. — Простите, сударь. — Джейн Сеймур на цыпочках проходит мимо, неся стопку сложенного белья. Следом юноша волочит желтый кожаный ларь. — Ставь тут, Марк. — Смотрите, господин секретарь, — говорит Смитон, — я здесь полезен. Джейн встает на колени и открывает ларь. — Подложить батист? — Не надо батиста. Где вторая туфля? — Советую поторопиться, — предупреждает леди Рочфорд. — Если дядя Норфолк тебя увидит, то побьет палкой. Твоя августейшая сестра считает, что отец твоего ребенка — король. Она говорит, с какой стати им быть Уильяму Стаффорду. Мария фыркает. — Все-то ей известно! Как будто Анна знает, что значит выйти за человека ради него самого. Передай ей, что Уильям меня любит. Он обо мне заботится — и больше никто в целом мире! Кромвель наклоняется и шепчет: — Мистрис Сеймур, я и не знал, что вы близки с леди Кэри. — Никто больше ей не поможет. Джейн не поднимает головы; склоненная шея порозовела. — Этот мой надкроватный полог, — говорит Мария. — Снимите его. На пологе — гербы ее мужа Уилла Кэри, умершего лет, наверное, семь назад. — Гербы я могу спороть. Ну конечно, кому нужен покойник с его эмблемами? — Где мой золоченый таз, Рочфорд, не ты его взяла? — Мария пинает желтый ларь, сплошь украшенный геральдическими соколами Анны. — Если это у меня увидят, то отнимут, а мои вещи выбросят на дорогу. — Если вы можете подождать час, — говорит он, — я пришлю вам сундук. — С надписью «Томас Кромвель»? Нет у меня часа. Вот что! — Она начинает сдирать с кровати простыни. — Увязывайте тюки! — Фу! — говорит Джейн Рочфорд. — Бежать, как служанка, укравшая столовое серебро? К тому же в Кенте тебе эти вещи не понадобятся. У Стаффорда, небось, ферма? Скромная усадьба? Впрочем, ты можешь их продать. Что тебе наверняка придется сделать. — Мой дорогой брат поможет мне, как только вернется из Франции. Он не оставит меня без средств. — Позволю возразить. Лорд Рочфорд, как и я, будет возмущен, что ты опозорила родню. Мария поворачивается к ней, вскидывая руку, как кошка, выпускающая когти. — Это лучше, чем день твоей свадьбы, Рочфорд! Это все равно что дом, полный подарков. Ты не умеешь любить, ты не знаешь, что такое любовь, ты можешь только завидовать тем, кто знает, и радоваться их неприятностям. Ты несчастная злюка, которую ненавидит муж, и я тебя жалею, и жалею свою сестру Анну. Я в жизни не поменялась бы с ней местами! Лучше делить ложе с бедным и честным джентльменом, который тебя любит, чем быть королевой и удерживать мужа старыми бордельными штучками, — да, я знаю, король сказал Норрису, как Анна его ублажает, и поверь мне, ребенка так не зачнешь. А теперь она боится каждой женщины при дворе — ты что, на нее смотрел? ты уже и раньше на нее смотрел! Семь лет она добивалась короны, и спаси нас Бог от исполнения молитв! Она думала, каждый день будет, как коронация. — Мария, тяжело дыша, запускает руку в ворох своих пожитков и бросает Джейн Сеймур два рукава. — Вот, милая, возьми с моим благословением. У тебя одной здесь доброе сердце. Джейн Рочфорд выходит, хлопнув дверью. — Пусть ее, — шепчет Джейн Сеймур. — Не думайте вы о ней! — Скатертью дорожка! — зло бросает Мария. — Я должна радоваться, что она не стала копаться в моих вещах и предлагать цену. В тишине ее слова хлопают, плещут, словно птицы, которые бьются от страха и гадят на стены: король сказал Норрису, как Анна его ублажает. По ночам она пускает в ход свои искусные приемы. Он перефразировал — куда же без этого. Бьюсь об заклад, Норрис ловил каждое слово. Господи Иисусе, что за люди! В дверях лютнист Марк слушает, приоткрыв рот. — Марк, если будешь стоять здесь и шлепать губами, как рыба, я велю тебя выпотрошить и зажарить. Лютнист исчезает. Тюки, которые упаковала мистрис Сеймур, похожи на птиц с перебитыми крыльями. Он перевязывает их по новой — не шелковым шнуром, а прочной веревкой. — Вы всегда носите с собой веревку, господин секретарь? — Мария вскрикивает: — Ах, моя книга любовных стихов! Она у Шелтон! — и выбегает из комнаты. — Да, книгу ей надо взять, — замечает он. — В Кенте стихов не пишут. — Леди Рочфорд сказала бы, что сонетами не согреешься. Впрочем, мне никто сонетов не писал, — говорит Джейн, — так что я тут не судья. Лиз, думает он, отпусти меня. Разожми свои мертвые руки. Неужто тебе жаль для меня этой девочки, такой маленькой и худенькой, такой некрасивой? — Джейн! — Да, господин секретарь! Она закатывается на перину. Садится, вытаскивая из-под себя юбки, встает, держась за столбик балдахина, и, подняв руки, начинает отцеплять полог. — Спускайтесь. Я сам это сделаю. И я пришлю за мистрис Стаффорд телегу. Ей самой все не унести. — Я справлюсь. Государственный секретарь не занимается балдахинами. — Государственный секретарь занимается всем. Странно, что я не шью королю рубашек. Джейн покачивается над ним, ее ноги утопают в перине. — Королева Екатерина шьет. До сих пор. — Вдовствующая принцесса Екатерина. Спускайтесь. Она спрыгивает, юбки колышутся и шуршат. — Даже после всего, что между ними произошло. Только на прошлой неделе прислала дюжину. — Мне казалось, король ей запретил. — Анна говорит, их надо порвать и использовать на… ну, вы понимаете, в нужниках. Король был очень зол. Возможно потому, что ему неприятно слово «нужник». — Это верно, — говорит Кромвель. Король ненавидит грубые слова и не раз строго обрывал придворных, пытавшихся рассказать сальную историю. — Так это правда, что сказала Мария? Что королева боится? — Сейчас он вздыхает по Мэри Шелтон. Да вы сами знаете. Наблюдали. — Однако это, без сомнения, вполне невинно. Король должен быть галантным до тех пор, пока наденет длинный шлафрок и будет сидеть у огня с капелланами. — Объясните это Анне — она не понимает. Она хочет отослать Шелтон прочь. Ее отец и брат не соглашаются. Шелтон — их родственница, и уж если король глядит на сторону, то пусть это будет кто-то из своих. Кровосмешение в наши дни так модно! Дядя Норфолк… я хотела сказать, его светлость…. — Ничего, — рассеянно говорит он, — я его тоже так называю. Джейн закрывает ладошкой рот. У нее детские пальчики с крохотными розовыми ногтями. — Я буду вспоминать это, когда окажусь в деревне без всяких развлечений. А он вам говорит «дорогой племянник Кромвель»? — Вы оставляете двор? Без сомнений, она собралась замуж. За кого-то в деревне. — Я надеюсь, месяца через три меня отпустят. В комнату врывается Мария со злобной гримасой на лице. Она прижимает к животу — теперь уже вполне заметному — две вышитые подушки, в свободной руке золоченый таз, а в тазу — книга стихов. Мария бросает подушки и раскрывает кулак: в таз с грохотом, словно игральные кости, сыплется пригоршня серебряных пуговиц. — Все было у Шелтон. Вот сорока! — Все равно королева меня не любит, — говорит Джейн. — И я соскучилась по Вулфхоллу.
Для новогоднего подарка королю он заказал Гансу миниатюру: Соломон на троне приветствует царицу Савскую. Это аллегория, объясняет он. Король принимает плоды церкви и дань своего народа. Ганс смотрит на него испытующее. «Я понял». Делает наброски. Соломон исполнен величия. Царица стоит спиной к зрителю, невидимое лицо поднято к царю. — А мысленно, — спрашивает он, — вы видите ее лицо, хоть оно и скрыто? — Вы оплатили затылок, — отвечает Ганс, — его и получайте. — Трет лоб, потом сдается. — Неправда. Я ее вижу. — Это какая-то случайная встречная? — Не совсем. Скорее женщина из детских воспоминаний. Они сидят перед шпалерой, которую подарил ему король. Взгляд художника обращается к ней. — Эта женщина. Она принадлежала Вулси, затем королю, теперь вам. — Уверяю вас, в жизни у нее нет двойника. Разве что в Вестминстере есть очень скрытная и многоликая шлюха. — Я знаю, кто она. — Ганс многозначительно кивает, сжав губы; глаза дразнят, как у собаки, которая стащила платок, чтобы ты за нею побегал. — Слышал в Антверпене. Почему вы не заберете ее сюда? — Она замужем. — Он неприятно поражен, что в Антверпене кто-то обсуждает его личные дела. — Думаете, она с вами не поедет? — Много лет прошло. Я изменился. — Ja. Теперь вы богаты. — Но что про меня скажут, если я уведу женщину у мужа? Ганс пожимает плечами. Они такие циничные, эти немцы. Мор говорит, лютеране совокупляются в церкви. — И к тому же… — говорит Ганс. — Что? Ганс вновь пожимает плечами: ничего. — Ничего. Вздернете меня на дыбу и потребуете ответа? — Я никого не вздергиваю на дыбу. Только угрожаю. — Ладно, — произносит Ганс умиротворяюще, — я просто о всех тех женщинах, которые мечтают выйти за вас замуж. Каждая англичанка мечтает отравить мужа и заранее составляет список женихов. И во всех этих списках вы — первый. В свободные моменты — их на неделе выпадает два или три — он разбирал бумаги Дома архивов. Хотя евреи изгнаны из королевства, какие только обломки человеческих кораблекрушений ни прибивало сюда судьбой; за три столетия здание пустовало лишь месяц. Он пробегает глазами отчеты прежних попечителей, с любопытством разглядывает расписки на древнееврейском, оставленные умершими насельниками. Некоторые прожили в этих стенах, таясь от лондонцев, по пятьдесят лет. Идя по коридорам, он ощущает ступнями следы их ног. Он идет навестить двух последних обитательниц — молчаливых и настороженных женщин неопределенного возраста, записанных как Кэтрин Уэтли и Мэри Кук. — Что вы делаете? — спрашивает он, подразумевая «что вы делаете со своим временем?» — Мы молимся. Они разглядывают его, пытаясь понять, чего ждать, хорошего или дурного. Лица их говорят: у нас ничего не осталось, кроме наших историй; с какой стати мы будем ими делиться? Он отправляет им в подарок дичь, но не знает, станут ли они есть мясо из рук не-еврея. Томас Кристмас, приор церкви Христа в Кентербери, прислал ему двенадцать яблок, завернутых, каждое по отдельности, в серую ткань, — редкий сорт, который особенно хорош с вином. Он отдает яблоки крещеным еврейкам вместе с вином, которое сам для них выбрал. — В тысяча триста пятьдесят третьем году, — говорит он, — в доме оставалась всего одна насельница. Мне горько думать, что она жила тут в полном одиночестве. Последним местом ее жительства указан город Эксетер, но хотелось бы знать, как она туда попала. Ее звали Кларисия. — Мы ничего о ней не знаем, — отвечает Кэтрин или, может быть, Мэри. — Да и откуда нам. Она щупает яблоки, не понимая, что это большая ценность — лучший подарок, какой смог измыслить приор. Если они вам не понравятся, говорит он, да и если понравятся тоже, у меня есть груши для запекания. Кто-то прислал мне пять сотен. — Видимо, очень хочет, чтобы на него обратили внимание, — говорит Кэтрин или Мэри, а другая добавляет: — Пять сотен фунтов было бы лучше. Женщины смеются, но без искренности: он понимает, что им никогда не подружиться. Красивое имя, Кларисия. Надо было предложить его для дочери тюремщика. Так могут звать женщину-мечту — женщину, которую ты видишь насквозь. Закончив новогодний подарок королю, Ганс говорит: — Это мой первый его портрет. — Надеюсь, скоро будет еще. Ганс знает, что у него есть английская Библия, почти законченный перевод. Он подносит палец к губам: сейчас слишком рано об этом говорить, может быть, через год. — Если вы посвятите ее Генриху, тот не сможет отказаться. Я бы изобразил его на титуле как главу церкви, со всеми регалиями. — Ганс расхаживает по комнате, прикидывая вслух расходы на бумагу, печать, возможную прибыль. Лукас Кранах рисует титульные листы Лютеру. — Гравюры с Мартином и его женой идут нарасхват. А у Кранаха все похожи на свиней. Верно. Даже у его обнаженных умильные свиные мордочки, ноги крестьянок и жесткие хрящеватые уши. — Но если я буду писать короля, наверное, придется ему польстить. Показать, каким он был пять лет назад. Или десять. — Хватит и пяти. Иначе он может усмотреть издевку. Ганс чиркает себя пальцем по горлу, сгибает колени, высовывает язык, как повешенный, — видимо, предусмотрел все способы казни. — Надо будет изобразить непринужденное величие. Ганс улыбается во весь рот: — За этим дело не станет!
Конец года приносит с собой холода и странный, водянисто-зеленоватый свет. Письма ложатся на стол с легким шелестом, как снежинки: от докторов богословия из Германии, от послов из Франции, от Марии Болейн из Кента. — Ты только послушай, — говорит он Ричарду, сломав печать. — Мария просит денег. Пишет, что осознает свою опрометчивость. Что любовь затмила ей разум. — Любовь, значит? Он читает. Она и на минуту не сожалеет, что вышла за Уильяма Стаффорда. Она могла бы выбрать себе другого мужа, знатного и титулованного. Однако «уверяю вас, господин секретарь, я нашла в нем столько честности, что будь моя воля выбирать, я предпочла бы лучше просить милостыню вместе с ним, чем быть величайшей королевой христианского мира». Она не смеет писать своей сестре королеве. Отцу, дяде и брату — тоже. Они так жестоки. Поэтому пишет ему. Легко можно вообразить, как Стаффорд заглядывает Марии через плечо, и та бросает со смехом: Томас Кромвель, я когда-то возбудила его надежды. Ричард говорит: — Я уже почти не помню, что должен был жениться на Марии. — То были иные времена, не то, что сейчас. И Ричард счастлив; вот как оно все повернулось, мы сумели обойтись без Болейнов. Однако ради замужества Анны Болейн весь христианский мир перевернули вверх дном; ради рыжего поросеночка в колыбели; что если Генрих и впрямь пресытился и вся затея проклята? — Позови Уилтшира. — Сюда, в Дом архивов? — Придет и сюда, только свистни. Он унизит Уилтшира — в обычной своей дружелюбной манере — и заставит выделить Марии содержание. Дочь честно работала на отца, добывала ему почести своим лоном — пусть теперь ее обеспечивает. Ричард будет сидеть в полутьме и записывать. Это напомнит Болейну о делах семилетней давности. Шапюи сказал ему, в этом королевстве вы теперь то же, что кардинал, и даже больше. Алиса Мор приходит к нему в Рождественский сочельник. Свет резкий, как лезвие старого кинжала, и в этом освещении Алиса выглядит старой. Он встречает ее как принцессу, ведет в комнату, заново обитую панелями и покрашенную, где горит жаркий огонь — дымоход недавно прочистили, и тяга отличная. Воздух пахнет сосновым лапником. — Вы здесь празднуете? — Ради него Алиса постаралась прихорошиться: туго затянула волосы под усыпанным жемчужинами чепцом. — Я помню, как тут было темно и сыро. Муж всегда говорил, — (он отмечает, что она употребила прошедшее время), — мой муж говорил, заточите Кромвеля в самое глубокое подземелье, и к вечеру он будет сидеть на бархатной подушке, есть соловьиные язычки и ссужать тюремщиков деньгами. — Он часто говорил о том, чтобы заточить меня в подземелье? — Это были только разговоры. — Она нервничает. — Я подумала, вы могли бы устроить мне встречу с королем. Он всегда учтив и добр к женщинам. Кромвель качает головой. Если допустить Алису до короля, она начнет вспоминать, как тот приезжал в Челси и гулял по саду. Расстроит Генриха, заставит думать про Мора, который временно забыт. — Его величество очень занят с французскими послами. Хочет в этом году устроить особо пышное празднование. Доверьтесь моим суждениям. — Вы были к нам очень добры, — нехотя говорит Алиса. — Я спрашиваю себя, почему. У вас всегда какая-нибудь уловка. — Родился ловкачом, — отвечает он. — Ничего не могу с собой поделать. Алиса, почему ваш муж такой упрямец? — Я понимаю его не больше, чем Святую Троицу. — Так что мы будем делать? — Надо, чтобы он изложил королю свои резоны. Наедине. Если король заранее пообещает отменить все наказания. — То есть даст ему лицензию на государственную измену? Этого король не может. — Святая Агнесса! Томас Кромвель говорит, чего не может король! Всякий петух важно расхаживает по двору, пока не придет служанка и не свернет ему шею. — Таков закон. Обычай этой страны. — Я считала, что Генриха поставили выше закона. — Мы не в Константинополе, леди Алиса. Впрочем, я ничего не имею против турок. Сейчас мы всецело за магометан. Пока они отвлекают императора. — У меня почти не осталось денег, — говорит она. — Приходится каждый раз изыскивать пятнадцать шиллингов на его недельное содержание. Он мне не пишет. Только ей, своей дорогой Мэг. Она ведь не моя дочь. Будь здесь его первая жена, я бы ее спросила, сразу ли Мэг такой уродилась. Она скрытная. Помалкивает и про себя, и про него. Теперь вот рассказала, что он давал ей отстирывать кровь со своих рубашек, что он носил под бельем власяницу. Я думала, что после свадьбы я уговорила его от этого отказаться, но откуда мне было знать? Он спал один и закрывал дверь на щеколду. Если у него и свербело от конского волоса, он мне не говорил, чесался сам. Во всяком случае, все это было между ними двоими, мне никто не докладывал. — Алиса… — Не думайте, что я ничего к нему не питаю. Он не для того на мне женился, чтобы жить как евнух. Все у нас было, иногда. — Она краснеет, скорее от злости, чем от смущения. — А когда это так, невольно чувствуешь, что человеку может быть холодно, что он может быть голоден, мы же одна плоть. Болеешь за него, как за ребенка. — Вытащите его оттуда, Алиса, если это в ваших силах. — Скорее уж в ваших. — Она печально улыбается. — А ваш Грегори приехал на Рождество? Я, помнится, говаривала мужу, вот бы Грегори Кромвель был мой сыночек. Я бы запекла его в сахарной глазури и съела.
Грегори приезжает на праздники с письмом от Роуланда Ли, где говорится, что мальчик сокровище и может возвращаться, когда захочет. — Так мне снова к нему ехать, — спрашивает Грегори, — или мое обучение закончено? — В этом году ты будешь оттачивать свой французский. — Рейф говорит, меня воспитывают, как принца. — Больше мне пока практиковаться не на ком. — Дражайший отец… — Грегори берет на руки собачку, прижимает к себе, чешет ей загривок. Кромвель ждет. — Рейф и Ричард говорят, что когда я всему выучусь, ты женишь меня на какой-нибудь старой вдове с большим состоянием и черными зубами, что она будет изводить меня своей похотью и помыкать мною, завещает мне все в обход своих детей от первого брака, и они меня отравят. Спаниель на руках у сына, извернувшись, смотрит на него кроткими, круглыми, удивленными глазами. — Они тебя дразнят. Если бы я знал такую женщину, то сам бы на ней женился. Грегори кивает. — Тобой бы она не смела помыкать. И наверняка у нее были бы большие охотничьи угодья — ты мог бы надолго туда уезжать. И дети ее тебя бы боялись, даже если они взрослые. — Судя по голосу, сын уже почти утешился. — А что это у тебя на карте? Вест-Индия? — Шотландская граница, — мягко объясняет он. — Земли Гарри Перси. Вот, давай покажу. Это поместья, которые он отдал за долги кредиторам. Мы не можем этого так оставить, потому что непонятно, кто теперь защищает границу. — Говорят, он болен. — Или сошел сума, — равнодушно говорит он. — Наследника у него нет, а поскольку он не спит с женой, то вряд ли и будет. С братьями он рассорился, королю должен кучу денег. Будет только справедливо объявить наследником короля. И я ему это растолкую. Грегори потрясен. — Ты хочешь отобрать у него графство? — Что-нибудь мы ему оставим, по миру не пойдет. — Это из-за кардинала? Гарри Перси остановил кардинала в Кэвуде, по пути на юг. Вошел с ключами в руках, забрызганный дорожной грязью: милорд, я арестую вас за государственную измену. Посмотрите на меня, сказал кардинал, я не страшусь никого из живущих. Кромвель говорит: — Грегори, поди поиграй. Возьми Беллу и попрактикуйся с ней во французском — она от леди Лайл из Кале. Я скоро освобожусь. Мне надо оплатить счета королевства. В Ирландию — очередная поставка: бронзовые пушки и чугунные ядра, прибойники и совки, дымный порох и четыре хандредвейта серы, пятьсот тисовых луков и два барреля тетивы, по двести лопат, кирок, ломов, мотыг и лошадиных шкур, сто топоров, одна тысяча подков, восемь тысяч гвоздей. Мастер Корнелис не получил денег за колыбель для королевского ребенка — того самого, что так и не увидел свет. Мастер требует двадцать шиллингов, уплаченных Гансу за Адама и Еву — роспись колыбели, а также возмещение за атлас, золотую бахрому с кистями и серебро, из которого отлиты райские яблоки. Он договаривается с флорентийскими агентами о найме ста аркебузиров для ирландской кампании. Они, в отличие от англичан, не отказываются воевать в лесу или в горах. Король говорит, удачи вам в Новом году, Кромвель, и в следующих. Он думает, удача здесь ни при чем. Из его новогодних подарков Генриху больше всего понравились царица Савская, рог единорога и устройство для выжимания сока из апельсинов с золотой королевской монограммой.
В начале года король жалует ему титул, какого не было еще ни у кого: генерального викария по делам церкви. Слухи о том, что монашеские обители скоро закроют, ходят по королевству уже года три, если не больше. Теперь у него есть власть инспектировать и реформировать монастыри; закрывать, если сочтет нужным. В Англии едва ли сыщется аббатство, о делах которого он не осведомлен либо по временам службы у кардинала, либо по письмам, которые приходят каждый день — одни монахи жалуются на аббатов, которые чинят им обиды или сеют крамолу, другие хотели бы получить должность и будут по гроб жизни обязаны, если за них замолвят словечко. Он спрашивает Шапюи: — Вы когда-нибудь бывали в Шартрском соборе? Идешь по лабиринту, выложенному на полу, и кажется, будто в нем нет никакого смысла, однако, проделав все повороты, оказываешься точно в центре. Там, где и должен быть. Официально они с послом едва здороваются. Неофициально Шапюи шлет ему бочонок отличного оливкового масла. Он в ответ посылает каплуна. Посол прибывает лично в сопровождении слуги, который тащит головку пармезана. Шапюи выглядит скорбным и замерзшим. — Ваша бедная королева справляет Рождество в скудости. Она так боится еретиков, которыми окружил себя ее супруг, что приказала готовить всю пищу в собственных покоях. А Кимболтон — скорее конюшня, чем дворец. — Чепуха, — резко отвечает Кромвель, протягивая послу глинтвейн. — Мы только что перевели ее из Бакдена, где она жаловалась на сырость. Кимболтон — отличное место. — С вашей точки зрения — потому что там толстые стены и широкий ров. В камине трещат поленья, по комнате плывет аромат меда и корицы, дополняя благоухание сосновых веток, которыми украшены стены. — А принцесса Мария больна, — говорит посол. — Леди Мария всегда больна. — Тем больше причин о ней беспокоиться! — Впрочем, Шапюи тут же смягчает тон. — Если бы им разрешили видеться, обеим стало бы легче. — Легче сбежать. — У вас нет сердца. — Шапюи отпивает вина. — Вы знаете, что император готов быть вашим другом? — Многозначительная пауза, затем посол вздыхает. — Ходят слухи, что Ла Ана вне себя. Что Генрих увлечен другой дамой. Кромвель набирает в грудь воздуха и начинает говорить. У Генриха нет времени на других дам — король слишком занят подсчетом денег. Сделался очень скрытным, не хочет, чтобы парламент знал о его доходах. Мне так трудно вытянуть у него что-нибудь на университеты или хотя бы на бедных. Думает только об артиллерии. Армии. Кораблях. Маяках. Фортах. Шапюи кривится. Посол понимает, когда его кормят баснями, — а если бы не понимал, и удовольствия бы никакого не было. — Так мне отписать своему господину, что английский король целиком поглощен войной и не думает о любви? — Войны не будет, если ваш господин ее не начнет. А на это, пока турки поджимают, у него вряд ли найдется время. Ах, я знаю, сундуки императора бездонны, и он может стереть нас с лица земли, когда пожелает. — Улыбка. — Но зачем это императору? Судьбу народов решают эти двое, с глазу на глаз, в маленькой комнате. Забудьте про коронации, конклавы, торжественные процессии. Мир меняет передвинутая костяшка на счетах, движение пера, умеряющее резкость фразы, вздох женщины, которая прошла, оставив после себя аромат розовой воды или цветущего апельсина, ее рука, задергивающая полог над кроватью, тихое касание тел. Король — мастер видеть целое — должен теперь учиться работать над мелочами, ведомый разумной алчностью. Достойный сын своего бережливого отца, Генрих знает, чем владеет каждая английская семья, держит в голове все достояние своих подданных, до последнего ручья и рощицы. Теперь, когда под власть короны переходят владения церкви, надо знать их стоимость. Закон, кто чем владеет, — как и весь свод законов — подобен обросшему корабельному днищу или замшелой крыше. Однако стряпчих предостаточно, и много ли надо умения, чтобы скоблить, где скажут? Пусть англичане суеверны, боятся будущего и не понимают, что такое Англия, — хороших счетоводов среди них хватает. В Вестминстере скрипит перьями тысяча клерков, но Генриху, думает Кромвель, понадобятся новые люди, новые органы, новое мышление. Тем временем он, Кромвель, отправляет по стране своих комиссаров. Valor ecclesiasticus.[97] Я завершу ее в шесть месяцев, говорит он. Да, никто прежде этого не делал, однако за его плечами уже много такого, к чему другие не смели бы даже подступиться. Как-то в начале весны он возвращается из Вестминстера продрогший. Лицо болит, словно его кости исхлестало ветром; в памяти отчетливо стоит день, когда отец возил его физиономией по булыжникам: башмак Уолтера маячит где-то рядом. Ему хочется в Остин-фрайарз, где установлены печи и в доме тепло. И вообще, оказаться в собственных стенах. Ричард говорит: — Вы не можете каждый день работать по восемнадцать часов. — Кардинал мог. Ночью ему снится, что он в Кенте. Просматривает счета Бейхемского аббатства, которое надо закрыть по указанию Вулси. Вокруг теснятся монахи, лица такие злые, что он, чертыхнувшись, говорит Рейфу: укладывай расходные книги, грузи на мула, будем смотреть их за ужином и стаканом доброго белого бургундского. Разгар лета. Они едут верхом (нагруженный мул плетется следом) через заброшенный монастырский виноградник, потом через лесистый сумрак в чаще широколиственной зелени на дне долины. Он говорит Рейфу, мы с тобой как две гусеницы, ползущие по листу салата. Они выезжают из леса в море света, впереди за мок Скотни — солнце золотит серые стены надо рвом. Он просыпается. Приснился ему Кент, или он там был? На коже по-прежнему лежит солнечная рябь. Он зовет Кристофа. Ничего не происходит. Он лежит тихо, без движения. Никто не идет. Рано; с нижнего этажа не доносится ни звука. Ставни закрыты. Звезды пытаются пробиться сквозь них, буравя дерево стальными остриями. Он думает, что, возможно, позвал Кристофа не наяву, а во сне. Учителя Грегори прислали целый ворох счетов. Кардинал стоит подле кровати в полном церемониальном облачении. Кардинал становится Кристофом, открывает ставни, движется силуэтом на фоне окна. — У вас лихорадка, хозяин? Он ведь знает ответ, откуда-то. Почему он должен знать все, делать все? — О да, итальянская, — бросает он небрежно, словно говоря: какие пустяки. — Так звать врача-итальянца? — неуверенно спрашивает Кристоф. Рейф здесь. Весь дом здесь. Чарльз Брэндон здесь. Он думает, что Брэндон наяву, пока не входят Морган Уильямс, давно умерший, и Уильям Тиндейл, который сейчас в Антверпене и не смеет показаться на улице. По лестнице уверенно, зловеще гремят подкованные железом отцовские башмаки. Ричард Кромвель кричит: «Неужто нельзя потише?» Когда Ричард кричит, сразу видно, кто тут валлиец; в обычный день я бы этого не заметил, думает Кромвель и закрывает глаза. Под веками движутся дамы: прозрачные, как ящерицы, с хвостами-шлейфами. Королевы Англии, змеи с черным раздвоенным жалом, гордо вскинув голову, волочат по полу окровавленные юбки. Они убивают и едят своих детей, это все знают. Высасывают у них мозг из костей еще до рождения. Кто-то спрашивает, хочет ли он исповедаться. — А это обязательно? — Да, сударь, иначе все подумают, что вы сектант. Однако мои грехи — моя сила, думает он; грехи, которые я совершил, а другие не сумели. Я крепко прижимаю их к себе — они мои. К тому же я намерен явиться на суд со списком; я скажу, мой Творец, у меня здесь пятьдесят пунктов или чуть больше. — Если надо исповедаться, пусть придет Роуланд. Епископ Ли в Уэльсе, говорят ему. Быстрее чем за неделю не доберется. Приходит доктор Беттс с целой толпой других врачей — всех их прислал Генрих. — Это лихорадка, которую я подхватил в Италии, — говорит он им. — Допустим, что так, — хмурится доктор Беттс. — Если я умираю, вызовите Грегори, мне надо ему кое-что сказать. Если нет, то не отрывайте его от учебы. — Кромвель, — говорит Беттс, — да вас из пушки не убьешь. Если под вами затонет корабль, волны вынесут вас на берег. Он слышит, как они говорят про его сердце, и злится: в книгу моего сердца можно заглядывать только мне, это не тетрадь, которая лежит на прилавке, и каждый приказчик в ней что-нибудь царапает. Ему дают выпить лекарство. Вскоре после этого он возвращается к своим расчетным книгам. Строчки убегают и цифры путаются; стоит подвести итог в одном столбце, общая сумма исчезает и все начисто теряет смысл. Однако он упорно складывает и складывает, пока действие яда и целебной микстуры не проходит и он не просыпается. Столбцы чисел по-прежнему перед глазами. Беттс думает, он отдыхает, как предписано, однако у него в голове, невидимо для других, разгуливают человечки-циферки, спрыгнувшие со страниц гроссбуха. Они тащат дрова для кухонной печи, однако доставленные мяснику туши превращаются обратно в оленей и преспокойно чешут бока о стволы. Певчие птицы для фрикассе обросли перьями и расселись по веткам, еще не порубленным на хворост; мед, которым их должны были приправить, вернулся в пчелу, а пчела улетела в улей. Он слышит шум этажом ниже, но это какой-то другой дом, в другой стране: звенят, переходя из рук в руки, монеты, скрипят по каменному полу деревянные сундуки. Он сам что-то рассказывает на тосканском, на говоре Патни, на солдатском французском и на варварской латыни. Может, это Утопия? А в центре страны, представляющей собой остров, расположен Амаурот, что означает «призрачный город». Он устал распутывать, что это за мир. Устал улыбаться врагу. Из конторы приходит Томас Авери, садится рядом, держит его руку. Приходит Хью Латимер, читает псалмы. Кранмер приходит и смотрит опасливо: должно быть, боится, что он спросит в бреду, как поживает ваша жена Грета. Кристоф говорит: — Эх, был бы здесь ваш прежний господин кардинал, он бы вас утешил. Добрый был человек. — Да что ты о нем знаешь? — Я ведь его ограбил, сэр. А вы не знали? Украл его золотую посуду. Он пытается сесть. — Кристоф! Так это ты был тем мальчишкой в Компьени? — Я конечно. Таскал наверх горячую воду для купанья и каждый раз выносил в пустом ведре золотой кубок. Мне стыдно, что я его обокрал, он был такой gentil.[98] «Опять с ведром, Фабрис? (Фабрисом меня звали в Компьени, сэр.) Покормите беднягу». Я попробовал абрикос, прежде никогда не ел. — А разве тебя не поймали? — Поймали моего хозяина, великого вора. Устроили облаву, поймали и заклеймили. А мне, как видите, суждена была лучшая участь. Я помню, говорит он, я помню Кале, алхимиков, мнемоническую машину. «Гвидо Камилло строит ее для Франциска, чтобы тот стал мудрейшим королем в мире, однако этот болван все равно не научится ею пользоваться». Он бредит, говорит доктор Беттс, жар усиливается, но Кристоф возражает, нет, правда, один человек в Париже построил душу. Это здание, но оно живое. Внутри там много полок, и на этих полках лежат пергаменты с письменами, они вроде ключей и открывают ларец, а в нем ключ, содержащий другой ключ, только они не из металла, а ящики — не из дерева. А из чего? — спрашивает кто-то. Они из души. Они только и останутся, когда сожгут все книги. И они позволят нам помнить не только прошлое, но и будущее, видеть все формы и все обычаи, какие когда-либо появятся на земле. Беттс говорит, он весь пылает. Ему вспоминается Маленький Билни, как тот накануне казни поднес руку к свече, проверяя, какая будет боль. Пламя опалило тощую плоть; наверняка Билни хныкал, как ребенок, и сосал обожженную руку, а наутро Норичские приставы потащили его на то место, где их деды жгли лоллардов. Даже когда его лицо совсем обгорело, ему по-прежнему совали папистские хоругви: ткань обуглилась и бахрома пылала, черноглазые мадонны закоптились, как селедка, и съежились в дыму. Он вежливо, на нескольких языках, просит воды. Только немножко, говорит доктор Беттс, по глоточку. Он слышал про остров под названием Ормуз. Это самое жаркое место в мире, там нет ни деревьев, ни травы, только соль. Стоя посредине, видишь пепельную равнину на тридцать миль во все стороны; дальше лежит усыпанный жемчугами берег. Ночью приходит его дочь Грейс, и она светится: сияние идет из-под лучащихся волос. Она смотрит на него ровно, не мигая, пока не наступает утро. Тогда открывают ставни, звезды гаснут, луна и солнце висят вместе на бледном небе. Проходит неделя. Ему лучше. Он требует, чтобы принесли работу, но доктора не разрешают. Нельзя, чтобы дело встало, говорит он, а Ричард отвечает, сэр, вы нас всех натаскали, мы ваши ученики, вы создали думающую машину, которая работает как живая, и вам нет надобности приглядывать за ней каждую минуту и каждый день. И все равно, говорит Кристоф, уверяют, что король Анри стонет, словно от боли: о, где Кремюэль? Приходит известие из дворца. Генрих сказал, я еду его навестить. Если это итальянская лихорадка, я не заражусь. Он с трудом верит своим ушам. Генрих сбежал от Анны, когда та болела потовой лихорадкой; а ведь это было в самый разгар влюбленности. Он говорит, пришлите ко мне Терстона. Его кормят как выздоравливающего: нежирным мясом птицы. Теперь он говорит: приготовим… ну, скажем, поросенка, фаршированного и запеченного, я видел такого на пиру у папы. Тебе будут нужны курица, сало и козья печень, все мелко порубленное. Фенхель, майоран, мята, имбирь, масло, сахар, грецкие орехи, яйца и немного шафрана. Некоторые добавляют сыр, но в Лондоне нужного сыра все равно нет, к тому же я считаю, что это лишнее. Если чего-нибудь из этого нет, пошли к повару Бонвизи, он даст. Он говорит: «Скажите соседу, приору Джорджу, пусть не выпускает своих монахов на улицу, пока здесь король, а не то как бы их не реформировали слишком быстро». Он убежден, что все должно идти очень медленно, постепенно, чтобы народ увидел справедливость происходящего: не стоит вышвыривать монастырскую братию на улицы. Монахи, живущие рядом с его домом, позорят свой орден, но они хорошие соседи. Вечерами из их окон доносятся звуки веселой пирушки, днем монахов можно встретить у «Колодца с двумя ведрами», прямо перед его воротами. Церковь аббатства больше похожа на ярмарку, и торгуют там всяким товаром, в том числе и живым. В округе немало молодых холостяков из итальянских торговых домов, приезжающих в Лондон на год. Он часто принимает их у себя и знает, что встав из-за его стола (и выболтав ему все, что он хотел знать о состоянии рынка), молодые люди направляются прямиком в монастырь, где предприимчивые лондонские девицы прячутся от дождя в ожидании клиентов.
Король приезжает семнадцатого апреля. На заре льет дождь. К десяти утра воздух упоительно свеж. Он в кресле; встает. Мой дорогой Кромвель! Генрих крепко целует его в обе щеки, берет за руки и (дабы он не считал себя единственным сильным мужчиной в королевстве) решительно усаживает обратно. — Сидите и не спорьте, — требует Генрих. — Раз в жизни не спорьте со мной, господин секретарь. Обе хозяйки, Мерси и его свояченица Джоанна, разодеты, как Божья Матерь Уолсингамская в праздник. Они низко приседают. Генрих высится над ними, в джеркине из серебряной парчи, с золотой цепью, на пальцах сверкают индийские изумруды. Король не помнит, кто кому приходится, что более чем простительно. — Сестра господина секретаря? — спрашивает Генрих Джоанну. — О нет, виноват. Теперь я вспомнил, что вы потеряли свою сестру Бет в тот же год, когда умерла моя любезная сестрица. Это такая простая, человечная фраза из уст короля; при напоминании о недавней утрате у обеих женщин текут по щекам слезы; Генрих утирает их пальцем, сперва одной, потом другой, и вот они уже снова улыбаются. Молодиц, Алису и Джо, король кружит в воздухе, как бабочек, целует в губы и говорит, эх, был бы я помоложе. Вы замечали, господин секретарь, что чем старше становишься, тем больше хорошеют девушки? Грустно, не правда ли? Что ж, отвечает он, у старости есть свои преимущества: в восемьдесят лет уродина покажется красоткой. Мерси говорит королю запросто, как соседу — полноте, сударь, какие ваши годы! Генрих разводит руки и демонстрирует себя обществу: «В июле будет сорок пять!» Все недоверчиво ахают. Генрих доволен. Король идет по комнате, разглядывает картины, спрашивает, кто на них изображен. Смотрит на Ансельму, царицу Савскую. Берет на руки Беллу и разговаривает с ней на жутком французском супруги губернатора Кале, так что все покатываются со смеху. «Леди Лайл прислала королеве песика, еще меньше. Он наклоняет голову и навостряет уши, словно спрашивая, почему вы со мной разговариваете? Королева дала ему кличку Пуркуа». Король говорит про Анну с обожанием, голос становится, как мед. Женщины улыбаются, довольные, что король подает такой пример супружеской любви. «Вы ведь его знаете, Кромвель, видели у нее на руках. Она везде его носит. Порой, — и тут король рассудительно кивает, — я думаю, она любит его больше, чем меня. Да, я на втором месте после песика». Он сидит, улыбается, есть не хочет — смотрит, как Генрих ест с серебряных тарелок, сделанных по эскизу Ганса. Генрих ласково обращается к Ричарду, называет того кузеном и просит постоять рядом, а всех остальных отойти — королю надо побеседовать со своим советником. Что если Франциск то или Франциск се, не должен ли я сам отправиться через пролив, чтобы о чем-нибудь договориться, отправитесь ли вы, когда снова будете на ногах? Что если ирландцы, что если шотландцы, что если все взбунтуются и у нас будут войны, как в Германии, и крестьяне начнут короноваться на царство, что если эти лжепророки, что если Карл меня низложит и отдаст трон Екатерине, у нее такой горячий нрав, и народ ее любит, Бог весть за что, потому что я ее не люблю. Если это случится, отвечает он, я встану с этого кресла, возьму меч и сам выйду на бой. Отобедав, король сидит рядом с ним и тихо рассказывает о себе. Апрельский день, свежий после ливня, напомнил Генриху смерть отца. Король говорит о своем детстве: я жил в Элтемском дворце, и у меня был шут по кличке Гусь. Когда мне было семь, на Лондон шли мятежные корнуольцы под предводительством великана, помните? Отец отправил нас под защиту тауэрских стен, а я сказал, выпусти меня, позволь мне сражаться! Я не боялся великана с запада, но я боялся свою бабку Маргариту Бофорт — у нее были лицо, как череп, и хватка, как у скелета, когда она стискивала мне руку. Пока мы были маленькие, говорит Генрих, нам всегдатвердили: ваша бабушка родила милорда вашего отца, когда ей было всего тринадцать. Ее прошлое было как занесенный над нами меч. Гарри, что я слышу, ты смеешься в Великий пост? В то время как я, будучи чуть старше тебя, родила Тюдора. Гарри, что я вижу, ты танцуешь, ты играешь в мяч? Вся ее жизнь была один сплошной долг. Она держала у себя в Уокингском дворце двенадцать нищих и как-то заставила меня встать перед тазом на колени и мыть им ноги, страшные, желтые, хорошо еще, что меня не вырвало. Каждое утро она приступала к молитве в пять — вставала на подушечку и плакала от боли в коленях. А когда случался праздник — свадьба, крестины или просто веселье, знаете, что она делала? Всякий раз. Без единого исключения. Она плакала. Принц Артур был для нее всем — светом очей и пресвятым ангелом. — Когда вместо него королем стал я, она слегла и умерла от злости. И знаете, что она мне сказала на смертном одре? — Генрих фыркает. — Во всем слушайся епископа Фишера! Лучше бы она велела Фишеру слушаться меня! Проводив короля и свиту, Джоанна приходит с ним посидеть. Они разговаривают тихо, хотя и не произносят ничего недолжного. — Что ж, все прошло успешно. — Надо будет сделать подарки поварам. — Все слуги были молодцы. Я рада, что на него поглядела. — Не разочарована? — Я не думала, что он такой ласковый. Теперь я понимаю, почему Екатерина так за него билась — не только за корону, которую считает своей по праву, но и за такого мужа. В него трудно не влюбиться. — Сорок пять! — громогласно встревает Алиса. — Я думала, ему уже не по летам! — Ты легла бы с ним за пригоршню гранатов! — фыркает Джо. — Сама сказала. — А ты — за экспортные лицензии! — Прекратите, девчонки! — одергивает он. — Слышали бы вас ваши мужья. — Наши мужья отлично нас знают, — говорит Джо. — Мы с гонором, верно? В Остин-фрайарз за робкими скромницами не приходят. Даже странно, что дядя нас не вооружил. — Обычай не дает. Не то бы я отправил вас в Ирландию. Когда они со смехом выходят из комнаты, Джоанна наклоняется к нему и шепчет, ты не поверишь тому, что я сейчас скажу. — Давай проверим. — Генрих тебя боится. Он мотает головой. Кто может испугать Льва Англии? — Вот тебе крест! Надо было видеть его лицо, когда ты сказал, что возьмешь меч.
Приезжает герцог Норфолкский, грохочет по двору, пока слуги держат украшенного плюмажем коня. — Печенка, а? Моя печенка ни к черту. За последние пять лет я весь иссох! Только гляньте! — Герцог вскидывает костлявую руку. — Всех врачей в королевстве перепробовал — не знают, как лечить. Зато счета присылают исправно. Норфолк, как доподлинно известно Кромвелю, никогда не платит по счетам. — И колики эти треклятые, — продолжает герцог, — из-за них я в земной жизни как в чистилище. Иногда всю ночь не слезаю со стульчака. — Вашей милости надо вести более размеренный образ жизни, — говорит Рейф, подразумевая: не заглатывать еду в один присест. Не мчаться все время взмыленным, как почтовая лошадь. — А я буду, уж поверьте. Племянница объявила, что не хочет ни видеть меня, ни слышать. Я уезжаю в свое поместье Кенинг-холл — там Генрих и найдет меня, если пожелает. Господь да подаст вам исцеление, господин секретарь. Святой Уолтер, говорят, помогает, когда работа невмочь. А святой Убальд — от головной боли, я проверял, действует. — Герцог сует руку за пазуху. — Привез вам образок. С благословением папы. То есть епископа Римского. — Бросает образок на стол. — Подумал, может, у вас нет. Герцог выходит. Рейф берет образок. — Наверняка на нем проклятие. Слышно, как герцог на лестнице громко сетует: — Я думал, он при смерти! Мне сказали, что при смерти! Он говорит Рейфу: — Ну, спровадили. Рейф ухмыляется: — И Суффолка тоже. Генрих так и не получил тридцать тысяч фунтов штрафа, который наложил на Суффолка за женитьбу на своей сестре. Время от времени король вспоминает про эти деньги, и сейчас как раз такой случай. Брэндон вынужден был отдать земли в Оксфордшире и Беркшире и сейчас скромно живет в дальнем поместье. Кромвель блаженно закрывает глаза: я сумел обратить в бегство двух герцогов. Приходит сосед Шапюи. — Я сообщил в депеше своему господину, что король вас посетил. Мой господин изумлен, что монарх отправился к подданному, и даже не лорду. Однако я отписал в ответ, видели бы вы, сколько Кромвель для него сделал. — Ему бы такого слугу, — говорит он. — Однако, Эсташ, вы старый лицемер. Вы сплясали бы на моей могиле. — Ах, дорогой Томас, с кем бы я спорил, если бы вас не стало? Томас Авери тайком от врачей приносит ему книжку с шахматными задачами Луки Пачоли. Очень скоро он уже решил все и даже составил свои на чистых листах в конце. Ему приносят почту, и он узнает, какие еще ужасы произошли в последнее время. Говорят, что мюнстерский портной,[99] король Иерусалимский и супруг шестнадцати жен, повздорил с одной из них и отрубил ей голову на ярмарочной площади. Он возвращается в мир. Сбей его с ног — он встанет. Смерть пришла с инспекцией, смерила его, дохнула в лицо и ушла. Он немного похудел — это видно по одежде — и некоторое время чувствует себя легким, не укорененным в земле: каждый день исполнен возможностями, и все они влекут вверх. Болейны сердечно поздравляют его с выздоровлением, и правильно: где бы они без него были. Кранмер при встрече то и дело стискивает ему руку. С их последней встречи король остриг волосы. Его величество рассчитывал, что так станет менее заметна растущая лысина (не стала). Верные советники последовали примеру государя, и вскоре между ними это сделалось знаком товарищества. — Клянусь Богом, — говорит мастер Ризли, — если бы я не боялся вас прежде, то испугался бы теперь. — Но Зовите-меня, — отвечает Кромвель, — вы же боялись меня прежде. Ричард, который постоянно участвует в турнирах и потому стрижет волосы коротко, чтобы убирать их под шлем, не изменился. Мастер Ризли выглядит более умным, если такое возможно, а Рейф — более решительным и настороженным. Ричард Рич перестал казаться мальчишкой. Широкое лицо Суффолка приобрело неожиданно наивное выражение. Монсеньор теперь с виду — сущий аскет. Перемены в Норфолке никто не заметил. «У него разве были волосы?» — спрашивает Рейф. Сивая поросль на голове герцога — словно ряды оборонительных валов, проложенных фортификаторами. Мода распространяется по стране. Когда в Дом архивов стремительно входит Роуланд Ли, Кромвелю кажется, что на него летит пушечное ядро. У сына глаза по-прежнему золотистые, но как будто больше и спокойнее. Мама всплакнула бы над твоими младенческими кудрями, говорит он, ласково проводя рукой по коротко остриженной голове. Грегори отвечает: «Правда? Я ее почти не помню».
В апреле судят четырех монахов, упорно не желающих присягать. С казни блаженной прошел год. Тогда король проявил снисхождение к ее сторонникам, но теперь Генрих не расположен никого миловать. Все четверо — картезианцы из лондонской обители, известной своим аскетизмом; здесь подвизался Томас Мор, пока не осознал, что его дарования нужнее в миру. Он, Кромвель, посетил гнездо изменников, как перед тем — непокорное Сионское аббатство. Он говорил вкрадчиво и говорил грубо, угрожал и улещивал, он прислал просвещенных клириков, чтобы те растолковали справедливость королевских требований; он постарался внести в ряды монахов раскол, опираясь на недовольных. Все тщетно. Каждый из упрямцев твердил одно: уходите и дайте мне умереть с миром. Если они надеются сохранить в себе тишину своей молитвенной жизни, то глубоко заблуждаются. Закон требует для изменников самой жестокой казни: несколько мгновений в петле, затем публичное потрошение еще живого человека с сожжением его внутренностей на жаровне. Это чудовищная смерть: боль, ярость и унижение полной мерой; самые ярые бунтовщики от страха теряют человеческий облик еще до того, как палач с ножом берется за работу. Перед смертью осужденный видит казнь товарищей; когда его срезают с виселицы, он, как зверь, ползает на четвереньках по окровавленным доскам. Уилтшир и Болейн должны представлять короля на Тайберне, и Норфолк, которого вытащили из деревни, чтобы отправить с посольством во Францию, тоже. Король собирался сам смотреть, как казнят монахов: придворные будут в масках, верхом, среди чиновников и горожан, которые всегда сотнями сбегаются на такие зрелища. Однако при таком росте трудно сохранять инкогнито, а король опасается выступлений в поддержку Екатерины — в любой толпе оборванцев всегда оказываются ее сторонники. Вместо меня поедет Ричмонд, объявляет Генрих; возможно, когда-нибудь мальчику придется защищать титул своей единокровной сестры с оружием в руках, пусть привыкает к крови и звукам бойни. Фицрой приходит к Кромвелю поздно вечером накануне казни. — Добрый господин секретарь, замените меня, пожалуйста. — А вы замените меня завтра утром на встрече с королем? Обдумайте вот что, — говорит он приятным, но твердым голосом. — Если вы скажетесь больным или завтра упадете с лошади либо сблюете на глазах у тестя, он вам этого не забудет. Если хотите, чтобы вас пустили в постель к молодой жене, покажите себя мужчиной. Смотрите на герцога и держитесь, как он. Однако на следующий день после казни к нему приходит сам Норфолк и говорит, Кромвель, жизнью клянусь, я слышал, как один монах кричал, когда у него уже вырезали сердце. Иисусе, крикнул он, Иисусе, спаси нас, несчастных англичан. — О нет, милорд. Это невозможно. — Вы точно знаете? — Да, по собственному опыту. Герцог трепещет. Вот и отлично, пусть думает, что в прошлом он, помимо прочего, вырывал у людей сердца. — Наверное, вы правы. — Норфолк осеняет себя крестом. — Наверное, это был голос из толпы.
Вечером накануне дня, когда должны были казнить монахов, он выписал пропуск на имя Маргарет Ропер, первый за несколько месяцев. Уж конечно, думает он, Мэг будет с отцом, когда монахов поведут на казнь, уж конечно, она его разжалобит, скажет, король настроен кровожадно, присягни как присягнула я. Шепни себе, что это не считается, скрести пальцы за спиной; главное — позови Кромвеля или другого королевского чиновника, произнеси нужные слова и вернись домой. Однако тактика не сработала. Отец и дочь с сухими глазами стояли у окна, когда изменников, в монашеских облачениях, выводили из казематов, чтобы везти на Тайберн. Я всегда забываю, думает он, что Мор не жалеет себя и не чувствует жалости к другим. Я бы уберег своих девочек от такого зрелища и потому ждал того же от Мора. Какое там! Для этого человека даже дочь — лишь средство укрепить свою решимость. Если Мэг не сдастся, не сдастся и ее отец. А она не сдастся. На следующий день он сам идет к Мору. Дождь лупит о мостовую и пузырится в лужах, стены и вода неразличимы, ветер на углах завывает, словно зимой. Выбравшись из мокрых верхних слоев одежды, он болтает с тюремщиком Мартином, выслушивает новости о жене, о новорожденном. Наконец спрашивает про арестанта, и Мартин отвечает: вы когда-нибудь обращали внимание, что у него одно плечо выше другого? Это из-за письма, объясняет он, один локоть на столе, другое плечо опущено. Так или иначе, говорит Мартин, он похож на маленького резного горбуна с перил церковной скамьи. Мор отпустил бороду и стал похож на мюнстерских пророков, какими их рисует воображение, хоть и обиделся бы на такую параллель. — Господин секретарь, как король принял вести из-за границы? Говорят, императорские войска выступили в поход. — Да, думаю, на Тунис. — Он кивает в сторону окна, за которым идет дождь. — На месте императора всякий предпочел бы Тунис Лондону, не так ли? Послушайте, я пришел к вам не ссориться. Просто убедиться, что вы не терпите лишений. Мор говорит со смехом: — Я слышал, вы привели к присяге моего шута, Генри Паттинсона. — А люди, которые вчера умерли, последовали вашему примеру и отказались присягнуть. — Позвольте объяснить. Я не пример. Я — просто я и никто иной. Я ничего не говорю против акта. Я ничего не говорю против людей, которые его составили. Я ничего не говорю против присяги и тех, кто ее принимает. — Да, — он садится на сундук, в котором Мор держит свои пожитки, — но вы знаете, что присяжных это не убедит. Если дело дойдет до присяжных. — Вы пришли мне угрожать. — Военная эскапада императора вывела короля из себя. Его терпение истощилось. Он пришлет комиссию, которая задаст вам прямые вопросы. — Ну конечно, ваши друзья без труда докопаются до истины. Лорд Одли? И Ричард Рич? Куда мне до них! Послушайте. С первого дня здесь я готовлюсь к смерти от ваших — да, от ваших — рук или от рук природы. Я прошу лишь мира и покоя для молитв. — Вы хотите стать мучеником. — Нет, я хочу домой. Я слаб, Томас. Слаб, как мы все. Я хочу, чтобы король признал меня своим слугой, своим любящим подданным, каким я был и остаюсь. — Я никогда не понимал, где граница между жертвой и самоубийством. — Ее определил Христос. — Вас не смущает сравнение? Молчание. Громкое, вызывающее молчание Мора, которое эхом отдается от стен. Мор говорит, что любит Англию и страшится за ее будущее. Он предлагает своему мстительному Богу сделку. «Будет лучше, чтобы один человек умер за людей». Что ж, думает он про себя, я вам скажу. Торгуйтесь, если хотите. Отдайте себя палачу, коли считаете нужным. Людям глубоко плевать. Сегодня пятое мая. Через два дня вас посетит комиссия. Мы попросим вас сесть, вы откажетесь. Вы будете стоять перед нами, как отец-пустынник. Мы будем сидеть, в зябкой летней прохладе. Я все скажу как всегда. Вы ответите как всегда. И возможно, я признаю вас победителем. Я уйду и оставлю вас, доброго подданного, раз уж вы так говорите, торчать здесь, пока ваша борода не отрастет до колен и пауки не затянут паутиной ваши глаза.
Таков план. События развиваются иначе. Он говорит Ричарду: был ли в клятой истории клятого Рима епископ, который выбирал для своей дурости более неудачное время? Фарнезе объявил, что у Англии будет новый кардинал: епископ Фишер. Генрих в ярости. Клянется, что отправит голову Фишера в Италию — навстречу кардинальской шапке. Третье июня. Он едет в Тауэр с Уилтширом от семейства Болейнов и Чарльзом Брэндоном, который явно предпочел бы рыбалку. Еще с ними Рич — присяжный протоколист, Одли — присяжный шутник. Опять сыро, и Брэндон говорит, самое скверное лето на нашей памяти, а? Да, отвечает он, хорошо, что его величество не суеверен. Все смеются, Суффолк немного неуверенно. Некоторые говорили, что конец света наступит в 1533-м. У прошлого года тоже нашлись адепты. Так почему не нынешний? Всегда кто-нибудь готов объявить, что наступили последние времена, и назначить ближнего Антихристом. Из Мюнстера сообщают, что Апокалипсис наступил. Осаждающие требуют безусловной капитуляции, осажденные грозят массовым самоубийством. Он идет впереди остальных. — Боже, ну и место! — сетует Брэндон, которому дождь испортил шляпу. — Неужто оно вас не гнетет? — Да мы все время здесь, — пожимает плечами Рич, — то по одному делу, то по другому. Господин секретарь нужен и на Монетном дворе, и в сокровищнице. Мартин открывает дверь. Мор при их появлении вскидывает голову. — Сегодня либо «да», либо «нет», — говорит Кромвель. — И даже без «здравствуйте, как здоровье». — Кто-то передал Мору гребень для бороды. — Что сообщают из Антверпена? Вправду ли Тиндейл схвачен? — Это к делу не относится, — говорит лорд-канцлер. — Отвечайте на вопрос о присяге. Отвечайте на вопрос о статуте. Законен ли он? — Сообщают, будто он вышел на улицу, и его схватили солдаты императора. Кромвель спрашивает холодно: — Вы знали загодя? Тиндейла не просто схватили. Кто-то выманил его из убежища, и Мору известно, кто. Он видит другого себя, в такое же дождливое утро: этот другой идет через комнату, рывком ставит арестанта на ноги, выбивает из него имя агента. — Ваша светлость, — говорит он Суффолку, — не яритесь так, будьте спокойнее. — Я? — удивляется Брэндон. Одли смеется. Мор говорит: — Теперь дьявол Тиндейл получит по заслугам. Император его сожжет. А король не шевельнет пальцем в его защиту, потому что Тиндейл не поддержал брак его величества с леди Анной. — Может, вы считаете, что в этом Тиндейл прав? — спрашивает Рич. — Отвечайте, — требует Одли; впрочем, довольно мягко. Мор возбужден, запинается; не обращает внимания на Одли, говорит с ним, с Кромвелем. — Вы не можете принудить меня к ответу. Ибо если бы я имел возражения против вашего акта о супрематии, чего я не признаю, ваша присяга стала бы обоюдоострым мечом: сказав «да», я сгубил бы душу, сказав «нет» — тело. Посему я не скажу ничего. — Когда вы допрашивали тех, кого называли еретиками, вы не терпели уклончивости. Вы требовали признаний, а тех, кто не признавался, вздергивали на дыбу. Если они должны были отвечать, почему вы не должны? — Это другой случай. Когда я требую ответа от еретика, за мной весь свод законов, вся мощь христианского мира. Здесь же мне угрожают одним-единственным законом, одним недавним установлением, не признанным нигде за пределами этой страны… Он видит, что Рич делает пометку. Отводит взгляд. — Конец один. Им костер. Вам — плаха. — Если король по своему милосердию смягчит приговор, — говорит Брэндон. Мору страшно: руки на столе сжимаются в кулаки. Кромвель рассеянно примечает этот жест. Вот он, выход: испугать Мора более мучительной казнью. И еще не додумав мысль до конца, он понимает, что не прибегнет к такому методу, и это осознание разъедает душу, как язва. — Насчет чисел спорить не стану, но давно ли вы последний раз смотрели на карту? Христианский мир уже не тот, что прежде. Рич говорит: — Господин секретарь, у Фишера больше мужества, чем у арестанта перед нами. Фишер говорит что думает, и принимает последствия. Сэр Томас, полагаю, вы стали бы прямым изменником, если бы посмели. Мор отвечает мягко: — Вы ошибаетесь. Не мое дело — пробиваться к Богу; я буду ждать, пока Бог меня призовет. — Мы видим, что вы запираетесь, — говорит Одли, — однако не станем применять к вам те методы, которые вы применяли к другим. — Лорд-канцлер встает. — Согласно королевской воле мы передаем дело в суд. — Во имя Господне! Какой вред я могу принести отсюда? Я не делаю ничего дурного. Не говорю ничего дурного. Не замышляю никакого зла. Если этого мало, чтобы сохранить человеку жизнь… Он перебивает, не веря своим ушам: — Вы не делаете дурного? А как насчет Бейнхема? Помните Бейнхема? Вы конфисковали его имущество, бросили в тюрьму его жену, приказали вздернуть его на дыбу, отправили к епископу Стоксли в подвал, забрали к себе домой, где два дня держали прикованным к столбу, снова отправили к Стоксли, где несчастного били и унижали в течение недели, но даже это не утолило вашей злобы; вы вновь отослали арестанта в Тауэр и на дыбу, так что к месту сожжения его, чуть живого, несли на носилках. И вы, Томас Мор, говорите, что не делаете ничего дурного? Рич начал собирать бумаги Мора со стола: подозревают, что тот обменивается письмами с Фишером. Будет неплохо, если удастся доказать соучастие Мора в измене Фишера. В первый миг Мор пытается закрыть ладонью бумаги, затем пожимает плечами. — Забирайте, если они вам нужны. Вы и так читаете все, что я пишу. Кромвель говорит: — Если в ближайшее время мы не услышим о перемене в вашем образе мыслей, нам придется забрать у вас перо и бумагу. А также книги. Я кого-нибудь пришлю. Мор как будто съеживается. Прикусывает губу. — Если так, забирайте прямо сейчас. — Фи! — говорит Суффолк. — Мы вам что, слуги, мастер Мор?
Анна говорит: — Это все из-за меня. Он кланяется. — Когда вы наконец вытянете из Мора, что именно тревожит его столь чуткую совесть, выяснится, что главная причина — нежелание признать меня королевой. Она маленькая, бледная и злая. Тонкие пальцы сжаты, глаза сверкают. Однако прежде чем двигаться дальше, он должен напомнить Генриху о прошлогоднем провале, о том, что не всякое желание короля исполняется само собой. Прошлым летом лорда Дакра, одного из северных лордов, судили за измену: сговор с шотландцами. За обвинением формально стояли Клиффорды, давние соперники и кровные враги Дакров, а на самом деле — Болейны, ибо Дакр ревностно поддерживал прежнюю королеву. Действо разыгрывалось в Вестминстер-холле, заседания вел Норфолк как председатель суда пэров; Дакра, согласно его привилегиям, судили двенадцать лордов. Быть может, вся затея была просчетом — Болейны хотели слишком много и сразу. Возможно, он допустил ошибку, что не выступил обвинителем сам; он предпочел оставаться в тени, чтобы не злить аристократов, и без того недовольных безродным выскочкой. А может, беда в Норфолке, который не сумел совладать с лордами… Так или иначе, обвинения были сняты, к возмущению и ярости короля, никак не ожидавшего такого поворота событий. Королевская стража доставила Дакра назад в Тауэр, а Кромвеля направили следом заключить сделку, которая в конечном счете, он знает, погубит Дакра. В суде тот говорил семь часов кряду, но он, Кромвель, мог бы говорить неделю. Обвиняемого признали виновным в недонесении об измене, а не в самой измене. Заплатив за королевское прощение десять тысяч фунтов, Дакр вышел на свободу нищим. Однако королева вне себя: она хочет, чтобы кого-нибудь примерно наказали. А события во Франции развиваются не так, как хотелось бы; говорят, при упоминании имени Анны Франциск презрительно хмыкает. Она подозревает (и вполне обоснованно), что ее слуга Кромвель больше заинтересован в союзе с немецкими князьями, чем в союзе с Францией, однако сейчас не время с ним ссориться, и она говорит, я не успокоюсь, пока жив Фишер, пока жив Мор. Сейчас она кружит по комнате, взвинченная, отнюдь не величественная, то и дело поворачивается к Генриху, трогает короля за рукав, трогает за руку, а король всякий раз отмахивается, как от мухи. Он, Кромвель, наблюдает. Сегодня это одна супружеская чета, завтра — другая; то друг на друга не надышатся, то будто чужие. Впрочем, нежности оставляют более тягостное впечатление. — Фишер меня не беспокоит, — говорит Кромвель, — потому что состав преступления налицо. В случае Мора… Морально наши обвинения неоспоримы. Никто не сомневается, что Мор верен Риму и не признает ваше величество главой церкви. Юридически наши обвинения слабы, и Мор не упустит ни одной юридической, ни одной процессуальной уловки. Осудить его будет нелегко. Генрих сбрасывает оцепенение. — А я держу вас для легких задач? Я в простоте душевной вознес вас так, как людей вашего происхождения не возносили за всю историю королевства. — Понижает голос. — Думаете, за красоту лица? За приятность вашего общества? Я держу вас, мастер Кромвель, потому что вы хитры, как сотня аспидов. Однако я не собираюсь пригревать змею у себя на груди. Вам известна моя воля. Исполняйте. Выходя, он ощущает воцарившуюся в комнате тишину. Анна идет к окну. Генрих провожает его взглядом.
Так что когда приходит Рич, трепеща от каких-то неведомых тайн, первое желание — прихлопнуть того, как муху. Однако он тут же овладевает собой и трет руки: счастливейший человек во всем Лондоне. — Ну, сэр Кошель, забрали книги? И как он? — Опустил штору. Я спросил, зачем, ион ответил, добро вынесли, я закрываю лавочку. Нестерпимо думать о Море в комнате без света. — Смотрите, сэр. — Рич протягивает сложенный листок. — Мы побеседовали. Я все записал. — Разыграйте со мной. — Он садится. — Я Мор. Вы — Рич. Рич смотрит непонимающе. — Закрыть ставни? — продолжает Кромвель. — Действие происходит в темноте? — Я не хотел, — неуверенно начинает Рич, — уходить от него, не сделав последней попытки… — Понимаю. У вас своя тактика. Но почему он согласился говорить с вами, если не говорил со мной? — Потому что он считает меня никем. Пустым местом. — В то время как вы — генеральный стряпчий, — с издевкой произносит он. — И мы стали разбирать умозрительные случаи. — Словно в Линкольнс-инн после ужина? — Сказать по правде, сэр, я его пожалел. Он скучает по разговорам, и вы знаете, как его трудно остановить. Я сказал, предположим, парламент издаст указ, что я, Ричард Рич, отныне король. Признаете ли вы меня? Он рассмеялся. — Что ж, согласитесь, это и впрямь маловероятно. — Я настаивал, и он ответил, да, венценосный Ричард, я вас признаю, ибо парламент вполне на такое способен, а учитывая последние события, я не удивлюсь, проснувшись однажды под властью короля Кромвеля; если портной может стать королем Иерусалимским, сын кузнеца вполне может сесть на престол Англии. Рич умолкает: не оскорбился ли собеседник? — Когда стану королем Кромвелем, — ухмыляется Кромвель, — я сделаю вас герцогом. Так в чем суть, Кошель?.. Или сути-то нет никакой? — Мор сказал, ладно, вы привели пример, я приведу другой. Предположим, парламент издаст указ, что Бог отныне не Бог, что тогда? Я ответил, указ не будет иметь силы, потому что парламент не правомочен в таких вопросах. Тогда он сказал, ну вот, молодой человек, по крайней мере, вы способны распознать явную нелепость. Потом замолчал и взглянул на меня, словно говоря: вернемся в реальный мир. Я сказал, давайте разберем промежуточный вариант. Вы знаете, что парламент провозгласил нашего государя главой церкви, почему вы не признаете это решение, как в случае объявления меня королем? И он сказал — как будто наставляя ребенка — тут разные случаи. Первый вопрос — светский, и парламент правомочен выносить по нему решения. Второй относится к духовной сфере, а следовательно, вне компетенции парламента. Кромвель смотрит на Рича во все глаза. Говорит: — Папист несчастный. — Да, сэр. — Мы знаем, что он так думает. Он никогда не признавал этого вслух. — Он сказал, есть высший закон над этой страной и над всеми остальными, и коли парламент преступает закон Божий… — Читай папский — ибо они для него одно, это он не сможет оспорить, верно? Зачем бы он постоянно испрашивал свою совесть, если бы не проверял день и ночь, согласуется ли она с Римской церковью, его главной путеводительницей? Мне кажется, если он недвусмысленно отрицает компетенцию парламента, он отрицает и королевский титул. А это государственная измена. И все же… — Кромвель пожимает плечами, — насколько прочна наша позиция? Можем ли мы доказать, что отрицание было злонамеренным? Он скажет, мы просто болтали, чтобы скоротать время. Разбирали умозрительные случаи, и слова, произнесенные в таких обстоятельствах, не имеют юридической силы. — Присяжные такого не поймут. Они заставят его признать собственные слова. В конце концов, он понимал, что это не спор студентов-правоведов. — Верно. В Тауэре таких споров не ведут. Рич протягивает листки. — Я все записал по памяти как мог точно. — Свидетели есть? — Тюремщики входили и выходили, укладывали книги в ящик. У него было много книг. Не вините меня за небрежность, сэр, откуда мне было знать, что он вообще со мной заговорит. — Я и не виню. — Он вздыхает. — На самом деле, Кошель, вы — мое бесценное сокровище. Вы повторите это в суде? Рич неуверенно кивает. — Я жду от вас твердого «да». Или «нет». Если опасаетесь, что вам не хватит духу, будьте добры сказать это сейчас. Если проиграем еще один процесс, мы можем попрощаться с местами. И все наши труды пойдут прахом. — Понимаете, он никогда не упускал случая вспомнить мои юношеские слабости, — говорит Рич. — Указывал на меня как на дурной пример в своих проповедях. Так пусть следующую проповедь читает на плахе!
Накануне казни Фишера Кромвель приходит к Мору. Берет с собой надежную стражу, но оставляет ее снаружи и входит к арестанту один. — Я привык, что штора опущена, — говорит Мор почти весело. — Вы не против посумерничать? — Вам незачем бояться солнца. Его нет. — Вулси хвастал, что умеет менять погоду, — произносит Мор со смешком. — Спасибо, что навестили меня теперь, когда нам больше не о чем говорить. Или есть о чем? — Завтра рано утром стража придет за епископом Фишером. Я боюсь, она вас разбудит. — Я был бы плохим христианином, если бы не бодрствовал вместе с ним. — С лица Мора сошла улыбка. — Я слышал, король смягчил ему казнь. — Фишер очень стар и хил здоровьем. Мор отвечает с едкой учтивостью: — Я стараюсь, как могу. Но быстрее, чем позволяет природа, не одряхлеешь. — Послушайте. — Кромвель тянется через стол, стискивает руку Мора — сильнее, чем намеревался. Хватка кузнеца, думает он. Мор невольно морщится. Кожа на исхудавших пальцах суха, как бумага. — Послушайте. Когда предстанете перед судом, бросьтесь на колени и молите короля о пощаде. Мор спрашивает удивленно: — И чем мне это поможет? — Он не жесток. Вам это известно. — Известно ли? Раньше не был. Он всегда отличался мягким нравом. Но с тех пор он окружил себя другими людьми. — Призывы к милосердию всегда его трогают. Я не обещаю, что он сохранит вам жизнь, если вы не принесете присягу. Однако он может облегчить вам казнь, как Фишеру. — Не так уж важно, что станется с моим телом. Мне повезло прожить во многом счастливую жизнь. Господь по своему милосердию меня не испытывал. И теперь, когда время испытания пришло, я не могу показать себя нерадивым слугой. Я заглядывал в свое сердце, и мне не всегда нравилось то, что я там видел. Если в мой последний миг его возьмет в руки палач, так тому и быть. Очень скоро оно будет в руках Божьих. — Вы сочтете меня сентиментальным, если я скажу, что не хочу видеть, как вас потрошат? Молчание. — Вы не боитесь боли? — Боюсь, и очень сильно. В отличие от вас, я не отважен и не силен, поэтому невольно представляю в подробностях, как это будет. Однако боль продлится недолго, а йотом Господь не даст мне ее помнить. — Я рад, что не таков, как вы. — Без сомнения. Иначе вы сидели бы на моем месте. — Я про неотступные мысли об ином мире. Как я понимаю, вы не видите способов улучшить этот. — А вы видите? Вопрос задан почти небрежно. Пригоршня града ударяет в окно. Оба вздрагивают. Кромвель встает, не в силах сидеть на месте. На его вкус уж лучше знать, что там снаружи, видеть, как гибнет лето, чем прятаться за шторой и гадать, насколько все плохо. — Когда-то я был полон надежд, — говорит он. — Наверное, мир меня подтачивает. Или просто погода. Я начинаю думать как вы: что надо сжаться до крошечной светлой точки и беречь свою одинокую душу, словно свечу под сосудом. Меня подтачивают боль и унижение, которые я вижу вокруг, невежество, бессмысленный порок, нищета и безнадежность — да, и дождь — дождь, который сыплется на Англию, губя посевы, гася свет в очах людей и свет учености тоже, ибо кто оспорит, что Оксфорд — огромная лужа, а Кембридж уже почти смыло, и кто будет блюсти законы, если судьи барахтаются, силясь не утонуть? На прошлой неделе взбунтовались жители Йорка. И как им не бунтовать, если зерна мало, а цена на него вдвое выше, чем в прошлом году? Моя обязанность — проследить, чтобы мятежников примерно наказали, иначе весь север поднимется с цепами и вилами, и кого они станут убивать, если не друг друга? Я искренне верю, что будь погода лучше, я сам был бы лучше. Я был бы лучше, живи я в краю, где светит солнце, а люди богаты и свободны. Будь наша страна такой, мастер Мор, вам не пришлось бы молиться за меня и вполовину так усердно, как вы молитесь. — Как вы умеете говорить, — произносит Мор. Слова, слова, просто слова. — Конечно, я за вас молюсь. Молюсь всем сердцем, чтобы вы увидели свои заблуждения. Когда мы встретимся в раю — а я надеюсь, что мы встретимся, — все наши разногласия будут позабыты. Однако сейчас мы не можем мечтать, чтобы они исчезли. Ваша задача — меня убить. Моя — остаться в живых. Это моя роль и мой долг. Все, что у меня есть, — крошечная опора, на которой я стою, и эта опора — Томас Мор. Если хотите ее отнять — отнимайте. Не ждите, что я отдам ее сам. — Вы захотите написать речь в свою защиту. Я велю принести перо и бумагу. — Не уговорами, так уловкой? Нет, господин секретарь, моя защита здесь, — Мор указывает на свой лоб, — куда вам не добраться. Как странно в комнате, как пусто без книг Мора: она наполняется тенями. — Мартин, свечу! — кричит Кромвель. — Вы будете здесь завтра? Он кивает. Хотя самой смерти Фишера он не увидит. Ритуал требует преклонить колени и снять шляпу на тот миг, когда душа преступника расстается с телом. Мартин вносит свечу. «Что-нибудь еще?» Пока тюремщик ставит подсвечник на стол, оба молчат; молчат и когда тот выходит. Арестант, ссутулившись, смотрит на пламя. Как угадать, Мор не хочет больше говорить или готовит речь? Есть молчание, которое предшествует словам, и молчание, которое их заменяет. Такое молчание не следует нарушать утверждением, только неуверенным если бы… быть может… Он говорит: — Знаете, я бы оставил вас здесь. Жить своей жизнью. Раскаиваться в своих злодеяниях. Будь я королем. Темнеет. Как будто арестант вышел из комнаты, оставив вместо себя тень. Пламя свечи дрожит и пригибается. Голый стол между ними, расчищенный от одержимой писанины Мора, стал похож на алтарь — а для чего алтарь, если не для жертвы? Мор наконец прерывает молчание: — Если после суда, и если король не смягчит, если будет по всей строгости… Томас, как это делается? Казалось бы, когда человеку вспороли живот, он должен умереть сразу, но вроде бы, говорят, нет… У них какой-то особый инструмент? — Мне жаль, что вы считаете меня специалистом. Однако не я ли сказал Норфолку, почти что сказал, что сам вырвал кому-то сердце? Он говорит: — Это секрет, который палачи ревниво сберегают, дабы держать нас всех в страхе. — Пусть меня убьют быстро. Я прошу об этом, больше ни о чем. Мор раскачивается взад-вперед и вдруг сотрясается в рыданиях с головы до пят, словно пронзенный судорогой, ударяет слабой ладонью в пустой стол. Когда Кромвель выходит, «Мартин, идите туда, отнесите ему вина», Мор все еще плачет, дрожа всем телом, молотит рукой по столу. В следующий раз он увидит Мора в Вестминстер-холле.
В день суда реки выходят из берегов. Темза вспучивается и бурлит, словно адский поток, несет по набережным плавучий сор. Сегодня схватка Англии с Римом, говорит он. Живых с мертвыми. Председателем назначен Норфолк. Кромвель рассказывает герцогу, как все будет: в части более ранних обвинений дело будет закрыто. Обвинения касаются различных слов, сказанных в разное время по поводу акта и присяги, а также изменнического сговора между Мором и Фишером — они обменивались письмами, однако сами письма, видимо, уничтожены. — По четвертому пункту мы заслушаем свидетельство генерального стряпчего. Это отвлечет Мора — он при виде юного Рича неизменно входит в раж и начинает обличать его давние пороки. Герцог поднимает бровь. — Пьянство. Драки. Женщины. Кости. Норфолк трет щетину на подбородке. — Я приметил, что такие розовощекие красавчики вечно дерутся. Хотят доказать, что они мужчины. А нам, страхолюдным чертям, родившимся в доспехах, в этом нет нужды. — Верно, — говорит он, — мы тишайшие люди на земле. А теперь, милорд, я попрошу вас слушать внимательно. Еще одна такая ошибка, как с лордом Дакром, станет для нас последней. Итак, по первым пунктам обвинения дело будет закрыто. К следующему присяжные насторожатся. А я подобрал вам отличных присяжных. Мора будут судить равные: купцы из ливрейных компаний, таких на мякине не проведешь. Как все лондонцы, они изрядно насмотрелись на алчность и высокомерие церкви и очень не любят, когда им запрещают читать Писание на родном языке. Все они знают Мора, знают его двадцать лет. Помнят, как он оставил вдовой Люси Петит. Как разорил Хемфри Монмаута, давшего приют Тиндейлу. Как склонял к доносительству подмастерьев, к которым они относились как к сыновьям, слуг, настолько близких, что они вместе с хозяевами стояли на вечерних молитвах. Одно имя вызывает у Одли сомнения. — Джон Парнелл? Это могут неправильно понять. Парнелл ненавидит Мора с тех самых пор, как Мор вынес против него решение в канцлерском суде… — Я помню то дело. Мор его провалил — не прочел документы. Слишком был занят — писал любовные цидульки Эразму или набивал колодки на какого-то бедного лютеранина у себя в Челси. Чего вы хотите, Одли? Чтобы я выписал присяжных из Уэллса или из Кумберленда или еще откуда-нибудь, где к Мору расположены больше? Я не могу стереть память лондонцев или составить коллегию присяжных из новорожденных. Одли качает головой. — Ну, Кромвель, не знаю. — Он ушлый малый, — говорит герцог. — Когда пал Вулси, я сказал, запомните его, он ушлый малый. В два счета тебя обскачет. Вечером накануне суда, когда он в Остин-фрайарз перечитывает бумаги, в дверь просовывается бритая голова. — Дик Персер. Входи. Дик Персер оглядывает комнату. У него узкое шершавое лицо лондонского подростка. Дик присматривает за цепными псами, охраняющими дом по ночам, и здесь, наверху, впервые. — Заходи и садись. Не бойся. — Он наливает Дику вина в венецианский бокал из бывших кардинальских. — Попробуй. Уилтшир прислал. Мне самому оно не по вкусу. Дик с опаской берет бокал, отхлебывает вино, бледное, как солома или солнечный свет. — Сэр, можно мне завтра пойти с вами на суд? — Все еще саднит, да? Дик Персер — тот самый мальчишка, которого Мор высек перед всеми домочадцами за слова о том, что облатка — просто кусок хлеба. Дик был тогда совсем маленьким, да и сейчас еще почти ребенок — говорят, первое время в Остин-фрайарз он плакал во сне. — Одолжи у кого-нибудь ливрею, — говорит Кромвель, — и не забудь с утра вымыть лицо и руки. Не хватало мне хлебнуть с тобой позора. При слове «позор» мальчика прорывает. — Я ведь не из-за боли. Мы все ее натерпелись, не в обиду вам будет сказано, сэр, от своих отцов. — Верно, — говорит он, — меня отец колошматил, словно я — стальной лист. — Я из-за того, что он меня заголил. При женщинах. При леди Алисе. И барышнях. Я думал, кто-нибудь из них вступится, но когда с меня стянули штаны, они все засмеялись. И смеялись, пока он меня сек. Обычно в книжках от рук мужчины с розгой или топором страдают юные невинные девы, но мы, видимо, забрели в какую-то другую историю: детские ягодицы в пупырышках от холода, тощая детская мошонка, робкая пиписька сжалась до размеров пуговки, хозяйские дочери хихикают, слуги гогочут, тонкие рубцы на спине вспухают и кровоточат. — Все прошло и забыто. Не плачь. Он выходит из-за стола. Дик Персер утыкается бритой головой ему в плечо и рыдает от стыда, от облегчения, от радости, что скоро переживет своего мучителя. Мор сгубил его отца за то, что тот держал дома немецкие книги. Он прижимает мальчика к себе, чувствует биение пульса, напрягшиеся жесткие мышцы, шепчет ласковые, ничего не значащие слова, как своим детям, когда те были маленькие, или спаниелю, которому наступили на хвост. Он заметил, что обычное вознаграждение утешителю — блоха-другая. — Я вас никогда не оставлю! — Дик обнимает хозяина; руки, сжатые в кулаки, вжимаются в его спину. Шмыгает носом. — Думаю, ливрея мне пойдет. Во сколько выступаем?
Раннее утро. Он вместе с помощниками в Вестминстер-холле — вдруг в последний миг возникнут непредвиденные затруднения? Зал наполняется судейскими, и когда вводят Мора, все потрясены. Пребывание в Тауэре еще никого не красило, это верно, однако перемена в Море особенно разительна: исхудавший, с всклокоченной седой бородой, он в свои пятьдесят семь выглядит семидесятилетним старцем. Одли шепчет: — Можно подумать, его там держали впроголодь. — А еще говорит, будто я ничего не упускаю. — Что ж, моя совесть чиста, — беспечно говорит Одли. — Он ни в чем не терпел нужды. Джон Парнелл Кромвелю кивает. Ричард Рич, одновременно член суда и свидетель, улыбается. Одли приказывает, чтобы обвиняемому принесли стул, но Мор садится на самый краешек: напружиненный, готовый к схватке. Он оборачивается — ведет ли кто-нибудь из его клерков записи. Слова, слова, просто слова. Он думает: я помнил вас, Томас Мор, а вы меня — нет. Вы даже не заметили, как я подкрался.
III В Вулфхолл
Июль 1535
В день казни Мора дождь к вечеру перестает, и он гуляет по саду с Рейфом и Ричардом. В просветы облаков выглядывает бледное пятно солнца. Прибитые дождем цветы не пахнут, резкий ветер треплет одежду, задувает за шиворот, потом, круто развернувшись, хлещет по щекам. Рейф говорит, чувствуешь себя, как в море. Они идут по бокам от него, близко, словно для защиты от пиратов, китов и русалок. Со времени суда прошло пять насыщенных дней, однако они невольно вспоминают подробности, обмениваются засевшими в памяти впечатлениями: генеральный прокурор что-то спешно дописывает в обвинительном акте, Мор ухмыляется, когда какой-то клерк допускает ошибку в латыни, холодные гладкие лица Болейнов, отца и сына, на скамье судей. Мор ни разу не повысил голос: сидел на стуле, принесенном по указанию Одли, внимательно слушал, склонив голову на бок, теребил рукав. Поэтому все отчетливо видели, как удивился Рич, когда Мор на него обрушился; Рич даже отступил на шаг и взялся за стол. — Я давно знаю вас, Рич, неужто я стал бы с вами откровенничать? — Мор вскочил, в его голосе слышалось ядовитое презрение. — Я знаю вас с юности — картежника, игрока в кости, почитаемого ни за что даже в собственном доме… — Клянусь святым Юлианом! — воскликнул судья Фицджеймс (он всегда так божился). Потом добавил тихо, обращаясь к нему, Кромвелю: — Не понимаю, что он надеется этим выиграть. Присяжным вспышка Мора не понравилась; никогда не знаешь, что понравится присяжным. Человеку предъявили собственные слова, решили они, вот он и вскипел. Конечно, они знали репутацию Рича, но разве пьянство, драки и азартные игры не естественнее для молодого человека, чем посты, четки и самобичевание? Тираду Мора резко оборвал Норфолк: — Довольно о свидетеле! Что вы можете сказать по существу дела? Вы произносили эти слова? Когда Мор перемудрил? Не в эту ли минуту? Он выпрямился, поправил сползшую мантию наплече, выдержал паузу, успокаиваясь, и свел кулаки. — Я не говорил того, что утверждает Рич. А если и говорил, то без злого умысла, следовательно, по закону я невиновен. Он, Кромвель, видел, как по лицу Джона Парнелла скользнула злая усмешка. С лондонцем, который вообразил, что ему морочат голову, шутки плохи. Одли и другие законоведы могли бы объяснить присяжным: так спорим мы, юристы. Однако Парнелл и его коллеги не хотят выслушивать юридические споры, они хотят истины: были сказаны эти слова или нет? Джордж Рочфорд подается вперед: может ли обвиняемый изложить свою версию разговора? Мор поворачивается с улыбкой, словно говоря: отличный ход, юный мастер Джордж. — Я не записывал нашу беседу. У меня не было бумаги и перьев, их уже унесли. Ибо если вспомните, милорд Рочфорд, Рич затем и пришел, чтобы забрать письменные принадлежности. Здесь Мор вновь сделал паузу и посмотрел на присяжных, словно ожидая аплодисментов; на него глядели каменные лица. Был ли это поворотный миг? Присяжные могли поверить Мору, памятуя, что тот — бывший лорд-канцлер, а Рич — известный повеса. Никогда заранее не знаешь, что подумают присяжные, хотя, конечно, перед заседанием Кромвель провел с ними предварительную беседу, пустив в ход всю силу своего убеждения. Он сказал, я не знаю, на чем Мор будет строить защиту, но вряд ли мы до полудня управимся. Надеюсь, вы плотно позавтракали? Когда удалитесь для вынесения вердикта, спешить не стоит, но если вы пробудете там больше двадцати минут, я к вам загляну. Разрешить ваши сомнения юридического характера. Им хватило пятнадцати минут. Итак, вечером в саду, шестого июля, в праздник святой мученицы Годеливы (молодой добродетельной жены из Брюгге, утопленной жестоким мужем в пруду), он поднимает голову и чувствует в воздухе перемену, как будто повеяло осенью. Солнце ненадолго выглянуло и спряталось. Тучи, ползущие со стороны Эссекса, громоздятся над городом бастионами и крепостными валами, плывут над мокрыми пастбищами и вышедшими из берегов реками, над западными лесами и дальше, через море, в Ирландию. Ричард поднимает с лавандовой грядки свою шляпу и, тихо чертыхаясь, стряхивает с нее капли. В лицо ударяют первые брызги дождя. — Пора идти. Мне еще надо написать несколько писем. — Не сидите сегодня допоздна. — Слушаюсь, дедушка Рейф. Я выпью молока с хлебушком, прочту молитву и лягу в постельку. Можно мне взять с собой собаку? — Еще чего! Чтобы вы там всю ночь до утра возились? Да, верно, накануне он почти не спал. Уже за полночь ему пришло в голову, а ведь Мор наверняка спит, не ведая, что это последняя ночь. Осужденному сообщают о казни только утром. А значит, подумал он, бодрствовать за него буду я один. Они торопливо входят в дом; ветер грохает дверью о косяк. Рейф берет его под руку. Он говорит, молчание Мора, оно ведь никогда не было молчанием? Оно кричало об измене, оно сквозило придирками, возмущением, несогласием. Это был страх перед простыми и ясными словами либо убеждение, что простые и ясные слова легко извратить. Словарь Мора против нашего словаря. Молчание может быть красноречивым. В корпусе лютни сохраняются все сыгранные ноты, в струнах виолы — аккорд. Увядший лепесток может хранить аромат, молитва — нести в себе проклятия, а опустелый дом — гудеть от речей призраков. Кто-то — вряд ли Кристоф — поставил ему на стол серебряную вазу с васильками. Сумеречная синева в основании лепестков вызывает в памяти сегодняшнее утро: поздний для июля рассвет, пасмурное небо. К пяти комендант Тауэра должен был прийти за Томасом Мором. Слышно, как во двор один за другим вбегают гонцы. Хлопотное дело — наводить порядок за покойником, думает он, что ж, в детстве я прибирался за молодыми джентльменами в доме кардинала Мортона, сегодня — последний раз. Ему видится, как он выплескивает пивные опивки в кожаный бурдюк, комкает свечные огарки, чтобы отправить свечнику в переделку. За дверью голоса; ну и пусть. Он возвращается к письмам. Аббат из Рьюли испрашивает место для своего друга. Мэр Йорка пишет про запруды и сети; воды Хамбера чисты и незамутненны, читает он, и Уза тоже. Письмо от лорда Лайла из Кале с какими-то маловразумительными самооправданиями, он сказал, я ему на это, а он мне на это… Томас Мор стоит перед ним, более осязаемый, чем в жизни. Возможно, Мор всегда будет здесь: столь же быстрый умом, столь же непреклонный, как в последний час суда. Одли так обрадовался вердикту присяжных, что начал зачитывать обвинительное заключение, не предоставив осужденному последнего слова; Фицджеймсу пришлось хлопнуть лорда-канцлера по руке, и сам Мор вскочил, чтобы его перебить. Мору было что сказать: звенящий голос, язвительный сарказм, блеск в глазах, жестикуляция — не верилось, что говорит осужденный, в глазах закона уже мертвец. Однако во всей речи не было ничего нового, по крайней мере, для Кромвеля. Я следую моей совести, объявил Мор, а вы следуйте своей. Моя совесть убеждает меня — теперь я могу говорить прямо, — что ваш статут незаконен (Норфолк рычит) и вы были не вправе его принимать (Норфолк вновь рычит: «Теперь-то ваш злой умысел виден всем!»). Парнелл хохотнул, присяжные обменялись взглядами, и, пока весь Вестминстер-холл гудел, Мор, перекрывая шум, повторил свои изменнические выкладки. Моя совесть с большинством, и потому я знаю, что она не лжет. — Против королевства Генриха у меня — все христианские королевства. На каждого из ваших епископов у меня сотня святых. Против одного вашего парламента у меня все великие церковные соборы за тысячу лет. Норфолк сказал, выведите его, все кончено. Сегодня вторник, восемь часов вечера. Он ломает печать на письме герцога Ричмондского. Мальчик жалуется, что в Йоркшире, куда его отправили, нет охотничьих угодий и он не может с друзьями стрелять оленей. Ах, бедный мой маленький герцог, как мне унять твое горе? У вдовы с черными зубами, той самой, которую он сосватает Грегори, большие угодья — может Ричмонду развестись с дочкой Норфолка и жениться на ней? Он откладывает письмо Ричмонда, перебарывая искушение бросить листок на пол, читает следующие. Император со своим флотом отплыл из Сардинии к Сицилии. Священник церкви Сент-Мэри-Вулчерч утверждает, что Кромвель — сектант и он его не страшится; вот болван. Гарри лорд Морли шлет ему борзую. Сообщают, что жители бегут из окрестностей Мюнстера и часть направляется в Англию. Одли сказал: — Осужденный, мы будем просить короля о смягчении казни. Потом, наклонившись к нему, тихо: господин секретарь, вы что-нибудь ему обещали? Жизнью клянусь, нет, но ведь король наверняка смилостивится. Норфолк говорит, Кромвель, вы ведь постараетесь уговорить короля? Вас он послушает, а если нет, я сам буду его молить. Чудеса: Норфолк просит о милосердии! Он поднял голову, чтобы увидеть, как выводят Мора, однако высокие алебарды уже сомкнулись за осужденным; у пристани ждет лодка из Тауэра. Для Мора это, наверное, как возвращение домой: в привычную комнату с узким окошком, к столу без бумаг, свече, опущенной шторе. Окно дребезжит; он вздрагивает и вспоминает, что не запер ставни. Встает; и тут входит Рейф с книгой. — Вот молитвенник, который был у Мора до последней минуты. Он берет книгу. Благодарение Богу, никаких кровавых пятен. Раскрывает, встряхивает. — Я уже проверил, — говорит Рейф. Мор написал на молитвеннике свое имя. Некоторые строчки подчеркнуты. «Грех юности моея не помяни». — Жаль, что он помянул грехи Ричарда Рича. — Отправить леди Алисе? — Нет. Она сочтет себя одним из его грехов. Бедная женщина и без того натерпелась. В последнем письме Мор с ней даже не попрощался. Он закрывает молитвенник. — Отправь Мэг. Он наверняка ей и предназначался. Весь дом ходит ходуном: ветер в кровле, ветер в дымоходе, из-под каждой двери тянет сквозняком. Холодно, давайте я велю развести камин, предлагает Рейф. Он мотает головой. — Скажи Ричарду, пусть завтра утром сходит на Лондонский мост и поговорит со смотрителем. Мистрис Ропер придет просить голову отца для погребения. Пусть смотритель возьмет у нее деньги и даст ей сделать, что она хочет. И чтоб никому ни слова! Как-то давно, в Италии ему случилось поработать могильщиком — не по своей воле, просто выбора не было. Они обвязали лица платками и зарыли товарищей в неосвященную землю, а потом ушли, унося на башмаках запах тлена. Что хуже, думает он, увидеть смерть дочерей или позволить им прибирать твои останки? — Было что-то еще… — Он хмурится, глядя в бумаги. — Рейф, что я забыл? — Поужинать? — Позже. — Написать лорду Лайлу? — С лордом Лайлом я разобрался. И с рекой Хамбер. С хулителем из Сент-Мэри-Вулчерч; не то чтобы разобрался, но занес его в список, на будущее. Он смеется. — Знаешь, что мне нужно? Мне нужна запоминающая машина. Гвидо, как сообщают, уехал из Парижа. Сбежал в Италию, бросив машину недостроенной. Говорят, будто перед отъездом он несколько недель молчал и ничего не ел. Доброжелатели утверждают, что он утратил рассудок, потрясенный возможностями своего детища: рухнул в бездну сверхчувственного. Злопыхатели уверены, что из закутков механизма вылезли бесы и так напугали Гвидо, что тот бежал ночью в одной рубашке, не прихватив в дорогу корки хлеба или куска сыра, бросив все свои книги и чародейские мантии. Если Гвидо и впрямь оставил во Франции свои записи, их вполне можно добыть за деньги. Или отправить в Италию людей, которые его разыщут. Однако чего ради? Скорее всего, мы так и не узнаем, в чем состояло изобретение. Был это печатный станок, который сам пишет книги? Разум, осознающий самое себя? Что ж, раз машина не досталась мне, по крайней мере, у Франциска ее тоже не будет. Он берется за перо. Зевает, кладет перо на место, берет снова. Меня найдут мертвым за столом, думает он, как Петрарку. Поэт написал много неотправленных писем. Цицерону, умершему за двенадцать веков до его рождения. Гомеру, которого, возможно, никогда и не было. Однако ему хватает своего: лорда Лайла, запруд, императорских галеонов в Средиземном море. Между двумя обмакиваниями пера в чернильницу, пишет Петрарка, «между двумя обмакиваниями пера в чернильницу уходит время; и я спешу, подгоняю себя, тороплюсь к смерти. Мы непрестанно умираем, я — пока пишу, ты — пока читаешь, другие — пока слушают или затворяют уши; все умирают». Он берет следующую стопку писем. Некий Бэткок испрашивает разрешения на вывоз ста бочек вайды. Гарри Перси снова болен. Йоркширские власти арестовали бунтовщиков и разделили их на две категории: часть пойдет под суд за беспорядки и непредумышленное убийство, часть — за умышленное убийство и насилие над женщинами. Насилие? С каких пор во время голодных бунтов насилуют женщин? Впрочем, я забыл, это же Йоркшир. — Рейф, принеси мне план королевского путешествия. Я его посмотрю и на этом закончу. Сегодня перед сном можно будет помузицировать. Нынешним летом двор едет на запад, до самого Бристоля. Король готов пуститься в путь, несмотря на дождь. Тронутся из Виндзора, дальше через Оксфордшир: Рединг, Миссенден, Абингдон. Удаляясь от Лондона, надо думать, все повеселеют; он говорит Рейфу, если сельский воздух окажет свое благотворное действие, назад королева вернется с пузом. Рейф говорит, и король каждый раз снова надеется! Откуда у него столько сил? Другой бы уже давно отчаялся. — Если мы выедем из Лондона восемнадцатого, может, сумеем догнать их в Садли. Как по-твоему? — Лучше выехать на день раньше. Дороги сильно развезло. — Нигде не срезать, да? Реки сейчас вброд не переедешь, только по мостам; и проселками не поскачешь. Вот если бы карты были получше! Еще во времена кардинала он спрашивал себя, что если взяться за это дело, может, осилим? Карты есть, если их можно назвать картами: замки с тщательно отрисованными башенками и рядами курчавых деревьев, отмечающими охотничьи угодья, — между деревьями изображены маленькие олени и кабаны. Немудрено, что Грегори принял Нортумбрию за Вест-Индию. Эти карты совершенно непригодны практически, например, на них не указан север. Хорошо бы знать, где мосты, каково расстояние между ними, сколько добираться до моря. Беда в том, что карты всегда прошлогодние. Англия непрестанно меняет очертания, море подмывает береговые обрывы, мели смещаются, из сухой земли начинают бить родники. Земля, по которой мы едем, преображается ночами, и не только земля, но и ее история: лица мертвых тают, как гребень холма в тумане. Ему было тогда лет шесть. Отцовский подмастерье ковал гвозди из ошметков металла, самые простые — заколачивать гроб. В пламени горна раскаленные гвозди светились желтым. — А для чего надо заколачивать покойников? Не прерывая работы — два удара, и шляпка готова — подмастерье ответил: — Чтобы страшные мертвяки не вылезали из гробов и не гонялись за нами. Теперь он знает, что все не так: не мертвые преследуют живых, а живые — мертвых. Кости и черепа вытряхивают из саванов, в лязгающие челюсти, как камни, бросают слова. Мы исправляем книги, оставшиеся от покойников, переписываем их жизнь. Томас Мор распустил слух, будто Билни на костре отрекся от своей веры; не удовольствовавшись тем, что отнял у Билни жизнь, вознамерился отнять и смерть. Сегодня Мора сопровождал на эшафот Хемфри Монмаут, выборный шериф Лондона. Такой хороший человек не станет радоваться, что гонитель и гонимый поменялись местами, но, может быть, мы порадуемся за него? Мор на эшафоте, в грубом сером плаще своего слуги, Джона Вуда. Говорит с палачом — видимо, шутит. Вытирает капли дождя с лица и бороды. Сбрасывает вымокший по подолу плащ. Встает на колени перед плахой. Губы шепчут последнюю молитву. Вместе со всеми зрителями он закрывает лицо плащом, становится на колени и лишь после тошнотворного звука топора, рассекающего плоть, быстро вскидывает голову. Тело будто отпрыгнуло от удара и сложилось, как стопка ветхого тряпья, — внутри, он знает, еще бьется пульс. Он осеняет себя крестом. Прошлое тяжело смещается в нем, словно оползень. — Итак, король, — говорит Кромвель. — Из Глостера в Торнбери. Потом — к Николасу Пойнзу в Айрон-эктон. Пойнз хоть понимает, на что себя обрек? Оттуда в Бромхем… Меньше года назад один иностранный ученый написал историю Англии, в которую не включил короля Артура на том основании, что его не было.[100] Вполне веское основание, но Грегори говорит, нет, историк неправ. Потому что если это так, что будет с Авалоном? С мечом в камне? Он поднимает глаза. — Рейф, ты счастлив? — С Хелен? — Рейф краснеет. — Да, сэр. Как никто в целом свете. — Я знал, что твой отец успокоится, как только ее увидит. — Это все только благодаря вам, сэр. Из Бромхема — это у нас начало сентября — в Винчестер. Дальше Бишопс-уолтем и Олтон. Из Олтона в Фарнхем. Он прокладывает маршрут. Надо рассчитать так, чтобы к началу октября король вернулся в Виндзор. На странице у него схематическая карта, Англия в чернильной мороси, внизу — названия городов и даты. — Остается еще дня четыре, даже пять. Отлично. Кто сказал, что я никогда не отдыхаю? Перед словом «Бромхем» он ставит на полях точку и тянет от нее через всю страницу длинную стрелку. — До Винчестера у нас в запасе несколько дней, и знаешь что, Рейф? Думаю, мы навестим Сеймуров. Он записывает. Начало сентября. Пять дней. Вулфхолл — Волчий зал.От автора
Во многих частях средневековой Европы новый год начинался 25-го марта, на Благовещение, когда, по преданию, ангел возвестил Марии, что она беременна Иисусом. В 1522-м венецианцы перенесли начало года на 1 января, за ними последовали другие страны, хотя Англия и тянула с переходом до 1752-го. В этой книге, как и в большинстве исторических романов, отсчет ведется от 1 января — святочного дня, когда происходил обмен подарками. Распорядитель кардинальского двора Джордж Кавендиш после смерти Вулси удалился в деревню и в 1554-м, после воцарения Марии, начал писать книгу «Покойный кардинал Томас Вулси, его жизнь и смерть». Это не всегда точный, но очень трогательный, живой и увлекательный рассказ о карьере кардинала Вулси и роли в ней Кромвеля. Книга многократно издавалась; в интернете можно найти текст, в том числе и в исходной орфографии. Влияние ее на Шекспира несомненно. Кавендиш писал свою книгу четыре года и умер в год восшествия Елизаветы на престол.Благодарности
Я хотела бы поблагодарить Делит Нейл за валлийский, Лесли Уилсон — за немецкий и даму из Норфолка за фламандский. Гуаду Абаль — за песню, Джудит Флендерс — за то, что она меня выручала, когда я не могла попасть в Британскую библиотеку. Доктора Кристофера Хейга — за великолепный обед в Вулси-холле Крайстчерч. Иена Роджерса — за совместное паломничество в Кентербери и посещение «Герба Кранмера» в Эслоктоне. Джеральда Макьюена — за то, что возил меня на машине и мирился с тем, что я целиком поглощена работой. Моего агента Билла Гамильтона и моих издателей — за содействие и поддержку. А главное, доктора Мэри Робертсон; она занимается жизнью Кромвеля профессионально и на протяжении всей книги помогала мне словами ободрения и советами, терпеливо выслушивала мои сбивчивые измышления и была так добра, что признала нарисованный мною портрет. Ей посвящена эта книга с моими благодарностями и любовью.От переводчиков
Литература обладает почти сверхъестественной властью над историей, и чем больше писатель, тем неограниченней эта власть. Никаким историкам не переспорить Шекспира, Пушкина или Толстого. Подлинная история остается примечаниями мелким шрифтом к созданному литераторами образу. Перед нами книга, которой, возможно, предстоит стать портретом Томаса Кромвеля на все времена. Что было известно о нем до Хилари Мантел? Родился в семье кузнеца (или пивовара, а кузнецом был дед по отцовской линии), которого несколько раз задерживали за пьяные дебоши. Возможно, воевал в Италии. Возможно, торговал в Нидерландах. Сделал стремительную карьеру при Вулси; участвовал в упразднении мелких монастырей. После опалы Вулси плавно перешел на службу к королю и очень скоро сделался его правой рукой. Стал архитектором английской Реформации. Заслужил прозвище «молот монахов». Сыграл зловещую роль в процессе Томаса Мора и еще более зловещую — в процессе Анны Болейн. Покровительствовал Гольбейну и некоторым видным гуманистам. Шокировал современников откровенно макиавеллевскими высказываниями. Подавил восстание католиков на севере Англии. Казнен в 1540 году по обвинению в государственной измене. В тюрьме и на эшафоте вел себя мужественно. Самый, наверное, известный литературный образ Кромвеля (если не считать второстепенного персонажа в шекспировском «Генрихе VIII») — в пьесе Роберта Болта «Человек на все времена» и снятом по ней одноименном фильме 1966 года, собравшем богатый урожай «Оскаров» (лучший фильм, лучшая мужская роль, лучший режиссер, лучший сценарий, кинематография и костюмы). Здесь Кромвель — антипод главного героя, правдолюбца Томаса Мора, олицетворение зла без единого проблеска души. И о таком-то человеке Хилари Мантел решила написать книгу, чтобы показать те же события совершенно с другой стороны. Образ, созданный Мантел, невероятно убедителен и основан на огромном количестве документальных свидетельств (автор сообщает, что из времени, потраченного на книгу, примерно год ушел на исторические изыскания). Впрочем, при всей внешней документальности не следует забывать: это роман, и мы во многом видим события и людей глазами главного героя (не зря Кромвель — всегда «он»: третье лицо, воспринимаемое почти как первое; и не зря временами непонятно, кто остальные «он» — читателя допустили в его, Кромвеля, мысли, и если читатель не все там понял, чья это печаль?). Мир «Волчьего зала» плотно наполнен вещами. Если кардинал дарит Кромвелю перстень, то знакомый нам по гольбейновскому портрету. Если Кромвель хочет купить во Франции чертежи загадочной мнемонической машины, то это «Театр памяти» Джулио Камилло. Молитвенник, который читает Лиз, — тот самый, который позже увидит в руках у Кромвеля Джордж Кавендиш и о котором напишет в «Жизни и смерти кардинала Вулси». Вещи, словно говорит Мантел, надежны; люди — заблуждаются или сознательно лгут. Кавендиш решил, что знает, из-за чего плачет Кромвель? Ну так напрасно он поверил Кромвелю на слово. Все, основанное на человеческих словах, зыбко. Гальфрид Монмутский пишет, что Британию основал троянец Брут. Однако другие хронисты начинают историю Альбиона с данаид. Вы читали историю про сэра Генри Уайетта и кота? А с чего вы взяли, что все происходило именно так, как описано? Сколько жен по имени Гвиневера было у короля Артура? Одна, говорит Мэлори. Три, утверждают валлийские триады. Одна из тех историй, про которые мы никогда не узнаем, «что же там было на самом деле» — процесс Анны Болейн. Арестованы были несколько человек, только один — лютнист Марк Смитон — дал (под пыткой) показания, что состоял с Анной в прелюбодейственной связи. Из предполагаемых любовников Анны, кроме Смитона, на эшафот отправились Генри Норрис, Фрэнсис Уэстон, Уильям Брертон и ее брат Джордж Рочфорд; Томаса Уайетта, заключенного в Тауэр по тому же делу, оправдали. Может быть, нигде зыбкость слов не проявляется так, как в переводе. Уильям Тиндейл, протестантский реформатор, мечтавший, чтобы каждый пахарь читал Писание на родном языке, перевел Библию на английский. Томас Мор написал шеститомное «Опровержение», в котором доказывал, что Тиндейл сознательно и злонамеренно искажает текст Писания. Вероятнее всего, насчет злонамеренности Мор отчасти заблуждался: известно, что по крайней мере одну из замеченных Мором ошибок Тиндейл исправил в переиздании, неясно, правда, потому ли, что прочел возражения оппонента, или потому, что заметил ее сам. Образ Мора в «Волчьем зале» вызвал у англоязычных рецензентов немало нареканий. Мантел говорит о Море правду или, по крайней мере, повторяет достаточно известные слухи (скажем, противники действительно утверждали, будто Мор пытает арестованных у себя дома, — обвинения, которые сам Мор решительно опровергал; впрочем, справедливости ради следует добавить, что в том же обвиняли и Кромвеля). Однако правда, которую Мантел говорит о Море, — не вся правда, и это тем обиднее, что после блистательного портрета Вулси, в котором с шекспировской широтой соединены алчный временщик и мудрый политик, читатель ждет не менее сложного и многогранного Мора. Впрочем, у «человека на все времена» было, да еще и будет, наверное, достаточно других портретистов. Быть может, только совместив инакомыслящего из пьесы Болта и мученика догмата из «Волчьего зала», мы можем по-настоящему осознать, насколько обманчивы попытки применить к людям эпохи Возрождения мерки нашего времени. Книга называется «Волчий зал», однако сам Вулфхолл (Волчий зал) упомянут в ней лишь мельком. Все остальное — за рамками романа. В Волчьем зале Генрих познакомится с Джейн Сеймур и начнется закат Анны Болейн. Сам же Кромвель переживет не только Анну Болейн, но и Джейн Сеймур, завершит секуляризацию церковного имущества, получит графский титул и внесет неоценимый вклад в развитие английского книгопечатания. Между последними строчками романа и плахой у него еще целых пять лет.Послесловие научного редактора
Томаса Кромвеля непросто любить. При жизни он был одним из самых ненавидимых людей в Англии. Этого «выскочку» обвиняли в том, что он буквально «прогрыз» себе дорогу из лондонского предместья к вершинам власти, потеснив родовитых советников короля, в том, что был готов удовлетворить любые амбиции и желания государя, невзирая на жертвы, которые они влекли за собой, и не гнушаясь никакими средствами. В то же время в нем подозревали циничного «макиавеллиста», беззастенчиво манипулировавшего своим господином. В XVI веке, когда рушились устои церкви, а привычные моральные ценности подвергались сомнению, призрак макиавеллизма тревожил Европу. Прозвище «макиавель» стало клеймом, которым награждали многих удачливых политиков (порой те, кто и сам вполне заслуживал его). Счет, предъявлявшийся Кромвелю современниками, был длинным: предав своего покровителя кардинала Вулси, он узурпировал влияние на короля, в угоду сластолюбию и тщеславию которого совершил Реформацию, разрушил монастыри, пустив монахов по миру, ограбил гробницы святых, развеяв их прах. По его приказу статуям в церквях уродовали лица и отбивали руки, а в ценнейших средневековых рукописях вымарывали изображения пап и святых, почитавшихся веками. Он взнуздал и поставил страну на дыбы, отправляя на дыбу и костер тех, кто сопротивлялся королевской Реформации. Тем не менее Хилари Мантел любит своего героя и находит тому немало оснований. В ее интерпретации (которая вовсе не противоречит взгляду профессионального историка) Кромвель — политик, ставший одним из творцов современной Англии, ее национальной независимости и государственного суверенитета. Именно он сформулировал и впервые предъявил миру тезис об «имперском» характере английской короны, о независимости английских монархов от власти римских первосвященников. Он, разрушив католическую церковь, возвел новое здание церкви Англии. В его «макиавеллизме» X. Мантел видит ту составляющую, которая была преимущественно связана с такими понятиями, как «государственный интерес» или «государственная необходимость». Такие люди, как Кромвель, прокладывали дорогу к торжеству самодовлеющего суверенного государства Нового времени. Яркая черта этой книги — восхищение автора интеллектуальными и профессиональными качествами ее героя. По-видимому, существует определенная поэтика профессионализма и компетентности, и Хилари Мантел находится под ее несомненным обаянием. В эпоху, когда ведение государственных дел все еще оставалось уделом дилетантов, подчас совершенно непригодных для этого и получивших доступ к управлению благодаря аристократическому происхождению, или представителей духовного сословия, веками поставлявшего «управленцев», Кромвель стал одним из светских лиц, которым удалось подняться на вершину административной пирамиды, опираясь на свой талант и исключительные качества как юриста и финансиста. В свое время крупнейший специалист по истории XVI века Джеффри Элтон ввел в научный оборот эффектный термин — «тюдоровская революция в управлении». Он приписывал ее главным образом Томасу Кромвелю, который, по его мнению, реформировал административную систему, придав ей принципиально новый характер. Не будучи министром двора или прелатом церкви, он, сосредоточив в руках судебные должности и финансовые посты, а также обязанности государственного секретаря и хранителя личной королевской печати, способствовал тому, что финансовое ведомство постепенно выступило на первый план. При Кромвеле, как никогда прежде, стало ясно, что деньги — главный нерв политического тела государства. Его авторитет возрастал пропорционально денежным потокам, которые поступали в казну с началом Реформации и конфискации церковной собственности. Новые суды и ведомства создавались, чтобы освоить и «переварить» эту массу богатства. Для решения новых политических и экономических задач, встававших перед правительством, Кромвель привлек когорту профессионалов — одаренных юристов и финансистов собственной выучки. Это в первую очередь относится к молодым людям, воспитывавшимся в его доме. Ральф Сэдлер (именуемый на протяжении всей книги уменьшительным именем Рейф) со временем стал крупным государственным деятелем, членом Тайного совета и канцлером герцогства Ланкастер. Р. Рич будет канцлером Суда Приращений, распорядителем доходов от церковной секуляризации, позднее сделает удачную карьеру и получит пост лорда-канцлера. До него эту должность будет занимать Томас Ризли, тоже из окружения Кромвеля. Появление подобных людей, приводивших за собой собственный штат специалистов, знаменовало собой растущую профессионализацию государственного аппарата. X. Мантел воздает должное Кромвелю — реформатору бюрократической машины, с удовольствием описывая его прагматизм и компетентность. Не случайно она щедро рассыпает по тексту значимые детали, указывающие на его страсть к математике и теории бухгалтерии (книга Луки Пачоли на столе), свободное оперирование курсами монет и биржевыми сводками по всей Европе, феноменальную память, основывающуюся на особой мнемонической технике, интерес к изысканиям Дж. Камилло, человека, который провидел появление чего-то отдаленно напоминающего глобальную информационную сеть, стремление покровительствовать ученым и художникам. Своеобразный рационализм присущ и вере Кромвеля. Мы крайне мало знаем об истинных религиозных убеждениях человека, который, будучи светским лицом, получил беспрецедентные полномочия генерального викария короля в делах церкви. Тем не менее его связи с реформаторами, попытки поддержать их еще в те времена, когда это было опасно и грозило обвинением в ереси, выдают в нем их единомышленника. С их помощью он создаст церковь, в которой будут доминировать не пышные обряды, блеск золотой утвари и облачений духовенства, а вдумчивое чтение Писания и проповедь. Быть может, главная заслуга Кромвеля перед английской культурой — его усилия, связанные с переводом и изданием Библии на английском языке. По его замыслу английская Библия должна была стать доступной верующим в каждом приходе. Реформация Генриха VIII и Кромвеля была оплачена кровью тех, кто не пожелал отречься от католической веры и не признал короля главой церкви. Среди них были выдающийся теолог, пользовавшийся европейской известностью, Джон Фишер, и бывший канцлер королевства, видный гуманист Томас Mop. X. Мантел дает портрет Мора через призму конфессиональной борьбы протестантов и католиков. Для последних Мор навсегда останется мучеником, причисленным клику святых. Однако для тех, кто находился по другую сторону баррикад, Мор был грозной фигурой. В тексте собственной эпитафии, составленной им еще при жизни, он с гордостью заявлял, что был «докучным для еретиков» и осознанно преследовал их. В XIX веке в Англии, где протестантизм уже давно был официальной религией, это утверждение мыслителя, составлявшего славу нации, вызывало такое смущение, что потомки предпочли стереть раздражающие слова с мраморной доски. Однако записанное на скрижалях истории не так легко вымарать. В век грандиозного церковного раскола и противостояния, захватившего всю Европу, политики масштаба Мора и Кромвеля были обречены на то, чтобы во имя своей веры сделаться гонителями или жертвами. Не миновала эта чаша и Кромвеля. Бухгалтерия его заслуг и преступлений сложна. В одном столбце оказываются имена католических мучеников, ограбление монастырей и разрушение памятников церковного искусства. Ему противостоят мартиролог мучеников-протестантов, создание независимой церкви и Библия на английском. Баланс предстоит подвести читателю.Ольга Дмитриева
Хилари Мантел Внесите тела
Печатается с разрешения автора и литературных агентств AM Heath & Co Ltd. и Andrew Nurnberg. © Mantel Hilary, 2013 Школа перевода В. Баканова, 2013 © Издание на русском языке AST Publishers, 2014
Действующие лица
Дом Кромвеля
Томас Кромвель, сын кузнеца, ныне государственный секретарь, начальник судебных архивов, почетный ректор Кембриджского университета, викарий короля по делам англиканской церкви. Грегори Кромвель, его сын. Ричард Кромвель, его племянник. Рейф Сэдлер, его старший письмоводитель, которого Кромвель воспитал как сына. Хелен, красавица жена Рейфа. Томас Авери, его домашний счетовод. Терстон, его главный повар. Кристоф, слуга. Дик Персер, псарь. Антони, шут.Покойники
Томас Вулси, кардинал, папский легат, лорд-канцлер; смещен с должности, взят под стражу и скончался в 1530 г. Джон Фишер, епископ Рочестерский, казнен в 1535 г. Томас Мор, лорд-канцлер, сменивший на этом посту Вулси, казнен в 1535 г. Элизабет, Энн и Грейс Кромвель, жена и дочери Томаса Кромвеля, умершие в 1527–1528 гг., Кэтрин Уильямс и Элизабет Уэллифед, его сестры.Семья короля
Генрих VIII. Анна Болейн, его вторая жена. Елизавета, малолетняя дочь Анны, наследница престола. Генри Фицрой, герцог Ричмондский, незаконный сын короля.Другая семья короля
Екатерина Арагонская, разведенная первая жена Генриха, живет под домашним арестом в Кимболтоне. Мария, дочь Генриха от Екатерины, возможная наследница престола, также содержится под домашним арестом. Мария де Салинас, бывшая фрейлина Екатерины Арагонской. Сэр Эдмунд Бедингфилд, дворянин, приставленный надзирать за Екатериной. Грейс, его жена.Семейства Говардов и Болейнов
Томас Говард, герцог Норфолкский, дядя королевы, старший из пэров Англии, яростный ненавистник Кромвеля. Генри Говард, граф Суррейский, его младший сын. Томас Болейн, граф Уилтширский, отец королевы, «монсеньор». Джордж Болейн, лорд Рочфорд, брат королевы. Джейн, леди Рочфорд, жена Джорджа. Мэри Шелтон, двоюродная сестра королевы. И за сценой: Мэри Болейн, сестра королевы; сейчас она замужем и живет в провинции, но прежде была любовницей короля.Семейство Сеймуров в Вулфхолле (Волчьем зале)
Старый сэр Джон, опозоривший себя связью с невесткой. Леди Марджери, его жена. Эдвард Сеймур, его старший сын. Томас Сеймур, его младший сын. Джейн Сеймур, его дочь, фрейлина обеих королев Генриха. Бесс Сеймур, ее сестра; жена, затем вдова сэра Антони Отреда, губернатора острова Джерси.Придворные
Чарльз Брэндон, герцог Суффолкский, муж покойной сестры Генриха VIII Марии, пэр Англии, наделенный ограниченным умом. Томас Уайетт, джентльмен, наделенный безграничным умом, друг Кромвеля, по уверениям молвы – любовник Анны Болейн. Гарри Перси, граф Нортумберлендский, больной и запутавшийся в долгах молодой джентльмен; был некогда обручен с Анной. Фрэнсис Брайан по прозвищу Наместник Сатаны, связанный родством и с Болейнами, и с Сеймурами. Николас Кэрью, шталмейстер, враг Болейнов. Уильям Фицуильям, казначей, также враг Болейнов. Генри Норрис по прозванию Добрый Норрис, главный из джентльменов, состоящих при короле. Фрэнсис Уэстон, дерзкий молодой джентльмен. Уильям Брертон, вздорный пожилой джентльмен. Марк Смитон, подозрительно хорошо одетый музыкант. Элизабет, леди Вустер, фрейлина Анны Болейн. Ганс Гольбейн, живописец.Церковники
Томас Кранмер, архиепископ Кентерберийский, друг Кромвеля. Стивен Гардинер, епископ Винчестерский, враг Кромвеля. Ричард Сэмпсон, поверенный короля в матримониальных делах.Государственные чиновники
Томас Ризли, прозванный Зовите-Меня-Ризли, хранитель личной королевской печати. Ричард Рич, генеральный адвокат. Томас Одли, лорд-канцлер.Послы
Эсташ Шапюи, посол императора Карла V. Жан де Дентвиль, посол Франциска I.Реформаты
Хемфри Монмаут, богатый купец, друг Кромвеля, сочувствующий евангелистам, покровитель Уильяма Тиндейла, переводчика, сейчас находящегося в тюрьме в Нидерландах. Роберт Пакингтон, купец, придерживающийся сходных взглядов. Стивен Воэн, антверпенский купец, друг и агент Кромвеля.«Старые» семейства, претендующие на трон
Маргарет Пол, племянница Эдуарда IV, сторонница Екатерины Арагонской и принцессы Марии. Генри, лорд Монтегю, ее сын. Генри Куртенэ, маркиз Эксетерский. Гертруда, его честолюбивая жена.В Лондонском Тауэре
Сэр Уильям Кингстон, комендант. Леди Кингстон, его жена. Эдмунд Уолсингем, его заместитель. Леди Шелтон, тетка Анны Болейн. Палач-француз.Часть первая
«Чем я хуже других мужчин? Чем? Скажите, чем?»Генрих VIII – Эсташу Шапюи, послу Священной Римской империи.
I Соколы
Уилтшир, сентябрь 1535 г.Его дети падают с неба. Он наблюдает, сидя на лошади, за ним – акры и акры английской земли. Падают камнем, златокрылые, глаза их налиты кровью. Грейс Кромвель зависла в воздухе. Бесшумно она настигает жертву, бесшумно возвращается к нему на руку. Однако звуки, с которыми она устраивается на перчатке – шорох и скрип оперения, тихий горловой клекот, – все это звуки узнавания, домашние, дочерние, почти привередливые. Грудка у нее забрызгана кровью, на когтях – клоки мяса. Позже Генрих скажет: «Сегодня ваши девочки летали отлично». Сокол Энн Кромвель на перчатке у Рейфа Сэдлера покачивается в такт конскому шагу. Рейф и король едут рядом, непринужденно беседуя. Все устали; солнце клонится к закату, они, отпустив поводья, возвращаются в Вулфхолл. Завтра в небо взмоют его жена и сестры. Женщины, чьи кости гниют в лондонском суглинке, обрели новое тело. Невесомые, они плывут в воздушных потоках. Им неведома жалость. Неведом долг. Их жизнь проста. Глядя вниз, они видят только добычу да заемные плюмажи охотников, видят трепетный порхающий мир, мир, полный еды. Все лето было таким – вакханалия крови, летящие пух и перья, собачий лай; лошадям – скребницы и щетки, джентльменам – примочки и мази на ушибы, потертости, растяжения. И, пусть всего несколько дней, Генрих купался в солнце. Иногда, ближе к вечеру, с запада налетали тучи, и большие благоуханные капли касались разгоряченных лиц, однако солнце тут же проглядывало вновь и начинало палить нещадно. А сейчас небо такое ясное, что можно подглядывать за святыми в раю. Они бросают поводья конюхам и спешиваются. Его мысли уже в бумагах – в депешах, доставленных из Уайтхолла курьерской почтой; куда бы ни переехал двор, она работает исправно, по всему пути из Лондона учреждены подставы. За ужином с Сеймурами он вытерпит все, о чем будут вещать хозяева, все, что придет на ум королю, счастливому, взъерошенному, добродушному, как сейчас. Когда король удалится спать, наступит его рабочая ночь. Вечереет, но Генрих не торопится заходить в дом: стоит, смотрит по сторонам, вбирает ноздрями конский пот; лоб обгорел на солнце. В начале дня король потерял шляпу и не пожелал взять взамен чужую, так что и другим охотникам пришлось обнажить голову. В сумерках слуги будут рыскать по лесам и полям, высматривать колыхание черного плюмажа в темнеющей траве, золотой блеск охотничьей кокарды: святого Губерта с глазами-сапфирами. Осень уже в воздухе, чувствуется, что таких деньков осталось наперечет. Постоим же среди мельтешения вулфхоллских грумов (рука короля лежит у него на плече), постоим, глядя на земли западных графств в синей вечерней дымке. Король вспоминает прошедший день, и в разговоре время бежит вспять: мимо рощ и ручьев к ольшанику у реки, к утреннему туману, который растаял в девять, к недолгому ливню, к душному полуденному зною. – А вы ничуть не обгорели, сэр! – удивляется Рейф Сэдлер. Рейф, рыжий, как и король, сейчас весь малиновый в бурую крапинку веснушек, даже глаза как будто покраснели. Он, Томас Кромвель, пожимает плечами и, приобняв Рейфа, вслед за Генрихом входит в дом. Он прошел всю Италию – не только полумрак банкирских домов, но и поля сражений, – не утратив лондонской бледности; даже в детстве, гоняя дни напролет с разбойной ватагой мальчишек, сохранял младенческую белизну. – У Кромвеля лилейная кожа, – объявляет король, – и в этом его единственное сходство с каким бы то ни было цветком. Подтрунивая над ним, они направляются к столу.
Король уехал из Лондона в ту неделю, когда казнили Томаса Мора. Стоял холодный дождливый июль, лошади месили копытами мокрую грязь. Кое-как добрались до Виндзора, оттуда дали круг по западным графствам. Помощники Кромвеля, завершив дела в окрестностях Лондона, нагнали королевский поезд во второй половине августа. Король и его спутники спали здоровым сном в новых домах розового кирпича, в старых домах за руинами укреплений, разрушенных временем и людьми, в сказочных замках-игрушках, построенных без мысли об обороне – их стены пушечное ядро пройдет, как бумагу. Англия уже пятьдесят лет не знает междоусобной войны. Это тюдоровский завет – обетование мира. Каждый хозяин имения желает угодить королю. За последние недели мы навидались непросохшей лепнины, лихорадочной работы по камню: все спешат добавить к своим эмблемам розу Тюдоров, истребить любые следы Екатерины, бывшей королевы. Сбивают молотками арагонские гранаты, тесно прижатые косточки между двумя половинками лопнувшей кожуры, на их месте, если нет времени на новую резьбу, грубо малюют соколов Анны Болейн. Ганс присоединился к королевскому кортежу и нарисовал Анну-королеву, но та осталась недовольна наброском – ей теперь ничем не потрафишь. Нарисовал Рейфа Сэдлера с аккуратной бородкой и твердым ртом, в нелепой модной шапчонке на коротко остриженных волосах – она сидит набекрень и как будто вот-вот свалится. – Сделайте мне нос попрямее, мастер Гольбейн, – просит Рейф, а Ганс отвечает: «Да где ж мне выправлять носы, мастер Сэдлер, я разве врач?» – Рейф сломал нос мальчонкой, упражняясь в турнирном искусстве. Я еле выхватил его из-под лошадиных копыт. Ну и слез тогда было! – Он стискивает юноше плечо. – Не горюй, Рейф, по-моему, ты вышел красавцем. Вспомни, что Ганс сделал со мной! Томасу Кромвелю сейчас лет пятьдесят. У него тело работника, кряжистое, ладное, полнеющее. В черных волосах пробивается седина; из-за белой кожи, которую не берет загар, врут, будто его отец был ирландец, хотя на самом деле Уолтер Кромвель был кузнец и пивовар в Патни, а еще стригаль, шаромыжник, в каждой бочке затычка, буян и задира, пьяница и дебошир, которого постоянно таскали к мировому судье за то, что он кого-то отдубасил, кого-то надул. Как сын такого человека добился нынешнего влияния – загадка для всей Европы. Одни говорят, он возвысился вместе с Болейнами, родственниками королевы. Другие – что Кромвель всем обязан своему покровителю, покойному кардиналу Вулси, у которого был доверенным лицом.Третьи уверяют, что он знается с чернокнижниками. Юность его прошла на чужбине, он был наемным солдатом, торговцем, банкиром. Никто не знает, где Кромвель побывал и с кем водил знакомство, а тот не спешит рассказывать. Он не щадит сил на королевской службе, знает себе цену и не упустит вознаграждения, будь то должности, привилегии, земли, усадьбы или дома. У него найдется подход к любому, целый арсенал средств: лесть и угрозы, подкуп и убеждение. Людям можно объяснить, в чем их истинный интерес, раскрыть глаза на такое, чего они о себе не знают. Всякий день королевский секретарь ведет дела с вельможами, которые, будь их воля, прихлопнули бы его, как муху. Зная это, он неизменно учтив, неизменно спокоен, неизменно усерден в делах Англии. Не в его обычае обсуждать свои достижения, но когда бы удача ни посетила его жилище, он всегда начеку и готов распахнуть дверь на первый же робкий стук. В его лондонском доме портрет глядит со стены, темные замыслы упрятаны под сукном и мехом, рука сомкнулась на документе, как будто душит. Ганс тогда задвинул его столом, чтобы не сбежал, и предупредил: Томас, чур, не смеяться. Так и проходили сеансы: Ганс работал, мурлыча себе под нос, он яростно смотрел в пустоту. Увидев готовый портрет, он сказал: «Боже, я похож на убийцу», а его сын Грегори удивился: «Ты разве не знал?» Сейчас снимают копии – для друзей и для приверженцев из числа немецких евангелистов. Оригинал он не отдаст даже на время – привык я к нему, мол, – так что теперь, входя в дом, видит себя на разных стадиях становления: общие контуры, кое-где – подмалевок. С чего начинать Кромвеля? Одни начинают с маленьких пристальных глаз, другие – с шапочки. Третьи, избегая важного, пишут его печати и ножницы, четвертые выбирают кольцо с бирюзой, подарок кардинала. С чего бы они ни начали, общий итог один: если вы этому человеку досадили, лучше не встречаться с ним в темном переулке. Его отец Уолтер говаривал: «На моего Томаса косо не глянь – глаз выбьет. Подставишь ему ногу – останешься без ноги. А если его не злить, он форменный джентльмен. И стаканчиком завсегда угостит». Ганс рисовал короля, благодушного, в летних шелках, за ужином: окна распахнуты вечерним ароматам и птичьим трелям, слуги вносят свечи и засахаренные фрукты. На каждом этапе пути Генрих останавливался в самом большом имении, и Анна-королева с ним, свита находила кров у местных дворян. По обычаю хозяева большого поместья хотя бы раз устраивают праздник для всех, приютивших у себя свиту. Это дорого и хлопотно. Он считал телеги с провизией, видел переполох на кухнях, сам вставал в серо-зеленый предрассветный час, когда печи вычищают, готовясь убрать в них первую партию хлебов, туши насаживают на вертела, котлы вешают на треноги, птицу ощипывают и разделывают. Его дядя служил поваром в резиденции архиепископа, мальчишкой он помогал в кухне Ламбетского дворца, о тонкостях ремесла знает не понаслышке. Когда речь об удобствах короля, за всем нужен глаз. Эти дни превосходны. Каждая ягодка в колючей изгороди озарена и мерцает по краям. Каждый лист на дереве; солнце за ветвями висит золотым персиком. Мы спускались в зеленые урочища и въезжали на холмы, где в воздухе даже за два графства ощущается тревожная близость моря. В этих краях от наших предков-великанов остались земляные валы, рвы, вкопанные стоячие камни. В жилах каждого из нас, каждого англичанина и англичанки, есть капля их крови. В те давние времена, на земле, не тронутой овцами и плугом, они охотились на лося и дикого кабана. Лес тянулся на долгие дни пути. Иногда здесь откапывают орудия: двуручные топоры, одним ударом рассекавшие коня и всадника. Думай о мертвых исполинах, что ворочаются в этой земле. Имя им – война, и они ждут своего часа. Не только о прошлом ты думаешь, скача на запад в самый разгар лета, но и о том, что спит под травой, что зреет. Грядущие войны, скорби и смерть – все их, как семена, бережно хранит английская почва. Глядя, как Генрих смеется, как молится, как скачет в окружении свиты лесной дорогой, недолго решить, что на троне тот сидит так же крепко, как и в седле. Видимость обманчива. По ночам король не может уснуть, смотрит на резные стропила, считает свои дни. Спрашивает: «Кромвель, Кромвель, что мне делать?» Кромвель, спаси меня от императора. Кромвель, спаси меня от Папы. Потом зовет своего архиепископа Кентерберийского, Томаса Кранмера, и вопрошает: «Проклята ли моя душа?» В Лондоне императорский посол Эсташ Шапюи каждый день ждет вестей, что английский народ взбунтовался против короля-самодура, спит и видит, как это произошло, не жалеет ни денег, ни сил, чтоб мечта претворилась в явь. Император Карл владеет Испанией, Нидерландами и заморскими колониями; Карл богат и по временам злится, что Генрих Тюдор променял его тетку Екатерину на Анну, которую в народе зовут пучеглазой шлюхой. Шапюи призывает императора вторгнуться в Англию, поддержать английских бунтовщиков, смутьянов и самозванцев, захватить безбожный остров, где король парламентским биллем развелся с женой и объявил себя Богом. Папе не по душе, что в Англии его высмеивают, называют «епископом Римским», что церковные доходы идут не ему, а Генриху. Булла об отлучении, составленная, но не провозглашенная, висит над Генрихом дамокловым мечом, превращает его в изгоя среди других христианских королей Европы – их настоятельно зовут пересечь Ла-Манш или шотландскую границу и прибрать к рукам, что глянется. Может, на папский призыв откликнется император. Может, французский король. Может, они оба. Хотелось бы сказать, что мы готовы их встретить, да только это не так. В случае вторжения нам придется выкопать кости великанов и лупить ими противника по башке. У нас не хватает пушек, не хватает пороха, не хватает стали. Вины Томаса Кромвеля тут нет; как говорит, кривясь, Шапюи, королевство Генриха было бы куда прочнее, назначь тот Кромвеля секретарем лет на пять раньше. Если оборонять Англию – а он сам выйдет сражаться с мечом в руке, – то надо знать, что такое Англия. В августовский зной он стоит перед резными надгробиями предков, мужей, закованных в броню с головы до пят; их руки в латных рукавицах сложены на груди, ноги, одетые в сталь, покоятся на львах, грифонах, борзых. Каменные мужчины, стальные мужчины, их жены рядом – словно улитки в скорлупе. Мы думаем, время не властно над мертвецами, но время властно над изваяниями мертвецов: кого-то из них сделало беспалым, кого-то – безносым. Крохотная отколотая нога (от коленопреклоненного херувима?) застряла в каменной драпировке, на резной подушке лежит кончик большого пальца. «Надо будет на следующий год подновить предков», – говорят лорды западных графств, но их-то щитодержатели и геральдические фигуры, эмблемы и девизы всегда блещут свежей краской. Западные лорды кичатся прошлым своего рода: в этих латах мой пращур сражался при Азенкуре, эту чашу мой прапрадед получил из рук самого Джона Гонта. В войнах между Ланкастерами и Йорками их деды и отцы встали не на ту сторону, так что о недавних событиях лорды предпочитают помалкивать. Поколение спустя обиды будут забыты, слава восстановлена – только так Англия может идти вперед, не тонуть в грязи прошлого. У него, разумеется, нет предков, по крайней мере таких, какими можно кичиться. Был некогда дворянский род Кромвелей, и герольдмейстеры убеждали его для приличия взять их герб; я не из тех Кромвелей, вежливо отвечал он, мне не нужны их девизы. Он сбежал от отцовских побоев пятнадцати лет от роду, пересек Ла-Манш, нанялся в войско французского короля – если дерешься с тех пор, как научился ходить, почему бы не делать это за деньги? Впрочем, есть ремесла поприбыльнее солдатского – он их нашел и решил не спешить на родину. А теперь, когда титулованные хозяева дома спрашивают совета, где лучше поставить фонтан или трех граций, король отвечает, спросите Кромвеля, он знает Италию, а что хорошо для Италии, сгодится для Уилтшира. Иногда король оставляет королеву с ее дамами и музыкантами у гостеприимных хозяев, а сам, прихватив ближайших друзей, уезжает на недельку поохотиться. Вот так они и оказались в Вулфхолле, где короля почтительно приняли сэр Джон Сеймур и его многочисленное семейство.
– Не знаю, Кромвель, – говорит старый сэр Джон, дружески беря его под руку. – Называть соколов именами покойниц… вас это не вгоняет в тоску? – Я не знаю, что такое тоска, сэр Джон. Мир слишком для меня хорош. – Вам надо снова жениться, завести еще детей. Может, найдете себе невесту, пока гостите у нас. В Севернейкском лесу много хорошеньких девиц. – У меня есть Грегори, – говорит он, оглядываясь через плечо на сына; он постоянно немного волнуется за Грегори. – Сыновья – это хорошо, – отвечает сэр Джон, – но мужчине нужны и дочери, они – наше утешение. Гляньте на Джейн, какая она славная. Он послушно смотрит на Джейн Сеймур, которую хорошо знает по двору, – она была фрейлиной Екатерины, бывшей королевы, теперь исполняет ту же должность при Анне, королеве нынешней. Невзрачная бледная девица, рта не раскроет, на мужчин смотрит испуганно. Она в белом платье узорчатого атласа, расшитом мелкими гвозди2ками, и жемчугах. Семья раскошелилась: даже если не считать жемчугов, наряд обошелся не меньше чем в тридцать фунтов. Немудрено, что она ступает опасливо, словно ребенок, которому велели не замарать платье. Король говорит, беря ее мышиную лапку в свою ручищу: – Джейн, надеюсь, дома у родных ты не будешь такой пугливой? При дворе мы от нее и слова не могли добиться. Джейн смотрит на Генриха снизу вверх, краснеет до корней волос. – Видали, чтобы кто-нибудь так краснел? – спрашивает Генрих. – Кроме двенадцатилетних девчушек? – Мне не двенадцать, – отвечает Джейн. За ужином король сидит рядом с леди Марджери, хозяйкой дома. Она в молодые годы была красавицей, а по галантному вниманию короля можно вообразить, что она красавица и сейчас. Леди Марджери родила десятерых, из них шестеро живы, трое сидят за этим столом. Эдвард Сеймур, наследник, очень хорош собой: длинное лицо, серьезные глаза, четкий выразительный профиль. Он начитан, за любое дело берется с умом и рвением, воевал, а теперь, пока нет войны, исправно отдает силы турнирам и охоте. Кардинал в свое время выделял Эдварда из других Сеймуров, да и сам он, Томас Кромвель, согласен, что королю такие люди нужны. Том Сеймур, младший брат, шумливее, прытче, больше нравится женщинам – когда входит в комнату, девушки хихикают, а юные матроны опускают взгляд и смотрят из-под ресниц. Старый сэр Джон – семьянин с изрядно подмоченной репутацией. Два-три года назад при дворе только и говорили, что он сношает жену старшего сына – и ладно бы один раз, в пылу страсти, так нет, постоянно, со дня замужества. Королева и ее доверенные фрейлины трубили о скандальной связи направо и налево. «Мы сосчитали, что у них это было сто двадцать раз, – со смехом говорила Анна. – По воскресеньям они воздерживались как добрые христиане, а Великим постом немного умеряли пыл». Жена-прелюбодейка родила Эдварду двух мальчиков; когда тайна выплыла на свет, тот сказал, что не может признать наследниками то ли сыновей, то ли единокровных братьев. Преступницу заперли в монастырь, где она вскоре благополучно скончалась. Теперь у Эдварда новая жена, которая держится с мужчинами холодно и не расстается с кинжалом на случай, если свекор подойдет чересчур близко. Но все забыто, все прощено. Плоть немощна. Визит короля означает, что сэр Джон больше не в опале. У старика тысяча триста акров земли, включая охотничий парк, почти вся она превращена в пастбища для овец и приносит в год по три шиллинга с акра – на двадцать пять процентов больше, чем если бы здесь по-прежнему были пашни. Овцы мелкие, черномордые, помесь английской породы с валлийской горной, мясо у них жесткое, но шерсть неплохая. По приезде король любопытствует: «Кромвель, на сколько потянет эта овца?», и он, только глянув, дает ответ: «Тридцать фунтов, сир». Фрэнсис Уэстон, юный придворный, хмыкает: – Мастеру Кромвелю ли не знать! Он ведь когда-то был стригалем. Король отвечает: – Без торговли шерстью мы бы жили беднее. Что мастер Кромвель знает ее досконально – его достоинство, не изъян. Фрэнсис Уэстон только усмехается тайком. Завтра Джейн Сеймур поедет охотиться с государем. – Я думал, будут только джентльмены, – слышит он шепот Уэстона. – Королева, если узнает, рассердится. – Вот и будь умником, – тихо говорит он, – постарайся, чтобы она не узнала. – Мы в Вулфхолле все охотники, каких поискать, – бахвалится сэр Джон, – и мои дочери тоже. Вы думаете, Джейн робкая, но в седле она – Диана. Я не мучил моих девочек науками, всё, что нужно, им преподал сэр Джеймс. Священник в дальнем конце стола кивает: старый дуралей, седенький, глаза мутные. Он, Кромвель, поворачивается к священнику: – И танцам тоже вы их учили, сэр Джеймс? Примите мое восхищение! Я видел, как сестра Джейн, Элизабет, танцевала при дворе в паре с королем. – Для этого у девочек был учитель, – хихикает старый Сеймур. – Учитель танцев, учитель музыки, и довольно с них. Иностранные языки им ни к чему – все равно никуда не поедут. – Я не разделяю такой взгляд. Мои дочери учились вместе с сыном. Иногда он говорит о них, об Энн и Грейс, умерших семь лет назад. Том Сеймур смеется: – Так они и на турнирном лугу упражнялись вместе с Грегори и юным мастером Сэдлером? – За исключением этого, – улыбается он. Эдвард Сеймур говорит: – Многие зажиточные горожане учат дочерей грамоте и счету, чтобы они могли помогать в конторе. Я слышал, так их легче выдать в хорошую купеческую семью. – Вообразите дочерей мастера Кромвеля, – говорит Уэстон. – Я не рискну. Думаю, они бы не усидели в конторе, зато мясницким топором бы орудовали – ого-го. От одного их вида у мужчин бы подгибались колени – и не из-за вспыхнувшей любви. Грегори ерзает на стуле. Мальчик все время в своих мечтаниях, и не подумаешь, что слушает разговор, но сейчас голос Грегори дрожит от обиды: – Вы оскорбляете память моих сестер, сударь, которых даже не видели. Моя сестра Грейс… Джейн Сеймур кладет тонкие пальцы на запястье Грегори; чтобы его спасти, она отважилась привлечь к себе внимание общества: – Я последнее время немного учила французский. – Да неужели? – улыбается Том Сеймур. – Меня учила Мэри Шелтон. – Мэри Шелтон – добрая душа, – замечает король. Он краем глаза видит, как Уэстон толкает локтем соседа. При дворе сплетничают, что Мэри Шелтон добра с королем в постели. – Понимаете, – говорит Джейн братьям, – мы не всё время проводим за пустой болтовней и сплетнями. Хотя, видит Бог, наших пересудов хватило бы на целый город женщин. – О чем же вы судачите? – спрашивает он, Кромвель. – Мы обсуждаем, кто влюблен в королеву. Кто пишет ей стихи. – Джейн опускает глаза. – Я хочу сказать, кто влюблен в каждую из нас. Тот джентльмен или этот. Мы знаем наших поклонников и разбираем их по косточкам так, что они бы покраснели, если б услышали. Мы выспрашиваем, сколько у них акров и каков доход, а потом решаем, что позволим им написать нам сонет. Если поклонник недостаточно для нас богат, мы высмеиваем его стихи. Мы очень жестокие. Он говорит, чуть настороженно, не беда, если мужчина пишет дамам стихи, даже замужним, при дворе так принято. Уэстон отвечает, спасибо на добром слове, мастер Кромвель, мы думали, вы потребуете, чтобы мы перестали. Том Сеймур подается вперед, говорит со смехом: – А кто твои поклонники, Джейн? – Если хочешь узнать, ты должен надеть платье, взять вышивку и сесть с нами. – Как Ахиллес среди женщин. Придется вам сбрить свою красивую бороду, Сеймур, и выведать их маленькие нескромные секреты. – Король смеется невеселым смехом. – Если мы не найдем кого-нибудь посвежее. Грегори, ты у нас красавчик, да боюсь, большие руки тебя выдадут. – Внук кузнеца, – вставляет Уэстон. – Музыкант Марк, знаете такого? – говорит король. – Вот у кого девичья внешность. – Марк и без того всегда с нами, – отвечает Джейн. – Мы его и за мужчину-то не считаем. Если хотите узнать наши секреты, спросите Марка. Беседа уходит в какую-то другую сторону. Он думает, Джейн никогда не бывала так разговорчива. Думает, Уэстон меня задирает, пользуясь безнаказанностью в присутствии короля. Думает, как отомстить. Рейф Сэдлер смотрит на него искоса. – Итак, чем завтрашний день будет лучше сегодняшнего? – спрашивает его король и объясняет собравшимся: – Мастер Кромвель есть-пить не может, если чего-нибудь не улучшает. – Для начала я займусь шляпой вашего величества – надо улучшить ее поведение. И те облака, до полудня… – Дождичек нас остудил. – Дай Бог вашему величеству никогда не вымокать сильнее, – говорит Эдвард Сеймур. Генрих трет обгорелый лоб. – Кардинал верил, что может менять погоду. Утро неплохое, говаривал он, но к десяти станет еще лучше. И становилось. Генрих иногда поминает к случаю Вулси, будто не сам, а какой-то другой монарх затравил кардинала до смерти. – У некоторых чутье на погоду, – говорит Том Сеймур. – Вот и все. Это не привилегия кардиналов. Генрих с улыбкой кивает: – Верно, Том. Незачем мне было так его чтить, да? – Для подданного он был слишком заносчив, – говорит старый сэр Джон. Король смотрит на него, на Томаса Кромвеля. Он любил кардинала, здесь все это знают. Его лицо начисто лишено какого бы то ни было выражения, будто свежевыбеленная стена.
После ужина старый сэр Джон рассказывает об Эдгаре Миролюбивом, правившем в этих краях много веков назад, до того как королей стали нумеровать. В ту пору все девы были прекрасны, рыцари – отважны, а жизнь – проста и, как правило, коротка. Эдгар пленился некой девушкой и отправил одного из своих графов взглянуть, правда ли она так хороша лицом, как уверяют. Коварный сват написал королю, будто девица кривая и хромая, а живописцы и поэты лгут. В действительности же красавица приглянулась ему самому, так что он немедля ее обольстил и повел под венец. Эдгар, узнав о предательстве графа, подстерег того в роще неподалеку отсюда и убил одним ударом копья. – Каким же низким обманщиком оказался тот граф, – говорит король. – Поделом ему! – Не сват, а свинья! – хохочет Том Сеймур. Другой брат вздыхает, показывая, что не одобряет таких слов. – А что сказала дама, узнав о гибели мужа? – спрашивает он, Кромвель. – Дама вышла за Эдгара, – отвечает сэр Джон. – Они поженились в зеленом лесу и жили долго и счастливо. – Что ей еще оставалось? – вздыхает леди Марджери. – Женщины должны покоряться судьбе. – А в народе говорят, – добавляет сэр Джон, – что коварный граф все еще бродит по лесам, стонет и силится вытащить из живота копье. – Только представить, – говорит Джейн Сеймур. – Лунной ночью выглянешь в окошко и увидишь, как он тянет за древко и сетует. Хорошо, что я не верю в привидений. – А зря, сестрица, – отвечает Том Сеймур. – Вот как они к тебе подкрадутся и схватят! – И все же… – Генрих делает движение, будто бросает копье – правда, за столом как следует не размахнешься. – Одним ударом. Видать, славный был копейщик, этот король Эдгар. Он говорит – он, Кромвель: – Хотел бы я знать, записана эта история, и если да, то кем, и был ли тот человек под присягой. – Кромвель заставил бы графа ответить перед судом присяжных, – с улыбкой произносит король. – Бог с вами, ваше величество, – смеется сэр Джон, – тогда и присяжных-то не было. – Кромвель бы нашел. – Юный Уэстон подается вперед, чтобы прозвучало весомее. – Он бы выкопал присяжных из-под земли, и уж они бы признали графа виновным, отправили его на плаху. Говорят, когда судили Томаса Мора, наш королевский секретарь вошел с присяжными в комнату для совещаний, а когда они сели, притворил за собой дверь и объявил закон. «Позвольте избавить вас от сомнений, – были его слова. – Ваше дело признать сэра Томаса виновным, и пока не объявите этот вердикт, обеда не получите». Потом он вышел, снова закрыл дверь и встал перед ней с топором, на случай если присяжные станут прорываться на поиски вареного пудинга. Как истые лондонцы, те больше всего пеклись о своем брюхе и, как только услышали его бурчание, завопили: “Виновен! Виновнее не бывает!”» Все смотрят на него, на Кромвеля. Рейф Сэдлер говорит хрипло: – История красивая, но теперь я, в свой черед, спрошу: где она записана? Уверяю вас, мой господин всегда честен в судейских делах. – Вас там не было, – отвечает Уэстон, – а я эту историю слышал от одного из присяжных. Они кричали: «Скорей, скорей, уведите предателя, а нам подайте баранью ногу!» И Томаса Мора увели на казнь. – Вы так говорите, будто жалеете, – замечает Рейф. – Я? Ничуть! – Уэстон вскидывает руки. – Королева Анна говорила, пусть смерть Мора послужит уроком другим предателям. Как бы велики ни были заслуги, как бы ни завуалирована измена, Томас Кромвель выведет злодеев на чистую воду. Одобрительный гул; такое чувство, что сейчас собравшиеся устроят Кромвелю овацию. Тут леди Марджери подносит палец к губам и указывает глазами на короля во главе стола. Генрих начал заваливаться вправо, опущенные веки подрагивают, дыхание мерно и глубоко. Сидящие обмениваются улыбками. – Опьянел от свежего воздуха, – шепчет Том Сеймур. От воздуха пьянеть не зазорно, иное дело от вина: нынче король требует кувшин с хмельным напитком куда чаще, чем в прежние дни, когда был молод и строен. Он, Кромвель, смотрит, как Генрих наклоняется в кресле. Сперва вперед, словно хочет лечь головой на стол, потом вздрагивает, выпрямляется рывком. По бороде тонкой струйкой течет слюна. Эх, нет здесь Гарри Норриса, главного из королевских джентльменов – вот кто сумел бы неслышной походкой приблизиться к государю, разбудить того легким касанием, тихой речью. Увы, Гарри уехал к Анне с любовным письмом от Генриха. Так кто же? Король не похож на усталого ребенка, как был бы похож лет пять назад. Видно, что это немолодой человек, сомлевший от обильной трапезы, лицо обрюзгшее, жилки кое-где полопались, и даже при свечах в редеющих волосах отчетливо различается седина. Он, Кромвель, кивает юному Уэстону. – Фрэнсис, необходимо ваше джентльменское вмешательство. Уэстон, притворяясь, будто не слышит, смотрит на короля: во взгляде – неприкрытое отвращение. Том Сеймур шепчет: – Думаю, надо поднять шум. Чтобы он сам проснулся. – Какой шум? – одними губами спрашивает Эдвард. Том изображает, что держится за бока. Эдвард вскидывает брови: – Смейся, если тебе хватит духу. Он решит, ты смеешься, что он пустил слюни. Король начинает храпеть. Заваливается влево, опасно нависает над подлокотником. Уэстон говорит: – Давайте вы, Кромвель. Вы из нас самый большой человек. Он с улыбкой мотает головой. – Наш король, храни его Господь, не молодеет, – важно произносит старый сэр Джон. Джейн встает. Шелест плотно расшитого атласа. Склоняется над королевским креслом, трогает руку Генриха – быстро, в одно касание. Король резко садится, хлопает глазами. – Я не спал. Просто прикрыл веки. Когда король уходит спать, Эдвард Сеймур говорит: – Мастер Кромвель, сегодня я с вами поквитаюсь. Откинувшись в кресле, с кубком в руке: – Чем я вам досадил? – Шахматная партия. Кале. Знаю, вы помните. Поздняя осень 1532 года. День, когда король впервые лег с королевой. Прежде чем отдаться Генриху, Анна стребовала клятву, что тот на ней женится сразу по возвращении в Англию. Однако шторма задержали корабли в Кале, и король не терял времени даром, стараясь заделать ей наследника. – Вы поставили мне мат, мастер Кромвель, – говорит Эдвард, – но лишь потому, что сумели меня отвлечь. – Чем же? – Спросили про мою сестру Джейн. Сколько ей лет и все такое. – Вы решили, я к ней приглядываюсь? – А это правда? – Эдвард улыбается, чтобы смягчить грубоватый вопрос. – Между прочим, она еще не просватана. – Ставьте фигуры, – говорит он. – Начнем с того хода, на котором вы отвлеклись? Эдвард тщательно не выказывает удивления. О памяти Кромвеля ходят невероятные слухи. Он улыбается про себя, зная, что сумел бы правдоподобно расставить фигуры: ему известно, как играют люди с таким складом характера. Говорит: – Начнем по новой. Мир не стоит на месте. Итальянские правила вас устроят? Не люблю, когда партия растягивается на неделю. Сеймур начинает довольно смело, но уже через несколько ходов, зажав в пальцах белую пешку, откидывается на спинку кресла и заводит речь о блаженном Августине. От блаженного Августина переходит к Мартину Лютеру. – Это учение вселяет в меня страх. Будто Господь сотворил нас на погибель. Что Его бедные создания, за исключением единиц, рождаются на муки в земной жизни и в вечной. Иногда мне страшно, что Лютер прав, и все же я надеюсь, что нет. – Толстый Мартин смягчил свои взгляды. По крайней мере так говорят. – Что, из тысячи спасутся двое, а не один? Или наши добрые дела не вполне бесполезны в очах Божьих? – Не стану говорить от его имени. Почитайте Филиппа Меланхтона, я пришлю вам его новую книгу. Надеюсь, он посетит нас в Англии. Мы ведем переговоры с его окружением. Эдвард прижимает головку пешки ко рту, словно хочет постучать ею по зубам. – Неужто король позволит? – Брата Мартина король в Англию не пустит – даже имени его слышать не желает. Филипп помягче, а нам полезно, очень полезно заключить союз с теми из немецких князей, кто любит слово Божие. Императору в острастку. – А что это для вас? – Конь Эдварда скачет по квадратам. – Дипломатия? – Я всецело за дипломатию. Она дешевле войны. – А говорят, что вы и сами любите слово Божие. – Это не тайна. – Он хмурится. – Вы хорошо подумали, Эдвард? У вас королева под ударом. Я не хотел бы еще раз услышать, что сбил вас с мыслей разговорами о спасении вашей души. Эдвард криво улыбается: – А как сейчас ваша королева? – Анна? Она на меня серчает. Как глянет в мою сторону, чувствую – голова шатается на плечах. Королеве насплетничали, что я раз-другой благожелательно отозвался о Екатерине, нашей бывшей королеве. – Это правда? – Я всего лишь восхищался твердостью ее духа, которую никто отрицать не может. И опять-таки королева считает, будто я излишне расположен к принцессе Марии. Я хотел сказать, к леди Марии, как мы теперь должны ее называть. Король по-прежнему любит старшую дочь, говорит, ничего не может с собой поделать, Анна же хочет, чтоб король признавал только одну дочь – Елизавету. Она думает, мы чересчур мягки с леди Марией. Та-де должна признать себя внебрачным ребенком. Эдвард крутит белую пешку в пальцах, оглядывает ее с сомнением, ставит на место. – А разве еще не признала? Я был уверен, что вы ее давно заставили. – Мы сочли, что лучший способ решить этот вопрос – закрыть на него глаза. Она знает, что не унаследует трон, и, по-моему, не стоит давить на нее дальше. Поскольку император – племянник Екатерины и кузен леди Марии, я стараюсь его не злить. Карл держит нас за глотку, понимаете? Анна же не понимает, что людей надо улещивать. Думает, вполне довольно, что она нежна с Генрихом. – А вы должны быть нежны с Европой. Смех у Эдварда скрипучий, глаза говорят: вы очень со мной откровенны, мастер Кромвель; почему? – К тому же… – Его пальцы зависают над черным конем. – На взгляд королевы, я слишком возвысился. Король сделал меня своим викарием по делам церкви, Анна же хочет, чтобы к уху Генриха имели доступ только она сама, ее брат, монсеньер ее отец – и даже отцу от нее достается. Она называет его трусом, который даром теряет время. – И он терпит? – Эдвард смотрит на доску. – Ой. – А теперь смотрите внимательно. Желаете доиграть до конца? – Наверное, я сдамся. – Вздох. – Да. Я сдаюсь. Он, Кромвель, смахивает с доски фигуры, подавляет зевок. – И заметьте, я ни разу не упомянул вашу сестру Джейн. Так чем вы оправдаетесь на сей раз?
Поднимаясь в спальню, он видит, что Рейф с Грегори скачут перед большим окном, подпрыгивают и возят подошвами, глядя на что-то незримое у себя под ногами. Сперва он думает, они играют в мяч без мяча, затем, приглядевшись, понимает: они топчут что-то длинное и тонкое. Лежащего человека. Давят каблуками, с разворотом, чтоб побольнее. – Полегче, – говорит Грегори. – Не сломай ему шею. Пусть прежде хорошенько помучается. Рейф поднимает голову, картинно утирает пот. Грегори упирается руками в колени, переводит дух, трогает жертву башмаком. – Это Фрэнсис Уэстон. Все думают, он укладывает короля в постель, а на самом деле он здесь у нас. В призрачной форме. Мы подкараулили его и поймали в волшебную сеть. – Мы его наказываем. – Рейф наклоняется. – Эй, сэр, теперь жалеете о своих словах? – Плюет на ладони. – Что дальше с ним делать будем, а, Грегори? – Выбросим в окошко. – Осторожно, – говорит он. – Король любит Уэстона. – Значит, будет любить и с расплющенной головой, – говорит Рейф. Они с Грегори, отталкивая друг друга, принимаются месить Уэстона ногами. Рейф открывает окно, оба нагибаются, хватают невидимое тело и взваливают на подоконник. Фантомная одежда цепляется, Грегори налегает посильнее, призрачный Уэстон головой вниз летит на камни под окном. Мальчишки провожают его глазами. – Отскочил, как мяч, – замечает Рейф. Оба отряхивают ладони, улыбаются. – Доброй ночи, сэр, – говорит Рейф.
Позже Грегори сидит в изножье его кровати – встрепанный, в одной рубашке, возит босой ногой по ковру. – Так, значит, ты женишь меня на Джейн Сеймур? – В начале лета ты думал, что я женю тебя на вдовице с оленьим парком. Грегори все поддразнивают – Рейф Сэдлер, Томас Ризли, другие юноши в доме. Кузен Ричард Кромвель. – Да, но о чем вы беседовали с ее братом последний час? Сперва играли в шахматы, а потом говорили, говорили, говорили. Болтают, что тебе самому она нравилась. – Когда? – В прошлом году. Она тебе в прошлом году нравилась. – Если и так, я давно забыл. – Мне сказала жена Джорджа Болейна. Леди Рочфорд. Сказала, у тебя, наверное, будет мачеха из Вулфхолла. – Грегори хмурится. – Если Джейн нравится тебе самому, лучше меня на ней не женить. – Думаешь, я соблазню твою молодую жену? Как сэр Джон? Он кладет голову на подушку, говорит: «Уймись, Грегори». Закрывает глаза. Грегори славный мальчик, хотя все латинские глаголы, которым его учили, все звучные строки великих авторов влетели в одно ухо и вылетели из другого. Впрочем, если вспомнить юного Джона Мора – сын человека, прославленного на всю Европу своей ученостью, не может без запинки повторить «Отче наш». Грегори метко стреляет из лука, прекрасно сидит в седле, блещет на турнирной арене, у него безукоризненные манеры. Он почтительно говорит со старшими, не шаркает, не переминается с ноги на ногу, учтив и мягок с нижестоящими. Не шляется расхристанный, не засматривается на свое отражение в окнах, не вертит головой в церкви, не перебивает стариков, не заканчивает за них сто раз слышанные истории. Если кто-нибудь чихнет, говорит «будьте здоровы». Будьте здоровы, сэр или мадам. Грегори вскидывает голову: – Томас Мор. Присяжные. Это правда так было? Уэстон не сильно преувеличил – разве что в деталях. Он, Кромвель, говорит: – У меня не было топора. Он устал, он говорит с Богом: «Направь меня». Иногда в такие мгновения между бодрствованием и сном перед ним мелькает кардинал – огромный, в алой сутане. Если бы покойник предсказывал будущее! Но нет, старый патрон говорит только о мелочах – домашних, конторских. Куда я задевал письмо от герцога Норфолка? – спрашивает он кардинала; на следующий день, рано утром, письмо находится. Он говорит мысленно: не с Вулси, с женой Джорджа Болейна. «Я не собираюсь жениться. Мне некогда. Я был счастлив с женой, но Лиз умерла, и с ней умерла эта часть моей жизни. Кто, скажите на милость, дал вам право рассуждать о моих намерениях? Мадам, у меня нет времени на ухаживания. Мне пятьдесят. В мои годы только глупец заключает долговременные контракты. Если мне нужна женщина, проще нанять ее на час». Однако он старается не говорить «в мои годы», по крайней мере когда бодрствует. В хорошие дни он надеется, что протянет еще лет двадцать. Часто думает, что проводит Генриха в последний путь, хотя, строго говоря, это преступление: есть закон, запрещающий рассуждать о сроке монаршей жизни. Впрочем, Генрих только и знает, что искать опасных приключений на свою голову. Было несколько неприятных случаев на охоте. Еще принцем, несмотря на запрет участвовать в турнирах, он выезжал на арену со щитом без герба, в шлеме, скрывающем лицо, и доказывал раз за разом, что ему нет равных. С французами бился доблестно и, как любит говорить, воинственен по природе; наверняка бы остался в истории Генрихом Отважным, если бы Томас Кромвель разрешил ему воевать. Однако Томас Кромвель считает войну непозволительной роскошью, и не только из-за денег: что будет с Англией, если Генриха убьют? Король прожил с Екатериной двадцать лет, осенью будет три года его браку с Анной. Весь итог – по дочери от обеих и целое кладбище младенцев: выкидышей, крещенных в крови, и доношенных, умерших в первый же день, неделю, месяц после рождения. Вся смута, связанная с разводом, была напрасна. У Генриха по-прежнему нет сына-наследника. Есть бастард, Гарри герцог Ричмонд, славный юноша шестнадцати лет, но что проку от бастарда? Что проку от ребенка Анны, двухлетней Елизаветы? Можно принять особые законы, по которым (если, не дай Бог, Англия осиротеет) трон перейдет к Ричмонду. У Томаса Кромвеля прекрасные отношения с юным герцогом, но династия еще слишком молода, для нее это чрезмерный риск. Плантагенеты некогда правили страной и мечтают вернуться вновь, для них Тюдоры – самозванцы. Древние английские семейства готовы в любую минуту заявить права на престол, особенно теперь, когда Генрих порвал с Римом. Внешне они склонились перед Тюдором, но втайне продолжают плести заговоры. Он, Кромвель, почти слышит, как они перешептываются за деревьями. В здешних лесах вы можете отыскать себе невесту, сказал старый Джон Сеймур. Стоит закрыть глаза, и она мелькает тенью, в одеянии из паутины, в каплях ночной росы. Босые ноги опутаны корнями, волосы-перья колышутся меж ветвей; она манит пальцем – скрученным листом. Указывает на него, засыпающего. Внутренний голос глумится над ним: ты думал, что отдохнешь в Вулфхолле. Думал, не будет ничего, кроме обычных дел, войны и мира, голода и предательских интриг, народного ропота, недорода, морового поветрия в Лондоне и короля, проигрывающего в карты свою рубашку. К этому всему ты был готов. На краю внутреннего зрения, за прикрытыми веками, что-то возникает. Оно проступит с утренним светом: нечто дышащее, подвижное, неразличимое пока в роще или в купе дерев. Прежде чем окончательно заснуть, он воображает шляпу короля, райской птицей прикорнувшую на темных ветвях.
На следующий день, чтобы не утомлять дам, с охоты возвращаются рано. Для него это удачный случай снять охотничье платье и засесть за депеши. Он надеялся, что король соблаговолит выслушать хотя бы главные из скопившихся дел, но Генрих говорит: – Леди Джейн, вы прогуляетесь со мной по саду? Она тут же вскакивает, хмурится непонимающе. Губы шевелятся, словно мистрис Сеймур повторяет про себя слова короля: Джейн… со мной… по саду? О да, конечно, почту за честь. Ее рука, нежный лепесток, трепещет над рукавом Генриха, затем ложится на вышивку. В Вулфхолле три сада. Они называются Большой сад, Сад старой госпожи и Сад молодой госпожи. Никто не смог ответить на вопрос, что это были за госпожи; и старая, и молодая умерли давным-давно, разница между ними стерлась. Он вспоминает свой сон: невеста из палой листвы, невеста из мха. Он читает. Пишет. Что-то настойчиво скребет в голове, требует внимания. Он встает, смотрит из окна на садовые дорожки. Переплет частый, стеклышки кривые, приходится крутить головой, пока хоть что-нибудь различишь. Он думает: я могу прислать Сеймурам своего мастера, пусть посмотрят на незамутненный мир. У него работает целая артель голландских стекольщиков. Прежде они служили у кардинала. Внизу прогуливаются Генрих и Джейн. Генрих огромный, Джейн похожа на марионетку, ее голова не достает королю до плеча. Генрих, высокий, широкоплечий, сразу привлекает к себе все взгляды – и привлекал бы, даже не сделай его Господь своим помазанником. Сейчас Джейн за кустом. Генрих кивает ей, что-то говорит, в чем-то убеждает. А он, Кромвель, смотрит, чешет подбородок, думает: вроде бы у короля голова стала больше. Возможно ли это в таком возрасте? Ганс заметил бы, надо его спросить, когда вернемся в Лондон. Скорее всего мне померещилось, возможно, из-за кривого стекла. Небо затянулось тучами. В стекло бьет тяжелая капля. Он моргает. Капля растекается, сбегает по окну струйкой. Джейн снова видно. Король положил могучую лапищу на ее руку, прижимает к своему локтю. Губы короля по-прежнему шевелятся. Он возвращается за стол. Читает, что строители укреплений в Кале бросили инструменты и требуют шесть пенсов в день. Что его новый плащ зеленого бархата отправят в Уилтшир со следующим гонцом. Что кардинал Медичи отравлен собственным братом. Зевает. Что на острове Танет скупщики взвинтили цену на зерно. Он бы предпочел повесить скупщиков, но им покровительствует местный аристократишка, который рассчитывает нажиться на голоде, так что действовать надо осторожно. Два года назад в Саутуорке семерых лондонцев задавили в драке из-за хлеба. Позор для Англии, что королевские подданные голодают. Он берет перо, делает пометку. Очень скоро – дом небольшой, все звуки слышны – внизу отворяется дверь, раздается голос короля и тихий озабоченный гул… промочили ноги, ваше величество? Тяжелая поступь короля, а вот Джейн куда-то бесшумно ускользнула. Наверняка ее утащили к себе мать и сестры – узнать, что говорил король. Генрих входит. Он отодвигает стул, встает, поворачивается к двери. Генрих машет рукой – работайте, мол. – Ваше величество, московиты захватили триста миль Польши. Пишут о пятидесяти тысячах убитых. – О? – говорит король. – Надеюсь, они пощадили библиотеки. Ученых. В Польше замечательные ученые. – Мда? Что ж, я тоже надеюсь. Он возвращается к депешам. В Лондоне чума… король вечно боится подхватить заразу. Иноземные правители спрашивают в письмах, правда ли, что Генрих собирается отрубить голову всем своим епископам. Разумеется, нет, у нас теперь превосходные епископы, все согласны с желаниями короля, все признали Генриха главой английской церкви, и вообще, что за невежливый вопрос? Как можно ставить под сомнение праведность королевского суда? Да, епископ Фишер казнен, и Томас Мор тоже, но эти двое сами вынудили доброго короля пойти на крайние меры; если бы они не упорствовали в своих изменнических взглядах, то были бы сейчас живы, как вы и я. С июля он написал множество таких писем. Получалось не очень убедительно, даже для него самого. Он чувствует, что повторяет доводы вместо того, чтобы их развивать. Нужны новые фразы… Генрих ходит по комнате у него за спиной. – Ваше величество, императорский посол Шапюи испрашивает дозволения посетить вашу дочь леди Марию. – Нет, – отвечает Генрих. Он пишет Шапюи: «Запаситесь терпением, я вернусь в Лондон и все устрою». Ни слова от короля, только шаги, дыхание, скрип буфета, на который Генрих оперся локтем. – Ваше величество, пишут, что лорд-мэр Лондона почти не выходит из дома, так его замучила мигрень. – Ммм? – Ему делают кровопускания. Что ваше величество об этом думает? Пауза. Генрих смотрит рассеянно. – Кровопускания? От какой болезни, простите? Странно. Генрих боится чумы, но всегда с удовольствием слушает про чужие мелкие хвори. Скажи, что у тебя кашель или болит живот, король собственными руками составит микстуру и будет стоять рядом, пока ты ее пьешь. Он откладывает перо. Поворачивается, заглядывает монарху в глаза. Очевидно, Генрих мыслями все еще в саду. Такое выражение, как сейчас у короля, он, Кромвель, видел раньше. Правда, не у людей. Генрих выглядит как телок, которого мясник ударил по голове.
Это их последняя ночь в Вулфхолле. Он спускается в парадную гостиную очень рано, с охапкой бумаг. В млечном свете застыло бледное видение: Джейн Сеймур в плотно расшитом атласном платье. Она не поворачивается к вошедшему, но видит его уголком глаза. Если он и питал к ней интерес, теперь все прошло. Месяцы проносятся мимо, словно осенние листья, уносимые в зиму. Лето позади. Дочь Томаса Мора сняла отцовскую голову с пики на Лондонском мосту. Наверное, положила на блюдо и молится на нее. Он иной человек, чем в прошлом году, и чувства того человека – не его чувства. У него новая жизнь, новые мысли, новые чувства. Джейн, говорит он, наконец-то вам позволят снять ваше лучшее платье – вы рады, что мы уезжаем? Джейн смотрит прямо вперед, как часовой. За ночь небо расчистилось, день снова будет погожий. Утреннее солнце розовит поля. Туманная дымка тает, очертания деревьев обретают подробности. Дом просыпается. Лошади, выведенные из конюшни, ржут и переступают на месте. Хлопает задняя дверь, на втором этаже скрипят половицы. Джейн как будто не дышит. Ее плоская грудь не вздымается. Ему хочется отступить в ночь, слиться с темнотой, оставить Джейн на ее посту.
II Вороны
Лондон и Кимболтон, осень 1535 г.Стивен Гардинер! Идет навстречу ему к монаршим покоям, под мышкой фолиант, свободная рука рубит воздух. Гардинер, епископ Винчестерский: налетел грозой, когда у нас в кои-то веки погожий день. Стивен входит в комнату, и мебель бросается врассыпную. Стулья пятятся, табуретки приседают. Библейские фигуры на шпалерах зажимают руками уши. При дворе его ждешь. Внутренне готов. Но здесь? Когда мы просто охотимся и якобы отдыхаем? – Приятная неожиданность, милорд епископ. Рад лицезреть вас в таком добром здравии. Двор вскоре тронется в сторону Винчестера, и я не надеялся увидеть вас до тех пор. – Я упредил вас ночным маршем, Кромвель. – Так мы в состоянии войны? Лицо епископа говорит: вы знаете, что да. – Это вы отправили меня в ссылку. – Я? Помилуйте, Стивен. Я каждый день о вас скучаю. И к тому жене в ссылку. Вас лишь временно удалили от двора. Гардинер облизывает губы: – Вы увидите, как я провел это время. Когда Гардинер потерял место королевского секретаря, Кромвель (новый королевский секретарь) посоветовал епископу уехать в свою епархию, дабы не мозолить глаза королю и молодой королеве. «Милорд Винчестер, вам крайне желательно высказать обдуманное суждение о супрематии короля, просто чтобы исключить сомнения в вашей преданности. Твердое заявление, что его величество – глава английской церкви, и, если хорошенько подумать, так было всегда. Взвешенное мнение, изложенное со всей определенностью, что Папа – чужеземный правитель и не обладает властью в этой стране. Письменная проповедь или открытое письмо. Дабы развеять любые недоразумения касательно ваших взглядов. Дать пример другим церковникам, избавить посла Шапюи от нелепой мысли, будто вы подкуплены императором. Вашу декларацию должен услышать весь христианский мир. Кстати, почему бы вам не уехать в свою епархию и не написать книгу?» И вот Гардинер здесь, похлопывает рукопись, словно треплет по щеке пухлого младенца. – Королю понравится моя книга. Я назвал ее «Об истинном послушании». – Вам стоит показать ее мне, прежде чем отдать печатнику. – Король сам изложит вам ее содержание. Здесь говорится, почему клятвы, данные папскому престолу, недействительны, а наша присяга королю как главе церкви – истинна. Главный упор сделан на то, что Бог сам наделяет Своего помазанника властью. – А не Папа. – Ни в коем случае не Папа. Власть снисходит от Бога без всякого посредника, а не востекает от подданных к королю, как вы некогда утверждали. – Я так говорил? Востекает? Трудно представить. – Вы принесли королю книгу, где так утверждалось. Книгу Марсилия Падуанского, сорок две пропозиции. Король говорит, вы замучили его ими до головной боли. – Мне следовало излагать короче, – улыбается он. – На практике, Стивен, не важно, исходит сверху, востекает снизу. «Где слово царя, там и власть; и кто речет ему “что твориши”?» – Генрих не деспот, – сухо отвечает Гардинер. – Я отвергаю всякую мысль, что его правление нелегитимно. Будь я королем, я бы хотел, чтобы моя власть была полностью законной, чтобы все ее признавали и твердо защищали от любых нападок. А вы? – Будь я королем… Он чуть не сказал: будь я королем, я бы вас дефенестрировал. Гардинер спрашивает: – Почему вы смотрите в окно? Он рассеянно улыбается: – Любопытно, что сказал бы о вашей книге Томас Мор? – О, ему бы она очень не понравилась, но мне плевать, – с жаром говорит епископ, – поскольку его мозг выклевали коршуны, а череп превратился в святые мощи, перед которыми дочь молится на коленях. Зачем вы разрешили ей забрать голову с Лондонского моста? – Вы же знаете меня, Стивен. Доброта течет в моих жилах и по временам переливается через край. Давайте вернемся к вашей книге. Если вы так ею гордитесь, может, поживете в Винчестере еще какое-то время, поработаете над слогом? Гардинер скалится: – Вам самому следует написать книгу. Достойный выйдет труд – с вашей кухонной латынью и начатками греческого. – Я буду писать на английском, – говорит он. – Прекрасный язык, годится для любой надобности. Идите, Стивен, не заставляйте короля ждать. Вы застанете его в отличном расположении духа. С ним сейчас Гарри Норрис. И Фрэнсис Уэстон. – А, болтливый хлыщ. – Стивен делает движение, будто бьет кого-то по щеке. – Спасибо, что предупредили. Ощутил ли фантомный Уэстон пощечину? Из комнаты Генриха доносится взрыв смеха.
После отъезда из Вулфхолла хорошая погода продержалась недолго. Не успели выехать из Севернейкского леса, как нас накрыло мокрым туманом. Дожди в Англии идут с небольшими перерывами уже лет десять. В этом году вновь будет недород. Ждут, что кварта пшеницы подорожает до двадцати шиллингов. Каково придется в эту зиму тем, кто зарабатывает пять-шесть пенсов в день? Спекулянты уже начали скупать зерно не только на острове Танет, но и в других графствах. Его люди тщательно за ними следят. Кардинал удивлялся, что одни англичане ради наживы морят других голодом. На это он отвечал: «Я видел, как наемник-англичанин зарезал товарища, вытащил одеяло из-под бьющегося в судорогах тела, перерыл вещи и забрал вместе с деньгами образок». – Так то наемный убийца, – возражал Вулси. – Эти люди забыли о спасении души. Но большинство англичан боятся Бога. – Итальянцы думают иначе. Они говорят, дорога из Англии в ад утоптана, как камень, и все время идет под гору. Каждый день он размышляет о загадке своих соплеменников. Да, он видел убийц, но видел и другое: как солдат отдал женщине хлеб, совершенно чужой женщине, и, пожав плечами, пошел дальше. Лучше не испытывать людей, не доводить их до крайности. Пусть живут в достатке, тогда и станут щедрыми. Сытый человек благодушен. Голод порождает чудовищ. Когда, через несколько дней после разговора с Гардинером, король добрался до Винчестера, в тамошнем соборе рукоположили новых епископов. «Мои епископы», называет их королева: евангелисты, реформаты, люди, которые уповают на Анну. Кто бы думал, что Хью Латимер станет епископом? Легче было предположить, что его сожгут в Смитфилде, что он кончит дни на костре, выкрикивая евангельские слова. С другой стороны, кто думал, что Томас Кромвель станет хоть кем-нибудь? Когда пал Вулси, казалось, что и он, слуга Вулси, уже не поднимется. Когда умерли его жена и дочери, он думал, что не переживет горя. Однако Генрих приблизил его к себе, и назначил своим советником, и сказал: «Вот вам, Кромвель, моя рука», освободил ему путь в тронную залу. В юности он вечно проталкивался локтями через толпу, чтобы пробиться в первые ряды. Теперь, когда Томас Кромвель идет по Вестминстеру или по любому из королевских дворцов, толпа расступается. С той поры как он стал советником, ему расчищают дорогу – сдвигают ящики и козлы, гонят прочь бродячих собак. Женщины умолкают, одергивают рукава, поправляют кольца – с тех пор как его поставили начальником судебных архивов. Кухонные помои, конторский сор, скамеечки для ног пинками отбрасывают в сторону, сколько он служит королевским секретарем. И никто, кроме Стивена Гардинера, не поправляет его греческий нынче, когда он – ректор Кембриджского университета. Лето в целом было для Генриха успешным: в Беркшире, Уилтшире и Сомерсете король проезжал перед народом, и жители (если не хлестал дождь) выстраивались вдоль дороги и радостно приветствовали государя. Да и кто бы не радовался? Всякий раз, видя Генриха, дивишься заново: грузный мужчина с бычьей шеей, лицо пухлое, глаза голубые, рот маленький и почти жеманный. Рост шесть футов три дюйма, и в каждом дюйме – царственность. Осанка, весь облик – величавы, ярость, проклятия, горючие слезы – устрашают. Но временами чело светлеет, Генрих садится рядом с тобой на скамью и заводит разговор, как брат. Как брат, если у кого есть брат. Или даже как отец, идеальный отец: ну что, сынок? Не слишком уработался? Пообедал уже? Что тебе снилось сегодня ночью? Тут есть опасность: когда король ездит по стране, сидит за обычным столом на обычном стуле, его можно счесть обычным человеком. Однако Генрих не обычен. Пусть его волосы редеют, а брюхо растет, что с того? Император Карл, глядя в зеркало на свою кривую физиономию и крючковатый нос, отдал бы провинцию за благообразие тюдоровского лица. Король Франциск, тощий, как жердь, заложил бы в ломбард дофина, если б мог купить себе плечи, как у короля Англии. Любыми их достоинствами он наделен двоекратно. Если они учены, он учен вдвойне. Если милостивы, он – сама милость. Если рыцарственны, он – лучший из рыцарей, когда-либо воспетых менестрелями. И все равно в кабаках клянут за непогоду Генриха и Анну Болейн: полюбовницу, великую блудницу. Если король вернет свою законную жену Екатерину, дожди кончатся. И впрямь, кто усомнится, что жизнь в Англии станет куда лучше, если сельские дурачки и пьянчуги получат власть принимать решения за короля? В Лондон едут медленно, чтобы к возвращению короля там не осталось и подозрения на чуму. В холодных часовнях, выстроенных на помин чьей-то души, под взглядами косоглазых мучениц король молится в одиночестве. Ему это не по душе. Он хочет знать, о чем молится король. Его старый покровитель, кардинал Вулси, уж как-нибудь бы разузнал. Его отношения с королевой сейчас, на исходе лета, осторожны, неустойчивы, исполнены недоверия. Анне Болейн тридцать четыре, она темноволоса и настолько изящна, что обычная миловидность кажется несущественным дополнением. Некогда гибкая, она сделалась угловатой. Глаза сохранили темный блеск, несколько поистертый, чуть более шероховатый. Они – ее главное оружие. Анна смотрит мужчине в лицо и тут же рассеянно отводит глаза. Короткая пауза – может быть, на один вдох. Затем медленно, словно против воли, Анна вновь задерживает взгляд на предмете, изучает его так, словно мужчина перед ней – единственный в мире. Как будто она видит его впервые и прикидывает все, что можно от него получить, все возможности, которые ему и в голову не приходили. Для жертвы мгновение длится целую вечность и заставляет мурашки бежать по коже. Хотя на самом деле трюк быстрый, дешевый, действенный и легко воспроизводимый, бедолаге мнится, будто его выделили из всех мужчин мира. Он ухмыляется. Приосанивается. Становится чуть выше. Чуть глупее. Он видел, как Анна проделывает такое с лордом и простолюдином. С королем. Жертва чуть приоткрывает рот, и хлоп! – рыбка на крючке. Это работает почти всегда; с ним не срабатывало ни разу. Видит Бог, он не равнодушен к женщинам, просто равнодушен к Анне Болейн. Ей досадно; ему следовало бы притвориться. Он сделал ее королевой, она его – сановником, но они постоянно напряжены, постоянно ждут, что другой выдаст себя мелкой оплошностью и тем ослабит свою оборону, как будто неискренность – их единственная защита. Однако Анне лицемерить труднее – ее настроения переменчивы, она скачет от смеха к слезам, маленькая резвушка, мужнина радость. Несколько раз за лето королева тайком улыбалась ему из-за королевского плеча или гримаской предупреждала, что Генрих не в духе. А по временам она нарочито его не замечает, отворачивается, скользит по нему взглядом, будто не видит. Чтобы понять причину – если ее вообще можно понять, – нужно вернуться в прошлую весну, когда Томас Мор был еще жив. Анна пригласила его побеседовать о дипломатии. Она хотела заключить брачный контракт: просватать свою малолетнюю дочь за французского принца. Однако французы юлили. По правде сказать, они и сейчас не вполне признают Анну королевой, не уверены, что ее дочь – законная. Анна знает причину их несговорчивости и почему-то вбила себе в голову, будто виноват он, Томас Кромвель. Она прямо заявила, что он вставляет ей палки в колеса, потому что не любит французов и не хочет заключать с ними союз. Разве он не отказался ехать на переговоры? Франция была готова принять посла, говорит Анна. И вас ждали, господин секретарь. А вы сказались больным, и пришлось ехать милорду, моему брату. – И тот не смог ни о чем договориться. Очень жаль. – Я вас знаю. Вы ведь никогда не болеете, кроме как по собственному желанию? Думаете, когда вы не при дворе, мы вас не видим, а напрасно. Мне доносят, что вы чересчур близки с императорским послом. Да, Шапюи – ваш сосед, но только ли поэтому ваши слуги с утра до вечера снуют из одного дома в другой? Анна была тогда в нежно-розовом и бледно-сером. Казалось бы, свежие девичьи цвета должны радовать глаз, но ему виделись розовато-серые внутренности, требуха, кишки, вытащенные из живого тела; вторая партия упрямых монахов ждала отправки на Тайберн, где их вспорет и выпотрошит палач. Они изменники и заслужили смерть, но эта казнь превосходит другие в жестокости. Жемчуга на тонкой шее Анны представлялись ему бусинками жира; в пылу спора она начинала их теребить, длинные пальцы с ноготками-ножичками приковывали его взгляд. И все же, говорит он Шапюи, покуда я в милости у короля, королева мне не опасна. На нее находит, она бесится, королю это известно. Генрих когда-то тем и пленился, что Анна не похожа на мягких белокурых красавиц, добрых и покладистых, которые проходят через жизнь мужчины, не оставляя следа. Однако теперь при виде супруги король иногда сникает. Когда она закатывает очередной скандал, глаза у Генриха стекленеют, и не будь наш монарх такой джентльмен, надвигал бы шляпу на уши. Нет, говорит он послу, меня тревожит не Анна, а те мужчины, которыми она себя окружила. Ее семья: отец, граф Уилтшир, любящий обращение «монсеньор», и брат – Джордж, лорд Рочфорд, один из джентльменов короля. Джордж из младшего поколения камергеров. Король любит друзей юности; кардинал время от времени проходился по ним метлой, но они просачивались назад, как жидкая грязь. Когда-то все они были удальцы, за четверть века поседели и облысели, одрябли и раздались, охромели либо лишились нескольких пальцев на руках, но по-прежнему наглы, как сатрапы, и ума с годами не нажили. А теперь подрастают щенки из нового помета, Уэстон, Джордж Рочфорд и иже с ними. Генриху нравится держать при себе молодых, он думает, так и сам останется молод. Эти люди – старые и новые – с королем от пробуждения до сна: когда Генрих на стульчаке, когда чистит зубы и плюет в серебряный таз; они трут монарха полотенцами, зашнуровывают в дублет и шоссы, знают наперечет каждую его родинку и бородавку. Им открыты архипелаги его пота, когда Генрих возвращается с теннисного двора и сбрасывает рубашку. Они знают больше, чем нужно, столько же, сколько прачка и лейб-медик. Им известно, сколько раз в неделю король бывает у королевы в надежде ее обрюхатить и как по пятницам (когда христиане не сношаются) видит во сне фантомную женщину и оставляет пятна на простыне. За сведения они просят высокую плату: хотят встречных одолжений, хотят, чтобы на их безобразия закрывали глаза, считают себя особенными и хотят, чтобы ты это почувствовал. Он, Кромвель, умасливал и обхаживал этих людей, сколько служит у Генриха, искал подходы и предлагал компромиссы, но иногда, когда они по часу не пропускают его к королю, им трудно сдержать ухмылки. Я слишком много уступал, думает он. Теперь пусть уступают они – или я их уберу.
Теперь по утрам зябко, толстобрюхие облака вприскочку бегут по небу за королем и его спутниками, пока те едут по Гемпширу. Дорожная пыль превратилась в грязь. Они – небольшой охотничий отряд – приближаются к Фарнхему, когда их останавливает гонец: в городе чума. Генрих, бесстрашный в бою, сейчас на глазах бледнеет и поворачивает коня. Куда ехать? Куда угодно, лишь бы не в Фарнхем. Он подается вперед, снимает шляпу, обращается к королю: – Мы можем заехать в Бейзинг-хауз раньше, чем обещали, давайте я отправлю кого-нибудь предупредить Уильяма Полета. Затем, чтобы не слишком его обременять, в Элветхем на день? Эдвард Сеймур там, если у него не хватит припасов, я их раздобуду. Дав королю отъехать вперед, говорит Рейфу: – Отправь человека в Вулфхолл. Вызови мистрис Джейн. – Сюда?! – Она умеет ездить верхом. Пусть старый Сеймур даст ей хорошую лошадь. Она должна быть в Элветхеме к вечеру среды, потом будет поздно. Рейф натягивает поводья, чтобы поворотить коня. – Но, сэр. Сеймуры спросят, почему Джейн и почему срочно. И зачем нам ехать в Элветхем, если другие дома ближе. Уэстоны в Саттоне… К чертям Уэстонов, думает он, Уэстоны в мои планы не входят. – Скажи, пусть сделают это из любви ко мне. Рейф определенно думает: «Значит, хозяин все-таки решил посватать Джейн. За себя или за Грегори?» Он, Кромвель, увидел в Вулфхолле то, чего не заметил Рейф: тихая Джейн – вот кто грезится Генриху по ночам, бледная безмолвная Джейн в его постели. У мужчин бывают причуды – не беда, если Кромвель поможет королю осуществить эту. Генрих не распутник, у него было сравнительно мало любовниц. И не из тех, кто ненавидит женщину, которой попользовался. Будет писать ей стихи, а если вовремя подсказать, то и подарит ренту. Приблизит к себе ее родственников; после возвышения Анны Болейн многие семейства уверены, что высшее призвание англичанки – снискать любовь короля. Если все разыграть правильно, можно сделать Эдварда Сеймура влиятельным человеком при дворе и заполучить союзника, а союзников нам сейчас очень не хватает. На данном этапе Эдварду нужен совет – у Кромвеля делового чутья куда больше. Он не позволит Джейн продаться задешево. Но как поведет себя королева Анна, если Генрих сделает фавориткой придворную девицу, которую она высмеивала, называла плаксой и бледной немочью? Что противопоставит покорности и молчанию? Припадки ярости тут, очевидно, не помогут. Анна должна будет спросить себя, что в Джейн есть такого, чего нет у нее. Задуматься. А смотреть, как Анна думает, всегда приятно. В Вулфхолле, когда королева туда добралась, она была с ним чрезвычайно мила: брала под руку, болтала по-французски о пустяках. Как будто не сказала несколько недель назад, что хотела бы отрубить ему голову, как будто то была самая невинная фраза. На охоте лучше держаться у королевы за спиной. Анна стреляет быстро, но не всегда метко. Этим летом попала из арбалета в корову. Генриху пришлось заплатить.
Впрочем, всё пустяки. Королевы приходят и уходят – так учит недавняя история. Давай-ка подумаем лучше, чем оплатить непомерные королевские расходы. Где взять деньги на бедных и на судей, на то, чтобы уберечь Англию от врагов. С прошлого года он точно знает ответ: раскошелиться должны монахи, эти бесполезные нахлебники. Отправляйтесь по аббатствам и монастырям во всех концах королевства, сказал он своим инспекторам, задайте там вопросы, которые получите от меня, общим числом восемьдесят шесть. Меньше говорите, больше слушайте, а выслушав, потребуйте счета. Поговорите с монахами и монахинями об их жизни и об уставе. Мне безразлично, считают они, что мы спасаемся только Христовой кровью или нашими добрыми делами отчасти тоже. Ладно, не безразлично, но прежде я хочу знать, каковы их доходы, ренты и земельные владения, а также, буде король как глава церкви пожелает вернуть себе свое достояние, каким образом это лучше осуществить. Не ждите теплого приема, говорит он. Монахи постараются к вашему приезду спрятать доходы. Узнайте, какие у них есть мощи и местночтимые святыни, сколько пожертвований они собирают в год – ведь все эти деньги заработаны трудами суеверных паломников, которым лучше бы сидеть по домам. Дознайтесь, что они думают о Екатерине, о леди Марии, как относятся к Папе, ведь если капитулы их орденов находятся вне нашего острова, разве они не обязаны большей верностью некой иноземной державе? Разъясните им, чем это чревато. Скажите, что мало на словах засвидетельствовать верность королю, пусть докажут ее на деле, а лучшее доказательство – их готовность облегчить вашу работу. Инспекторы не посмеют его обманывать, но на всякий случай он посылает их по двое: один будет приглядывать за другим. Монастырские казначеи станут предлагать взятки, чтобы инспекторы в отчетах занизили их доходы. Томас Мор, когда сидел в Тауэре, сказал ему: – Что у вас на очереди, Кромвель? Вы собрались развалить всю Англию. Он ответил: – Не дай мне Бог дожить до того, что я начну не строить, а рушить. Невежды говорят, будто король уничтожает церковь. Нет. Он ее обновляет. Поверьте, страна станет лучше, когда очистится от ханжей и лжецов. Только вы, если не проявите больше учтивости к королю, этого не увидите. И не увидел. Ему не жаль, что так вышло, обидно лишь, что Мор не внял логике. Он, Кромвель, составил клятву, в которой провозглашается супрематия короля над церковью. Эта клятва – свидетельство верности. В жизни мало простого, но тут все просто. Если ты отказываешься принести клятву, значит, признаешь себя изменником, бунтовщиком. Мор отказался. Что тому оставалось, кроме как умереть? Кроме как дошлепать по-утиному до эшафота мокрым июльским днем, когда дождь лил без остановки и ненадолго перестал только под вечер, слишком поздно для Мора, который умер в хлюпающих башмаках, в чулках, заляпанных грязью до колен? Нельзя сказать, что он болезненно чувствует отсутствие Мора, просто иногда забывает, что того нет. Словно они беседовали, и разговор прервался, он говорит, а никто не отвечает. Как если бы они шли рядом и Мор провалился в яму – дорожную яму в человеческий рост, по края заполненную водой. Такое бывает. Дороги разверзаются под ногами, люди гибнут. Англии нужны хорошие дороги, прочные мосты. Он готовит билль о бездомных: надо приставить их к работе, пусть строят дороги, порты, крепостные стены против императора и других охотников поживиться английским добром. Мы будем платить им, мы найдем деньги, если введем налог на доходы богачей, мы дадим этим людям кров, лекарей, пропитание. Вся страна будет пользоваться плодами их трудов, а бедняки, получив работу, не сделаются сводниками, грабителями, карманниками. Да, их отцы были сводники, грабители, карманники, но это ничего не значит. Поглядите на него. Разве он – Уолтер Кромвель? За одно поколение все может измениться. Что до монахов, он, как и Мартин Лютер, уверен: монашеская жизнь не нужна, не полезна, не предписана Христом. Монастыри – не часть естественного Божьего порядка, они возникают и умирают, как любые другие институции. Иногда рушатся их стены, иногда хозяйство чахнет по нерадению. Многие исчезли совсем, или переведены в другое место, или влились в более крупные монастыри. Число монахов убывает, поскольку теперь добрый христианин живет в миру. Возьмем Беттлское аббатство. Две сотни монахов в пору расцвета, а сколько теперь? От силы сорок. Сорок раскормленных толстяков сидят на груде сокровищ. И то же самое по всему королевству. Огромные богатства похоронены в сундуках, хотя могли бы с пользой обращаться среди королевских подданных. Комиссионеры пишут письма, шлют монастырские манускрипты, где записаны сказки о духах и проклятиях, призванные держать в страхе простой люд. Есть реликвии, которые вызывают и прекращают дождь, не дают расти сорнякам или лечат болезни скота, и монахи не одалживают их по-соседски, а предоставляют за плату: старые кости, щепки, гнутые гвозди. Он рассказывает королю и королеве, что2 его люди нашли в графстве Уилтшир. – У монахов Мейден-Бредли есть лоскуты Господнего платья и объедки от Тайной вечери. Ветки, которые расцветают на Рождество. – Последнее возможно, – благочестиво говорит король. – Вспомните терновник из Гластонбери. – У приора шесть сыновей, и он держит их при себе в качестве слуг. В свое оправдание говорит, что не путается с замужними женщинами, только с девицами, а когда они забеременеют, находит им хороших мужей. Клянется, что у него есть документ с папской печатью – разрешение на блуд. – А показать документ может? – хихикает Анна. Генрих возмущен: – Гнать его взашей. Такие люди порочат монашеское звание. Неужто король не знает, что эти глупцы с выбритой тонзурой обычно хуже других людей? Бывают хорошие монахи, но они, увидев иноческие идеалы вблизи, обычно сбегают в мир. Наши деды вооружались косами и вилами и шли против монахов, как против иноземных захватчиков, грозили спалить монастырь, требовали податные списки и кабальные документы, а получив, бросали их в огонь и говорили: нам всего-то и надо, что немного свободы; немного свободы и чтобы к нам относились как к англичанам, после всех столетий, когда нас держали за скотов. Сообщают и о более гнусных делах. Он, Кромвель, говорит своим посланцам: просто объявите, объявите громко. Один монах – одна постель, в одной постели – один монах. Неужто так трудно утерпеть? Умудренные жизнью объясняют ему: этот грех неистребим, если мужчин не пускать к женщинам, те примутся за молоденьких послушников. Но разве им не положено смирять плоть? Что толку в молитве и посте, если это оружие бессильно против козней лукавого? Король согласен, что есть изъяны, говорит, возможно, надо объединять мелкие обители, ведь и кардинал этим занимался, пока был жив. Но уж, конечно, крупные монастыри сами наведут у себя порядок? Возможно, отвечает он. Король набожен и боится перемен; хочет, чтобы церковь реформировалась, стала безупречной; а еще хочет денег. Однако Генрих рожден под знаком Рака и к цели подбирается по-крабьи, бочком. Он, Кромвель, наблюдает за королем, пока тот проглядывает отчеты. Это не те доходы, которые выручат казну. Рано или поздно Генрих задумается о крупных монастырях, о жирных аббатах, ублажающих свое брюхо. Попробуем заронить эту мысль. Он говорит: я часто сидел за монастырскими столами, где приор клюет финики и изюм, а монахи изо дня в день видят одну селедку. Думает: будь моя власть, я бы освободил их для лучшей жизни. Они говорят, что ведут vita apostolica, но апостолы не щупали друг другу яйца. Пусть все, кто хочет уйти, уйдут. Кто рукоположен, пусть трудится в приходах. Все, кто моложе двадцати четырех, юноши и девушки, пусть возвращаются по домам. Рано им связывать себя обетами до конца дней. Он думает вперед: если король получит монастырские земли, и не часть, а все, то станет в три раза богаче и сможет не вымаливать подаяния у парламента. Грегори смеется: – Говорят, если аббат Гластонбери спознается с аббатисой Шефтсбери, их дети будут самыми богатыми землевладельцами в Англии! – Охотно верю. А впрочем, ты видел аббатису Шефтсбери? Грегори пугается: – Нет. А надо? Все их с сыном разговоры заходят куда-то не туда. Он вспоминает детство, отца, себя: один рычит, другой огрызается. – Сможешь посмотреть на нее, если захочешь. У меня в Шефтсбери есть важное дело, надо туда съездить. В Шефтсбери кардинал Вулси поместил свою дочь. – Запиши для памяти, Грегори, чтобы я не забыл: «Проведать Доротею». Грегори изнывает от желания спросить: «Кто такая Доротея?» Вопросы один за другим читаются на лице мальчика, и последний: «Она хорошенькая?» Он смеется: – Не знаю. Отец ее никому не показывал. Однако он убирает улыбку с лица, когда говорит Генриху: из всех треклятых изменников монахи – самые упрямые. Грозишь таким: «Вы у меня поплачете», отвечают, что родились для слез и скорбей. Иные готовы стоять у позорного столба или идти с молитвой на Тайберн. Он говорил им, как прежде Томасу Мору: речь не о вашем Боге, не о моем Боге, вообще не о Боге. Речь о том, кто для вас главнее: Генрих Тюдор или Алессандро Фарнезе. Король Англии или чужеземец, погрязший в немыслимых пороках? Они отворачивались, не слушали, умирали без звука, когда палач вырезал из груди их лживые сердца.
Когда он наконец въезжает в ворота своего лондонского дома, навстречу выбегают слуги в долгополых ливреях серого мраморного сукна. По правую руку от него Грегори, по левую – Гемфри, псарь, которому поручена забота о его охотничьих спаниелях (за разговором с Гемфри последние мили пути прошли незаметно), сзади его сокольники, крепкие молодцы Хью, Джеймс и Роджер, зорко смотрят, чтобы народ не напирал. Перед воротами толпа ждет милостыни. У Гемфри и остальных наготове кошельки. Сегодня после ужина, как всегда, будут раздавать еду. Терстон, его главный повар, говорит, они кормят две сотни лондонцев два раза в день. Он видит в толпе сгорбленного рыдающего человечка, едва стоящего на ногах. Щуплая фигурка на миг исчезает в давке, затем появляется вновь, и кажется, будто бедолагу несет к воротам ток собственных слез. – Гемфри, узнай, из-за чего плачет тот человек, – говорит он. И тут же забывает в кутерьме домочадцев. Собачонки мельтешат под ногами, он сгребает их в охапку, спрашивает, как дела, они ластятся и виляют хвостом. Слуги обступили Грегори, восхищенно оглядывают от сапог до шляпы – молодого господина все любят за мягкий нрав. «Хозяин!» – племянник Ричард стискивает его в медвежьих объятиях. Ричард – серьезный юноша с кромвелевским взглядом, прямым и жестоким, с кромвелевским голосом, умеющим и ласкать, и возразить. Он не боится ничего на земле и под землей – если в Остин-фрайарз объявится демон, Ричард спустит его с лестницы пинком под волосатый зад. Племянницы-молодки распустили шнуровку на беременных животах. Он целует обеих, они мягкие, пахнут имбирными леденцами. На него вдруг накатывает тоска… по чему? По отзывчивому на ласки телу, по утренним разговорам о пустяках. Надо быть осторожнее с женщинами, не давать врагам повода для пересудов. Даже король осторожен: не хочет, чтобы в Европе его называли Гарри Греховодником. Может, оттого и предпочитает любоваться недоступной пока мечтой – мистрис Джейн. В Элветхеме Джейн была как цветок, как зелено-белый морозник с поникшей головкой. В доме брата король похвалил ее перед всей семьей: «Милая, скромная, стыдливая девица, каких нынче мало». Томас Сеймур всегда норовит встрять в разговор допрежь старшего брата. – По части благочестия и скромности у Джейн соперниц мало. Он, Кромвель, приметил, как брат Эдвард прячет улыбку. Сеймуры наконец-то поняли, куда дует ветер, хотя еще не очень верят своему счастью. Томас Сеймур сказал: – Даже будь я королем, мне бы не хватило духу зазывать в постель такую, как сестрица Джейн. С чего начать? Вот вы бы решились? И зачем? Это ж все равно что целовать камень! Пока будешь ворочать ее на перине, все хозяйство от холода занемеет. – Брат не может вообразить сестру в объятиях мужчины, – говорит Эдвард Сеймур. – По крайней мере если он – христианин. Хотя при дворе болтают, что Джордж Болейн… – Обрывает себя, хмурится. – И уж конечно, король умеет найти галантный подход к девице. Он знает, что сказать. А ты, братец, нет. Том Сеймур только лыбится. Однако Генрих так ничего до отъезда не сказал: сердечно распростился со всем семейством, ни словом не упомянув Джейн. Она напоследок шепотом спросила его: – Мастер Кромвель, зачем я здесь? – Спросите у своих братьев. – Мои братья говорят, спроси у Кромвеля. – Так для вас это полная загадка? – Да. Разве что меня наконец выдают замуж. Меня выдают за вас? – Мне придется отказаться от этой мысли. Стар я для вас, Джейн. Я бы мог быть вашим отцом. – Правда? – удивляется Джейн. – Что ж, в Вулфхолле бывало и не такое. Я даже не догадывалась, что вы знали мою мать. Мгновенная улыбка, и Джейн исчезает, а он смотрит ей вслед с мыслью: мы могли бы пожениться, я бы сохранял живость ума, постоянно гадая, что она истолкует не так. Интересно, она это нарочно? Впрочем, теперь я могу получить ее только после Генриха, а я однажды дал себе слово не подбирать женщин, которыми тот попользовался. Наверное, подумалось ему тогда, надо составить для Сеймуров памятку: какие подарки Джейн может принимать. Правило несложное: драгоценности – да, деньги – нет. И до заключения сделки ничего из одежды при Генрихе не снимать. Даже, он бы посоветовал, перчаток.
Недоброжелатели называют его дом Вавилонской башней. Говорят, у него есть слуги из всех уголков мира, кроме Шотландии, так что шотландцы вечно обивают порог кромвелевского дома в надежде получить работу. Джентльмены и даже аристократы, английские и европейские, уговаривают его взять к себе их сыновей, и он берет столько, сколько сможет обучить. Каждый день в Остин-фрайарз пяток немецких ученых разбирают письма от своих соотечественников-евангелистов, и каждый из пятерых говорит на своем диалекте. За обедом молодые кембриджцы перебрасываются греческими цитатами; он, Кромвель, помог им учиться, теперь они помогают ему. Иногда на ужин заглядывают итальянские купцы, и он болтает с ними на языках, которые выучил, исполняя поручения банкиров в Венеции и Флоренции. Служащие его соседа Шапюи хохочут, что объедают и опивают Кромвеля, сплетничают на испанском и на фламандском. Сам он говорит с Шапюи на французском, родном языке посла; на другой версии французского, простонародной, отдает приказания Кристофу, коренастому маленькому разбойнику, увязавшемуся за ним в Кале. Кристофа нельзя отпускать ни на шаг, потому что где Кристоф, там и драки. Надо наверстать целое лето сплетен, проверить счета, траты и доходы от своих домов и земель. Но прежде всего он идет на кухню к главному повару. Сейчас послеобеденное затишье: вертела вычищены, котлы отдраены и составлены один в другой, пахнет гвоздикой и корицей, Терстон стоит у посыпанной мукой доски и глядит на ком теста, как на голову Крестителя. На тесто ложится тень. «Пшел вон! Чернила прежде с пальцев отмой! – орет повар. Затем другим голосом: – А! Вы, сэр. Вовремя. Мы вас ждали раньше, наготовили пирогов с дичью, пришлось скормить их вашим друзьям, не то бы испортились. Мы бы вам их отправили, да вас поди поймай». Он протягивает руки, показывает, что на них нет чернил. – Не серчайте, сэр. Просто с утра юный Томас Авери сует нос в припасы, хочет все взвесить. Потом мастер Рейф: Терстон, у нас будут датчане, что ты приготовишь для датчан? Следом врывается мастер Ричард, едут посланцы от Лютера, какими пирогами лучше кормить немцев? Он трогает тесто, спрашивает: – Это для немцев? – Для кого бы ни было, получится хорошо – съедите. – Айву собрали? Чуют мои кости, скоро заморозки. – Вы б себя послушали. Говорите, будто ваша бабка. – Я ее не знал. А ты? Терстон хмыкает: – Приходская пьянчужка? Очень может быть. Выкормить его отца Уолтера и не спиться – это надо быть святой. Терстон говорит, как будто его только что осенило: – У человека ведь две бабки. Вы по матери кто, сэр? – Ее семья была с севера. Терстон ухмыляется: – Ага, из пещер. Знаете, что говорит молодой Фрэнсис Уэстон? Тот, что прислуживает королю. Его люди распускают слухи, будто вы – жид. Он сопит; о таком ему говорят не в первый раз. – Следующий раз как будете при дворе, – советует Терстон, – выложите своего одноглазого на стол и посмотрите, что скажет Уэстон. – Обязательно выложу, как только надо будет оживить разговор. – Вообще-то… – Терстон мнется. – Вы ведь и правда жид, сэр, поскольку ссужаете деньги под проценты. Под растущие проценты, в случае Уэстона. Он вновь трогает тесто – вроде немного твердовато? – А что говорят на улицах? – Говорят, старая королева больна. – Терстон ждет, но его хозяин взял пригоршню коринки и ест ягоды одну за одной. – Я слышал, она болеет сердцем. Говорят, она прокляла Анну Болейн, так что та не может родить мальчика. Или если родит, то не от короля. Говорят, у Генриха есть другие женщины и будто бы Анна бегает за ним по спальне с овечьими ножницами, грозится его охолостить. Королева Екатерина, как все жены, закрывала глаза на его измены, но Анна не хочет терпеть, обещает, что он поплатится. А какая будет лучшая месть? – Терстон смеется. – Наставить Генриху рога и посадить на престол своего ублюдка. Ох уж эти лондонцы, что ни человек, то глубокий ум – глубокий, как выгребная яма. – А говорят, кто будущий отец ее ребенка? – Томас Уайетт? – предполагает Терстон. – Она к нему благоволила до того, как стать королевой. Или ее прежний любовник Гарри Перси… – Перси же у себя в Нортумберленде, разве нет? Терстон закатывает глаза: – Что ей расстояние? Захочет – свистнет и перенесет его по воздуху. Да она одним Гарри Перси не удовольствуется. Говорят, у нее перебывали все королевские джентльмены. Она ждать не любит, так что они все стоят у двери в рядок, наяривают свое добро, пока она не крикнет: «Следующий!» – И они входят. Один за другим. – Он смеется. Доедает с ладони последнюю изюмину. – Добро пожаловать назад в Лондон, – говорит Терстон. – Мы тут верим всему на свете. – Помню, вскоре после коронации Анна созвала своих приближенных и слуг, мужчин и женщин, и прочла им наставление, как себя вести: играть только на фишки, срамных слов не говорить, тела не заголять. Согласен, теперь все не так строго. – Сэр, – говорит Терстон, – у вас мука на рукаве. – Ладно, пойду наверх, буду заседать в совете. Смотри не запоздай с ужином. – Когда это я запаздывал? – Терстон заботливо стряхивает с него муку. – Хоть раз такое было?
Совет не государственный, а семейный, и заседают в нем Рейф Сэдлер и Ричард Кромвель, сообразительные, умеющие быстро сосчитать, быстро найти ошибку, быстро ухватить суть. И еще Грегори. Его сын. В этом сезоне юноши ходят с сумками мягкой кожи, как у агентов банка Фуггера, которые колесят по всей Европе и задают моду. Сумки в форме сердца, и ему всегда кажется, что молодые люди идут к возлюбленным, но те клянутся, что ничего подобного. Племянник Ричард Кромвель ехидно глядит на сумки. Сам Ричард, как и дядя, все ценное носит ближе к телу. – А вот и Зовите-Меня, – говорит племянник. – Только гляньте, что за перо у него на шляпе! Томас Ризли входит, оставляя за дверью помощников. Это рослый красавец с темно-рыжими волосами. Его отец и дед носили фамилию Рит, но сочли, что она чересчур проста; оба служили в геральдической палате, так что имели возможность превратить обычных предков в благородных, а простую фамилию – в более звучную, хотя длинное «Риотеслей» быстро сократилось до «Ризли». Перемена вызвала много шуток; в Остин-фрайарз к Томасу приклеилось прозвище Зовите-Меня. За последнее время тот стал отцом, отрастил бородку и вообще с каждым годом выглядит все солиднее и солиднее. Зовите-Меня кладет сумку на стол, садится в кресло, спрашивает: – Как дела у Грегори? Грегори расцветает – мальчик редко удостаивается приветливых слов от своего кумира. – У меня все прекрасно. Все лето я охотился, а сейчас вернусь в дом к Уильяму Фицуильяму. Этот джентльмен приближен к королю, и отец считает, мне надо у него поучиться. Фиц меня любит. – Фиц! – прыскает Ризли. – Ах уж эти Кромвели! – А он зовет моего отца Сухарем. – Не перенимайте эту манеру, Ризли, – добродушно говорит он. – Или по крайней мере не зовите меня так в лицо. Хотя я только что с кухни, и королеву там называют куда худшими словами. Ричард говорит: – Это все женщины сочиняют гнусные сплетни. Они не любят разлучниц и желают Анне зла. – Когда мы уезжали, она была костлява, – неожиданно говорит Грегори. – Локти, углы и колючки. А сейчас стала поглаже. – Да. – Он удивлен, что юноша это заметил. Семейные мужчины, опытные, приглядываются к Анне – не располнела ли – внимательнее, чем к собственным женам. За столом общее оживление. – Что ж, увидим. Они были вместе не все лето, но, насколько я могу судить, достаточно долго. – Хорошо, коли так, – говорит Ризли. – Сколько лет король ждет, что его жена исполнит свой долг? Анна обещала сына, если он на ней женится, и теперь, думаешь, стал бы король добиваться ее с тем же упорством, если пришлось бы все повторить снова? Ричард Рич заявляется последним, бормочет извинения. Этот Ричард тоже без сумки в форме сердца, хотя в свое время непременно завел бы пяток, разного цвета. Сколько изменений за десять лет! Рич когда-то был студентом-правоведом худшего сорта, из тех, кто шляется по злачным местам, где юристов зовут кровососами, и потому вынужден лезть в драки, кто возвращается в Темпл под утро, дыша винными парами, в изорванной одежде, кто с воплями гоняет терьеров по полям у Линкольн-Инн. Теперь Рич остепенился, служит у лорда-канцлера Томаса Одли, постоянно бывает у Томаса Кромвеля по делам своего патрона. Мальчишки зовут его сэр Кошель, говорят, Кошель-то наш толстеет. На плечах Рича лежат государственные обязанности и забота о растущем семействе; когда-то он был хорош, как вербный херувим, теперь немного запылился. Кто бы думал, что этот шалопай станет генеральным стряпчим? Однако у него хорошая голова, и когда нужен дельный юрист, Рич всегда под рукой. – Книга Гардинера не отвечает вашим целям, – начинает Рич. – Сэр… – Она не во всем плоха. О королевской власти мы думаем одинаково. – Да. Но… – Я счел нужным процитировать ему этот текст: «Где слово царя, там и власть; и кто речет ему “что твориши”?» Рич поднимает брови: – Парламент, конечно. Ризли говорит: – Уж мастер Рич нам точно расскажет, что может парламент. Именно на вопросе о власти парламента Рич поймал Томаса Мора, завлек в ловушку, заставил произнести изменнические слова. Никто не знает, что именно прозвучало в камере; Ричард вышел из Тауэра красный до ушей, не смея верить своему счастью, и отправился прямиком к нему, Томасу Кромвелю, а тот ответил спокойно: да, это годится, теперь он наш, спасибо. Спасибо, Кошель, поздравляю, молодец. Теперь Ричард Кромвель подается к своему тезке: – Скажи нам, дружок Кошель, может ли парламент вложить наследника в живот королеве? Рич слегка розовеет; из-за тонкой кожи он в свои почти сорок не утратил способности краснеть. – Я не говорил, будто парламент может то, чего не может Бог. Я сказал, он может больше, чем дозволяет Томас Мор. – Мученик Мор, – говорит он. – Из Рима пишут, что его и Фишера прославят в лике святых. Мастер Ризли смеется. – Согласен, что это смешно. – Он быстро смотрит на племянника: довольно пока о королеве, ее животе и других органах. Ричард Кромвель кое-что знает, с его слов, о событиях в Элветхеме, в доме Эдварда Сеймура. Когда король внезапно изменил маршрут, Эдвард расстарался и устроил ему роскошный прием. Однако Генрих в ту ночь не мог уснуть и отправил щенка Уэстона разбудить государственного секретаря. Пляшущий огонек свечи, непривычная комната. «Боже, который час?» Шесть утра, злорадно ответил Уэстон, вы заспались. На самом деле не было четырех, еще не начало светать. В комнате с открытым ставнем, под взглядом одних лишь звезд (Генрих не начинал разговор, пока Уэстон не закрыл за собой дверь – спасибо и на том), взволнованный шепот: «Кромвель, а что, если бы?.. Что, если бы я боялся, если бы начал подозревать в моем браке с Анной какой-то изъян, какое-то нарушение, неугодное Всемогущему Богу?» Десяти лет как не бывало: он кардинал, слушающий те же слова, только королеву тогда звали Екатериной. – Но какое нарушение? – устало спрашивает он. – Что это может быть, сэр? – Не знаю, – шепчет король. – Сейчас не знаю, но, возможно, оно есть. Разве она не была помолвлена с Гарри Перси? – Нет, сир. Он поклялся на Библии, что не была. Ваше величество слышали своими ушами. – Но ведь вы, Кромвель, его заставили, разыскали в каком-то жалком кабаке, схватили за грудки, стукнули по голове кулаком. – Нет, сэр. Я не позволил бы себе так обойтись ни с одним пэром королевства, тем паче с графомНортумберлендом. – Ладно, рад слышать. Мне могли неправильно передать частности. Но в тот день граф сказал то, что, по его мнению, я хотел услышать. Что между ним и Анной ничего не было, никаких обещаний пожениться, а уж тем более супружеской близости. Что, если он солгал? – Под присягой, сэр? – Вы очень грозны, Сухарь, глядя на вас, человек может позабыть об учтивости перед Богом. Что, если он солгал? Что, если Анна заключила с Перси контракт, равноценный законному браку? Если так, она не имела права выходить за меня. Он молчал, но видел, как мысли ворочаются у Генриха в голове; его собственные мысли мчали вспугнутыми оленями. – И у меня подозрения, – продолжал король, – большие подозрения насчет нее и Томаса Уайетта. – Нет, сэр, – с жаром отвечает он, не задумываясь. Уайетт – его друг. Отец – сэр Генри Уайетт – поручил ему заботу о мальчике. Томас уже не мальчик, но все равно. – Вы говорите «нет». – Генрих наклоняется к нему. – Но разве Уайетт не потому сбежал в Италию, что Анна была к нему жестока, а он не находил покоя, покуда мог на нее смотреть? – Ну вот, вы сами сказали, ваше величество. Она была к нему жестока. Если бы она уступила его любви, он бы остался. – Однако я не могу знать наверняка, – упорствует Генрих. – Может, она отказала ему один раз, но уступила в другой? Женщины слабы и падки на лесть. Особенно когда мужчины пишут им стихи, а некоторые говорят, что стихи Уайетта лучше моих, хоть я и король. Он только моргает. Ночь-полночь, все люди спят. Можно назвать это невинным тщеславием, но не в четыре же часа утра! – Ваше величество, не тревожьтесь. Если бы Уайетт хоть в чем-нибудь нарушил безупречное целомудрие этой дамы, он бы не преминул раструбить о своей победе. В стихах и в прозе. Генрих только сопит, но он, Кромвель, поднимает глаза: за окном скользит щегольская тень Уайетта, закрывает холодные звезды. Прочь, призрак! Это шутки фантазии: кто поймет Уайетта, кто отпустит ему грехи? Король говорит: – Ладно. Возможно. Даже если она уступила Уайетту, это не препятствие к нашему браку, поскольку контракта между ними быть не могло: Уайетта женили мальчишкой, и он не имел права ничего Анне обещать. Однако это значило бы, что она меня обманула: сказала, что легла в мою постель девственницей, хотя на самом деле это не так. Вулси, где вы? Вы слышали все то же самое много лет назад. Посоветуйте, как быть. Он встал, направляя разговор к завершению: – Сказать, чтобы вам чего-нибудь принесли? Чего-нибудь, что поможет вам вновь уснуть на час или на два? – Мне нужно что-нибудь против тягостных снов. Не знаю, что именно. Я советовался по этому поводу с епископом Гардинером. Он постарался не показать, что неприятно изумлен. С Гардинером? У меня за спиной? – И Гардинер ответил, – продолжал король (лицо – аллегория скорби), – что сомнений в этом деле довольно много, но что если брак незаконен, если я вынужден буду расторгнуть союз с Анной, то мне надо вернуться к Екатерине. А я не могу, Кромвель. Я не прикоснусь к этой дряблой старухе, хоть бы против меня ополчился весь христианский мир. – Что ж, – ответил он, глядя в пол, на большие белые ноги Генриха, – думаю, все не так плохо, сэр. Не буду утверждать, что понял доводы Гардинера, но епископ, разумеется, разбирается в каноническом праве лучше меня. Впрочем, я не верю, что вас можно к чему-либо принудить или в чем-либо ограничить, поскольку вы хозяин в собственной семье, в собственной стране, в собственной церкви. Возможно, Гардинер всего лишь подготовил вас к возражениям, которые выдвинут другие. А может, просто хотел, чтобы вы ночами просыпались в холодном поту. На Гардинера похоже. Однако Генрих уже выпрямился. – Я могу делать, что мне угодно, – объявил монарх. – Господь не попустит, чтобы мои желания противоречили Его замыслам или чтобы мои замыслы шли вразрез с Его волей. – На лице промелькнуло хитроватое выражение. – Вот и Гардинер так сказал. Генрих зевнул: пора уходить. – Сухарь, вы не слишком презентабельно выглядите, когда кланяетесь в ночной рубашке. Будете готовы выехать в семь или оставить вас здесь и встретимся за ужином? Если вы будете готовы, буду готов и я, думал он, шлепая обратно в спальню. Скоро рассвет; вспомните ли вы о нашем разговоре? Кони будут бить копытами, фыркать, встряхивать гривой. Ближе к полудню встретимся с королевой и ее свитой. Анна будет щебетать, сидя на охотничьем скакуне, и не узнает (если только дружок Уэстон ей не шепнет), что вчера в Элветхеме король весь вечер смотрел на следующую пассию: Джейн Сеймур, которая, не поднимая глаз, методично кушала цыпленка. Грегори только глазами хлопал: «Что это мистрис Сеймур так много ест?» А теперь лето кончилось. Вулфхолл, Элветхем растаяли в дымке. Государевы страхи и сомнения – тайна за печатью на его устах. Осень, он в Остин-фрайарз, слушает, опустив голову, придворные новости, смотрит, как Рич теребит шелковую завязку на документе. – Их слуги задирают друг друга на улице, – говорит племянник Ричард. – Прикладывают палец к носу, выкрикивают оскорбления, хватаются за кинжалы. – Чьи слуги, извини? – спрашивает он. – Николаса Кэрью. Задирают слуг лорда Рочфорда. – Лишь бы не во дворце, – резко говорит он. Тому, кто обнажит клинок в королевском жилище, отрубают правую руку. Собирается спросить: «Что они не поделили?» – но тут же меняет вопрос: «Что стало поводом?» Ибо вообразите Кэрью, старейшего из королевских друзей, глубоко преданного королеве, узколицего и серьезного. Представьте себе этот образчик куртуазности, прямиком из рыцарской баллады. Мудрено ли, что сэр Николас, воспитанный в строгих приличиях и ждущий того же от других, не приемлет амбиций выскочки Болейна. Сэр Николас – папист до кончиков шпор; то, что Джордж поддерживает реформатов, ему как кость в горле. Им есть за что друг друга ненавидеть, но что стало причиной конкретной ссоры? Может, Джордж со своими беспутными друзьями буянил под дверью у сэра Николаса, когда тот был занят ответственным делом – любовался собой в зеркале? Он прячет улыбку: – Рейф, поговори с обоими джентльменами. Пусть держат своих псов на поводке. – И добавляет: – Хорошо, что ты об этом сказал. Ему всегда интересно знать о ссорах между придворными. Вскоре после того, как Анна стала королевой, ее брат вызвал его к себе и дал указания, как вести себя впредь. Джордж Болейн щеголял новой золотой цепью. Он мысленно взвесил ее, мысленно снял с молодого Болейна джеркин, распорол, свернул ткань в рулон и оценил – кто торговал сукном, сохраняет наметанный глаз, а тот, кому поручено пополнить казну, быстро научается считать деньги в чужом кармане. Молодой Болейн заставил его стоять, а сам расположился в единственном кресле. – Не забывайте, Кромвель: вы хоть и советник короля, но не джентльмен по рождению. Говорите, когда вас просят, когда не просят – молчите. Не встревайте в дела высших. Королю угодно часто приглашать вас к себе, но извольте помнить, кто ввел вас во дворец. Занятная у Джорджа Болейна версия. Он, Кромвель, всегда думал, что Вулси его обучил, Вулси приблизил к трону, Вулси сделал тем, кто он теперь, но Джордж утверждает: нет, Болейны. Очевидно, он еще не выказал должной признательности, так что выказывает сейчас, говорит: да, сэр, конечно, сэр, вижу, вы рассудительны не по годам, сэр. Даже ваш отец монсеньор граф Уилтшир и ваш дядюшка Томас Говард герцог Норфолк не смогли бы наставить меня лучше. – Спасибо за вашу доброту, сэр, отныне я буду вести себя смиреннее. – Ну то-то, – смягчился Джордж. Он улыбается, вспоминая тот разговор, смотрит в список того, что хотел обсудить, – остались ли еще пункты? Грегори не может сидеть спокойно: то на кузена Ричарда глянет, то на отца, то на Зовите-Меня-Ризли, то на других джентльменов. Ричард Рич хмурится над бумагами, Зовите-Меня крутит в руке перо. Скользкие люди эти двое, Ризли и Рич, и кое в чем схожи: простукивают стену собственной души: что там за глухой звук? Однако он должен находить королю новых даровитых помощников, а они оба проворные, цепкие, не жалея сил служат короне и собственным интересам. – И последнее, пока мы не разошлись, – говорит он. – Милорд епископ Винчестерский так угодил королю, что, по моему совету, король вновь отправляет его с посольством во Францию. Ожидается, что посольство будет долгим. Все медленно расцветают улыбками. Он наблюдает за Ризли. Зовите-Меня обязан Гардинеру своим возвышением, но сейчас, судя по лицу, радуется не меньше других. Рич краснеет, вскакивает, пожимает ему руку. – Снарядите его в дорогу, – говорит Рейф, – и не пускайте обратно. Гардинер лукав. – Лукав? Его язык – трезубец для угриной охоты. Вчера он за Папу, сегодня за Генриха, завтра, помяните мое слово, вновь будет за Папу. – А можно доверить ему переговоры? – Он будет делать то, что ему выгодно, а сейчас ему выгодно угождать королю. И мы будем за ним приглядывать, приставим к нему кого-нибудь из наших людей. Мастер Ризли, вы об этом позаботитесь? Только Грегори еще сомневается. – Милорд Винчестер – посол? Фицуильям мне говорит, главное для посла – никого не раздражать. – А Стивен только и делает, что всех раздражает, – соглашается он. – Разве послу не положено быть живым и обходительным? Так говорит мне Фицуильям. Посол должен быть приятен в любом обществе, легко поддерживать беседу, располагать к себе хозяев. Так что он наведывается к ним в гости, сидит с ними за трапезой, заводит дружбу с их женами и детьми, подкупает домашних подарками и лестью. Рейф вскидывает брови: – Так тебя Фиц этому учит? Молодые люди смеются. – Все верно. Именно так должны действовать послы. Надеюсь, Грегори, Шапюи тебя еще не подкупил? Будь у меня жена, Эсташ слал бы ей сонеты и носил кости моим собакам. А, ладно… Шапюи, как ты знаешь, обходителен, не то что Стивен Гардинер. Но дело в том, Грегори, что во Франции нам нужен твердый посол, желчный и злой. А Стивен там уже был и хорошо себя показал. Французы – лицемеры, заводят с тобой фальшивую дружбу и требуют за нее денег. Понимаешь, – терпеливо объясняет он (надо же заняться обучением сына), – сейчас французы намерены отнять у императора герцогство Миланское и просят у нас средств на войну. И мы должны их поддержать, хотя бы для виду, иначе они переметнутся на сторону императора и завоюют нас. Так вот, когда они скажут: «Давайте обещанное золото», – нам нужен посол вроде Стивена, который скажет, не поведя бровью: «Золото? Просто вычтите его из прежнего долга Генриху» Франциск будет плеваться огнем, но формально мы выполним обещание. Теперь понял? Мы отправляем ко французскому двору самых свирепых наших бойцов. Вспомни, когда-то послом в Париже был милорд Норфолк. Грегори кивает изо всех сил: – Всякий чужестранец испугается Норфолка. – Всякий англичанин тоже. И правильно сделает. Так вот, герцог вроде тех исполинских пушек, что есть у турок. Дыма и грохота много, но до следующего выстрела она должна три часа остывать. А епископ Гардинер может палить через каждые десять минут, с рассвета до заката. – Однако, сэр, если мы пообещаем им денег, а потом не заплатим, что они сделают? – К тому времени, надеюсь, мы с императором вновь будем лучшими друзьями. – Он вздыхает. – Это старая игра, и мы обречены в нее играть, покуда я не придумаю что-нибудь получше. Или король не придумает. Слышал о недавней победе императора? О взятии Туниса? – Весь мир только об этом и говорит, – отвечает Грегори. – Каждый христианский рыцарь мечтал бы там оказаться! Он пожимает плечами: – Время покажет, насколько славной была победа. Барбаросса найдет другой порт, из которого будут совершать пиратские набеги. А вот турки на время притихнут, так что император может не думать о них и напасть на наши берега. – А как мы его остановим? – испуганно спрашивает Грегори. – Надо, наверное, вернуть королеву Екатерину? Зовите-Меня смеется: – Грегори начинает понимать сложности нашего ремесла, сэр. – Мне больше нравилось, когда мы говорили про нынешнюю королеву, – тихонько произносит Грегори. – И я первый заметил, что она округлилась. Зовите-Меня говорит ласково: – Мне не следовало смеяться. Ты прав, Грегори. Все наши труды, все наши ухищрения, все наши знания, истинные и показные, все государственные стратагемы, все постановления юристов и проклятия церковников, все вердикты судов, мирских и священных, – все вместе и каждое по отдельности побеждается женским телом. Бог мог бы сделать их животы прозрачными, избавив нас от страхов и ложных надежд, но, возможно, то, что растет, должно расти в темноте. – Говорят, Екатерина болеет, – говорит Ричард Рич. – Если она умрет в этом году, хотел бы я знать, что будет с миром.
Однако послушайте, мы засиделись в доме! Давайте выйдем и прогуляемся по садам Остин-фрайарз, гордости секретаря государственного совета. Он хочет выращивать цветы, которые видел в странствиях, сочные заморские плоды, поэтому все время просит послов присылать ему с дипломатической почтой саженцы. Молодые клерки стоят рядом, готовые взяться за расшифровку, а из пакета выпадает ком земли с корнями, благополучно пережившими путешествие через Дуврский пролив. Он хочет, чтобы черенки принимались, чтобы молодые люди были здоровы и веселы. Поэтому он выстроил теннисный корт в подарок Грегори, Рейфу и всем молодым людям, живущим в доме. Он и сам не прочь сыграть… «если найду хромого соперника», – его обычные слова. В игре едва ли не главное – тактика, а он подволакивает ногу и должен полагаться больше на умение, чем на скорость. И все равно Кромвель гордится своим кортом, ему приятно тратить деньги на улучшения. Недавно он беседовал со служителями королевского теннисного двора в Хэмптон-корте, узнал точные промеры и сделал у себя в точности так же. Генрих как-то обедал в Остин-фрайарз – вдруг когда-нибудь захочет сыграть там в теннис. В Италии, когда он служил у Фрескобальди, молодые люди жаркими вечерами играли на улице во что-то вроде тенниса – жё-де-пом, без ракетки, просто рукой. Они толкались, вопили, отбивали мяч от стены, перекидывали через навес перед лавкой портного, пока сам портной не выходил и не начинал браниться: «Если не будете уважать мой навес, я отстригу вам яйца и повешу перед входом на ленте». Они говорили: «Извини, хозяин, извини», и убегали играть в задний двор, но через полчаса возвращались. Ему и сейчас иногда снится стук грубо сшитого мяча о металл, ощущение плотного кожаного шара, ударяющего в ладонь. Тогда он старался бегать, чтобы разработать ногу после раны, полученной год назад при Гарильяно. Гардзони спрашивали: «Скажи, Томмазо, почему у тебя рана с задней стороны икры, ты что, убегал?» А он говорил: «Матерь Божия! Да конечно! Мне заплатили только за то, чтобы я убегал; чтобы я сражался, надо было платить больше!» После битвы французы разбежались, а он был в ту пору французом, получал жалованье от французского короля. Сперва он полз, затем ковылял; они с товарищами уносили израненные ноги от победоносных испанцев, выкарабкивались из кровавого болота на твердую почву – дикие валлийские лучники, наемники-швейцарцы и несколько английских мальчишек вроде него. Растерянные, без гроша в кармане, они кое-как приходили в себя, решали, куда идти, забирались все дальше к северу, меняли, если нужно, имена и национальность, выискивали следующую битву или работенку побезопаснее. У заднего крыльца большого городского дома эконом задавал ему вопросы: – Француз? – Англичанин. Тот закатил глаза: – И что ты умеешь? – Сражаться. – Видать, не слишком-то хорошо. – Готовить. – Нам варварская готовка ни к чему. – Подбивать счета. – Это банкирский дом, у нас счетоводов своих хватает. – Скажите, что надо, и я сделаю. (Он уже хвастается, как итальянец.) – Нам нужен работник. Как твое имя? – Геркулес, – говорит он. Эконом против воли смеется. – Заходи, Эрколь. Эрколь, хромая, переступает порог. Эконом возвращается к своим делам. Он садится на ступеньку, чуть не плача от боли. Оглядывается, но видит только пол. Пол – его мир. Он голоден, хочет пить, он в семистах милях от дома. Однако этот пол можно сделать лучше. – Святые угодники! – кричит он. – Воду сюда! Ведро! Allez, allez! Они бегут. Приносят ведро. Он улучшает пол. Он улучшает дом. Не без помех – его гоняют с кухни – пшел вон, поганый чужеземец! – где столько всего, что может служить оружием: ножи, вертела, горшки с кипятком. Однако он дерется лучше, чем можно угадать по виду: коротышка, а с ног не собьешь. И еще за ним грозная слава его соотечественников: вся Европа знает англичан как грабителей, насильников и воров. Когда ему не хватает итальянских ругательств, он пускает в ход родные, учит других слуг страшным английским богохульствам, чтобы те облегчали душу за спиной у хозяев. Когда хорошенькая девушка входит с корзинкой мокрых от росы тимьяна и розмарина, они говорят: «Здравствуй, дарлинг, как поживаешь», когда кто-нибудь не вовремя лезет под руку, цедят: «Годдем!» Вскоре он понял, что судьба привела его в дом старинной флорентийской фамилии, давшей миру не только ростовщиков и торговцев вином, шелком и шерстью, но и прославленных поэтов. Хозяин, Франческо Фрескобальди, как-то заглянул на кухню побеседовать с новым слугой. Хозяин немного говорил по-английски и не разделял общих предрассудков касательно англичан, хотя и упомянул: его предки едва не разорились из-за того, что некие давно умершие английские короли не вернули им долг. Синьор Франческо сказал: для твоих соотечественников работа есть всегда, столько писем надо писать, надеюсь, ты грамотный? Как только он, Томмазо или Эрколь, научился изъясняться по-тоскански и отпускать шутки, Фрескобальди пообещал: когда-нибудь я позову тебя в контору. Испробую, на что ты годишься. Этот день настал. Его испытали и признали годным. Из Флоренции он отправился в Венецию, оттуда – в Рим; когда ему снятся эти города (а это иногда бывает), в нем до конца дня бродят юношеские дрожжи итальянского куража, итальянского бахвальства. Он вспоминает себя, тогдашнего, без снисхождения, но и не порицает. Человек делает то, что диктуют обстоятельства, а если задним числом иные его решения можно назвать сомнительными… что ж, на то и молодость. Теперь он берет в дом бедных студентов-богословов. Для них всегда найдется уголок, где можно строчить трактаты о разумном управлении государством или о переводе псалмов. Однако он берет и других – неотесанных молодчиков, потому что сам был таким и знает: они будут ему верны, надо лишь проявить терпение. Он и сейчас любит Фрескобальди, как отца. В браке сильное чувство уступает место привычке, дети становятся дерзкими и непослушными, но хороший хозяин дает больше, чем забирает, и его доброта ведет тебя по жизни. Вспомни Вулси. Кардинал в голове нашептывает: «Я видел вас в Элветхеме, Сухарь, когда вы чесали себе яйца и дивились неуемности королевских причуд. Если Генрих хочет новую жену, обстряпайте это дело. Я не сумел, и я мертв».
Пироги у Терстона, видать, не удались, поскольку к ужину их не подают, зато приносят великолепное желе в форме замка. «У Терстона патент на строительство укреплений», – говорит Ричард Кромвель и тут же принимается через стол спорить с гостем-итальянцем, какая форма лучше для форта: круглая или звездчатая. Замок из белых и красных полос: красные темно-малиновые, белые совершенно прозрачны, так что стены словно парят. В амбразуры смотрят съедобные лучники, луки и стрелы у них из карамели. Даже генеральный стряпчий улыбается: – Жалко, мои девочки этого не видят. – Я пришлю вам формы. Хотя, может быть, лучше не форт? Цветочный сад? Что нравится маленьким девочкам? Он позабыл. После ужина, если в дверь не стучат посыльные из дворца, он обычно урывает часок на чтение. Книги у него в каждом доме: в Остин-фрайарз, в здании архива на Ченсери-лейн, в Стипни, в Хакни. Сейчас книги пишут обо всем. Как стать хорошим государем и как – дурным. Стихи и советы, как вести бухгалтерию, сборники фраз, которые могут пригодиться в чужой стране, словари, книги о том, как очистить свои грехи, и о том, как сохранять рыбу. Его друг, врач Эндрю Бурд, пишет книгу о вреде бород. Он вспоминает слова Гардинера: «Вам самому следует написать книгу. Достойный выйдет труд». Если он напишет, это будет «Книга под названием Генрих»: как читать короля, как ему служить, как лучше его сохранять. В голове складываются фразы предисловия: «Кто сочтет качества, личные и общественные, сего благословеннейшего мужа? Меж служителями церкви он набожен, меж воителями отважен, меж книжниками многообразно сведущ, меж придворными учтив и галантен; всеми этими достоинствами король Генрих наделен в столь высокой мере, что подобных ему не было от начала времен». Эразм утверждает, что в государе надо превозносить даже отсутствующие добродетели, ибо лесть заставит его думать, и монарх, возможно, воспитает в себе качества, которых пока лишен. Дверь открывается. Это слуга-валлиец, совсем мальчик, входит бочком. – Я принес свечи, сэр. Уже пора? – Да, давно пора. Свет дрожит, потом перламутровыми кругами замирает на темной столешнице. – Видишь табурет? Садись. Мальчишка плюхается на табурет. С утра в беготне по хозяйству, умаялся. Почему маленькие ноги вечно должны работать вместо больших? Сгоняй наверх, принеси мне… По молодости это лестно – чувствуешь себя нужным, даже незаменимым. Он вечно бегал по Патни с поручениями Уолтера. Недоумок. Пусть мальчик немного посидит, отдохнет. – В детстве я немного говорил по-валлийски, теперь не могу. Он думает: это блеяние пятидесятилетнего старика. Валлийский, теннис, раньше я мог, теперь не могу. Зато знаний в голове куда больше и уложены они аккуратнее, сердце прочнее, выдержит любой удар. Сейчас ему предстоит инспектировать валлийские владения королевы; по этой и по более веским причинам княжество Уэльс занимает в его мыслях большое место. – Расскажи о себе, – говорит он мальчику. – Расскажи, как сюда попал. Из ломаных английских фраз складывается история. Поджог, угоны скота – обычная приграничная повесть со всегдашним финалом: нищета и сиротство. – Можешь прочесть «Патер ностер»? – спрашивает он. – «Патер ностер», – повторяет мальчик. – Это «Отче наш». – На валлийском. – Нет, сэр. На валлийском нет молитв. – Господи Исусе! Я найду человека, который их напишет. – Пожалуйста, сэр. Тогда я смогу молиться за отца с матерью. – Знаешь Джона ап Райса? Он был сегодня за ужином. – Муж вашей племянницы Джоанны, сэр? Мальчишка вскакивает и убегает. Маленькие ноги снова в работе. Он мечтает, что все валлийцы заговорят по-английски, но пока это не достигнуто, им нужна Божья помощь. Разбойники хозяйничают в княжестве, угрозами и взятками выбираются из тюрьмы, пираты опустошают побережье. Норрис, Брертон и другие королевские джентльмены, чьи владения находятся в Уэльсе, всеми силами мешают его, Кромвеля, усилиям, хотят и дальше распоряжаться на своей земле безнадзорно. Им законность ни к чему, а он хочет, чтобы законы были едины для всей страны, от Эссекса до Англси, от Корнуолла до шотландской границы. Райс приносит с собой бархатную шкатулку, ставит на стол. – Подарок. Угадайте – что? Он трясет шкатулку. Что-то вроде зерна. Трогает пальцами серые чешуйки. Райс недавно из монастыря, куда ездил по его поручению. – Это же не зубы святой Аполлонии? – Вторая попытка. – Зубья от гребня Марии Магдалины? – Обрезки от ногтей святого Эдмунда, – говорит Райс. – А… Ссыпьте их вместе с остальными. У него было пятьсот пальцев, никак не меньше. В 1257 году в Тауэрском зверинце умер слон, и его похоронили рядом с часовней, однако на следующий год откопали и перенесли в Вестминстерское аббатство. Спрашивается, что там сделали с останками слона, если не напилили из него тонну мощей, не превратили слоновьи кости в кости святых? Хранители мощей уверяют, что реликвии способны умножаться, не теряя в святости. Кость, дерево и камень, как и звери, дают потомство, сохраняющее все свойства родителей. Терновый венец расцветает. Крест Христов дает побеги, словно живое дерево. Несшитый хитон Спасителя ткет свои подобия. От ногтей родятся новые ногти. Джон ап Райс говорит: – Доводы разума на этих людей не действуют. Пытаешься открыть им глаза, а против тебя выставляют каменных мадонн, плачущих кровавыми слезами. – А потом утверждают, будто я использую мошеннические приемы. – Он задумывается. – Джон, тебе придется засесть за работу. Твоим соотечественникам нужны молитвы. – Им нужна Библия на родном языке, сэр. – Давай прежде я заручусь королевским благословением на Библию для англичан. Это его каждодневная скрытая борьба: чтобы Генрих поддержал английское издание Библии, по книге в каждую приходскую церковь. Цель уже близка, и он верит, что добьется своего. Его идеал: единая страна, единая государственная монета, единая система мер и весов, а главное – общий язык, на котором говорят все. Не надо ехать в Уэльс, чтобы тебя не поняли. Есть места меньше чем в пятидесяти милях от Лондона, где на твою просьбу поджарить селедку ошалело вытаращат глаза. Только если изобразить из себя рыбу и ткнуть пальцем в сковороду, тебе скажут: а, теперь ясно. А больше всего он желает для Англии согласия между государем и народом. Он не хочет, чтоб страна управлялась как дом Уолтера в Патни: с утра до вечера драки, вопли и брань. Королевство должно быть подобно большому хозяйству, где каждый делает свою работу уверенно и спокойно. Он говорит Райсу: – Стивен Гардинер советует мне написать книгу. Как, по-твоему, стоит? Может, я и напишу, когда уйду на покой. А до тех пор зачем выдавать свои секреты? Он помнит, как читал книгу Макиавелли в страшные дни после смерти жены – книгу, которую сейчас все обсуждают, хотя мало кто из говорящих в нее заглядывал. Они все – он сам, Рейф и остальные домашние – не имели права выходить из дому, чтобы не разнести заразу. Перелистывая книгу, он сказал: нельзя просто взять опыт итальянских княжеств и приложить к Уэльсу или к северной границе. Мы другие. Книга кажется ему почти пустой, в ней есть лишь отвлеченные понятия – добродетель, страх да частные примеры низости или ошибочного расчета. Он мог бы, наверное, улучшить ее, но времени нет. При таком количестве дел только и успеваешь, что диктовать писцам, сидящим с перьями наготове: «Вверяю себя вашему покровительству… ваш преданный друг, ваш любящий друг, ваш друг Томас Кромвель». Государственному секретарю не положено жалованья. Обязанности определены не четко, и это ему на руку: лорд-канцлер исполняет предписанную роль, секретарь может проверить дела любого ведомства. Ему пишут из всех графств: просят разобрать земельный спор или за кого-то вступиться. Незнакомые люди шлют ему ябеды на соседей, монахи передают изменнические речи игуменов, священники доносят на епископов. Все секреты страны льются в его уши, а заботы королевского секретаря столь многочисленны, что важнейшие государственные документы, пергаменты и свитки, ждущие подписи и печати, приходится отодвигать на край стола. Просители шлют ему мускат и мальвазию, коней, дичь и золото, дары и подношения, талисманы и амулеты. Они хотят услуг, а за услуги принято платить. Так происходит с тех пор, как он в милости у короля. Он богат. И ему, конечно, завидуют. Враги вызнаю2 т, что могут, про его юность. – Я побывал в Патни, – сообщил Гардинер. – Вернее, отправил туда человека. Там говорят: кто бы угадал, что Ножи-Точу заберется так высоко? Мы думали, его раньше повесят. Его отец точил ножи. Люди, увидев младшего Кромвеля на улице, кричали: «Том, отнесешь отцу?» – и он, забирая тупой инструмент, говорил: «Не волнуйтесь, отец наточит». – Хорошенько наточить нож – большое искусство, – сказал он Гардинеру. – Вы убивали людей. Я знаю. – Не в этой стране. – Другие страны не в счет? – Ни один европейский суд не признает виновным человека, который защищал свою жизнь. – А вы спрашивали себя, почему вас хотят убить? Он рассмеялся: – Знаете, Стивен, в жизни много загадок, но как раз это – не загадка. Я всегда первый вставал, последний ложился, всегда был при деньгах. Меня любили девушки. Покажите мне гору – я уже на ней. – Или шлюху, – пробормотал Стивен. – Вы тоже были когда-то молодым. И что, уже показали королю свои разыскания? – Король должен знать, кого взял к себе на службу. Гардинер не договорил, потому что он, Кромвель, с улыбкой подошел ближе. – Давайте, Стивен. Шлите своих людей. Не жалейте денег. Обшарьте всю Европу. Вы не узнаете ни об одном моем таланте, который не пригодился бы Англии. – Он вытащил из-за пазухи воображаемый нож, легко, без усилия, приставил Гардинеру к животу. – Стивен, разве я не умолял вас, снова и снова, помириться со мной? И разве вы не отказывались? К чести Гардинера, тот не дрогнул, только чуть поежился и, подобрав епископскую мантию, отступил от призрачного ножа. – Мальчишка, которого вы ранили в Патни, умер. Вы правильно сделали, что убежали. Его родные хотели отправить вас на виселицу. Ваш отец от них откупился. – Что?! Уолтер? Уолтер за меня заплатил? – Не очень много. У них были и другие дети. – Все равно. – Он стоял, ошеломленный. Уолтер. Уолтер от них откупился. Уолтер, от которого он не получал ничего, кроме затрещин. Гардинер рассмеялся: – Вот видите. Я знаю о вашей жизни больше, чем вы сами.
Вечереет; он еще поработает за столом, затем отправится в кабинет почитать. Перед ним опись имущества из Вустерского аббатства. Его люди ничего не упустили, в документе перечислено все, от грелки для рук до ступки для чеснока. Стихарь золотой парчи, фелонь переливчатого атласа с Агнцем Божьим из черного шелка, гребень слоновой кости, бронзовая лампа, три кожаные бутыли и серп, псалтири, требники, шесть лисьих капканов с колокольчиками, две тачки, некое количество лопат и мотыг, мощи святой Урсулы и ее одиннадцати тысяч дев, а также митра святого Освальда и столы на козлах, разборные. Осенью 1535 года дом полон звуками: дети-певчие разучивают мотет, сбиваются, начинают снова. Мальчишеские голоса перекликаются на лестнице, ближе, в коридоре, собака скребет лапой пол. Звякают ссыпаемые в сундук золотые монеты. Журчит, приглушенная шпалерами, многоязыкая речь. Скрипят перья по бумаге. За стенами городские шумы: гудит толпа у ворот, от реки доносятся крики. В голове течет внутренний монолог. О Вулси Кромвель вспоминает в парадных покоях, эхо кардинальских шагов слышнее под высокими сводами. Дома он думает о своей жене Элизабет. Теперь она – неясное очертание, промельк платья в глубине коридора. В последнее утро ее жизни он вроде бы увидел, что она спускается за ним по лестнице, заметил краем глаза ее белый чепец и полуобернулся, чтобы сказать: «Иди досыпай», но там никого не было. Когда он вернулся вечером, у Лиз была подвязана челюсть, а в изголовье и в изножье кровати горели свечи. Год спустя от той же болезни умерли его дочери. В Стипни есть запертая шкатулка, где он хранит их жемчужные и коралловые бусы, а также тетрадь Энн с латинскими упражнениями. А в кладовке, куда убирают рождественские театральные костюмы, до сих пор висят крылья из павлиньих перьев, сделанные для Грейс, когда та играла ангела. После представления она так в крыльях и ушла по лестнице в спальню. «Я прочту молитвы», – сказала она, ушла от него, завернувшись в перья, растаяла в полумраке. А теперь на Остин-фрайарз ложится ночь. Лязгают засовы, щелкает ключ в замке, громыхает тяжелая цепь на задней калитке, гремит щеколда главных ворот. Дик Персер спускает с цепи сторожевых псов. Они бегут по саду и с ворчанием укладываются под деревьями: голова на лапах, уши чутко подрагивают. Когда дом затихает – когда весь его дом затихает – на лестницу выходят мертвые.
Вечер. Анна-королева вызвала его к себе. Идти недалеко – во всех больших дворцах ему отведены комнаты рядом с королевскими покоями. Только подняться по лестнице. Трепетное пламя свечи играет на золотом ободе канделябра и новехоньком дублете Марка Смитона. В дублете – сам Марк, лицо скрыто темнотой. Что привело Марка сюда? Музыкант разодет не хуже иного лорда, и лютни при нем нет. Где справедливость? Марк бездельничает и хорошеет день ото дня, а я делаю все за всех, и у меня с каждым днем больше седины и морщин. Они друг друга недолюбливают, так что он думает пройти, ограничившись кивком, но Марк приосанивается и говорит с улыбкой: – Здравствуйте, лорд Кромвель. – Нет, нет, не лорд. Все тот же «мастер Кромвель». – Ошибиться немудрено. Вы с ног до головы – истинный лорд. И конечно, король скоро сделает вас пэром королевства. – Едва ли. Я нужен ему в палате общин. – И все равно, – вкрадчиво продолжает Марк, – нехорошо, что король обходит милостями вас, а других награждает за куда меньшие заслуги. Скажите, правду ли говорят, что вы у себя дома обучаете музыкантов? Полтора десятка мальчишек, спасенных из монастыря. Они учатся по книгам, упражняются с инструментами, набираются манер, за ужином развлекают гостей. Стреляют из лука, играют со спаниелями, а самые маленькие скачут по двору на деревянных лошадках или бегают за ним и кричат: сэр, сэр, гляньте на меня, хотите, я пройдусь на руках? – С ними веселее, – говорит он. – Если захотите довести их мастерство до совершенства, вспомните обо мне. – Хорошо, Марк. Он думает: я и близко тебя к моим мальчикам не допущу. – Королева сейчас в большом неудовольствии, – предупреждает Марк. – Как вы знаете, ее брат Рочфорд отправился во Францию с особым посольством, а сегодня прислал письмо: оказывается, при французском дворе все знают, что Екатерина в письмах уговаривает Папу провозгласить мерзостную буллу об отлучении нашего государя от церкви. И это сулит Англии бесчисленные беды и горести. Он кивает: да, да, да. Неужто Марк не может говорить короче? Он и без этого музыкантишки знает, что такое отлучение. – Королева сердится, – продолжает Марк. – Потому что теперь ясно, что Екатерина – изменница, и королева не понимает: почему мы ничего не делаем? – Допустим, Марк, я объясню тебе почему; передашь ли ты мои слова королеве? Мне бы это сберегло час или два. – Если бы вы доверили мне такое… – начинает юноша, видит его холодную усмешку, краснеет. – Я бы доверил тебе разучить с певчими мотет. Хотя… – (задумчивый взгляд), – сдается мне, что ты в большой милости у королевы. – Да, господин секретарь, надеюсь, что так. – Марк уже оправился от удара. – Нам, людям низкого рождения, монархи охотнее всего раскрывают душу. – Что ж, скоро вы будете именоваться барон Смитон? Я первый вас поздравлю, даже если сам буду по-прежнему на черной работе в палате общин.
Небрежным взмахом руки Анна прогоняет фрейлин; они, сделав реверанс, выпархивают за дверь. Жена Джорджа Болейна мешкает. Анна говорит: – Спасибо, леди Рочфорд, вы мне сегодня больше не нужны. Остается только дурочка-карлица – спряталась за креслом королевы и выглядывает украдкой. Волосы у Анны распущены, на голове только маленькая шапочка в форме полумесяца, отделанная серебряной сеткой. Надо будет рассказать племянницам: они вечно пытают его, что носит королева. Так она принимает короля: густые темные пряди можно видеть только супругу, да еще Кромвелю, ведь тот – сын ремесленника и значит не больше мальчишки Марка. Она начинает в своей обычной манере, будто с середины фразы. – Вы должны поехать. К ней. Тайно. Возьмите только самых необходимых слуг. Вот письмо моего брата Рочфорда. – Анна театральным жестом протягивает письмо, но в последний миг передумывает, отдергивает руку и со словами «ой… нет» прячет письмо под себя. Может, помимо новостей, там хула в адрес Томаса Кромвеля? – Екатерина внушает мне сильнейшие подозрения, сильнейшие. Судя по всему, во Франции знают то, о чем мы лишь догадываемся. Может быть, ваши люди недостаточно бдительны? Милорд мой брат считает, что королева уговаривает императора вторгнуться в Англию, и посол Шапюи тоже. Его, кстати, надо выслать. – Дело в том, – говорит он, – что мы не можем швыряться послами. Иначе мы вообще ничего не будем знать. По правде сказать, он не боится Екатерининых интриг. Отношения между Францией и Священной Римской империей сейчас накалены до предела: если начнется война, императору станет не до Англии. Маятник качается туда-сюда, и сегодня все не так, как было неделю назад. Болейны немного отстают от времени и слишком уж стараются показать, что при дворе Валуа у них влиятельные союзники. Анна по-прежнему хочет выдать свою рыжую дочку за французского принца. В прежние годы его восхищала ее способность учиться на ошибках, сдавать назад, переигрывать, но когда она что-нибудь вобьет себе в голову, то становится упрямей Екатерины, прежней королевы. Джордж Болейн снова во Франции, снова пытается устроить этот брак, и все без толку. Зачем вообще существует Джордж Болейн? Этот вопрос он задает себе, а вслух говорит: – Король не может пятнать свою честь дурным обращением с бывшей королевой. Если о чем-нибудь таком прослышат, ему будет неловко. Анна смотрит скептически: какая-такая неловкость? о чем вообще речь? В комнате полумрак. Карлица за креслом возится, хихикает, бормочет, разговаривает сама с собой. Анна, сидя на бархатных подушках, болтает ногой в бархатной домашней туфле, словно ребенок над ручьем. – На месте Екатерины я бы тоже интриговала. Я бы не забыла. Я бы действовала, как она. – Тонкие губы недобро улыбаются, серебристый полумесяц на маленькой головке поблескивает в полутьме. – Понимаете, я знаю, что она думает. Пусть она испанка, но я могу поставить себя на ее место. Если бы Генрих меня бросил, я бы не сдалась. Я бы тоже требовала войны. – Королева задумчиво тянет себя за длинную прядь. – Так или иначе. Король думает, будто она больна. Она и ее дочь. То у них понос, то озноб, то зубы выпадают, то в носу хлюпает, всю ночь они блюют в тазик, весь день лежат-стонут, и все их недуги от Анны Болейн. Так что поезжайте, Кремюэль. Нагряньте без предупреждения, а потом расскажете мне, больна она или притворяется. Это такая же кокетливая манерность, как и проскальзывающий по временам французский акцент: Анна якобы не в состоянии выговорить его имя. Дверь открывается, входит король. Он склоняется перед королем. Анна не встает с кресла и не делает реверанс. – Я велела ему ехать, Генрих, – говорит она без всякого вступления. – Да, Кромвель, пожалуйста. И расскажите нам, что там и как. Вы как никто видите людей насквозь. Когда император хочет меня укорить, он говорит, его тетка умирает от заброшенности, холода и стыда. Так вот, у нее есть слуги. Есть дрова. – А что до стыда, – вставляет Анна, – она бы давно умерла, если бы стыдилась своей лжи. – Ваше величество, – говорит он, – я отправлюсь на рассвете и завтра, если позволите, пришлю к вам Рейфа Сэдлера с перечнем дел на день. Король стонет: – Значит, мне никак не спастись от вашего длинного списка? – Никак, сэр. Если я единожды дам вам передышку, вы будете вновь и вновь отсылать меня под разными предлогами. А до моего возвращения не могли бы вы… просто сидеть спокойно и ничего не предпринимать? Анна сидит как на иголках, как будто письмо брата ее колет. – Без вас я ничего делать не буду, – говорит Генрих. – Осторожно, дороги сейчас опасны. Я буду за вас молиться. Доброй ночи. Он оглядывает комнату, примыкающую к спальне, однако Марка здесь нет, только стайка девиц и молодых дам. Мэри Шелтон, Джейн Сеймур и Элизабет, жена графа Вустерского. Кого не хватает? – Где леди Рочфорд? – с улыбкой спрашивает он. – Не там ли за портьерой? – указывает пальцем туда, откуда вышел. – Думаю, будет укладываться. Так что вы, милые, уложите ее в постель, и у вас будет на шалости вся ночь. Они хихикают. Леди Вустер качает пальцем: – Девять часов, идет Гарри Норрис без штанов. Беги, Мэри Шелтон. Беги медленно-медленно. – А от кого убегаете вы, леди Вустер? – Томас Кромвель, так я вам и сказала. Разве может замужняя женщина ответить на подобный вопрос? – Она кокетливо гладит его по рукаву. – Мы все знаем, где мечтает спать Гарри Норрис. Мэри Шелтон для него – лишь грелка на время, а метит он куда выше. Он сам кому хочешь расскажет, что умирает от любви к королеве. – Я сыграю в карты, – объявляет Джейн Сеймур. – Сама с собой, чтобы не наделать долгов. Господин секретарь, есть ли известия о леди Екатерине? – Очень сожалею, но мне нечего вам рассказать. Леди Вустер провожает его глазами. Она ровесница королевы, хороша собой, беспечна и расточительна, особенно сейчас, когда муж в отъезде. Он подозревает, что ему довольно кивнуть, и она тоже будет убегать медленно-медленно. С другой стороны, она графиня, а он – смиренный простолюдин. И обещал выехать до рассвета.
Они едут к Екатерине без шума и помпы, маленький отряд вооруженных людей. Воздух прозрачный, ледяной, бурая кочковатая земля вся в плотном инее, цапли взлетают над замерзшими озерцами. По краю неба ползут свинцово-серые облака с обманчиво нежным, розовым подбрюшьем; луна, ущербная, как подпиленная монета, плывет впереди всадников по бледному вечернему небу. Кристоф скачет рядом с господином, и чем дальше они забираются в глушь, тем больше ворчит. – Говорят, король нарочно сослал Екатерину в эти края, чтобы та проплесневела до костей и умерла. – У него и в мыслях такого не было. Кимболтон хоть старый замок, но очень хороший. У нее есть все, что нужно. Ее содержание обходится в четыре тысячи фунтов ежегодно. Кристоф довольно долго молчит, потом объявляет: – Да и вообще все испанцы merde. – Смотри на дорогу, чтобы Дженни не наступила в яму. Обезножишь лошадь – домой будешь возвращаться на осле. – И-а! – кричит Кристоф так громко, что другие всадники оборачиваются. Дурачок, беззлобно говорит кто-то. Под темными кронами деревьев на исходе первого дня пути они затягивают песню – она согреет усталое сердце и прогонит лесных духов. Средний англичанин насквозь пропитан суевериями. Сейчас, под Новый год, чаще всего поют королевское «В кругу друзей забавы век будут мне по нраву» с различными изменениями.Изменения лишь самую чуточку скабрезны, иначе ему пришлось бы одернуть спутников. Трактирщик – тощий суетливый человечек, который тщетно пытается выведать, кто его гость. Жена трактирщика – громогласная молодая женщина с недовольным лицом. Он взял в поездку собственного повара. «Зачем, милорд? – возмущается она. – Думаете, мы вас отравим?» Слышно, как она ругается на кухне, объясняя, какие сковородки брать, а какие – нет. Позже она заходит к нему в комнату и спрашивает: «Угодно что-нибудь еще?» Он отвечает, нет, но она возвращается: «Точно ничего не нужно?» «Говори потише», – отвечает он. Уж на таком-то расстоянии от Лондона королевский викарий по делам церкви может немного ослабить бдительность? «Коли так, оставайся», – говорит он. Лучше эта горлопанка, чем леди Вустер, – меньше опасность, что пойдут разговоры. Он просыпается до рассвета и не может понять, где очутился. В комнате темно, с первого этажа долетает женский голос; в первый миг ему кажется, что это орет его сестра Кэт и что он дома накануне бегства от отца, а впереди – целая жизнь. Осторожно двигает рукой, потом ногой – ушибов и порезов нет – и тут наконец вспоминает, кто он и где он. Перекатывается в теплую ямку от женского тела и вновь задремывает, обхватив рукой подушку. Вскоре снизу доносится пение трактирщицы: та, видимо, хочет сообщить всему дому, что двенадцать дев пошли гулять веселым майским днем, а дальше с ними приключилось что-то нехорошее. Деньги, которые он ей оставил, она прибрала. Когда гости садятся на коней, она не улыбается ему, но говорит с ним, и говорит тихо. Кристоф с барским видом платит трактирщику за постой. День не такой морозный, они едут быстро и без приключений. От всей поездки по Центральной Англии у него останется лишь несколько ярких образов. Пламенеющие ягоды остролиста на темных кустах. Испуганный полет вальдшнепа, который вспорхнул с дороги чуть ли не из-под копыт. Чувство, что они въезжают во влажные края, где земля одного цвета с болотом и так же зыбка.
Кимболтон – оживленный ярмарочный город, однако в сумерках улицы пусты. Нельзя сказать, что они долетели сюда как ветер: незачем утомлять коней, когда дело важное, но не спешное. Екатерина умрет в свой час, их не спросит. К тому же ему полезно выбраться из Лондона. В узких городских улочках, труся на лошади или на муле под карнизами и балконами, под бедной холстиной неба, прорванной островерхими крышами, забываешь, какова она, Англия, как широки поля, как бескрайни небеса, как груб и невежественен народ. Они проезжают мимо придорожного креста, видят свежеразрытую землю. Один из телохранителей говорит: – Люди думают, что монахи закапывают сокровища. Прячут от нашего хозяина. – Прячут, конечно, – говорит он. – Но не под крестами. Не настолько они глупы. На главной улице они останавливаются рядом с церковью. – Зачем? – спрашивает Кристоф. – Мне нужно получить благословение, – отвечает он. – Вам нужно исповедаться, сэр, – говорит телохранитель. Все улыбаются. Они не стали думать о нем хуже, просто немного завидуют. Он подметил: заочно его ненавидят все, из знающих – только некоторые. Мы могли бы заночевать в монастыре, посетовал вчера кто-то из слуг, да только там нет женщин. Он обернулся в седле: – Ты уверен? Остальные загоготали. В стылом пространстве церкви его спутники охлопывают себя по плечам, притопывают и говорят «брр», словно плохие актеры. – Свистнуть настоятелю? – предлагает Кристоф. – Не вздумай! – Однако он ухмыляется, вспоминая себя молодого: он бы не только предложил, но и свистнул. Впрочем, надобности в этом нет. Какой-то подозрительный служка уже заглядывает с фонарем. Без сомнения, кто-нибудь бежит к замку с известием: приехали важные господа, готовьтесь. Уместно предупредить Екатерину заранее, но не обязательно делать это явно и сообщать имена. – Вообразите, – говорит Кристоф, – мы входим, а она усики выщипывает. Старухи все так делают. Для Кристофа бывшая королева – старая карга. Он думает: а ведь Екатерина примерно моя сверстница. Однако к женщинам время немилосердней, особенно к тем, кому Бог дал много детей и почти всех забрал. Робко подходит священник – тихонький старичок. Предлагает показать церковь и ее святыни. – Вы, должно быть… – Он мысленно пробегает глазами список. – Уильям Лорд? – Э… нет… Какой-то другой Уильям. Следует долгое объяснение. – Не важно, – обрывает он. – Лишь бы ваш епископ знал, кто вы такой. Перед ними святой Эдмунд, человек с пятью сотнями пальцев; святой изящно тянет носок, как будто танцует. – Поднимите-ка фонарь, – говорит он. – Там кто, русалка? – Да, милорд. – Священник испуганно хмурится. – А что, нельзя? Надо убрать? Он улыбается: – Просто я подумал, что она далековато от моря. – Рыбой разит! – хохочет Кристоф. – Простите мальчишку. Он не поэт. Священник несмело улыбается. На дубовой перегородке святая Анна наставляет по книге свою дочь, Деву Марию; Архангел Михаил рубит ятаганом дьявола, обвившего ему ноги. – Вы к королеве, сэр? Я хотел сказать, – поправляется священник, – к леди Екатерине? Он думает: старик понятия не имеет, кто я. Какой-то королевский посланник. Может, Чарльз Брэндон, герцог Суффолк. Или Томас Говард, герцог Норфолк. Оба они в свое время испытали на Екатерине весь свой скудный арсенал убеждений и угроз. Он не называет своего имени, но оставляет пожертвование. Священник держит деньги в руке, будто согревает. – Вы простите мою оговорку, милорд? Когда я неверно назвал леди Екатерину? Клянусь, я не имел в виду ничего дурного. Здесь в глуши трудно уследить за всеми переменами. Пока мы уясним одно письмо из Лондона, приходит другое, и там все иначе. – Нам всем непросто. – Он пожимает плечами. – Вы молитесь за королеву Анну каждое воскресенье? – Конечно, милорд. – И что на это говорят ваши прихожане? – Поймите, сэр, они люди простые, – виновато говорит священник. – Я и не слушаю, что они говорят. – И тут же торопливо добавляет: – Но они все глубоко преданы королю. Глубоко преданы. – Не сомневаюсь. Сделайте милость, помяните в это воскресенье усопшего Тома Вулси. Покойного кардинала? По лицу священника видно, как ворочаются старческие мозги. Гость явно не Томас Говард и не Чарльз Брэндон; если при них упомянуть Вулси, они плюнут тебе под ноги. Когда он выходит из церкви и садится на лошадь, уже темно, в воздухе плывут редкие снежинки. День был долгий, одежда тяжело давит на плечи. Он не верит, что мертвым нужны наши молитвы, однако всякий, читавший Библию, как он, знает: наш Бог – своенравный Бог. Всегда невредно подстелить соломки. Когда с дороги ярким всполохом взмыл вальдшнеп, сердце на миг оборвалось и застучало сильнее. Птица упорхнула в лес, сделалась серой, а он ощущал каждый удар в груди, как взмах крыльев.
Они подъезжают к воротам в полутьме. Окрик со стены, громкий ответ Кристофа: – Томас Кремюэль, государственный секретарь и начальник королевских архивов! – Почем нам знать, кто вы? – орет часовой. – Предъявите грамоту! – Скажи, пусть отворяет, – говорит он, – или я предъявлю свой башмак его заду. Здесь, в глуши, церемониться не следует: от него, королевского советника-простолюдина, ждут грубости. Опускают подъемный мост, гремят древние засовы и цепи. В Кимболтоне запираются рано, молодцы. – Не повторяйте ошибку священника, – говорит он спутникам. – Во всех разговорах со здешней челядью Екатерина для вас – вдовствующая принцесса Уэльская. – Кто? – удивляется Кристоф. – Она не жена короля. Никогда ею не была. Она – супруга усопшего королевского брата Артура, принца Уэльского. – Слово «усопший» я знаю, – говорит Кристоф. – Оно значит «мертвый». – Она не королева, не бывшая королева, поскольку ее второй так называемый брак противоправен. – Она имела глупость переспать сперва с одним братом, Артуром, потом с другим, Генрихом, а это не по закону, – расшифровывает мальчишка. – И как нам называть такую женщину? – улыбается он. Появляются факелы, из темноты выступает сэр Эдмунд Бедингфилд, тюремщик Екатерины. – Могли бы нас предупредить, Кромвель. – А вот Грейс не в обиде, что я внезапно, ведь правда? – Он целует леди Бедингфилд. – Я не привез с собой ужина, но завтра подоспеет мул с повозкой. Там дичь для вашего стола, а для королевы – миндаль и сладкое вино, которое она, по словам Шапюи, любит. – Я рада всему, что может пробудить ее аппетит. – Грейс Бедингфилд ведет гостя в большой зал, у камина поворачивается к нему. – Врач подозревает, что у нее в животе опухоль, но это может оказаться надолго. Как будто она без того мало настрадалась, бедняжка. Он отдает перчатки и плащ Кристофу. – Вы сразу пойдете засвидетельствовать ей почтение? – спрашивает Бедингфилд. – Мы-то вас не ждали, а она, может, и ждет. Нам непросто: в городе ее любят, так что она многое узнает через слуг, и мы ничего с этим поделать не можем. Я подозреваю, горожане подают сигналы из-за рва, так что ей известно, кто подъезжает. Две престарелые дамы в испанском платье вжались в стену и смотрят на него осуждающе. Он кланяется им, и одна на родном языке говорит другой: «Вот человек, который продал душу короля Англии». На стене за ними поблекшая фреска: Адам и Ева рука об руку идут среди зверей, пока еще безымянных. Из листвы робко выглядывает пучеглазый слоник. Он никогда не видел слонов, но по книгам те гораздо больше лошади; может, этот еще не успел вырасти. Ветки дерева гнутся под тяжестью райских плодов. – Порядок вам известен, – продолжает Бедингфилд. – Она живет в своих покоях, ее женщины – вот эти две – там же ей и готовят. Вы стучите и входите. Если говорите ей «леди Екатерина», она выставляет вас вон, если «ваше высочество», разрешает остаться. Так что я никак ее не называю, словно она – безымянная поломойка. Екатерина сидит у огня, кутаясь в очень хороший горностаевый плащ. Король захочет после ее смерти забрать меха, думает он. Она протягивает руку для поцелуя, неохотно, но это скорее от холода, чем от неприязни к гостю. Кожа желтая, и в комнате тяжелая духота: слабый звериный запах мехов, торфяной душок колодезной воды, рвотная вонь от таза, который торопливо унесла служанка. Возможно, по ночам вдовствующей принцессе снятся сады Альгамбры, где она выросла: мраморные мостовые, журчание прозрачной воды в фонтанах, белые павлины, волочащие по земле хвосты, аромат лимонов. Надо было привезти в седельной сумке лимон. Словно читая его мысли, она заговаривает по-кастильски: – Мастер Кромвель, давайте отбросим утомительное притворство, будто вы не знаете моего языка. Он кивает: – Тяжело бывало стоять, пока ваши служанки меня обсуждают. «Господи, что за урод, у него небось и тело волосатое, как у дьявола». – Мои служанки так говорили? – Екатерина улыбается уголками губ, прячет руку под плащ. – Где они теперь, те бойкие девушки? Только старухи остались да записные предатели. – Мадам, все ваше окружение вас любит. – Они доносят на меня. Передают каждое мое слово. Даже подслушивают мои молитвы. Что ж, сударь. – Она поднимает лицо к свету. – Как, по-вашему, я выгляжу? Что вы ответите королю на его расспросы? Я не видела себя в зеркале много месяцев. – Она похлопывает по горностаевому плащу, натягивает его на уши. Смеется. – Король называл меня ангелом. Называл прекрасным цветком. Мой первый сын родился в середине зимы, когда вся Англия была засыпана снегом. Я думала, цветов не будет, но Генрих прислал мне розы – шесть дюжин белых шелковых роз. «Они белые, как твоя рука, любовь моя», – сказал он, целуя мои пальцы. Горностаевые складки шевелятся, и понятно, что рука под ними сжимается в кулак. – Я храню их в сундуке. Они по крайней мере не увядают. Я дарила их по одной тем, кто был ко мне добр. – Губы шевелятся: безмолвная молитва по усопшим. – Расскажите мне, как нынче поживает дочка Болейна? Говорят, она много молится своему реформированному Богу. – Она известна своей набожностью. Епископы и богословы ее поддерживают. – Они ее используют. А она – их. Будь они настоящие служители церкви, бежали бы от нее, как от язычницы. Однако, полагаю, она молится о сыне. Мне сказали, она потеряла ребенка. Я знаю, что это такое, и сочувствую ей от всего сердца. – Они с королем надеются, что скоро будет еще ребенок. – Вообще надеются? Или уже есть основания для надежды? Он медлит. Ничего определенного пока не объявляли, а Грегори мог ошибиться. – Я думала, она вам сказала по секрету. – Екатерина пытливо всматривается в его лицо: нет ли тени отчуждения. – Говорят, Генрих волочится за ее фрейлинами. – Пальцы гладят мех, рассеянно, круг за кругом. – Как быстро. Они ведь женаты совсем недолго. Наверное, она смотрит вокруг, на своих женщин, и все время спрашивает себя: вы, мадам? или вы? Меня всегда удивляло, что те, у кого нет совести, слепо доверяют другим. Ла Ана думает, у нее есть друзья. Однако если она в ближайшее время не родит королю сына, от нее все отвернутся. Он кивает: – Возможно, вы правы. Кто отвернется первым? – Зачем мне ее предупреждать? – сухо спрашивает Екатерина. – Говорят, в злобе она бранится, как сварливая баба. Немудрено. Королева, а она зовет себя королевой, живет и страдает на глазах у всех. Из женщин над ней одна Царица Небесная, и не к кому обратиться за сочувствием, так что приходится страдать в одиночку. Чтобы снести это, нужна особая твердость духа, и дочь Болейна, сдается, этой твердости лишена. Екатерина умолкает и сжимается, словно хочет вылезти из одежды. «Вам больно?» – хочет спросить он, но она лишь отмахивается: пустяки, пустяки. – Королевские джентльмены, которые сегодня клянутся, что отдадут жизнь за ее улыбку, завтра будут обожать другую. Когда-то они обожали меня. Ко мне это отношения не имело и объяснялось лишь тем, что я – жена короля. Однако Ла Ана приписывает свой успех собственным чарам. И к тому же ей следует опасаться не только мужчин. Джейн Рочфорд, сестра ее брата, очень наблюдательна… в бытность моей фрейлиной она частенько рассказывала мне секреты, любовные секреты, которые я предпочла бы не знать. Едва ли время притупило ее зрение и слух. – Пальцы по-прежнему движутся, трут место под ложечкой. – Вы удивляетесь, откуда Екатерина в ссылке знает, что происходит при дворе? Поразмыслите на досуге. Мне незачем долго гадать, думает он. Жена Николаса Кэрью ваша сердечная подруга. И Гертруда Куртенэ, жена маркиза Экстерского; в прошлом году я поймал ее на участии в заговоре и напрасно не заточил в Тауэр. Возможно, даже крошка Джейн Сеймур, хотя у Джейн после Вулфхолла появился собственный интерес. – Я знаю, что у вас есть источники, – говорит он, – но стоит ли им верить? Они действуют от вашего имени, но не в ваших интересах. И не в интересах вашей дочери. – Вы разрешите принцессе ко мне приехать? Если вы считаете, что ей нужно присоветовать более разумное поведение, кто справится с этим лучше меня? – Если бы решал я… – Чем она может навредить королю? – Поставьте себя на его место. Насколько я знаю, ваш посол Шапюи написал леди Марии, что может вывезти ее из Англии. – Неправда! Шапюи не стал бы так делать, я ручаюсь за него жизнью. – Король опасается, что Мария подкупит стражу и, если отпустить ее в путешествие, сбежит на корабле во владения своего двоюродного брата императора. Он едва сдерживает улыбку при мысли, что худенькая, запуганная девочка пускается в такое дерзкое предприятие. Екатерина тоже улыбается, криво, со злостью. – И что дальше? Генрих думает, что моя дочь прискачет назад с мужем-иноземцем и свергнет отца? Убедите его, что у принцессы нет подобных намерений. За нее я тоже ручаюсь жизнью. – Уж слишком за многих вы ручаетесь жизнью, мадам, хотя умереть можете лишь раз. – Я бы хотела умереть так, чтобы Генрих, когда придет его срок, мог взять с меня пример. – Ясно. Вы много думаете о смерти короля? – Я думаю о его будущей жизни. – Если вы заботитесь о его душе, то почему все время чините ему препоны? От этого он лучше не становится. Вам никогда не приходило в голову, что Генрих не порвал бы с Римом, если бы вы ушли в монастырь и дали ему возможность жениться во второй раз? Законность вашего брака была поставлена под сомнение; вы могли добровольно принять постриг и сохранить всеобщее уважение. А теперь титулы, за которые вы цепляетесь, пустой звук. Генрих был добрым сыном католической церкви. Вы довели его до крайности, вы, не он, раскололи христианский мир. И я уверен, что вы это знаете не хуже меня. Что по ночам вас терзает совесть. Молчание, покуда Екатерина перелистывает фолиант своего гнева, ища в нем точное слово. – Кромвель, то, что вы сказали… омерзительно. Возможно, она права, думает он. Однако я буду и дальше раскрывать ей глаза, заставлю трезво и безжалостно заглянуть в собственное сердце. Это нужно ради ее дочери. Мария – будущее. Единственный взрослый ребенок короля, единственная надежда Англии, если Господь призовет Генриха к себе и трон опустеет. – Значит, вы не подарите мне шелковую розу. Жаль. Долгий взгляд. – По крайней мере в качестве врага вы на виду. Моим бы друзьям такую откровенность. Англичане – нация лицемеров. – Неблагодарные люди, – соглашается он. – Насквозь лживые. То ли дело итальянцы. Чистые душой флорентийцы. Венецианцы, известные своей правдивостью. И ваши соплеменники испанцы. Честнейший народ. Про вашего отца Фердинанда говорили, что его погубит открытость. – Вы смеетесь над умирающей. – Вы очень многого хотите на правах умирающей. Одной рукой предлагаете в залог жизнь, другой – требуете привилегий за скорую смерть. – К тем, кто, как я, стоит на краю могилы, обычно бывают добры. – Я пытаюсь быть добрым, а вы этого не видите. Неужели вы не можете напоследок отбросить упрямство и ради дочери примириться с королем? Если вы при жизни не уладите ссору, после вашей смерти вина ляжет на Марию. А она молода, ей нужно устраивать собственную судьбу. – Король не станет вымещать обиду на дочери. Я знаю его благородство. Он молчит. Она по-прежнему любит мужа; в какой-то складочке иссохшего сердца живет надежда услышать знакомые шаги. И как забыть, что Генрих ее любил, если с ней его подарок? На то, чтобы изготовить шелковые розы, ушло несколько недель, значит, король заказал их задолго до того, как узнал, что ребенок – мальчик. «Мы называли его Новогодним принцем, – рассказывал Вулси. – Он прожил пятьдесят два дня, и я считал каждый». Зимняя Англия, снег сыплет густой завесой, ложится на фронтоны и черепицу, бесшумно скользит по оконному стеклу, припорашивает дороги, укутывает поля и крыши, клонит ветви тиса и дуба; птицы примерзают к веткам, рыбы замурованы подо льдом. Колыбель под алым пологом, вся в золотых королевских гербах, закутанные няньки дрожат от холода, в камине горит огонь, свежий новогодний воздух пахнет корицей и можжевельником. Гордой роженице приносят розы… как? В золоченой корзине? В длинном футляре наподобие гроба, в шкатулке с перламутровой инкрустацией? Или высыпают на одеяло из шелкового чехла, расшитого гранатами? Летят счастливые недели. Ребенок жив. Весь мир знает, что у Тюдоров есть наследник. И вдруг на пятьдесят второй день тишина за пологом: дыхание было – и нет. Женщины хватают принца, плачут от ужаса и горя, крестятся, шепчут молитвы. – Я постараюсь сделать что могу, – говорит он. – Касательно вашей дочери. Касательно ее приезда. Насколько опасно провезти одну восемнадцатилетнюю девушку через несколько графств? – Думаю, король позволит леди Марии вас навестить, если вы посоветуете ей во всем почитать отцовскую волю и признать короля главой церкви. – В вопросах совести я ничего принцессе указывать не могу. – Екатерина поднимает руку, ладонью к нему. – Я вижу, Кромвель, вы меня жалеете. Не стоит. Я давно готова к смерти и верю, что Господь вознаградит мое служение. И я вновь увижу моих деток, которые ушли на небо раньше меня. Его сердце могло бы сжаться от боли, не будь оно в надежной броне. Она хочет мученической смерти на эшафоте, а умрет в болотном краю, одна, задохнувшись собственной рвотой. Он говорит: – А леди Мария тоже готова умереть? – Принцесса Мария размышляет о страстях Христовых с самого детства. Когда Господь призовет, она будет готова. – Да есть ли в вас родительское чувство? Всякий человек оберегал бы свое дитя. Однако он вспоминает Уолтера Кромвеля. Уолтер топтал меня башмаками, меня, своего единственного сына. – Я показал вам пример, мадам, когда ваше упрямое противостояние королю и совету привело к ужасающим последствиям. Так что вы можете ошибаться. Я умоляю вас допустить мысль, что вы ошибаетесь и на сей раз. Ради Христа, убедите Марию слушаться короля. – Принцессу Марию, – устало поправляет она. У нее больше нет сил спорить. Он уже думает уйти, но тут Екатерина поднимает голову: – Давно хотела спросить, на каком языке вы исповедуетесь? Или вы не ходите к исповеди? – Богу ведомы наши сердца, мадам. Нет надобности в посредниках, в пустых словах. И в языке тоже, думает он. Бог не нуждается в переводе.
Он вываливается за дверь и чуть не падает на руки Эдмунду Бедингфилду. – Моя спальня готова? – А как же ужин? – Пришлите мне миску похлебки. Я уболтался вусмерть, мне нужна только постель. – Не желаете грелку? – ухмыляется Бедингфилд. Значит, телохранители уже все разболтали. – Нет, Эдмунд, только подушку. Грейс Бедингфилд огорчена, что он так рано уходит спать. Она надеялась услышать придворные новости; ей тоскливо здесь взаперти с молчаливыми испанками, а впереди еще вся зима. Он вынужден повторить королевские указания: не допускать никакой связи с внешним миром. – Не беда, если дойдут письма от Шапюи. Будет ей хоть какое-то занятие – разбирать шифр. Императору она больше не важна, его заботит Мария. Но никаких посетителей, кроме тех, кто предъявит королевскую печать или мою. Хотя… – Он представляет себе следующую весну, вторжение императора. Если Екатерина будет еще жива и ее потребуется срочно увезти подальше от племянника, чтобы держать в заложницах, а Эдмунд откажется ее выдать, получится нехорошо. – Вот, видите? – Он показывает кольцо с бирюзой. – Это подарок покойного кардинала, я постоянно его ношу. – То самое, волшебное? – Грейс Бедингфилд берет его за руку. – Которое разрушает каменные стены и привораживает к вам принцесс? – Оно самое. Если гонец прибудет с этим кольцом, впустите его. Сидя на постели, он закрывает глаза, и перед ним встают резные своды Кимболтонской церкви. Человек с колокольчиком Лебедь, агнец, нищий с клюкой, два сердца – символ влюбленных. И гранатовое дерево. Эмблема Екатерины. Надо убрать. Он зевает. Стесать их под яблоки, и довольно. Стар я для лишних усилий. Он вспоминает женщину в гостинице, и ему становится стыдно. Придвигает подушку. Только подушку, Эдмунд. Когда они садились на коней, трактирщица сказала ему: «Пришлите мне подарок. Пришлите из Лондона что-нибудь, чего здесь не достать». Надо будет отправить ей что-нибудь из одежды, иначе постояльцы украдут. Он не забудет свое обещание, хотя к возвращению в Лондон едва ли вспомнит, как она выглядела. Он видел ее при свече, потом свеча погасла, а утром, при дневном свете, она казалось совсем другой. Может, это и была не она. Во сне он видит райский плод на пухлой Евиной ладони и тут же просыпается: если плод спелый, то почему деревья в цвету? Какой это может быть месяц? Какой весны? Ученые-богословы с этим разберутся. Десять поколений неусыпных трудов. Склоненные над книгами тонзуры. Скрюченные пальцы с трудом разворачивают свитки. Для таких бессмысленных вопросов и существуют монахи. Я спрошу Кранмера, думает он, моего архиепископа. Почему Генрих не спросит Кранмера, как ему избавиться от Анны? Кранмер развел короля с Екатериной и уж точно не скажет тому вернуться в ее стылую постель. Но нет, Генрих не станет говорить о своих сомнениях с Кранмером. Архиепископ любит Анну, считает ее образцом христианской супруги, надеждой евангелистов всей Европы. Он вновь засыпает и видит во сне цветы, созданные до рождения мира. У них нет стебля; они из белого шелка и лежат на голой несотворенной земле.
Он входит с докладом и еще издали по журчанию голосов понимает, что сегодня в королевской семье царит согласие. Анна-королева выглядит гладкой, довольной. Они с Генрихом склонились над столом, что-то обсуждают. Перед ними чертежи фризов и капителей, линейки и циркули, чернильницы и ножи для очинки перьев. Он кланяется и сразу переходит к делу: – Она нездорова. Визит министра Шапюи стал бы для нее утешением, и, я полагаю, ваше величество могли бы это дозволить. Анна взвивается с кресла: – Что?! Позволить им интриговать вместе? – Ее врач говорит, что скоро она будет лежать в могиле и больше не сможет вам досаждать. – Она вылетит из гроба, хлопая саваном, если увидит возможность мне навредить. Генрих умиротворяюще поднимает руку: – Милая, Шапюи так тебя и не признал. Но когда Екатерина умрет, я заставлю его склониться. – И все равно я считаю, что его нельзя выпускать из Лондона. Он подстрекает Екатерину, а та подстрекает дочь. Ведь так, Кремюэль? Марию надо вызвать ко двору. Пусть на коленях принесет клятву отцу, покается в преступном упрямстве и признает, что наследница трона – не она, а моя дочь. Он указывает на чертежи: – Это ведь не здание, сир? Генрих смущается, как ребенок, которого застали за кражей цукатов. Архитектурные элементы на чертежах, все еще непривычные английскому глазу, напоминают те, что он видел в Италии. Рифленые вазы и урны, крылья и драпировки, незрячие маски императоров и богов. Нынче деревья и цветы, вьющиеся стебли и бутоны уступают место победным лаврам, оружию, рукояти ликторского топора, копейному древку. Простотой Анне не угодишь; уже больше семи лет Генрих приноравливается к ее вкусам. Раньше король любил английскую брагу, теперь пьет заморские вина, сладкие, душистые, навевающие дрему. С каждым годом его величество все грузнее. – Мы строим с основания? – спрашивает он. – Или просто украшаем? И то, и другое стоит денег. – Какой вы неблагодарный, – говорит Анна. – Король хочет отправить вам дубовые бревна для вашего нового дома в Хакни. И для мастера Сэдлера, для его нового дома. Он благодарит наклоном головы, но мысли короля по-прежнему далеко, с женщиной, которая считает себя его женой. – Что проку Екатерине жить дальше? – спрашивает Генрих. – Я уверен, она устала препираться. Я так точно устал. Лучше ей уйти к святым и мученикам. – Они ее заждались. – Анна смеется; чересчур громко. – Воображаю, как она будет умирать, – говорит король. – Как будет говорить, что простила меня. Она вечно меня прощает. А на самом деле прощение нужно ей. За ее гнилую утробу. За то, что она отравила моих детей еще до рождения. Он, Кромвель, смотрит на Анну: уж конечно, ей есть что сказать? Однако та берет на колени своего спаниеля Пуркуа и зарывается лицом в густую собачью шерсть. Разбуженный песик, поскуливая и вырываясь, глядит, как королевский секретарь с поклоном отступает к дверям.
* * *
У дверей его поджидает жена Джорджа Болейна, тянет в сторону, доверительно шепчет. Если кто-нибудь скажет леди Рочфорд, что идет дождь, она и из этого раздует интригу; в ее устах новость станет постыдной, невероятной, но, увы, верной. – Так как? – спрашивает он. – Она и впрямь? – Неужто она вам не сказала? Что ж, разумная женщина будет молчать до последнего. Он смотрит без всякого выражения. – Да, – говорит леди Рочфорд наконец, опасливо поглядывая через плечо. – Ей случалось ошибаться. Но сейчас да. – Король знает? – Скажите ему вы, Кромвель. Будьте добрым гонцом. Кто знает, может, он сразу посвятит вас в рыцари. Он думает: свистнуть Рейфа Сэдлера, позвать Томаса Ризли, отправить письмо Эдварду Сеймуру, вызвать моего племянника Ричарда, отменить ужин с Шапюи, а чтобы не выкидывать еду, пригласим сэра Томаса Болейна. – Удивляться нечему, – говорит Джейн Рочфорд. – Она была с королем почти все лето. Неделю там, неделю здесь. А когда они расставались, король писал ей любовные письма и отправлял с Гарри Норрисом. – Миледи, я вынужден вас оставить, у меня дела. – Ничуть не сомневаюсь. И вы всегда так внимательно меня слушаете. Вникаете в каждое слово. А я говорю, что летом король писал ей любовные письма и отправлял с Гарри Норрисом. Он не успевает толком разобрать последние слова, хотя задним числом станет ясно, что они застряли в памяти и дополнили некоторые собственные его фразы, пока не сформулированные. Всего лишь фразы. Уклончивые. Неопределенные. Сейчас все зыбко. Екатерина увядает, Анна цветет. Они видятся ему девочками на качелях: раскисшая дорога, на ней камень, на камне доска, на доске, подобрав юбки, сосредоточенно качаются две подружки.Томас Сеймур говорит с порога: – Джейн повезло. Он больше не будет раздумывать. К королеве он не притронется, пока она не родит, не станет так рисковать. Значит, ему нужна другая на замену. Он думает: может быть, у сокрытого короля Англии уже есть пальцы, есть лицо. Впрочем, я уже думал об этом раньше. На коронации Анна так гордо несла живот, а родилась девочка. – Все равно не понимаю, – говорит старый сэр Джон, снохач. – Не понимаю, зачем ему Джейн. Вот если бы это была Бесс, другая моя дочь. Король с ней танцевал, и она ему очень нравилась. – Бесс замужем, – напоминает Эдвард. Томас Сеймур хохочет: – Это даже лучше! Эдвард недоволен: – Не будем о Бесс. Она не согласится. Речь не о ней. – Может, что и получится, – задумчиво произносит сэр Джон. – До сих пор нам от Джейн не было никакой пользы. – Верно, – говорит Эдвард. – От Джейн проку как от молочного киселя. Пусть теперь отрабатывает свой хлеб. Королю нужна женщина. Однако не будем ее подталкивать. Пусть все идет, как советует Кромвель. Генрих ее видел. Возымел желание. Теперь она должна его избегать. Нет, она должна дать ему отпор. – Фу-ты, ну-ты! – фыркает старый Сеймур. – Дороговатое удовольствие! – Целомудрие дороговато? Пристойность? – возмущается Эдвард. – Ну да, вам они всегда были не по средствам. Молчите уж, старый потаскун. Король закрыл глаза на ваши грехи, но все их помнят. Указывают на улице пальцем: вот старый козел, который развратил жену собственного сына. – Да, отец, полегче, – соглашается Том. – Мы говорим с Кромвелем. – Я боюсь одного, – отвечает он. – Ваша сестра любит свою прежнюю госпожу, Екатерину. Нынешняя королева, зная это, не упускает случая ее обидеть. Если станет известно, что король благоволит к Джейн, боюсь, станет еще хуже. Анна не из тех, кто будет спокойно смотреть на… э… новое увлечение короля. Даже если понимает, что это лишь на время. – Джейн терпелива, – говорит Эдвард. – Что ей тычок или пощечина? Она будет переносить их со всей кротостью. – Она будет отказывать королю, чтобы набить себе цену, – добавляет старый Сеймур. Том Сеймур смеется: – Он сделал Анну маркизой, прежде чем она уступила. Лицо Эдварда сурово, как будто тот отдает приказ палачу. – Сперва маркизой. Затем королевой.
В работе парламента назначен перерыв, но лондонские юристы, по-вороньи хлопая черными мантиями, устраиваются на зимнюю сессию. Радостная новость постепенно расползается из дворца. Анна расслабляет шнуровку. Заключаются пари. Скрипят перья. Печати вжимают в горячий воск. Седлают коней. Корабли поднимают паруса. Древние английские семейства на коленях вопрошают Бога, за что Тот милостив к Тюдорам. Король Франциск хмурится. Император Карл закусывает губу. Король Генрих танцует. Ночного разговора в Элветхеме будто и не было. Король вновь уверен в законности своего брака. Доносят, что Генрих прогуливался по зимнему саду с Джейн Сеймур.
Ее семья зовет его; все собрались вокруг Джейн. – Что он говорил, сестра? – спрашивает Эдвард Сеймур. – Расскажи мне все, все, что от него слышала. – Он спросил, буду ли я его любезной. Все переглядываются. Есть разница между возлюбленной и любезной, известно ли это Джейн? Второе подразумевает подарки, целомудренное обожание, долгие ухаживания… впрочем, они не могут быть слишком долгими, иначе Анна родит и Джейн упустит свой шанс. Женщины не могут предсказать, когда появится на свет их ребенок, и врачи Анны тоже ничего толком не говорят. – Послушай, Джейн, – говорит Эдвард. – Сейчас не время стыдиться. Рассказывай все. – Он спросил, буду ли я к нему благосклонна. – В каком случае? – Например, если он напишет мне стихи. Восхваляющие мою красоту. Я ответила, что да, буду благосклонна. Выражу признательность. Не стану смеяться, даже тайком. И не стану оспаривать ни одно утверждение, сделанное в стихах. Даже если оно преувеличенное. Потому что в стихах всегда преувеличивают. Он, Кромвель, поздравляет ее. – Вы предусмотрели совершенно все, мистрис Сеймур. Из вас вышел бы толковый юрист. – Вы хотите сказать, родись я мужчиной? – Она хмурится. – Хотя все равно вряд ли, господин секретарь. Сеймуры никогда не были стряпчими. Эдвард говорит: – Любезная. Стихи. Отлично. Пока отлично. Но если он попытается тебя тронуть, кричи. – А если никто не прибежит? – спрашивает Джейн. Он кладет руку Эдварду на плечо, чтобы прекратить этот разговор. – Послушайте, Джейн. Не надо кричать. Молитесь. Молитесь вслух, я хочу сказать. Про себя не поможет. Читайте молитву Пресвятой Деве. Любую, какая затронет благочестие его величества. – Понятно, – отвечает Джейн. – У вас есть с собой молитвенник, господин секретарь? А у вас, братья? Не важно. Я схожу за своим. Там наверняка есть что-нибудь подходящее.
В начале декабря приходит письмо от врача Екатерины: она ест лучше, хотя молится все так же много. Смерть, судя по всему, отступила от изголовья кровати к изножью. Боли немного ослабели, Екатерина в ясном сознании и воспользовалась этим, чтобы написать духовную. Дочери Марии она отказала золотое ожерелье, привезенное из Испании, и меха. Просит отслужить за упокой ее души пятьсот месс и совершить паломничество в Уолсингем. Подробности завещания доходят до Уайтхолла. – Вы их видели, эти меха, Кромвель? – спрашивает король. – Как они вам показались? Если хорошие, я хочу их забрать к себе. Качели. Один конец доски вверх, другой – вниз. Фрейлины Анны говорят, и не поверишь, что она носит под сердцем дитя. В октябре выглядела здоровой, а теперь совсем с лица спала. Не полнеет, а только сохнет. Джейн Рочфорд говорит ему: – Как будто она стыдится своей беременности. И его величество не так заботлив, как когда она ходила с огромным пузом. Тогда он надышаться на нее не мог. Исполнял любые капризы, прислуживал ей, как горничная. Я раз видела: она сидит, положила ноги ему на колени, а он их растирает, будто конюх – кобыле со шпатом. – При шпате растирать бесполезно, – с жаром отвечает он. – Тут нужна особая ковка. Леди Рочфорд смотрит на него пристально. – Вы разговаривали с Джейн Сеймур? – А что? – Не важно, – отвечает она. Он видел лицо Анны, когда та смотрела, как Генрих смотрит на Джейн. Ждешь приступа ярости, театральной сцены: изрезанного шитья, разбитого стекла. Но нет: она поджимает губы, обхватывает узорчатым рукавом живот, в котором растет дитя. «Мне нельзя волноваться, это может повредить принцу». Когда Джейн проходит рядом, Анна подбирает юбки. Съеживается, поднимает узкие плечи, словно сиротка на морозе. Качели. Ходят слухи, что королевский секретарь привез женщину из Хертфордшира, а может, из Бедфордшира, и поселил у себя в Стипни или в Остин-фрайарз, а может, в Хакни, и заново отделывает для нее дом. Она трактирщица, а ее мужа бросили в тюрьму за новое преступление, измышленное Томасом Кромвелем. Бедного рогоносца осудят и повесят в ближайшую выездную сессию. Впрочем, многие говорят, что его тайно умертвили в тюрьме: забили дубиной, отравили и перерезали ему горло.
III Ангелы
Стипни и Гринвич Рождество 1535 г. – Новый год 1536 г.Рождественское утро; он быстрым шагом выходит навстречу очередным неведомым передрягам. Путь ему загородила исполинская жаба. – Это Мэтью? Из безобразной пасти – детский смешок. – Саймон. С Рождеством, сэр! Как вы себя чувствуете? – Усталым. Ты отправил поздравления родителям? Дети-певчие на лето уезжают домой. В Рождество они при деле – поют. – Вы идете к королю, сэр? Бьюсь об заклад, при дворе спектакли хуже наших. Мы показываем пьесу про Робин Гуда, и в ней есть король Артур. Я играю жабу Мерлина. Мастер Ричард Кромвель играет Папу Римского. У него миска для подаяния, он кричит: «Мумпсимус-сумпсимус, хокус-покус». Мы вместо хлеба кидаем ему камни, а он грозит нам адским огнем. Он хлопает Саймона по бородавчатой спине. Жаба мощным скачком отпрыгивает с дороги.
* * *
После возвращения из Кимболтона Лондон сомкнулся вокруг него: поздняя осень, серые тоскливые вечера, ранняя темнота. Утомительное течение дворцовой жизни затянуло его, приковало к столу; при свечах дневные труды незаметно перетекают в ночные, и порой думаешь, что отдал бы все сокровища мира за один солнечный лучик. Он покупает земли на юге Англии, однако посетить их все недосуг, так что эти пашни, старинные усадьбы за каменными стенами, речки с миниатюрными пристанями, пруды, где клюет рыба, виноградники, цветники, рощи и аллеи остаются для него бумажными и плоскими: не овечьими выгонами, не лугами, где коровы стоят по колено в густой траве, не опушками, где трепещет, подняв копыто, белая лань, но пергаментными угодьями, титульными и арендными; их разделяют не древние межевые камни и колючие изгороди, а статьи купчей. Его акры умозрительны, они – источник дохода, источник сосущего беспокойства; он просыпается до серой холодной зари и думает о них – не о вольготной жизни владетеля обширных земель, но о ненадежности границ, сервитутах прохода, проезда и прогона скота, обо всем, что дозволит другим попирать его собственность ногами, вторгаться в прочный мир его будущей старости. Видит Бог, он не селянин по рождению, хотя сразу за улочками его детства начиналась вересковая пустошь. Он целыми днями пропадал там с другими мальчишками, точно так же бежавшими от отцовских кулаков и ремней, от науки, ждавшей их, если хоть минуту простоять на месте. Однако уже тогда его засасывало лондонское городское нутро; задолго до того, как проплыть по Темзе на барке государственного секретаря, он знал ее течения и приливы, знал все, что можно узнать, разгружая лодки и возя на тачке ящики к богатым домам на Стрэнде, домам епископов и лордов, с которыми он теперь ежедневно заседает в совете. Зимой двор совершает свой положенный круг: Гринвич и Элтхем, дома Генрихова детства, Уайтхолл и Хэмптон-корт, бывшие дворцы кардинала. Король нынче повсюду обедает один в личных покоях. В примыкающем к ним помещении, как бы оно ни называлось в том дворце, где мы остановились сегодня – кордегардией или караульной, – есть стол для знати, за которым председательствует лорд-канцлер. За этим столом восседает дядя Норфолк, когда тот с нами, и Чарльз Брэндон, герцог Суффолкский, и отец королевы, граф Уилтширский. Есть и другой стол, чуть менее почетный, для чиновников вроде него, и для тех старых королевских друзей, кто почему-то до сих пор не получил титула. Здесь сидят Николас Кэрью, шталмейстер, и Уильям Фицуильям, казначей, знающий Генриха с малолетства, а председательствует Уильям Полет, гофмаршал. Его, Кромвеля, долго удивлял обычай людей за этим столом поднимать кубки (и брови), выпивая за кого-то отсутствующего. Пока Полет не объяснил чуть смущенно: «Мы пьем за того, кто сидел тут до меня. За прежнего гофмаршала, сэра Генри Гилфорда, светлая ему память. Вы его, конечно, знали». Конечно. Кто не знал Гилфорда, искуснейшего дипломата, первого из царедворцев? Сверстник короля, Генри Гилфорд был правой рукой Генриха с той поры, когда тот восторженным девятнадцатилетним принцем вступил на престол. Хозяин и слуга, одинаково рьяные в поисках славы и удовольствий, вместе мужали, вместе достигли зрелости. Можно было смело биться об заклад, что Гилфорд переживет землетрясение, но тот не пережил Анну Болейн. Гофмаршал не скрывал, что любит свою государыню, королеву Екатерину. («А если бы не любил, – были его слова, – то вступился бы за нее по христианской совести и ради приличий».) Король по старой дружбе простил его, только сказал, давай не будем об этом. Не упоминай Анну Болейн, не спорь, не вынуждай меня с тобой ссориться. Однако Анне мало было молчания. В тот день, когда я стану королевой, сказала она Гилфорду, вы проститесь со своей должностью. Мадам, ответил сэр Генри Гилфорд, в тот день, когда вы станете королевой, я подам в отставку. И сдержал слово. Генрих сказал: «Брось! Это всего лишь женские ревность и злоба. Что они тебе? Не обращай внимания». «Но я боюсь за себя, – ответил Генри Гилфорд. – За свою семью и доброе имя». «Не оставляй меня», – взмолился король. «Вините свою новую жену», – сказал Гилфорд. И уехал от двора в деревню. – И там через несколько месяцев умер. Как утверждают, от разбитого сердца, – говорит Уильям Фицуильям. Общий вздох за столом. Вот так оно и бывает, труд всей жизни позади, впереди – сельская тоска: вереница неотличимых дней от воскресенья до воскресенья. Без Генриха, без света его улыбки. Вечный ноябрь, вечные унылые сумерки. – Посему мы вспоминаем его, – говорит сэр Николас Кэрью, – нашего старого друга. И пьем – Полет не в обиде – за того, кто был бы гофмаршалом и сейчас, иди все законным чередом. Кэрью мрачен, как на похоронах; этому чопорному господину неведома легкомысленная веселость. Он, Кромвель, просидел за столом неделю, прежде чем сэр Николас удостоил его взглядом и подвинул блюдо с мясом к нему поближе. Однако за прошедшее время отношения немного смягчились; с ним, Кромвелем, вообще ладить легко. Он видит: меж этими людьми, которых Болейны оттеснили от трона, царит дух товарищества, дух стойкости перед лицом общей беды. Они похожи на техевропейских сектантов, что ждут конца света, однако верят, что после вселенского пожара воссядут одесную Господа: поджаренные с одного боку, обугленные по краям, но, по Его милости, живые и бессмертные. Уильям Полет верно напомнил: он и сам знал Генри Гилфорда. Лет пять назад тот радушно принимал его в Лидском замке. Разумеется, Гилфорд чего-то хотел, каких-то кардинальских милостей. И все равно он, Кромвель, многому научился от сэра Генри: как тот ведет светскую беседу, как управляет домом, как осмотрителен и осторожен во всем. Позже он на примере сэра Генри узнал, как Анна Болейн может погубить человека и насколько его сотрапезники далеки от того, чтобы ее простить. Кэрью и иже с ним винят его, Кромвеля, который помог Анне возвыситься, убрав препятствия к новому браку короля. Он не ждет, что его примут в дружеский круг, лишь бы в тарелку не плевали. Однако когда он начинает говорить, Кэрью слегка оттаивает. Порой шталмейстер обращает к нему длинное, и впрямь лошадиное, лицо, порой моргает, как свойственно тугодумам, и спрашивает: «Надеюсь, господин секретарь, сегодня вы в добром здравии?» И покуда он ищет ответ по разуму сэра Николаса, Уильям Фицуильям ловит его взгляд и ухмыляется чуть заметно.В декабре на него рушится лавина бумаг. Часто под конец дня он кипит от злости, потому что отправил Генриху спешные документы, а королевские джентльмены решили придержать их на то время, пока государь не в духе. Несмотря на добрые известия от королевы, Генрих постоянно взвинчен. В любую минуту может задать самый неожиданный вопрос. Почем сегодня на рынке беркширская шерсть? Вы знаете турецкий? А почему нет? А кто знает? Кто основал Гексхемский монастырь? Семь шиллингов за мешок, и цена растет, ваше величество. Нет. Потому что никогда не бывал в тех краях. Если такого человека можно сыскать, я его найду. Святой Уилфред, сир. Он закрывает глаза. – Если не ошибаюсь, шотландцы сровняли его с землей, а Генрих Первый отстроил заново. – Почему Лютер уверен, что я должен признать догматы его церкви, а не он – мои? – вопрошает король. Накануне Дня святой Люсии Анна вызывает его к себе, отрывая от дел Кембриджского университета. На подходе к дверям сторожит леди Рочфорд, кладет руку ему на локоть. – На нее страшно смотреть. Ревет белугой. Вам еще не рассказали? Песик ее погиб. Мы побоялись говорить, передали через короля. Пуркуа? Ее любимец? Джейн Рочфорд вводит его к королеве. У бедной Анны лицо заревано так, что глаза превратились в щелочки. – Знаете? – шепчет леди Рочфорд. – Когда она выкинула прошлого ребенка, то не проронила ни слезинки. Фрейлины держатся от Анны на расстоянии, словно она в шипах. Как там сказал Грегори? «Анна вся локти и колючки». Ее не утешить, не приголубить – протянешь руку, гневно отпрянет, как от угрозы. Екатерина права. Королева одна со своим горем, будь то утрата мужа, собачки или ребенка. Анна приказывает женщинам уйти: машет на них, как малыш на ворон. Неспешно, словно вороны в павлиньих перьях, дамы подбирают шлейфы, оставляя по себе обрывки разговора: неоконченные сплетни и каркающий смех. Леди Рочфорд, самая упорная из птиц, снимается с места последней, как будто нехотя. Теперь они с Анной один на один, только в углу что-то бормочет карлица, шевелит руками перед лицом. – Глубоко соболезную, – произносит он, глядя в пол. Сейчас не время говорить, что она может завести другую собаку. – Его нашли… – Анна вскидывает руку, – вон там. Во дворе. Окно было открыто. Он лежал со сломанной шеей. Она не говорит, что Пуркуа сам выпал из окна, потому что, очевидно, думает иначе. – Помните, как мой кузен Фрэнсис Брайан привез его из Кале? Это было при вас. Фрэнсис вошел, и я сразу схватила Пуркуа на руки. Бедняжка никому не причинял зла. Какому злодею хватило духу его убить? Анну хочется утешить; она страдает, как будто мучили ее саму. – Наверное, он вспрыгнул на подоконник и поскользнулся. Про маленьких собачек думаешь, что они умеют падать на четыре лапы, как кошки, ан нет. Наша спаниелиха увидела мышь, спрыгнула у моего сына с рук и сломала лапу. У них косточки такие хрупкие. – И что с ней сталось? – Мы не смогли ее вылечить. Он смотрит на карлицу. Та ухмыляется в углу, ударяет кулаком о кулак. Зачем Анна держит при себе эту умалишенную? Ее надо отправить в богадельню. Анна, позабыв про изысканные французские манеры, трет глаза кулаками. – Что слышно из Кимболтона? – Она сморкается в платок. – Говорят, Екатерина проживет еще полгода. Он не знает, что ответить. Может, она ждет, что он отправит в Кимболтон человека – выбросить Екатерину из окна? – Французский посол жалуется, что дважды приходил к вам домой и вы его не приняли. Он пожимает плечами: – Я был занят. – Чем же? – Катал шары в саду. Да, оба раза. Я постоянно упражняюсь в игре, потому что если случается проиграть, бываю весь день не в духе и срываю зло на папистах. В другой раз Анна бы рассмеялась, сейчас даже не улыбается. – Я этого посла тоже не люблю, он не выказывает мне должного уважения, как прежний. И все равно вам следует быть к нему внимательнее, поскольку только король Франциск и защищает нас от Папы, иначе бы тот давно вцепился нам в горло. Фарнезе, как волк, оскаленный, из пасти каплет кровавая слюна. Едва ли Анна сейчас расположена говорить о политике, но попытаться стоит. – Франциск помогает нам не из любви. – Знаю. – Она перебирает в руках платок, ищет сухое место. – И уж точно не из любви ко мне. Я не настолько глупа, чтобы так думать. – Он всего лишь не дает Карлу нас захватить и стать единовластным повелителем мира. И булла об отлучении ему не по нраву. Не по нраву, что священник, будь он хоть римский епископ, берется свергать королей. Вот бы кто-нибудь умный открыл Франциску глаза на его собственный интерес. Присоветовал встать во главе церкви, как наш государь. – У него нет своего Кремюэля. – Анна улыбается сквозь слезы. Он ждет. Знает ли Анна, как относятся к ней французы? Они уже не верят в ее влияние на Генриха. И пусть вся Англия присягнула ее будущим детям, никто за границей не представляет маленькую Елизавету на троне. Как сказал ему французский посол (при последней встрече): коли выбор из двух женщин, почему бы не предпочесть старшую? Да, Мария испанских кровей, ну так хоть королевских. И она по крайней мере уже не пачкает пеленки. Карлица выезжает из угла на заду, тянет хозяйку за юбки. – Отстань, Мария! – Анна видит выражение его лица и смеется. – Так вы не знали, что я заново окрестила мою дурочку? Королевская дочка почти карлица, ведь верно? Даже ниже матери. Увидели бы ее французы, пришли бы в ужас. Думаю, у них и мысли бы не осталось, что она может наследовать королю. О да, Кремюэль, я отлично знаю, что они интригуют за моей спиной. Они принимали моего брата, но на самом деле и не собирались договариваться о браке Елизаветы. Ну вот, думает он, значит, она все-таки поняла наконец, что к чему. – Все это время они пытались устроить брак дофина с испанской приблудой. Улыбались мне в лицо, а сами строили против меня козни. А вы знали и молчали. – Мадам, – говорит он, – я пытался вам сказать. – Как будто меня не существует. Как будто моей дочери нет. Как будто Екатерина все еще королева. – Ее голос становится резче. – Я этого не потерплю. «Что вы сделаете?» – думает он, и она почти без паузы отвечает на незаданный вопрос: – Я придумала, как поступить. С Марией. Он ждет. – Я поеду к ней. И не одна. А с приятными молодыми джентльменами. – В них у вас недостатка нет. – Или почему бы вам, Кремюэль, ее не навестить? В вашей свите тоже красавцев хватает. Вы знаете, что несчастная в жизни не слышала комплимента? – Думаю, от отца все-таки слышала. – Для восемнадцатилетней девицы отец уже ничто. Ей нужно совсем другое внимание. Поверьте мне, я сама была такой же дурочкой, как и все. Она мечтает, чтобы кто-нибудь писал ей стихи и вздыхал, когда она входит в комнату. Признайте, что этот подход мы еще не испробовали. Соблазнить ее. – Вы предлагаете мне ее скомпрометировать? – Нам с вами это вполне по силам. Можете даже соблазнить ее сами, кто-то сказал мне, что вы ей нравитесь. А мне было бы занятно посмотреть, как Кремюэль разыгрывает влюбленного. – Лишь глупец станет приближаться к Марии. Король его убьет. – Я не предлагаю с ней переспать. Видит Бог, я не стану требовать от друзей такой жертвы. Только и нужно, чтобы она публично выставила себя дурой. – Нет, – отвечает он. – Почему? – Это не моя цель и не мои методы. Анна багровеет. Кожа у нее на горле идет пятнами от злости. Он думает: сейчас она готова на все, для нее нет границ. – Вы пожалеете, что так со мной говорили. Вы думаете, что достигли вершин власти и я вам больше не нужна. – Голос у нее дрожит. – Мне все известно про вас и Сеймуров. Вы думаете, это тайна, но я знаю все. Когда мне сказали, я была потрясена. Я не думала, что вы поставите свои деньги на такую дрянную карту. Чем может похвалиться Джейн Сеймур, кроме девственности, и что проку от девственности на следующее утро? Вчера она королева его сердца, сегодня – очередная девка, которой не хватило мозгов держать ноги вместе. У Джейн ни ума, ни красоты. Она за неделю Генриху надоест, он отправит ее назад в Вулфхолл и забудет. – Возможно, – говорит он. И впрямь не исключено, что так и будет; этот вариант не следует сбрасывать со счетов. – Мадам, когда-то вы прислушивались к моим советам, прислушайтесь и теперь. Не утомляйте себя дурными мыслями. Вы сами говорили, что они могут повредить ребенку. Склонитесь перед желаниями короля. Что до Джейн, она бледна и незаметна, ведь так? Вот и не замечайте ее. Отворачивайтесь и не смотрите на то, чего вам видеть не надо. Анна, сцепив руки на коленях, подается вперед. – Я тоже дам вам совет, Кремюэль. Примиритесь со мной до того, как родится ребенок. Даже если это будет девочка, я рожу еще. Генрих меня не бросит. Он слишком долго ждал, и я не обманула его ожиданий. А отвернуться от меня значит зачеркнуть те великие и дивные труды, что совершены в этой стране при мне. Я о евангельских трудах. Генрих не склонится перед Римом. После моей коронации Англия стала иной, и без меня она не устоит. Ошибаетесь, мадам, думает он, если надо будет, я вычеркну вас из истории. А вслух говорит: – Надеюсь, мы не в ссоре. Я всего лишь даю вам дружеский совет. Вы знаете, я – отец семейства, вернее, был им прежде. Я всегда советовал жене не волноваться, пока она в тяжести. Если я чем-нибудь могу быть вам полезен, скажите, я все исполню. – Он поднимает на нее глаза. – Но не угрожайте мне, сударыня, я этого не люблю. – Мне плевать, что вы любите. Помните, мастер Кромвель, тех, кого подняли из грязи, можно сбросить обратно в грязь. – Полностью согласен. Он откланивается. Ему жалко Анну: она пускает в ход женское оружие, поскольку не имеет другого. В соседней комнате поджидает Джейн Рочфорд. – Все хнычет? – спрашивает она. – Нет, уже взяла себя в руки. – Она подурнела, вам не кажется? Может, слишком много была этим летом на солнце? У нее появляются морщины. – Я ее не разглядывал, мадам. Подданному это не пристало. – Вот как? – со смехом отвечает Джейн. – Так я вам скажу. Она выглядит на свои годы и даже старше. Наши лица не случайны, они несут следы всех наших грехов. – Господи! Чем же я так нагрешил? Она хохочет: – Господин секретарь, это мы все очень хотели бы знать. Однако, быть может, не у всех лицо – зеркало души. Говорят, Мэри Болейн у себя в деревне цветет, как майский день. Где справедливость? Мэри – с которой кто только не спал. А поставить их рядом – так Анна покажется… как это сказать? Истасканной. Щебеча, в комнату впархивают другие дамы. – Она там одна? – спрашивает Мэри Шелтон (как будто Анну нельзя оставлять и на минуту) и, подхватив юбки, бежит в соседнюю комнату. Он прощается с леди Рочфорд, но кто-то путается под ногами, мешает идти. Это карлица на четвереньках. Она рычит и как будто хочет его укусить. Он еле сдерживается, чтобы не отпихнуть ее ногой. Дневные заботы идут своим чередом. Он гадает, каково Джейн Рочфорд быть замужем за человеком, который ее унижает и открыто путается с другими. Этого не узнать: у него нет способа проникнуть в ее чувства. Однако ему неприятно, когда Джейн трогает его за руку: у нее из пор словно сочится несчастье. Она смеется ртом, но не глазами; они так и стреляют по сторонам, примечая все и вся. В тот день, когда из Кале доставили Пуркуа, он, Кромвель, поймал Фрэнсиса Брайана за рукав: «Где мне раздобыть такого же?» А, для вашей милой, сказал одноглазый черт в надежде подцепить сплетню. Нет, с улыбкой ответил он, для себя. Письма полетели через пролив, Кале забурлил. Государственный секретарь хочет песика. Отыщите ему, отыщите скорее, пока кто другой не расстарался. Леди Лайл, супруга губернатора, почти готова была расстаться с собственным любимцем. Ему прислали целый пяток спаниелей, пятнистых и улыбающихся, с миниатюрными лапками и пушистым хвостом. Однако ни один не умел, как Пуркуа, смотреть, вопросительно подняв уши. Pourquoi? Хороший вопрос.
Рождественский пост. В кладовых изюм, миндаль, мускатный орех и мускатный цвет, инжир, лакрица, гвоздика, имбирь. Послы английского короля в Германии ведут переговоры со Шмалькальденской лигой, союзом немецких протестантских князей. Император в Неаполе. Барбаросса в Константинополе. Антони в главном зале Стипни, сидит на деревянной лестнице в балахоне, расшитом звездами и полумесяцами. Кричит: – Как дела, Том? Над головой у Антони качается Рождественская звезда. Он, Кромвель, смотрит на ее посеребренные лучи, острые, как ножи. Антони в доме только с прошлого месяца, но уже невозможно представить его нищим у ворот. Когда возвращались из Кимболтона, у входа в Остин-фрайарз собралась огромная толпа. В провинции его, может быть, и не знают, однако здесь, в Лондоне, королевский секретарь известен всем. Народ пришел поглазеть на ливрейных слуг, на свиту и лошадей, но он в тот раз ездил без шума, в сопровождении лишь нескольких усталых телохранителей. «Где были, лорд Кромвель?» – закричал кто-то, словно он должен отчитываться перед лондонцами обо всех своих делах. Порой он видит себя в лохмотьях, солдатом разбитой армии, бездомным мальчишкой, бродягой у собственных ворот. Они уже собирались въехать во двор, когда через толпу пробился тощий человечек и вцепился в его стремя. Человечек безудержно рыдал и был настолько жалок, настолько явно не мог причинить никому вреда, что телохранители не стали его отгонять, хотя у самого Кромвеля мороз пробежал по коже: вот так тебя и ловят, отвлекают твое внимание, в то время как убийца с кинжалом подбирается со спины. Однако позади надежная стена телохранителей, а человечек трясется так, что выхвати сейчас клинок – бухнется на колени. Он наклоняется в седле. – Я тебя знаю? Вроде бы я видел тебя здесь раньше. По впалым щекам катятся слезы. Во рту ни единого зуба – тут поневоле заплачешь. – Да благословит вас Бог, милорд. Да подаст Он вам богатство и процветание. – Подает, не жалуюсь. Ему надоело объяснять всем и каждому, что он им не милорд. – Возьмите меня к себе, – молит человечек. – Как видите, я в лохмотьях. Я готов, если вам будет угодно, спать вместе с собаками. – Собакам это едва ли будет по вкусу. Кто-то из телохранителей говорит: – Вытянуть его хлыстом, сэр? Человечек вновь принимается рыдать. – Ш-ш-ш, – говорит он, как ребенку. Плач становится громче, слезы хлещут так, будто их качают насосом. Может, этот бедолага все зубы себе выплакал? Такое бывает? – Я остался без хозяина, – рыдает несчастный. – Мой бедный господин погиб при взрыве. – Господи помилуй, что за взрыв? Это уже серьезно: на что люди переводят порох, который нужен нам для войны с императором? Человечек шатается, обхватив себя за грудь – ноги не держат. Он, Кромвель, наклонившись, хватает его за шиворот; не хватало только, чтобы этот оборванец рухнул на землю и напугал лошадей. – Стой прямо. Как тебя зовут? Сдавленный всхлип. – Антони. – Что ты умеешь, кроме как рыдать? – С вашего позволения, на прежнем месте меня очень ценили. До того как… увы! – Человечек заходится в рыданиях. – До взрыва, – терпеливо говорит он. – Так что ты делал? Поливал сад? Чистил нужники? – Увы, – плачет несчастный. – Ничего такого полезного. – Грудь его вздымается. – Сэр, я был шутом. Он, Кромвель, выпускает шиворот человечка и принимается хохотать. В толпе недоверчиво хмыкают. Телохранители прыскают от смеха. Человечек выпрямляется и смотрит ему в лицо. Слезы больше не текут, на губах – робкая улыбка. – Так я иду с вами, сэр? Сейчас, под Рождество, Антони без устали рассказывает домашним о разных бедах, приключавшихся с его знакомцами в это время года: кого-то поколотил трактирщик, у кого-то сгорела конюшня, у кого-то разбежался скот. Домашние слушают, раскрыв рот. Антони умеет говорить разными голосами, мужскими и женскими, заставляет собак дерзко отвечать хозяевам, передразнивает посла Шапюи и вообще любого – только назови имя. – А меня ты изображаешь? – спрашивает он. – Где уж мне! – отвечает шут. – Хорошо иметь хозяина, который картавит, или поминутно крестится и восклицает: «Святые угодники!», или хмурится, или у него дергается веко. А вы не насвистываете, не шаркаете ногами, не щелкаете пальцами. – У моего отца был исключительно дурной нрав, так что я с детства приучен вести себя тихо. Если он меня замечал, то колотил. – А что там, – Антони, глядя ему в глаза, постукивает себя по лбу, – никому не ведомо. Мне проще изобразить ставень. У доски и то больше выражения. У кадки. – Если хочешь другого хозяина, я дам тебе рекомендации. – Я придумаю, как вас изобразить. Когда научусь изображать дверной косяк. Межевой камень. Статую. На севере есть статуи, которые двигают глазами. – У меня таких несколько. Под замком. – А ключ не дадите? Хочу посмотреть, как они двигают глазами в темноте, без служителей. – Ты папист, Антони? – Возможно. Я люблю чудеса. Совершал паломничества. Но кулак Кромвеля ближе, чем рука Божья. В Сочельник Антони поет «В кругу друзей забавы», изображает короля, нацепив вместо короны миску, раздувается на глазах: тощие руки и ноги становятся мясистыми. У короля смешной голос, слишком высокий для такого здоровяка. Обычно при дворе мы делаем вид, будто не замечаем этого. Однако сейчас он смеется, прикрывая рукой рот. Где Антони видел короля? Да так близко, что запомнил каждое движение? Может, много лет вертелся во дворце, получая поденную плату, и никто не спросил, откуда такой взялся. Если можешь изобразить короля, сумеешь изобразить и деловитого слугу. Наступает Рождество. Звонят колокола Святого Дунстана. В воздухе порхает снег. У спаниелей на шее ленточки. Первым приходит мастер Ризли, который в свои кембриджские деньки блистал на тамошней сцене, а теперь руководит всеми домашними спектаклями. – Дайте мне маленькую роль, – упрашивал его Кромвель. – Скажем, дерева. Тогда мне не придется ничего учить. Деревья шутят экспромтом. – В Индии, – встревает Грегори, – деревья умеют ходить. В сильный ветер они поднимаются на корнях и уходят туда, где меньше дует. – Кто тебе сказал? – Боюсь, что я, – отвечает Зовите-Меня-Ризли. – Но, думаю, беды не случилось, а Грегори зато порадовался. Хорошенькая жена Ризли наряжена девой Мэрион, волосы распущены и ниспадают до талии. Сам Ризли в женском платье, его двухлетняя дочь цепляется за юбки. – Я – девственница, – объявляет Зовите-Меня. – Сегодня они такая редкость, что на их поиски отправляют единорогов. – Фу. Подите переоденьтесь. – Он поднимает вуаль на лице Ризли. – Не больно вы похожи на девицу, с вашей-то бородой. Зовите-Меня делает реверанс. – Но мне нужно маскарадное платье, сэр. – У нас остался костюм червяка, – вставляет Антони. – Или можете нарядиться исполинской розой. – Святая Ункумбера была девственница, и у нее выросла борода, – сообщает Грегори. – Борода отпугивала ухажеров и защищала ее целомудрие. Женщины молятся святой Ункумбере, когда хотят избавиться от мужей. Зовите-Меня уходит переодеваться. В червяка или в цветок? – Нарядитесь червяком в цветке! – кричит вслед Антони. Входят Рейф и племянник Ричард, переглядываются. Он, Кромвель, берет на руки дочку мастера Ризли, хвалит ее чепец, спрашивает про новорожденного братца. – Мистрис, я позабыл ваше имя. – Меня зовут Элизабет, – отвечает дитя. – Вас теперь всех, что ли, так называют? – смеется Ричард Кромвель. Я переманю Зовите-Меня на свою сторону, думает он, окончательно докажу ему, что служить Гардинеру невыгодно, а выгодно быть верным только мне и королю. Когда приходит Ричард Рич с женой, он восхищается ее новыми рукавами червленого атласа. – Роберт Пакингтон запросил за них шесть шиллингов, – негодует она. – И четыре пенса за подкладку. – А Рич ему заплатил? – смеется он. – Лучше не платить, а то Пакингтон совсем обнаглеет. Приходит и сам Пакингтон, насупленный и мрачный, явно хочет что-то сказать – и не просто осведомиться о здоровье. С Пакингтоном Гемфри Монмаут, член гильдии суконщиков, несгибаемый реформат. – Уильям Тиндейл по-прежнему в тюрьме и приговорен к казни. – Пакингтон собирается с духом. – В наш праздник я думаю о его страданиях. Что ты сделаешь для нашего брата, Томас Кромвель? Пакингтон евангелист, реформат, один из старейших друзей Кромвеля, и Кромвель по-дружески излагает ему свои затруднения: для переговоров с властями Нидерландов нужно королевское разрешение Генриха, которого Генрих не даст, поскольку Тиндейл не признал его развод. Как и Мартин Лютер, Тиндейл считает брак с Екатериной законным и упрямо стоит на своем, не слушая никаких резонов. Уж казалось бы, для спасения собственной жизни можно и уступить королю, но Тиндейла сдвинуть не легче, чем гранитную глыбу. – Так пусть идет на костер, ты это хочешь сказать? Счастливого тебе Рождества, господин секретарь. Люди говорят, деньги бегут за тобой, как спаниели за хозяином. Он берет Пакингтона за локоть. – Роберт… – И тут же отступает на шаг. – Да, люди говорят правду. Он знает, о чем думает его друг. Государственный секретарь способен повлиять на короля, но не заступается за Тиндейла, потому что озабочен только своей мошной. Хочется сказать: Бога ради, дайте мне хоть день передышки. Монмаут говорит: – Ты помнишь наших братьев, которых сжег Томас Мор? И тех, кого он затравил до смерти? Тех, кого сломило заточение? – Тебя оно не сломило. И ты дожил до казни Мора. – Однако он тянет руки из могилы, – говорит Пакингтон. – Мор разослал агентов, они и выдали Тиндейла голландским властям. Коли тебе не по силам убедить короля, может, его умилостивит королева? – Королева сама нуждается в помощи. И если вы хотите ей помочь, скажите женам – пусть придержат свои злые языки. Дочери (вернее, падчерицы) Рейфа зовут его полюбоваться их нарядами, однако от разговора остался горький привкус во рту, который не пройдет до конца праздника. Антони сыплет шутками; он, Кромвель, не слушая, смотрит на девочку в костюме ангела. За спиной у нее крылья из павлиньих перьев, сделанные им для Грейс когда-то давным-давно. Давным-давно? Еще и десяти лет не минуло. Глазки2 на перьях мерцают; день темный, но свечи озаряют алые ягоды остролиста в венках из золотой мишуры, серебряную Рождественскую звезду. Вечером, когда за окном сыплет снег, Грегори спрашивает его: – Где теперь живут мертвые? Есть у нас Чистилище или нет? Говорят, оно по-прежнему существует, но никто не знает где. Говорят, без толку молиться за страдающие души. Мы уже не можем, как раньше, их отмолить. Когда умерли его близкие, он сделал все, что тогда было положено: внес пожертвования, заказал мессы. – Не знаю. Король не позволяет проповедовать о Чистилище, слишком это спорный вопрос. Можешь побеседовать с епископом Кранмером. – Он кривит рот. – Узнаешь от него, как принято думать сегодня. – Очень грустно, что мне не разрешают молиться за маменьку. Или говорят: молись, если хочешь, но тебя все равно никто не услышит. Как вообразить полнейшую тишину в преддверии Божьих покоев, где каждый час – десять тысяч лет? Раньше представлялось, что души усопших лежат в огромной сети, в протянутой Богом паутине – хранятся там до поры, когда им придет время вступить в Его свет. Но коли она порвана, высыпались ли души в ледяное ничто, падают ли с каждым годом все дальше в безмолвие, чтобы в конце концов исчезнуть без следа? Он подводит малышку к зеркалу – показать крылья. Девочка ступает мелкими шажками, благоговея перед самой собой. Павлиньи глазки2 говорят с ним из зеркала. Не забывай нас. На исходе каждого года мы здесь: шепот, касание, веяние перышка между тобой и нами.
На четвертый день Святок в Стипни приезжает Эсташ Шапюи, посол Священной Римской империи. Все радушно встречают гостя, желают ему счастья на латыни и на французском. Эсташ – савойяр, немного знает испанский, английским не владеет совсем, хотя последнее время начал кое-что понимать на слух. В Лондоне они сдружились домами после того, как в особняке Шапюи случился пожар и черные от копоти погорельцы, таща на себе уцелевшие пожитки, заколотили в ворота Остин-фрайарз. Посол лишился мебели и гардероба; нельзя было без смеха смотреть, как бедолага кутается в обгорелую занавеску поверх одной лишь ночной рубашки. Шурину Джону Уилкинсону пришлось освободить для нежданного визитера свою комнату; домашние посла ночевали в гостиной на соломенных тюфяках. На следующий день щуплый испанский посланник вынужден был, к своему смущению, явиться на людях в непомерно большой одежде с хозяйского плеча – не надевать же кромвелевскую ливрею, а другого платья в доме не сыскали. Кромвель тут же задал работу портным. «Не знаю, найдем ли мы ваш любимый огненно-алый шелк, но я уже написал в Венецию». На следующий день они вместе обошли полусгоревший дом. Разгребая палкой мокрую черную массу – все, что осталось от официальных бумаг, – Шапюи тихонечко всхлипнул. «Как вы думаете, это Болейны?» Посол так и не признал Анну Болейн, так и не был ей представлен. Генрих сказал, что Шапюи не увидит новую королеву, пока не согласится приветствовать ее, как положено. Шапюи верен старой королеве, той, что сейчас в Кимболтоне. Генрих говорит: когда-нибудь, Кромвель, надо ткнуть его носом в реальность. Хотел бы я видеть, как поведет себя Шапюи, если окажется перед Анной и увильнуть будет некуда. Сегодня на голове у посла курьезная шапка – такая больше пристала бы повесе вроде Джорджа Болейна, чем солидному дипломату. – Как она вам, Кремюэль? – Посол сдвигает шапку набекрень. – Очень к лицу. Мне надо будет раздобыть себе такую же. – Позвольте вам презентовать… – Шапюи изысканным жестом сдергивает убор с головы, но тут же замирает. – На вашу голову не налезет. Я закажу для вас чуть больше. – Берет Кромвеля под руку. – Мон шер, общество ваших домашних, как всегда, чрезвычайно приятно, но нельзя ли нам поговорить с глазу на глаз? Наедине посол сразу бросается в бой: – Говорят, король прикажет священникам жениться. Атака застает его врасплох, но он решает не терять благодушия. – Тут есть свои хорошие стороны – лицемерия было бы меньше. Однако могу вас заверить, этого не будет. Король и слышать о таком не желает. – Он пристально смотрит на Шапюи: уж не прознал ли тот, что Кранмер, архиепископ Кентерберийский, тайно женат? Нет, в таком случае посол не стал бы молчать. Все они, так называемые католики, ненавидят Томаса Кранмера почти как Томаса Кромвеля. Он указывает послу на лучшее кресло. – Может, присядем и выпьем немного кларету? Шапюи не дает сменить разговор. – Я слышал, вы хотите выбросить на улицу всех монахов и монахинь. – Кто вам сказал? – Подданные вашего короля. – Послушайте, сударь. Мои проверяющие только и слышат от монахов, что просьбы их отпустить. А монахини в слезах умоляют моих людей избавить их от неволи. Я собираюсь назначить монахам пенсии или отыскать полезное занятие. Если они учены, пусть идут в университеты. Если рукоположены – в приходы. И монастырские деньги, хотя бы отчасти, я хочу отдать приходским священникам. Не знаю, как в вашей стране, а у нас иные приходы дают четыре-пять шиллингов в год. Как печься о душах за деньги, которых не хватает на дрова? А когда священники получат доход, на который возможно жить, я поручу каждому наставлять и поддерживать одного бедного студента, чтобы тот мог окончить университет. Начиная со следующего поколения у нас будет образованное духовенство. Передайте своему господину мои слова. Объясните, что я хочу не растоптать религию, а возрастить. Однако Шапюи нервно теребит рукав и гнет свое: – Я не лгу своему господину. Я рассказываю о том, что вижу. А вижу я народное недовольство, Кремюэль, нищету и голод. Вы покупаете зерно во Фландрии. Благодарите императора, что тот позволяет своим землям вас кормить. Вы же знаете, он может закрыть порты. – Чего ради ему морить голодом моих соотечественников? – Чтобы они поняли, как дурно ими управляют, до чего довели их королевские непотребства. Что ваши послы делают в Германии? Говорят с тамошними князьями, говорят, говорят, месяц за месяцем. Знаю, они хотят заключить союз с лютеранами и завести здесь такие же порядки. – Король не позволит изменить чин мессы. Он ясно об этом говорит. Шапюи поднимает палец. – Однако еретик Меланхтон посвятил ему книгу! Книгу не спрячешь, верно? Сколько бы вы это ни отрицали, Генрих рано или поздно отменит половину таинств и войдет в союз с еретиками против моего господина, их законного императора. Генрих начал с насмешек над Папой, а закончит дружбой с дьяволом. – Сдается, вы знаете его лучше меня. Генриха, я хочу сказать. Не дьявола. Ничто не предвещало такого поворота событий. Всего десять дней назад они с Шапюи дружески ужинали, и посол сказал, что император думает только о безопасности страны. Тогда и речи не было о блокаде, о том, чтобы уморить Англию голодом. – Эсташ, – спрашивает он, – что стряслось? Тот резко садится, упирает локти в колени и подается вперед. Шапка сползает на лоб, и посланник без всякого сожаления бросает ее на стол. – Томас, мне написали из Кимболтона. Сообщают, что королева не может есть, даже пить не может – ее тошнит. За шесть ночей она не проспала двух часов кряду. – Шапюи трет кулаками глаза. – Ей остались считанные дни. Я не хочу, чтобы она умерла одна, не видя рядом ни одного любящего лица, и боюсь, что король меня к ней не пустит. Вы позволите мне поехать? Горе Шапюи неподдельно, оно идет от сердца, а не от обязанностей посла. – Мы поедем в Гринвич и спросим короля, – говорит он, Кромвель. – Сегодня. Сейчас. Надевайте свой колпак.
На барке он говорит: – Ветер почти весенний. Будет оттепель. Шапюи только сильнее кутается в овечий мех. – Сегодня король собирался участвовать в турнире. – На снегу? – фыркает посол. – Поле можно расчистить. – Уж конечно, руками монахов. Ну как тут не рассмеяться! – Нам надо надеяться, если турнир состоялся – тогда Генрих сейчас настроен благодушно. Он только что навещал маленькую принцессу в Элтхеме. Спросите о ее здоровье. И вам следует сделать ей новогодний подарок, вы этим озаботились? Посол только злобно сверкает глазами: ему бы хотелось пристукнуть маленькую Елизавету, а не слать ей подарки. – Хорошо, что река не встала. Иногда мы не можем путешествовать на лодках несколько недель. Видели замерзшую Темзу? Никакого ответа. – Екатерина сильна, вы же знаете. Если не наметет еще снега и король разрешит, сможете выехать завтра утром. Она болела и прежде, но всегда выкарабкивалась. Вот увидите: она будет сидеть на постели и еще удивится, чего вы приехали. – Зачем вы болтаете? – мрачно спрашивает посол. – На вас это непохоже. И впрямь, зачем? Смерть Екатерины станет для Англии избавлением. Карл, при всей своей нежной любви к тетке, не будет продолжать ссору из-за покойницы. Угроза войны исчезнет. Начнется новая эра. Лишь бы Екатерина не слишком мучилась – в этом нет никакой надобности. Они швартуются у королевской пристани. Посол говорит: – У вас такая долгая зима. Хотел бы я помолодеть и вновь оказаться в Италии. Пристань расчищена, но поля по-прежнему заметены снегом. Посол учился в Турине. Там нет такого ветра, завывающего между башнями, словно неупокоенный дух. – Вы забыли про болота? Про вредные испарения? Я, как и вы, помню только солнце. – Он под локоток сводит посла на берег. Шапюи двумя руками придерживает колпак. Бахрома намокла и обвисла, сам посол выглядит так, будто сейчас расплачется. Их встречает Гарри Норрис. – «Добрый Норрис», – шепчет Шапюи. – Нам еще повезло, мог бы оказаться кто-нибудь похуже. Норрис, как всегда, сама учтивость. – Было несколько поединков, – отвечает он на вопрос Кромвеля. – Его величество выиграл во всех и сейчас пребывает в отличном расположении духа. Мы переодеваемся для маски. Всякий раз при виде Норриса ему вспоминается бегство Вулси в пустой и холодный Эшерский дом: кардинал на коленях в грязи, бормочет благодарности, потому что король отправил ему вдогонку Норриса с ободряющими словами. Вулси встал на колени, чтобы вознести хвалу Богу, но казалось, что он бухнулся в грязь перед Норрисом. И всей обходительности Норриса не изгладить из памяти Кромвеля эту картину. Во дворе беготня, толчея, музыканты настраивают инструменты, старшие слуги нещадно гоняют младших. Король выходит к ним вместе с французским послом – неприятный сюрприз для Шапюи. Обязательный обмен преувеличенными любезностями. Как легко Шапюи возвращается в свой всегдашний образ, как изысканно кланяется королю. У такого бывалого дипломата даже колени и поясница гнутся послушнее, чем у других людей. Ни дать ни взять танцмейстер. Курьезную шапку держит в руке. – С Рождеством, посол, – говорит король и добавляет с надеждой: – Французы прислали мне великолепные подарки. – Подарки от императора доставят вашему величеству к Новому году, – обещает Шапюи. – Вы найдете их еще более великолепными. – С Рождеством, Кремюэль, – обращается к нему французский посол. – Сегодня в шары не играете? – Сегодня я в полном вашем распоряжении, сударь. – Я откланиваюсь, – произносит француз, желчно глядя в сторону короля, который уже взял другого посла под руку. – Ваше величество, позвольте на прощание заверить в сердечной любви короля Франциска. – Косится на Шапюи. – При поддержке Франции вы сможете царить невозбранно и больше не страшиться Рима. – Невозбранно? – переспрашивает он, Кромвель. – Вы чрезвычайно любезны, господин посол. Француз, небрежно кивнув, идет к двери, на ходу задевает Шапюи рукавом узорчатого атласа. Шапюи весь подбирается, отдергивает колпак, словно боится заразы. – Подержать вашу шапку? – шепотом предлагает Норрис. Однако Шапюи смотрит только на короля. – Королева Екатерина… – Вдовствующая принцесса Уэльская, – строго поправляет Генрих. – Да, мне сообщили, что старушку опять рвет. Так вы здесь из-за этого? Гарри Норрис шепчет: – Мне надо нарядиться мавром. Вы простите, если я отлучусь, господин секретарь? – Идите, мы как-нибудь управимся, – отвечает он. Норрис выскальзывает из комнаты. Следующие десять минут король пылко лжет. Французы-де надавали ему обещаний, и во все эти обещания он верит. Герцог Миланский скончался, на герцогство претендуют и Карл, и Франциск, и если они не договорятся полюбовно, будет война. Разумеется, он друг императору, но французы обещали ему города, замки, даже морской порт, так что его долг правителя – задуматься о заключении военного союза. С другой стороны, он понимает, что император может сделать столь же, если не более выгодное предложение… – Я ничего от вас не скрываю, – говорит Генрих. – Мы, англичане, честны и прямодушны. Англичанин не станет лукавить даже ради собственного блага. – Вы чересчур хороши для нашего бренного мира, – буркает Шапюи. – Коли вы не в силах позаботиться о благе собственной страны, придется мне сделать это за вас. Позвольте напомнить: в последние месяцы, когда вам нечем было кормить народ, друзья-французы ничем вам не помогли, и если бы не разрешение моего господина вывозить фламандское зерно, ваша страна являла бы сейчас груды трупов отсюда и до шотландской границы. Легкое преувеличение. По счастью, Генрих сегодня настроен празднично. Короля радуют пиры, забавы, предстоящая маска. Еще больше радует мысль, что бывшая жена далеко в болотистом краю скоро испустит дух. – Идемте, Шапюи, побеседуем наедине. – Его величество тянет посла к двери во внутренние покои и, обернувшись, подмигивает Кромвелю. Однако посол не идет, так что король тоже вынужден остановиться. – Ваше величество, об этом можно будет поговорить позже. Мое дело не терпит отлагательств. Умоляю, дозвольте мне поехать к… к Екатерине. И ради всего святого, разрешите дочери с ней увидеться. Возможно, это будет последний раз. – Я не могу отпустить леди Марию, не спросивши моих советников, и вряд ли их удастся сегодня собрать. Сами знаете, что нынче с дорогами. А вы-то сами как намерены ехать? Вы отрастили крылья? Король со смехом берет посла под локоток и уводит. Он, Кромвель, стоит и смотрит на закрытую дверь. Какая ложь за ней сейчас звучит? Шапюи должен будет наобещать золотые горы, чтобы перебить ту цену, которую Генриху якобы дает Франция. Как бы поступил сейчас кардинал? Вулси говорил: «И чтобы я не слышал отговорок, мол, неизвестно, о чем беседуют за закрытыми дверями. Пойдите и выведайте». Итак. Нужно под каким-то предлогом войти вслед за королем и послом. Однако дорогу преграждает Норрис в наряде мавра, с начерненным сажей лицом, улыбающийся, но бдительный. Веселая рождественская забава: сделай Кромвелю пакость. Он уже хочет взять Норриса за плечо и убрать с пути, когда мимо них вразвалку проходит небольшой дракон. – Фрэнсис Уэстон, – фыркает Норрис и сдвигает с высокого лба курчавый шерстяной парик. – Сейчас этот дракон шмыг-шмыг в королевины покои – выпрашивать сласти. – Сдается мне, Гарри Норрис, вы недовольны, – со смехом говорит Кромвель. Чему удивляться? Разве сам Норрис не стоял у королевы под дверью? Тот отвечает: – Она будет забавляться с ним и хлопать его по крупу. Она любит щенят. – Выяснили, кто убил Пуркуа? – Не говорите так, – умоляет мавр. – Он сам выпал из окна. Сбоку возникает Уильям Брертон, вопрошает громко: – Где этот треклятый дракон? Мне выходить сразу за ним. Брертон наряжен древним охотником, в шкуре самолично добытого зверя. – Это настоящий леопард, Уильям? Где вы его убили? В Честере? – Он критически оглядывает наряд. Судя по всему, шкура надета прямо на голое тело. – Прилично ли так? – На Святках разрешено все! Не может же древний охотник быть в джеркине! – Лишь бы взгляд королевы не оскорбило что-нибудь недолжное. – Она не увидит ничего такого, чего не видела прежде! – смеется мавр. – Вот как? – Кромвель поднимает бровь. Для мавра Норрис чересчур легко краснеет. – Вы понимаете, о чем я. Не видела бы у короля. Кромвель поднимает руку: – Заметьте, не я начал этот разговор. Дракон, кстати, ушел туда. Год назад Брертон шел по Уайтхоллу, насвистывая, как конюх, и остановился, чтобы сказать ему: – Говорят, король, когда бывает недоволен бумагами, бьет вас по голове. Тебе самому дадут по макушке, подумал он тогда. Что-то в Уильяме Брертоне заставляет его вновь почувствовать себя патнемским драчуном. Этот оскорбительный слух передавали ему и раньше. Всякий, знающий Генриха, поймет, что такого не может быть. Король – зерцало учтивости и, когда хочет кого-нибудь поколотить, не марает рук, а поручает это подданным. Да, они иногда спорят. Однако если бы Генрих хоть раз его тронул, он бы развернулся и ушел. Европейские правители зазывают его к себе, сулят деньги и замки. Брертон, повесив лук на леопардовое плечо, направляется к покоям королевы. Кромвель вновь заговаривает с Норрисом, но его голос тонет в лязге и криках: «Дорогу герцогу Суффолкскому!» Герцог от пояса и выше в доспехе – небось упражнялся в одиночку на турнирном дворе. Широкое лицо раскраснелось, борода – она с каждым годом все пышнее и пышнее – почти закрывает кирасу. Храбрый мавр выступает вперед: «Его величество занят беседой с…» – однако Брэндон отбрасывает помеху с дороги, словно идет отвоевывать Гроб Господень. Он, Кромвель, следует за герцогом по пятам, жалея, что не может набросить на того сеть. Брэндон ударяет кулаком в дверь и распахивает ее, не дожидаясь ответа. – Бросайте все, чем заняты, ваше величество. Клянусь Богом, у меня для вас отличные вести. Старуха вот-вот отдаст Богу душу, вы не сегодня завтра станете вдовцом. Тогда вы прогоните нынешнюю, женитесь на французской принцессе и возьмете в приданое Нормандию… – Брэндон замечает Шапюи. – А, посол. Убирайтесь-ка восвояси, не ждите объедков с нашего стола. Езжайте домой к собственному Рождественскому ужину, вы нам тут без надобности. – Думайте, что говорите. – Генрих, бледный как полотно, надвигается на Брэндона с таким видом, будто хочет его убить. Держал бы в руке секиру – может, и убил бы. – Моя жена носит под сердцем дитя. Мы обвенчаны по закону. Чарльз Брэндон раздувает щеки: – Да, пока всё так. Но вы вроде бы говорили… Он, Кромвель, бросается к герцогу. Кто, во имя дьявола, подсказал Чарльзу эту мысль? Женить короля на французской принцессе! Наверняка затея принадлежит самому королю, потому что Брэндон бы до такого не додумался. Судя по всему, у короля две внешних политики: одна известна Кромвелю, другая – нет. Он хватает Брэндона. Тот на голову выше. Казалось бы, не в человеческих силах сдвинуть полтонны безмозглого мяса, облаченного от пояса в броню, однако у него получается. Скорее, скорее вытолкнуть Брэндона туда, где ошеломленный посол их не услышит. Только на другом конце королевской приемной он останавливается испрашивает: – Суффолк, как вам такое взбрело на ум? – Мы, лорды, осведомлены лучше вас. Король открывает нам свои истинные намерения. Вы думаете, будто знаете его секреты, но вы ошибаетесь. – Вы слышали, что он сказал. Анна носит под сердцем его дитя. Вы безумец, если думаете, что он сейчас от нее откажется. – Он безумец, если думает, что ребенок его. – Что? – Он отшатывается от Брэндона, словно кираса раскалена. – Если вы знаете что-то порочащее королеву, ваш долг подданного говорить без утайки. – Я говорил без утайки, и сами знаете, чего мне это стоило. Я сказал про Уайетта, и король вышвырнул меня от двора в деревню. – Втяните в это дело Уайетта, и я зашвырну вас в Китай. Лицо герцога темнеет от гнева. Как между ними до такого дошло? Всего несколько недель назад он крестил Брэндонова сына от новой малютки жены. Теперь герцог злобно скалится. – Щелкайте своими счётами, Кромвель. Вас зовут, когда королю нужны деньги. Государственные дела не про вашу честь. Вы – никто, король сам так говорит. Не вам, безродному простолюдину, беседовать с государями. Брэндон отодвигает его с дороги и вновь устремляется к королю. Удивительно, но некое подобие порядка вносит Шапюи, окаменевший от горя и возмущения. Посол встает между королем и разгоряченной герцогской тушей. – Позвольте откланяться, ваше величество. Вы, как всегда, показали себя любезнейшим из государей. Если я успею – а я надеюсь успеть, – для моего господина будет утешением узнать о последних часах своей тетки от собственного посла. – Это было моим долгом, – произносит Генрих, трезвея. – Доброго пути. – Я отправлюсь завтра с первым светом, – говорит посол, и они торопливо идут прочь, через толпу разряженных танцоров и скачущих деревянных лошадок, через стаю рыб, следующих за морским божеством. Огибают крепость – расписанное под камень, дощатое сооружение на смазанных колесах, едущее прямо на них. Такие же смазанные колеса наверняка крутятся в голове у посла: все, сказанное о женщине, которую Шапюи называет конкубиной, ложится в шифрованные строки будущих депеш. Бесполезно притворяться, будто кто-то чего-то не слышал: когда Брэндон орет, в Германии падают деревья. Вполне возможно, что посол сейчас внутренне ликует: конечно, не от того, что Генрих женится на французской принцессе, но от мысли, что Анне уже недолго называть себя королевой. Однако если и так, дипломат не подает виду. – Кремюэль, – говорит Шапюи, обратив к нему бледное сосредоточенное лицо. – Я слышал, что сказал герцог. О вас. О вашем положении. Кхе-хм. Не знаю, насколько вас это утешит, но я и сам низкого рода. Может быть, не настолько низкого… Отец и дед Шапюи были простыми стряпчими, прадед – крестьянином. – И опять-таки не знаю, насколько вас это утешит, но я убежден, что вы достойны своего места. На этом свете я готов поддержать вас против кого угодно. Вы учены и красноречивы. Если бы мне потребовалось защищать свою жизнь в суде, я пригласил бы вас. – Вы меня изумляете, Эсташ. – Возвращайтесь к Генриху. Убедите его, что принцесса должна повидаться с матерью. Женщина на смертном одре… чьим политическим интересам она может повредить? – Короткий сухой всхлип, и посол вновь берет себя в руки. Снимает шапку, смотрит на нее так, будто не может понять, откуда она взялась. – Едва ли мне прилично в ней ехать. Она больше пристала Рождеству, вы согласны? И все же мне жаль было бы ее лишиться. Она единственная в своем роде. – Отдайте ее мне. Я отошлю ее вам домой – будете носить, когда вернетесь. – («Когда закончится срок траура», – думает он про себя). – Послушайте. Я не стану обнадеживать вас касательно Марии. – Поскольку вы англичанин и не умеете лукавить. – Короткий злой смешок. – Святые угодники! – Король не позволит Марии видеться с теми, кто укрепит в ней дух непокорства. – Даже с умирающей матерью? – Особенно с ней. Не хватало нам только клятв у смертного одра, понимаете? Он говорит капитану барки: я останусь здесь, хочу посмотреть, съест ли дракон охотника. Доставьте посла в Лондон, ему надо собираться в дорогу. – А как вернетесь вы? – спрашивает Шапюи. – Ползком, дай Брэндону волю. – Он кладет руку на щуплое плечо дипломата. – Теперь ведь препятствие устранится? К союзу с вашим господином. Что станет огромным благом для Англии и для ее торговли. И я, и вы этого хотим. Нас разделяла только Екатерина. – А как насчет женитьбы на французской принцессе? – Не будет никакой женитьбы. Это все сказки. Отправляйтесь. Через час стемнеет. Вам надо хорошенько выспаться. На Темзу уже наползают сумерки, между набегающими волнами залегли тени, синий вечер сгустился по берегам. Он спрашивает лодочника: как, по-твоему, сейчас дороги на севере – проехать можно? Бог с вами, сэр, отвечает тот, я только реку и знаю, да и на севере дальше Энфилда не бывал.
Стипни встречает его ярко освещенными окнами, дети-певчие выводят в саду святочные колядки, собаки лают, черные тени мечутся на снегу, а над замерзшей колючей изгородью призрачно белеют снеговики. У одного, самого высокого, на голове митра; одна увядшая морковка изображает нос, другая, поменьше, – срам. Навстречу выбегает Грегори. Кричит, захлебываясь: – Гляньте, сэр, мы слепили из снега Римского Папу! Еще одно раскрасневшееся лицо – это Дик Персер, начальник над сторожевыми псами. – Сперва Папу, сэр, потом решили, что он нестрашный, и сделали ему кардиналов. Вам нравится? Рядом прыгают мокрые от снега поварята. Все домашние высыпали в сад, по крайней мере все кто младше тридцати. Развели костер – подальше от снеговиков – и пляшут в круг, а заводилой у них Кристоф. Грегори немного остыл и пришел в чувства. – Мы их слепили, чтобы лучше подчеркнуть супрематию короля. Тут ведь нет ничего дурного, да? Потом мы затрубим в трубу и растопчем их. Кузен Ричард сказал, что можно, и сам слепил Папе голову, а мастер Ризли – он как раз заглянул сюда и не застал вас – воткнул ему пипиську. Очень смеялся. – Какие же вы, право, дети! – говорит он. – Отличные кардиналы. Атаку под фанфары устроим завтра, когда будет светлее. – А можно будет выстрелить из пушки? – Где я возьму вам пушку? – Попросите у короля, сэр. Грегори шутит; он понимает, что пушка – это уже чересчур. Остроглазый Дик Персер заметил посольский колпак. – Не дадите нам шапку? Мы не знали, как выглядит тиара, так что получилось не очень. Он вертит колпак в руках. – Да, это больше похоже на то, что носит Фарнезе. Но нет. Шапка доверена мне на сохранение, я отвечаю за нее перед императором. А теперь дайте мне пройти, – говорит он со смехом. – Мне надо написать письма, у нас впереди важные перемены. – Стивен Воэн приехал, – сообщает Грегори. – Вот как? Отлично. Очень кстати. Он идет к дому, отблески костра пляшут на снегу у его ног. – Бедный мастер Воэн, – говорит Грегори. – Думаю, он рассчитывал поужинать. – Стивен! – Торопливые объятия. – Надо спешить. Екатерина умирает. – Что? – удивляется его друг. – В Антверпене я ничего такого не слышал. Воэн все время в дороге, здесь тоже не засидится. Он слуга Кромвеля и короля, королевские глаза и уши по ту сторону Ла-Манша. Обо всем, что рассказывают фламандские купцы и торговцы в Кале, Стивен знает и доносит в Лондон. – Должен сказать, господин секретарь, у вас в доме никакого порядка. Легче поужинать в чистом поле. – Вы и есть в чистом поле, – говорит он. – Вернее, скоро будете. Вам надо ехать. – Но я только что с корабля! Вот так Стивен проявляет дружбу: вечными жалобами и недовольством. Он приказывает слугам: накормите Воэна, напоите Воэна, уложите Воэна спать, приготовьте Воэну к утру хорошего коня. – Не волнуйтесь, эту ночь вы спите в моем доме. Утром поедете с Шапюи в Кимболтон. Вы знаете языки, Стивен! Я должен знать каждое сказанное там слово, будь оно на французском, испанском или латыни. – Ясно. – Теперь Стивен деловит и сосредоточен, больше не ворчит. – Поскольку я думаю, как только Екатерина умрет, Мария постарается сбежать во владения императора. Как-никак он ее двоюродный брат. Верить ему нельзя, но Марию в этом не убедить. И мы не можем приковать ее к стене. – Держите ее подальше от моря. В каком-нибудь замке, откуда до ближайшего порта – два дня езды. – Если Шапюи сумеет ее выкрасть, она полетит с ветром и пустится по морю в решете. – Томас. – Неулыбчивый Воэн кладет ему руку на плечо. – Из-за чего столько волнений? Это на вас непохоже. Вы боитесь, что маленькая девочка обведет вас вокруг пальца? Ему хочется рассказать Воэну обо всем, но как передать словами осязаемость вещества: плавное журчание лжи, неподатливый вес Брэндона, когда он толкал, тащил стальную махину герцога прочь от короля, саднящий ветер в лицо, привкус крови во рту? Так будет всегда, думает он. Так будет всегда. Рождественский пост, Великий пост, неделя Пятидесятницы. Он вздыхает: – Мне надо пойти и написать Стивену Гардинеру во Францию. Если Екатерина умирает, он должен узнать об этом от меня. – Больше незачем лебезить перед французами, – говорит Воэн. Что это, улыбка? Скорее волчья ухмылка. Стивен – купец и понимает, как важна для нас торговля с Нидерландами, а значит – и добрая воля императора. Когда мы на ножах, у Англии заканчиваются деньги. Когда император за нас, мы богатеем. – Теперь разногласия уладятся, – продолжает Воэн. – Все они были из-за Екатерины. Ее племянник вздохнет с облегчением, в точности как мы. Ему и прежде не хотелось с нами воевать, а тут еще Милан. Пусть дерется с французами. Это развяжет руки нашему королю. Он сможет делать что заблагорассудится. Вот это меня и тревожит, думает он. Что заблагорассудится королю? Он желает Стивену доброй ночи, тот говорит: – Томас, вы себя в могилу загоните, если не будете отдыхать. Вы когда-нибудь вспоминаете, что половина вашей жизни уже позади? – Половина? Стивен, мне пятьдесят. – Я забыл. – Короткий смешок. – Уже пятьдесят? Сколько мы знакомы, вы ничуть не меняетесь. – Вам так кажется. Но я обещаю дать себе роздых, как только вы дадите себе. В кабинете жарко натоплено. Он закрывает ставни, запечатывается от белого сияния за окном. Садится писать Гардинеру. Король очень доволен успехами посольства, ждите денег. Он откладывает перо. Какая муха укусила Чарльза Брэндона? Да, сплетничают, будто ребенок Анны – не от короля. Или что Анна и не беременна вовсе, только притворяется. И впрямь она очень неопределенно говорит о сроках. Но он думал, сплетни идут из Франции, а что могут знать при французском дворе? Просто злопыхают. Это Аннина беда – вызывать ненависть. Одна из многих бед. Под рукой письмо из Кале, от лорда Лайла. При одной мысли о том, чтобы взяться за ответ, накатывает безмерная усталость. Лайл во всех подробностях расписал, что делал в Рождество, с той минуты, как морозным утром вышел из дома. Где-то в середине дня лорда Лайла оскорбили: бургомистр Кале заставил его ждать. В отместку он чуть позже заставил ждать бургомистра… и теперь оба пишут Томасу Кромвелю: господин секретарь, ответьте, кто главнее, губернатор или бургомистр? Скажите, что я главнее! Артур лорд Лайл – милейший человек (когда не спорит с бургомистром, конечно), однако задолжал королю и уже семь лет не платит ни пенни. Надо как-то с этим разобраться; вот и казначей королевской палаты недавно прислал напоминание. И кстати, о королевских финансах… Гарри Норрис как главный из джентльменов Генриха, по какому-то загадочному обычаю, ведает всеми тайными сбережениями короля, припрятанными на черный день в различных дворцах. Не вполне ясно, что за черный день, и откуда средства, и много ли монет в кубышках, и кто, кроме Норриса, может их брать… если Норриса в нужное время не окажется рядом. Или если с Норрисом приключится какая-нибудь беда. Он вновь откладывает перо и начинает воображать различные беды. Подпирает голову руками, зажимая пальцами усталые глаза. Видит, как Норрис падает с лошади. Как барахтается в грязи. Говорит себе: «Щелкайте своими счётами, Кромвель». Уже начали прибывать подарки к Новому году. Какой-то его сторонник из Ирландии прислал одеяла белой ирландской шерсти и флягу aqua vitae. Можно завернуться в шерсть, напиться до бесчувствия и уснуть прямо на полу. Ирландия в это Рождество спокойна, спокойнее, чем когда-либо за последние сорок лет. Он умиротворил ее главным образом повешениями: вешал не то что много, но кого следовало. Это искусство, необходимое искусство: вожди ирландских кланов призывали императора высадиться на их острове и оттуда напасть на Англию. Он смотрит на стол. Лайл, бургомистр, оскорбление. Кале, Дублин, королевские тайники с деньгами. Только бы Шапюи успел доехать до Кимболтона, и только бы Екатерина не поправилась. Нехорошо желать другому смерти. Смерть твоя госпожа, а не служанка: думаешь, она стучит в чужую дверь, а она уже входит в твою, чтобы вытереть о тебя ноги. Он перебирает бумаги – новые хроники непотребств. Монахи ночи напролет сидят в кабаке, а наутро, пошатываясь, бредут в монастырь, приора застукали под забором с гулящей девкой, нерадивый священник отказывается крестить детей и отпевать покойников. Жалобы, мольбы. Он отшвыривает письма. Довольно. Кто-то – судя по почерку, старик – пишет о неизбежном обращении магометан. Какую церковь мы им предложим? Если не очистить ее самым решительным образом, новообращенные язычники погрузятся во тьму еще более глубокую, чем их прежняя ложная вера. Что вы, генеральный викарий короля по делам церкви, делаете для ее исправления? Интересно, думает он, изнуряет ли турецкий султан своих подданных так же, как меня – герцог? Родись я магометанином, мог бы стать пиратом. Разбойничал бы сейчас в Средиземном море. Над следующей бумагой он едва не разражается хохотом: кто-то отправил ему жалованную грамоту на земельные владения. От короля Чарльзу Брэндону. Леса и пастбища, вереск и дрок, многочисленные усадьбы. Гарри Перси, граф Нортумберлендский, в уплату долга отдал короне земли. Он думает: когда Гарри Перси пришел арестовывать кардинала, я поклялся, что разорю его. Видит Бог, я себя не утруждал: Гарри Перси все сделал за меня. Мне осталось лишь отнять у него титул. Тихонько приоткрывается дверь: это Рейф Сэдлер. Он удивленно поднимает глаза: – Почему ты не веселишься со всеми? – Мне сказали, вы были при дворе, сэр. Я подумал, может, вы захотите написать письма. – Прочти вот это, но не сегодня. – Он придвигает Рейфу кипу документов на землю. – Брэндону нечасто достаются такие новогодние подарки. Он рассказывает Рейфу о том, что было сегодня во дворце, умалчивая о последних словах герцога, будто государственные дела не про его, Кромвеля, честь. Качает головой: – Глядел я сегодня на Чарльза Брэндона… а ты знаешь, ведь он когда-то считался красавцем. Королевская сестра влюбилась в него без памяти. А теперь… Лицо поперек себя шире. Не краше медного таза. Рейф придвинул к столу низенькую скамеечку, положил голову на руки и сидит, задумавшись. Они привыкли молчать вместе. Он продолжает читать бумаги, делает пометы на полях. Перед ним возникает король: не сегодняшний, а тогда в Вулфхолле, растерянный, мокрый от дождя. И лицо Джейн Сеймур бледным овалом рядом с королевским плечом. Через некоторое время он смотрит на Рейфа: – Нравится тебе здесь, малыш? – Этот дом всегда пахнет яблоками. Верно. Дворец утопает в садах, и в кладовках, где лежат яблоки, даже зимой сохраняется запах лета. В Остин-фрайарз яблони совсем молодые – саженцы, привязанные к столбикам. А здесь дом старый. Сэр Генри Колет, отец высокоученого настоятеля собора Святого Павла, перестроил его для себя. Здесь доживала свои дни леди Кристиана, вдова сэра Генри, а потом по его завещанию дом отошел гильдии торговцев шелком. У Кромвеля аренда на пятьдесят лет – больше, чем на его век. Когда-нибудь этот дом перейдет к Грегори. Внуки будут расти в густом благоухании меда, резаных яблок, изюма и корицы. – Рейф. Грегори надо женить. – Я запишу для памяти, – со смехом отвечает Рейф. Год назад Рейф бы не засмеялся. Томас, его первенец, умер на второй день после крестин. Рейф снес горе по-христиански, но сделался тише, серьезнее, при том что и прежде не отличался легкомыслием. У Хелен есть дети от первого брака, однако ребенка она похоронила впервые и долго не могла оправиться. Наконец в этом году, после долгих и тяжких мук, напугавших ее саму, Хелен родила еще одного сына, и его тоже назвали Томасом. Дай Бог тому оказаться счастливее братца; малыш хоть и появился на свет с трудом, выглядит крепким, и Рейф теперь – счастливый отец. – Сэр, я все хотел спросить: это ваша новая шапка? – Нет, – серьезно отвечает он. – Это шапка посла Испании и Священной Римской империи. Хочешь примерить? С грохотом влетает Кристоф: не может войти по-человечески, бросается на дверь, как на врага. Лицо все еще в копоти от костра. – К вам женщина, сэр. Говорит, очень срочно, и не соглашается уйти. – Что за женщина? – Старая. Но не настолько, чтобы спустить ее с лестницы в такой мороз. – Фи, Кристоф! Пойди лучше умойся. – Он поворачивается к Рейфу. – Незнакомая женщина. Я в чернилах? – Нет, сэр. Не очень. В парадном зале, озаренная светом факелов, ждет дама. Она приподнимает вуаль и заговаривает с ним по-кастильски. Мария, леди Уиллоби, урожденная Мария Салинас. Он ужасается, как она могла приехать из Лондона одна, в снежную ночь. Дама обрывает его охи и ахи. – Вы – последняя моя надежда. Я не могу попасть к королю, а медлить нельзя. Выпишите мне бумагу, иначе, когда я приеду в Кимболтон, меня не впустят. Однако он переходит на английский; во всех разговорах касательно Екатерины ему нужны свидетели. – Миледи, вы не можете ехать в такой снег. – Вот. – Она протягивает письмо. – Прочтите, это пишет врач королевы собственной рукой. Моя госпожа одна, ей больно и страшно. Лет двадцать пять назад, когда Екатерина впервые прибыла в Англию, Томас Мор написал, что ее свита состоит из горбатых карлиц, босоногих пигмеев, словно сбежавших из преисподней. Ему трудно судить – он был тогда далеко от Англии и тем более от двора, – но, сдается, Мор позволил себе поэтическую гиперболу. Мария Салинас приехала чуть позже и была любимицей Екатерины, пока не оставила госпожу ради замужества. Она уже давно вдова, но все так же поразительно красива и помнит о своих чарах даже сейчас, когда сжалась от горя и посинела от холода. Небрежным движением она бросает плащ Рейфу Сэдлеру, будто он для того тут и поставлен, затем, пройдя через комнату, берет Кромвеля за руки. – Бога ради, Томас Кромвель, пустите меня к ней. Вы не можете мне отказать. Он смотрит на Рейфа. Того испанские страсти трогают не больше, чем скулеж мокрого пса под дверью. – Поймите, леди Уиллоби, – холодно произносит Рейф, – этот вопрос не в ведении государственного секретаря и даже совета. Можете сколько угодно осаждать моего господина просьбами, но только король решает, кого допустить к вдовствующей принцессе. – Послушайте, миледи, – говорит он, – дороги замело. А если и потеплеет, они все равно будут непроезжими. Я не могу гарантировать вашу безопасность, даже если отправлю с вами людей. Вы можете упасть с лошади… – Тогда я пойду дальше пешком! Как вы остановите меня, господин секретарь? Закуете в цепи? Прикажете вашим чернорожим мужланам держать меня в чулане, покуда королева не скончается? – Не глупите, мадам. – Рейф, очевидно, считает, что должен защитить его, Кромвеля, от женских нападок. – Все именно так, как говорит господин секретарь. Вы не можете ехать в такую погоду. Вы уже не молоды. Дама что-то шепчет – не то молитву, не то проклятие. – Спасибо за галантное напоминание, мастер Сэдлер, без вас я бы считала, что мне шестнадцать. Да, видите, теперь я настоящая англичанка! Умею говорить прямо противоположное тому, что думаю. – В ее глазах вспыхивает расчетливый огонек. – Кардинал бы разрешил мне поехать. – Жаль, что его с нами нет, чтобы это сказать. – Однако он берет у Рейфа плащ, надевает на гостью. – Что ж, поезжайте. Вижу, вас не отговорить. Шапюи едет с пропуском, так что, возможно… – Я поклялась выехать на заре. Господь отвернется от меня, если я нарушу клятву. Шапюи не станет так торопиться. – Даже если вы туда доберетесь… там не дороги, одно название. Может случиться так, что вы упадете с лошади перед самыми воротами замка. – Что?.. А, понимаю. – Бедингфилду приказано никого не пускать, но он не сможет оставить даму в сугробе. Она целует его: – Томас Кромвель. Господь и император вас вознаградят. Он кивает: – Я уповаю на Господа. Она выходит и уже на пороге спрашивает удивленно: – Что там за снежные фигуры? – Надеюсь, ей не скажут, – говорит он Рейфу. – Она папистка. – Меня никогда так не целовали, – жалуется Кристоф. – Может, если бы ты умылся… – Он пристально смотрит на Рейфа. – Ты бы ее не отпустил. – Не отпустил бы, – признает Рейф. – Не додумался бы до такой уловки. А если бы и додумался… Нет, я бы побоялся рассердить короля. – Вот поэтому ты спокойно доживешь до старости. – Он пожимает плечами. – Она поедет. Шапюи тоже. А Стивен Воэн будет приглядывать за обоими. Завтра утром придешь? Возьми с собой Хелен и девочек. Малыша брать не стоит, слишком холодно. Грегори говорит, мы будем трубить в трубы и топтать Папу с кардиналами. – Ей очень понравились крылья, – говорит Рейф. – Нашей девочке. Она спрашивает, можно ли ей надевать их каждый год. – Почему бы нет? Пока у Грегори не будет дочери таких лет. Они обнимаются на прощание. – Постарайтесь уснуть, сэр. Он знает, что в постели будет вспоминать слова Брэндона: «Государственные дела не про вашу честь. Вы – никто, и не вам, простолюдину, беседовать с государями». Незачем придумывать месть – герцог Медный Таз сам себя погубит, если будет орать на весь Гринвич, что Генрих – рогоносец. Такое даже старому другу с рук не сойдет. К тому же Брэндон прав. Герцог может представлять своего господина при иноземном дворе. Кардинала, даже если тот, как Вулси, незнатного рода, возвышает церковный сан. Гардинер, хоть и бастард, на правах епископа, предстоятеля богатейшей английской епархии, зовется Стивеном Винчестерским. Только он, Кремюэль, по-прежнему никто. Король дает ему звания, которых никто за границей не понимает, и работу, которую никто на родине выполнить не может. Обязанностей и постов все больше, однако он как выходит утром из дома простым мастером Кромвелем, так и возвращается простым мастером Кромвелем. Король предложил ему место лорд-канцлера; нет, ответил он, не трогайте лорда Одли. Лорд Одли отлично справляется: делает все, что ему говорят. Может, стоило согласиться? Он вздыхает при мысли о канцлерской цепи. Ведь нельзя же совмещать посты лорд-канцлера и государственного секретаря? А от своей должности он не откажется, пусть она и не дает такого почета. Плевать, что французы не понимают. Они еще увидят результат. Брэндон может ворваться с криком, хлопнуть короля по спине и назвать «Гарри», может вместе с Генрихом хохотать над старыми шутками и вспоминать турнирные подвиги. Однако время рыцарства уходит. Когда-нибудь турнирные дворы зарастут мхом. Пришло время ростовщика и хвастливого капера; банкир сидит с банкиром, а короли им прислуживают. Напоследок он распахивает ставни, чтобы пожелать Папе Римскому доброй ночи. С крыши капает. Рыхлый снег, шурша, срывается с черепицы, так что мгновение за окном – сплошная белая пелена. Он смотрит вниз. На истоптанном месиве лежит свежая заплата, над ней, медленно оседая, клубится белое облачко. Ему не почудилось насчет ветра: и впрямь началась оттепель. Он захлопывает ставни. Великий губитель душ вместе со своим конклавом остается подтаивать в ночи.
На Новый год он у Рейфа в недавно построенном доме: три этажа кирпича и стекла рядом с церковью Святого Августина. В свой первый приезд, летом, он убедился, что все необходимое для семейного уюта, продумано как следует: в кухне на подоконнике стоят горшки с базиликом, грядки в огороде засеяны, ульи поставлены, на голубятне воркуют голуби, шпалеры ждут, когда по ним начнут виться розы, темные дубовые панели ждут живописцев. Теперь дом закончен, обустроен. Стены расписаны Евангельскими сюжетами: Христос – ловец человеков, ошарашенный распорядитель пробует вино в Кане Галилейской. На втором этаже, куда ведет крутая деревянная лестница, Хелен читает шьющим служанкам Тиндейлово Евангелие: «Ибо благодатию вы спасены». Апостол Павел не позволяет жене учить, но Хелен и не совсем учит. Она рассталась с бедностью; муж, который ее бил, умер или уехал так далеко, что мы сочли его мертвым. Теперь она супруга Рейфа Сэдлера, который успешно делает карьеру при дворе, хозяйка большого дома и может со временем сделаться образованной женщиной, однако ей не по силам зачеркнуть свое прошлое. Когда-нибудь Генрих спросит: «Сэдлер, почему вы не представите свою жену ко двору? Она что, настолько уродлива?» Он вмешается: «Нет, она красавица», но Рейф добавит: «Хелен низкого происхождения и не знает придворных манер». «Так зачем вы на ней женились?» – удивится Генрих. Потом его глаза потеплеют. А, ясно, по любви. Сейчас Хелен берет его за руки и говорит: – Довольства вам и благополучия в Новом году. Я каждый день о вас молюсь, ведь не возьми вы меня к себе в дом, ничего бы этого не было. Я прошу Его даровать вам здоровье, удачу и королевское расположение. Он целует ее и прижимает к себе, как родную дочь. В соседней комнате заливается криками его крестник. В Двенадцатую ночь доедают последний марципановый полумесяц. Под руководством Антони Рождественскую звезду уносят в чулан, аккуратно зачехлив острые углы. Павлиньи крылья вздыхают под покрывалом на крючке за дверью. Воэн доносит, что старой королеве лучше. Настолько лучше, что Шапюи выехал обратно в Лондон. Екатерина была так слаба, что не могла даже сесть, теперь приободрилась в обществе старой подруги Марии де Салинас – с той приключилось несчастье под самыми стенами замка, так что тюремщики вынуждены были ее впустить. Однако позже Кромвелю сообщат, что вечером шестого января – как раз когда мы снимали звезду, подумает он, – Екатерине стало гораздо хуже. Ночью она говорит капеллану, что хочет причаститься, и обеспокоенно спрашивает, который час. Еще нет четырех, отвечает тот, но в случае крайней нужды канонические часы допустимо сдвинуть. Екатерина выжидает положенное время, шевеля губами, сжимая в кулаке образок. Сегодня я умру, говорит она, я давно думаю о смерти, давно ее жду и потому не боюсь. Затем диктует указания касательно похорон, не рассчитывая, что ее воля будет исполнена. Просит расплатиться с прислугой и по долгам. В десять утра священник соборует ее, мажет святым миром веки и губы, ладони и ступни. Веки теперь запечатаны и больше не откроются. Губы отшептали последнюю молитву. Руки не подпишут ни одного документа. Ноги закончили свой путь. К полудню дыхание становится затрудненным. В два часа она отходит в иной мир. За окном белеют снега, и в их отблесках над кроватью склоняются тюремщики. Им неловко тревожить дряхлого капеллана и старух, которые были с умирающей до последнего. Еще до того, как покойницу омыли, Бедингфилд отрядил в Лондон самого быстрого гонца.
* * *
Восьмое января: известие доставили во дворец. Оно просачивается из королевских покоев и оглашает все закоулки: комнаты, где одеваются камеристки, уголки, где прикорнули поварята, пивоварни и холодные кладовые для рыбы. Oно разносится по галереям и эхом врывается в убранную коврами опочивальню, где Анна Болейн, упав на колени, восклицает: «Наконец-то, Господи! Давно было пора!» Музыканты настраивают инструменты, готовясь праздновать. Анна надевает желтое платье, как четырнадцать лет назад, когда первый раз была при дворе и танцевала в маске. Все помнят (или уверяют, будто помнят) тот день: младшую Болейн, ее дерзкие темные глаза, стремительную грациозность движений. Мода на желтое возникла среди базельских богачей; в то время портной, раздобывший кусок желтой материи, мог просить за него, сколько захочет. И внезапно все сделалось желтым: рукава, чулки. Те, у кого хватало денег только на узкую полоску ткани, украсились желтыми лентами. В 1521-м, когда Анну представили ко двору, за границей этот цвет уже считался несколько вульгарным. Сегодня во владениях императора публичные женщины затягивают свои жирные телеса в желтые корсеты. Знает ли это Анна? Ее нынешнее платье стоит впятеро больше того, что она носила в бытность дочерью простого банкира. Оно сплошь расшито жемчугами, так что Анна движется в облаке лимонного света. Он спрашивает леди Рочфорд: будем считать этот цвет новым или вернувшимся старым? Наденете ли вы желтое, миледи? – Оно мне не идет, – отвечает та. – А что до Анны, лучше бы ей нарядиться в черное. Генрих на радостях решает показать двору принцессу. Ей два с половиной года. Казалось бы, такой маленький ребенок должен испугаться незнакомых людей, но Елизавета весело хохочет, пока ее передают с рук на руки, дергает джентльменов за бороды, лупит кулачком по шляпам. Отец подбрасывает ее в воздух. – Ей не терпится увидеть братика, верно, утеночек? По залу пробегает шепоток: вся Европа знает, что Анна в счастливом ожидании, однако впервые об этом сказано прилюдно. – И мне тоже, – говорит король. – Заждался я. Личико Елизаветы уже теряет младенческую пухлость; у нас будет принцесса-лисичка. Старые придворные говорят, что она похожа на королевского отца и на покойного брата, принца Артура. Впрочем, глаза у нее материнские – подвижные и выпуклые. Он, Кромвель, считает, что у Анны красивые глаза, хотя особенно они хороши, когда зажигаются интересом, словно у кошки при виде мелкого зверька. Король сюсюкает с дочкой. Снова подбрасывает ее, ловит, опускает на пол. Целует в макушку. Леди Рочфорд говорит: – Генрих такой добряк – умиляется на любого ребенка. Как-то при мне он вот так же целовал чужое дитя. Как только девочка начинает капризничать, ее уносят, закутав в меха. Анна провожает дочку глазами. Генрих говорит, будто только сейчас припомнил: – Придется потерпеть, что страна наденет траур по вдовствующей принцессе. Анна отвечает: – Англичане ее не знали. С чего им скорбеть? Кто она была для них? Чужестранка. – Думаю, так приличнее, – не сдается король. – Поскольку она была коронована. – По ошибке, – стоит на своем Анна. Музыканты начинают играть. Король подхватывает Мэри Шелтон, та смеется. Последние полчаса ее не было видно, сейчас она раскраснелась, глаза блестят – ясно, чем занималась. Он думает: увидел бы старый епископ Фишер это гулянье, решил бы, что настали последние времена. И тут же удивляется, что, пусть на миг, увидел мир глазами старого Фишера. После казни голову епископа выставили на Лондонском мосту. Она так долго сохранялась нетленной, что лондонцы заговорили о чуде. Пришлось отдать распоряжение, чтобы смотритель моста положил ее в мешок с камнями и утопил в Темзе. В Кимболтоне тело Екатерины уже готовят к погребению. Ему чудится шорох в ночи, общий вздох: Англия встает на молитву. – Она прислала мне письмо. – Генрих вынимает бумагу из складок желтого кафтана. – Даже читать не хочу. Заберите его, Кромвель. Складывая письмо, он видит строчку: «И в последних словах клянусь: очи мои желают тебя более всего на свете».После танцев Анна зовет его к себе. Она суха, деловита. – Я хочу изложить вам свои соображения насчет королевской дочери. Не «принцессы Марии». Но и не «испанской приблуды». – Теперь, когда мать больше не может ее науськивать, – продолжает Анна, – можно надеяться, что она поумерит свое упрямство. Видит Бог, я в ее любви не нуждаюсь, но думаю, король будет мне признателен, если я улажу их ссору. – Он будет чрезвычайно вам благодарен. И вы поступите милосердно. – Я хочу стать ей матерью. – Анна краснеет; возможно, стыдится уж чересчур явной неискренности. – Она может не называть меня «госпожа матушка», но пусть обращается ко мне, как положено. Если она помирится с королем, я буду рада держать ее при дворе. Ей отведут почетное место, не многим ниже моего. Я не стану требовать глубокого реверанса, только обычных форм вежливости, принятых в королевских семьях по отношению к старшим. Передайте, что я не заставлю ее носить мой шлейф. Ей не придется сидеть за одним столом с принцессой Елизаветой, так что вопрос о ее более низком статусе не возникнет. Думаю, это более чем щедро. Он ждет. – Если она будет вести себя с должной почтительностью, я не стану выходить прежде ее, кроме как на торжественных церемониях. Мы будем появляться под руку. Для Анны уступки беспрецедентны, однако он воображает лицо Марии, когда ей все это изложат, и радуется, что обязанность поехать к королевской дочери выпадет кому-то другому. Он почтительно желает доброй ночи, но Анна его не отпускает. Говорит тихо: – Кремюэль, вот мои условия, больше я не уступлю и на волос. Я сделала первый шаг, и меня упрекнуть не в чем, но, думаю, она откажется. И тогда мы обе пожалеем, потому что нам останется лишь война до последнего вздоха. Я – ее смерть, она – моя. Так и передайте: я сделаю все, чтобы она не дожила до моих похорон.
* * *
Он идет к Шапюи выразить соболезнования. По дому гуляют сквозняки, тянет речной сыростью. Посол с ног до головы в черном и горько себя корит. – Зачем я только уехал?! Но ей и впрямь было лучше. Утром смогла сесть, женщины ее причесали. Я сам видел, как она два и три раза откусила хлеб, и уехал обнадеженный, а через несколько часов она умерла. – Не стоит себя винить. Вы сделали все, что в человеческих силах, и ваш государь об этом узнает. В конце концов, вы посланы следить за королем и не можете зимой надолго отлучаться из Лондона. Он думает: я здесь с тех пор, как начался бракоразводный процесс – сто богословов, тысяча юристов, десять тысяч часов, истраченных на прения. Знаю все почти с самого начала: кардинал делился со мной подробностями – поздно вечером за вином рассказывал про желание короля развестись с женой и про то, как думает подступиться к делу. – Безобразие, – говорит он. – А, вы про камин… И вы зовете это камином? Вы зовете это погодой? По комнате плывет дым от сырых дров. – Дым, чад и никакого тепла! – продолжает Шапюи. – Поставьте печь. У меня печи. – Да уж. А потом слуги наталкивают в них мусор, и они взрываются. Или труба рушится, так что надо посылать через Ла-Манш за печником. Знаю я эти печки. – Шапюи трет синие от холода руки. – Я ведь сказал ее духовнику. Спросите у нее на смертном одре, осталась ли она девственной в первом браке. Словам умирающей поверит весь мир. Но он старик, так что за горем позабыл спросить. Теперь мы никогда не узнаем. Хм. Раньше посол и мысли не допускал (по крайней мере вслух), что Екатерина все эти годы могла говорить неправду. – Но знаете, – говорит Шапюи, – перед самым отъездом она сказала слова, которые очень меня смутили. Она сказала: «Возможно, я сама во всем виновата. Что перечила королю, а не ушла в монастырь и не дала ему жениться снова». Я ответил: «Что вы такое говорите, мадам?» Потому что я и сам удивился. «Что вы такое говорите, правда на вашей стороне, так говорят и церковные юристы, и светские». – «И все же у них были сомнения. А если я была не права, значит, я своим упорством заставила короля, не терпящего возражений, действовать в соответствии с худшими качествами натуры, а значит, частично разделяю его вину». Я сказал ей: добрая госпожа, вы чересчур строги к себе, пусть король сам несет вину за свои грехи, сам за них отвечает. Но она покачала головой. – Шапюи, расстроенный, потерянный, тоже качает головой. – Все те, кто отдал жизнь, добрый епископ Фишер, Томас Мор, благочестивые монахи-картезианцы… «Я ухожу из жизни, – сказала она, – таща на себе их трупы». Он молчит. Шапюи подходит к столу, открывает инкрустированную шкатулку. – Знаете, что это? Он берет шелковый цветок – осторожно, боясь, что лепестки рассыплются в прах. – Да. Подарок от Генриха. На рождение Новогоднего принца. – Я стал лучше думать о короле. Прежде мне и в голову не приходило, что он может быть чувствительным и нежным. Я бы точно до такого не додумался. – Вы горький старый холостяк, Эсташ. – А вы горький старый вдовец. Что вы подарили своей жене на рождение своего очаровательного Грегори? – Золотое блюдо… наверное. Или золотой кубок. Что-нибудь, что можно поставить в буфет. – Он возвращает послу цветок. – Жены и дочери лондонских торговцев предпочитают весомые подарки. – Екатерина подарила мне розу при расставании. Она сказала: мне больше нечего завещать. И еще сказала: выберите себе цветок и уходите. Я поцеловал ей руку и пустился в путь. – Шапюи со вздохом роняет розу на стол и прячет замерзшие руки в рукава. – Говорят, что конкубина выспрашивает у знахарей пол ребенка, хотя уже делала это прежде, и все ей пообещали мальчика. Что ж, смерть королевы изменит положение этой женщины. Но возможно, не так, как ей хотелось бы. Он молчит. Ждет продолжения. Шапюи говорит: – Мне сообщили, что король, узнав о смерти супруги, вывел к придворным свою незаконную дочь. Елизавета умна и развита не по годам, говорит он послу. Впрочем, чему дивиться: Генрих был едва ли на год старше, чем теперь его дочь, когда проехал по Лондону на боевом коне, сжимая луку пухлыми детскими кулачками. Не сбрасывайте ее со счетов по малолетству. Тюдоры – воины от колыбели. – Хм… – Шапюи стряхивает пепел с рукава. – Если она Тюдор, в чем некоторые сомневаются. Цвет волос ничего не значит, Кремюэль. Я могу выйти на улицу и поймать полдюжины рыжих. – Так вы думаете, – смеется он, – что Анна могла зачать от любого прохожего? Посол медлит с ответом: не хочет признаваться, что слушает французские сплетни. – Так или иначе, она если и дочь Генриха, то незаконная. – Мне пора идти. – Он встает. – Ах да, я не принес вам ваш рождественский колпак. – Держите его у себя, – Шапюи обнимает себя за плечи, – пока я в трауре. Только не надевайте, Томас, а то растянете.Зовите-Меня-Ризли заявляется прямиком от короля с вестями о подготовке похорон. – Я спросил его: ваше величество, вы распорядитесь доставить тело в собор Святого Павла? Он ответил, что ее можно похоронить в Питерборо. Там древняя и чтимая церковь, а похороны обойдутся дешевле. Я был потрясен. Я убеждал, мол, такие вопросы решаются в соответствии с прецедентами. Сестра вашего величества, жена герцога Суффолкского, погребена в соборе Святого Павла, а разве вы не называете Екатерину своей сестрой? А он ответил: «Моя сестра была в первом браке супругой французского короля, и, значит, она – королевская особа». – Ризли хмурится. – А Екатерина, выходит, не королевская особа, хотя ее родители – монархи. Король сказал, ей будут оказаны все почести, какие положены вдовствующей принцессе Уэльской. Спросил, где геральдический балдахин, которым накрывали гроб Артура? Наверняка где-нибудь в гардеробной. Можно взять его. – Разумно, – говорит он. – Иначе ей придется очень долго лежать непогребенной, пока соткут новый балдахин. – Она попросила отслужить по ней пятьсот месс, – продолжает Ризли, – но я не стал Генриху об этом говорить. Сегодня он верит в одно, завтра в другое – не угадаешь. Так или иначе, запели трубы. И он ушел к обедне. И королева с ним. Она улыбалась. А на короле была новая золотая цепь. Ризли не осуждает Генриха – просто пересказывает занятные обстоятельства. – Что ж, – говорит он, – для покойника Питерборо не хуже любого другого места. Ричард Рич ездил в Кимболтон описывать имущество и неожиданно сцепился с Генрихом из-за Екатерининых вещей. Не из любви к старой королеве, а из желания, чтобы все было по закону. Генрих хочет получить меха и столовое серебро, но Рич возражает: «Ваше величество, коли вы не были на ней женаты, то она feme sole, а не feme covert; коли вы не были ее мужем, то не можете ей наследовать». Он от души посмеялся: – Генрих получит меха. Уж поверьте мне, Рич отыщет лазейку. Знаете, как ей надо было поступить? Собрать их в мешок и подарить Шапюи. Вот кто все время мерзнет.
Анне приходит письмо от леди Марии – ответ на любезное предложение стать ей матерью. Мария пишет, что потеряла лучшую в мире мать и не нуждается в замене. Что до дружбы с конкубиной, она не станет так себя унижать. Она отталкивает руку, пожимавшую лапу дьяволу. Он говорит: – Наверное, время было выбрано неудачно. Возможно, ей сообщили про танцы. И про желтое платье. Мария пишет, что будет послушна отцовской воле, насколько позволяют приличия и совесть, но не более того. Она не станет делать заявлений и приносить клятв, требующих признать, что ее мать не состояла в законном браке с ее отцом или что дочь Анны Болейн – наследница трона. Анна говорит: – Как она смеет? С чего взяла, будто может торговаться? Если у меня родится мальчик, ей несдобровать. Пусть помирится с отцом сейчас, а не умоляет его о милосердии, когда будет поздно. – Добрый совет, – отвечает он, – но едва ли она им воспользуется. – Тогда я ничего больше сделать не могу. – Я вполне с вами согласен. Он тоже не видит, что еще можно сделать для Анны Болейн. Она коронована, вписана в статуты, в документы, однако народ так и не признал ее королевой…
Похороны Екатерины намечены на двадцать девятое января. Начинают приходить счета: за траурные наряды и свечи. Король по-прежнему ликует. Отдает повеление устроить придворные празднества. В третью неделю месяца будет турнир, и Грегори записан в участники. Мальчик целиком захвачен подготовкой: чуть не каждый день вызывает оружейника, отпускает того и тут же зовет снова; никак не решит, какого коня взять. – Отец, я надеюсь, что мне не выпадет биться с королем. Я его не боюсь, но так трудно будет помнить, что это он, чтобы коснуться копьем, но, Боже упаси, не ударить со всей силы. А если я ненароком собью его с лошади? Каково будет, если он проиграет новичку вроде меня? – Я бы на твоем месте не беспокоился. Генрих бился на турнирах, когда ты еще ходить не умел. – В том-то и беда, сэр. Он уже не так быстр, как раньше. Джентльмены так говорят. Норрис говорит, король утратил чутье. Норрис говорит, если не бояться, ничего не выйдет, а король думает, он лучше всех, и не боится. А Норрис говорит, бояться надо. Иначе теряешь бдительность. – Следующий раз тебе надо с самого начала по жребию попасть в королевскую команду. Это устранит все затруднения. – А как такое можно сделать? – Господи Боже мой. Ну как вообще все делается, Грегори? Я поговорю с кем надо. – Нет уж, пожалуйста. – Грегори расстроен. – Какая обо мне пойдет слава, если вы все будете для меня улаживать? Я должен сам. Я понимаю, что вы все знаете, отец, но вы никогда не бились на турнирах. Он кивает. Как тебе будет угодно. Сын уходит, звеня латами. Его нежный мальчик.
В новом году Джейн Сеймур по-прежнему при королеве. Загадочные выражения сменяются на ее лице, словно она живет в облаке. Мэри Шелтон пересказывает ему: – Королева говорит, если Джейн уступит королю, то надоест ему через день, а если не уступит, то все равно надоест. Тогда Джейн отошлют в Вулфхолл, и семья отправит ее в монастырь, потому что кому такая нужна. А Джейн молчит. – Шелтон смеется, впрочем, вполне беззлобно. – Для нее это большой разницы не составит. Она и сейчас в передвижном монастыре, связана собственными обетами. Она говорит: «Господин секретарь считает, будет очень грешно, если я позволю королю взять себя за руку, хотя его величество все время просит: “Джейн, дай твою лапку”. А поскольку господин секретарь в делах церкви идет сразу после короля и вообще человек очень благочестивый, я буду следовать его совету». Как-то раз Генрих хватает проходящую Джейн и усаживает себе на колени. Это безобидное мальчишество, оправдывается потом король. Джейн не улыбается, просто сидит молча, пока ее не отпускают, будто король не мужчина, а табурет.
Кристоф заходит к нему и шепчет: – Сэр, на улицах говорят, что Екатерину убили. Что король запер ее в комнате и уморил голодом. Что вы прислали ей миндаль, она съела и отравилась. Что вы отрядили двух убийц с кинжалами, и те вырезали ей сердце, а когда его осмотрели, оказалось, что на нем большими черными буквами выжжено ваше имя. – Что? У нее на сердце? «Томас Кромвель»? Кристоф не знает, что ответить. – Ну… Может быть, только ваши инициалы.
Часть вторая
I Черная книга
Лондон, январь – апрель 1536 г.При крике «Пожар!» он поворачивается на другой бок и засыпает крепче прежнего, уверенный, что горело во сне. Ему частенько снится что-нибудь в таком роде. Потом его будит Кристоф, вопя в самое ухо: – Вставайте! Королева горит! Он выпрыгивает из постели в ледяной холод. Кристоф орет: – Скорее! Скорее! От нее одни угольки остались! Через секунду он на этаже королевы. Сильно пахнет гарью, женщины взволнованно тараторят, но Анна жива-здорова: сидит на стуле, закутанная в черный шелк, держит кубок с подогретым вином. Кубок дрожит, вино льется через край. Генрих, чуть не плача, обнимает жену и будущего наследника у нее в пузе. – Если бы я только был с тобой, милая. Если бы я ночевал у тебя. Я бы сразу потушил пожар. Снова и снова по кругу. Благодарению Богу, Который нас не оставил. Слава Господу, пекущемуся об Англии. Если бы только я. Одеялом, затушил бы одеялом. Я бы сразу сбил пламя, не дал ему разгореться. Анна выпивает глоток вина. – Все позади. Со мной ничего не случилось. Пожалуйста, господин супруг. Успокойтесь. Дайте мне допить. Ей неприятен Генрих с его причитаниями и объятиями. Посреди январской ночи она не может скрыть досаду. Лицо серое, недовольное. Анна обращается к нему, Кромвелю, по-французски: – Есть пророчество, что королева Англии сгорит. Едва ли это означает «в собственной постели». Занялось от свечи, которую забыли потушить. По крайней мере так мне сказали. – Кто забыл? Анна вздрагивает и отводит взгляд. – Надо распорядиться, – говорит он королю, – чтобы в спальне держали воду, и назначить женщин из числа фрейлин – проверять, погашены ли свечи рядом с королевой. Удивляюсь, почему этого до сих пор не заведено. Все обычаи собраны в Черной книге, составленной при короле Эдуарде. Там прописан регламент жизни всего дворца, кроме личных покоев монарха, где порядки свои, никому не ведомые. – Если бы только я был с ней, – говорит Генрих. – Но, как вы понимаете, мы надеемся… Король не может делить ложе с супругой, когда та носит его ребенка, слишком велика опасность выкидыша. Сейчас Анна словно каменеет от мужниных прикосновений, отодвигается от него, но в дневные часы все наоборот. Он наблюдал, как Анна пытается втянуть Генриха в разговор. Как резко тот отвечает. Как отворачивается, не желая показывать, что она ему нужна. И в то же время следит за ней глазами… Ему неприятны все эти бабские дела. И то, что королева, в одном только ночном платье узорчатого атласа, чересчур худа для женщины, которой весной рожать, – тоже бабские дела. Король говорит: – Ее огнем не задело. Горел угол балдахина, где Авессалом на дереве. Прекрасная шпалера, и хорошо бы вы… – Я выпишу из Брюсселя, – обещает он. Огонь не тронул Давидова сына: тот по-прежнему висит на ветке, зацепившись длинными волосами, глаза выпучены от испуга, рот разверст в крике. Рассвет еще не скоро. Дворцовые комнаты притихли, как будто ждут объяснений. Где была ночная стража с ее обходами? Разве кто-нибудь из женщин не должен спать на лежанке у королевы в ногах? Он спрашивает леди Рочфорд: – Я знаю, что у королевы есть враги, но как допустили в опочивальню? Джейн Рочфорд вскидывается: думает, что обвиняют ее. – Послушайте, господин секретарь. Могу ли я говорить с вами откровенно? – Я бы ничего иного не желал. – Во-первых, это внутреннее дело, оно вас не касается. Во-вторых, никакой опасности для нее не было. В-третьих, я не знаю, кто зажег свечу. В-четвертых, если б и знала, не сказала. Он молчит. – В-пятых, никто вам не скажет. Он молчит. – Если случится такое, что кто-нибудь войдет к королеве, когда огни уже потушены, нам об этом распространяться не след. – Кто-нибудь. – Он переваривает услышанное. – Кто-нибудь, кто войдет с целью совершить поджог или для чего-либо еще? – Для того, для чего заходят в спальни. Я не утверждаю, будто такой человек есть. Я бы все равно о нем не знала. Королева умеет хранить свои тайны. – Джейн, – говорит он, – когда захотите облегчить душу, не идите к священнику, идите ко мне. Священник наложит на вас епитимью, от меня же вы получите презент.
Какова граница между правдой и ложью? Она проницаема и размыта, поскольку густо обросла слухами, домыслами, искажениями намеренными и нечаянными. Истина может ломиться в ворота и вопить на улицах, но если она не услаждает наши зрение и слух, ее удел – хныкать у черного хода. Разбираясь с бумагами, которые остались от Екатерины, он вынужден был углубиться в некоторые легенды касательно ее молодости. Приходно-расходные книги – повесть не менее захватывающая, чем рассказы о морских чудищах и каннибалах. Екатерина всегда говорила, что после смерти Артура, до того как вышла за юного принца Генриха, жила в нищете и забвении: ела вчерашнюю рыбу и так далее. Все винили старого короля, но из счетов ясно, что тот не был таким уж скупцом. Екатерину обкрадывали домашние. Серебряная посуда и драгоценности утекали на рынок: уж наверное, не без ее ведома? Он видит, что она была щедра и расточительна, другими словами, вела себя по-королевски, не думая, как жить по средствам. Во что еще он верил безосновательно? Отец внес за него деньги, по крайней мере так утверждает Гардинер: уладил дело с родными человека, которого он пырнул ножом. Так может, думает он, Уолтер не хотел сжить меня со света, а лупил, потому что я его раздражал? И может, по делу лупил? Потому что я вечно бахвалился: «Я больше твоего могу выпить. Я вообще все могу, чего ты не можешь. Могу поколотить любого, хошь из Уимблдона, хошь из Мортлейка, пусть придут – сделаю из них отбивную. Я на дюйм выше тебя, глянь на косяк, где я поставил зарубку, давай, отец, давай, встань у косяка».
Он пишет:
Зубы Антони. Вопрос: что с ними сталось?
Показания Антони мне, Томасу Кромвелю: Их выбил ему дебошир-отец.
Ричарду Кромвелю: Он был в крепости, осажденной войсками Папы. Где-то за границей. Когда-то. Какого-то Папы. Под крепость подвели подкоп и заложили туда бочки с порохом. Он стоял в неудачном месте, и зубы вылетели от взрыва.
Томасу Ризли: Он был матросом, и в Исландии капитан за провизию отдал их человеку, который вырезает из зубов шахматные фигуры. Антони не понимал, о чем разговор, пока исландцы в меховой одежде не подошли и не выбили ему зубы.
Ричарду Ричу: Он потерял зубы в драке с человеком, оспаривавшим власть парламента. Кристофу: На него навели порчу, и все зубы выпали. Кристоф ответил: «Мне в детстве рассказывали про английских колдунов. Здесь на каждой улице ведьма. Почти на каждой».
Терстону: У него был враг-повар, который раскрасил камешки под орехи и дал ему горсть.
Грегори: Их высосал исполинский змей, который вылез из-под земли и сожрал его жену. Это было в Йоркшире, в прошлом году.
Он подводит черту под списком. Говорит: – Грегори, как мне быть с исполинским змеем? – Отправьте туда комиссию, – отвечает Грегори. – Его надо уничтожить. Поручите это епископу Роуланду Ли. Или Фицу. Он смотрит на сына долгим взглядом. – Так ты знаешь, что все это бабушкины сказки? Грегори так же долго смотрит на него. – Да, знаю. – Голос виноватый. – Но люди так радуются, когда я им верю. Особенно мастер Ризли. Хотя теперь он такой серьезный. Раньше он забавлялся тем, что засовывал меня головой под водосточную трубу. А теперь заводит глаза к небу и говорит: «Его королевское величество». Хотя раньше называл государя «его королевским неприличеством». И передразнивал его походку. Грегори упирает кулаки в бока и, тяжело ступая, делает круг по комнате. Он подносит руку ко рту, пряча улыбку.
* * *
Приходит день турнира. Он в Гринвиче, но смотреть поединки не пошел, сославшись на дела. Утром за ранней обедней король спросил его: – Сколько приносит Рипонская епархия? Архиепископу Йоркскому? – Чуть более двухсот шестидесяти фунтов, сир. – А Саутуэллская? – Всего сто пятьдесят фунтов, сир. – Надо же. Я думал, куда больше. Генрих живо интересуется епископскими доходами. Некоторые говорят: давайте установим епископам твердое содержание, а доходы от епархий пусть идут в казну. Он бы не прочь: на эти деньги можно содержать армию. Однако сейчас не время заводить с королем такой разговор. Король падает на колени и молится тем святым, что защищают рыцарей на турнире. – Ваше величество, – говорит он, – если будете биться с моим сыном Грегори, умерите ли вы силу удара? Чтобы не сбить его с лошади? Однако король говорит: – Я не обижусь, если малыш Грегори сбросит на землю меня. Едва ли такое случится, но коли случится, я первый скажу, что он – молодец. Да мы и не можем умерить силу удара вообще-то. Когда мчишь на полном скаку, уже нельзя удержаться. – Генрих обрывает себя и говорит ласково: – Не так часто противник падает с лошади. Не в этом цель состязания. Если вы тревожитесь, как Грегори себя покажет, то ваши опасения напрасны. Он очень толковый, иначе не выступал бы на турнирах. О робкого противника копье не сломаешь, он должен мчаться к тебе во весь опор. Да кроме того, никто нынче и не выступает плохо, это не дозволяется. Сами знаете, как объявляют герольды: «Грегори Кромвель бился достойно, Генри Норрис бился очень достойно, однако наш король и повелитель бился лучше всех». – Это правда, сир? – Он улыбается, чтобы не прозвучало обидно. – Вы, советники, убеждаете меня, что я должен наблюдать за поединками с помоста, мол, в мои лета силы уже не те. Да, знаю. Однако поймите, Сухарь, трудно бросить то, в чем упражнялся с малолетства. У нас были люди из Италии, восхищались нами, Брэндоном и мной. Им почудилось, что воскресли Гектор и Ахилл. Так они сказали. Но кто Ахилл, а кто Гектор? Один протащил другого по земле… – Вы прекрасно воспитали Грегори. И Ричарда Кромвеля. Ничуть не хуже прирожденных дворян. Они делают честь вашему дому. Грегори бился достойно. Грегори бился очень достойно. Грегори бился лучше всех. – Мне не надо, чтобы он становился Ахиллом. Я просто хочу, чтобы он остался цел. Число очков зависит от того, куда боец поразил противника, для туловища и для головы – отдельные колонки на бумаге. Засчитывается удар в кирасу, а не сломанные ребра. Удар по шлему, а не пробитый череп. Можно посмотреть записи за день, но они не скажут про боль от перелома, про то, как задыхающийся человек силится не сблевать в шлем. Вот и участники постоянно говорят: жаль, что вас не было, это надо видеть своими глазами. Грегори расстроился, когда его отец сказал, что не придет на турнир. Дел, впрочем, и правда невпроворот. Ватикан поставил Генриху ультиматум: если в течение трех месяцев тот не покается, буллу об отлучении напечатают и разошлют по всей Европе, так что все христиане мира поднимутся против английского короля. Императорский флот везет к Алжиру сорок тысяч вооруженных солдат. Фаунтинский аббат постоянно ворует деньги из монастырской казны и содержит шесть шлюх – это сколько же надо сил? А через две недели начнется парламентская сессия. Как-то в Венеции он познакомился с одним рыцарем, уже стариком, который в свое время разъезжал по всем турнирам Европы. Тот рассказывал ему про свою жизнь: вечно в дороге, с лошадьми и оруженосцами, из страны в страну, туда, где объявлено очередное состязание, пока годы и накопленные увечья не заставили уйти с турнирной арены. В ту пору старик перебивался тем, что учил молодых аристократов, терпя обиды и насмешки. В мои дни, сетовал он, юноши обучались манерам, а теперь я чищу лошадей для бражников, которым в старые времена не позволил бы надраить мне сапоги. Сам погляди, до чего я докатился, пью с… кто ты таков? Англичанин? Рыцарь был португалец, но говорил на кухонной латыни и ломаном немецком, пересыпая их словечками из турнирного лексикона, которые на всех языках примерно одинаковы. В прежние дни каждый турнир был испытанием, а не способом показать свое богатство. Женщины оставлялись на потом, а не глазели на тебя из раззолоченных павильонов. Система очков была гораздо сложнее, и судьи не прощали нарушений. Ты мог сломать все свои копья, но проиграть по очкам, сбросить противника на землю, но получить не мешок с золотом, а штраф или несмываемое пятно на репутации. Дурная слава шла за тобой повсюду, и проступок, совершенный, скажем, в Лиссабоне, настигал тебя в Ферраре. Доброе имя – все, что у тебя оставалось после сезона неудач, поэтому ты старался не искушать судьбу, когда она благосклонна, потому что завтра она от тебя отвернется. Кстати, никогда не трать деньги на гороскопы. Когда седлаешь коня, лучше не знать, что сегодня тебя ждет поражение. Хмелея, рыцарь говорил так, будто все на свете заняты его ремеслом. Оруженосцев ставь у конца барьера, чтобы лошадь не попыталась срезать угол, не то можешь зацепиться ногой. Чертовски больно, у тебя так бывало? Некоторые ставят всех оруженосцев туда, где произойдет сшибка, но что в этом проку? Он, Томмазо, соглашался: никакого проку. Старик говорил: эти щиты с пружиной, которые при ударе разваливаются на куски, видел их? Детские игрушки. Прежние судьи без всякого механизма видели, что копье попало в цель. В те времена у людей еще были глаза. Запомни: ни на что нельзя полагаться. Лошади подводят. Оруженосцы подводят. Нервы подводят. Шлем надевай очень плотно, чтобы хорошо видеть в прорезь. Тело держи прямо, а когда бьешь, поверни голову лишь самую малость и следи глазами за наконечником копья – он должен быть направлен точно в цель. Некоторые за мгновение до сшибки отклоняются вбок. Это естественно, но забудь про естественное. Тренируйся, пока не поборешь инстинкт. Иначе непременно отклонишься. Тело хочет себя уберечь, не налетать с размаху на закованных в латы коня и всадника, мчащихся тебе навстречу во весь опор. Некоторые не отклоняются, но в самый миг сшибки закрывают глаза. Одни из них знают про это и ничего с собой поделать не могут, другие просто не знают. Когда упражняешься, вели оруженосцам за тобой пронаблюдать. Научись не закрывать глаза. Так как мне усовершенствоваться, спросил он у старого рыцаря, как преуспеть? Вот что ответил рыцарь: в седле сиди легко, будто выехал на прогулку. Поводья держи свободно, но лошадь должна тебя чувствовать. В combat a plaisance, когда плещут флаги, мечи затуплены, а на копья надеты корончатые наконечники, скачи так, будто хочешь убить. В combat a l’outrance убивай так, будто это забава. На следующий вечер он вместе со своим приятелем Карлом Хайнцем возвращался из кабака и увидел вчерашнего знакомца: старый рыцарь лежал ничком, головой на суше, ногами в канале. Хорошо, что не наоборот. Они вытащили старика на берег и перевернули на спину. «Я знаю этого человека», – сказал он, а его друг спросил: «Чей он?» «Ничей, но ругается по-немецки, так что отвезем его в Немецкое подворье, а то сам я остановился не в Тосканском подворье, а у хозяина литейной». Карл Хайнц спросил: «Ты торгуешь оружием?» – а он ответил: «Нет, церковной парчой». Хайнц сказал: «Легче отыскать рубины в ночном горшке, чем выведать у англичанина его секреты». Говоря, они поставили старика на ноги, и Карл Хайнц сказал: «Глянь, его обчистили – срезали кошелек. Странно, что не убили». До Фондако деи Тедески, дворца, где останавливались немецкие купцы (его как раз недавно отстроили после пожара), добрались на лодке, и он, Томмазо, сказал: «Уложи его на складе среди ящиков. Укрой чем-нибудь, а когда проснется – накорми и напои. Он хоть и старик, но крепкий – выживет. Вот деньги». – Загадочный англичанин, – произнес Карл Хайнц. – Мне тоже как-то помогли незнакомцы – ангелы в человеческом обличье, – ответил он. Шлюз охраняли стражники, поставленные не купцами, а городом: венецианцы бдительно следили за тем, что происходит в иностранных подворьях. Пришлось заплатить еще и стражникам. Старик уже немного проспался и, когда его вытаскивали из лодки, размахивал руками и что-то говорил, возможно, на португальском. Под портиком Карл спросил: – Томас, ты видел наши фрески? Эй, стражник, ты посветишь нам факелом или за это надо платить отдельно? Факел озаряет стену и на ней что-то алое, струящееся: то ли край шелкового платья, то ли лужу крови. Затем тонкий бледный полумесяц, узенький белый серп. Выхватывает из тьмы женское лицо, контуры щек обведены золотом. Это богиня. – Подними еще чуть выше, – просит он стражника. На спутанных, развеваемых ветром волосах богини – золотая корона. Позади – звезды и планеты. – Кого вы наняли это написать? Карл Хайнц отвечает: – Для нас работает Джорджоне, его друг Тициан расписывает Риальто, им платит Сенат. Но комиссионные с нас сдерут такие, что не дай Боже! Нравится она тебе? Свет факела дрожит, опускается, оставляя на белой коже богини заплатки темноты. Стражник говорит: – Сколько мне еще стоять тут для вашего удовольствия, в собачий мороз? Это преувеличение, чтобы выманить побольше денег, однако с моря и впрямь дует холодный ветер, а на мосты и улицы вползает промозглый туман. Луна упавшим камнем дробится в воде канала. Дорогая шлюха семенит по мостовой на высоких копинах, поддерживаемая слугами под локотки, ее смех звенит в ночном воздухе, желтый шарф змеится с белой шеи в туман. Он, Томас-Томмазо, наблюдает за ней. В следующий миг она исчезает: где-то для нее открыли дверь и тут же закрыли. Как и женщина на фреске, куртизанка растаяла во мгле. Площадь вновь пуста; они с Карлом Хайнцем простились несколько минут назад, и сейчас он один: темный силуэт у кирпичной стены, фрагмент, выхваченный из мрака. Если мне потребуется исчезнуть, сказал он себе тогда, лучше всего сделать это в Венеции. Однако это было давным-давно, в чужой стране. А сейчас к нему заявился Рейф Сэдлер, и надо возвращаться в Гринвич, в сырое утро, к накрапывающему дождю. Где теперь Карл Хайнц? Умер, наверное. С той самой ночи он все собирался заказать себе такую же богиню, да как-то все время был занят другим – делал состояние, писал законы. – Рейф? Рейф стоит в дверях и не говорит. Он поднимает глаза, видит лицо юноши и роняет перо. Чернила брызжут на бумагу. Через мгновение он уже стоит, кутаясь в меховой плащ, как будто хочет отгородиться от неведомой еще беды. Спрашивает: «Грегори?» Рейф мотает головой. Грегори не пострадал. Он даже не выехал на арену. Турнир прервали. Генрих, говорит Рейф. Генрих мертв. А, говорит он. Сыплет на чернильные кляксы песок из костяной коробочки. Спрашивает: небось вся арена в крови? У него всегда под рукой турецкий кинжал, давнишний подарок, в ножнах с гравированными подсолнухами. Диковинная игрушка, украшение, думал он до сего дня. Сейчас прячет кинжал под одеждой.Позже он вспомнит, как трудно было пройти в дверь, повернуться к турнирной арене. Слабость, накатившая, когда он испугался за Грегори, так и не отпустила до конца. Он говорит себе: «Грегори цел», однако тело словно оглушено, замедленно, как будто он сам получил смертельный удар. Что делать: попытаться взять бразды в свои руки или бежать, скорее, скорее, пока не поздно, пока не закрыли порты… куда? Быть может, в Германию? Есть ли государство, где он сможет укрыться от императора, от Папы, от будущего правителя Англии? Он никогда не отступал, разве что однажды, в семь лет, но тогда на него надвигался Уолтер. С тех пор: вперед, вперед, en avant! Так что сомнения недолги, но позже он не вспомнит, как дошел до огромного золотого шатра, расшитого английскими гербами, и оказался над телом короля Генриха Восьмого. Рейф говорит, состязания еще не начались, король упражнялся с копьем, и наконечник зацепился за кольцо мишени. Лошадь рухнула на всем скаку, придавив всадника. Сейчас Добрый Норрис на коленях рядом с носилками молится, слезы ручьем. Тускло поблескивают кирасы, лица скрыты за шлемами: стальные челюсти, лягушачьи рты, щелочки глазниц. Кто-то говорит, лошадь оступилась, рядом никого не было, никто не виноват. Он словно слышит перепуганное конское ржание, крики зрителей, оглушительный лязг металла, с которым падают на землю два крупных животных – лошадь и человек; сталь вминается в мясо, копыта – в кость. – Найдите зеркало, – говорит он, – и поднесите к его губам. Поднесите к ним перышко и гляньте, не шелохнется ли. Короля вытащили из доспехов, но на нем по-прежнему стеганый турнирный дублет – черный, туго зашнурованный, как будто Генрих в трауре по самому себе. Крови не видно, и он, Кромвель, спрашивает, где рана. Король ударился головой, говорит кто-то, но больше ничего толкового из галдящей и причитающей толпы не вытянуть. Зеркало, перышки – все уже сделано, говорят ему; языки гудят, словно колокольные била, молитвы мешаются с божбой, одно ошалелое лицо (глаза пустые, как речная галька) обращено к другому, и все движутся медленно-медленно, точно сонные мухи. Никто не хочет нести тело во дворец, слишком большая ответственность: увидят, доложат. Ошибка думать, будто после кончины государя его советники кричат: «Да здравствует король!» Часто смерть монарха скрывают несколько дней. И сейчас надо поступить так же. Генрих будто восковой… извлеченное из панциря мягкое человеческое тело выглядит пугающе беззащитным. Лежит на спине, вытянувшись во весь свой огромный рост, на небесно-синем полотнище. Руки по бокам. Нигде ни раны, ни ссадины. Он трогает лицо монарха: еще теплое. Судьба уберегла Генриха от всякой телесной раны или увечья, сохранила как дар богам: они забирают его таким же, каким прислали на землю. Он открывает рот и орет. О чем вы думаете? Почему король лежит без всякого христианского попечения, будто уже отлучен от церкви? Будь это кто другой, его бы сейчас силились пробудить к жизни: осыпали розовыми лепестками и миртом, тянули за волосы, дергали за уши, жгли бы под носом бумагу, разжимали челюсти, чтобы влить в них святую воду, трубили рядом в рог. Все это необходимо сделать… тут он поднимает глаза и видит, что на него, словно демон, бежит Томас Говард, герцог Норфолкский. Дядя Норфолк: дядя королевы, первый вельможа Англии. «Черт побери, Кромвель!» – рычит Норфолк. Смысл более чем понятен. Черт побери, наконец-то я с вами поквитаюсь. Черт побери, ваши изменнические кишки выпустит палач. Черт побери, еще до заката ваша голова будет торчать на пике. Возможно. Однако в следующие секунды он, Кромвель, как будто раздается вширь, заполняя все пространство над мертвым телом. Он словно видит сверху, из-под купола палатки, как растет в обхвате и даже становится выше. Теперь он занимает больше места, вдыхает больше воздуха, прочнее стоит на земле. Когда герцог налетает на него, трясясь от макушки до пят, он – крепость на скале, и Томас Говард отскакивает от его стен, моргая, втягивая голову в плечи и бормоча не пойми что не пойми о ком. – Милорд Норфолк! – ревет он. – Милорд Норфолк, где королева?! Норфолк дышит с хрипом. – На трибуне. Я ей сказал. Самолично. Мой долг. Как ее дяди. Бьется в припадке. Карлица пыталась ее поднять. Отпихнула ее ногой. Господи Боже Всемогущий! Кто сейчас правит от имени младенца в Анниной утробе? Когда Генрих собирался во Францию, то сказал, что назначит Анну регентшей, однако это было год назад. К тому же король так и не уехал, так что мы не знаем, назначил бы или нет. Анна сказала ему, Кремюэлю: «Когда я буду регентшей, берегитесь: или вы будете мне послушны, или отправитесь на плаху». Анна-регентша быстро расправилась бы и с Екатериной, и с Марией. Екатерине теперь ничего не страшно, но Мария здесь и беззащитна. Норфолк падает на колени, шепчет короткую молитву, тут же вскакивает снова. – Нет, нет, нет. Не баба на сносях. Куда ей править. Не Анна. Я, я, я. Через толпу проталкивается Грегори. Мальчику хватило ума привести Фицуильяма, казначея. – Принцесса Мария, – говорит он Фицу. – Как доставить ее сюда? Она нужна как можно быстрее, иначе страна погибнет. Фицуильям – старинный друг и ровесник Генриха, а главное – человек ясного ума, так что даже сейчас не теряет присутствия духа. – За ней присматривают люди Болейнов, – говорит Фиц. – Едва ли они ее отпустят. Да, и я болван, думает он, что не догадался заранее подкупить тюремщиков; я сказал, чтобы Екатерину отпустили с тем, кто предъявит мой перстень, но не позаботился о принцессе. Если Мария попадет в руки к Болейнам, то ей не жить; если к папистам, те провозгласят ее королевой, и тогда не жить мне. Начнется гражданская война. Придворные набились в шатер, каждый рассказывает свою версию того, как Генрих убился, все восклицают, голосят, спорят, перекрикивая друг друга. Он стискивает Фицу локоть. – Если новость доберется до тюремщиков Марии раньше нас, то мы уже не увидим принцессу живой. Ее не удавят и не зарежут, но и до Лондона она не доедет – сломает шею по дороге или что-нибудь в таком роде; люди Болейнов об этом позаботятся. И тогда, если будущий ребенок Анны – девочка, то королевой станет Елизавета: больше никого у нас нет. Фицуильям говорит: – Погодите, дайте сообразить. Где Ричмонд? Незаконный сын короля, шестнадцати лет от роду. Ценное имущество, о котором следует позаботиться. Ричмонд – зять Норфолка, Норфолк знает, где он, может спрятать юношу, а может, наоборот, предъявить. Впрочем, он, Кромвель, не опасается бастарда, да к тому же Ричмонд давным-давно приручен лестью и ласковым обращением. Норфолк мечется, гудит, словно обезумевший шмель – жжжж, жжжж, – и толпа шарахается, как от шмеля, откатывает, но тут же накатывает волной. Жжжж – Норфолк летит на него, Кромвеля; он отмахивается. Смотрит на Генриха; у покойника вроде бы дрогнуло веко, хотя, может, почудилось. Он стоит над королем: уродливый надгробный памятник, черный ангел-хранитель. Ждет, и когда веко дергается вновь, уже не сомневается. Он кладет руку королю на грудь, хлопает, словно купец, скрепляющий сделку. Говорит спокойно: «Король дышит». Дикий рев: одновременно стон и победный вопль, хвала Богу и вызов дьяволу. Под набитой конским волосом турнирной курткой – чуть заметная судорога; его рука тяжело лежит на королевской груди, и он чувствует, что воскрешает Лазаря, магнетическим касанием ладони возвращает Генриха к жизни. Тот дышит редко, но мерно. Он, Кромвель, увидел будущее, увидел Англию без Генриха и теперь шепчет одними губами: «Да здравствует король». – Позовите врачей, – говорит он. – Беттса или хоть какого-нибудь лекаря. Если король умрет снова, им ничего не будет, обещаю. Разыщите моего племянника Ричарда Кромвеля. Подайте табурет милорду Норфолку, ему дурно. Очень хочется сказать, чтобы окатили водой Доброго Норриса, чьи молитвы (теперь, когда у Кромвеля есть время вслушаться) явно отдают папистским душком. В палатке так тесно, что кажется, ее держат уже не шесты, а людские головы. Он последний раз глядит на короля, до того как неподвижную фигуру закрывают склоненные спины докторов и священников. Слышен долгий, судорожный хрип. Впрочем, хрипеть может и покойник; известны такие случаи. – Расступитесь! – кричит Норфолк. – Дайте королю дышать! Дышать! И словно по команде, лежащий делает глубокий, свистящий вдох. Потом чертыхается. Потом пробует сесть. И все позади. Нет, не совсем: он, Кромвель, еще должен пристально вглядеться в Болейнов. Их лица сведены, как на лютом морозе, перекошены запоздалым осознанием великого мига. Как они успели сюда так быстро? «Откуда они взялись?» – спрашивает он Фица и внезапно замечает сгустившиеся сумерки. То, что показалось минутами, было на самом деле двумя часами. Два часа прошло с тех пор, как Рейф появился в дверях и он выронил перо.
Он говорит Фицуильяму: – Разумеется, ничего не было. А если и было, то настолько мелкое происшествие, что даже говорить не о чем. Эсташу и другим послам он скажет: да, король упал, ударился головой, несколько минут лежал без сознания. Нет, мы и на мгновение не подумали, будто он умер. Через десять минут король сел и сейчас чувствует себя превосходно. С моих слов, замечает он Фицуильяму, может создаться впечатление, что удар о землю пошел королю на пользу. Что в этом и состояла цель. Что каждого монарха надо время от времени бить обо что-нибудь головой. Фицуильям улыбается: – Чего только не передумаешь в такие минуты. У меня вот первая мысль была – послать за лорд-канцлером. Теперь сам себе дивлюсь: чем бы он, по моему мнению, нам помог? – А я думал про архиепископа Кентерберийского, – сознается он. – Мол, как же король умрет без него? Воображаю, как бы мы пытались погрузить Кранмера на барку! Он бы заставил нас для начала обсудить с ним главу из Евангелия. Что предписывает делать в таких случаях Черная книга? Да ничего. Никто не оставил указаний, как быть, если король только что мчался по турнирной арене, а сейчас лежит бездыханный. Никто не посмел допустить самую мысль, что это возможно. Когда нет предписаний, в дело идут ножи. Он вспоминает Фицуильяма рядом с собой, Грегори в толпе, Рейфа за плечом, а потом и племянника Ричарда. Кажется, именно Ричард помог Генриху сесть, хотя доктора и кричали: «Нет, нет, пусть лежит!» Генрих прижал руки к груди, будто стиснул собственное сердце, затем попытался встать. Звуки, рвущиеся из королевского рта, походили на слова, только это были не слова: как будто на короля сошел Святой Дух, и тот глаголет языками ангельскими и человеческими. Его тогда пронзила паническая мысль: что, если это навсегда? Есть ли в Черной книге указания на случай монаршего слабоумия? Вроде бы он слышал, как ржет, пытаясь встать, раненая лошадь, но ведь этого не может быть: наверняка ее сразу добили? И тут сам Генрих взвыл, как раненый зверь. Сейчас, во дворце, король срывает повязку. Синяк и шишка – вот вердикт сегодняшнего Божьего суда. Генрих торопится показать себя придворным, дабы пресечь любые слухи о тяжелом увечье или смерти. Анна входит, опираясь на отцовскую руку; граф, «монсеньор», и вправду ее поддерживает, это не притворство. Она слаба, бледна. Теперь действительно видно, что у нее живот. – Ваше величество, – говорит Анна. – Я молю, Англия молит вас больше не биться на турнирах. Генрих жестом подзывает ее к себе – ближе, ближе, – и когда она оказывается прямо перед ним, яростно хрипит: – Может, меня и охолостить заодно? Вы ведь этого хотите, мадам? Разверстые ужасом лица. Родственникам хватает ума оттащить Анну прочь, прочь, вон из комнаты; весь клан Болейнов и Говардов смыкается вокруг нее, мистрис Шелтон и Джейн Рочфорд хлопочут и сокрушенно цокают языком. Джейн Сеймур, единственная из фрейлин, не трогается с места. Она стоит и смотрит на короля, и взор Генриха устремляется прямо к ней. Мгновение она одна посреди пустого пространства – танцовщица, оставшаяся на сцене, когда весь кордебалет уже за кулисами.
Позже он с Генрихом в опочивальне. Король обмяк в бархатном кресле, рассказывает: – Как-то я гулял с отцом по Ричмондской галерее, это было летом, часов в одиннадцать вечера, мы шли под руку и беседовали, вернее, он увлеченно говорил, я слушал. Внезапно раздались страшные грохот и треск, все здание застонало, и пол ушел у нас из-под ног. Я по гроб жизни не забуду, как мы стояли на краю провала, в который рушился мир. В первые мгновения я не понимал, что слышу, балки это хрустят или наши кости. Божьей милостью мы оба остались невредимы, и все же я отчетливо видел, как падаю вниз, вниз, до самой земли, даже ощутил ее запах – сырой, могильный. Вот и сегодня, когда я упал. Было так же. Я слышал голоса. Очень далекие. Слов разобрать не мог. Я парил в воздухе. Бога не видел. Ангелов тоже. – Надеюсь, вы не огорчились, когда пришли в чувство и увидели всего лишь Томаса Кромвеля. – Никогда я не был вам так рад, – говорит король. – Ваша собственная матушка в день вашего рождения так не радовалась вам, как я сегодня. Слуги ходят по комнате неслышными шагами, заняты вечерними обязанностями. Кропят королевское ложе святой водой. – Полегче, – одергивает их Генрих. – Или вы хотите, чтобы я простыл? В одной капле благодати не меньше, чем в целом ведре. – Затем поворачивается и шепчет: – Сухарь, ничего этого не было. Понимаете? Он кивает. Все записи о происшествии уничтожены им самолично. В хрониках останется, что такого-то числа лошадь под королем споткнулась, но Божья рука подняла его и усадила обратно на трон, живого и веселого. Еще одно наблюдение для «Книги под названием Генрих»: урони его, он подскочит. Однако королева права. Все мы видели старых бойцов, турнирных соратников прежнего короля, как они бродят по дворцу, растерянно моргая, – люди, которые слишком часто ударялись головой, хромые, ковыляющие, скрюченные, как кочерга. И никакое умение не убережет от судьбы. Запомни: ни на что нельзя полагаться. Лошади подводят. Оруженосцы подводят. Нервы подводят. В тот вечер он говорит Ричарду Кромвелю: – Не дай Бог еще раз такое пережить. Многие ли могут сказать, как я: «У меня нет друзей, кроме короля Англии»? Вроде бы я богат и всесилен, но отними Генриха – останусь ни с чем. Позже он высказывает ту же мысль, в более осторожной форме, Уильяму Фицуильяму. Фиц смотрит на него задумчиво, не без сочувствия. – Не знаю, Сухарь. Кое-кто вас поддерживает. – Прошу меня извинить, – скептически замечает он, – но почему я этой поддержки не вижу? – Я хотел сказать, если вам потребуется помощь против Болейнов, вас поддержат. – Против Болейнов? Отчего бы это? Мы с королевой – лучшие друзья. – Шапюи говорит нечто иное. Он склоняет голову набок. Интересно, кто встречается с послом, а еще интереснее, что из разговоров тот передает другим собеседникам. – Слышали их? – возмущенно спрашивает Фиц. – У шатра, когда мы думали, что король умер? Как они кричали: «Болейн! Болейн!» Выкликали собственное имя, будто кукушки. Он ждет. Разумеется, он слышал Болейнов. Настоящий вопрос не в этом… а в чем? Фиц близок к королю. Рос вместе с Генрихом, хотя его род – старинный, но не знатный. Воевал. Был ранен из арбалета. Ездил послом во Францию, знает Кале и тамошних англичан, их взгляды и настроения. Входит в избранный круг рыцарей ордена Подвязки. Пишет хорошо, по делу, избегая и чрезмерной прямоты, и чрезмерной уклончивости, умерен в лести, щедр в дружелюбии. Заслужил уважение кардинала и благожелателен к Томасу Кромвелю за обеденным столом… а сейчас благожелателен чуть больше обычного? – Что бы случилось, Сухарь, не вернись король к жизни? Век буду помнить, как Говард вопил: «Я, я, я!» – Такое не забудется. Что до… что до худшего, короли умирают, но государства живут. Можно было бы создать правящий совет из юристов короны и нынешних сановников… – …включая вас… – Разумеется, включая меня. – (Причем сразу в нескольких качествах: кто ближе королю, кто довереннее господина секретаря, который в то же время и юрист, начальник судебных архивов?) – С согласия парламента мы могли бы создать регентский совет, чтобы он управлял страной, пока королева не разрешится от бремени, и дальше, если она позволит, до совершеннолетия нового государя. – Она бы не позволила. – Да, она желала бы править сама. Хотя для этого ей пришлось бы одолеть дядю Норфолка. И я не знаю, кого бы из двоих поддержал. Наверное, даму. – Спаси Бог Англию и ее жителей, – говорит Фицуильям. – Из этих двоих я скорее поддержал бы Томаса Говарда. Он по крайней мере может выйти на бой, если до такого дойдет. Поручи регентство ей, и Болейны станут вытирать о нас ноги. Мы будем для них живым ковром. Она прикажет вышить у нас на коже «АБ». – Трет подбородок. – Впрочем, это так и так будет. Если она родит Гарри сына. Он чувствует, что Фиц за ним наблюдает. Говорит: – Кстати, о сыновьях. Должен сказать, я у вас в неоплатном долгу за доброе попечение о Грегори. Если могу быть чем-нибудь полезен – только скажите. – Это я должен благодарить. Присылайте его опять поскорее. Пришлю непременно, думает он. Вместе с дарственной на земли монастыря-другого, как только будет принят мой новый закон. На его столе громоздятся бумаги к предстоящей сессии. Хочется верить, что скоро Грегори будет заседать в парламенте вместе с ним – мальчику надо изучить государственное устройство со всех сторон. Депутатский срок – опыт разочарований, бесценный урок терпения. Они, члены палаты общин, сопричастны войне и миру, склокам, дебатам, недовольству, ропоту, богатству, бедности, истине, лжи, справедливости, гнету, измене, убийствам, а равно сохранению государства; они делают то же, что предшественники – в меру сил, разумеется, – и уходят, оставив все, как было до них.
После случая с королем все по-старому и все иначе. Он, как и прежде, в контрах с Болейнами, со сторонниками Марии, с герцогом Норфолкским, с герцогом Суффолкским, с отсутствующим епископом Винчестерским, не говоря уже о короле Франции, императоре и епископе Римском, иначе именуемом Папой. Однако каждое из противостояний стало еще острее. В день Екатерининых похорон его охватывает тоска. Наши враги – самые близкие нам люди, наше второе «я». Когда она в семь лет сидела на шелковых подушках в Альгамбре за первой своей вышивкой, он чистил овощи в кухне Ламбетского дворца под присмотром своего дяди Джона, тамошнего повара. В совете он принимал сторону Екатерины не реже, чем ее адвокаты. «Вы говорите то-то, милорды, но вдовствующая принцесса утверждает, что…» или «Екатерина опровергнет вас так-то». Не потому, что желал ей победы, а чтобы сберечь время. Как противник, он вникал в ее заботы, оценивал ее стратагемы, угадывал ее следующие шаги. Чарльза Брэндона это долго ставило в тупик. «За кого же он?» – вопрошал тот. Даже и теперь в Риме не считают, что дело Екатерины закрыто. Ватиканские юристы не бросают процесс из-за того, что одна из сторон отошла в мир иной. Может быть, когда все мы умрем, в какой-нибудь ватиканской крипте скелет секретаря будет все так же обсуждать с другими скелетами тонкости канонического права. Они будут лязгать друг на друга зубами, поворачивать в пустых глазницах несуществующие глаза: глядь, а все документы-то рассыпались в прах. Кто лишил Екатерину девственности, первый муж или второй? Мы не узнаем, пройди хоть целая вечность. Он говорит Рейфу: – Кто постигнет жизнь женщины? – Или ее смерть, – отвечает Рейф. Он поднимает глаза: – Но ты-то не думаешь, что Екатерину отравили? – Говорят, – серьезно отвечает Рейф, – будто яд подмешали в крепкое валлийское пиво, которое она, надо понимать, в последние месяцы употребляла с большой охотой. Он ловит взгляд Рейфа и фыркает от смеха. Вдовствующая принцесса хлещет крепкое валлийское пиво! – Из кожаной кружки, – продолжает Рейф. – Бывало, как шмякнет ею об стол, как заорет: «Наливай еще!» В коридоре – топот бегущих ног. Что еще стряслось? Стук в дверь, вбегает запыхавшийся мальчишка-валлиец. – Хозяин, вам срочно надо к королю. Фицуильям прислал за вами своих людей. Кажется, кто-то умер. – Как, еще кто-то? – говорит он, запирая бумаги в стол и протягивая ключ Рейфу. Хватит оставлять секреты на виду, свежие чернила на воздухе. – Кого мне воскрешать на сей раз?
* * *
Знаете, как бывает, когда опрокинется телега? Все, с кем вы говорите, случайно оказались на той самой улице. Они своими глазами видели, как мужчине оторвало ногу. Как женщина испустила дух. Как грабили товар с заднего конца телеги, когда возчик лежал, раздавленный ее передком. Они слышали, как один исповедовался перед смертью, а другой из последних сил диктовал юристу завещание. И если все, кто объявил себя очевидцем, и вправду там были, значит, весь лондонский сброд собрался в одном месте: воры сбежали из тюрем, шлюхи – из постели, и все адвокаты стояли плечом к плечу с мясниками, вытянув шею и открыв рот. Чуть позже в тот день, 29 января, он тронется в Гринвич, сам не свой от известия, доставленного людьми Фицуильяма. Чего только он не наслушается. Я был там, когда Анна оборвала речь на полуслове, я был там, когда она отложила книгу, шитье, лютню, ябыл там, когда она праздновала похороны Екатерины и внезапно изменилась в лице. Я видел, как фрейлины бросились к ней, как увели ее в спальню и заперли дверь, я видел кровавый след на полу, там, где она прошла. Нам не обязательно верить во все. В кровавый след. Мало ли что люди видят в воображении. На его вопрос, когда у королевы начались схватки, никто ответить не смог, хотя якобы все произошло при них. Они запомнили кровавый след и упустили остальное. Пройдут сутки, прежде чем из королевиной спальни сообщат горестную весть. Бывает, что кровотечение прекращается и женщина все же донашивает ребенка. Но нет. Екатерина еще не успокоилась в могиле, слишком мало времени прошло с похорон: она протянула мертвую руку и выдернула младенца из Анниного чрева. Вечером перед королевиной опочивальней карлица сидит на плитах, раскачивается и стонет: изображает, что у нее схватки. «Бесплодные усилия», – говорит кто-то. – Нельзя ли ее убрать? – спрашивает он фрейлин. Джейн Рочфорд говорит: – Это был мальчик, господин секретарь. Она носила его четыре месяца, насколько мы можем судить. – Какая теперь разница? – Я подумала, вам будет интересно. О, я знаю, что планы менялись, иногда в тот же день. То король был с ней, то нет, то при ней был Норрис, то другие джентльмены. Однако вы правы, господин секретарь. Теперь это не важно. Врачи мало что могут сказать наверняка. Мы не узнаем, когда ребенок был зачат и кто где в это время находился. – Быть может, и не стоит об этом больше говорить. – Что ж. Теперь, когда у нее, бедняжки, вновь не получилось выносить – что будет со страной? Карлица встает и, глядя прямо на него, задирает юбку. Он не успевает отвести глаза. Кто-то (или, может, она сама) обрил ей лобок, и теперь у нее там голо, как у старухи или у маленькой девочки.Позже, стоя перед королем вместе с Мэри Шелтон, Джейн Рочфорд ничего не может сказать определенно. – По всей видимости, это был мальчик, – говорит она, – примерно на шестнадцатой неделе. – Что значит «по всей видимости»? – вопрошает король. – Разве нельзя определить точно? Поди прочь, женщина, ты никогда не рожала, что ты в этом смыслишь? Рядом с королевой должны быть опытные матроны. Неужто вы, Болейны, не можете уйти с дороги и уступить место кому-нибудь более толковому? Вечно вам надо толпиться там, где стряслась беда. Голос леди Рочфорд дрожит, однако она тверда. – Ваше величество может поговорить с врачами. – Уже говорил. – Я лишь повторяю их слова. Мэри Шелтон ударяется в слезы. Генрих смотрит на нее и говорит кротко: – Мистрис Шелтон, прости меня. Я не хотел доводить тебя до слез, милая. Король мучается. Нога в бинтах – рана, полученная на турнире десять лет назад, беспокоила его все эти годы, а после недавнего падения воспалилась еще сильнее. От прежней бравады нет и следа; Генрих напуган, как в тот раз, когда видел во сне своего брата Артура. Это уже второй ее выкидыш, говорит король в тот вечер, наедине, хотя, кто знает, может, были и другие; женщины молчат, пока не станет виден живот, мы не знаем, скольких моих детей она потеряла. Чего Господь теперь от меня хочет? Что надо сделать, чтобы Ему угодить? Я вижу, что Бог не даст мне сыновей. Он, Кромвель, стоит в сторонке, покуда Томас Кранмер, бледный и вкрадчивый, выслушивает королевские горести. – Мы клевещем на Создателя, – говорит архиепископ, – когда виним Его за все печальные обстоятельства нашей падшей природы. – Я думал, Он помнит о каждой малой птице, – с детской злостью произносит король. – Тогда почему же Он не печется об Англии? Кранмер придумает объяснение. Он, Кромвель, почти не слушает; его мысли заняты женщинами Анны. Они мудры, как змии, кротки, как голуби. Уже прядется некая нить, некая версия событий, и вьют ее в покоях королевы: Анна Болейн не виновна в том, что произошло. Виновен ее дядя, Томас Говард, герцог Норфолкский. Когда король упал с лошади, Норфолк ворвался к королеве, крича, будто Генрих умер. От этого потрясения нерожденное сердечко остановилось. Более того: виноват сам Генрих. Тем, что дурно себя ведет, что увивается за дочкой старого Сеймура, оставляет записки на ее скамье в церкви, шлет ей конфеты со своего стола. Когда королева узнала, что ее муж любит другую, то была уязвлена в самое сердце. От горя ее утроба возмутилась и исторгла младенца. – Позвольте, – говорит король холодно, стоя в изножье кровати и выслушивая такое объяснение событий. – Позвольте, мадам. Если какая женщина и виновна, то лишь та, которая сейчас передо мной. Я побеседую с вами, когда вам будет лучше, а пока всего доброго, я еду в Уайтхолл готовиться к парламентской сессии, вам же советую лежать в постели, пока вы не оправитесь. Чего со мной, боюсь, уже не произойдет. И тогда Анна кричит ему вслед (по крайней мере так рассказывает леди Рочфорд): – Останьтесь, милорд, я скоро подарю вам еще ребенка, тем скорее, что Екатерины теперь нет в живых. – Не понимаю, как это может ускорить дело. – Король, прихрамывая, уходит прочь. Теперь в личных покоях джентльмены (они собирают короля в дорогу) проходят мимо своего повелителя осторожно, словно тот – из стекла. Генрих сожалеет о поспешных словах, ведь если королева не едет, то не едут и дамы, и он не сможет любоваться своей куколкой Джейн Сеймур. Только что подоспели новые доводы, возможно, в записке от Анны: плод, зачатый при жизни Екатерины, в любом случае был несравненно хуже того, что будет зачат после ее смерти – неизвестно когда, но точно очень скоро. Даже если бы ребенок родился и вырос, нашлись бы те, кто усомнился в его законности, теперь же, когда Генрих вдовец, никто в христианском мире не оспорит их брак, а значит – и будущего наследника. – Как вам такие рассуждения? – Генрих неловко (нога по-прежнему туго забинтована) опускается в кресло. – Нет, не сговаривайтесь, я желаю получить по ответу от вас обоих, от каждого Томаса отдельно. – Генрих кривится; впрочем, это означает улыбку. – Знаете, как вы запутали французов? Они думают, вы один советник, и в депешах называют вас доктор Кранмель. Они переглядываются, Кранмер и он, ангел и мясник. Однако король не ждет, пока они ответят, вместе или порознь, а продолжает говорить, будто тычет в себя кинжалом – проверить, больно ли. – Если король не может произвести наследника, остальное уже не важно. Победы, воинская добыча, мудрые законы, которые он принимает, великолепие его двора – все это ничто. Да, верно. Сохранять прочность королевства – договор монарха с народом. Если он не может сам произвести сына, значит, должен выбрать наследника, провозгласить перед всей страной до того, как начнутся смуты и разногласия, заговоры и козни. И кого Генрих может выбрать, не насмешив людей? Король говорит: – Когда я вспоминаю, что сделал для нынешней королевы, как поднял ее до себя, дочь обычного джентльмена… то не могу понять, что тогда на меня нашло. Смотрит на советников, будто вопрошая: а вы понимаете, доктор Кранмель? – Мне думается, – продолжает Генрих неуверенно, подыскивая нужные слова. – Мне думается, что меня бесчестно склонили к этому браку. Он, Кромвель, смотрит на вторую половину себя, будто в зеркало; Кранмер опускает глаза. – Что значит бесчестно? – спрашивает архиепископ. – Я уверен, что был тогда не в себе. Как и сейчас, впрочем. – Сир, – говорит Кранмер. – Ваше величество. Помилуй Бог, конечно, вы не в себе. Вы понесли большую утрату. Две, думает он, ваш сын родился мертвым, а вашу первую жену опустили в землю. Немудрено, что вы трепещете. – Сдается, что меня приворожили, – говорит Генрих, – может, заклятием, может, зельем. Женщины такое умеют. А если это верно, то брак недействителен, ведь правда? Кранмер протягивает руки, будто силится остановить набегающий морской вал. Архиепископ видит, как тает в воздухе его королева, столько сделавшая для истинной веры. – Сир… сир… ваше величество… – Довольно! – обрывает Генрих, как будто это Кранмер начал разговор. – Кромвель, в бытность солдатом вы не слышали о чем-нибудь, что могло бы исцелить мою ногу? Я снова ею ударился, и врачи говорят, там скапливаются дурные соки. Они опасаются, что гниение дошло до кости. Только никому не рассказывайте – не хочу, чтобы стало известно. Велите пажу позвать Томаса Викери. Пусть отворит мне кровь, может, полегчает. Доброй вам ночи. Надеюсь, даже этот день когда-нибудь закончится. Последние слова обращены скорее к себе, чем к собеседникам. Доктор Кранмель выходит. За дверью один из них поворачивается к другому. – Завтра его настроение может перемениться, – говорит архиепископ. – Да. Человек, когда ему больно, может сказать что угодно. – Нам не следует обращать внимание на его слова. – Не следует. Они словно два человека, идущие по тонкому льду: ступают мелкими шажками, держатся друг за друга. Как будто это поможет, когда по обеим сторонам разверзнутся трещины. Кранмер говорит неуверенно: – У него от горя мутится разум. Не мог же он столько добиваться Анны, чтобы так быстро ее отбросить. Скоро они совершенно помирятся. – К тому же, – замечает он, – не в обычае Генриха признавать ошибки. У него могут быть сомнения касательно своего брака, но горе тому, кто первый о них заговорит. – Надо успокоить его сомнения. Мы с вами должны это сделать. – Он хотел бы восстановить дружбу с императором. После смерти Екатерины им не из-за чего оставаться в ссоре. И надо признать, что нынешняя королева… Он не решается сказать «лишняя». Не решается сказать «помеха для мира». – Стоит у него на пути, – без обиняков заканчивает Кранмер. – Но не станет же он ею жертвовать в угоду императору или кому бы то ни было еще? Риму не стоит на это рассчитывать. Он не отступится. – Да. Уж поверьте, наш добрый государь не отступится от своей церкви. Кранмер слышит то, что он оставил недосказанным: для сохранения церкви Анна королю не нужна. Хотя, говорит он Кранмеру, трудно вспомнить короля до Анны, трудно вообразить без нее. Она все время рядом. Читает через плечо его письма. Проникает в его сны. Даже когда лежит рядом с ним на ложе, для нее это недостаточно близко. – Я скажу вам, что мы должны сделать. – Он сжимает Кранмеру локоть. – Давайте устроим обед и пригласим герцога Норфолка. Кранмер отшатывается: – Норфолка? Зачем? – Для примирения, – беспечно говорит он. – Боюсь, что в день печального случая с королем я… хм… неуважительно отнесся к притязаниям герцога. В шатре. Когда он туда вбежал. Вполне обоснованным притязаниям, – уточняет он с почтительной миной. – Разве герцог – не главный из пэров королевства? Нет, я всем сердцем ему сочувствую. – Что вы натворили, Кромвель? – Архиепископ бледен. – Что вы натворили в шатре? Подняли на Норфолка руку, как прежде на герцога Суффолка? – На Брэндона? Да я всего лишь его отодвинул. – Когда он этого не хотел. – Ради его же блага. Если бы не я, Чарльз своим языком довел бы себя до Тауэра. Понимаете, он оскорблял королеву. Что дозволено, думает он, только самому Генриху, но не мне и не кому-либо другому. – Ну пожалуйста, давайте устроим обед. У вас в Ламбетском дворце. Ко мне Норфолк не придет: подумает, будто я хочу подсыпать ему сонного порошка в кларет, погрузить его на корабль и продать в рабство. А к вам заглянет с охотой. Я пришлю дичь. И желе в виде главных дворцов герцога. Вам не надо будет тратиться, а вашим поварам – хлопотать. Кранмер смеется. Ну наконец-то. Это большая победа – вызвать у архиепископа хотя бы улыбку. – Как желаете, Томас. Обед так обед. Архиепископ кладет ему руки на плечи, целует сперва в правую щеку, затем в левую. Лобзание мира. Он не чувствует в душе покоя или хотя бы утешения, идя в свои комнаты по неестественно притихшему дворцу: издали не доносятся звуки лютни, разве что обрывки молитв. Он пытается вообразить недоношенный плод, человечка не больше крысы, со старческим и мудрым лицом. Мало кто из людей такое видел. Он уж точно нет. В Италии ему однажды случилось держать фонарь для хирурга, когда тот в темной запертой комнате вскрывал покойника с целью посмотреть, как человек устроен. То была ужасная ночь, горло спирало от вони кишок и крови, а художник, проникший на вскрытие за взятку, все пытался оттереть его плечом. Однако он стоял крепко, поскольку обещался держать фонарь. Так он попал в число светочей, избранных, видевших, как мышцы отделяют от кости. Однако ему ни разу не довелось заглянуть в женщину, и уж тем более – в беременную; ни один врач, даже за деньги, не стал бы вскрывать такой труп на публике. Он думает о Екатерине, забальзамированной и уложенной в гробницу. Ее душа отлетела от тела на поиски первого мужа: бродит сейчас, выкликая его имя. Ужаснется ли Артур при встрече: она – старая толстуха, а он – все тот же худой мальчик? Ему вспоминается девиз Анны, часть ее герба: «Счастливейшая». Когда он спросил у Джейн Рочфорд, как королева, та ответила: «Сидит, плачет». Он имел в виду: много ли крови потеряла? Екатерина была не святая, но теперь ее грехи сняты и возложены на Анну. Старая королева обитает в сиянии славы Божьей, умершие дети копошатся у ее ног. Анна по-прежнему на грешной земле, мокрая от родильного пота, на окровавленных простынях. Однако руки и ноги ее холодны, а сердце окаменело.
Вот и герцог Норфолк, ждет, чтобы его накормили. В лучшем своем платье (или по крайней мере в таком, какое счел приличным для Ламбетского дворца) герцог похож на изгрызенную собакой веревку или на объеденный хрящ. Яростные глаза под кустистыми бровями. Волосы – стальная щетина. Весь – кости да жилы, пахнет лошадьми, кожей, оружейной мастерской и почему-то еще золой – так, что в носу щиплет. Норфолк не боится никого из живущих, кроме Генриха Тюдора, в чьей власти отобрать у него герцогство, однако трепещет перед мертвыми. Говорят, что под конец дня королевин дядя самолично задвигает щеколды на дверях и ставнях, чтобы покойный кардинал Вулси не влетел в окно и не вполз по лестнице. Если бы Вулси хотел добраться до Норфолка, то сидел бы тихонько в ящике стола, дыша через щелочку, или влез в замочную скважину, или черным от сажи голубем свалился, хлопая крыльями, через каминную трубу. Когда племянница Говардов Анна Болейн стала королевой, герцог думал, что теперь его горести позади. А горестей скопилось немало: все вельможи были его завистники, недоброжелатели, клеветники. Теперь-то, когда Анну коронуют, думал Норфолк, он станет правой рукой короля. Вышло иначе, к большой досаде герцога. Новая женитьба не принесла Говардам ожидаемого богатства и почета – все досталось Анне и Томасу Кромвелю. Герцог считает, что Анну должны направлять во всех поступках родственники-мужчины, но Анна не хочет, чтобы ее направляли, более того, ясно дала понять, что считает себя, а не герцога, главой семьи. На взгляд герцога, это противно естеству: женщина не может главенствовать, ее удел – послушание. Всякая женщина, даже королева, должна знать свое место, а забудет – ей надо напомнить. Говард иногда ворчит: не на Генриха, а на Анну Болейн. В последние годы герцог нашел лекарство: уезжает от двора в поместье и там изводит жену, которая в письмах часто жалуется Томасу Кромвелю на обиды, чинимые ей мужем. Как будто он, Томас Кромвель, может превратить герцога в нежного возлюбленного или хотя бы в подобие разумного человека. Однако, как только сделалось известно, что королева опять в положении, герцог тут же заявился ко дворцу, а вскоре к нему приехал и сынок. Юный Суррей чрезвычайно высокого мнения о своей одаренности, удачливости и красоте. Однако лицо у него кривое, и он напрасно стрижется под горшок. Нынче Суррей обедает в Ламбетском дворце, пожертвовав вечером у шлюх. Так и рыщет глазами по комнате: может, думает, что у Кранмера за портьерой голые девки. – Что ж, – говорит герцог, потирая руки. – Когда заглянете ко мне в Кеннингхолл, Томас Кромвель? У нас отличная охота, клянусь Богом, есть что пострелять в любое время года. Захотите – найдем вам грелку по вашему вкусу, женщину из простых, как вы любите. Нынче у нас служит одна… – свистящий вдох, – с вот такими грудями… – Герцог корявыми пальцами мнет воздух. – Если она ваша, – тихо говорит он, – я не хотел бы ее у вас отнимать. Герцог косится на Кранмера. Может, о женщинах говорить нельзя? Впрочем, Кранмер – не настоящий архиепископ, по крайней мере в глазах Норфолка, просто бедный попик, которого Генрих подобрал где-то под забором и который пообещал делать все, что потребуют, за митру и сытную кормежку. – Клянусь Богом, Кранмер, вы плохо выглядите, – с мрачным удовольствием объявляет герцог. – Кожа да кости, не пойми, в чем душа держится. Вот как я. Только гляньте. – Норфолк вскакивает из-за стола, оттолкнув незадачливого слугу, который стоит наготове с кувшином вина. Раздвигает мантию, выставляет тощую ногу. – Что скажете? Ужасно, соглашается он. Что так иссушило Томаса Говарда? Ясное дело, унижение. Племянница на людях его перебивает. Смеется над дядиными образками и частицами мощей, которые он носит на себе, а среди них есть и чудотворные. За столом наклоняется к нему, говорит: «Вот, дядя, поклюйте крошек с моей ладони, вы совсем отощали». – И ведь правда, я отощал, – говорит Норфолк. – Уж не знаю, Кромвель, отчего вы такой упитанный. Только гляньте на себя: людоед зажарил бы вас и съел. – Что ж, – улыбается он, – в упитанности есть свои недостатки: надо опасаться людоедов. – Думаю, вы пьете порошок, который раздобыли в Италии, от него и ваше дородство. Вы же не поделитесь своим секретом? – Ешьте желе, милорд, – терпеливо говорит он. – Если я узнаю про такой порошок, то добуду вам на пробу. Мой единственный секрет – я сплю по ночам. Я в мире с моим Создателем. И разумеется, – добавляет он, откидываясь на спинку стула, – у меня нет врагов. – Что? – Кустистые брови лезут на лоб. Герцог кладет себе еще кусок желейных укреплений, алых и прозрачных: воздушные камни, кровавые кирпичи, – и, набивая ими рот, высказывается на различные темы. Главным образом касательно Уилтшира, отца королевы. Который должен был воспитать Анну как следует, в дочернем послушании. Ну нет, ему было не до того, он похвалялся ею на французском, бахвалился, какой она станет. – Так она и стала, – замечает юный Суррей. – Разве не правда, милорд отец? – Думаю, это из-за нее я так исхудал, – говорит герцог. – Она знает все про порошки. Говорят, держит у себя дома отравительниц. Вы же помните, что она сделала со старым епископом Фишером. – Что? – спрашивает юный Суррей. – Ты что, с луны свалился? Фишерову повару заплатили, чтобы тот всыпал порошка в суп. Епископ чуть не помер. – Невелика потеря, если б и помер, – говорит юнец. – Он был изменник. – Да, – отвечает Норфолк, – но тогда его измену еще не доказали. У нас не Италия, малыш. У нас есть суд. Так вот, старик выкарабкался, но так до смерти и болел. Генрих приказал сварить повара живьем. – Но тот так и не сознался, – говорит он, Кромвель. – Так что мы не можем знать наверняка, что он действовал по наущению Болейнов. Герцог фыркает: – Им было зачем его убрать. Марии стоит поостеречься. – Согласен, – говорит он. – Хотя не думаю, что для нее главная опасность – яд. – А что же? – спрашивает Суррей. – Дурные советы, милорд. – Считаете, лучше бы она слушала вас, Кромвель? – Юный Суррей откладывает вилку и начинает жаловаться. Знать, сетует он, теперь не в таком почете, как прежде, когда Англия была великой. Нынешний король приблизил к себе простолюдинов, отсюда все и беды. Кранмер сдвигается на краешек стула, словно хочет возразить, но Суррей смотрит ему прямо в глаза, словно говоря: да, архиепископ, это именно про вас. Он кивает слуге, чтобы тот долил юноше вина – кубок уже снова пуст. – Вы не приноравливаете свои речи к тем, кто вас слушает, сэр. – А с чего бы мне их приноравливать? – Томас Уайетт рассказывал, что вы учитесь писать стихи. Я провел молодость в Италии, так что люблю поэзию. Если сделаете мне милость, я бы с удовольствием прочел ваши сонеты. – Не сомневаюсь, – говорит Суррей, – но я показываю их только друзьям.
Дома его встречает сын. – Слышали, отец, про королеву? Она встала с постели и, говорят, такое вытворяет. Говорят, она жарила у себя в опочивальне орехи, трясла их на сковородке, чтобы приготовить отравленные конфеты для леди Марии. – Сама трясла сковородку? Ну вот это уже выдумки, – улыбается он. – На это есть слуги. Уэстон. Мальчишка Марк. Грегори упрямо стоит на своем: – Она сама. Жарила. Король вошел и нахмурился, потому что он ей не доверяет, а тут она делает что-то странное. Чем это вы таким заняты, спросил он, и Анна-королева ответила: о, сир, я готовлю конфеты, хочу одарить бедных женщин, которые стоят у ворот и благословляют мое имя. Король сказал: вот как, милая? Ну тогда Бог тебе в помощь. Так она и обвела его вокруг пальца. – А когда это произошло, Грегори? Видишь ли, Анна в Гринвиче, а король – в Уайтхолле. – Не важно, – весело объявляет Грегори. – Во Франции ведьмы умеют летать, вместе с орехами и сковородками. Там она этому и научилась. По правде сказать, все Болейны занимаются ворожбой, чтобы наворожить ей мальчика, ибо король боится, что уже не сможет. Его улыбка становится натянутой: – Не сболтни такого при слугах. Грегори смеется: – Поздно. Слуги сболтнули это при мне. Он вспоминает, как года два назад слышал от леди Рочфорд: «Королева хвалится, что угостит Екатеринину дочку таким завтраком, что та уже не встанет». Утром пел, к полудню помер. Так говорили про потовую лихорадку, убившую его жену и дочерей. Неестественная смерть, когда она случается, обычно еще быстрее. Раз – и нет человека. – Я иду к себе в кабинет, – говорит он. – Мне надо поработать. Не позволяй меня отвлекать. Ричарду, если он спросит, можно зайти. – А мне можно зайти? Например, если дом загорится, вам об этом доложить? – Пришли кого-нибудь другого. С какой стати я тебе поверю? – Он хлопает сына по плечу, торопливо уходит в свой кабинет и закрывает дверь.
* * *
Встреча с Норфолком, если смотреть поверхностно, закончилась ничем. Но. Он берет лист бумаги. Пишет наверху:ТОМАС БОЛЕЙНОтец интересующей нас дамы. Все еще статный и гибкий; горд своей внешностью и наряжаться любит почти как его сын Джордж; изводит лондонских ювелиров, а потом крутит на пальцах перстни, якобы полученные в подарок от чужеземных владык. Долгие годы служил дипломатом; его умение сглаживать любые углы – незаменимое качество для посла. Не склонен вмешиваться в события, предпочитает наблюдать, поглаживая бороду и посмеиваясь; думает, будто выглядит загадочным, а на самом деле видно, что он забавляется. И все же он сумел ухватить удачу за хвост, и теперь его семья лезет вверх, вверх, вверх, на самые высокие ветки дерева. А там холодно и дует ветер – пронизывающий ветер тысяча пятьсот тридцать шестого года. Как мы знаем, Томас Болейн счел, что граф Уилтширский – недостаточно солидно для королевского тестя, так что выдумал себе французский титул: «монсеньор». Придворным известно, что он требует именно этого обращения; по тому, исполняют они требование или нет, многое можно сказать об их взглядах.
Он пишет:
Монсеньор. Все Болейны. Их женщины. Их капелланы. Их слуги. Все прихлебатели Болейнов в королевских покоях, то есть: Генри Норрис Фрэнсис Уэстон Уильям Брертон и проч.
Но просто «Уилтшир», скороговоркой: Герцог Норфолк. Сэр Николас Кэрью (шталмейстер), кузен Эдварда Сеймура. Кстати, брат его жены: Сэр Фрэнсис Брайан, родственник Болейнов, но и Сеймуров тоже. Его друг: Господин казначей Уильям Фицуильям.
Он смотрит на список, добавляет двух вельмож: Маркиз Эксетерский, Генри Куртенэ. Генри Пол, лорд Монтегю.
Члены древнейших фамилий, исстари правивших Англией; наглость Болейнов ранит их сильнее, чем любого из нас.
Он скатывает бумагу в трубку. Норфолк, Кэрью, Фиц. Фрэнсис Брайан. Куртенэ, Монтегю и иже с ними. И Суффолк, который ненавидит Анну. Просто список имен, из которого много не извлечешь. Эти люди не обязательно дружны между собой, просто все в той или иной мере поддерживают старый порядок и ненавидят Болейнов. Никто не любит Болейнов, кроме них самих. Дело не только в том, что Болейны возвысились за счет других, но и в том, что они отодвинули всех бесцеремонно, презирая любого, кто не принадлежит к их своре. Болейны ущемляли противников в законных правах, оскорбляли чувства старой аристократии. Они брали людей, использовали и выкидывали на свалку. За недолгое время они восстановили против себя половину двора: половину двора и почти всю Англию. Он закрывает глаза. Дышит глубоко и ровно. Перед его мысленным взором возникает картина. Большое и величественное помещение. И он приказывает накрыть там стол. Слуги устанавливают козлы. Водружают сверху столешницу. Ливрейные челядинцы расстилают скатерть, одергивают ее, разглаживают; как на королевском столе, ее благословляют – служители шепчут латинские молитвы, отходят на шаг, смотрят, ровно ли, подтягивают углы. Стол готов. Теперь позаботимся о местах для гостей. Слуги со скрежетом волокут по полу тяжелое кресло, на спинке вырезан герб Говардов. Это для герцога Норфолка. Тот опускается в кресло костлявым задом, спрашивает: – Итак, Сухарь, чем вы решили меня побаловать? Внесите еще кресло, приказывает он слугам, поставьте по правую руку от герцога Норфолкского. Это седалище для Генри Куртенэ, маркиза Эксетерского. Тот говорит: – Кромвель, моя супруга желает присутствовать! – Безмерно рад вас видеть, леди Гертруда. – Он отвешивает поклон. – Усаживайтесь. До сего дня он всячески сторонился этой склочной особы, однако сейчас делает любезную мину: – За этим столом есть место для всех, кто любит леди Марию. – Принцессу Марию! – резко поправляет Гертруда Куртенэ. – Как вам угодно, миледи, – вздыхает он. – А вот и Генри Пол! – восклицает Норфолк. – Он не оставит мне ни кусочка, все съест сам! – Еды хватит на всех, – говорит он. – Кресло лорду Монтегю! Такое, какое приличествует лицу королевской крови! – Мы называем его троном, – говорит Монтегю. – Кстати, тут моя матушка. Леди Маргарет Пол, графиня Солсбери. Законная королева Англии, по мнению некоторых. Генрих мудро обошелся с ней и с ее семьей. Приблизил их к себе, обласкал, осыпал почестями. Бесполезно: они по-прежнему считают Тюдоров самозванцами, хотя графиня и привязана к Марии, которую воспитывала с младенчества; чтит ее больше матери, королевы Екатерины, и отца, которого называет отродьем валлийских скотокрадов. Сейчас, в его воображении, графиня, хрустя суставами, усаживается в кресло. Смотрит по сторонам и замечает недовольно: – Ну и хоромы у вас, Кромвель. – Вознаграждение порока, – говорит ее сын Монтегю. Он вновь кланяется. Сейчас он проглотит любое оскорбление. – И где же мое первое блюдо? – вопрошает Норфолк. – Терпение, милорд. – Он, Кромвель, садится на простой трехногий табурет в дальнем конце стола и поднимает смиренный взгляд на тех, кто несравненно выше его по рождению и титулам. – Сейчас внесут кушанья. А пока, быть может, начнем с молитвы. Он смотрит на стропила. На них – резные раскрашенные лица покойников: Мора, Фишера, кардинала, королевы Екатерины. Под ними – живой цвет Англии. Будем надеяться, что потолок не рухнет.
* * *
На следующий день после того, как он, Кромвель, предавался этим играм ума, у него возникает желание прояснить свою позицию в реальном мире и расширить список гостей. В его фантазии до трапезы так и не дошло, так что он не знает, какие кушанья подаст. Надо приготовить что-нибудь достойное, не то высокородные дамы и господа вскочат из-за стола, сдернут скатерть и разгонят пинками его слуг. Итак, Сеймуры. Он приходит на встречу без свидетелей и говорит без обиняков: – Пока король держится нынешней королевы, я тоже буду держаться ее. Но если король от нее отвернется, отвернусь и я. – Так у вас нет в этом деле собственных интересов? – скептически осведомляется Эдвард Сеймур. – Я представляю интересы короля. Для того и назначен. Эдвард знает, что больше из него не вытянет. – И все же… – продолжает он. Анна скоро оправится после выкидыша и вновь сможет исполнять супружеские обязанности, но ясно, что мысль об этом не угасила королевского внимания к Джейн. Надо решить, как использовать ее в этой новой игре. У Сеймуров глаза вспыхивают азартом. Поскольку Анна опять не сумела родить сына, не исключено, что король захочет жениться на другой. Весь двор об этом говорит. Именно успех Анны Болейн подсказывает такую возможность. – На вашем месте я бы не питал чрезмерных надежд, – говорит он. – Генрих ссорится с Анной и снова мирится – и тогда готов пожертвовать для нее всем. Так у них с самого начала. Том Сеймур говорит: – Кому нужна жилистая старая курица, когда есть сочная жирненькая цыпочка? На что она годна? – На бульон, – говорит он тихо, чтобы Том не услышал. Сеймуры в трауре, хоть и не по Екатерине. Скончался Антони Отред, губернатор Джерси, и сестра Джейн Элизабет теперь вдова. Том Сеймур говорит: – Если король сделает Джейн своей любовницей, мы сможем выдать Бесс за кого-нибудь из первых людей королевства. Эдвард отвечает: – Не опережай события, братец. Бойкая молодая вдова прибыла ко двору – помогать родным в их кампании. Он думал, они называют ее Лиззи, но, судя по всему, Лиззи она была для мужа, а для братьев – Бесс. Он рад, хоть это и глупо: кто сказал, что другим женщинам нельзя носить имя его жены? Бесс не великая красавица и смуглее сестры, но в ней есть живость, которая притягивает взгляд. – Не сердитесь на Джейн, господин секретарь, – говорит Бесс. – Она вовсе не заносчивая, как некоторые думают. Они думают, она молчит из гордости, а она просто не знает, что сказать. – Но со мной она говорить будет. – Она будет слушать. – Привлекательное качество в женщине. – Привлекательное качество в любом человеке, разве нет? Впрочем, Джейн чаще других ждет от мужчин, что те расскажут ей, как поступить. – И поступает, как сказано? – Не всегда, – со смехом отвечает Бесс и легко касается пальцами его руки. – Идемте. Она готова с вами поговорить. Казалось бы, под солнцем королевского обожания любая девушка расцветет. Любая, только не Джейн Сеймур. Впечатление такое, будто ее траур еще чернее, чем у братьев и сестры, и она обмолвилась, что молится за душу новопреставленной Екатерины, хотя, конечно, в этом нет никакой нужды, потому что уж если кто и попал прямиком в рай… – Джейн, – говорит Эдвард Сеймур, – выслушай меня внимательно и сделай, как я скажу. В присутствии короля веди себя так, будто никакой Екатерины никогда не было. Если он услышит ее имя из твоих уст, то сразу тебя разлюбит. – Послушай, – говорит Том Сеймур, – Кромвель хочет знать: действительно ли ты вполне и совершенно девственна? Тут самому впору покраснеть от стыда. Он говорит: – Если нет, мистрис Джейн, есть средства исправить дело. Но вы должны сказать нам сейчас. Нездешний, отрешенный взгляд. – Сказать что? Том Сеймур: – Джейн, даже ты должна понимать, о чем тебя спрашивают. – Верно ли, что никто не просил вас стать его женой? Что не было никаких контрактов или обязательств? – Он чувствует себя беспомощным. – Вам никто никогда не нравился, Джейн? – Мне нравился Уильям Дормер. Но он женился на Мэри Сидни. – Джейн на миг поднимает льдисто-голубые глаза. – Я слышала, они очень несчастливы. – Дормеры сочли, что мы недостаточно для них хороши, – говорит Том. – Теперь локти кусают. Он говорит: – Весьма похвально, Джейн, что вы никому не отдали свое сердце до помолвки, одобренной семьей. Потому что с девушками такое бывает часто, и заканчивается это плохо. – Он чувствует, что надо пояснить свои слова. – Мужчины часто говорят, что умирают от любви к вам. Что не могут ни есть, ни пить. Что умрут, если вы не ответите на их любовь. А когда вы уступаете, они вас бросают. Через неделю они пройдут мимо, будто с вами незнакомы. – Вы так поступали, господин секретарь? – спрашивает Джейн. Он в растерянности. – Давайте, давайте, – говорит Том Сеймур. – Мы все хотим знать. – Возможно. В юности. Я рассказываю на случай, если вашим братьям трудно завести с вами подобный разговор. Не каждый брат сознается в таком сестре. – Так что видишь, – говорит Эдвард, – ты не должна уступать королю. Джейн говорит: – А зачем мне ему уступать? – Его льстивые речи… – начинает Эдвард. – Его что?Императорский посол затворился дома и не хочет видеть Томаса Кромвеля. В Питерборо на похороны не поехал, потому что Екатерину отказались хоронить как королеву, а теперь, видите ли, соблюдает траур, поэтому в гости ходить не может. Наконец удалось договориться о встрече: посол возвращается от обедни в церкви Остин-фрайарз, а Кромвель, живущий сейчас в здании судебных архивов, как раз в это время приехал глянуть, как достраивают его дом. «Посол!» – кричит он изумленно, как будто решительно не ожидал. Кирпичи, которые будут класть сегодня, обожгли летом, когда король еще путешествовал по западным графствам, глину для них выкопали прошлой зимой, ледяную корку разбивали, когда он, Кромвель, добивался признаний от Томаса Мора. В ожидании Шапюи он терзал старшего каменщика вопросами о том, не будет ли кирпич пропускать воду, а теперь крепко берет посла за локоть и уводит от козел, на которых пилят бревна, подальше от шума и пыли. Эсташа так и распирают вопросы: они нетерпеливо подпрыгивают в мышцах, гудят в складках одежды. – Эта Симор… День темный, морозный, безветренный. – В такую погоду хорошо ловить щук, – говорит он. Посол силится скрыть брезгливую гримасу. – У вас есть слуги… Если вам нужна рыба… – Ах, Эсташ, вижу, вы не понимаете прелесть рыбной ловли. Не горюйте, я вас научу. Что лучше для здоровья, чем с рассвета до темноты, час за часом сидеть на берегу, под раскидистыми ветвями, и смотреть на свое морозное дыхание, в одиночестве или с добрым товарищем? Множество мыслей проносится у Эсташа в голове. С одной стороны, час за часом в обществе Кромвеля, когда тот может потерять бдительность и что-нибудь сболтнуть. С другой стороны, какая от меня будет польза императору, если я окончательно застужу колени и буду передвигаться на носилках? – Может быть, порыбачим летом? – с надеждой спрашивает посол. – Я не стану рисковать вашей жизнью. Летняя щука утянет вас под воду. – Он сдается. – Дама, о которой вы спросили, зовется Сеймур. «Сей» – как в «сей же час, господин посол», и «мур», как мурлычет кошка. Хотя некоторые старики произносят «Симор». – Не дается мне ваш язык, – сетует посол. – Каждый произносит свое имя как вздумается, сегодня так, завтра иначе. Я слышал еще, что семья древняя, а дама не совсем юна. – Она служила вдовствующей принцессе и была к ней очень привязана. Горячо сочувствовала ей. Любит леди Марию и, по слухам, писала ей ободряющие письма. Если король будет и дальше к ней благоволить, она сможет немало Марии помочь. – Ммм. – Посол не спешит поверить. – Я слышал все это, а также что она весьма скромна и благочестива. Однако я боюсь, что под медом таится скорпион. Мне хотелось бы глянуть на мистрис Симор, вы можете это устроить? Не встречу, просто глянуть одним глазком. – Меня удивляет ваша заинтересованность. Я думал, вас больше волнует, на какой из французских принцесс женится Генрих, если расторгнет нынешний брак. Теперь посол растянут на дыбе страха. Лучше уж известный дьявол, чем неизвестный? Лучше Анна Болейн, чем новая угроза, новый союз между Англией и Францией? – Вы уверяли, что это сказки, Кремюэль! Говорили, что ищете дружбы моего господина и не поддержите этот брак! – Успокойтесь, Эсташ, успокойтесь. Я не утверждаю, что могу руководить Генрихом. Возможно, он еще решит сохранить нынешний брак или вовсе жить по-монашески. – Вы смеетесь! – негодует посол. – Кремюэль! Вы же надо мной потешаетесь! Так и есть. Строители обходят их, вежливо сторонятся – грубые лондонские ремесленники с орудиями за поясом. – Каюсь, – говорит он. – Не теряйте надежды. Когда король и его женщина очередной раз мирятся, не дай Бог кому-нибудь говорить о ней дурно. – Вы будете ее поддерживать? Защищать? – Посол напрягся всем телом, будто правда сидел с утра на берегу и задубел от холода. – Пусть она вашей веры… – Что? – Он распахивает глаза. – Моей веры? Я, как и мой государь, верный сын католической церкви. Просто мы сейчас разорвали общение с Папой. – Давайте я скажу иначе. – Шапюи щурится на серое лондонское небо, будто ждет помощи свыше. – Вас с ней связывает материальное, не духовное. Мне известно, что она дала вам должности и богатство. – Вы ошибаетесь. Я ничем Анне не обязан. Должности и богатство мне дал король и больше никто. – Помню, вы называли ее своим дражайшим другом. – Я и вас называл своим дражайшим другом, но ведь вы мне не друг, верно? Шапюи переваривает услышанное. – Я бы ничего так не желал, как дружбы между нашими странами. Наивысшее достижение для посла – мир после долгой ссоры. И теперь для этого есть возможность. – Теперь, когда Екатерина умерла. Посол не возражает, лишь плотнее кутается в плащ. – Конкубина не принесла королю ничего хорошего. И не принесет. Ни одна европейская держава не признала этот брак законным. Даже еретики не признают, сколько бы она их ни умасливала. Что пользы вам сохранять нынешнее положение дел: король страдает, парламент неспокоен, знать считает обиды, и вся страна возмущена поведением этой женщины… Начинает падать дождь – редкие холодные капли. Шапюи с досадой смотрит на небо, словно Бог подвел его в такую важную минуту. Он, Кромвель, вновь берет посла за локоть и уводит из-под дождя. Работники соорудили навес, он их выгоняет: «Уступите нам место, ребята». Шапюи, грея руки над жаровней, пускается в откровенность. Шепчет доверительно: – Ходят слухи, что король подозревает колдовство. Она-де приворожила его чародейскими снадобьями. Вижу, вам он такого не говорил, но я знаю, что говорил духовнику. Если так, если он женился в помрачении ума, под действием чар, то брак недействителен и можно играть свадьбу с другой. Он смотрит через плечо посла и говорит: гляньте, через год здесь вместо сырых и холодных клетей будут жилые комнаты. Рисует рукой линию верхнего этажа с мезонинами, застекленные эркеры. Опись необходимого: известь и песок, дубовый брус и особый раствор для кладки, лопаты и мастерки, корзины и веревки, блоки, костыли и гвозди, свинцовые трубы; плитка желтая и синяя, оконные засовы, петли, задвижки, железные дверные ручки в форме роз, золочение, роспись, два фунта ладана, чтобы окурить новые комнаты и создать в них приятный запах, шесть пенсов в день работникам, свечи, чтобы трудиться по ночам. – Друг мой, – говорит Шапюи, – Анна не остановится ни перед чем. Нанесите удар первым, пока не поздно. Вспомните, как она сгубила Вулси. Прошлое лежит перед ним, как сгоревший дом. Он возводил и возводил стены, но потребовались годы, чтобы расчистить пепелище.
* * *
В здании судебных архивов он отыскивает сына, который складывает вещи, чтобы вновь перебраться к Фицуильяму. – Грегори, ты помнишь святую Ункумберу? Ты говорил, женщины молятся ей, когда хотят избавиться от никчемных мужей. А есть ли святой, которому может помолиться мужчина, которому надоела жена? – Вряд ли. – Грегори поверить не может, что отец задал такой глупый вопрос. – Женщины молятся, потому что у них нет других средств. Мужчина может спросить у священников и юристов, почему его брак недействителен. А может прогнать жену и дать ей денег, чтобы жила отдельно. Как герцог Норфолкский поступил со своей женой. Он кивает: – Спасибо, Грегори, ты мне очень помог.Анна Болейн приезжает в Уайтхолл – отпраздновать День святого Матфия вместе с королем. За одну зиму она совершенно переменилась – исхудала и теперь похожа на себя прежнюю, в годы томительного ожидания до того, как он, Томас Кромвель, пришел на помощь и разрубил узел. Живая веселость поблекла, уступила место чему-то суровому, почти монашескому, вот только монашеского спокойствия у Анны нет. Она теребит драгоценности на шее, одергивает рукава. Леди Рочфорд сообщает: – Она думала, что, став королевой, будет вспоминать дни коронации, час за часом, снова и снова, а теперь говорит, что забыла их. Ей кажется, будто это происходило с кем-то другим, а ее там не было. Мне она не рассказывала, конечно. Рассказывала брату Джорджу. Из королевиных покоев расходится известие: пророчица сказала Анне, что та не родит Генриху сына, пока жива его дочь Мария. Надо признать, она не сдается, говорит он своему племяннику Ричарду. Она как змея, не знаешь, когда ужалит. Он всегда высоко оценивал Анну как стратега, не верил в ее порывистость и непредсказуемость. У нее каждый шаг просчитан – как и у него. Быстрые взгляды из-под ресниц – по-прежнему главное ее орудие. Интересно, думает он, чем она так напугана? Король поет:
Однако государственные дела не стоят. На очереди: акт, который даст Уэльсу места в парламенте, сделает английский языком судопроизводства и отнимет власть у лордов Валлийской марки. Акт о роспуске малых монастырей с совокупным доходом меньше двухсот фунтов в год. Акт об учреждении Суда приобретений ведомства королевских доходов, нового органа, который будет управлять собственностью этих монастырей. Его канцлером станет Ричард Рич. В марте парламент отклоняет его новый закон о бедных. Палата общин не может пока переварить мысль, что у богачей есть обязательства перед бедняками, что если ты жиреешь на торговлешерстью, то должен позаботиться о тех, кого согнал с земли – сеятелях без поля, пахарях без пашни. Англии нужны дороги, крепости, гавани, мосты. Людям нужна работа. Больно видеть, как они просят подаяние, когда их труд мог бы укреплять государство. Неужто нельзя свести их вместе – потребности страны и руки ее жителей? Однако парламент не видит, что дать людям кусок хлеба – обязанность государства. Разве не на все воля Господня, разве нищета и убожество – не часть Его предвечного порядка? Всему свое время: время голодать и время благоденствовать. Если дождь идет шесть месяцев кряду и урожай гниет на корню, это Божий промысел, а Бог свое дело знает. Богатых и предприимчивых оскорбляет мысль, что они должны платить подоходный налог, дабы кормить лодырей. А если господин секретарь считает, что голод порождает преступность, так у нас вроде нет недостатка в палачах. Сам король приезжает в парламент защищать закон. Он хочет быть Генрихом Благословенным, отцом народа, добрым пастырем своих овец. Однако члены палаты сидят с каменными лицами. Итог – полный провал. «Все закончилось законом о порке попрошаек, – говорит Ричард Рич. – Акт не столько в пользу бедных, сколько против них». – Может быть, внесем его еще раз, – говорит Генрих. – В более удачный год. Не отчаивайтесь, господин секретарь. Так у нас будут более удачные годы? Он не сдастся: подсунет закон, когда этого меньше всего ждут, начнет со слушаний в палате лордов… есть много способов одолеть парламент, но временами ему хочется разогнать депутатов по графствам: без них он справился бы скорее. Он говорит: – На месте короля я бы это так не оставил. Я бы задал им страху. Ричард Рич – спикер нынешнего парламента – говорит нервно: – Не распаляйте королевский гнев. Помните, как говорил Мор: «Если лев узнает свою силу, его трудно будет обуздать». – Спасибо, сэр Кошель. Вы чрезвычайно утешили меня текстом из могилы этого кровавого лицемера. Он что-нибудь еще сказал по интересующему нас поводу? Потому что если да, я заберу его голову у дочери и буду пинать по Уайтхоллу, пока не умолкнет окончательно. – Он хохочет. – Палата общин. Черти бы их драли, депутатов. Пустые головы. Думают только о собственной мошне. Пусть депутаты тревожатся за свои доходы – он вполне уверен в собственном преуспеянии. Хотя мелкие монастыри подлежат роспуску, они могут ходатайствовать об исключении. Все эти ходатайства попадают к нему, и к каждому прилагаются деньги или пенсион. Король не оставляет конфискованные земли себе, а продает в долгосрочную аренду, так что он, Кромвель, завален просьбами на то или иное поместье, усадьбу, ферму, выгон; каждый проситель благодарит за услугу небольшой единовременной суммой или рентой – рентой, которая со временем перейдет Грегори. Так всегда делалось: не подмажешь, не поедешь, просто сейчас все больше таких дел, больше подношений, от которых вежливость не позволяет отказаться. Никто в Англии не трудится больше его. Что бы ни говорили о Томасе Кромвеле, если он берет взятку, то помогает. И всегда готов дать в долг: Уильяму Фицуильяму, сэру Николасу Кэрью, потасканному одноглазому мерзавцу Фрэнсису Брайану. Он приглашает сэра Фрэнсиса в себе и напаивает допьяна. Сам он в молодости учился пить с немцами и не боится чересчур захмелеть. Год назад Фрэнсис Брайан крепко повздорил с Джорджем Болейном – из-за чего, сейчас толком не помнит, но обида осталась. Пока Фрэнсиса еще держат ноги, он то и дело вскакивает из-за стола и, размахивая руками, в лицах разыгрывает наиболее яркие моменты ссоры. О своей кузине Анне говорит: – Про женщину всегда хочешь знать, дама она или потаскуха? Анна хочет, чтобы ей поклонялись, как Деве Марии, но при этом чтобы клали деньги на стол, получали свое и проваливали. Сэр Фрэнсис, как все записные грешники, временами истово набожен. На пороге Великий пост. – У вас ведь грядет весенний приступ покаяния? Фрэнсис сдвигает повязку, трет пустую глазницу, объясняет, что шрам чешется. – Разумеется, Уайетт с ней спал. Он, Томас Кромвель, ждет. Но тут Фрэнсис роняет голову на стол и начинает храпеть. – Наместник сатаны, – задумчиво произносит Кромвель и зовет слуг: – Отнесите сэра Фрэнсиса домой. Только закутайте потеплее: возможно, нам в будущем понадобятся его показания. Интересно, сколько оставляют Анне на столе? Генриху она стоила доброго имени и душевного покоя. В глазах Кромвеля она просто купчиха, не хуже любой другой. Ему нравится, как она раскладывает товар. Сам он покупать не собирается, но желающих и без него вдоволь.
* * *
Эдвард Сеймур включен в число камергеров – знак величайшего расположения. Король говорит: – Думаю, я мог бы взять Рейфа Сэдлера камердинером. Он джентльмен по рождению, приятный юноша, да и вам, Кромвель, это будет на руку, не так ли? Одно условие – чтобы он не совал мне под нос бумаги. Жена Рейфа Хелен, услышав новость, заливается слезами. – Он будет неделями пропадать при дворе! – всхлипывает она. Он сидит с ней в гостиной Рейфова дома, пытается утешить чем может. – Я понимаю, что для Рейфа это огромная честь, и глупо мне плакать, – говорит она. – Только мне страшно думать о расставании. Когда он запаздывает, я высылаю слуг на дорогу его встречать. Мне бы хотелось быть с ним под одной крышей каждую ночь до конца дней. – Рейф – счастливец, – говорит он. – Я не о королевской милости, а о том, что вы оба – счастливцы. Что так друг друга любите. В пору своего брака с Екатериной Генрих распевал:Пост в новой церкви Генриха так же беспросветен и хмур, как при Папе. От несытого желудка и на душе кисло. Когда Генрих говорит про Джейн, то начинает моргать, в глазах стоят слезы. – Ее ручки, Сухарь. Ее лапки, маленькие, как у ребенка. Она такая бесхитростная. И все время молчит. А если что-нибудь и скажет, то тихо-тихо – я должен наклоняться, чтобы разобрать слова. И стоит ей умолкнуть, я слышу свое сердце. Ее крохотные вышивки, ее шелковые лоскутки, ее узкие рукава цвета зимородкова крыла, которые она выкроила из ткани, подаренной каким-то обожателем, каким-то влюбленным бедолагой… и все же она непреклонна… Ее узкие рукава, ее ожерелье из мелких жемчужин… у нее ничего нет… она ничего не ждет. Слеза наконец выкатывается из глаза, бежит по щеке, исчезает в рыжей с проседью бороде. Обратите внимание, как король говорит о Джейн: такая робкая, такая стыдливая. Даже архиепископ Кранмер должен узнать портрет: полная противоположность нынешней королеве. Ту не насытят все богатства Нового Света, Джейн благодарна и за улыбку. Я напишу Джейн письмо, говорит Генрих. И приложу кошелек. Теперь, когда она больше не фрейлина королевы, ей нужны деньги. Приносят бумагу и перья. Король садится, вздыхает, пишет: прямыми буквами, как научился в детстве от матери. Быстрое письмо ему не дается: чем больше усилий он прилагает, тем больше буквы между собой не в ладу. Даже смотреть жалко. – Сир, не угодно ли вам будет продиктовать мне, а я запишу? Ему не впервой писать за короля любовные письма. Кранмер смотрит на него поверх склоненной головы монарха; во взгляде осуждение. – Гляньте, – говорит король (Кранмеру письмо не показывает). – Она ведь поймет, чего я от нее хочу? Он читает, силясь поставить себя на место целомудренной девицы. Поднимает глаза. – Вы чрезвычайно деликатно выразились, а она очень невинна. Генрих забирает письмо, дописывает несколько фраз повыразительнее.
Конец марта. Перепуганная мистрис Сеймур просит беседы с королевским секретарем. Встречу устраивает сэр Николас Кэрью, хотя сам участия не принимает – осторожничает. Вместе с Джейн приходит ее вдовая сестра. Бесс бросает на него ясный испытующий взгляд, но тут же опускает глаза. – Вот в чем мое затруднение, – говорит Джейн и умолкает. Смотрит на него в отчаянии. Он думает, может, она только это и хотела сказать: «Вот в чем мое затруднение». Она говорит: – Невозможно… С его величеством невозможно и на мгновение забыть, кто перед тобой, даже когда он сам требует. Чем дольше он твердит: «Джейн, я твой смиренный обожатель», тем меньше в нем смирения. И каждый миг думаешь: а вдруг он замолчит и мне надо будет что-нибудь сказать? Мне кажется, я стою на подушечке для булавок, все булавки остриями вверх. Я все время думаю, что привыкну, что следующий раз будет лучше, но как только он входит и начинает: «Джейн, Джейн», я чувствую себя ошпаренной кошкой. Хотя вы когда-нибудь видели ошпаренную кошку, господин секретарь? Я – нет. И вот я думаю, если сейчас мне с ним так страшно… – Он любит, чтобы его боялись. – Вместе со словами приходит осознание их истинности, но Джейн его не слышит – слишком занята тем, что пытается сказать. – Если мне сейчас так страшно, каково видеть его каждый день? – Джейн осекается. – Ой. Вы, наверное, знаете, господин секретарь. Вы с ним почти каждый день. И все равно, думаю, это другое. – Другое, – соглашается он. Бесс приходит на выручку сестре: – И все равно, мастер Кромвель, не могут же это все время быть парламентские акты, и депеши послам, и доходы, и монахи, и Уэльс, и пираты, и козни изменников, и Библии, и присяги, и земли, и аренды, и цены на шерсть, и можно ли нам молиться за умерших. Беседуете же вы иногда на другие темы. Он изумлен, как точно она перечислила пункты, будто знает про него все. Ему хочется схватить ее за руку и воскликнуть: «Бесс, выходите за меня замуж!» Как бы у них ни получилось в постели, у нее есть дар коротко формулировать суть, которого лишены почти все его помощники. – Так как? – спрашивает Джейн. – Они есть? Другие темы? Он не может думать. Мнет в руках шапочку. Силится припомнить. – Лошади. Генрих интересуется простыми ремеслами. В молодости я мог подковать лошадь, он выспрашивал, как это делается, какие подковы лучше, чтобы при случае изумить своих кузнецов знанием их тайн. Или вот архиепископ. Может сесть на любую лошадь. Он вообще человек робкий, но к лошадям подход знает, научился управляться с ними в детстве. Когда он устает от Бога и людей, мы беседуем на эти темы с королем. – А еще? – спрашивает Бесс. – Вы проводите с ним много часов. – Собаки. Охотничьи псы, их достоинства и породы. Форты. Как их строить. Пушки. Какая у них дальность. Как их отливают. – Он проводит рукой по волосам. – Иногда мы говорим: надо бы выбрать денек, поехать в Кент, поговорить с тамошними литейщиками, посмотреть, как они работают, предложить им новые способы литья. Только все как-то не получается. Ему вдруг становится нестерпимо грустно. И в то же время он чувствует, что если бы сейчас в комнату бросили перину (что маловероятно), он бы повалил на нее Бесс и взгромоздился сверху. – Мы поняли, – обреченно говорит Джейн. – Я бы не смогла отлить пушку даже под угрозой смерти. Извините, что отняли у вас время, господин секретарь. Возвращайтесь в свой Уэльс. Он понимает, что она хочет сказать.
На следующий день Джейн доставляют королевское письмо вместе с тяжелым кошельком. Все разыгрывается при достаточном числе свидетелей. – Я должна вернуть кошелек, – говорит Джейн (но не прежде, чем любовно взвесила его в своей крохотной ручке). – Я должна просить короля, если он желает подарить мне деньги, прислать их снова, когда я буду состоять в законном супружестве. Письмо, говорит Джейн, ей лучше не вскрывать: слишком хорошо она знает сердце короля, его пылкое и галантное сердце. У нее же самой есть единственное богатство: ее добродетель, ее девическая честь. Так что… нет, нет, она не смеет. И тут, прежде чем вернуть письмо, она двумя руками подносит его к губам и оставляет на печати целомудренное лобзание. – Поцеловала! – восклицает Том Сеймур. – Какой добрый дух ее надоумил? Сперва его печать, затем, – он хмыкает, – его скипетр. На радостях он сбивает с брата шляпу. Том проделывает это лет двадцать, а Эдвард ни разу не посмеялся шутке, однако сейчас даже он улыбается. Когда посланец возвращает письмо королю, тот внимательно выслушивает рассказ и светлеет лицом. – Теперь я понимаю, что не надо было его посылать. Кромвель говорил о невинности и добродетели мистрис Сеймур, как я теперь понимаю, справедливо. Впредь клянусь не делать ничего, что бы оскорбило ее честь, и даже говорить с ней буду только в присутствии родных. Если жена Эдварда Сеймура приедет ко двору, можно будет устроить семейный ужин и пригласить короля без ущерба для стыдливости Джейн. Нельзя ли выделить Эдварду комнаты во дворце? Мои покои в Гринвиче, напоминает он Генриху, сообщаются с вашими – что, если я освобожу их для Сеймуров? Генрих радостно кивает. После Вулфхолла он внимательно приглядывался к обоим братьям. С ними придется работать: Генрих находит себе невест не в чаще под кустом, за ними тянется семья. Эдвард серьезен и строг, но готов делиться с тобой своими мыслями. Том скрытен. Скрытен и хитер. Держится весельчаком, а на самом деле – себе на уме, хоть и не так умен, как воображает. С Томом Сеймуром я справлюсь, решает он, а Эдварда смогу направлять. Мысленно он уже в будущем, когда король выскажет свою волю. Грегори и Шапюи подсказали путь. «Если он смог аннулировать двадцатилетний брак с законной женой, – заметил посол, – то уж вы как-нибудь отыщете предлог избавить его от конкубины. Этот брак с самого начала никто не признавал, кроме наемных льстецов». Впрочем, «никто» – это еще как посмотреть. Никто при императорском дворе – возможно; однако вся Англия присягала этому браку. Нелегко будет отыграть назад, говорит он своему племяннику Ричарду, даже если король прикажет. Надо немного подождать, не будем делать первый шаг, пусть его сделают другие. Он отдает распоряжение составить документ: перечень всего, что пожаловано Болейнам с 1524 года. «Полезно иметь под рукой на случай, если король спросит». Он не собирается ничего отбирать. Напротив. Мы будем и дальше осыпать Болейнов почестями. Смеяться их шуткам. Впрочем, смеяться надо осторожно. Мастер Секстон, королевский шут, как-то пошутил насчет Анны, назвал ее «бесстыжей», полагая, будто дураку все дозволено. Однако король дал Секстону такую затрещину, что тот отлетел к стене, и прогнал его от двора. Говорят, Николас Кэрью из жалости приютил бедолагу в своем доме. Антони печалится из-за Секстона. Шуту больно слышать о том, как выгнали его собрата, особенно если, говорит Антони, тот виновен лишь в своей дальновидности. «Кухонных сплетен наслушался?» – спрашивает он, но дурак отвечает: «Генрих вышвырнул на улицу Правду и Секстона вместе с ней. Однако сегодня она вползает под запертую дверь и в каминную трубу. Когда-нибудь король уступит и пригласит ее в дом».
Уильям Фицуильям приходит к нему в здание судебных архивов, усаживается в кресло. – Ну что, Сухарь, как там королева? Все так же вам благоволит, хотя вы и обедаете у Сеймуров? Он улыбается. Фиц вскакивает и рывком открывает дверь – проверить, не подслушивает ли кто, – затем вновь садится и продолжает: – Вернитесь мыслями в прошлое. Ухаживание за Болейн, женитьба на Болейн. Каким выглядел король в глазах зрелых мужей? Рабом своих прихотей. Иначе говоря – ребенком. Так подчиниться женщине, которая в конечном счете всего лишь женщина, как любая другая, – кое-кто говорил, что это не по-мужски. – Вот как? Я потрясен. Непозволительно сомневаться в том, что король – мужчина. – Мужчина, – с нажимом произносит Фицуильям, – должен управлять своими страстями. Король выказал много упорства, но мало мудрости. Это его губит. Она его губит. И будет губить дальше. Фицуильям не говорит прямо: Анна Болена, Ла Ана, конкубина. Итак, если она губит короля, должны ли добрые англичане ее устранить? Намек повисает между ними в воздухе – пока только намек. Разумеется, высказываться против нынешней королевы или ее наследников – прямая измена. Это дозволено лишь королю, ибо тот не может действовать себе во вред. Он, Кромвель, напоминает Фицуильяму про закон. Говорит: даже когда сам Генрих ее злословит, не поддавайтесь. – Но чего мы ждем от королевы? – спрашивает Фицуильям. – Она должна обладать всеми добродетелями обычных женщин, только в большей мере: быть скромнее, осмотрительнее и послушнее их всех, дабы подавать пример остальным. Некоторые вопрошают себя: такова ли Анна Болейн? Он смотрит на казначея: продолжайте, мол. – Думаю, Кромвель, что могу быть с вами вполне откровенен, – изрекает Фиц и (еще раз проверив, нет ли кого-нибудь за дверью) начинает говорить вполне откровенно: – Королева должна быть жалостлива и незлобива – склонять короля к милосердию, а не подталкивать к жестокости. – Вы имеете в виду какой-то конкретный случай? Фиц в молодости служил у кардинала. Никто не знает, в какой мере гибель Вулси – дело рук Анны; она действовала скрытно. Однако Фиц про кардинала забыл. – Я не оправдываю Томаса Мора. Он был не такой великий политик, каким себя мнил. Думал, что сможет направлять короля, считал того милым юношей-принцем, которого поведет за руку. Однако Генрих – король, а королю следует повиноваться. – Да, и? – И горько, что с Мором получилось так. Ученого, бывшего лорда-канцлера, выволокли под дождь и обезглавили. – Знаете, иногда я забываю, что его нет. Слышу какую-нибудь новость и думаю: что на это скажет Мор? Фиц вскидывает голову. – Вы ведь с ним не разговариваете? Он смеется. – Я не обращаюсь к нему за советом. «Впрочем, я, конечно, прошу помощи у кардинала – наедине, в краткие часы сна». Фиц говорит: – Томас Мор окончательно настроил против себя Анну, когда не пришел на коронацию. Она бы уничтожила его на год раньше, если бы сумела доказать измену. – Однако Мор был умный юрист. Помимо всего прочего. – Принцесса Мария… леди Мария, я должен был сказать… не юрист. Слабая девушка, одна, без друзей. – Думаю, император вполне может считаться ее другом, хоть и не бескорыстным. Очень полезно иметь столь влиятельного друга. Фиц смотрит раздраженно. – Император далеко. Жупел в чужой стране. Ей нужен защитник ближе, кто-то, кто будет оберегать ее интересы каждую минуту. Бросьте выплясывать вокруг да около. – Марии нужно одно – оставаться в живых. И меня нечасто обвиняют в том, что я выплясываю. Фиц встает: – Что ж. Хорошо. Умному можно не разъяснять. Фицуильям уходит, затем возвращается. – Если дочка Сеймура – следующая, то многие знатные семейства почтут себя обойденными, но, в конце концов, Сеймуры – древний род, и уж этого по крайней мере не будет. Я о мужчинах, которые бегают, как кобели за… хм… Стоит глянуть на крошку Сеймур и сразу понимаешь – ей никто юбку не задирал. На сей раз Фицуильям уходит окончательно, но прежде, уже в дверях, шутливо отдает ему честь – делает изящный жест в направлении шляпы.
Приходит сэр Николас Кэрью: каждый волос в бороде заговорщицки топорщится. Так и ждешь, что рыцарь, садясь, многозначительно тебе подмигнет. Однако, решившись говорить, Кэрью на удивление прям и краток: – Мы хотим убрать конкубину. И знаем, что вы хотите того же. – Мы? Кэрью смотрит на него из-под кустистых бровей, словно арбалетчик, который выпустил свою единственную стрелу и теперь вынужден брести по лесу в поисках врага, друга или хотя бы места, где укрыться на ночь. Поясняет напыщенно: – В данном случае за мной стоит почти вся английская знать, люди, чей древний род и… – Он замечает выражение собеседника и проглатывает конец фразы. – Я о тех, кто очень близок к трону, потомках короля Эдуарда. Это лорд Эксетер из семейства Куртенэ, а также лорд Монтегю и его брат Джеффри Пол. Леди Маргарет Пол, которая, как вы знаете, воспитывала принцессу Марию. Он опускает глаза. – Леди Марию. – Для вас – возможно. Мы называем ее принцессой Марией. Он кивает: – Это не помешает нам о ней беседовать. – Названные люди – лишь главные из тех, от чьего имени я выступаю, однако вот увидите – вся Англия будет ликовать, когда король избавится от этой женщины. – Едва ли всей Англии вообще есть до нее дело. – Он понимает, что2 Кэрью имел в виду: вся моя Англия, Англия родовой аристократии. Другой страны для сэра Николаса просто не существует. – Полагаю, супруга Эксетера, леди Гертруда, деятельно в этом участвует. – Она… – Кэрью, подавшись вперед, раскрывает страшную тайну, – состоит в переписке с принцессой Марией. – Я знаю, – вздыхает он. – Вы читаете ее письма? – Я читаю все письма, – говорит он. (В том числе ваши.) – Однако это уже попахивает интригой против самого короля, вы не находите? – Ни в коем случае. В первую очередь мы печемся о его чести. Он кивает. Довод принят. – Итак? Чего вы хотите от меня? – Чтобы вы присоединились к нам. Мы согласны на коронацию маленькой Сеймур. Она моя родственница и, как говорят, благочестива. Мы надеемся, что она вернет Генриха в лоно римской церкви. – Цель, близкая моему сердцу. Сэр Николас снова подается вперед: – В том-то и беда, Кромвель. Вы лютеранин. Он прикладывает руку к груди: – Нет, сэр. Я банкир. Лютер сулит ад всякому, кто дает деньги в рост. Неужто я буду на его стороне? Сэр Николас хохочет: – Не знал. Где бы мы все были без Кромвеля, который ссужает нас деньгами? Он спрашивает: – Что будет с Анной Болейн? – Не знаю. Монастырь? Итак, сделка заключена. Он, Кромвель, поддержит старую знать, верных чад Римско-католической церкви, и тем заслужит себе место при новом режиме; его грехи достойны суровой кары, но их можно искупить рвением. – Только одно, Кромвель. – Кэрью встает. – Велите, чтобы следующий раз меня впустили сразу. Не дело, когда человек вашей породы заставляет человека моей породы топтаться в прихожей. – А, так вот что это был за грохот? – Хотя Кэрью сейчас облачен в придворный атласный наряд, он, Кромвель, всегда видит его в латах: не боевых, а тех, что выписывают из Италии для фасону. Если топтаться в таком доспехе, лязга будет на всю округу. Он поднимает голову: – Простите великодушно, сэр Николас. Отныне между нами все будет без промедления. Считайте меня своей правой рукой, снаряженной для боя. Такую высокопарную трескотню сэр Николас поймет скорее, чем что-либо иное.
Дальше Фицуильям говорит с Кэрью, тот – с женой (она же – сестра Фрэнсиса Брайана). Леди Кэрью пишет Марии, чтобы та не отчаивалась: возможно, конкубину устранят. По крайней мере теперь Мария будет некоторое время сидеть тихо. Хуже всего будет, если она узнает о новых ухищрениях Анны и с испугу решит сбежать. Говорят, она напридумывала всяких нелепых планов, скажем, подсыпать своим надзирательницам сонного порошка и ускакать в ночь. Он предупредил Шапюи (разумеется, не напрямую), что если Мария сбежит, Генрих будет считать того виновником и в таком случае не посмотрит на дипломатический статус: в лучшем случае вышвырнет, как дурака Секстона, в худшем – вы больше не увидите родных берегов. Фрэнсис Брайан доносит в Вулфхолл обо всем, что происходит при дворе. Фицуильям и Кэрью беседуют с маркизом Эксетерским и Гертрудой, его женой. Гертруда встречается за ужином с послом Священной Римской империи и семейством Полов – закоренелыми папистами, которые все эти четыре года балансировали на грани измены. Никто не говорит с французским послом. Но все говорят с ним, Томасом Кромвелем. Всех его собеседников занимает один и тот же вопрос: если король сумел развестись с первой женой, дочерью испанского королевского дома, неужто нельзя найти изъян в нынешних документах и сплавить дочку Болейнов куда-нибудь в глушь? Отставка Екатерины после двадцати лет супружества возмутила всю Европу; новый брак не признан нигде за пределами Англии, да и длится всего три года – его можно аннулировать как случайную ошибку. В конце концов, на такой случай у короля есть своя церковь и свой архиепископ. Он, Кромвель, мысленно репетирует приглашение. «Сэр Николас? Сэр Уильям? Не соблаговолите ли отобедать в моем скромном жилище?» На самом деле он не собирается их звать: королеве бы немедленно донесли. Довольно взгляда, кивка, движения бровей. Однако в своем воображении он вновь накрывает стол. Норфолк во главе. Монтегю и его благочестивая матушка. Куртенэ и его чертовка-жена. Неслышно входит наш друг мсье Шапюи. – Лопни моя селезенка! – досадует Норфолк. – Нам что теперь, разговаривать по-французски? – Я буду переводить, – обещает он. А это что за грохот? Вкатывается герцог Медный Таз. – Добро пожаловать, милорд Суффолк. Усаживайтесь. Постарайтесь не набрать крошек в свою пышную бороду. – Пока нам не подали даже крошек. – Герцог Норфолк голоден. Маргарет Пол пронзает хозяина ледяным взглядом: – Вы поставили стол. Рассадили нас. Но не подали салфеток. – Мои извинения. – Он зовет слугу. – Вам не следует пачкать руки. Маргарет Пол встряхивает салфетку. На полотне – лицо покойной Екатерины. Со стороны буфетной долетает пьяное пение. Вваливается Фрэнсис Брайан, уже изрядно под хмельком. «В кругу друзей забавы…» С грохотом садится на стул. Он, Кромвель, кивает слугам. Вносят еще табуреты. – Ставьте потеснее, – говорит он. Входят Фицуильям и Кэрью, садятся, не здороваясь. Они пришли готовые к пиру, с ножами в руках. Он оглядывает гостей. Все в сборе. Звучит латинская молитва; он бы предпочел английскую, но надо угождать гостям. Те усиленно крестятся. Смотрят на него выжидательно. Он зовет слуг. Двери распахиваются. Челядинцы водружают на стол тяжелые блюда. Мясо сырое, более того, животные еще не забиты. Ничего страшного. Пусть гости еще немного посидят, глотая слюнки. Болейны перед ним на блюде, готовые к закланию.
Теперь, поступив на службу в королевские покои, Рейф ближе знакомится с Марком Смитоном – тот нынче тоже камердинер. Когда-то Марк подошел к дверям кардинальского дома в залатанных башмаках и холщовом дублете с чужого плеча. Кардинал нарядил его в шерсть, а сегодня Марк щеголяет в атласе, да и лошадью обзавелся: сидит в седле из цветной кордовской кожи, держит поводья перчаткой с золотым аграмантом. Откуда деньги? Анна безумно щедра, говорит Рейф. Ходят слухи, что она дала Фрэнсису Уэстону средства откупиться от кредиторов. Королеву можно понять, говорит Рейф, король уже не так ею восхищается, вот она и окружила себя обожателями. Ее покои – как проходной двор, королевские джентльмены поминутно заглядывают с тем или иным поручением и остаются спеть песню или сыграть в игру; а если поручения нет, они его выдумывают. Те джентльмены, которым государыня благоволит меньше, охотно делятся сплетнями с новичком, а многое и рассказывать не нужно: у Рейфа есть свои глаза и уши. Шепот и возня за дверью. Насмешки над королем. Его одеждой, его пением. Намеки на то, что в постели он слабоват. От кого могут идти такие слухи, если не от королевы? Некоторые мужчины говорят только о лошадях. Мой конь выносливый, да жаль, небыстрый, славная у вас кобылка, но видели бы вы ту гнедую, которую я себе присмотрел. Для Генриха такой предмет – дамы; он находит привлекательные качества почти в любой и всегда может сказать комплимент даже последней старой карге. Молодые вызывают у него бесконечные восторги: ну разве не пленительные глазки? не очаровательная шейка? не мелодичный голосок? не прелестная ручка? Как правило, дальше видимого он не заходит, разве что может сказать, чуть краснея: «У нее должны быть хорошенькие грудки, вы не находите?» Однажды Рейф слышал, как Уэстон в соседней комнате передразнивал короля: «У нее самая мокрая щелка, какую вы когда-либо трогали, не находите?» Следом раздались смешки, затем: «Тсс! Тут рядом Кромвелев наушник». Гарри Норрис последнее время живет у себя в поместье. Когда он при дворе, говорит Рейф, то старается прекращать такие разговоры, иногда очень сердится, но иногда не может сдержать улыбку. Джентльмены говорят о королеве и гадают… Продолжай, Рейф, говорит он. Рейф мнется. Не хочет быть наушником. Тщательно выбирает слова. – Чтобы угодить королю, королева должна поскорее зачать ребенка, а как? Если Генрих не может исполнить супружеский долг, шутили они, кто из нас возьмется ему помочь? – И к чему они пришли? Рейф трет макушку, отчего волосы встают дыбом. Понимаете, они ведь на самом деле не посмеют. Ни один из них. Королева священна. Это страшный грех даже для таких распутников, и они боятся короля, сколько бы его ни высмеивали. Да и королева не так глупа. – Я спрашиваю еще раз: к чему они пришли? – Наверное, к тому, что каждый за себя. – Спасайся кто может, – смеется он. Лучше бы показания Рейфа не пригодились. Он надеется убрать Анну Болейн без всей этой грязи. Глупые слова глупых людей. Однако ни ему, ни Рейфу их уже не забыть. Вот так-то.
Мартовская погода, апрельская погода, ледяные дожди, проблески солнца. Он снова встречается с Шапюи, на сей раз в доме. – Что-то вы печальны, господин секретарь. Усаживайтесь у камина. Он стряхивает со шляпы капли дождя. – Невесело мне в последнее время. – Знаете ли вы, я убежден, что вы приходите ко мне с единственной целью: позлить французского посла. – О да, он страшно ревнует. По правде сказать, я бы охотно заглядывал к вам чаще, да только об этом сразу донесут королеве. А она мстительна. – Я желаю вам более доброй госпожи. Слова посла подразумевает вопрос: как движется дело с новой госпожой? Шапюи хочет знать: возможен ли союз между нашими государями? Нельзя ли вернуть Марию в число наследников, разумеется, после детей, которые родятся у Генриха в новом браке? При условии, конечно, что не станет нынешней королевы. – Ах, леди Мария… – В последнее время он взял за правило при ее упоминании подносить руку к шляпе и сейчас видит, что Шапюи тронут, готовится упомянуть это обстоятельство в депешах. – Король сказал, что не прочь вступить в официальные переговоры и был бы рад союзу с императором. – Теперь вы можете поймать его на слове. – Я имею определенное влияние на короля, но не могу за него ручаться. В том-то и беда. Чтобы угодить Генриху, надо предугадывать его мысли, а когда он меняет решение, оказываешься в дураках. Вулси советовал: пусть он сам скажет, чего хочет, добивайся от него определенности, не гадай, потому что, гадая, можешь себя сгубить. Однако, быть может, со дней Вулси невысказанные пожелания короля труднее стало не замечать. Королевское недовольство ощущается с десяти шагов; подносишь ему бумагу на подпись, а он возводит очи горе, словно умоляет об избавлении. – Вы боитесь немилости, – говорит Шапюи. – Думаю, мне ее не миновать. Когда-нибудь. Временами он лежит без сна и думает, как это будет. Иногда все заканчивается почетной отставкой. Можно припомнить случаи. Разумеется, бессонными ночами больше воображаешь другое. – Но если такой день придет, что вы будете делать? – Что я могу делать? Вооружусь терпением и возложу мои упования на Господа. «И буду надеяться, что все закончится быстро». – Ваша набожность делает вам честь, – говорит посол. – Если фортуна от вас отвернется, вам будут нужны друзья. Император… – Император и не вспомнит обо мне, Эсташ. Как и о любом простом человеке. Никто не шевельнул пальцем в защиту кардинала. – Бедный кардинал. Как жалко, что я не имел удовольствия его знать. – Хватит ко мне подмасливаться, – резко говорит он. – Довольно! Шапюи смотрит на него пристально. Огонь в камине ревет, от мокрой одежды поднимается пар. Дождь стучит в окна. Он, Кромвель, ежится. – Вы заболели? – спрашивает Шапюи. – Нет, мне не дозволено болеть. Если я лягу в постель, королева велит мне вставать и скажет, что я притворяюсь. Если хотите меня подбодрить, наденьте ваш рождественский колпак. Жаль, что вы убрали его из-за траура. Жду не дождусь Пасхи, когда вновь его на вас увижу. – Вы потешаетесь над моей шляпой, Томас. Мне говорили, пока она была у вас, ее высмеивали не только ваши писари, но даже псари и конюхи. – Решительно наоборот. Все выпрашивали дозволения померить. Надеюсь, мы будем лицезреть ее на все главные церковные праздники. – И вновь, – говорит Шапюи, – ваша набожность делает вам честь.
Он отправляет Грегори к своему другу Ричарду Саутуэллу – учиться ораторскому искусству. Хорошо, если мальчик немного побудет вдали от Лондона, вдали от двора, где сейчас в воздухе разлито тяжелое напряжение. Во всем признаки беспокойства, придворные умолкают, стоит ему войти. Если он поставит на карту все, лучше Грегори не проживать сомнения час за часом – пусть стразу увидит итог. Ему некогда объяснять политику молодым и простодушным. Надо следить за перемещением кавалерии и пушек по Европе, за кораблями в море, купеческими и военными: притоком золота из Америк в сундуки императора. Иногда мир так похож на войну, что их невозможно отличить; иногда Британские острова кажутся совсем крохотными. Сообщают, что Этна взорвалась и на побережье Сицилии обрушилось наводнение. В Португалии засуха, и повсюду зависть и недовольство, страх перед будущим, голод или страх голода, страх перед Богом, сомнения, как отвратить Его гнев и на каком языке. Все новости запаздывают на две недели – стихии против него ополчились. Как раз когда закончены укрепления Дувра, рушатся стены Кале: от мороза растрескалась кладка и открылась трещина между Водовозными и Фонарными воротами. В Судное воскресенье елемозинарий королевы, Джон Скип, произносит в королевской часовне аллегорическую проповедь, направленную против него, Томаса Кромвеля. Он широко улыбается тем, кто пытается растолковать ее фраза за фразой, равно ненавистникам и доброхотам. Его не напугать проповедью, не устрашить фигурами речи. Как-то в детстве, разозлившись на отца, он с разбегу боднул того в живот. Однако дело происходило перед нашествием корнуольских бунтовщиков, и все жители Патни готовились к обороне, так что Уолтер ковал себе и товарищам латы. Когда Том с размаху врезался головой в отца, то сперва услышал грохот, затем почувствовал удар: Уолтер примерял одно из своих изделий. «Будет тебе урок», – флегматично заметил отец. Он часто вспоминает этот стальной живот и думает, что приобрел такой же, только не обременительный в отличие от лат. «У Кромвеля луженый желудок – съест и не подавится», – можно услышать и от друзей, и от врагов. И в фигуральном смысле, и в буквальном. Он не откажется от ломтя мяса с кровью в любое время дня, а разбуди его ночью – голоден и тогда. Приходит опись из Тилнейского аббатства: облачения алого турецкого атласа и белого льна, расшитые золотыми зверями. Два алтарных покрывала белого брюггского атласа с нашивками из алого бархата, похожими на капли крови. И всевозможная кухонная утварь: каминные щипцы, гири, крюки для мяса. Зима растаяла и сменилась весной. Пасха: ягненок под имбирным соусом и наконец-то никакой тебе рыбы. Он вспоминает, как дети расписывали яйца, рисовали им кардинальские шапки. Вспоминает свою дочку Энн, как та сжимала в теплом кулачке яйцо, размазывая краску. «Regardez! Смотрите!» Она в тот год учила французский. Вспоминает ее изумленное личико, тонкий язычок, слизывающий с ладони краску. Император в Риме; доносят, что он семь часов совещался с Папой. Интересно, какая часть их разговора была посвящена интригам против Англии? Или император заступался за своего английского собрата? Ходят слухи, что Испания заключает мир с Францией – дурное известие для Англии. Время ускорить переговоры. Он условливается о встрече между Генрихом и Шапюи. Из Италии ему приходит письмо, которое начинается словами: «Molto magnifico signor…». Он вспоминает Эркюля-Геркулеса, поломоя. Через два дня после Пасхи Шапюи является во дворец, где его приветствует Джордж Болейн. Джордж сверкает зубами и перламутровыми пуговицами, Шапюи закатывает глаза, словно напуганная лошадь. Джордж встречал посла и прежде, но сегодня тот рассчитывал увидеть кого-нибудь из своих друзей, скажем, Кэрью. Джордж произносит учтивую французскую речь. Просим вас послушать мессу вместе с королем, а затем, если вы окажете мне такую любезность, я буду счастлив принять вас за обедом в десять часов. Шапюи озирается: Кремюэль, на помощь! Он стоит в сторонке, с улыбкой наблюдая за Джорджем, и думает: я буду по нему скучать, когда вышвырну его назад в Кент, считать овец и прикидывать виды на урожай. Король, ласково поздоровавшись с Шапюи, уходит на свое отдельное возвышение. Шапюи вынужден остаться с прихлебателями Джорджа. «Judica me Deus», – читает священник нараспев. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня. Шапюи, обернувшись, буравит Кромвеля взглядом. Тот усмехается. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» – вопрошает священник; по-латыни, разумеется. Когда посол идет к алтарю, чтобы принять освященную облатку, молодые люди с ловкостью опытных танцоров пристраиваются у него за спиной. Шапюи в панике оглядывается через плечо. Где я? Что мне делать? И тут прямо там, куда он смотрит, появляется Анна. Она сходит со своей личной галереи, гордо неся голову, в бархате и соболях, на шее блещут рубины. Шапюи замирает. Он не может идти вперед: боится пересечь ей дорогу. Не может попятиться: сзади напирают дружки Джорджа. Анна смотрит на врага с торжествующей улыбкой и величаво кивает. Шапюи, плотно зажмурившись, отвешивает конкубине поклон. После стольких лет! Все эти годы он продумывал каждый шаг, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах не столкнуться с ней, не оказаться перед этим чудовищным выбором. Но как еще он мог поступить? Треклятая вежливость! Скоро известие достигнет императора. Можно лишь надеяться и молиться, что Карл поймет. Все перечисленное отражается у посла на лице. Он, Кромвель, встает на колени и принимает причастие. Бог размокает у него на языке. В эти мгновения благочестие требует закрыть глаза, однако сегодня, в порядке исключения, Господь простит, что он глазеет по сторонам. Джордж Болейн даже покраснел от удовольствия. Шапюи бледен от пережитого унижения. Генрих в блеске золота величаво спускается с галереи; лицо сияет торжеством. Несмотря на все усилия Джорджа, Шапюи на выходе из часовни подбегает к нему, Кромвелю, и бульдожьей хваткой сжимает ему руку. – Кремюэль! Вы знали, что так будет! Как вы могли поставить меня в такое неловкое положение?! – Уверяю вас, все к лучшему. – Он добавляет задумчиво: – Что вы были бы за дипломат, Эсташ, если бы не понимали государей? Они мыслят иначе, чем другие люди. Простолюдинам вроде нас Генрих может показаться чрезмерно упрямым. В глазах посла брезжит свет. Протяжный выдох. Шапюи понял, отчего Генрих заставил его прилюдно склониться перед королевой, которую разлюбил. Король должен во что бы то ни стало добиться своего. Теперь цель достигнута, его второй брак признан, а значит, можно и разводиться. Шапюи кутается в одежду, словно почувствовал холодный ветер из будущего. Спрашивает шепотом: – Неужто мне и впрямь обязательно обедать с ее братом? – О да. Вы увидите, что он чрезвычайно мил. В конце концов, – он прикрывает рукой улыбку, – Джордж только что одержал победу. Джордж и вся его семья. Шапюи кутается еще плотнее. – Я был неприятно изумлен. Мне прежде не доводилось видеть ее так близко. Она похожа на тощую старуху. А с рукавами цвета зимородкова крыла это кто? Мистрис Сеймур? Она очень невзрачна. Что Генрих в ней нашел? – Он считает ееглупенькой, и ему это по душе. – Он явно влюблен без памяти. Должно быть, в ней есть что-то, чего не видно со стороны. – Короткий смешок. – Без сомнения, у нее восхитительная enigme. – Никто не знает, – произносит он без улыбки. – Она девственница. – После стольких лет при вашем дворе? Наверняка Генрих себя обманывает. – Поговорим об этом позже. Любезный хозяин хочет проводить вас на обед. Шапюи складывает руки на груди и отвешивает Джорджу, лорду Рочфорду, низкий поклон. Джордж отвечает тем же. Они уходят под руку. Лорд Рочфорд что-то говорит: кажется, читает послу стихотворение о приходе весны. – Хм, ну и спектакль, – замечает лорд Одли. Канцлерская цепь слабо поблескивает в утреннем свете. – Идемте, перекусим, чем Бог послал. – Одли посмеивается. – Бедный посол. Смотрел так, будто угодил в руки к берберийским пиратам и не знает, в какой стране завтра проснется. Я тоже не знаю, в какой стране проснусь завтра, думает он. Одли б только балагурить. Он закрывает глаза и почему-то отчетливо понимает, что бо2льшая часть дня уже позади, хотя сейчас всего десять часов. – Сухарь? – окликает его лорд-канцлер.
Через какое-то время после обеда все начинает сыпаться, да так, что хуже не придумаешь. Он оставил Генриха и посла в оконной нише – пусть ласкаются словами, воркуют о союзе, делают друг другу нескромные предложения. Первое, что он замечает: король сперва розовеет, затем бледнеет и, наконец, багровеет. Следом доносится голос Генриха, пронзительный, резкий: – Вы слишком много на себя берете, Шапюи. Вы говорите, я признал права вашего государя на Милан, но, возможно, у французского короля прав на герцогство не меньше, если не больше. Не воображайте, что вам известны мои мысли, посол. Шапюи отпрыгивает. Ему вспоминаются слова Джейн Сеймур: «Господин секретарь, вы когда-нибудь видели ошпаренную кошку?» Посол что-то говорит тихо, смиренно. Генрих рычит: – Вы хотите сказать, то, что я принял как знак учтивости одного христианского государя другому, на самом деле – часть торга? Вы склонились перед моей супругой королевой, а теперь выставляете счет? Шапюи поднимает руку, мол, давайте говорить тише, однако Генрих продолжает кричать так, что слышат все: и те, кто смотрит, разинув рот, и те, кто толпится за ними. – Или ваш государь не помнит, что я сделал в трудный для него час? Когда взбунтовались его испанские подданные? Я помогал императору на море. Я одалживал ему деньги. И что получил взамен? Шапюи лихорадочно силится припомнить, что там было давным-давно, задолго до его назначения послом. Слабым голосом предполагает: – Деньги? – Ничего, кроме нарушенных обещаний. Вспомните, как я помогал ему против французов. Он обещал мне земли. И теперь я слышу, что он заключает с Франциском мир. С какой стати я ему поверю? Шапюи подбирается, насколько это возможно при маленьком росте и щуплом телосложении. – Бойцовый петушок, – шепчет Одли на ухо ему, Кромвелю. Однако Кромвелю не до шуток. Шапюи говорит: – Государям не пристало задавать друг другу такой вопрос. – Вот как? В былые дни мне бы не пришлось его задавать. В моих глазах всякий государь честен, как честен я сам. Однако временами, сударь, наше естественное благодушие вынуждено уступать горькому опыту. И я спрашиваю: ваш хозяин что, держит меня за дурака? – Король наклоняется и стучит себя пальцами по колену, словно подзывая ребенка или собаку. Пищит: – Генрих! Подойди к Карлу! Подойди к своему доброму хозяину! – Выпрямляется и чуть не брызжет слюной от злости. – Император обходится со мной, как с маленьким. Сперва выпорет, затем приласкает, затем снова выпорет. Передайте ему, что я не младенец. Что я император собственной страны, муж и отец. Передайте, чтобы не лез в мои семейные дела. Сперва он указывает мне, на ком мне жениться. Потом – как мне поступать с собственным ребенком. Передайте, что я обойдусь с Марией, как сочту нужным. Как отец обходится с непокорной дочерью, кто бы ни была ее мать. Король рукой – и даже, о Господи, кулаком – тычет посла в плечо и уходит. Очень царственно. Разве что ногу подволакивает. Кричит через плечо: – Я требую самых глубоких публичных извинений! Он, Кромвель, задерживает дыхание. Посол, что-то бормоча, бежит через комнату, хватает его за руку. – Кремюэль, я не понимаю, за что должен извиняться. Я пришел сюда, ничего не подозревая, меня хитростью заставили поклониться этой женщине, я вынужден был за обедом обмениваться комплиментами с ее братом, а потом Генрих на меня налетел. Он нуждается в моем господине, хочет заключить союз и просто играет в старую игру: старается продать себя подороже, говорит, будто пошлет войска в Италию на помощь королю Франциску – где эти войска? У меня есть глаза, я не вижу никаких войск. – Полно, не волнуйтесь, – увещевает Одли. – Мы сами принесем извинения, сударь. Дайте ему остыть. Не пишите пока своему доброму государю. Мы продолжим переговоры. За спиной у Одли через толпу пробирается Эдвард Сеймур. Он, Кромвель, с вкрадчивым спокойствием (которого не чувствует) говорит: – А вот, господин посол, случай представить вам… Эдвард выступает вперед: – Мон шер ами… Болейны переглядываются. Эдвард устремляется в брешь, вооруженный неплохим французским. Увлекает Шапюи в сторону, и вовремя. В дверях шум: король возвращается, быстрым шагом входит в круг своих джентльменов. – Кромвель! – Генрих, тяжело дыша, останавливается прямо перед ним. – Растолкуйте ему, что не императору ставить мне условия. Император должен принести извинения за то, что грозил мне войной. – Король хмурится. – Кромвель, я знаю, что2 вы сделали. Вы зашли слишком далеко. Чего вы ему наобещали? Что бы это ни было, вы не имели права говорить от моего имени. Вы поставили под удар мою честь. Впрочем, чего я ждал? Что такой, как вы, смыслит в государевой чести? Вы сказали: «Я за Генриха ручаюсь, он у меня в кармане». Не отпирайтесь, я слышу, как вы это говорите. Вы думали меня вышколить, верно? Как своих мальчишек в Остин-фрайарз? Чтоб я прикасался к шляпе, когда вы спускаетесь к завтраку, и говорил «Доброе утро, сэр». Ходил за вами по Уайтхоллу. Таскал ваши книги, вашу чернильницу и печать. А может, и корону в кожаном мешочке? – Генрих трясется от гнева. – Я уверен, Кромвель, вы считаете себя королем, а меня – подмастерьем кузнеца. Он не станет потом уверять, будто у него не упало сердце. Не станет бахвалиться противоестественным хладнокровием, невозможным у разумного человека. Генрих мог в любое мгновение сделать знак страже, и его бы схватили. Однако он делает шаг назад, зная, что лицо его не выражает ничего – ни раскаяния, ни сожаления, ни страха, а про себя думает: вас бы не взяли в кузницу. Уолтер и близко не подпустил бы вас к горну. Сила – только полдела. Рядом с огнем нужна холодная голова, когда искры летят к потолку, надо приметить, куда они попали, и сбить пламя ладонью. И сейчас, видя распаленное лицо монарха, он вспоминает отцовский совет: если обожжешь руки, Том, скрести их перед собой и держи, пока не найдешь воду или мазь. Не знаю, чем это помогает, но боль слабеет, а если еще и молиться при этом, то кое-как переживешь. Он поднимает ладони. Скрещивает руки перед собой. Прочь, Генрих. Словно неправильно истолковав его жест – и будто почти радуясь, что получил наконец отпор, – король умолкает и пятится, отворачивается от Кромвеля, избавляя того от зрелища своих налитых кровью белков, от недолжной близости выпученных монарших глаз. Он говорит тихо: – Храни вас Господь, ваше величество. А теперь дозволите ли вы мне удалиться? С дозволения или без, он уходит. Уходит в соседнюю комнату. Вы слышали выражение: «Кровь во мне вскипела»? Его кровь кипит. Он складывает руки крестом, ладонями вперед, садится на сундук и требует вина. Когда вино приносят, он смыкает руку на холодном металле, гладит кубок подушечками пальцев. Капля кларета переливается через край, он размазывает ее пальцем и, для большей чистоты, слизывает языком. Непонятно, правда ли боль прошла, как обещал Уолтер, но хорошо, что отец за него. Должен же кто-нибудь быть рядом. Он поднимает глаза. Перед ним Шапюи, лицо – ехидная маска. – Мой дорогой друг. Я полагал, вам конец. Поверите ли, но я вообразил, что вы забудетесь и поднимете на него руку. Он улыбается: – Я никогда не забываюсь. Я всегда думаю, что делаю. – Но не всегда говорите, что думаете. Бедный посол – столько претерпел сегодня за то, что честно делал свою работу. К тому же я оскорблял его чувства, высмеивал его шляпу. Завтра я пришлю ему подарок, хорошую верховую лошадь. Я сам, прежде чем ее выведут из конюшни, внимательно проверю подковы.
На следующий день собирается королевский совет. Присутствует Уилтшир, иначе монсеньор; Болейны – лоснящиеся коты, сидят и охорашиваются. Их родич, герцог Норфолк, осунувшийся, дерганый, останавливает его перед входом – его, Кромвеля: – Все в порядке, малец? Когда еще главный церемониймейстер страны обращался так к начальнику судебных архивов? В зале совета Норфолк двигает табуреты, выбирает тот, что поудобнее, садится со скрипом. Говорит: – С ним такое бывает. – Ухмыляется, показывая зубы. – Стоишь, думаешь, как бы не упасть, и тут он выбивает почву у тебя из-под ног. Он кивает, терпеливо улыбаясь. Входит Генрих, садится во главе стола, словно большой недовольный младенец. В глаза никому не смотрит. Итак: он надеется, что другие советники не подведут. Он много раз им объяснял. Льстите Генриху. Умоляйте сделать то, что ему так и так сделать придется. Пусть думает, будто у него есть выбор. Пусть восхищается своей добротой, как если бы он вам помогал, а не себе. Ваше величество, говорят советники. Сделайте милость. Ради блага страны снизойдите к нижайшей просьбе императора. К его мольбам и уговорам. Это продолжается минут пятнадцать. Наконец король говорит: хорошо, коли того требует благо страны, я приму Шапюи, мы продолжим переговоры, видимо, мне придется проглотить все личные оскорбления. Норфолк подается вперед: – Считайте это микстурой, Генрих. Она горькая, но, ради блага Англии, не выплевывайте. От темы врачей разговор естественно переходит к замужеству леди Марии. Куда бы король ни переселил дочь, та продолжает сетовать на дурной воздух, скудную пищу, невозможность побыть одной, на боли в суставах и в голове и общую подавленность духа. Врачи говорят, что здесь помог бы мужчина. Когда жизненные соки в молодой женщине закупорены, она теряет аппетит, бледнеет, худеет и чахнет; брак дает ей занятие, и она забывает про мелкие хвори; ее матка пребывает в довольстве и на своем месте, а не блуждает по всему телу, вызывая всевозможные болезни, как учит нас Гиппократ. Если же нельзя выдать Марию замуж, ей надо хотя бы помногу ездить верхом, что для девушки под домашним арестом крайне затруднительно. Наконец Генрих прочищает горло. – Не секрет, что император обсуждает Марию у себя в совете. Он хотел бы выдать ее за кого-нибудь из своих родственников, в собственных владениях. – Лицо короля суровеет: – Я ни в коем случае не выпущу ее из страны и вообще не позволю ей выходить из дома, пока она не научится вести себя с отцом, как положено. Он, Кромвель, говорит: – Она все еще не оправилась после смерти матери. Уверен, что некоторое время спустя она осознает дочерний долг. – Как отрадно наконец услышать ваш голос, Кромвель, – усмехается монсеньор. – Вы обычно говорите первым, и последним, и в середине, так что остальные советники вынуждены общаться шепотом или передавать друг другу записки. Позвольте спросить, не связана ли как-нибудь ваша сдержанность со вчерашними событиями? Когда его величество, если я верно припоминаю, поставил вас на место? – Большое вам спасибо, милорд Уилтшир, – бесстрастно произносит лорд-канцлер. Король говорит: – Милорды, я вынужден напомнить, что мы говорим о моей дочери. Хотя я далеко не уверен, что ее следует обсуждать в совете. – Я бы, – гремит Норфолк, – я бы поехал к Марии и заставил ее присягнуть королю и ребенку моей племянницы. Положил бы ее руку на Библию и держал. А не поможет – бил бы головой об стену, пока не станет мягкая, как печеное яблоко. – И вам спасибо, милорд Норфолк, – говорит Одли. – Так или иначе, – произносит король, – у нас не столько детей, чтобы отдавать их в чужие края. Я предпочел бы с ней не разлучаться. Когда-нибудь она станет мне послушной дочерью. Болейны довольны: король не ищет Марии достойного жениха за границей, она никто, незаконная дочь, о которой вспоминают только из жалости. Вчерашняя победа над испанским послом еще свежа у них в памяти, и то, что они ею не бахвалятся, делает им честь. После заседания его окружают другие советники, все, кроме Болейнов. Заседание прошло успешно: он получил что хотел, Генрих продолжит переговоры с императором. Тогда почему ему так душно, так неспокойно? Он раздвигает советников локтями, впрочем, со всей учтивостью. Ему надо на воздух. Генрих, проходя мимо, останавливается, поворачивает голову, спрашивает: – Господин секретарь, вы не прогуляетесь со мной? Они гуляют. Молча. Начинать разговор прилично государю, а не министру. Ему торопиться некуда. Генрих говорит: – Хорошо бы съездить в Кент, как мы собирались, посмотреть на тамошних литейщиков. Он ждет. – Я смотрел разные чертежи, математические расчеты, читал советы насчет того, как улучшить наши пушки, но, сказать по правде, вы бы разобрались в них лучше. Смиреннее, думает он. Еще чуточку смиреннее. Генрих говорит: – Вы бывали в лесах, видели углежогов. Помнится, вы рассказывали, что это очень бедные люди. Он ждет. Генрих говорит: – Я думаю, следует знать все с самого начала, идет ли речь о пушке или о доспехах. Бесполезно требовать металл с определенными качествами, определенной закалки, если не знаешь, как его выплавляют, с какими трудностями сталкивается мастер. Я никогда не брезговал часами сидеть с оружейником, когда тот делает мне латную рукавицу на правую руку. Думаю, надо изучить каждую пластину, каждую заклепку. И? Да? Он не спешит королю на выручку: пусть выпутывается сам. – И… так вот. Вы – моя правая рука, сэр. Он кивает. Сэр. Как трогательно. Генрих говорит: – Итак, в Кент? Когда? Назначить ли мне срок? Двух-трех дней будет вполне довольно. Он улыбается: – Не этим летом, сир. У вас будут другие дела. К тому же литейщики такие же люди, как и мы. Им надо отдохнуть. Полежать на солнышке. Яблоки собрать. Генрих кротко смотрит на него умоляющими голубыми глазами: устройте мне счастливое лето. Говорит: – Я не могу жить, как жил. Он, Кромвель, здесь, чтобы получить указания. Добудьте мне Джейн, Джейн, такую добрую, такую сладкую. Избавьте меня от горечи, от желчи. – Думаю, мне следует поехать домой. С вашего дозволения. Мне многое надо сделать, чтобы дело сдвинулось, и я чувствую… – Он не может подобрать английское слово. Такое иногда бывает. – Un peu… – Однако и французское слово не подбирается. – Но вы не захворали? Вы скоро вернетесь? – Я посоветуюсь со знатоками канонического права, – говорит он. – Дело может затянуться, вы же знаете эту братию. Буду торопить их, как смогу. И я поговорю с архиепископом. – И возможно, с Гарри Перси, – подхватывает король. – Вы же помните… помолвка или брачный контракт… они же были почитай что муж и жена. А если и это не поможет… – Генрих чешет бороду. – Вам известно, что я… до королевы… был с ее сестрой, с ее сестрой Мэри, которая… – О да, сир. Я помню Мэри Болейн. – И можно доказать, что я после связи со столь близкой ее родственницей не мог вступить в законный брак с Анной… впрочем, это на самый крайний случай… я бы не хотел без надобности… Он кивает. Вы не хотите выставить себя лжецом. Вы заставили меня объявить перед придворными, что у вас ничего не было с Мэри Болейн, а сами сидели и кивали. Вы убрали все преграды: Мэри Болейн, Гарри Перси, смахнули их в сторону. А теперь наши требования изменились, и прошлое меняется у нас за спиной. – Что ж, доброго пути, – говорит Генрих. – Главное, чтобы никто не прознал. Я целиком полагаюсь на вашу осмотрительность, на ваше умение. Как печально слышать, что Генрих извиняется, хотя, конечно, это было необходимо. Он чувствует странное уважение к Норфолку с его коротким: «Все в порядке, малец?» В соседней комнате ждет мастер Ризли. – Вы получили указания, сэр? – Я получил намеки. – И когда они могут превратиться во что-нибудь более определенное? Он улыбается. Зовите-Меня говорит: – Мне сказали, король в совете объявил, что выдаст леди Марию за своего подданного. Вроде бы ничего подобного не прозвучало? На миг ему становится почти весело. Он слышит собственный беспечный смех. – Ой, Бога ради, Ризли, кто вам такое сказал? Порой я думаю, мы бы сберегли много времени и труда, если бы приглашали на совет все заинтересованные стороны, включая иностранных послов. Те все равно выведают, о чем шла речь, так что уж лучше бы узнавали все из первых уст, а не домысливали всяческие нелепицы! – Так я неверно понял? – спрашивает Ризли. – Поскольку мне казалось, выдать ее за англичанина, человека низкого звания, и есть нынешний замысел королевы? Он пожимает плечами. Ризли смотрит на него без всякого выражения. Почему – он поймет только несколько лет спустя.
Эдвард ищет беседы с ним. Никаких сомнений, что Сеймуры будут на его пиру, даже если им придется сидеть под столом и ловить крошки. Эдвард напряжен, нервничает. – Господин секретарь, в рассуждении отдаленного будущего… – В этом деле даже на сутки загадывать нельзя. Уберите вашу сестру куда-нибудь подальше от здешних дрязг. Пусть Кэрью увезет ее к себе в поместье. – Не думайте, будто я пытаюсь выведать ваши секреты… Эдвард тщательно выбирает слова. Не думайте, будто я лезу в то, что меня не касается. Но ради сестры мне надо представлять хотя бы в самых общих чертах… – О, вижу, вы хотите знать, заказывать ли ей свадебное платье? Эдвард смотрит умоляющим взглядом. Он говорит серьезно: – Мы постараемся аннулировать брак. Пока не знаю, на каком основании. – Они без боя не сдадутся, – говорит Эдвард. – Прежде чем погибнуть, Болейны погубят и нас. Я слышал, что змеи на последнем издыхании выпускают яд через кожу. – Вы когда-нибудь брали в руки змею? Я брал, в Италии. – Он показывает ладонь. – Как видите, никаких отметин. – Нужно действовать очень скрытно. Чтобы Анна не проведала. – Рано или поздно она узнает, – мрачно говорит он. И это произойдет раньше, если новые товарищи не перестанут ловить его в коридоре и с поклоном преграждать ему дорогу, если они не бросят перешептываться, поднимать брови и тыкать друг друга локтями. Он говорит Эдварду: мне надо поехать домой, запереться и подумать. Королева что-то замышляет, не знаю пока – что. Возможно, это коварство настолько черное, что она сама еще не впустила его в свои мысли и оно лишь смутно ей грезится, но я должен поспешить, измыслить это за нее, вымечтать грезу в явь. По словам леди Рочфорд, Анна сетует, что после выкидыша Генрих постоянно за ней наблюдает, не так, как прежде. Долгое время он примечал, что Гарри Норрис за ней наблюдает, и с высоты, будто резной сокол над дверью, наблюдал за Гарри Норрисом. Сейчас Анна вроде бы не чувствует распростертых над собой крыл, глаз, следящих, как она мечется и петляет. Королева щебечет о своей дочери Елизавете, вертит в руках чепчик, хорошенький чепчик с лентами, только что от вышивальщицы. Генрих смотрит на нее пустыми глазами: мол, зачем ты мне это показываешь? Чего ради? Анна гладит вышивку, и он внезапно ощущает булавочный укол жалости, легкую тень раскаяния. Королевин рукав украшен тонкой шелковой тесьмой – ее сплела какая-то искусница вроде его покойной жены. Он пристально смотрит на королеву и чувствует, что знает ее, как мать знает дитя или как дитя – свою матерь. Знает каждый стежок на ее корсаже. Примечает, как вздымается и опадает грудь при вдохе и выдохе. Что в вашем сердце, мадам? Это – последняя дверь, которую осталось открыть. Он стоит на пороге с ключом и почти робеет. Ибо если ключ не подойдет с первого раза, если он начнет возиться с замком на глазах у Генриха, то услышит нетерпеливое цоканье монаршего языка, как услышал когда-то Вулси. Что ж. Однажды – в Брюгге, кажется? – он высадил дверь плечом. Не в его обычае высаживать двери, просто заказчик желал скорого результата. Замки вскрывают отмычками, но это для умельцев, которые никуда не спешат. Если у тебя есть башмак и плечо, умения и времени не требуется. Он думает: мне тогда не было тридцати. Мальчишка. Рассеянно трет рукой левое плечо, будто вспоминает синяки. Мысленно он входит в Анну, не как любовник, а как стряпчий, с бумагами в руках. Мысленно вступает в сердце королевы и слышит, как отдается там эхо его подкованных башмаков. Дома он вытаскивает из сундука молитвенник покойной жены, подаренный ей первым мужем Томом Уильямсом. Неплохой был малый, но не такой солидный господин, как он сам. Всякий раз, вспоминая Тома Уильямса, он видит безликого челядинца в кромвелевской ливрее, который держит его плащ или коня. Теперь, когда ему доступны любые тома из королевской библиотеки, старый часослов выглядит бедно – где золочение? И все же в этой книге заключена Элизабет, его жена с ее белым чепцом, резким обхождением, чуть заметной улыбкой и ловкими пальцами кружевницы. Как-то он смотрел, как Лиз плетет шелковую тесьму. Один конец был привязан к стене, а у Лиз на всех десяти пальцах было по петле, и они мелькали так быстро, что он не мог понять, как же получается тесемка. «Плети помедленнее, – сказал он, – я хочу посмотреть, как ты это делаешь», но она рассмеялась и ответила: «Медленнее не могу. Если я задумаюсь, что делаю, то сразу собьюсь».
II Господин иллюзий
Лондон, апрель – май 1536 г.– Не желаете составить мне компанию? – Зачем? Леди Вустер одолевают сомнения. – Угощу вас пирожными. – Обожаю пирожные, – улыбается она. – А вот и слуга. – Этот юноша? – косится на Кристофа. – Первым делом подай леди Вустер подушку, Кристоф. Мягкая пуховая подушка вышита узором из цветов и соколов. Графиня берет подушку обеими руками, задумчиво взбивает, подсовывает под спину, откидывается назад, улыбается: – Так гораздо лучше. На сносях, руки покоятся на животе, как у Мадонны. Он проводит расследование в маленькой комнате, окна открыты навстречу сладостному весеннему воздуху. Господин секретарь рад любому, кто заглянет на огонек, любому, кого заметят на его пороге. Трудно устоять перед таким угощением. К тому же господин секретарь так любезен, так предупредителен. – Кристоф, передай даме салфетку, а сам ступай проветрись. И дверь за собой закрой. Леди Вустер – Элизабет – подается вперед и шепчет: – Господин секретарь, мне так тяжко! – Неудивительно, – он показывает рукой, – в вашем-то положении. Королева завидует? – Не отпускает меня ни на шаг, по делу и без дела. Каждый день спрашивает, как я. Нельзя пожелать госпожи участливее. – Однако в тоне графини сомнение. – Лучше бы мне вернуться домой, в поместье. Всяк при дворе норовит меня уколоть. – Думаете, слухи распускает королева? – Больше некому. Поговаривают, что ребенок леди Вустер – не от мужа. Кто-то зол на нее, решил подшутить или злословит от скуки. Благородный брат графини, придворный Антони Брауни, ворвался в ее покои призвать сестру к ответу. – Я велела ему убираться. Чем я хуже остальных? Разделяя ее возмущение, творожное суфле дрожит в тестяной скорлупке. – Давайте по порядку, – хмурится он. – Ваша семья недовольна тем, что пошли слухи, или тем, что они правдивы? Леди Вустер прикладывает салфетку к губам. – Хотите, чтобы я исповедалась? За пирожное? – Позвольте мне помочь вам. У вашего мужа есть причины гневаться? – Вы же знаете мужчин! Им только дай позлиться. Не могут по пальцам сосчитать! – Стало быть, ребенок от графа? – Если родится здоровый мальчик, муж признает его. – Пирожное мешает графине сосредоточиться. – Что это белое? Миндальный крем? Антони Брауни приходится сводным братом Фицуильяму. (Все эти люди состоят друг с другом в родстве. Хорошо хоть кардинал дал ему схему, которую он прилежно дополняет после каждой свадьбы.) Фицуильям, Брауни и оскорбленный граф шепчутся по углам. Разберитесь, Сухарь, просит Фицуильям, мне не по силам – какой дьявол вселился во фрейлин? – Еще и долги, – говорит он. – Вам не позавидуешь, миледи. Вы кругом должны. На что вы тратитесь? Вокруг короля столько блестящих юношей, таких остроумных и влюбчивых, всегда готовых прославить в стихах красоту прекрасной дамы. Вы платите за лесть? – Не за лесть, за комплименты. – Вам незачем платить за комплименты. – Господин секретарь известен своим галантным обхождением с дамами, – замечает графиня, облизывая пальцы. – Но вы же знаете свет! Не сомневаюсь, если вы напишете поэму, то не забудете приложить счет. Он смеется: – Вы правы. Я ценю свое время, но неужто ваши обожатели так расчетливы? – Знали бы вы, сколько у них забот! – Графиня вонзает зубки в засахаренную фиалку. – Не понимаю, почему юность называют праздной? Эти юноши трудятся от зари до зари, зарабатывая положение при дворе. Они не станут прикладывать счет, но не откажутся от броши на шляпу, позолоченных пуговиц или нового камзола. Он вспоминает разодетого Марка Смитона. – Королева тоже платит? – Мы называем это покровительством, не платой. – Хорошо, пусть так. Господи Иисусе, думает он про себя, выходит, мужчина может содержать шлюху и именовать себя ее покровителем. Леди Вустер роняет изюминки на стол, и ему хочется подобрать их и скормить графине. Вероятно, она не станет возражать. – Случалось ли королеве оказывать покровительство наедине? – Наедине? Почем мне знать? Он кивает. Похоже на теннис – и это мастерский удар. – Когда королева оказывает покровительство, что на ней надето? – Мне не случалось заставать ее голой. – А ваши юные льстецы, им случалось? – Меня там не было. – Двери были заперты? – Двери часто бывают заперты. – Вы готовы повторить это в суде? Она слизывает капельку крема. – Про двери? А что здесь такого? – Что вы потребуете в уплату? Он улыбается, не сводит взгляда с ее лица. – Я побаиваюсь мужа. Из-за долгов. Он ничего не знает, умоляю… молчите. – Пришлите мне ваших кредиторов. На будущее, если захотите еще комплиментов, обращайтесь в банк Кромвеля. Мы славимся уступчивостью и щедростью и дорожим клиентами. Она кладет салфетку на стол, подбирает последние лепестки примулы с творожного суфле и направляется к двери. Неожиданно останавливается, мнет юбку. – Король хочет избавиться от нее? Но разве запертая дверь – достаточный повод? Я не желаю королеве зла. Она начинает понимать по крайней мере кое-что. Жена Цезаря вне подозрений. Недоверие погубит королеву, a крохи правды погубят еще вернее. Не понадобится даже простыня с липкими следами Фрэнсиса Уэстона или другого рифмоплета. – Да забудьте вы о ней, – говорит он. – Возможно недоразумение. Как в вашем случае. Не сомневайтесь, граф будет доволен, когда родится дитя. Лицо графини светлеет: – Вы поговорите с ним? Не проболтаетесь про долги? И с братом? И с Уильямом Фицуильямом? Убедите их оставить меня в покое? Я не делала ничего такого, чего не делают прочие дамы. – Мистрис Шелтон? – Нашли чем удивить! – Мистрис Сеймур? – А вот тут я бы удивилась. – Леди Рочфорд? Она отвечает не сразу. – Это не для леди Рочфорд. – Лорд Рочфорд несостоятелен как мужчина? – Несостоятелен? – Она пробует слово на вкус. – Пусть не в таких выражениях, но мне доводилось слышать ее жалобы. Возвращается Кристоф. Графиня проплывает к двери, женщина, сбросившая с души груз. – Смотрите, она отковыряла лепестки, а корочку оставила, – говорит Кристоф. Юноша садится за стол и набивает утробу остатками пиршества, жадный до сахара и меда. Сразу видно, кто в детстве недоедал. Мы вступаем в благословенный сезон, когда воздух сладок на вкус, бледная зелень покрывает деревья, повара приправляют лимонные пирожные лавандой, а заварной крем – базиликом, поливают клубничные дольки сиропом, настоянным на соцветиях бузины.
* * *
День святого Георгия. По всей Англии шумные процессии волокут по улицам тряпичных и бумажных драконов, а рыцари в жестяных доспехах колотят ржавыми мечами по старым щитам. Девушки плетут венки из листьев, несут букеты весенних цветов в церкви. В Остин-фрайарз Антони подвесил к потолку чудище с зеленой чешуей, выпученными глазами и высунутым языком. Вид у дракона распутный и кого-то ему напоминает, не сразу вспомнишь, кого именно. В этот день рыцари ордена Подвязки созывают капитул, на котором выбирают новых братьев взамен почивших. Орден Подвязки – самый почитаемый в христианском мире, его рыцарями именуют себя французский король и король Шотландии. А также монсеньор, отец королевы, и королевский бастард Гарри Фицрой. В нынешнем году капитул созывают в Гринвиче. Иностранные рыцари не участвуют, однако капитул должен стать собранием его новых сторонников: Уильяма Фицуильяма, Генри Куртенэ – маркиза Эксетера, милорда Норфолка и Чарльза Брэндона, который, кажется, простил Томасу Кромвелю, что пришлось томиться в его приемной. Теперь герцог сам находит его и говорит: – Когда-то мы не ладили, но я всегда советовал Гарри Тюдору: привечай Кромвеля, чтобы он не пошел по стопам его неблагодарного хозяина. Он натаскался от Вулси всяких хитростей и еще тебе пригодится. – Вы и впрямь так отзывались обо мне, милорд? Весьма обязан. – И вы видите, к чему это привело. Ведь вы разбогатели? – Герцог хмыкает. – Вместе с Гарри. – И я всегда рад услужить тому, кто желает мне добра. Могу я спросить, за кого милорд собирается отдать голос? Брэндон подмигивает: – Все зависит от меня. Вакансия одна – место покойного лорда Бергавенни, претендентов двое. Анна горой стоит за братца Джорджа, другой соискатель – Николас Кэрью. Голоса подсчитаны: перед королем огласят имя сэра Николаса. Сторонники Джорджа сразу идут на попятную, заявляя, что ни на что не надеялись: дескать, место давно было обещано сэру Николасу, еще три года назад за него просил сам французский король. Если королева и огорчена, то виду не подает, а королю и Джорджу Болейну без того есть что обсудить. После Майского дня король со свитой отправляется в Дувр инспектировать строительство, и Джордж сопровождает его величество в качестве лорда-хранителя Пяти портов – должность, которую он, по разумению Кромвеля, исполняет спустя рукава. Господин секретарь и сам хочет съездить в Кале на пару дней, о чем и заявляет, слух о его приезде поддержит гарнизон в состоянии боевой готовности. Ради заседания капитула Гарри Перси приехал из своих владений в Сток-Ньюингтон. Нужно послать к нему кого-нибудь, говорит он племяннику Ричарду, возможно, ему придется взять обратно свои слова о помолвке с Анной. Я бы и сам поехал, но на этой неделе время расписано по часам. Его ждет Ричард Сэмпсон, настоятель Королевской часовни, доктор канонического права (Кембридж, Париж, Перуджа, Сиена) – поверенный короля на первом бракоразводном процессе. – Угодили мы в переплет, – только и скажет настоятель, аккуратно раскладывая на столе фолианты. Снаружи ждет повозка, доверху загруженная тщательно обернутыми, дабы уберечь их от превратностей погоды, томами: все документы по делу о разводе, с тех пор как король впервые выказал недовольство Екатериной. Тогда мы были молоды, замечает он. Настоятель смеется, и его сухой клерикальный смех – будто скрип ризничной двери. – Неужели были? Я успел забыть. А некоторые не только молоды, но и беспечны. Они хотят заявить о недействительности брака, посмотреть, удастся ли освободить Генриха таким способом. – Ходят слухи, что при звуке вашего имени Гарри Перси заливается слезами, – замечает настоятель. – Ну, это преувеличение. В последнее время мы с графом весьма дружны. Он листает бумаги, всюду натыкаясь на кардинальский почерк: приписки, вопросы, стрелки на полях. – Возможно, – говорит он, – Анна-королева решит посвятить себя религии, и брак будет аннулирован сам собой. – Из нее выйдет превосходная аббатиса, – учтиво замечает настоятель. – А что милорд архиепископ? Кранмер в отъезде, решение отложено на потом. – Мне предстоит убедить архиепископа, что без Анны продвижение английской Библии пойдет успешнее. Мы хотим, чтобы живое слово Божье звучало в ушах короля музыкой, а не сварливым нытьем. Он говорит «мы» из вежливости, не уверенный в приверженности настоятеля реформе, но излишняя предупредительность не помешает, а Сэмпсон известен гибкостью взглядов. – А что до колдовства, – Сэмпсон откашливается, – надеюсь, король пошутил? Если будет доказано, что его величество вовлекли в брак с использованием противоестественных способов, разумеется, его согласие не может считаться добровольным, следовательно, аннулирование брачных обязательств – дело решенное. Однако полагаю, его величество выражается фигурально. Как поэт пишет о колдовских чарах, уловках и любовных ухищрениях возлюбленной. О, клянусь мессой! – восклицает настоятель. – И нечего так смотреть на меня, Томас Кромвель! Я предпочел бы не иметь с этим делом ничего общего. Скорее я соглашусь еще раз стакнуться с Гарри Перси, чтобы выбить из него дурь! Или, того хуже, с Мэри Болейн, хотя, должен признаться, даже имени ее я слышать не желаю. Кромвель пожимает плечами. Иногда он вспоминает Мэри: что, если бы тогда он уступил ее настойчивости? В ту ночь в Кале ему ничего не стоило вкусить ее прелестей, впрочем, в ту ночь Мэри Болейн пошла бы с любым мужчиной, способным ублажить женщину. Настоятель мягко прерывает его задумчивость: – Прислушайтесь к моему совету: поговорите с ее отцом. Уилтшир – разумный человек, несколько лет назад мы с ним были послами в Бильбао, и я всегда ценил его здравый смысл. Пусть уговорит дочь уйти без шума. Избавьте всех нас от двадцати лет скорбей.Теперь «монсеньор»: он зовет с собой Ризли вести протокол. Отец Анны прихватил собственный фолиант, братец Джордж – лишь себя любимого. Смотреть на него любо-дорого: сплошные узоры, шнуры, ленты, шевроны и прорези. Сегодня на Джордже белый бархат, в каждой прорези пламенеет алый шелк, напоминая картину, которую он видел в Голландии: святой, с которого живьем сдирают кожу. Кожа с икр топорщится над лодыжками, словно мягкие башмаки, но на лице мученика безмятежность. Он кладет бумаги на стол. – Буду краток. Вы сами все понимаете. До короля дошли сведения, которые, знай он их изначально, воспрепятствовали бы его женитьбе на леди Анне. – Я расспросил графа Нортумберленда, – произносит Джордж. – Он настаивает на том, в чем клялся на Библии. Никакого уговора между ними не было. – Печально. Ума не приложу, что теперь делать. Может быть, вы что-нибудь придумаете, лорд Рочфорд? – Придумаю. Упечь тебя в Тауэр. – Запишите, – велит он Ризли. – Милорд Уилтшир, позвольте напомнить некоторые обстоятельства, о которых ваш сын, возможно, слышит впервые. Однажды покойный кардинал вызвал вас к себе и дал понять, что ваша дочь не пара Гарри Перси, потому что род Перси не чета вашему. А вы сказали, что не отвечаете за поступки Анны и не имеете влияния на своих детей. Судя по лицу Томаса Болейна, можно подумать, его только что осенило. – Так это были вы, Кромвель! Скрипели пером в темноте. – А разве я когда-нибудь отрицал, милорд? Тогда вам не удалось разжалобить кардинала. Я и сам отец семейства, мне ли не знать, как бывает. Вас устраивало, что ваша дочь и Гарри Перси зашли дальше, чем следовало. Стог сена и теплая ночь, как любил повторять кардинал. Вы надеялись, что шашни молодых приведут к законному браку. Болейн ухмыляется: – А затем король дал понять, что положил глаз на мою дочь. – И вы пересмотрели свои взгляды, как на вашем месте поступил бы каждый. Я призываю вас подумать еще. Лучше бы вашей дочери и впрямь быть повенчанной с Гарри Перси. Тогда ее брак с королем будет аннулирован, а его величество сможет искать себе новую жену. Десять лет, пока его дочь кокетничала у трона, Болейн надувал щеки, десять лет, превратившие его в самодовольного богача. Ныне его звезда близка к закату, и он, Кромвель, понимает: отец Анны смирился. Женский век короток, мужчины непостоянны: история стара как мир, никому, даже помазанной королеве, не дано переписать финал. – Что будет с Анной? – спрашивает ее отец, в голосе не различить теплоты. Он предлагает, как раньше Кэрью: – Монастырь? – Я вправе рассчитывать на щедрое содержание. Семье Болейн. – Милорд отец, – вступает в разговор Джордж, – зачем вы торгуетесь с этим человеком? Зачем вы с ним разговариваете? Уилтшир холоден с сыном. – Сэр. Держите себя в руках. Все уже решено. Кромвель, возможно ли, чтобы она сохранила маркизат, а мы, ее семья, остались при своем? – Скорее всего король захочет, чтобы она удалилась от мира. Мы найдем для нее приличный монастырь, где ее веру и убеждения ничто не оскорбит. – Меня от вас тошнит, – говорит Джордж и отходит в сторону от старшего Болейна. – Запишите, что лорда Рочфорда тошнит, – велит он Ризли. Перо послушно скрипит по бумаге. – А как же наши земли? – спрашивает Уилшир. – Наши регалии? Почему я не могу по-прежнему исполнять должность хранителя Малой королевской печати? А мой сын, его привилегии и титулы… – Кромвель задумал вышвырнуть меня вон! – Джордж вскакивает. – Вот в чем дело! Он только и знает, что чинить препятствия моим трудам по защите страны! То пишет в Дувр, то в Сэндвич, его шпионы везде, мои письма переправляют ему, мои приказы отменяют… – Сядьте. – Ризли смеется, отчасти его забавляет собственная храбрость, отчасти – выражение лица Джорджа. – Нет-нет, милорд, если хотите, можете стоять. Теперь Рочфорд не знает, подчиниться или упрямиться до конца. Ему остается подскочить на месте, схватить шляпу и выпалить: – Мне жалко вас, господин секретарь! Если вам удастся избавиться от моей сестры, ваши новые друзья в два счета сотрут вас в порошок. Если Анна и король помирятся, это сделаю я. Куда ни кинь, вы сами себя переиграли, Кромвель. – Я хотел поговорить с вами, милорд Рочфорд, – замечает он мягко, – потому что ваша сестра к вам прислушивается. Я обещаю вам спасение в обмен на содействие. Старший Болейн закрывает глаза. – Я с ней поговорю. Я сам поговорю с Анной. – И с сыном. Ибо я взываю к нему в последний раз. – Меня удивляет, Джордж, – говорит Уилтшир, – почему ты не видишь, откуда все идет. – Что? – взвивается Джордж. – Что? Он продолжает «чтокать», пока отец тянет его к двери. На пороге старший Болейн учтиво кивает: – Господин секретарь. Господин Риотеслей. Они смотрят, как те уходят: сын и отец. – А кстати, – замечает Зовите-Меня, – откуда все идет, сэр? Он перебирает бумаги. – Я помню пьеску, поставленную при дворе вскоре после кончины кардинала, – продолжает Ризли. – Помню шута Секстона, переодетого в пурпурную мантию, и чертей, которые тащили его в преисподнюю, схватив за руки за ноги. Черти были в масках. Вероятно, Джордж… – За правую руку, – говорит он. – Вот как, – отзывается Ризли. – Я зашел за кулисы и наблюдал, как они стягивали мохнатые шкуры, как лорд Рочфорд снял маску. Пошли бы со мной, сами бы все увидели. – Нет уж, увольте, – улыбается Ризли. – Чего доброго, перепутали бы меня с актерами, и я бы потом не отмылся. Он помнит смрад и зловоние, цвет рыцарства в роли охотничьих псов, жаждущих крови, двор, встретивший появление кардинала шиканьем и свистом. Помнит голос, раздавшийся среди толпы: «Позор!» – Это, случайно, не вы крикнули? – спрашивает он Ризли. – Не я. – Зовите-Меня не лжет. – Может быть, Томас Уайетт? – Да, Уайетт. Много лет я думаю об этом. Зовите-Меня, я должен увидеться с королем. Но прежде не выпить ли нам вина? Мастер Ризли вскакивает, отправляется на поиски слуги. Свет отражается от горлышка оловянного кувшина, гасконское плещется в кубках. – Я отдал Фрэнсису Брайану лицензию на ввоз французских вин, – говорит он. – Три месяца прошло. Ни чутья, ни вкуса. Не знал, что он перепродает вино в королевские погреба.
Он идет прямо к Генриху, расталкивая стражников, слуг, придворных. Входит, не дожидаясь, когда о нем доложат, и Генрих испуганно поднимает глаза от нот. – Томас Болейн оказался сговорчив. Больше всего на свете он боится утратить ваше расположение. Однако его сын упорствует. – Почему? – Возможно, потому что дурак. Надеется, что ваше величество передумает. Генрих уязвлен: – Ему следовало бы знать меня лучше. Джордж при дворе с десяти лет. Я никогда не передумываю. Так и есть. Словно краб, король движется к цели бочком, исподволь, и только потом вонзает клешни. Теперь Генрих нацелил их на Джейн Сеймур. – Хотите знать, что я думаю о Рочфорде? – спрашивает король. – Сейчас ему года тридцать два, но он до сих пор – всего лишь сын Уилтшира и брат королевы. Он так и не остепенился, не родил наследника, даже дочери. Я сделал для него все, что мог. Сколько раз я посылал его за границу представлять меня. Теперь этому придет конец – когда он перестанет быть моим шурином, никто не захочет иметь с ним дело. Впрочем, бедность Джорджу не грозит. И я мог бы и в дальнейшем оказывать ему поддержку. Конечно, если он покорится моей воле. Должен ли я сам с ним поговорить? Генрих раздражен. Не его дело – улаживать. Для этого есть Кромвель. Спровадить Болейнов – приблизить Сеймуров. А король станет молиться за успех кампании и писать любовные песенки Джейн. – Подождем немного, сир. Дня через два я поговорю с ним наедине, без отца. Думаю, присутствие лорда Уилтшира заставляет его хорохориться. – Я редко ошибаюсь, – говорит Генрих. – Тщеславие, от него все беды. А теперь послушайте. Король напевает:
– Честно говоря, господин секретарь, – произносит Мэри Шелтон, – я пришла бы и без приглашения. Ее рука дрожит. Она делает глоток, пристально всматривается в вино на дне кубка, словно гадает, затем поднимает глаза с поволокой. – Не хотела бы я снова пережить такой денек! Нэн Кобэм хочет с вами поговорить. А еще Марджори Хорсмэн. Все фрейлины королевы. – Вы что-то знаете? Или просто хотите поплакаться? Размазать чернила на моих бумагах? Мэри опускает кубок и протягивает руки, словно ребенок: смотри, чистые. Он тронут. – Попробуем разобраться? – спрашивает он мягко. Весь день в покоях королевы крики, грохот дверей, топот ног: разговоры вполголоса, с оглядкой. – Я готова жить где угодно, только не при дворе, – говорит Шелтон, убирая руки. – Выйти замуж. Разве я хочу многого: выйти замуж и рожать детей, пока молода? – Грех вам жаловаться. Я думал, вы собираетесь за Гарри Норриса. – Я тоже так думала. – До меня доходили слухи о вашей ссоре, но ведь с тех пор прошел год? – Леди Рочфорд вам рассказала. Не слушайте ее, она все придумывает. Впрочем, это правда, я поссорилась с Гарри, или он со мной. А все из-за молодого Уэстона, который повадился торчать в покоях королевы. Гарри решил, что тот имеет на меня виды. Я тоже так думала, но, клянусь, я его не завлекала! – Мэри, именно это вы и делали, – смеется он. – Вы обречены завлекать мужчин даже против воли. – А Гарри Норрис возьми да и скажи: сейчас как врежу этому сосунку между ребер, чтобы знал, – хотя Гарри не из тех, кто лезет в драку. А королева, моя кузина, говорит: только не в моих покоях. Тогда Гарри сказал: с разрешения вашего величества я выволоку его во двор и там поколочу. Мэри не в силах удержаться от жалкого смешка. – Они обсуждали его, будто его там не было, а Фрэнсис стоял и слушал, а потом и говорит: хотел бы я посмотреть, как ты меня поколотишь, Норрис, в твои-то преклонные годы, ты и на ногах-то держишься с трудом… – Мистрис, нельзя ли покороче? – И так они пререкались, и пихались, и бранились битый час, а миледи королева только знай их подначивать. А потом Уэстон и говорит: уймись, Добрый Норрис, я здесь из-за другой, и ты прекрасно знаешь, из-за кого. Нет-нет, я не знаю, говорит Анна, скажите нам. Леди Вустер? Или леди Рочфорд? Не таитесь, Фрэнсис, признайтесь, кто дама вашего сердца. А он говорит: это вы, мадам. – И что ответила королева? – О, она разгневалась, налетела на него, велела никогда больше так не говорить, а то ее брату Джорджу придется поколотить его ради чести королевы Англии. А еще она все время смеялась. Потом Гарри Норрис стал пререкаться со мной из-за Уэстона, а Уэстон с ним из-за королевы. И оба они спорили с Уильямом Брертоном. – А этот откуда взялся? – Он как раз вошел… – Мэри хмурится. – Кажется, это было в тот раз… или в другой, не важно. И королева сказала: вот мужчина для меня, Уилл вам не чета, он не станет кривить душой. Но она мучила и дразнила их всех. Анну не разберешь: то читает вслух мастера Тиндейла, то открывает рот, а оттуда торчит дьявольский хвост. С тех пор, если верить Шелтон, проходит год. Гарри Норрис и мистрис Шелтон мирятся, и Гарри смиренно приползает в ее постель. Все возвращается на круги своя до сегодняшнего дня. Двадцать девятого апреля. – Началось все с Марка, – рассказывает Мэри Шелтон. – Этот Марк вечно слоняется рядом с опочивальней. А она, проходя мимо, то засмеется, то потянет его за рукав, то толкнет под локоть, а однажды выдернула перо у него из шляпы. – Первый раз слышу о таких любовных играх, – замечает он. – Должно быть, они в обычае у французов? – А сегодня утром она говорит, только посмотрите на этого щеночка. Взъерошила ему волосы, потянула за уши – у дурачка от удивления глаза на лоб полезли. Почему ты такой грустный, Марк, твое дело веселить нас, а не грустить. Он хотел упасть на колени, но она не позволила. Ради Святой Девы, стой на месте, я оказала тебе честь, почтив своим вниманием, а ты решил, что я удостою тебя разговором, словно ты джентльмен, а не простолюдин. Нет, нет, мадам, говорит Марк, я не смею надеяться на ваше доброе слово, мне достаточно взгляда. И она замолчала, ждет, когда он начнет восторгаться ее взглядом, говорить, что ее глаза, словно магниты, и прочее в том же духе. А он просто разрыдался, сказал: «Прощайте», и убежал, а она знай себе смеется. Потом мы вошли в опочивальню. – Нельзя ли покороче? – Анна спросила: неужто он вообразил, будто я одна из этих… которые в Пэрис-гарден, ну, этих… – Я слыхал про Пэрис-гарден. Она вспыхивает: – Да-да, конечно. В опочивальне леди Рочфорд сказала: этого Марка надо вышвырнуть из окна, как вашу собаку Пуркуа. Тогда королева заплакала и ударила леди Рочфорд, а та ей говорит: следующий раз я дам сдачи, вы не королева, а просто дочь рыцаря, господин секретарь Кромвель найдет на вас управу, кончилась ваша власть, мадам. – Леди Рочфорд болтает лишнее, – говорит он. – Потом вошел Гарри Норрис. – А я все думаю, куда он запропастился. – Вошел и спрашивает: что за шум? Анна говорит: окажите мне любезность, утопите мою невестку, тогда брат найдет жену посвежее, от которой будет больше проку. Гарри Норрис так и остолбенел. А Анна все не угомонится, говорит: разве вы не клялись, что сделаете все, о чем я ни попрошу? Что ради меня готовы дойти босиком до Китая? А Гарри – вы же знаете, ему только дай повалять дурака – отвечает: не до Китая, а всего лишь до Уолсингема. Раз уж вы решили совершить паломничество, говорит Анна, то заодно покайтесь в грехах, покайтесь, что заритесь на вдову, если с королем случится что-нибудь нехорошее. Он хочет записать слова Шелтон, но не смеет шевельнуться, боится, что она замолчит. – Затем королева оборачивается ко мне и говорит: теперь вы понимаете, мистрис Шелтон, почему он на вас не женится? Он любит меня, в чем клялся неоднократно, а как дошло до дела, отказывается засунуть в мешок леди Рочфорд и зашвырнуть в реку. Тут леди Рочфорд выбежала из опочивальни. – Ее нетрудно понять. Мэри поднимает глаза: – Вы смеетесь, а мне было не до смеха. Я думала, они шутят насчет Гарри Норриса, а оказалось, нет. Клянусь, он стал белый как полотно и спрашивает: вы решили выболтать все ваши секреты или только некоторые? А потом вышел и даже не поклонился, а она бросилась за ним. Не знаю, что она ему сказала, потому что мы словно вросли в пол. Выболтать секреты. Все или некоторые. – Кто слышал ее слова? Она трясет головой: – Человек десять. Не могли же мы заткнуть уши! А потом королева впала в ярость. – Она сказала, нужно вернуть Гарри, позвать священника, и что Гарри должен засвидетельствовать ее целомудрие и верность. Сказала, что они оба должны взять свои слова обратно и присягнуть на Библии, и тогда все поймут, что их речи – пустой вздор. Она испугалась, что леди Рочфорд пойдет к королю. – Джейн Рочфорд любит разносить злые вести, но не эту. Не мужу. Она не посмеет сказать королю, что старый друг и верная жена обсуждали, как будут утешать друг друга после его смерти. Это измена. Возможно. Думать о смерти короля. Закон признает: путь от мечты до замысла, от замысла до деяния недолог. Мы называем это «помышлением»: мысль производит на свет деяние, деяние рождается безобразным и недоношенным. Мэри Шелтон не сознает, чему стала свидетельницей. Она решила, что наблюдает ссору любовников, еще один эпизод в долгой истории ее сердечных неудач. – Теперь я сомневаюсь, – произносит она вяло, – что Гарри Норрис на мне женится или станет и дальше притворяться, будто впрямь собирался. Спроси вы меня неделю назад, не благоволит ли к нему королева, я ответила бы «нет», но теперь, когда я смотрю на них, мне становятся понятны слова, взгляды и, кто знает, возможно, не только взгляды? Я… я думаю… не знаю, что и думать. – Хотите, я женюсь на вас, Мэри? – спрашивает он. Она нехотя смеется: – Нет, господин секретарь. Вы вечно обещаете жениться то на одной, то на другой, но всем известно, что вы мните себя великим призом. – А, вот мы и вернулись в Пэрис-гарден. – Он пожимает плечами, улыбается, но ему уже не терпится отделаться от Мэри Шелтон. – Запомните: никому ни слова. Теперь вам и остальным фрейлинам следует подумать о том, как себя защитить. Мэри не сдается: – Я не хотела ничего плохого. Если королю расскажут, он ведь разберется? Может быть, решит, что все это пустые слова? Я не поручусь, что знаю наверняка. Да и кому ведомо, что между ними было? Я не присягну, что знаю… Присягнешь и скоро, думает он. – Понимаете, ведь Анна – моя кузина. – Мэри замолкает. – Я ей многим обязана, она столько для меня сделала… Например, подтолкнула в королевские объятия, когда сама была на сносях, усмехается он про себя: нельзя отпускать Генриха из семьи. – Что ее ждет? – Мэри смотрит ему прямо в глаза. – Он бросит ее? Так все говорят, но Анна не верит. – Ей не следует быть такой самонадеянной. – Она говорит: я знаю, как вернуть его. Сами видите, до сих пор у нее получалось. Но как бы ни сложилось с Гарри Норрисом, я все равно от нее уйду. Анна, не моргнув глазом, отнимет его у меня, если уже не отняла. Негоже благородной женщине позволять так с собой обращаться. Леди Рочфорд тоже не останется. Джейн Сеймур убрали, потому что… не моего это ума дело. А леди Вустер на лето уедет в поместье, ей скоро рожать. Он наблюдает, как бегают ее глаза, прикидывая, просчитывая. Больше всего Мэри заботит, чтобы покои королевы не опустели. – Ничего, в Англии хватит благородных девиц. Она начнет все сначала, да, все сначала. Леди Лайл пришлет своих дочерей из Кале, от первого брака. Они пригожие девицы, и, если их обучить, из них выйдут хорошие фрейлины. Похоже, Анна Болейн и впрямь их околдовала: мужчин, женщин. Они не видят того, что происходит вокруг, не слышат того, что говорят. Они погрязли в собственной тупости. – Напишите Хонор Лайл, – велит ему Мэри с превосходной самонадеянностью. – Если вы пристроите ее дочерей ко двору, она вечно будет у вас в долгу. – А как же вы? Что станется с вами? – За меня не беспокойтесь. Мэри не умеет долго отчаиваться. Именно это привлекает к ней поклонников. Придут новые времена, новые мужчины, новые порядки. Она вскакивает, чмокает его в щеку. Вечер субботы.
Воскресенье. – Где ж вы были утром? – Леди Рочфорд распирает от нетерпения. – На это стоило посмотреть! Король и Анна стояли у большого окна, и весь двор глазел на них снизу. Король знает о ссоре с Норрисом, да что там, теперь о ней знает вся Англия! Видели бы вы короля – весь пунцовый. А она стояла, прижав к груди руки, вот так… – Леди Рочфорд показывает. – Словно Эсфирь на большой королевской шпалере. Он видит перед собой картину: шерстяные придворные вьются вокруг расстроенной госпожи. Одна из служанок как ни в чем не бывало спешит в царицыны покои с лютней в руках, прочие шепчутся по углам: женщины задрали лица, мужчины склонили головы. Напрасно он ищет себя между разряженных придворных в пышных шляпах. Вероятно, он где-то в другом месте, что-то распутывает: обрывки нитей, упрямые узелки. – Эсфирь, – поизносит он. – Понятно. – Анна послала за принцессой, – продолжает леди Рочфорд, – вырвала ее из рук кормилицы и подняла вверх, словно отвечая королю: «Муж мой, неужели ты сомневаешься, что она твоя?» – Вы можете только предполагать, каков был его вопрос. Вряд ли вы разобрали слова. Он слышит собственный голос и удивляется его холоду. – Там, где я стояла, было не слышно. Но все равно ей несдобровать! – И вы не бросились ее утешать? Разве она не ваша госпожа? – Нет, я побежала искать вас. Леди Рочфорд берет себя в руки и говорит очень серьезно: – Мы, ее фрейлины, желаем себя обелить. Мы думаем, королева не честна, и боимся, что нас обвинят в попустительстве. – Летом, не прошлым, два года назад, вы сказали мне, что королева одержима мыслью о ребенке и боится, что король не способен подарить ей дитя. Сказали, что он не удовлетворяет ее. Вы готовы повторить свои слова? – Странно, что тогда вы за мной не записали. – Разговор был длинным, и, при всем уважении, миледи, вы изъяснялись намеками. Мне нужно знать, что вы скажете, когда вас приведут к присяге. – А кого будут судить? – Именно это я надеюсь выяснить. С вашей помощью. Он слушает себя словно со стороны. С вашей помощью. Вас никто не обвиняет. За исключением его величества. – Про Норриса и Уэстона вы знаете, – говорит она. – Они сами признались в любви к ней. Так вот, они не единственные. – Возможно, прочие лишь проявляли галантность? – Шныряя вокруг по ночам? С лодки на лодку. В калитку при свете факелов, подкупая привратников. Это продолжается больше двух лет. Они появляются в самых неожиданных местах. Чтобы вывести их на чистую воду, нужно постараться. – Она замолкает, хочет убедиться, что он внимательно слушает. – Допустим, двор в Гринвиче. Некий джентльмен состоит при короле, его поручение исполнено, он может убираться восвояси, а ты возвращаешься к королеве и застаешь его в темном углу. Что он здесь забыл? Норрис, вы ли это? Сколько раз я думала, кто-то из них в Вестминстере, а он оказывался в Ричмонде. Или в Гринвиче, когда должен быть в Хэмптон-корте. – Если они делили обязанности, это еще не повод их подозревать. – Я не об этом, господин секретарь. Дело не во времени – в месте. Галерея рядом с покоями королевы, ее передняя, ее порог, садовые ступени, калитка, которую забыли запереть. – Джейн наклоняется и касается кончиками пальцев его руки, лежащей поверх бумаг. – Они приходили и уходили среди ночи, а если попадались кому-нибудь на глаза, говорили, что у них тайное послание от короля. Он кивает. Одна из обязанностей джентльменов, состоящих при короле, – передавать устные послания сановникам, иностранным послам и, разумеется, королеве. Их не принято расспрашивать – они не обязаны ни перед кем отчитываться. Леди Рочфорд откидывается назад и мягко замечает: – Прежде чем они поженились, она занималась этим с Генрихом на французский манер. Вы понимаете, о чем я? – Понятия не имею. Вы бывали во Франции? – Нет, я думала, вы бывали. – На войне. Между солдатами ars amatoria не в ходу. Она пристально разглядывает его, суровея лицом. – Вы хотите опозорить меня, заставив произнести то, что мне придется произнести, но я не юная девственница, мне терять нечего. Она понуждала Генриха изливать свое семя не туда, куда следует. И теперь он не может простить ей. – Упущенные возможности, понимаю. Семя, излитое королем в иные отверстия тела или в глотку. Вместо того чтобы отыметь королеву на честный английский манер. – Король считает это мерзостью. Но Генрих, чистая душа, храни его Господь, не ведает об иных мерзостях. Мой муженек Джордж не отходит от Анны. Впрочем, я уже вам рассказывала. – Они родственники, в этом нет ничего противоестественного. – По-вашему, ничего? – Миледи, я понимаю, вы хотели бы считать братскую любовь, а равно и супружескую холодность преступлением, но мне нечем вас утешить – перед законом они чисты. – Он медлит. – Поверьте, я исполнен сочувствия к вашим бедам. Ибо что остается женщине вроде Джейн Рочфорд, если все на свете против нее? Вдове со средствами легко жить своим умом, жене торговца – усердно управлять мужниным делом, откладывая золото про запас. Простая горожанка, которую побивает благоверный, может подговорить крепких дружков, чтобы те стучали в сковороды у нее под дверью среди ночи, пока небритый муженек не выскочит на улицу в одной рубахе, которую они не преминут задрать, чтобы осмеять его жалкий уд. Но молодой благородной женщине негде искать защиты. Власти у нее не больше, чем у бессловесной ослицы, одна надежда, что хозяин не слишком часто станет пускать в ход хворостину. – Ваш отец, лорд Морли, ученый человек, весьма мной почитаемый. Вы не пробовали обратиться к нему? – Зачем? – В голосе леди Рочфорд сквозит презрение. – Когда мы поженились, он сказал, что сделал для меня все, что мог. Все отцы таковы. Он отдал меня за Болейна, как сбыл бы с рук борзого щенка. Теплая конура и миска с объедками – что еще нужно? Вы же не спрашиваете скотину о ее желаниях. – Вы никогда не думали, что ваш брак можно расторгнуть? – Нет, господин Кромвель. Мой отец все предусмотрел, вам ли не знать, вы же числите себя его другом. Никаких обручений, никаких помолвок. Даже вам с Кранмером не удалось бы признать наш брак недействительным. В день свадьбы Джордж сказал мне прямо за столом: я делаю это только потому, что мне велел отец. Самые подходящие слова для двадцатилетней девушки, грезящей о любви. Я не смолчала и ответила ему в таком духе, что, если бы отец меня не заставил, я бы к вам близко не подошла, сэр. А когда потушили огни, нас уложили в постель. Он протянул руку и принялся теребить мою грудь, приговаривая, что видал и получше, а повидал он немало. А потом велел мне лечь и раздвинуть ноги. Исполним наш долг, сказал он, подарим моему отцу внука, и если родится сын, будем жить порознь. А я ответила: делай что хочешь, если сумеешь, даст Бог, семена попадут в рыхлую почву и приживутся, а потом забирай свою мотыгу и чтобы я больше ее не видела. – Она хихикает. – Но вы же знаете, я бесплодна. Или они хотят, чтобы я так думала. А может быть, у моего мужа дурное или негодное семя? Видит Бог, где только Джордж его не оставляет. О, он ведь евангелист, святой Матфей направляет его, святой Лука защищает. На свете нет более праведного человека, чем Джордж, единственное, чего Господь не предусмотрел, это снабдил человеков слишком малым количеством отверстий. Если Джордж встретит женщину, у которой манда под мышкой, то возблагодарит Создателя, подыщет для нее дом и станет наведываться к ней каждый день, пока ему не прискучит. Для Джорджа нет ничего святого. Он не постесняется покрыть суку терьера, если та вильнет хвостом и скажет: «гав-гав». Он теряет дар речи. Теперь ему никогда не отделаться от навязчивой картины: Джордж, отважно совокупляющийся с терьерихой. – Я боюсь, что он заразил меня чем-то нехорошим, поэтому я не могу понести дитя. Что-то разрушает меня изнутри и когда-нибудь сведет в могилу. Когда-то леди Рочфорд просила его вскрыть тело, если она умрет внезапно. Тогда она боялась, что муж отравит ее, нынче уверена, что давно отравил. Вам пришлось несладко, миледи, тихо говорит он. – Однако какой в этом прок? Если Джордж знает о королеве то, что стоит узнать королю, я вызову его свидетелем, но сомневаюсь, что он откроет рот. Брат не станет свидетельствовать против сестры. – Я не об этом, – отзывается леди Рочфорд. – Я утверждаю, что он бывает в ее спальне, с ней наедине, когда двери заперты. – Они беседуют? – Я стояла под дверью, но голосов не слышала. – Возможно, молятся? – Я видела, как они целовались. – Брату и сестре целоваться не возбраняется. – Но не так! Он берется за перо. – Леди Рочфорд, я не могу записать: «Он целует ее не так». – Его язык был у нее во рту, а ее язык – во рту у него. – Вы хотите, чтобы я это записал? – Вы не доверяете собственной памяти? Если подобное всплывет на суде, думает он, в городе начнутся волнения – все равно что сказать в парламенте, что епископы совокупляются прямо на своих скамьях. Он ждет, перо медлит над бумагой. – Что заставило королеву пойти против природы? – Так легче править, неужели не понимаете? Ей повезло с Елизаветой, девочка похожа на нее. Вообразите, если бы родился мальчик с лицом, вытянутым, как у Уэстона? Или как две капли воды похожий на Уилла Брертона? Что сказал бы король? Однако никто не осмелится назвать ребенка незаконнорожденным, если он похож на Болейнов. Еще и Брертон. Он делает пометку, вспоминает, как однажды Брертон зло пошутил, что он, Кромвель, бывает одновременно в двух местах. Пришла моя очередь смеяться. – Чему вы улыбаетесь? – спрашивает леди Рочфорд. – Я слышал, любовники королевы позволяли себе рассуждать в ее покоях о смерти короля. Джордж был среди них? – Если бы Генрих услышал, как они смеются над его мужскими достоинствами, он бы этого не вынес. – А теперь хорошенько подумайте о последствиях. Если вы дадите показания против мужа в суде или в совете, от вас многие отвернутся. Можно подумать, сейчас я окружена друзьями, читается на лице леди Рочфорд. – Мне не в чем себя упрекнуть, – говорит она вслух. – Вся ответственность – на вас, господин секретарь. Я не самая умная, не самая проницательная женщина, а вы – это вы, вы умеете проворачивать дела и не упустите своего. Все решат, что вы заставили меня признаться. Осталось сказать немногое. – Чтобы все и дальше так думали, вам придется скрывать свои истинные намерения и на людях изображать печаль. А когда Джорджа заключат под стражу, обратитесь к королю с прошением о помиловании. – Непременно. – Джейн Рочфорд высовывает язычок, словно хочет ощутить сладость мгновения на вкус. – Мне ничего не грозит, король не откликнется. – Прислушайтесь к моему совету: ни с кем не говорите. – Прислушайтесь к моему: поговорите с Марком Смитоном. – Я собираюсь в Стипни. Приглашу Марка на ужин. – Почему бы вам не принять его прямо здесь? – Здесь сегодня и так хватает суеты, не находите? – Суеты? Пожалуй. Он смотрит ей вслед. Не успевает дверь за леди Рочфорд закрыться, как в комнате оказываются Рейф и Зовите-Меня. Бледные, сосредоточенные, спокойные: значит, не подслушивали, отмечает он про себя. – Король повелел начать расследование, – объявляет Ризли. – Проявляя благоразумие, но не затягивать. После ссоры в спальне королевы пошли толки, и он вынужден прислушаться. Не подпускает к себе Норриса. – Эти джентльмены из королевской опочивальни, они думали, им все сойдет с рук, – подхватывает Рейф. – Говорят, королева спокойна. Завтрашний турнир никто не отменял. – Знаешь что, Рейф, – говорит он, – сходи к Ричарду Сэмпсону, скажи, что, entre nous, дело приняло новый оборот. Возможно, нам не придется доказывать, что брак короля с Анной не имеет законной силы. Теперь королева не в том положении, чтобы торговаться. Козырей у нее не осталось. Думаю, Генри Норрису несдобровать. Уэстону. Ах да, еще Брертону. Рейф поднимает брови. – Королева с ним едва знакома. – Кажется, он завел дурную привычку входить в неподходящее время. – Вы так спокойны, сэр, – говорит Зовите-Меня. – Учитесь. – Что сказала леди Рочфорд? Он хмурится. – Прежде чем отправишься к Сэмпсону, Рейф, присядь во главе стола. Вообрази себя королевским советом на тайном заседании. – Целиком, сэр? – Норфолк, Фицуильям и остальные. Теперь вы, Ризли. Вы – фрейлина королевы. Не смущайтесь. Поклонитесь, благодарю вас. Я буду пажом, который подаст вам табурет. И подушку. Присаживайтесь и улыбнитесь советникам короля. – Как скажете. – Поначалу Рейф колеблется, но вскоре игра захватывает его, юноша наклоняется, игриво треплет Ризли по щеке. – С чем вы пришли к нам, благородная госпожа? Поведайте, что скрывают эти алые уста. – Прекрасная дама утверждает, – говорит он, Кромвель, сопровождая свои слова взмахом руки, – что королева поступает опрометчиво и предосудительно. Поведение Анны заставляет подозревать ее в порочных наклонностях, пусть даже свидетелей ее проступков нет. Рейф хмыкает: – Возникает вопрос, мадам, почему вы молчали до сих пор? – Порочить королеву – измена. – Язык у мастера Ризли подвешен хорошо, поток девичьих откровений льется легко и свободно. – Мы были вынуждены покрывать ее. Что нам оставалось? Лишь взывать к ее чести, убеждая оставить неправедный путь. Она запугала нас, ревновала к каждому кавалеру, угрожая бесчестьем любой, кто выказал слабость и оступился – не важно, почтенной матроне или юной девушке, возьмите хоть Элизабет Вустер. – В конце концов вы не выдержали и решили во всем признаться? – спрашивает Рейф. – А теперь ударьтесь в слезы, Ризли, – подсказывает он. – Считайте, дело сделано. – Зовите-Меня прячет лицо в ладонях. – Вот так спектакль, – вздыхает он. – Хотел бы я сбросить личину и оказаться дома. Шон Мадок, лодочник в Виндзоре: «Она балуется с братом». Терстон, его повар: «Они стоят у двери в рядок, наяривают свое добро». Он вспоминает слова Томаса Уайетта: «У Анны такая тактика, она говорит: да, да, да, а потом сразу – нет… А хуже всего ее намеки, почти похвальба, что она говорит “нет” мне и “да” другим». Сколько у Анны было любовников? «Десять? Ни одного? Сто?» Он, Кромвель, считал Анну ледышкой, женщиной, которая выставила свою девственность на продажу и получила за нее самую высокую цену. Однако такой она была до замужества. До того как Генрих взгромоздился сверху, потом слез с нее и удалился в свои покои: тени свечей пляшут на потолке, шепот фрейлин, таз с теплой водой, кусок ткани. Она подмывается, в ушах голос леди Рочфорд: – Осторожно, мадам, не вымойте принца Уэльского. И снова темнота, простыни пропахли мужским потом, бестолковая служанка сопит и ворочается на тюфяке: Анна один на один с дворцовыми и речными шорохами. Она говорит, никто не отвечает, только девчонка бормочет во сне; молится, и снова нет ответа; она поворачивается на бок, оглаживает бедра, касается грудей. А если однажды, да, да, да, да? Любому, кто окажется под рукой, когда лопнет нить ее добродетели? Пусть даже собственному брату? – Я услышал сегодня такое, чего не чаял услышать в христианской стране, – говорит он Рейфу, Зовите-Меня. Двое молодых джентльменов ждут, не сводят глаз с его лица. – Я все еще в роли дамы или могу сесть и взять перо? – спрашивает Ризли. Что мы делаем, думает он, тут, в Англии. Посылаем сыновей в чужие дома, и нередко брат с сестрой вырастают, не зная друг друга, а повзрослев, встречаются, словно в первый раз. Обворожительный незнакомец, зеркальное отражение тебя. Ты влюбляешься: на вечер, на час, а после обращаешь все в шутку, но чувства никуда не делись. Эти чувства заставляют мужчин быть мягче с женщинами, которые от них зависят. Но если пойти дальше, посягнуть на запретную плоть, шагнуть через пропасть, разделяющую мысль и действие? Священники говорят, что от искушения до греха рукой подать, только это неправда. Вот ты целуешь девичью щеку, а вот уже кусаешь прелестницу в шею? Называешь ее милой сестричкой, а после разворачиваешь и задираешь юбки? Так не бывает. Тебе придется пройти через эти комнаты, расстегнуть эти крючки. Ты не лунатик. Нельзя прелюбодействовать, не ведая, что творишь. Тебе придется взглянуть на ту, с кем согрешил. Ибо она не прячет лица. Впрочем, возможно, леди Рочфорд лжет. С нее станется. – Меня непросто смутить, – говорит он, – но сейчас я в затруднении, ибо мне приходится иметь дело с предметами, о коих я не решаюсь рассуждать вслух. Я могу говорить о них лишь намеками, однако намеки не годятся для обвинительного заключения. Я похож на шарлатана, который показывает уродцев на ярмарках. Подвыпившие крестьяне вечно недовольны тем, что им подсовывают за их кровные денежки. Находятся и те, кто выражает неодобрение вслух: – Да разве ж это уродец? Особливо супротив моей тещи. Их сторонники в толпе одобрительно хлопают смельчаков по плечу и фыркают. Тише-тише, земляки, успокаиваете вы особо рьяных, это вам для затравки. Еще одно пенни – и я покажу то, что храню в дальнем углу балагана. От этого зрелища содрогнутся самые стойкие! Сами увидите, нечистый потрудился на славу. Они смотрят, блюют на собственные башмаки. А ты пересчитываешь монеты и запираешь их в сундук.
Марк в Стипни. – Он принес инструмент, – говорит Ричард. – Лютню. – Скажи, пусть уберет. Если Марк и был весел, то теперь погрустнел и смотрит с подозрением. – Я думал, сэр, меня позвали развлечь вас, – говорит с порога. – Так и есть. – Решил, соберется большое общество. – Вы знакомы с моим племянником, мастером Ричардом Кромвелем? – В любом случае я с радостью для вас сыграю. Может быть, вы хотите, чтобы я послушал ваших детей-певчих? – Не сегодня. В сложившихся обстоятельствах, боюсь, вы их перехвалите. Лучше присядьте и выпейте с нами вина. – С вашей стороны было бы истинным благодеянием порекомендовать нам хорошего музыканта, умеющего играть на ребеке, – говорит Ричард. – Наш вечно пропадает в Фарнеме, где осталась его семья. – Бедный мальчик тоскует по дому, – произносит он по-фламандски. – Не знал, что вы говорите на моем языке. – Марк удивленно поднимает глаза. – Охотно верю. Иначе были бы осмотрительнее, рассуждая обо мне вслух. – Уверяю вас, сэр, я не имел в виду ничего дурного. Марк забыл слова, но, судя по лицу, помнит, что в выражениях не стеснялся. – Вы предсказали, что меня повесят. – Он разводит руками. – Как видите, я жив, здоров, но пребываю в затруднении. И, несмотря на вашу нелюбовь ко мне, мне больше не к кому обратиться. Я прошу вас о милости. Марк сидит, спина прямая, губы слегка разжаты, носок одного башмака смотрит на дверь, – больше всего на свете юноша хотел бы оказаться подальше отсюда. – Видите ли, Марк, – он складывает ладони, словно перед статуей святого, – ни для кого не тайна, что мой господин король и моя госпожа королева в ссоре. И все, чего я хочу, – помирить их ради блага королевства. Надо отдать ему должное: мальчишка не робкого десятка. – А при дворе ходят слухи, что вы сблизились с врагами королевы, господин секретарь. – Для того лишь, чтобы проникнуть в их замыслы. – Верится с трудом. Ричард ерзает на стуле. – Настали тяжелые времена, – продолжает он. – С тех пор как закатилась звезда кардинала, не припомню такой напасти. Я не в обиде, Марк, что вы мне не доверяете – нынче доверие не в чести. Я обращаюсь к вам потому, что вы близки к королеве, а другие джентльмены не станут мне помогать. Я могу щедро вознаградить вас, если вы намекнете, что тревожит королеву. Поняв, в чем причина ее страданий, я сумею их исцелить. Пока душа королевы неспокойна, едва ли она произведет на свет наследника. А если это случится, ах, тогда наши слезы высохнут. Марк поднимает глаза. – Стоит ли удивляться, что она страдает? – произносит юноша. – Королева влюблена. – В кого? – В меня. Он, Кромвель, подается вперед, ставит локти на стол, прячет лицо в ладонях. – Вы сражены, – предполагает Марк. «Если бы только это! Я думал, придется попотеть, но все оказалось куда проще. Все равно что срывать цветы на поляне». Он опускает руки и широко улыбается: – Вовсе нет. Ибо я наблюдал за вами, подмечал ее жесты, взгляды, иные проявления благосклонности. Если королева вела себя так на людях, то что позволяла себе наедине? Полагаю, женщины от вас без ума. Вы очень привлекательный юноша. – Честно говоря, мы считали вас содомитом, – вставляет Ричард. – Что еще за выдумки, сэр! – Марк заливается краской. – Я умею все, что умеет любой мужчина! – Выходит, королеве пришлись по душе ваши умения? – спрашивает он с улыбкой. – Она испытала вас в деле и сочла достойным своей милости? Взгляд юноши скользит, словно шелковая материя по стеклу. – Не стану я это обсуждать. – Разумеется. Но что мешает нам сделать собственные выводы? Королева – женщина опытная и вряд ли соблазнится неумехой. – Мы, простолюдины, – говорит Марк, – кой в чем не уступаем благородным господам. – Неудивительно, что благородные господа предпочитают скрывать от дам эту истину. – Иначе, – подхватывает Ричард, – все герцогини только и резвились бы в лесу с дровосеками. Он не может удержаться от смеха. – Вот только герцогинь на свете изрядно меньше, чем дровосеков. Пришлось бы устроить состязание. Марк смотрит на него, словно он изрек некую священную тайну. – Хотите сказать, у королевы были еще любовники? Я никогда ее не спрашивал, я бы не посмел, но я знаю, они ревновали ко мне. – Возможно, старые любовники ей опостылели? А Марк тут как тут. – Со знаменитой кромвелиевской прямотой Ричард спрашивает: – Сколько раз? – Должно быть, удобный случай представляется редко, – вставляет он. – Даже если фрейлины в сговоре. – Фрейлины меня не любят, – говорит Марк. – Они станут отрицать мои слова. Им по душе Уэстон, Норрис, прочие господа. Я для них – пустое место, они гладят меня по голове и называют мальчиком на побегушках. – Королева – ваш единственный друг, – говорит он, – зато какой! – Он делает паузу. – А теперь вы должны перечислить остальных. До сих пор вы назвали двоих. Марк поднимает глаза, потрясенный тем, как изменился его тон. – Ну же, перечислите всех. И отвечайте мастеру Ричарду. Сколько раз? Под его взглядом Марк каменеет. Что ж, во всяком случае, у мальчишки был звездный час: удивить господина секретаря под силу немногим, по крайней мере из живых. Он ждет. – Возможно, вы правы, не доверяя словам. Хотите изложить ваше признание на бумаге? Должен сказать, Марк, мои клерки будут потрясены не меньше меня, наверняка даже наставят клякс. Думаю, ваши успехи поразят и королевский совет. Многие благородные господа будут вам завидовать. Едва ли вы дождетесь от них жалости. «Смитон, открой нам свой секрет!» – велят они, а вы зардеетесь и промямлите: ах, джентльмены, я не осмелюсь. Но вы осмелитесь, Марк, потому что вас заставят. Вы выложите все, сами или по принуждению. Он отворачивается от Марка. Юношу бьет дрожь: пять минут похвальбы в одной бессмысленной жизни и, словно раздраженные торговцы, боги выставляют счет. До сих пор Марк жил в мире грез. В нем прекрасная принцесса однажды слышит звуки неземной красоты, выглядывает из окна замка и видит в лунном свете скромного музыканта с лютней. Впрочем, если под личиной музыканта не скрывается принц, историю ждет печальный финал. Мечта разбита, дверь открывается, вокруг хмурые лица – Стипни, теплые сумерки в начале весны, птичьи трели умолкли, где-то гремят засовы, табурет скрипит по полу, собака лает за окном, Томас Кромвель говорит: – Нам давно пора ужинать, так что приступим без промедления, вот чернила и бумага. А это мастер Ризли, он будет записывать. – Я не стану называть имен, – говорит юноша. – Вы хотите сказать, кроме вас, у королевы не было любовников? Она вас обманула, Марк. Что меня не удивляет, ведь ей удалось обвести вокруг пальца самого короля. – Нет. – Марк трясет головой. – Она чиста. Сам не знаю, что на меня нашло. – Я тоже не знаю. Никто вас не неволил. Не принуждал, не обманывал. Вы сами все рассказали. Мастер Ричард может засвидетельствовать. – Я беру свои слова обратно. – Не получится. Пауза, в темноте очертания комнаты расплываются, фигуры занимают места в пространстве сумерек. – Я озяб, дайте огня, – говорит господин секретарь. Простое указание, однако Марк решает, что огонь несут по его душу и сейчас его сожгут. Юноша вскакивает с места и бросается к двери, пожалуй, первая здравая мысль за весь вечер, да только Кристоф, сама любезность и добродушие, разворачивает его обратно. – А ну-ка сядь, красавчик. Поленья уложены, но огонь не хочет заниматься. Наконец раздается привычный треск, и слуга удаляется, вытирая руки о фартук. Марк тоскливо смотрит ему вслед, завидуя последней кухонной служанке или мальчишке, который драит ночные горшки. – Ах, Марк, – вздыхает господин секретарь, – мне говорили, тщеславие – грех, хотя чем тщеславие отличается от тех даров, коими мы, как учит Святое Писание, обязаны служить? И вот мы здесь, оба – кардинальские слуги. Если бы кардинал увидел нас вместе, то верно бы удивился. Впрочем, к делу. Кто сменил вас в постели королевы? Норрис? Или у вас, доверенных слуг, было свое расписание? – Я ничего не знаю. Я беру свои слова обратно. Я не стану называть имен. – Несправедливо, если вам придется страдать одному. Ибо вина остальных несравнима с вашей. Король приблизил их к себе и осыпал милостями, они образованны и знатны, некоторые – в летах, в то время как вы молоды и простодушны и заслуживаете жалости не меньше, чем порицания. А теперь расскажите, как прелюбодействовали с королевой, и об отношениях королевы с другими мужчинами. Если ваше признание будет скорым, полным, ясным и подробным, возможно, король проявит милосердие. Едва ли Марк его слышит. Руки и ноги трясутся, юноша задыхается, глотает слезы и слова. Теперь главное не перемудрить: ясные вопросы, точные ответы. – Вы видите этого человека? – спрашивает Ричард. Кристоф показывает на себя, на случай если Марк не понял. – Приятный малый, не правда ли? Можем оставить вас наедине на десять минут. – Хватит и пяти, – отзывается Кристоф. – Марк, мастер Ризли запишет то, что мы скажем, – вступает в разговор он, – но не то, что сделаем. Вы меня понимаете? Никто ничего не узнает. – Пресвятая дева, помоги мне, – вырывается у Марка. – Мы можем отвести вас в Тауэр, на дыбу, – говорит Ризли. – Ризли, позвольте вас на минуту? – Он знаком велит Зовите-Меня выйти и за дверью обращается к нему вполголоса: – Никогда не упоминайте заранее о природе боли. Как говорил Ювенал, нет мучителя страшней разума. К тому же все это пустые угрозы. Я не пошлю Марка на дыбу. Не хочу, чтобы его принесли в суд на руках. Пытать этого несчастного – все равно что травить мышонка. – Вы меня устыдили, – говорит Ризли. Он кладет руку на плечо Зовите-Меня. – Не важно, вы держались отлично. Эта работа не для новичков. Он помнит тот день в кузне, когда железо обожгло ему кожу. Он даже не пытался устоять перед болью: челюсти разжались, крик отразился от стен. Отец бросился к нему, велел выставить руки вперед, промыл рану, приложил мазь. Позднее Уолтер скажет: «Все через это проходят. Будет тебе наука, как слушать отца, а не своевольничать». Вернувшись, он спрашивает Марка: – Вы знаете, что боль учит? Впрочем, уточняет он, чтобы учиться у боли, нужно знать, этот день – не последний: что толку в ученье, если вас замучают до смерти? Возможно, какой-то прок от страданий выйдет. Предложите их несчастным душам Чистилища, если верите в Чистилище. Впрочем, что подходит для святых мучеников, чьи души сияют ослепительной белизной, не подходит для Марка Смитона, грешника и прелюбодея. – Никому ваша боль не нужна, Марк, – говорит он. – Она не нужна Господу, а мне и подавно. Что мне проку от ваших криков? Я хочу услышать связную речь, которую можно записать. Вы уже все сказали и скажете вновь. Никто вас не неволил. Вы довольно грешили. Не заставляйте грешить нас. Возможно, не поздно еще потрясти воображение мальчишки, в подробностях живописав, что ему предстоит: путь из темницы к месту пыток, мучительное ожидание, пока веревку будут разматывать, а безвинное железо раскалять на огне. Все, что тревожит ваш разум, уйдет, уступая место слепому ужасу. Тело охватит трепет, ноги откажут, дыхание участится. Глаза еще видят, уши слышат, но вы не сознаете ни звуков, ни образов. Время сбилось с хода, и мгновения кажутся днями. Лица мучителей нависают над вами, словно лица гигантов, или, напротив, маячат вдали, словно крошечные, еле различимые точки. Приведите его, усадите, пора. Простые, незатейливые слова, но, если вам суждено выжить, они всегда будут напоминать о боли и только о ней. Железо, выхваченное из огня, шипит. Веревка свернулась, словно змея, и ждет своего часа. Вам больше не на что надеяться. Вы не можете говорить, язык раздулся, заполнил рот, а слова съедают сами себя. Вы заговорите потом, когда вас отнесут в каземат и бросят на солому. Я выжил, скажете вы, я выстоял. Жалость и любовь к себе переполнят ваше сердце, первое проявление доброты – одеяло или глоток вина – и слова польются рекой. Вас отвели в комнату пыток не ради того, чтобы вы одумались, а ради того, чтобы вы прочувствовали. И в самом конце чувства переполнят вас. Впрочем, с Марка уже довольно. Юноша поднимает глаза и говорит: – Господин секретарь, повторите, каким должно быть мое признание. Ясным… каким еще? Там было четыре слова, три я забыл. Марк продирается через бурелом слов, и чем яростнее он сражается, тем глубже впиваются колючки в плоть. Возможно, ему потребуется перевод, хотя по-английски юноша всегда говорил с похвальной беглостью. – Но, сэр, я не могу свидетельствовать о том, чего не видел. – Не можете? Тогда придется вам заночевать в моем доме. Кристоф за вами присмотрит. Утром вы почувствуете необыкновенный прилив сил и вспомните все в мельчайших подробностях. Вы поймете, что не в ваших интересах покрывать джентльменов, повинных в том же грехе. Не сомневайтесь, окажись эти благородные господа на вашем месте, они и пальцем не шевельнули бы ради вашего спасения.
* * *
Он смотрит, как Кристоф за руку, словно дурачка, уводит Марка, знаком отпускает Ричарда и Зовите-Меня ужинать, намереваясь присоединиться к ним позже, но обнаруживает, что есть не хочется. Если только самой простой еды, из детства, вроде салата из портулака: его листья рвали с утра и оставляли до вечера в мокрой тряпице. Тогда он ел их за неимением лучшего, ел и не наедался. Теперь обходится малым. Когда умер Вулси, он пристроил большинство кардинальских слуг, многих взял к себе в дом. Если бы Марк не вел себя так вызывающе, он подыскал бы местечко для него, и юноша был бы при деле – не то, что сейчас. Домочадцы Кромвеля подняли бы ужимки Марка на смех, и современем музыкант обзавелся бы манерами, приличествующими его полу, а его талантам нашлось бы применение и в других домах. Вместо того чтобы тратить лучшие годы, обивая порог Анниной спальни в надежде на мимолетную бездумную ласку – легкое касание локтем, выдернутое из шляпы перо, – юноша научился бы вести себя с достоинством, беречь время, копить деньги и ценить женскую добродетель. В полночь, когда дом затихает, приходит послание от короля – поездка в Дувр отменяется. Турнир, однако, состоится. Заявлен и Норрис, и Джордж Болейн. Один выступает за зачинщиков, второй – за тех, кто примет вызов: авось покалечат друг друга. Ему не спится, мысли теснятся в голове. Он думает: «Никогда я не проводил ночи без сна, терзаемый любовным томлением, хотя поэты утверждают, что таков заведенный порядок. Теперь я не могу сомкнуть глаз из-за чувства, противоположного любви». Впрочем, он не испытывает к Анне ненависти. И даже к Фрэнсису Уэстону, не больше, чем к назойливой мошкаре. Скорее удивление, что Господь создал такую гнусь. Ему жалко Марка, но Марк – не ребенок: в его годы я пересекал моря и границы. Дважды вопил в канаве от боли: один раз от папашиной руки, другой – от руки испанца, на поле сражения. Когда мне было столько, сколько сейчас Марку и Фрэнсису Уэстону, подвизался в банкирских домах Портинари и Фрескобальди, а в возрасте Джорджа Болейна представлял их интересы в других европейских странах, взламывал двери в Антверпене, вернулся в Англию другим человеком. Я изменил родному языку, а после обнаружил, что его обогатила эта измена. Я вверил свою судьбу кардиналу, женился, начал выступать в суде, я обращался к судьям с улыбкой, прикрывая напором и красноречием отсутствие опыта, и судьи радовались, что я улыбаюсь, а не луплю их по голове, и почти всегда решали дело в мою пользу. То, что ты полагаешь несчастьем, зачастую оказывается чем-то другим. Почти все можно изменить: вылезти из любой канавы, найти путь, если ты в силах его разглядеть. Он вспоминает тяжбы, о которых не думал годами. Был ли справедлив приговор? Не покривил ли он душой? Интересно, если бы он уснул, что бы ему приснилось? Только в снах он остается наедине с самим собой. Томас Мор учил: выстрой в доме убежище и не пускай туда никого. Впрочем, Мор ни перед кем не стеснялся захлопнуть дверь. Невозможно отделить того, кем ты бываешь на публике, от того, кем предстаешь перед своими. Мор думал, что у него получится, но в конце жизни приводил в Челси людей, которых считал еретиками, чтобы допросить с пристрастием в кругу чад и домочадцев. Ты можешь закрыться у себя в кабинете, однако шорохи, шепот и растущее недовольство снаружи не позволят тебе уединиться: он принадлежит нам, когда он выйдет? Тебе не дано заткнуть уши, чтобы не слышать шаркающей поступи большой политики. Повернувшись на бок, он решает прочесть молитву. Посреди ночи его будит крик, больше похожий на возглас ребенка, которому приснился страшный сон, чем на вопль взрослого. Со сна он удивляется: разве в доме нет женщин, чтобы присмотреть за детьми? Потом вспоминает про Марка. Что с ним делают? Я же не велел его трогать. Он не встает, уверенный, что домочадцы не осмелятся нарушить его приказ. Интересно, спят ли сейчас в Гринвиче? Арсенал расположен неподалеку от дворца, и в последние часы перед турниром там вовсю стучат молотки. Основные работы – отливка, сварка, полировка – завершены, осталось кое-что склепать, подогнать, смазать, дабы ублажить придирчивых участников. Зачем я разрешил Марку расхвастаться, позволил ему выдать себя? Ведь я мог упростить дело, мог просто сказать, что хочу услышать, а потом запугать. Однако я сам поощрил его, сделал так, чтобы Марк увяз с потрохами. Если юноша сказал правду об Анне, он виновен. Если солгал, вряд ли на нем нет вины. При необходимости я готов прибегнуть к насилию. Во Франции пытать заключенных так же естественно, как присаливать пищу. В Италии их пытают на площадях на потеху толпы. В Англии пытки не поощряются, но чтобы обойти запрет, хватит легкого кивка королевской головы. В Тауэре есть дыба. Никому не дано выдержать пытку. Принцип действия дыбы слишком очевиден, поэтому большинству хватает взгляда. Нужно сказать Марку. Юноша будет думать о себе лучше. Он кутается в простыню. В следующее мгновение в дверь входит Кристоф. Щурясь, он садится на кровати. – Боже, я всю ночь не сомкнул глаз. Это Марк кричал? Кристоф хохочет: – Мы заперли его в чулане, я сам придумал. Помните, когда я впервые увидел звезду, то спросил, что за штука, хозяин, вся в остриях. Решил, что пыточное устройство. Темно там, в чулане. Вот Марк и налетел на звезду, а потом павлинье перышко проехалось по щеке. Бедняга решил, что его заперли в темноте с привидением. – Ни на минуту вас не оставишь, – ворчит он. – А вы, часом, не заболели, хозяин? Не приведи Господь. – Нет, но чувствую себя разбитым после бессонной ночи. – Натяните одеяло на голову и притворитесь трупом, – советует Кристоф. – А я вернусь через час с хлебом и элем.Марк вываливается из чулана с посеревшим лицом, весь в перьях, но не павлиньих – на нем легкий пушок с ангельских крыл и золотая краска, которой красят мантии волхвов. Имена вылетают изо рта так стремительно, что едва ли Марк осознает, кого назвал. У юноши подгибаются колени, и Ричард вынужден его поддерживать. Ему, Кромвелю, никогда еще не доводилось так сильно кого-нибудь испугать. Имя «Норрис» угадывается в жалком лепете юноши, затем «Уэстон», чем дальше, тем больше. Имена придворных сменяют друг друга, сливаются в одно, он слышит имя «Брертон», и готов поклясться, что Марк называет и Кэрью, и Фицуильяма, и раздатчика королевской милостыни, и архиепископа Кентерберийского. Разумеется, юноша не забывает упомянуть его самого и договаривается до того, что обвиняет Анну в адюльтере с собственным мужем. – Томас Уайетт! – восклицает Марк. – Нет, только не Уайетт. Кристоф наклоняется и костяшками пальцев щелкает Марка по виску. Марк замолкает, в поисках источника боли удивленно обводит комнату глазами. Затем снова затягивает свою бесконечную песню, упомянув всех, от джентльменов до пажей, пока не добирается до никому не известных имен, каких-то поварят, которых знал в прошлой, низкой жизни, до того как судьба забросила его на порог королевской опочивальни. – Отведите его обратно к привидению, – велит он. Марк вскрикивает и умолкает. – Сколько раз вы были с королевой? – Тысячу, – отвечает Марк без запинки. Кристоф легонько шлепает юношу по щеке. – Три или четыре раза, – поправляется тот. – Благодарю вас. – Что со мной будет? – спрашивает Марк. – Это решит суд. – А с королевой? – Это решит король. – Ничего хорошего, – улыбается Ризли. Он оборачивается к Зовите-Меня. – А вы ранняя пташка, Ризли. – Мне не спалось. Можно вас на два слова, сэр? Теперь уже Ризли вызывает его для конфиденциального разговора. – Напрасно вы решили выгораживать Уайетта, сэр, – хмуро изрекает Зовите-Меня. – Вы слишком близко к сердцу принимаете роль названого отца. Все равно его не спасти. При дворе уже много лет болтают о его связи с Анной. Уайетт – первый среди подозреваемых. Он кивает. Не так-то просто объяснить юнцу вроде Ризли, за что он ценит Уайетта. Ему хочется сказать: хоть вы с Ричардом Ричем и славные молодые люди, куда вам обоим до него. Уайетт не произносит речей из удовольствия послушать свой голос, не вступает в спор из желания доказать свое превосходство. Не сочиняет любовных стихов сразу шести дамам, как Джордж Болейн, надеясь заманить в темный угол хотя бы одну и воткнуть в нее свое жало. Уайетт пишет, когда хочет предостеречь или осудить. Не признаться в своих чувствах, но скрыть их. Ему ведома честь, но неведомо бахвальство. Уайетт – вышколенный придворный, однако прекрасно знает этому цену. Изучает мир без презрения, принимает без отрицания. Он утратил иллюзии, однако не расстался с надеждами. Его глаза открыты, а уши слышат то, что ускользает от слуха остальных. Однако подобное объяснение – не для Ризли. – Не Уайетт, – говорит он, наскоро состряпав ответ, который Ризли способен понять, – стоял между мной и королем. Не Уайетт выставлял меня из королевских покоев, когда мне требовалась подпись короля. Не он порочил меня, вливая свой яд Генриху в уши. Мастер Ризли внимает с неподдельным любопытством. – Я понял. Не важно, кто виновен, важно, чья виновность выгодна вам. – Зовите-Меня улыбается. – Я восхищаюсь вами, сэр. Ваша ловкость не знает границ, и вам неведомы пустые сожаления. Он не уверен, что ему приятно восхищение Ризли, по крайней мере в этом вопросе. – Возможно, некоторые джентльмены, – говорит он, – смогут оправдаться. Или, паче чаяния, убедить короля в своей верности. Мы не священники, нам не нужны исповеди. Мы – судейские, правда для нас имеет ценность лишь в той части, которая нам выгодна. Ризли кивает: – И все же прислушайтесь к моему совету насчет Томаса Уайетта. Если не вы, то ваши новые сторонники прикажут взять его под стражу. Простите мою назойливость, сэр, но если Болейны падут, а к этому идет, друзья принцессы Марии вернут былое влияние. Думаете, они оценят ваши былые заслуги? Сейчас они мягко стелют, но, стоит им войти в силу, припомнят вам и Фишера, и Мора. Они добьются вашего отстранения, а затем уничтожат вас. Кэрью, семейка Куртенэ, скоро они будут править страной. – Править страной будет король. – А они будут наушничать и интриговать. Я говорю о детях Маргарет Пол, о старых благородных семействах – они привыкли, что с их мнением считаются. Они в одночасье погубят все, чего вы добились за эти пять лет. А еще они говорят, что если король женится на сестрице Эдварда Сеймура, она обратит его в старую веру. Он ухмыляется: – Зовите-Меня, кому вы доверяете, Томасу Кромвелю или мистрис Сеймур? Впрочем, Ризли прав. Новые союзники ценят его невысоко. Они уверены, что в надежде на прощение былых грехов он будет плясать под их дудку и отречется от всего, что совершил. – Я не возьмусь предсказывать будущее, но есть кое-что, в чем я разбираюсь получше этих господ, – говорит он вслух. Знать бы, что именно Ризли доносит Гардинеру. Он надеется, что его сообщения заставляют епископа чесать в затылке и опасливо ежиться. – Что слышно из Франции? – спрашивает он. – Должно быть, о книге Винчестера, в которой он оправдывает королевскую супрематию, много говорят. Французы уверены, что его заставили. Интересно, он позволяет им так думать? – Я уверен… – начинает Ризли. – Не важно, – обрывает он. – Мне по душе этот образ: Гардинер, причитающий, как жестоко с ним обошлись. Посмотрим, думает он, чем ответит Гардинер. Ему льстит, что Зовите-Меня порой надолго забывает, что служит епископу. Ризли юноша нервный и обидчивый, высокомерие и раздражительность Гардинера выводят его из себя. С другой стороны – он, Кромвель, хозяин понимающий и некичливый. Видишь ли, делится он с Рейфом, в чем-то мы похожи, поэтому я поддерживаю карьеру Ризли. Мне нравится наблюдать за ним. Если я его выгоню, Гардинер пришлет шпиона похуже. Вернувшись в комнату, он говорит: – Пришла пора отвести бедного Марка в Тауэр. Мальчишка валится на колени, умоляя не бросать его в чулан с привидением. – Пусть отдохнет, – говорит он Ричарду, – запри его в комнате, где привидения не водятся, и вели накормить. Если он способен связно излагать, запиши официальное признание и позаботься о надежных свидетелях. Если будет упрямиться, пусть им займутся Кристоф и мастер Ризли, им сподручней. Нынче Кромвели не изнуряют себя грязной работой, те дни давно миновали. – Если Марк пойдет на попятную, в Тауэре знают, что делать. Как только бумаги будут составлены, скачи к королю в Гринвич. Он ждет тебя. Не доверяй послание никому. Твои слова – только для королевских ушей. Ричард небрежно, словно марионетку, дергает Марка вверх, поднимая с колен, явно испытывая к юноше не больше злобы, чем к кукле на веревочке. В его голове мелькает образ старого епископа Фишера, когда тот ковылял к эшафоту: тощий, упрямый. Уже девять утра. Роса Майского дня успела высохнуть. По всей Англии из лесов несут зеленые ветки. Он не отказался бы от куска бараньей вырезки с морским укропом из Кента. И побриться. Он еще не достиг совершенства в искусстве диктовать письма во время бритья. Наверное, придется отрастить бороду. Вот только Ганс будет настаивать на новом портрете. Тем временем арену в Гринвиче посыпают песком. – А король участвует? Сойдется с Норрисом и сразит того насмерть? – спрашивает Кристоф. Нет, думает он про себя, эту работенку Генрих оставил мне. Мимо мастерских, кладовых и пристаней, прибежищ для таких, как он. Пажи разложат шелковые подушки в башенках, что возвышаются над ристалищем. Парусину, канаты и деготь сменят дамаст и тонкий лен. Жир, вонь, грохот, речную сырость – ароматы розовой воды и шепот горничных, наряжающих королеву. Уносят остатки ее скромной трапезы, крошки белого хлеба, дольки засахаренных фруктов. Ей подают сначала нижние юбки, потом верхние, за ними следуют рукава. Королева выбирает. И вот Анну стянули, зашнуровали, расправили оборки, утыкали каменьями. Король – с тех пор минуло три или четыре года – в оправдание первого развода выпустил книгу под названием «Зеркало правды». Говорят, отдельные главы Генрих писал сам. Теперь зеркало требует Анна Болейн, всматривается в себя: желтоватая кожа, тощая шея, лезвия ключиц. Первое мая тысяча пятьсот тридцать шестого: последний день рыцарства. То, что случится потом, ибо празднества продолжатся, будет всего лишь шествием мертвых со знаменами, состязанием трупов. Король оставит ристалище. День окончится внезапно и резко, треснет, как большая берцовая кость, влажно хрустнет, словно выбитый зуб. Джордж Болейн, брат королевы, войдет в шелковый шатер, чтобы разоблачиться, отложит в сторону талисманы, амулеты, обрывки лент – залоги любви прекрасных дам. Когда Джордж снимет и передаст оруженосцу шлем, обведет окружающее затуманенным взором, – геральдических соколов, лежащих леопардов, когти, лапы, клыки, – ему покажется, будто голова на плечах стала мягкой и трясется, как желе.
Уайтхолл: вечером, зная, что Норрис взят под стражу, он идет к королю. На пороге перекидывается парой слов с Рейфом: как его величество? – Вы думали, Генрих будет неистовствовать, как Эдгар Миролюбивый, ища, в кого бы вонзить копье? – Они обмениваются улыбками, вспоминая ужин в Вулфхолле. – А он спокоен. Словно знал. Давно, в глубине души. Король у себя, пожелал остаться один. Один: а с кем ему быть? Теперь вы не найдете в покоях доброго Норриса, шепчущего слова утешения. Норрис был хранителем королевского кошелька, а ныне кошелек пуст, королевские денежки раскатились по большаку. Струны ангельских арф лопнули, какофония оглушает; шнурок от кошелька срезан, швы разошлись, шелковые ленты разорваны, в прорехи виден срам. Он возникает на пороге, Генрих скашивает глаза, вяло произносит: – Сухарь, входите и садитесь. Генрих знаком отпускает слуг, что мнутся у двери, сам наливает вино, говорит: – Племянник расскажет вам, что случилось на турнире. Славный малый Ричард, не правда ли? – Взгляд короля блуждает. – Сам я не выступал. Она вела себя, как обычно: сидела среди фрейлин, невозмутимая и надменная, любезничала с джентльменами, то с одним, то с другим. – Генрих хихикает фальшиво, невпопад. – Вела беседы. Затем начались поединки, герольды выкликали верховых рыцарей. Генри Норрису не везло. Его лошадь испугалась, застыла, потом начала брыкаться, пытаясь сбросить седока. (Лошади подводят. Оруженосцы подводят. Нервы подводят.) Генрих через слугу предложил Норрису выйти из игры: замена найдется, одна из оседланных лошадей, которых держат наготове, если государю в последнюю минуту захочется выйти в круг. – Обычная вежливость, – объясняет Генрих, ерзая в кресле. Словно оправдывается. Он кивает: разумеется, сир. Неясно, вернулся ли Норрис на арену. После полудня Ричард Кромвель протиснулся сквозь толпу на галерее, стал на колено перед королем и наклонился к монаршему уху. – Ричард рассказал, этот музыкант, Марк, во всем признался. Сам? Ваш племянник ответил: никто его не неволил. Ни один волосок не упал с его головы. А мне теперь придется сжечь крылья из павлиньих перьев, думает он. – Потом… – Внезапно король замирает, словно лошадь под Норрисом, и – больше ни слова. Нужды нет: он, Кромвель, уже знает, что было дальше. Выслушав Ричарда, король встал, слуги забегали. «Найдите Генри Норриса, – велел Генрих пажу, – скажите, что я скачу в Уайтхолл и хочу, чтобы он меня сопровождал». Король ничего не объясняет, никого не ждет, не разговаривает с королевой. Он покрывает милю за милей, Норрис скачет сзади: озадаченный, от страха еле держащийся в седле. – Я предъявил ему обвинение, – говорит Генрих. – Рассказал о признании мальчишки, Марка, но он упрямо твердил, что невиновен. – И снова тот же фальшивый, неприятный смешок. – Позднее его допросил мастер казначей. Норрис признался, что любит ее. Однако когда Фиц обвинил его в прелюбодеянии, в том, что желал моей смерти и хотел жениться на моей вдове, Норрис сказал: нет, нет и еще раз нет. Расспросите его, Кромвель, но не забудьте повторить то, что я сказал ему на пути в Уайтхолл. Я готов проявить милосердие, если он признается и назовет имена остальных. – Марк Смитон назвал имена. – Ему я не доверяю! – презрительно бросает Генрих. – Что значат слова какого-то скрипача по сравнению с жизнью тех, кого я числил своими друзьями? Мне нужны доказательства. Посмотрим, что запоют фрейлины, когда Анна окажется за решеткой. – Их признаний более чем достаточно, сир. Вам известны имена. Позвольте мне арестовать подозреваемых. Однако разум Генриха блуждает в иных сферах. – Кромвель, что заставляет женщину искать в постели утех, противных естеству? Предлагать себя то так, то эдак? Где она этого набралась? Тут есть один ответ. Опыт, сир. Прихоти мужчин и ее собственные желания. Но едва ли Генрих нуждается в ответе. – Есть единственный способ, благоприятствующий зачатию, – рассуждает Генрих. – Мужчина сверху. Святая церковь одобряет такие сношения в разрешенные дни. Некоторые священники утверждают, что каким бы тяжким грехом ни являлось совокупление между братом и сестрой, еще хуже, когда женщина находится сверху или когда мужчина входит в женщину по-собачьи. Из-за этих непотребств и иных, поименовать которые я не дерзну, был разрушен Содом. Христианину или христианке, отдающихся им, не избежать Божьего гнева. Откуда женщине, если ее воспитали не в доме терпимости, знать о таких богомерзких делах? – Женщины обсуждают их между собой, – говорит он. – Как и мужчины. – Но почтенной, набожной матроне, чья обязанность – производить на свет потомство? – Возможно, она хочет пробудить чувственность мужа, сир. Чтобы отвадить его от Пэрис-гарден и других грязных мест. Или если они прожили вместе много лет. – Три года! Разве это много? – Нет, сир. – И даже того меньше. На мгновение король забывает, что говорит о себе, а не об умозрительном богобоязненном англичанине, лесничем или пахаре. – Но откуда ей знать? – не унимается Генрих. – Откуда ей знать, что мужчине по нраву? Он прикусывает язык, ответ очевиден: она расспросила сестрицу, которая кувыркалась в вашей постели до нее. Однако сейчас мысли короля блуждают далеко от Уайтхолла. Генрих думает о крестьянине с мозолистыми ладонями и его жене в скромном чепце и фартуке; перекрестившись и испросив у Папы отпущения грехов, крестьянин тушит лучину и угрюмо соединяется со своей второй половиной: ее колени направлены вверх, к потолочным стропилам, его зад сотрясается при толчках. Когда всё позади, набожная пара преклоняет колени рядом с кроватью и возносит хвалу Господу. Но однажды днем, когда крестьянин батрачит, в бедную хижину забредает юный повеса, помощник лесничего, и, не долго думая, достает из штанов своего петушка: ну-ка, Джоан, ну, Дженни, согнись-ка над столом, и я научу тебя тому, чему матушка тебя не учила. И когда под вечер крестьянин возвращается домой и с кряхтеньем взбирается на жену, дабы исполнить супружеский долг, с каждым толчком и стоном женщина вспоминает об ином удовольствии, что и слаще, и гаже. И тогда, помимо ее воли, с губ слетает имя. Ах, Робин, мой сладкий! О, Адам, сладкий мой! А ее благоверный, до которого не сразу доходит, что его зовут не Робин и не Адам, а Гарри, задумчиво скребет в затылке. За окном стемнело, пора зажигать огни. Он открывает дверь, и королевские покои разом заполняет толпа: слуги суетятся вокруг Генриха, словно ласточки в ранних сумерках. Король почти не замечает их. – Кромвель, вы думаете, до меня не доходили слухи? Думаете, я был глух, когда трактирщицы чесали языками? Я человек простодушный. Анна утверждала, что девственна, и я верил. Семь лет она лгала мне, что непорочна. Если женщина способна на такой обман, она ни перед чем не остановится. Я разрешаю вам заключить королеву под стражу. А заодно и ее брата. Даже упомянуть о тех мерзостях, которые она творила, немыслимо в приличном обществе, дабы не ввести в грех чистые души! Я рассчитываю на ваше благоразумие, а равно и благоразумие моих советников. – Гадая о прошлом женщины, легко обмануться, – произносит он. Вообразите, что до свадьбы Джоан или Дженни вела совсем иную жизнь. Вы привыкли думать, что она выросла среди полевых цветов на лесной опушке. А теперь на каждом углу слышите от верных людей, что ваша женушка провела юность в портовом городе и голая плясала в кабаках на потеху матросам.
Впоследствии он спросит себя: понимала ли Анна, что происходит? Против ожиданий, она не молилась, не писала писем друзьям. Если очевидцы не врут, королева прошествовала через свое последнее утро на воле, следуя заведенной рутине: гуляла вдоль теннисных кортов, поставила на исход матчей. Поздним утром посланец привез ей монаршее повеление предстать перед королевским советом. Заседание состоится в отсутствие его величества, а также в отсутствие господина секретаря, который отбыл по безотлагательному делу. Советники объявили королеве, что ее обвиняют в прелюбодейственной связи с Генри Норрисом и Марком Смитоном, а также с иными джентльменами, чьи имена пока не называются. Суда ей надлежит ждать в Тауэре. Как рассказывал Фицуильям, Анна держалась надменно. Кто вы такие, чтобы судить королеву, возмутилась она, но когда ей сообщили о признаниях Марка и Генри Норриса, расплакалась. Из комнаты заседаний Анну отводят в ее покои обедать. В два пополудни вместе с лордом-канцлером Одли и Фицуильямом он идет туда. На добродушном лице государственного казначея тревога. – Каково мне было услышать сегодня утром, что Гарри Норрис признался! Он признался, что любит ее, но не в прелюбодеянии. – И что вы сделали, Фиц? – спрашивает он. – Сказали правду? – Нет, – отвечает Одли. – Он заерзал и отвел глаза. Разве не так, господин казначей? – Кромвель! – ревет Норфолк, расталкивая придворных. – Я слыхал, этот малый запел под вашу дудку. Что вы с ним сделали? Жаль, меня там не было! Из этого выйдет неплохая баллада для печати. Пока Генрих перебирает струны, музыкантишка теребит лютню его жены. – Если знаете издателя, который рискнет напечатать такое, скажите мне, – отвечает он, – и я прикрою его лавочку. – Только имейте в виду, Кромвель, – продолжает Норфолк, – я не позволю, чтобы из-за этого мешка костей пал мой благородный дом! Если она вела себя недостойно, виноваты Болейны, не Говарды. Я не жажду крови Уилтшира, только отнимите у него этот дурацкий титул. Монсеньор, скажите, пожалуйста! – Герцог скалит зубы. – Я хочу видеть его унижение, уж слишком высоко он вознесся. Я всегда был против брака короля с его дочкой, это вы, Кромвель, вы подсуетились. Сколько раз я убеждал Генри Тюдора не связываться с этой вздорной бабой. Пусть послужит ему хорошим уроком, в следующий раз будет меня слушать. – Милорд, – спрашивает он, – приказ с вами? Норфолк машет пергаментом. Когда они входят в покои, слуги раскатывают громадную скатерть, королева сидит под пологом. На ней платье багрового бархата, Анна оборачивается – мешок костей, безупречный овал лица, кожа цвета слоновой кости. Едва ли она что-нибудь ела, в воздухе разлито напряжение, лица перекошены. Им, королевским советникам, приходится ждать, пока расправят складки, прежде чем склониться перед королевой в предписанном этикетом поклоне. – А вот и вы, дядя, – тихо говорит Анна. Одного за другим она приветствует вошедших. – Лорд-канцлер. Господин казначей. – Остальные советники протискиваются из-за спин Одли и Фицуильяма. Многие мечтали об этой минуте, мечтали увидеть Анну на коленях. – Милорд Оксфорд. Уильям Сэндис. Как поживаете, сэр Уильям? – Кажется, будто перечисление имен ее успокаивает. – И вы, Кремюэль. – Она наклоняется к нему. – Не забывайте, я создала вас. – А он создал вас, мадам! – рявкает Норфлок. – И уж будьте покойны, теперь он раскаивается! – Я раскаялась раньше, – усмехается Анна. – И сильнее. – Готовы? – спрашивает Норфлок. – Я не знаю, как готовиться, – роняет она. – Просто ступайте с нами, – произносит он, Кромвель, и протягивает руку. – Я предпочла бы Тауэру Уайтхолл. – Тот же тихий, вежливый, лишенный красок голос. – Нельзя ли отвести меня к королю? Ему известен ответ. Генрих никогда не говорит «прощай». Однажды, жарким летним днем, король ускакал из Виндзора и больше никогда не видел Екатерину. – Господа, вы же не можете забрать меня отсюда прямо сейчас? Без платьев, сорочек, свиты? – Там вы не будете испытывать недостатка ни в платье, ни в служанках, – говорит он. – Я хотела бы взять с собой моих фрейлин. Советники переглядываются. Кажется, королеве невдомек, что эти женщины ее предали, что они не отходят от господина секретаря, готовые на все ради собственного спасения. – Что ж, если мне не оставили выбора… пусть это будут мои служанки. Я все еще королева и должна выглядеть подобающе. Фиц прочищает горло. – Мадам, ваш двор распущен. Анна вздрагивает. – Ничего, Кремюэль подыщет им места, – бросает она. – Он не оставит моих бедных слуг. Норфолк пихает в бок лорда-канцлера: – Еще бы, он среди слуг вырос! Одли отворачивается, сохраняя верность Кромвелю. – Я не намерена идти с вами, – говорит Анна, – я пойду только с Уильямом Полетом, если тот не откажется меня сопроводить. Сегодня утром на совете, когда все вокруг меня оскорбляли, один Уильям вел себя благородно. – Бога ради! – фыркает Норфолк. – Пойду не пойду! Сейчас схвачу вас под мышку и сам потащу в лодку кверху задницей. Вы этого добиваетесь? Не сговариваясь, советники разворачиваются к герцогу и одаривают его яростными взглядами. – Мадам, – произносит Одли, – не сомневайтесь, вас сопроводят с почестями, подобающими вашему положению. Анна встает. Подбирает багряный бархат юбки, словно брезгует касаться подолом земли. – Где милорд брат? Последний раз его видели в Уайтхолле, отвечают ей, не кривя душой. Сейчас, вероятно, стражники уже пришли за Джорджем. – А мой отец, монсеньор? Почему его нет со мной? Почему он не с вами, джентльмены, почему бездействует? – Не сомневайтесь, все разрешится ко всеобщему удовольствию, – вкрадчиво мурлычет лорд-канцлер. – В Тауэре вам будут предоставлены все условия. – Но сколько это продлится? Никто ей не отвечает. Снаружи ждет Уильям Кингстон, комендант Тауэра. Мощным сложением Кингстон напоминает короля, держится с достоинством, но одно его появление способно вогнать в дрожь любого смельчака. Он вспоминает, как Кингстон приехал за Вулси: у кардинала подогнулись колени, и тому пришлось сесть на сундук. Следовало оставить Кингстона в Тауэре, шепчет он лорду-канцлеру, сами бы справились. – Мы бы справились, – также шепотом отвечает Одли, – но может быть, дело в другом, господин секретарь? Сдается мне, вы сами порядком испуганы. Он идет к плавучей пристани, изумляясь про себя легкомыслию лорда-канцлера. Головы каменных чудищ плещутся в реке, как и отражения людей: силуэты джентльменов подернуты рябью, перевернутая фигура королевы мерцает, словно пламя в бокале; вокруг них танцует мягкий послеполуденный свет, птицы заливаются трелями. Он помогает Анне забраться на барку: Одли явно боится к ней прикоснуться, от Норфолка она отстраняется сама. Словно прочтя его мысли, Анна шепчет: – Кремюэль, а ведь вы так и не простили мне Вулси. Фицуильям ловит его взгляд, что-то бормочет, не разберешь что. Когда-то Фиц был кардинальским любимцем, вероятно, они думают об одном: теперь Анна Болейн знает, каково это, когда тебя выводят из дома и везут в лодке по реке, и с каждым взмахом весла отмеренная тебе жизнь убывает. В барке Норфолк садится напротив племянницы, раздраженно ерзает и бурчит: – Теперь вы видите, мадам, видите? Вот что бывает, когда отвергаешь собственных родственников! – Почему же отвергает? – замечает Одли. – Вовсе нет. Он бросает на лорда-канцлера хмурый взгляд. Вопрос с братом Джорджем требует известной деликатности. Не хватало еще, чтобы Анна заметалась и ненароком спихнула кого-нибудь за борт. Он уходит в себя, смотрит на воду. Их сопровождают алебардщики, острота и блеск лезвий восхищают. Алебарды весьма дешевы в изготовлении, хотя их дни миновали. Он вспоминает Италию, поле боя, укол пики. В Тауэре есть пороховой склад, ему хочется поболтать с оружейниками как-нибудь в другой раз. – А куда подевался Чарльз Брэндон? – спрашивает Анна. – Не понимаю, как он такое пропустил. – Вероятно, с королем, – отвечает Одли, разворачивается к нему и говорит вполголоса: – Нашептывает гадости про вашего приятеля Уайетта. Придется вам отступиться, господин секретарь. Он не сводит глаз с дальнего берега. – Уайетт – не тот человек, от которого отступаются. Лорд-канцлер фыркает: – Стихами делу не поможешь. Так ему и надо. Пишет загадками. Скоро король поймет, что пришла пора их разгадать. Едва ли. Бывают шифры столь изощренные, что хватит полстрочки, слога, паузы, цезуры, чтобы полностью изменить смысл. Он гордится, всегда будет гордиться, что не задал Уайетту ни одного вопроса, который заставил бы того солгать или утаить правду. Анне пришлось лицемерить, объясняла ему леди Рочфорд: в первую брачную ночь изображать девственницу, всхлипывать и лежать бревно бревном. – Но, леди Рочфорд, на его месте любой мужчина дрогнул бы, – отвечал он. – Король – не насильник. По крайней мере могла бы польстить ему, не сдавалась леди Рочфорд. Изобразить радостное удивление. Тон леди Рочфорд, та особая женская жестокость, что в нем сквозит, ему неприятны. Женщины сражаются тем жалким оружием, которым наградил их Господь – злобой, коварством, хитростью, – и порой осмеливаются перейти границы, за которые мужчины ни ногой. Тело короля не имеет границ, оно изменчиво, как и его королевство, остров, сам себя намывающий и сам себя растворяющий в воде, соленой и пресной. Земля с болотистыми тропами и скудными берегами, приливами и отливами, земля, что дышит и исходит влагой, земля трясин, вязких, будто пересуды англичанок, и гнилых топей, куда рискнет сунуться лишь священник с лучиной в руках.
От реки тянет холодом, до лета еще несколько недель. Анна смотрит на воду, затем поднимает глаза и спрашивает: – Где архиепископ? Кранмер защитит меня, мои епископы защитят меня, они обязаны мне своим возвышением. Приведите Кранмера, и он присягнет, что я чиста. Норфолк наклоняется и рявкает ей прямо в лицо: – Епископ плюет на вас, племянница! – Я королева, и если вы причините мне вред, на вас падет проклятие. Пока меня не отпустят, ни капли дождя не падет на землю. Фицуильям издает тихий стон. – Мадам, – говорит лорд-канцлер, – подобные глупости и привели вас сюда. – Неужели? А я думала, меня подозревают в супружеской измене. Выходит, я еще и колдунья? – Не мы начали разговор о проклятиях, – подает голос Фицуильям. – Вы ничего мне не сделаете. Я поклянусь, что невинна, и король мне поверит. У вас нет свидетелей. Вы даже не знаете, какое обвинение предъявить в суде. – В суде? Зачем нам суд? – говорит Норфолк. – Заклеймить, а потом утопить – и будет с вас. Отпрянув от дяди, Анна съеживается, еще больше уменьшаясь в размерах, совсем девчонка. У причала он видит заместителя Кингстона, Эдмунда Уолсингема, который разглядывает реку, беседуя с Ричардом Ричем. – Кошель, что вы здесь делаете? – Решил, вдруг вам понадоблюсь, сэр. Королева ступает на твердую землю, опираясь на руку Кингстона. Взволнованный Уолсингем отвешивает ей поклон, ища глазами, к кому из советников обратиться. – Палить ли из пушек? – Так ведь принято? – откликается Норфолк. – Когда прибывает кто-то из важных персон. Она ведь важная персона? – Да, но ее… – Палите, – командует Норфлок. – Пусть горожане узнают. – Они и так знают, – говорит он. – Разве милорд не заметил лондонцев вдоль берега? Анна поднимает глаза, смотрит на каменные стены, узкие слепые оконца, забранные решетками. Ни единого человеческого лица, только мелькание крыльев и хриплое карканье, так похожее на человеческие крики. – Гарри Норрис здесь? – спрашивает она. – Он подтвердит мою невиновность? – Едва ли, – отвечает Кингстон. – Как и свою. Тогда с Анной что-то происходит, что-то, чему позднее он не находит объяснения. Кажется, будто она испаряется, ускользает из их рук – его и Кингстона, – тает, плавится и вновь обретает человеческую форму, упираясь локтями и коленями в булыжную мостовую, запрокинув голову, захлебываясь криком. Фицуильям, лорд-канцлер, даже ее дядя в растерянности, Кингстон хмурится, Уолсингем трясет головой, Ричард Рич цепенеет. Он, Кромвель, подхватывает женщину с земли – больше некому – и ставит на ноги. Анна ничего не весит, и, когда он поднимает ее, вопль замирает, словно ей перекрыли дыхание. Она безмолвно приваливается к его плечу, виснет у него на груди: сосредоточена, готова к тому, что предстоит, к тому, что приведет ее к смерти. На обратном пути к причалу Норфолк рявкает: – Господин секретарь, мне нужно поговорить с королем! – Увы, – отвечает он с грустью, словно и впрямь сожалеет, – его величество нуждается в покое и уединении. Право, милорд, в сложившихся обстоятельствах вам не помешало бы последовать его примеру. – Обстоятельствах? – бурчит Норфолк. С минуту, пока они протискиваются в главный канал, герцог молчит, хмурится, наверняка вспоминая свою благоверную и прикидывая, как от нее избавиться. В конце концов решает обойтись насмешкой: – Кажется, вы с герцогиней на короткой ноге, господин секретарь? Если Кранмер аннулирует наш брак, забирайте ее себе. Что, не хотите? Герцогиня переедет к вам со своей периной и мулом, ей много не надо, не бойтесь, она вас не объест. А я буду платить за нее сорок шиллингов в год – и по рукам. – Милорд, опомнитесь! – набрасывается на Норфлока лорд-канцлер, вынужденный прибегнуть к последнему аргументу. – Не забывайте о вашем происхождении. – Происхождение – слабое место Кромвеля, – усмехается герцог. – Так вот, Сухарь, когда я хочу видеть Тюдора, сын кузнеца мне не указ. – Он может поработать над вами молотом, – произносит Ричард Рич (остальные и не заметили, как тот проскользнул на борт). – Возьмет и расплющит вам череп. Вы не представляете, что умеет господин секретарь. После невыносимой сцены на причале на них нападает глупая смешливость. – Он перекует вас, – подхватывает Одли. – С утра встали герцогом, к обеду обратились конюхом. – Он вас расплавит, – не отстает от него Фицуильям, – были герцогом – стали каплей свинца. – Так и проживете жизнь треножником, – снова вступает Рич. – Или крюком. Тебе придется рассмеяться, Томас Говард, думает он, или ты лопнешь, взорвешься изнутри. А когда ты воспламенишься, мы окатим тебя водой из реки. Норфолка передергивает, герцог отворачивается, берет себя в руки. – Скажите Генриху, что я отказываюсь от этой девки. Скажите, что она мне больше не племянница. Он, Кромвель, произносит: – У вас будет возможность продемонстрировать его величеству свою преданность. Если дойдет до суда, вы станете председателем. – Все равно придется менять протокол, – встревает Рич. – Королева никогда еще не представала перед судом. Вы согласны, лорд-канцлер? – Меня не спрашивайте. – Одли заслоняется ладонями. – Вы с Ризли и господином секретарем, как обычно, все решили между собой. Только, Кромвель, вы ведь не собираетесь сделать судьей Уилтшира? – Ее отца? – улыбается он. – Не собираюсь. – Какое обвинение мы предъявим лорду Рочфорду? – спрашивает Фицуильям. – Если предъявим. – Судить будут троих? – бросает Норфолк. – Норриса, Рочфорда и музыкантишку? – Нет, милорд, – отвечает он спокойно. – Больше? Клянусь мессой! – Сколько же любовников у нее было? – с живостью спрашивает Одли. – Лорд-канцлер, вы видели короля? – В разговор снова вступает Рич. – А я видел. Бледен, как смерть, места себе не находит. Разве это не есть измена? Разве королевскому телу уже не нанесен урон? Если бы собаки умели чуять измену, Рич был бы бладхаундом, лучшей на свете ищейкой трюфелей. – Я еще не решил, – говорит он, – какое обвинение предъявить этим джентльменам: в измене или укрывательстве. Если они станут утверждать, что были лишь свидетелями преступлений, которые совершали другие, им придется честно и открыто назвать этих других. Если откажутся, мы вправе заподозрить их самих. Грохот пушки застает их врасплох, звук раскатывается по поверхности воды, отзывается в костях.
* * *
В тот же вечер от Кингстона приходит послание. Коменданту Тауэра велено докладывать обо всем, что Анна делает или говорит, и Кингстон – честный малый, отменный служака, порой слишком прямолинейный, рьяно берется за дело. Когда советники удалились к барке, Анна спросила: «Мастер Кингстон, меня бросят в подземелье?» «Нет, мадам, вас поместят в покои, где вы дожидались коронации». В ответ Анна заливается слезами, докладывает комендант. «Я этого недостойна. Господь обратил на меня свою милость». Затем, продолжает Кингстон, королева рухнула на камни и стала молиться, потом зарыдала, а после, к изумлению коменданта, принялась хохотать. Он молча передает письмо Ризли. Зовите-Меня поднимает глаза от бумаги и тихо спрашивает: – Что же она сделала, господин секретарь? Даже представить страшно! Он раздраженно смотрит на Зовите-Меня. – Вы же не собираетесь заводить старую песню о колдовстве? – Не собираюсь, и все же… Если она считает себя недостойной, значит, она виновна. Только я не уверен, в чем именно. – Напомните мне мои слова. Какой правды мы добиваемся? Разве я говорил, что нам нужна вся правда? – Вы сказали, лишь та ее часть, что может нам пригодиться. – И не отступлюсь от своих слов. Хотя подобные речи мне не к лицу. Вы схватываете на лету, Ризли, так что не заставляйте меня повторять дважды. Он коротает теплый вечер, сидя у окна в компании племянника Ричарда. Тот знает, когда молчать, а когда трещать без умолку. Это у Кромвелей семейное. Кроме Ричарда, его радует лишь общество Рейфа Сэдлера, но Рейф сейчас с королем. – Я получил письмо от Грегори, – говорит Ричард. – Письмо? – Ну, вы же знаете Грегори. – Погода стоит солнечная. Мы отлично поохотились и отменно отужинали. Я здоров, чего и вам желаю. Засим за неимением времени откланиваюсь. – Грегори не меняется, – кивает Ричард. – Хотя, наверное, меняется. Думает о возвращении, считает, что должен быть рядом с вами. – Мне хочется оградить его от того, что тут происходит. – Я понимаю, но, может быть, стоит ему уступить? Грегори давно вырос. Он размышляет. Если приучать сына к королевской службе, пусть знает, что его ждет. – Можешь идти, – говорит он Ричарду. – Наверное, я сам ему напишу. Прежде чем уйти, Ричард прогоняет ночную прохладу, затворяя окно. За дверью слышно, как племянник тихим голосом раздает поручения: принесите дяде халат на меху и захватите побольше свечей. Иногда его, Кромвеля, удивляет, что кого-то искренне волнуют его телесные нужды; слуги не в счет, им он платит. Он размышляет, что чувствует Анна в Тауэре, среди новой челяди. Теперь при ней неотлучно находится леди Кингстон, и, хотя он позаботился окружить Анну женщинами из семейства Болейн, вряд ли королева, будь ее воля, остановила бы выбор на них. Эти дамы многое повидали, они знают, откуда дует ветер, от их острого слуха не ускользнет ни всхлип, ни шепот: «Я этого недостойна». Ему кажется, что в отличие от Ризли он понимает Анну. Слова о том, что королевские покои Тауэра слишком хороши для нее, не признание вины. Анна заявляет: я недостойна их, потому что проиграла. Анна поставила на Генриха: заполучить его и удержать. Теперь, когда Джейн Сеймур отняла у нее короля, ни один суд не осудит ее строже собственного. Вчера, когда король вскочил на лошадь и ускакал от нее, Анна превратилась в самозванку, ребенка, дурочку, ряженную в королевское платье и запертую в королевских покоях. Прелюбодеяние – грех и преступление, но проиграть для Анны грех куда больший. Ричард просовывает голову в дверь. – Письмо Грегори, хотите, я напишу? Хватит вам глаза портить. Он говорит: – Анна махнула на себя рукой. Отныне она не причинит нам хлопот.Он просит короля уединиться в своих покоях и никого не принимать. Стражникам велено разворачивать всех просителей: мужчин, женщин. Он хочет, чтобы решения короля не зависели от суждений его последнего собеседника, как иногда бывает; никаких уговоров, лести или давления. Кажется, Генрих готов уступить его просьбе. В последние годы королю не впервой уединяться: сначала для того, чтобы побыть наедине с Анной, затем – чтобы побыть без нее. За королевскими покоями у Генриха есть тайное убежище. Иногда, после того, как громадное королевское ложе расстелют и благословят, после того, как потушат свечи, Генрих, завернувшись в дамастовое одеяло, заползает в свою берлогу и спит на простой кровати, какобычный человек, обнаженный, предоставленный самому себе. Здесь, в тишине комнат, увешанных шпалерами, изображающими сцены грехопадения, король говорит ему: – Кранмер прислал письмо из Ламбета. Прочтите его вслух, Кромвель. Я уже прочел, теперь вы. Он берет письмо в руки. Можно почувствовать, как архиепископ съеживается в тщетной надежде, что чернила потекут, а буквы выцветут. Анна-королева оказывала ему покровительство, обращалась за советом, поддерживала новую веру. Справедливости ради, и она многим обязана архиепископу, хотя Кранмер об этом не помнит. «Я пребываю в замешательстве, – пишет Кранмер, – ибо всегда считал ее примером женского благочестия». Генрих перебивает: – Только подумайте, как мы обманывались! «…что заставляет меня сомневаться в ее виновности, – читает он дальше. – Однако неужели ваше величество зашли бы так далеко, не будь она виновна?» – Знал бы он! – восклицает Генрих. – Такое ему и в голову не придет. Надеюсь, что не придет. Подобного срама не видел свет. «Ибо из всех живых созданий после вашего величества именно к ней я испытывал самую горячую привязанность». Генрих снова перебивает: – Там дальше он пишет, что, если она виновна, ее следует покарать без пощады, в назидание остальным. Чтобы все видели, я возвысил ее из грязи. А еще он пишет, что те, кто придерживается евангельской веры, должны испытывать к ней не сочувствие, а отвращение. «Мне остается надеяться, что ваша приверженность истинной вере, примеры коей вы не раз являли в прошлом, диктовалась не одной лишь привязанностью к королеве, а подлинным рвением», – заключает Кранмер. Он, Кромвель, откладывает письмо. Все можно оправдать. Пусть она невиновна, но ей придется взять на себя вину. Мы, собратья по вере, отвергаем ее. – Сир, – произносит он, – если вы нуждаетесь в Кранмере, пошлите за ним. Утешите друг друга, постараетесь найти объяснение. Я велю вашим слугам впустить архиепископа. Вам не помешает прогулка на свежем воздухе. Спуститесь в сад, там вас никто не потревожит. – Но я не видел Джейн, – говорит Генрих. – Мне хочется смотреть на нее. Можно привести ее сюда? – Еще рано, сир. В народе брожение, толпы горожан требуют ее, сочиняют о ней гнусные песенки. – Песенки? – Генрих изумлен. – Найдите сочинителей и примерно накажите. Вы правы, пока воздух не очистится, Джейн здесь делать нечего. Ступайте к ней, Кромвель. Передайте мой подарок. Король извлекает из бумаг крохотную книжечку, усыпанную каменьями, такие вещицы дамы привязывают золотой цепочкой к кушаку. – Осталось от жены, – говорит Генрих и тут же поправляется, стыдливо опуская глаза: – Я хотел сказать, от Екатерины.
Ему не хочется ехать в Суррей, в дом Кэрью, но приходится. Красивое соразмерное здание возвели лет тридцать назад, особенно великолепен главный зал – предмет зависти и подражания окрестных домовладельцев. Он уже бывал здесь во времена кардинала. Кажется, Кэрью нанял для перепланировки сада итальянцев. При его приближении садовники снимают шляпы. Дорожки ведут в летнюю благодать, птицы щебечут в вольерах, трава подстрижена так тщательно, что напоминает отрез бархата, нимфы взирают на него каменными очами. Теперь, когда назад пути нет, Сеймуры учат Джейн, как быть королевой. – С этим надо что-то делать, – говорит Эдвард Сеймур. Джейн моргает. – Ты мнешься на пороге и юркаешь в дверь, словно мышь. – А сами велели держаться скромно. – В подтверждение своих слов Джейн застенчиво опускает глаза. – Выйди, – велит Эдвард. – А потом снова войди. Как королева, Джейн. Джейн шмыгает за дверь. Дверь отзывается скрипом. Они разглядывают друг друга в образовавшуюся щель. Затем дверь распахивается. Долгая королевская пауза. В дверном проеме по-прежнему пусто. Наконец Джейн появляется, медленно огибая угол. – Так лучше? – А знаете, что я думаю? – говорит он. – Теперь Джейн не придется самой открывать себе двери, так что вряд ли это умение ей пригодится. – А по мне, – возражает Эдвард, – скромность приедается. Подними глаза, Джейн, я хочу видеть выражение твоего лица. – А вы уверены, – бормочет Джейн, – что я хочу видеть выражение ваших? В галерее собралось все семейство. Два брата: рассудительный Эдвард, вспыльчивый Том. Почтенный сэр Джон, старый вертопрах. Леди Марджери, некогда писаная красавица, «сама доброта, учтивость и кротость», как писал про нее Скелтон. Впрочем, нынче от кротости не осталось и следа, на лице почтенной матроны злобное торжество: ей удалось вцепиться в хвост удаче, пусть на это ушло почти шестьдесят лет. В комнату вплывает Бесс Сеймур, вдовая сестра Джейн. В руках у нее сверток, обернутый тканью. – Господин секретарь, – учтиво приседает она, обращаясь к брату. – Подержи, Том. Присядь, сестра. Джейн садится на табурет. Так и ждешь, что кто-нибудь протянет ей грифельную доску и начнет экзаменовать в знании алфавита. – А теперь, – говорит Бесс, – долой это! В первое мгновение кажется, будто она бросается на сестру с кулаками: обеими руками вцепляется в подковообразный каркас, дергает на себя и вместе с вуалью передает куль в руки матери. В белом полотняном чепце Джейн выглядит обиженной и неодетой, узкое личико покрывает болезненная бледность. – Чепец тоже долой, и все заново, – командует Бесс и тянет завязки из-под подбородка. – Что ты с ними делаешь, Джейн? Жуешь ты их, что ли? Леди Марджери протягивает ножницы для вышивания. Щелчок – и Джейн свободна. Сестра убирает чепец, и бледные жидкие волосы Джейн, узкая лента света, рассыпаются по плечам. Сэр Джон хмыкает и отводит глаза, старый ханжа. Но свобода длится недолго: леди Марджери подхватывает светлые пряди и безжалостно наматывает на руку, словно моток шерсти. Джейн морщится, когда волосы поднимают с затылка, закручивают в хвост и прижимают новым жестким чепцом. – А теперь подколем, – говорит Бесс, поглощенная работой. – Так куда изящнее, только придется потерпеть. – Никогда не любила завязок, – поддакивает леди Марджери. – Спасибо, Том. – Сестра забирает у брата сверток, откидывает ткань. – Потуже, – велит Бесс. Ее мать собирает материю, перекалывает булавки. В следующее мгновение на голову Джейн водружают старомодный гейбл. Она закатывает глаза, всхлипывая, когда каркас царапает кожу. – Кто бы мог подумать, Джейн, – замечает леди Марджери, – что у тебя такая большая голова. Бесс сгибает проволоку, Джейн сидит ни жива ни мертва. – Так лучше, – говорит леди Марджери, – только натяни поглубже да расправь отвороты. На уровне подбородка, Бесс, как у старой королевы. – Она встает, чтобы оценить, как выглядит дочь в чепце, каких не носили с начала царствования Анны. Леди Марджери задумчиво прикусывает губу. – Криво. – Это Джейн виновата, – говорит Том Сеймур. – Сядь ровнее, сестра. Джейн поднимает руки, осторожно касаясь гейбла, словно тот жжется. – Не трогай, – велит мать. – Ты уже носила такой. Привыкай. Бесс извлекает откуда-то кусок превосходной черной вуали. – Сиди ровно, – велит она сестре и, хмурясь, начинает подкалывать вуаль к каркасу по кругу. – Ай, это моя шея! – вскрикивает Джейн, и Том Сеймур заливается бессердечным хохотом, какая-то шутка, вероятно, слишком непристойная, хотя кто знает. – Извините, что задерживаю вас, господин секретарь, – говорит Бесс, – но нужно приладить его как следует. Мы же не хотим лишний раз напоминать государю сами знаете о ком. Только не перестарайтесь, думает он тревожно, а то напомните Генриху Екатерину, умершую четыре месяца назад. – Этот каркас не последний, – говорит Бесс сестре, – если будешь горбиться, попробуем другие. Джейн закрывает глаза: – Я постараюсь. – Кажется, вы держали их под рукой, – замечает он. – Убрали в сундуки до лучших времен, – отвечает леди Марджери. – Женщины нашего круга верили, что когда-нибудь они вернутся. Слава Богу, теперь мы долго не увидим при дворе французских фасонов. Старый сэр Джон произносит: – Король прислал ей подарок. – Вещички, которые Ла Ана уже носить не будет, – говорит Том Сеймур. – Скоро они все перейдут к Джейн. – В монастыре они Анне ни к чему, – говорит Бесс. Джейн поднимает глаза – наконец-то она встречает взгляд братьев – и снова опускает очи долу. Всякий раз звук ее голоса удивляет его: такой тонкий и слабый, так не подходящий к словам, которые ей велено произносить. – Я не понимаю, зачем запирать ее в монастыре, – говорит Джейн. – Сначала Анна клялась, что носит королевское дитя, и королю пришлось ждать, и напрасно, потому что ждать было нечего. После придумает что-нибудь еще, и мы никогда не будем в безопасности. – Она знает тайны Генриха, – замечает Том Сеймур. – И может продать их своим друзьям французам. – Они ей теперь не друзья, – возражает Эдвард. – Уже не друзья. – А если она попробует? – настаивает Джейн. Она наблюдает, как они смыкают ряды: знатное английское семейство. – Вы готовы на все, чтобы погубить Анну Болейн? – спрашивает он Джейн. В тоне нет упрека, он просто любопытствует. Джейн задумывается, но только на миг. – Никто не виноват в том, что с ней случилось. Она сама себя погубила. Нельзя делать то, что делала она, и надеяться дожить до старости. Он должен понять Джейн, разгадать выражение ее потупленных очей. Когда Генрих ухаживал за Анной, она ни от кого не прятала лица, гордо задирала вверх подбородок, а близко посаженные глаза горели, словно темные озера на бледной светящейся коже. Джейн не выдерживает пристального взгляда – тут же смиренно опускает очи долу. Выражение задумчивое, замкнутое. Он уже видел его раньше. Сорок лет он смотрит на картины. Когда был мальчишкой – до того, как сбежал из Англии, – картин не было, только похабные рисунки мелом на заборах да святые с мертвыми глазами, на которых он таращился, подавляя зевок, во время мессы. Во Флоренции художники писали неприступных луноликих скромниц, судьба которых совершается в их утробе, медленный подсчет в крови; глаза обращены внутрь, к образам страдания и славы. Видела ли Джейн эти картины? Вероятно, художники срисовывали с натуры, с обрученных дев, с юных женщин, увлекаемых к церковным вратам родней. Французский арселе или старомодный гейбл не спасут Джейн. Если бы она могла полностью спрятать лицо, то так бы и поступила, скрыв свои вычисления от мира. – Что ж. – Ему неловко отвлекать внимание на себя. – Я приехал, чтобы передать подарок от короля. Сверток обернут в шелковую материю. Джейн поднимает глаза, вертит сверток в ладонях. – Однажды вы уже сделали мне подарок, мастер Кромвель. Тогда никто мне ничего не дарил. Я не забыла и, если это будет в моей власти, отплачу вам добром. Не успевает Джейн произнести речь, которую шталмейстер ни за что не одобрил бы, как в комнате появляется сам сэр Николас Кэрью. Не входит, как обычный человек, а вкатывается, будто осадное орудие или метательное устройство. После чего замирает перед Кромвелем, словно хочет выпустить в него снаряд. – Мне рассказали про песенки, – произносит сэр Николас. – Как вы допустили подобное, Кромвель? – В этих песенках ничего оскорбительного, – отвечает он. – Старые куплеты, со времен, когда Екатерина была королевой, а Анна грезила о троне. – Как можно их сравнивать! Эта добродетельная дама и та… – Кэрью запинается. И впрямь, юридически еще ничего не оформлено, обвинение не предъявлено, посему непонятно, как теперь называть Анну. Если изменницей, ожидающей вердикта суда, она все равно что мертва, хотя Кингстон пишет, что Анна ест с аппетитом и хихикает, подобно Тому Сеймуру, над скабрезными шуточками. – Король переписывает старые стихи, – говорит он. – Вымарывает темноволосую даму, вставляет светловолосую. Джейн знает, как бывает, она состояла при старой королеве. А если у Джейн, несмотря на молодость, нет иллюзий, то уж вам, в ваши-то годы, сэр Николас, негоже их иметь. Джейн сидит неподвижно, сверток по-прежнему обернут шелковой материей. – Ты бы развернула его, Джейн, – участливо говорит сестра. – Что бы там ни лежало, оно принадлежит тебе. – Я слушаю господина секретаря, – откликается Джейн. – И учусь. – Едва ли его уроки пойдут тебе впрок, – замечает Эдвард Сеймур. – Не уверена. Десять лет под его крылом, и я бы сумела за себя постоять. – Судьба распорядилась, чтобы ты стала королевой, а не писарем, – замечает Эдвард. – И теперь ты благодаришь Господа, что я родилась женщиной? – Мы все благодарим за это Господа денно и нощно, – отвечает Том Сеймур с вымученной галантностью. Для него внове отвешивать комплименты своей кроткой сестрице. Том смотрит на Эдварда и пожимает плечами: прости, на большее я не способен. Джейн снимает шелковую материю, продевает цепочку из благородного металла цвета ее волос между пальцев. Переворачивает крохотную книжечку: на золоте и черной эмали обложки горят переплетенные рубиновые буквы: Г и А. – Не тревожьтесь, камни заменят, – быстро говорит он. Джейн протягивает ему книжечку, лицо удрученное: ей еще предстоит узнать, каким скупым бывает король, самый могущественный из властителей мира. Генриху следовало меня предупредить, думает он. Под «А» угадывается «Е». Он передает книжечку Николасу Кэрью: – Вы проследите? Повозившись с крохотной застежкой, тот открывает книжку. – Ах, молитва на латыни. Или библейский стих? – Можно мне? Это Книга Притчей. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов». – Как бы не так, думает он: три подарка, три жены – и только один счет от ювелира. – Вы знаете, кому это адресовано? – с улыбкой спрашивает он Джейн. – «Виссон и пурпур – одежды ее». Я могу рассказать вам о ней куда больше, чем здесь написано. – Вам следовало стать епископом, Кромвель, – говорит Эдвард Сеймур. – Не епископом, Эдвард. Папой. Он собирается уходить, но Кэрью поднимает властный палец. Господи Иисусе, вздыхает он про себя, неужто я был недостаточно почтителен? Кэрью отзывает его в сторону. Однако не для упреков. – Принцесса Мария, – тихо говорит Кэрью, – надеется, что отец призовет ее к себе. Что может быть более утешительным в такие времена, как близость законного дитяти? – Марии лучше быть там, где она сейчас. То, что обсуждается нынче в совете и на улицах, – не для девичьих ушей. Кэрью хмурится: – Возможно, вы правы. Однако ей приятно было бы прочесть послание короля. Получить от него подарки. Подарки, думает он, это можно устроить. – Многие при дворе, – продолжает Кэрью, – с радостью лично засвидетельствуют принцессе свое почтение. Если нельзя привезти ее сюда, то, может быть, стоит содержать ее мягче? Разумно ли, что ее окружают женщины из семейства Болейн? Может быть, старая наставница, графиня Солсбери подойдет больше? Маргарет Пол? Эта свирепая папистка? Впрочем, сейчас не время сообщать сэру Николасу жестокую правду. – Король примет решение, – говорит он. – Это вопрос семейный. Ему виднее, что хорошо для его дочери. Ночью, при свечах, Генрих льет слезы по Марии. Днем называет ее непослушной и своенравной дочерью. Когда разум берет верх над чувствами, говорит, что пришла пора исполнить отцовский долг. «Меня печалит наше отчуждение. Теперь, без Анны, мы должны примириться. Впрочем, на определенных условиях. Которые моей дочери Марии – и на этом я настаиваю – придется выполнять». – И еще, – говорит Кэрью, – вам следует взять под стражу Уайетта.
Вместо этого он зовет Фрэнсиса Брайана. Тот заходит с улыбкой, уверенный в своей безопасности. Повязку на глазу украшает маленький изумруд. Выглядит зловеще: один глаз зеленый, другой… – Сэр Фрэнсис, – спрашивает он, – какого цвета ваши глаза? Вернее, глаз… – Вообще-то красный, – отвечает Брайан. – Но я держусь, не беру в рот ни капли, ни в Великий пост, ни в Рождественский. А еще по пятницам. – В голосе печаль. – Зачем вы меня позвали? Вы же знаете, я на вашей стороне. – Я пригласил вас на ужин. – Вы и Марка Смитона приглашали. И где теперь Марк? – Не я должен вас заботить, – произносит он с преувеличенно тяжелым актерским вздохом. (До чего же ему нравится сэр Фрэнсис.) – Не я, а мир, который ныне вопрошает, какова цена вашей преданности. Королева приходится вам родственницей. – Джейн тоже. – Брайан по-прежнему спокоен, что и демонстрирует, вальяжно откинувшись на спинку кресла и вытянув под столом ноги. – Вам незачем меня допрашивать. – Я беседую со всеми, кто близок королевской семье, а вы особенно близки, вы были с ними с самого начала. Разве не вы ездили в Рим отстаивать интересы Болейнов? Но что вас тревожит? Вы давно при дворе, вам ведомы все тайны. Если вы мудро распорядитесь своим знанием, возможно, вам удастся себя обелить. Он ждет. Брайан выпрямляется в кресле. – Ведь вы хотите угодить королю? – продолжает он. – Я должен быть уверен, вы скажете все, что мне потребуется. Поры его собеседника источают кислую вонь, сэр Фрэнсис потеет гасконским, которое скупает задешево и втридорога сбывает в королевские погреба. – Вот что, Сухарь, – говорит Брайан. – Я знаю лишь то, что Норрис всегда хотел ее поиметь. – А ее братец? Тоже хотел? Брайан пожимает плечами: – Ее отослали во Францию, они были уже не дети, когда узнали друг друга. Я слыхал, такое случается, а вы? – Я – нет. В детстве мы понятия о таком не имели. Господу ведомы наши грехи и злодеяния, но так далеко наши фантазии не простирались. – Держу пари, вы сталкивались с кровосмешением в Италии. Порой люди не отваживаются называть вещи своими именами. – Я отваживаюсь, – говорит он ровно. – И вскоре вы это увидите. Порой мое воображение не поспевает за событиями, но я усердно тружусь, чтобы нагнать их. – Теперь она не королева, – говорит Брайан, – а поскольку она не королева, то… теперь я могу назвать ее распутницей, а где такой, как она, развернуться, как не в собственном семействе? – Вы хотите сказать, что она могла вовлечь в грех дядюшку Норфолка? И даже вас, сэр Фрэнсис? Если говорить о родственниках. Вы известный сердцеед. – О Боже! Кромвель, вы же не станете… – Я только допустил вероятность. Что ж, если у нас и впрямь нет разногласий, не окажете мне любезность? Не могли бы вы съездить в Грейт-Холлинбери, предупредить лорда Морли о том, что его ждет. Такие вести не доверяют бумаге, тем более когда ваш дорогой друг немолод. – Думаете, с глазу на глаз лучше? – Недоверчивый смешок. – Милорд, скажу я, трепещите, скоро ваша дочь Джейн овдовеет, ибо ее мужа обвинят в кровосмешении и обезглавят. – Было ли кровосмешение – это решать священникам. Его казнят за измену. И я сомневаюсь, что король выберет топор. – Едва ли это поручение мне по силам. – Я в вас верю. Думайте об этом как о дипломатической миссии. Вам ведь уже случалось выполнять такие задания, хотя теперь я задаюсь вопросом, как вы справлялись раньше? – На трезвую голову, – отвечает Фрэнсис Брайан. – Хотя ради вашего поручения придется напиться. Вы же знаете, я до смерти боюсь лорда Морли. Только меня завидит, сразу вытягивает откуда-то древние манускрипты и кричит: «Фрэнсис, подите сюда!» А вы знаете мою латынь – школяру и тому впору устыдиться. – Нечего меня обхаживать, – говорит он, – лучше седлайте коня. Но перед тем как отправитесь в Эссекс, окажите мне услугу. Ступайте к вашему другу Николасу Кэрью, передайте, что я готов прислушаться к его совету и поговорить с Уайеттом. Только пусть не думает, что на меня можно давить – я давления не переношу. Напомните ему, что аресты еще будут, и я не готов сказать, кого именно арестуют. А если готов, то не желаю. Постарайтесь понять сами и донести до ваших приятелей: у меня развязаны руки. Я больше не мальчик у них на побегушках. – Теперь я свободен? – Как воздух, – говорит он ласково. – А на ужин разве не останетесь? – Поужинайте за меня, – отвечает Фрэнсис.
В покоях короля темно, но его величество произносит: – Мы должны смотреть в зеркало правды. Вина лежит на мне, о чем раньше я не подозревал. Генрих переводит взгляд на Кранмера, словно говоря: теперь ваша очередь, я признал грех, дайте мне отпущение. Архиепископа разрывает на части: Кранмер то ли ждет продолжения королевской исповеди, то ли не решается ответить. Кембридж не подготовил его к такой роли. – Ваше рвение заслуживает похвалы, – говорит Кранмер королю, бросая на него, Кромвеля, вопрошающий, словно длинная игла, взгляд. – В таком деле осуждение немыслимо без доказательств. – Вам следует помнить, – говорит он, ибо в отличие от Кранмера не испытывает недостатка в словах, – что не я, а совет допрашивал джентльменов, которые ныне обвиняются в преступлении. Совет призвал вас, изложил обстоятельства дела, и вы согласились. Вы сами, милорд архиепископ, сказали, что мы не зашли бы так далеко, не подвергнув вопрос тщательному изучению. – Я оглядываюсь назад, – говорит Генрих, – и все становится на свои места. Меня обманули, меня предали. Скольких верных друзей и слуг изгнали, удалили от двора! И хуже того… я вспоминаю Вулси. Женщина, которую я называл женой, злоумышляла против него со всем присущим ей коварством, хитростью и злобой. Какая именно? И Екатерина, и Анна интриговали против кардинала. – А теперь я уже не помню, что так меня разозлило, – продолжает Генрих. – Разве Августин не называл брак «смертоносным рабским одеянием»? – Златоуст, – тихо поправляет Кранмер. – И будет об этом, – говорит он, Кромвель, поспешно. – Если этот брак будет расторгнут, парламент станет просить вас найти новую королеву. – Как человеку исполнить долг перед своим королевством и перед Господом? Мы грешим самим актом зачатия. Нам нужны наследники, королям особенно, но даже в браке нас стращают похотью, а некоторые отцы церкви утверждают, что неумеренная страсть к жене есть прелюбодеяние. – Иероним, – шепчет Кранмер, как будто отрекается от святого. – Однако не все отцы церкви так строги, многие почитают брак священным. – Розы, лишенные шипов, – говорит он. – Церковь строга к женатым, хотя Павел говорит, что мужьям следует любить жен. Трудно смириться с тем, что брак не есть грех по своей природе, если веками те, кто дал обет безбрачия, твердили, что они лучше нас, хотя это ложь, а повторение ложных постулатов не превращает их в истинные. Вы согласны, Кранмер? Лучше убейте меня на месте, написано на лице архиепископа. Против всех законов, человеческих и божественных, Кранмер женат, женился в Германии и с тех пор скрывает фрау Грету в деревне. Знает ли Генрих? Должен знать. Скажет? Едва ли. Слишком занят собой. – Сейчас я не понимаю, что я в ней нашел, – говорит король. – Вероятно, она меня околдовала. Клялась, что любит меня. Екатерина клялась, что любит. Они говорили о любви, а разумели противное. Анна всегда хотела унизить меня, всегда отличалась злобным нравом. Вспомните, как она глумилась над своим дядей, милордом Норфолком. Как презирала отца. Она осмеливалась подвергать осуждению даже мои действия и советовать мне в вопросах, которые выше ее понимания. А порой говорила мне такое, чего не стерпел бы от жены самый последний бедняк! – Она была дерзкой, это правда, – говорит Кранмер, – но она сознавала свой недостаток и пыталась себя обуздать. – Клянусь Господом, теперь ее обуздают. – В голосе короля прорывается жестокость, которую до поры удавалось скрыть под жалобными интонациями жертвы. Генрих открывает ореховую шкатулку для писем. – Видите эту книгу? Книга представляет собой разрозненные листы, сшитые вместе, обложки нет, только страницы, исписанные снизу доверху тяжелой рукой Генриха. – Она еще не завершена. Я сам ее написал. Это пьеса, трагедия. Трагедия моей жизни. Король протягивает им листки. – Сохраните ее, сир, – говорит он. – Когда-нибудь у нас появится время, чтобы оценить ее по достоинству. – Но вы должны знать! – настаивает Генрих. – Ее подлую натуру. Как жестоко она со мной обходилась, со мной, с тем, кто дал ей все! Мужчинам следует знать, чтобы не угодить в сети ей подобных. Их аппетиты невозможно утолить. Она имела сношения с сотнями мужчин! Король похож на затравленного зверя: загнанного в угол женской похотью, растерзанного и искромсанного в клочья. – А ее брат? – спрашивает Кранмер. Он отворачивается, не в силах смотреть на Генриха. – Едва ли она перед ним устояла, – отвечает король. – Чего ради? Что мешало ей осушить чашу до мерзкого осадка на дне? А пока она утоляла собственную страсть, она убивала мою. Когда я приходил к ней с намерением исполнить супружеский долг, она встречала меня взглядом, который устрашил бы любого храбреца. Теперь я понимаю, она берегла себя для запретных утех. Король сидит. Пытается говорить, сбивается, снова говорит. Десять лет назад Анна взяла его за руку и увлекла за собой. Привела в лес и на опушке, где солнечный свет дробится в зеленых листьях, лишила трезвости ума и целомудрия. Она гнала его по лесу целый день, пока его колени не начали дрожать от усталости, но и тогда он упрямо шел за ней, не в силах перевести дыхание, не в силах свернуть, пока не заблудился. Он преследовал ее, пока не погас солнечный свет, преследовал при свете факелов, и тогда она обернулась к нему, погасила факелы и оставила его одного в темноте.
Дверь тихо открывается: он поднимает глаза, там, где раньше стоял другой, какой-нибудь Уэстон, сейчас стоит Рейф. – Ваше величество, милорд Ричмонд пришел пожелать вам доброй ночи. Впустить? Генрих вздрагивает. – Фицрой? Разумеется! Бастарду Генриха шестнадцать, но из-за нежного пушка на щеках и наивного взгляда выглядит моложе. Рыжей шевелюрой Фицрой пошел в короля Эдуарда, обликом напоминает принца Артура, покойного старшего брата короля. Мальчишка мнется, не решаясь прильнуть к широкой отцовской груди, но Генрих встает и сам обнимает сына, лицо мокро от слез. – Сыночек мой, – говорит король, обращаясь к юноше почти шести футов росту, – мой единственный сын. Слезы текут так обильно, что Генрих вынужден промокнуть лицо рукавом. – Она хотела отравить тебя, – всхлипывает король. – Слава Богу, благодаря хитроумию господина секретаря заговор удалось раскрыть. – Спасибо, господин секретарь, – сухо благодарит юноша, – что раскрыли заговор. – Она отравила бы тебя и твою сестру Марию, вас обоих, а эту мелкую икринку, которую выметала, посадила бы на трон. Или другого выблядка, если, не приведи Господь, кто-то из ее щенков выжил бы. Сомневаюсь, что ее дети способны жить. Господь проклял ее. Молись за отца, молись, чтобы Господь не оставил меня, ибо я согрешил. Меня вынудили. Этот брак противозаконен. – Как, опять? – спрашивает юноша. – И этот тоже? – Противозаконен и проклят. – Генрих вцепился в сына, раскачивает юношу взад и вперед, сжимает кулаки за его спиной, словно медведица, терзающая своих детенышей. – Этот брак противоречит Божьим заповедям. Ни одна из них не была моей женой, ни та ни другая. Слава Богу, одна уже в могиле, и я больше не должен выслушивать ее нытья, ее бесконечных жалоб, терпеть ее назойливость. И не говорите мне про диспенсации, и слышать не хочу, никакой Папа не может отменить законы небесные. Откуда она взялась, Анна Болейн? Почему я посмотрел на нее? Как ей удалось ослепить меня? На свете столько юных и свежих добродетельных женщин, столько покорных и благонравных девиц! Почему мне досталась та, что губит собственных детей в утробе? Король отпускает сына так резко, что тот едва не падает. Генрих фыркает: – Ступай, дитя. Ступай в свою безгрешную постель. И вы, господин секретарь, ступайте и вы… к своим. – Король вытирает слезы носовым платком. – Нынче я не в силах исповедоваться, милорд архиепископ. Посему ступайте и вы. Когда вернетесь, отпустите мне грехи. Всех устраивает такой расклад. Кранмера одолевают сомнения, но архиепископ не из тех, кто выпытывает чужие тайны. Они уходят, оставляя Генриха с книжкой из разрозненных страниц, король переворачивает их, собираясь вновь погрузиться в историю своей жизни.
За дверью он подает знак мнущимся на пороге джентльменам. – Зайдите, возможно, ему что-нибудь нужно. Медленно, неохотно доверенные слуги подкрадываются к королю в его берлоге, не зная, чего ждать. В кругу друзей. Где теперь эти друзья? Прижаты к стене. На прощание он обнимает Кранмера, шепчет в ухо: – Все образуется. Юный Ричмонд трогает его за рукав: – Господин секретарь, мне нужно с вами поговорить. Он устал, поднялся на рассвете, писал письма в Европу. – Это срочно, милорд? – Нет, не срочно. Но важно. Вообразите хозяина, способного увидеть разницу. – Я весь внимание, милорд. – Хотел вам рассказать, сегодня я был с женщиной. – Надеюсь, она не обманула ваших ожиданий. Юноша застенчиво усмехается: – Не совсем. Та женщина была шлюхой. Мой брат Суррей привел ее. Ясно, сын Норфолка. По лицу юноши пробегают отсветы факелов, то золотя, то снова окуная его в темноту. – Не важно, теперь я мужчина, и Норфолк должен позволить мне жить с женой. Ричмонда женили на дочери Норфолка, малышке Мэри Говард. Хитроумный тесть устроил, чтобы молодые жили раздельно, ведь если Анна родит Генриху законного наследника, кто вспомнит о бастарде? А герцог подыщет дочери, сохранившей невинность, партию повыгоднее. Хотя чего нынче стоят герцогские козни?.. – Я замолвлю за вас словечко, – обещает он. – Теперь герцогу не резон противиться вашим желаниям. Ричмонд вспыхивает: доволен, смущен? Мальчишка не дурак и прекрасно понимает, что за последние дни его положение несказанно улучшилось. Он, Кромвель, слышит отчетливый голос Норфолка, убеждающего королевский совет: дочь Екатерины уже признали незаконнорожденной, очередь Анниной дочери, а стало быть, все трое королевских отпрысков не могут претендовать на трон. А коли так, почему бы не предпочесть наследнице женского пола наследника мужского? – Господин секретарь, мои слуги говорят, Елизавета не дочь короля. Ее тайно пронесли в королевские покои в корзине взамен мертвого ребенка. – Но зачем? Он никогда не откажется послушать рассуждения слуг. – Чтобы стать королевой, она заключила сделку с нечистым, но врага рода человеческого не провести. Дьявол сделал ее королевой, но не позволил родить наследника. – Вероятно, дьявол должен был заострить ее ум. Отчего тогда в корзине лежал не мальчик? Ричмонд выдавливает жалкую улыбку: – Другого ребенка могло не оказаться под рукой. Детей не бросают на улицах просто так. Бросают, еще как. Он внес в новый парламент билль о сиротах мужеского пола. Возьмите на себя опеку над мальчишками, рассуждает он, а те присмотрят за девчонками. – Иногда я думаю о кардинале, – произносит юноша. – Вы вспоминаете его? – Ричмонд опускается на сундук, и он, Кромвель, садится рядом. – Когда я был юным и глупым, то думал, что кардинал – мой отец. – Кардинал – ваш крестный отец. – Я знаю, но все равно… кардинал был так добр ко мне. Навещал меня, привозил дорогие подарки: золотое блюдо, шелковый мяч, куклу, мальчики ведь тоже любят играть в куклы, – Ричмонд смущенно опускает глаза, – ну, когда еще носят платья. Я чувствовал, что мое рождение окружено тайной, и решил, что я – сын священника. Когда появился король, я не признал его. Король подарил мне меч. – И вы догадались, что король – ваш отец? – Нет. – Юноша разводит руками в доказательство собственной наивности. – Мне объяснили потом. Пожалуйста, не говорите ему. Он не поймет. Из всех потрясений последнего времени это может оказаться самым сильным: родной сын в Генрихе отца не признал. – Сколько у него детей? – спрашивает Ричмонд с видом бывалого греховодника. – Должно быть, немало. – Насколько мне известно, детей, способных оспорить ваши притязания, у него нет. Говорят, сын Мэри Болейн от него, но она была замужем, и мальчик унаследовал имя ее мужа. – Но он снова женится, на мистрис Сеймур, когда его теперешний брак… – юноша путается в словах, – когда то, что должно случиться… когда оно случится… И у него может родиться сын. Сеймуры славятся плодовитостью. – Если это произойдет, – говорит он мягко, – вы первым поздравите короля и всю жизнь будете держаться юного принца. Но до этого еще далеко, а что касается неотложных материй, то позвольте дать вам совет… если ваше воссоединение с молодой женой и дальше будет откладываться, найдите покладистую, здоровую женщину и обговорите с ней все заранее. А когда придет пора расстаться, определите ей небольшое содержание, чтобы держала язык за зубами. – Вы так и поступаете? В вопросе юноши нет подвоха, но он успевает подумать: уж не шпионит ли за ним Ричмонд? – Джентльмены о таком не говорят. Берите пример с отца, который никогда не бывает груб с женщинами. – Жесток, да, думает он про себя, но никогда не груб. – И будьте благоразумны, не связывайтесь со шлюхами. Так недолго подхватить дурную болезнь, как французский король. К тому же если ваша подруга родит вам ребенка, вам все равно придется его воспитывать, но вы будете уверены, что он ваш. – А разве можно быть уверенным… – Ричмонд запинается. Все тяготы взрослого мира обрушиваются на бедного юношу. – Если можно обвести вокруг пальца короля, стало быть, можно обмануть любого мужчину. И если у жен в порядке вещей обманывать мужей, то любой джентльмен может, сам того не ведая, растить чужого ребенка. – А его ребенка в то же самое время будет растить другой джентльмен, – улыбается он. Он намерен – когда выберет время – завести учет крещений. Хочет сосчитать королевских подданных, нужно же знать, кто есть кто, по крайней мере со слов матерей: фамильное имя далеко не всегда гарантия отцовства, но лиха беда начало. Когда он верхом едет по Лондону, то внимательно всматривается в лица, думает об иных городах, где ему случалось жить подолгу или бывать проездом. Нельзя сказать, что его потомство так уж многочисленно. Разумный человек почитает умеренность добродетелью. А вот кардинал любил придумывать истории о его пассиях и, завидев дюжего молодчика, которого волокут на виселицу, не упускал случая заметить: «А вот этот, Томас, наверняка ваш». Юноша вздыхает: – Я так устал, сам не пойму почему, ведь даже не охотился. Слуги Ричмонда суетятся вокруг, их эмблемы – восстающий полулев, – их сине-желтые ливреи мелькают в меркнущем свете факелов. Словно няньки, оберегающие чадо от падения в грязную лужу, они хотят огородить юного герцога от козней Кромвеля. Вокруг него клубится облако страха. Никто не знает, кого собираются взять под стражу и как долго продлятся аресты. Не знает даже он сам, а ведь он тут за главного. Джордж Болейн в Тауэре, Уэстону и Брертону дарована милость в последний раз выспаться на свободе и привести в порядок дела, однако уже завтра утром за ними захлопнутся тюремные двери. Они могут бежать, но куда? Никто за исключением Марка должным образом не допрошен. Не допрошен им. Однако уже есть желающие поживиться. Норрис не пробыл под замком и дня, как нашелся соискатель его должностей и привилегий, обладатель четырнадцати законных отпрысков. Четырнадцать голодных ртов, не говоря уже об аппетитах папаши и острых зубках его благородной жены.
Назавтра он говорит Уильяму Фицуильяму: – Идемте со мной в Тауэр допрашивать Норриса. – Нет, идите один, – отвечает Фиц. – Еще раз мне этого не вынести. Мы знали друг друга с детства. Я и в прошлый раз чуть не отдал Богу душу.
Добрый Норрис: первый, если требуется подтереть королевский зад, усердный ткач шелковых нитей, паук посреди паутины, черное сердце обширной сети дворцовых милостей и привилегий: расторопен и добродушен, за сорок, однако по виду не скажешь. Норрис, сама непринужденность, живое воплощение la sprezzatura, идеального придворного. Никто не видел его в гневе. Кажется, что успех пришел к нему сам, а он лишь покорился неизбежности. Равно учтив с герцогом и молочницей, особенно на людях. Признанный мастер турнирных боев, Гарри ломает ваше копье, словно извиняясь за доставленные неудобства, а если его рукам доведется коснуться презренного металла, то омывает их родниковой водой с ароматом розовых лепестков. Тем не менее Норрис богат, как все в окружении короля, как бы ни были чисты их намерения. Выхлопотав очередную привилегию, Гарри, ваш покорный слуга, спешит поскорей прибрать ее к рукам, чтобы не оскорбить ничей взор. А если Гарри вызывается занять прибыльное местечко, то лишь из чувства долга, дабы менее достойным претендентам себя не утруждать. Но взгляните сейчас на доброго Норриса! Печально видеть слезы сильного мужчины. Так он и говорит, садясь и осведомляясь об условиях содержания, доволен ли узник тюремным столом, хорошо ли тут спится. Он сама мягкость и доброта. – В прошлое Рождество, мастер Норрис, вы в личине мавра и Уильям Брертон в обличье полуголого дикаря направлялись к покоям королевы. – Бога ради, Кромвель, – фыркает Норрис, – вы что, всерьез? Хотите обсудить, как мы вели себя на маскараде? – Я посоветовал Уильяму Брертону запахнуться, на что вы ответили, что королева привычна к таким зрелищам. Норрис краснеет, как и в тот злосчастный день. – Вы хотите меня подловить. Я всего лишь имел в виду, что ее, как замужнюю женщину, мужским… мужским достоинством не удивишь. – Вам лучше знать, что вы имели в виду. Я знаю лишь то, что слышал. Однако вряд ли король сочтет ваше замечание невинным. И тогда же мы с вами видели ряженого Фрэнсиса Уэстона, который, по вашим словам, шел к королеве. – Этот по крайней мере был одет, – говорит Норрис. – В костюм дракона, не так ли? – Когда стоял перед нами? Несомненно. Но помните, что вы сказали потом? Вы поведали мне, что королева привечает Уэстона. Вы ревновали ее, Гарри. И не пытались этого скрыть. Расскажите, что вы знаете о ней и Уэстоне. Облегчите душу. Взяв себя в руки, Норрис презрительно хмыкает. – Все, что у вас есть, пустые слова, которые можно толковать по-разному. Их недостаточно, чтобы доказать прелюбодеяние, Кромвель. – Посмотрим. В таком деле свидетели редки. Однако мы в состоянии сопоставить обстоятельства, желания, высказанные вслух, и признания. – Вы не дождетесь признаний ни от меня, ни от Уэстона. – Сомневаюсь. – Вы не посмеете подвергнуть дворян пыткам. Король не позволит. – Думаете, мне нужно официальное разрешение? – Он на ногах, с силой обрушивает кулак на стол. – Вот надавлю большими пальцами вам на веки, запоете «Зелен остролист» как миленький. – Садится, опять сама любезность и спокойствие. – Поставьте себя на мое место. Люди все равно скажут, что я вас пытал. И Марка. Уже говорят. Хотя, я клянусь, ни волоска не упало с его головы. Марка никто не неволил. Он сам назвал имена. Некоторые из них меня удивили, но я совладал с удивлением. – Вы лжете. – Норрис смотрит в сторону. – Хотите, чтобы мы оговорили друг друга. – Королю все известно. Ему не нужны свидетели. Он знает о вашей и ее измене. – А вам не кажется странным, – говорит Норрис, – что я настолько забыл о долге, что предал короля, от которого видел только хорошее, и подверг смертельной опасности даму, которую почитаю? Моя семья поддерживала короля испокон веку. Прадед был верным слугой Генриха Шестого, святого человека, спаси Господь его душу. Дед верой и правдой служил королю Эдуарду и служил бы его сыну, если бы тот сел на трон, а когда Генрих Тюдор был изгнан скорпионом Ричардом Плантагенетом, поддерживал Генриха в изгнании. Я с детства на стороне короля. Я люблю Генриха как брата. У вас есть брат, Кромвель? – Живых нет. – Он бросает на узника гневный взгляд. Неужели Норрис думает, будто его красноречие, его откровенность и искренность что-то изменят? Весь двор видел, как королевский любимчик пускал слюни при виде Анны. Приценивался, щупал товар – будь добр, плати. Он встает, шагает по комнате, разворачивается, трясет головой. – Ради Бога, Гарри Норрис, я что, должен написать это на стене? Король хочет избавиться от Анны. Она не смогла родить сына, и Генрих ее разлюбил. Нынче он влюблен в другую, и Анна ему мешает. Я достаточно ясно выражаюсь? Анна не уйдет по-доброму, она сама говорила, если Генрих ее бросит, она будет сражаться. А если она не уйдет сама, ее придется подтолкнуть, и кроме меня, больше некому. Теперь вы понимаете? Вспомните моего старого хозяина, Вулси. Он не смог исполнить желание короля, и что с ним стало? Его опорочили и уморили. Я не стану повторять ошибок кардинала и постараюсь удовлетворить все желания короля. Нынче Генрих – несчастный рогоносец, но скоро забудет свои печали и снова пойдет под венец. – Сеймуры уже готовят брачный пир? Он усмехается: – А Том Сеймур завивает кудри. В день свадьбы король будет счастлив, я буду счастлив, вся Англия будет счастлива. За исключением Норриса, ибо к тому времени Норрис будет мертв. И с этим ничего не поделать, разве что вы сознаетесь. Генрих обещал проявить милосердие, а ему свойственно держать обещания. В большинстве случаев. – Я скакал с ним из Гринвича, с турнира, – говорит Норрис. – И всю дорогу Генрих приставал ко мне: сознайся, ты должен сознаться! Я сказал ему то, что сказал вам: я невиновен. Но что хуже всего, – и тут Норрис не выдерживает и взрывается, – и вы, и он это знаете! Скажите, почему я? Почему не Уайетт? Все подозревали их с Анной, и разве он когда-нибудь отрицал? Уайетт знал ее в Кенте. Знал с детства! – И что с того? Уайетт знал ее невинным ребенком. Допустим, они согрешили в юности. Достойно порицания, но это не измена. Совсем другое дело путаться с женой короля, с английской королевой. – Мне нечего стыдиться в наших отношениях с Анной. – А как насчет ваших мыслей о ней? Вспомните, что вы сказали Фицуильяму. – Я сказал? – вяло переспрашивает Норрис. – Фиц вынес это из моих признаний? Что мне есть чего стыдиться? А если даже есть, Кромвель, если даже я… мысль еще не делает человека преступником. Он разводит руками: – Мысли означают намерения, намерения могут быть преступными… Если вы отрицаете, что прелюбодействовали с ней, то, возможно, вы имели намерение овладеть ею по закону, после смерти короля? Ваша жена умерла шесть лет назад, почему вы снова не женитесь? – А вы? Он кивает: – Сам себя спрашиваю. Однако у меня нет привычки раздавать обещания юным девам. Ради вас Мэри Шелтон поступилась честью. – Ради меня? – Норрис смеется. – Скажите лучше, ради короля. – Однако его величество не обещал на ней жениться, а вы обещали и до сих пор не исполнили обещания. Надеялись после смерти короля жениться на Анне? Или склонить ее к прелюбодеянию? Одно из двух. – Какой бы ответ я ни выбрал, вы все равно меня обвините. Вы обвините меня, даже если я ничего не скажу, примете молчание за согласие. – Фрэнсис Уэстон думает, что вы виновны. – Фрэнсис Уэстон способен думать? Впервые слышу! Откуда… – Норрис осекается. – Что, он тоже здесь? В Тауэре? – В тюрьме. Норрис качает головой: – Уэстон мальчишка. Как вы смеете так поступать с людьми короля? Беспечный, своевольный мальчишка, все знают, что мы не ладим. – Соперничество в любви, это так понятно. – Он прикладывает руку к сердцу. – Вот еще! – Гарри взбешен, кровь ударяет в лицо, руки трясутся от злобы и страха. – А как насчет Джорджа? – спрашивает он. – Должно быть, вы удивлены такому сопернику. Надеюсь, что удивлены. Я не устаю поражаться распущенности вашей братии. – Зря стараетесь. Кого бы вы ни назвали, я не намерен ни обвинять, ни оправдывать. Мне нечего сказать о Джордже Болейне. – Как? Нечего сказать в осуждение кровосмесительной связи? Теперь я и впрямь верю, что нет дыма без огня! – А скажи я, что давно подозревал их в кровосмесительной связи, вы тут же заявите: Норрис, неужто вы допускаете такие мерзости, не пытайтесь меня сбить, отвлечь от собственных злодейств! Он с восхищением смотрит на узника. – Не зря вы знакомы со мной двадцать лет, Гарри. – Признаюсь, я изучал вас. А до вас вашего хозяина, Вулси. – Это делает вам честь. Какой был государственный муж! – А кончил изменником. – Раз уж вы вспомнили Вулси, обратимся к прошлому. Я не стану воскрешать в вашей памяти многочисленные блага, полученные вами из рук кардинала, попрошу лишь вспомнить невинное развлечение, любительский спектакль, который некогда играли при дворе. Пьеску, в которой покойного кардинала черти тащат в преисподнюю. Он видит, как движутся глаза Норриса, как перед ним проходят давние сцены: яркий свет, жара, улюлюкающая толпа. Они с Болейном держат жертву за руки, Брертон и Уэстон – за ноги. Тащат, роняют, пинают багровую тушу. Четверо, шутки ради превратившие кардинала в животное. Куда делся острый ум Вулси, его доброта, милосердие? Остался воющий зверь, распростертый на полу, сучащий конечностями. Разумеется, не сам кардинал. Шут Заплатка в багровой кардинальской мантии. Впрочем, зрителям все равно: они свистят, орут и потрясают кулаками. После, за сценой, черти со смехом и бранью стягивают с себя мохнатые джеркины и маски, а он, Томас Кромвель, стоит, прислонившись к стене, и смотрит на них молча, в черной траурной одежде. От изумления у Норриса отваливается челюсть. – И что с того? Это же пьеса! Невинное развлечение, вы сами сказали. Вулси уже лежал в могиле, ему было все равно. А когда кардинал впал в немилость, разве я оставил его, разве не я привез ему подарок из рук короля? Он кивает: – Соглашусь, остальные вели себя еще хуже. Но ни один из вас не вел себя, как подобает христианину. Вы, словно дикари, набросились на его поместья и имущество. Продолжать нет смысла. Возмущение на лице Норриса уступает место ужасу. По крайней мере, думает он, Гарри хватило мозгов понять, что стало причиной: не мелкая прошлогодняя обида, а обширная выдержка из книги скорбей, затаенных со времен кардинальской опалы. – Пора платить, Норрис. И кстати, – добавляет он мягко, – дело не только в кардинале. У нас с вами давние счеты. Узник поднимает голову: – А чем вам Марк Смитон насолил? – Марк? – смеется он. – Мне не понравилось, как он на меня смотрел. Поймет ли Норрис, если он скажет напрямик? Ему нужны виновные. И он нашел тех, кто виновен. Пусть и не в том, в чем их обвиняют. Становится тихо. Он сидит, ждет, смотрит на того, кому вскоре предстоит умереть. Прикидывает в уме, как распорядится его должностями и привилегиями. Он постарается распределить их между скромными соискателями, вроде того, с четырнадцатью детьми, который хочет пост смотрителя Виндзорского парка. Валлийские владения перейдут юному Ричмонду, по сути, вернутся королю, стало быть, под его руку. Рейф получит поместье в Гринвиче, будет где жить Хелен с детьми, когда муж при дворе. Кажется, Эдвард Сеймур упоминал, что ему по душе дом Норриса в Кью. – Вы же не просто отведете нас на эшафот, – говорит Гарри Норрис, – ведь будет расследование, суд? Надеюсь, все случится быстро. Кардинал любил повторять: с тем, что у другого займет год, Кромвель справится за неделю. И не пытайтесь его остановить. Вы потянулись, чтобы схватить Кромвеля, а он уже отмахал двадцать миль, пока вы натягивали сапоги. – Норрис поднимает глаза: – Если намерены казнить меня публично, поторопитесь. Иначе я умру от горя тут, в этой камере. Он качает головой: – Не умрете. Когда-то он и сам верил, что умрет от горя после смерти жены, дочерей, сестер, отца, кардинала. Но пульс продолжает упрямо стучать. Ты думаешь, что сейчас дыхание прервется, однако грудная клетка решает иначе: она поднимается и опускается, заставляя тебя дышать. Ты живешь и благоденствуешь наперекор себе, и тогда Господь вынимает твое трепещущее сердце из груди и взамен дает тебе сердце каменное. Норрис дотрагивается до ребер. – Здесь болит с прошлой ночи. Я задохнулся, проснулся от боли и с тех пор не ложился. – Кардинал говорил то же самое. Говорил, что боль, словно точильный камень в груди. Точильный камень и сталь, острый нож в кишках. Боль отпустила только в самом конце. Он встает, собирает бумаги, кланяется, выходит. Генри Норрис; левая рука.
Уильям Брертон. Джентльмен из Чешира. Служил герцогу Ричмонду в Уэльсе и служил дурно. Надменный, бессердечный представитель непокорного рода. – Обратимся к временам покойного кардинала, – говорит он. – Помните старую историю про вашего родича, который убил партнера во время игры в шары? – Порой в игре теряют голову, – говорит Брертон. – Сами знаете. Ваш ход, я весь внимание. – Тогда кардинал решил, что вы должны заплатить, и вашу семью оштрафовали. Я и спрашиваю себя, изменилось ли что-нибудь с тех пор? Или вы до сих пор считаете, что вам закон не писан, раз уж вы служили герцогу Ричмонду и вам покровительствует Норфолк? – Мне покровительствует король. Он поднимает бровь: – Неужели? Тогда вам следует немедля воззвать к вашему покровителю. Вам не кажется, что вас держат в черном теле? К несчастью для вас, короля здесь нет, приходится иметь дело со мной и моей долгой памятью. Однако обратимся к фактам. Помните того джентльмена из Флинтшира, Джона ап Айтона? Вряд ли вы забыли. – Так вот почему я здесь, – говорит Брертон. – Не совсем, но оставим на время вашу прелюбодейственную связь с королевой и поговорим об Айтоне. Думаю, на память вы не жалуетесь. В игре вспыхнула ссора, соперники обменялись ударами, один из ваших родичей погиб, а некто Айтон предстал перед лондонским судом и был оправдан. Вы поклялись отомстить и похитили того человека, грубо поправ закон. Ваши слуги повесили его, и все это – не смей прерывать меня, молокосос! – с вашего полного одобрения. Вы решили, что значит один человек, кому он нужен? Но вы ошиблись. Вы решили, прошел год, и все забыли. Но я помню. Вы решили, закон вам не писан, и вы можете вести себя так, как привыкли в своих владениях на границе, где королевское правосудие попирается каждый Божий день! Ваш дом – воровской притон. – Вы называете меня похитителем людей? – Я говорю, что вы якшаетесь с похитителями, но отныне вашим бесчинствам пришел конец. – А вы теперь суд, присяжные и палач в одном лице? – У бедного Айтона не было и того. – Ваша правда, – признает Брертон. Какое падение. Всего несколько дней назад Брертон жаловался ему, что земли чеширских аббатств уплывают из его рук. Наверняка вспоминает, с какой холодной надменностью учил господина секретаря: конклав судейских из Грейс-инн нам не указ, в моих владениях закон устанавливает моя семья, закон – это то, что считаем законом мы. Теперь он, господин секретарь, спрашивает: – Как вы считаете, Уэстон имел сношения с королевой? – Возможно. – Кажется, Брертону уже все равно. – Я мало его знаю. Он молод, глуп и хорош собой, а женщинам только того и надо. А она, хоть и королева, всего лишь женщина, падкая на лесть. – По-вашему, женщины глупее мужчин? – Как правило. И слабее. В любовных делах. – Я запишу ваши слова. – А что Уайетт, Кромвель? Почему до сих пор о нем ни слова? – Вопросы здесь задаю я, – говорит он. Уильям Брертон; левая нога.
Джорджу Болейну далеко за тридцать, но красота, которой тот славился с юности, осталась при нем, взор светел, кровь играет. Нелегко представить, что этот приятный господин так охоч до запретных удовольствий, как уверяет его жена. Возможно, вся вина Джорджа в том, что тот порой слишком горд и чванлив, слишком оторван от грешной земли? С такой внешностью и талантами Джордж мог парить над королевским двором с его топорными интригами, изысканный и утонченный, внутри собственной сферы: заказывал бы переводы античных поэтов и выпускал изящные тома; гарцевал на белоснежных кобылах перед дамами. К несчастью, Джордж резок и раздражителен, хвастлив и любит плести интриги. Мы застаем брата королевы в светлой круглой комнате Мартиновой башни, на ногах, в поисках, на ком сорвать злость, и спрашиваем себя: понимает ли Джордж, почему здесь оказался? Или волнующее открытие для него еще впереди? – Боюсь, вас почти не в чем упрекнуть, – говорит он, Томас Кромвель, занимая место за столом. – Сядьте, хватит мельтешить. Мне рассказывали, узники умудряются протоптать в камне тропинку, но я не верю. Им потребовалось бы триста лет. Болейн говорит: – Вы обвиняете меня в заговоре, в сокрытии прелюбодеяния, совершенного сестрой, но это обвинение ничтожно, потому что никакого прелюбодеяния не было! – Нет, милорд, не в сокрытии. – В чем тогда? – Вас обвиняют в другом. Сэр Фрэнсис Брайан, который славится бурным воображением… – Брайан! – Болейн испуган, путается в словах. – Но вы же знаете, мы с ним враги! Что, что он сказал, как, как можно ему верить? – Сэр Фрэнсис мне все разъяснил. Мужчина, почти не знавший сестру, снова встречает ее через много лет. Она такая же, как он, и в то же время другая. Она похожа на него, и это еще больше возбуждает. Однажды родственные объятия затягиваются. Дальше – больше. Возможно, оба не понимают, что происходит, пока не заходят слишком далеко. Насколько далеко, не ведаю, ибо не обладаю воображением сэра Фрэнсиса. – Он замолкает. – Это началось до свадьбы? Или после? Болейн начинает дрожать. – Я отказываюсь отвечать. – Милорд, мне не впервой иметь дело с теми, кто отказывается отвечать. – Вы угрожаете мне дыбой? – Разве я пытал Томаса Мора? Мы просто посидели вдвоем в Тауэре, в комнате, похожей на эту. Я слушал бормотание внутри его молчания. Порой молчание бывает весьма красноречивым. Так будет и на сей раз. Джордж говорит: – Генрих убил советников отца, убил герцога Бекингема. Погубил кардинала, приблизив его кончину. Отрубил голову величайшему европейскому мыслителю. А теперь задумал уничтожить жену, ее семью и Норриса, который был его лучшим другом. Что заставляет вас думать, что вы от них отличаетесь и вас минует их судьба? – Не вам и вашему семейству поминать имя кардинала. А уж тем более Томаса Мора. Ваша сестра жаждала отомстить, не отставала от меня: «Как, Томас Мор все еще жив?» – Кто меня оклеветал? Не Фрэнсис Брайан. Моя жена? Мне следовало догадаться. – Вы высказали предположение, но я не обязан с ним соглашаться. Должно быть, вы сильно виноваты перед женой, если допускаете, что она способна измыслить подобное. – И вы ей поверили? – вопрошает Болейн. – Поверили слову одной женщины? – Множество женщин пали жертвами вашей неотразимости. Ради их спокойствия я постараюсь избавить этих дам от показаний в суде. Вы привыкли менять женщин как перчатки, милорд, теперь не жалуйтесь, если они отплатили вам той же монетой. – Выходит, меня будут судить за мои любовные похождения? Это все зависть, вы все мне завидовали, моему успеху у женщин. – Успеху? Вы по-прежнему называете это успехом? – Не знал, что это преступление. Предаваться любви по взаимному согласию. – Не советую вам приводить этот аргумент в свою защиту. Если вы предавались любви с сестрой… судьи сочтут ваши слова… дерзостью. Проявлением неуважения. Вас спасет – речь идет о спасении вашей жизни – только подробное свидетельство об отношениях вашей сестры с другими мужчинами. В ваших интересах отвлечь судей от ваших собственных прегрешений. – Вы считаете себя христианином и просите меня дать показания, которые погубят мою сестру? Он разводит руками: – Я ни о чем не прошу. Я лишь предлагаю возможное решение. Мне неведомо, готов ли король проявить милосердие. Генрих может выслать вас за границу, может смягчить способ казни. Или не смягчить. Изменников казнят публично, они умирают в унижении и страшных муках. Я вижу, вы меня понимаете, видели собственными глазами. Болейн съеживается, обхватывает себя руками, словно защищая утробу от мясницкого ножа, падает на стул; давно бы так, ведь я говорил, мне не обязательно до тебя дотрагиваться, чтобы усадить. – Вы исповедуете истинную веру, милорд, значит, спасены. Однако ваши поступки едва ли заслуживают спасения. – Не лезьте мне в душу, – говорит Джордж. – Такие вопросы я обсуждаю со священником. – Вы настолько уверовали в свое прощение, что надеялись жить в грехе еще много лет, и хотя Господь все видит, Он должен был терпеть, пока вы состаритесь и ответите на Его призыв. Или я не прав? – Я буду говорить об этом с моим духовником. – Теперь я ваш духовник. Вы прилюдно обвиняли короля в половом бессилии? Джордж ухмыляется: – Король бывает мужчиной только в хорошую погоду. – Выходит, вы сомневаетесь в законном праве принцессы Елизаветы на трон, а это ли не измена? Ведь она – наследница английского престола. – Faute de mieux. – Теперь король уверен, что ваша сестра не родила ему сына, потому что их брак незаконен. Генрих подозревает скрытый физический изъян, считает, что Анна была с ним нечестна. Король задумал жениться, и новый брак будет чист. – Что-то вы разоткровенничались, – замечает Джордж. – Кто бы мог подумать. – Я хочу лишь, чтобы вы не питали ложных надежд. Священники, о которых вы толкуете, я пришлю их вам. Самое время. – Господь дарует наследников последнему нищему, – говорит Джордж. – Награждает сыновьями незаконные союзы, а равно и законные, не делая различий между шлюхой и королевой. Я удивляюсь простодушию короля! – Это святая простота, – отвечает он. – Он помазанный суверен, ближе всех к Господу. Болейн пристально всматривается в него, подозревая скрытую иронию, но напрасно. Он уверен в своем лице. Оглядываясь на придворную карьеру Болейна, вы видите: тут Джордж просчитался, а там сплоховал. Здесь подвела гордость, там нежелание обуздать свой норов. Ему еще учиться держать нос по ветру, как умеет его отец, но часы, отпущенные на учение, стремительно истекают. Есть время сохранять достоинство, и время забыть о гордости, если хочешь выжить. Время ухмыляться хорошему раскладу, и время швырнуть на стол карты и деньги со словами: «Томас Кромвель, ваша взяла». Джордж Болейн; правая рука.
К тому времени, как он добирается до Фрэнсиса Уэстона (правая нога), семья юноши успевает предложить ему солидную сумму. Он вежливо отказывается. На их месте он поступил бы так же, впрочем, трудно представить, чтобы Грегори или кто-то из его домочадцев свалял бы такого дурака, как этот юнец. На этом Уэстоны не успокаиваются, обращаются к самому королю, обещая щедрое пожертвование в казну без всяких предварительных условий. – Я не вправе советовать его величеству, – говорит он Фицуильяму. – Возможно, им удастся добиться смягчения приговора. Зависит от того, насколько задета королевская гордость. Однако Генрих непреклонен. – На месте Уэстонов, – заявляет Фицуильям мрачно, – я бы все равно заплатил. На будущее. Примеру Уэстонов не мешало бы последовать Болейнам (тем, кто выжил) и Говардам. Он еще растрясет древние дубы и каждый год будет получать обильный урожай золотых монет. Когда он входит в камеру, где содержат Уэстона, тот уже знает, кто арестован, знает или догадывается, что ему грозит. Сведения поступают от надзирателей, потому что он, Кромвель, пресек общение между четырьмя обвиняемыми. Другое дело, болтливый тюремщик: никто лучше не склонит заключенного к сотрудничеству. Вероятно, Уэстону известно, что идея со взяткой провалилась. Вы смотрите на Кромвеля и думаете; если не взятка, то что? Бесполезно протестовать, отрицать и упорствовать. Остается унизиться, вдруг повезет? – Я насмехался над вами, сэр, – говорит Фрэнсис. – Я вас недооценивал. Нижайше прошу у вас прощения. Вы – королевский слуга, и мне следовало отнестись к вам с должным уважением. – Умная защита, – замечает он. – Впрочем, вам следовало бы просить прощения у Господа и короля. – Вы ведь знаете, я недавно женился, – говорит Фрэнсис. – И сейчас ваша жена в деревне. Разумное решение. – Разрешат ли мне написать ей? Моему сыну не исполнилось и года. – Фрэнсис замолкает. – Я хочу, чтобы за мою душу молились после смерти. Господь сам разберется, но Фрэнсис верит, что Создателя можно улестить и, возможно, подкупить. Словно в ответ на его мысли, Уэстон говорит: – Я в долгах. Тысячу фунтов. Теперь я сожалею. – Странно было бы ждать бережливости от такого щеголя, – замечает он мягко, и Уэстон поднимает глаза. – Разумеется, вы не в состоянии оплатить ваши долги и, даже вступив в права наследства после смерти отца, останетесь должны. Ваша непомерная расточительность заставляет задуматься, на что рассчитывал юный Уэстон? Мгновение юноша смотрит на него с изумлением и гневом, словно недоумевая: при чем тут его долги? Не сразу до арестанта доходит. Он, Кромвель, протягивает руку и хватает Фрэнсиса за грудки, чтобы не дать тому рухнуть. – Судьи сразу смекнут, в чем дело. Нам известно, что королева давала вам деньги. Ваше безрассудство легко объяснить. Что для вас тысяча фунтов, раз вы замышляли после смерти короля жениться на вдове. Почувствовав, что Уэстон может сидеть ровно, он ослабляет хватку. Юноша задумчиво одергивает одежду, расправляет оборки на воротнике. – Вашу жену не бросят на произвол судьбы, не тревожьтесь на сей счет. Король не обижает вдов. Осмелюсь предположить, о ней будут заботиться лучше, чем заботились вы. Уэстон поднимает глаза: – Я не могу осуждать ваши домыслы и понимаю, как можно истолковать мои поступки. Я вел себя как дурак, а вы были рядом и все видели. Я сам себя погубил. Я также не стану осуждать ваши поступки, в прошлом я делал все, чтобы вам навредить. Я прожил дурно… я прожил… понимаете, я думал, впереди еще лет двадцать или около того, и когда я состарюсь… когда мне будет лет сорок пять – пятьдесят, я стану жертвовать сирым и неимущим, и тогда Господь поймет, как мне совестно… Он кивает: – Никто не знает своего часа, верно, Фрэнсис? – И все же, господин секретарь, в чем я неповинен, так это в прелюбодеянии с королевой. Я вижу по вашему лицу, вы и сами так думаете, и когда меня поведут на смерть, все увидят, что я невиновен. И король поймет и раскается. Обо мне будут помнить, как помнят о тех, кто пострадал невинно. Жестоко было бы разрушать эту веру: юноша надеется, что в смерти получит славу, которой не заслужил при жизни. Двадцать пять лет впереди и никакой надежды, что они будут отличаться от первых двадцати пяти. Выросший под крылом суверена, придворный из семьи придворных, ни разу не усомнившийся в своем высоком статусе, ни разу не возблагодаривший Бога за то, что родился Фрэнсисом Уэстоном, везунчик, с колыбели назначенный служить великому королю и великой нации, не оставляет после себя ничего, кроме долгов, запятнанного имени и сына. Любой способен родить сына, говорит он себе, важно помнить, зачем мы здесь и ради чего все устроено. – Ваша жена писала королю. Просила о милосердии. У вас остались друзья. – Что мне с того? – Вряд ли вы сознаете, сколь многих осиротят нынешние события. Пусть это вас утешит. Не горюйте, Фрэнсис. Любой юный искатель приключений знает, что фортуна переменчива. Смиритесь. Берите пример с Норриса, который никого не винит. – Возможно, Норрису и впрямь некого винить, кроме себя! – восклицает юноша. – Возможно, он и впрямь искренне раскаивается. Возможно, Норрис заслуживает смерти, но я-то нет! – Норрис с лихвой заплатил за шашни с королевой. – Он не отходит от нее на ни шаг! И не говорите мне, что они обсуждают Евангелие. Вероятно, Фрэнсис готов донести на Норриса. Тот почти признался Уильяму Фицуиляму, но вовремя прикусил язык. Неужели дошло до фактов? Он ждет: арестант прячет лицо в ладонях. Внезапно, сам не зная почему, он встает, извиняется, выходит вон. Снаружи Ризли и остальные подпирают стены, перекидываясь шутками. Завидев его, молодые люди выпрямляются. – Мы закончили? – спрашивает Ризли. – Признался? Он качает головой. – В чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем. Каждый будет твердить о собственной невиновности, но никто не скажет: «Она невинна». Кишка тонка. Как однажды сказал ему Уайетт: «А хуже всего ее намеки, почти похвальба, что она говорит “нет” мне и “да” другим». – Значит, признаний вы не добились, – говорит Ризли. – Хотите отдать арестантов нам? Он одаривает Зовите-Меня взглядом, от которого тот отшатывается, наступая на ногу Ричарду Ричу. – Что, Ризли, решили, я слишком мягок к юным? Рич спрашивает, потирая ногу: – Нам составить обвинения? – И подлиннее. Извините, я должен выйти. Рич решает, ему надо в нужник. Он и сам не знает, что заставило его выскочить из комнаты. Возможно, фраза Уэстона, что когда-нибудь ему исполнится сорок пять или пятьдесят. Словно, миновав середину жизни, впадаешь в детство. Его тронули эти слова, их наивность. Или просто захотелось глотнуть свежего воздуха. Представьте, вы в комнате, окна на замке, и вы явственно ощущаете близость других тел и меркнущий свет. В комнате вы строите догадки, играете, двигаете своих слуг: умозрительные фигуры, твердые, словно слоновая кость, черные, как эбеновое дерево, прокладывают путь по квадратам. Затем вы говорите: я больше не вынесу, дайте вдохнуть; выскакиваете в запущенный сад, где виновные свисают с деревьев, больше не слоновая кость, больше не эбеновое дерево, ныне во плоти. Их скорбные языки твердят о вине, пока они испускают дух. Следствие предшествует причине. То, что вы воображаете, уже свершилось. Вы тянетесь к ножу, но кровь пролита. Агнцы забиты и съедены. Сами выложили на стол ножи, сами себя разделали, сами оставили от себя одни кости.
Май цветет даже на городских улицах. Он посылает дамам в Тауэр цветы. Кристофу велено доставить букеты. Юноша растолстел и выглядит, словно жертвенный бык, украшенный гирляндами. Интересно, что они делали с мясом, язычники и ветхозаветные евреи? Раздавали бедным? Анна живет в покоях, отремонтированных к ее коронации. Он лично следил за работами, наблюдая, как богини с черными лучистыми очами расцветают на стенах. Богини нежатся на траве под кронами кипарисов, белая голубка смотрит сквозь листву, охотники направляются на охоту, гончие вприпрыжку несутся впереди, исполняя свою собачью музыку. При его появлении леди Кингстон встает. – Сидите, дорогая мадам, – говорит он. Где Анна? Ее нигде не видать. – Молится, – отвечает одна из теток Болейн. – Поэтому мы оставили ее одну. – Это было давно, – говорит другая тетка. – Вы уверены, что она не привела туда мужчину? Тетушки прыскают, он не поддерживает общего веселья, леди Кингстон бросает на хохотушек тяжелый взгляд. Из крохотной молельни появляется королева, она слышала голоса. Солнечные лучи падают ей на лицо. Леди Рочфорд права: Анна увядает. Если не знать, что некогда эта женщина держала в ладони королевское сердце, вы не найдете в ее облике ничего примечательного. Вероятно, теперь ей всегда будет свойственно это выражение напускного легкомыслия и деланной робости. Постепенно Анна превратится в одну из тех женщин, которые и в пятьдесят мнят себя красавицами, мастериц напустить туману, что хихикают, словно юные девушки, жеманно касаются вашей руки и при виде красавчиков-простофиль вроде Тома Сеймура обмениваются с товарками лукавыми взглядами. Впрочем, ей никогда не будет пятьдесят. Вероятно, он в последний раз видит Анну-королеву до суда. Она садится в уголке, среди женщин. От реки несет прохладой, и даже в этих нарядных комнатах висит сырость. Он спрашивает, не прислать ли мехов. – Да. Горностаев. А еще замените этих женщин. Я желаю сама выбрать себе окружение. – Леди Кингстон здесь, потому что… – Она для вас шпионит. – …она ваша хозяйка. – А я, стало быть, гостья? И как гостья вольна уйти, когда захочу? – Я полагал, вы не станете возражать против мистрис Орчард, вашей кормилицы. А что до ваших тетушек… – Они меня ненавидят, все до одной, знай злословят да хихикают. – Иисусе! А вы ожидали аплодисментов? Болейны все такие: терпеть не могут собственную родню. – Когда я выйду отсюда, вы не посмеете разговаривать со мной в таком тоне. – Простите. Я сказал не подумав. – Не понимаю, что взбрело в голову королю. Зачем он меня тут держит? Испытывает? Это какая-то уловка? Он так не думает, потому не отвечает. – Я хочу увидеться с братом, – говорит Анна. Ее тетя леди Шелтон поднимает глаза от рукоделия и замечает: – Нельзя придумать просьбы глупее. – А где мой отец? Не понимаю, почему он меня не защищает. – Ему повезло, что остался на свободе, – говорит леди Шелтон. – От Томаса Болейна помощи не дождешься, всегда думает только о себе, мне ли не знать. Анна пропускает слова тетки мимо ушей. – А мои епископы? Я ли не защищала их, я ли их не поддерживала? Почему они не замолвят за меня словечко перед королем? Тетушки Болейн хохочут: – Чтобы епископы стали защищать блудницу? Очевидно, этот процесс уже проигран Анной. – Помогите королю, – советует он. – Если он не проявит милосердие, вам не на что надеяться. Но вы еще можете помочь дочери, Елизавете. Чем скромнее и тише вы будете держаться в суде, чем более искренним будет ваше раскаяние, тем с меньшей горечью его величество будет вспоминать о вас впоследствии. – Ах вот как, в суде… – В Анне просыпается былая резкость. – В каком суде? – Сейчас джентльмены дают показания. – Показания? – переспрашивает Анна. – Вы слышали, – отвечает леди Шелтон. – Ради вас они не станут лгать и изворачиваться. – Возможно, будут еще аресты и новые обвинения, но в ваших силах сделать процесс менее болезненным для всех. Джентльменов будут судить вместе. Вы и ваш брат, в силу вашего высокого положения, предстанете перед судом пэров. – У них нет свидетелей. В чем бы меня ни обвиняли, я буду отрицать. – Пусть так, – говорит он, – хотя относительно свидетелей вы заблуждаетесь. Когда вы были на свободе, ваши фрейлины лгали вам в угоду. Сейчас они осмелели. – Не сомневаюсь. – Анна выдерживает его взгляд, в тоне – презрение. – Как и эта Сеймур. Передайте ей от меня: Господу ведомы ее уловки. Он встает, собирается уходить. Присутствие Анны лишает его силы духа, нестерпимо ощущать ее душевную боль, готовую прорваться каждую минуту. Все слова сказаны, пора уходить, но он медлит. – Если король решит аннулировать ваш брак, я вернусь, чтобы записать ваши показания. – Еще и это? – спрашивает Анна. – Разве моей смерти недостаточно? Он кланяется, поворачивает к двери. – Нет! Анна вскакивает, робко касается его руки. Словно доброе мнение Кромвеля значит для нее не меньше свободы. – Вы ведь не поверили всем этим россказням? Я знаю, в глубине души вы им не верите. Кремюэль? Он медлит на краю чего-то непрошеного: лишнего знания, бесполезной информации. Поворачивается к ней, подается вперед… И тут она прижимает руки к груди жестом, который демонстрировала ему леди Рочфорд. Вот как, царица Эсфирь. Она не невинна, а лишь изображает невинность. Его руки падают, он отворачивается. Анне неведомо раскаяние. И нет такого греха и преступления, на которое она не способна. Эта женщина – дочь своего отца, и все, чего добивается, уговорами или принуждением, обращает к своей выгоде. Однако довольно одного жеста, чтобы разрушить козни. Он видит, как меняется ее лицо. Анна отступает назад, обхватывает горло руками, сжимает, словно душит себя. – У меня очень тонкая шея, – говорит она. – Они справятся без труда.
Кингстон спешит ему навстречу, коменданту нужно выговориться. – Она не унимается! Все время держит руки на горле. И смеется. На честном лице тюремщика смятение. – Смеется без повода. Говорит всякие глупости. Что дождь не прекратится, пока ее не освободят. Или не начнется. И прочее в том же духе. За окном шумит летний дождик. Скоро он закончится, и солнце вмиг высушит камни. – Моя жена пробует ее урезонить, – рассказывает Кингстон. – А она спрашивает меня: мастер Кингстон, дождусь ли я правого суда? Мадам, отвечаю я, самый бедный королевский подданный может рассчитывать на правосудие. Она знай себе смеется, заказывает обед, поглощает его с отменным аппетитом. А еще говорит стихами. Моя жена их не запоминает. По словам королевы, стихи принадлежат Уайетту. Ах, Уайетт, Уайетт, вздыхает она, когда же я увижу тебя рядом?
В Уайтхолле он слышит Уайетта и идет на голос, а сопровождающие вьются вокруг. У него никогда еще не было такой свиты, некоторых он знать не знает. Чарльз Брэндон, герцог Суффолкский, Чарльз Брэндон, громадный, словно дом, нависает над Уайеттом. Эти двое увлеченно орут друг на друга. – Что вы здесь делаете? Уайетт обрывает разговор на полуслове и бросает через герцогское плечо: – Миримся. Он смеется. Брэндон грузно отступает в сторону, ухмыляясь в бороду. – Я умолял его отбросить старую вражду. Смерти он моей, что ли, добивается? – Уайетт с неприязнью смотрит герцогу в спину. – Брэндон не упустит случая. Герцог давно наговаривал королю на меня и Анну. – Однако, если помните, Генрих отослал его в восточные земли. – Миновали те времена. Теперь убедить Генриха несложно. Он тянет Уайетта за руку. Ему удалось сдвинуть с места Чарльза Брэндона, он справится с любым. – Я не собираюсь обсуждать это на публике. Я пригласил вас не за тем, глупец, чтобы вы с дерзким видом разгуливали у всех на виду, заставляя людей спрашивать себя: неужели Уайетт до сих пор на свободе? Уайетт кладет ладонь поверх его руки, глубоко вдыхает, собирается с духом. – Отец велел мне не отходить от короля ни днем ни ночью. – Это невозможно, король никого не принимает. Вам следовало идти ко мне, в здание судебных архивов, а затем… – Если я войду в ваш дом, скажут, что меня арестовали. – Никто из моих друзей не пострадает, – говорит он тихо. – За последний месяц вы обзавелись странными друзьями. Паписты, сторонники леди Марии, Шапюи. Сейчас у вас общие цели, но что потом? Что, если они окажутся проворнее, когда вашей дружбе придет конец? – Думаете, дом Кромвеля так легко разрушить? – спокойно возражает он. – Верьте мне. Впрочем, выбирать вам не приходится. Идут из дома Кромвеля в Тауэр, в сопровождении Ричарда Кромвеля. Все проходит так гладко, так по-дружески, словно эти двое собрались поохотиться. – Просите коменданта принять мастера Уайетта со всевозможным почтением, – инструктирует он Ричарда. – Это единственное безопасное место, – обращается он уже к Уайетту. – В Тауэре никто не посмеет приставать к вам с расспросами без моего ведома. – Если я туда войду, обратно меня не выпустят, – говорит Уайетт. – Ваши новые друзья этого не допустят. – Им со мной вовек не расплатиться, – отвечает он просто. – Вы же меня знаете, Уайетт. Мне ведомо, кто чего стоит и кто на что способен. И я говорю не только о деньгах. Я взвесил и оценил ваших врагов. Я знаю, на что они способны и на что не способны. И поверьте, если им случится меня разозлить, они дорого заплатят. Я оберу их до нитки. Когда Уайетт и Ричард уходят, он, хмурясь, говорит Ризли: – Когда-то Уайетт называл меня умнейшим человеком в Англии. – Уайетт вам не льстил, – отвечает Зовите-Меня. – Я не устаю учиться у вас. – По-настоящему умен не я, а сам Уайетт. Мы ему в подметки не годимся. Он выражает себя в том, что написал, и тут же опровергает написанное. Набрасывает стих на обрывке бумаги и сует его вам за обедом или во время службы. А после отдает тот же стих кому-нибудь другому, изменив одно слово. И когда этот кто-то спрашивает, читали ли вы последнее стихотворение Уайетта, вы отвечаете утвердительно, но на деле вы говорите о разном. А если вам удастся припереть Уайетта к стене и поинтересоваться, неужели он и впрямь проделывал то, о чем написал, он улыбнется и скажет, что писал о некоем воображаемом джентльмене. Или что история вовсе не про него, а про вас, хотя вы о ней впервые слышите. Эта женщина, брюнетка, на самом деле светловолосая. Можете верить всему или ничему из написанного, провозглашает он. Тогда вы находите место на странице и тыкаете пальцем: эта строка, она правдива? Правдива, отвечает он, в поэтическом смысле. А кроме того, я все равно не могу писать так, как бы мне хотелось. Меня ограничивает не король, но ритм. Я и хотел бы выражаться яснее, однако вынужден придерживаться размера. – Кто-то должен напечатать его стихи, – говорит Ризли. – Чтобы сохранить их неизменными. – Уайетт на это не согласится. Его стихи – не для посторонних. – На его месте, – замечает Ризли, – я бы не хотел быть неверно истолкованным. И держался бы подальше от цезаревой жены. – Мудрая тактика, – улыбается он. – Для людей вроде нас с вами, но не для Уайетта. Строки из-под Уайеттова пера обретают крылья, то взмывая над смыслом, то подныривая под него. В них сказано, что законы власти и законы войны одинаковы, а цель искусства – лгать. Тебе суждено обманывать и обманываться, будь ты дипломат или влюбленный. Ты рассуждаешь о природе обмана и думаешь, что схватил суть, но ты сам будешь обманут, сожмешь ладонь, а там пусто. Закон пишется, чтобы удержать суть, поэма – чтобы ее затемнить. Острое перо колышется и шелестит, словно ангельские крылья. Ангелы – посланники, наделенные разумом и волей. Нам неведомо, похожи ли их крылья на соколиные, вороньи или павлиньи. Нынче ангелы редко удостаивают нас визитами. Впрочем, в Риме он знавал слугу, который поворачивал вертела на папской кухне и однажды столкнулся с ангелом лицом к лицу. В сыром коридоре, сочащемся влагой, в затопленной кладовой Ватикана, куда кардиналы не захаживают. Люди угощали слугу вином, чтобы послушать его рассказ. Слуга утверждал, что на ощупь ангел гладкий и твердый, как мрамор, взгляд его холоден и безжалостен, а крылья вырезаны из стекла.
Когда обвинительный акт попадает к нему в руки, он безошибочно угадывает за рукой судейского почерк короля. Слышит голос Генриха за каждой строкой: королевскую ненависть, ревность, страх. Недостаточно утверждать, что Норриса Анна подстрекала к преступной связи в октябре тысяча пятьсот тридцать третьего, а Брертона – в ноябре того же года, нет, воображению Генриха рисуются «грязные разговоры, поцелуи, прикосновения и подарки». Мало заявить, что она вела себя неподобающе с Фрэнсисом Уэстоном в мае тысяча пятьсот тридцать четвертого, а с Марком Смитоном, простолюдином, прелюбодействовала в апреле прошлого года, нет, королю важно упомянуть о жарких ссорах и бешеной ревности, которую Анна питала ко всем женщинам. Хватило бы простого упоминания, что Анна согрешила с собственным братом, нет, пусть все знают о поцелуях, подарках, драгоценностях и о том, как она «возбуждала его, просовывая свой язык в рот вышеупомянутому Джорджу, а вышеупомянутый Джордж отвечал ей тем же». Это больше похоже на досужую болтовню с леди Рочфорд или другой любительницей сплетен, чем на судебный документ. Впрочем, в подобных формулировках есть смысл: те, кому предстоит выслушать эту душераздирающую историю, не скоро ее забудут. – Добавьте в каждый пункт «в дни, предшествовавшие, а также последовавшие за преступным деянием», – велит он. Или другую подобную фразу, пусть все знают: деяния совершались неоднократно, возможно, чаще, чем помнят обвиняемые. – Даже если окажется, что некое преступление в действительности не имело места, – добавляет он, – оспорить обвинение в целом не удастся. Только послушайте, что говорит Анна! Если верить документу, она признается, что «никогда не питала к королю искренней привязанности». Никогда. Ни тогда, ни сейчас. Он хмурится над бумагами, отдает их клеркам. Слышен ропот. Не следует ли добавить в список обвиняемых Уайетта? Нет, ни в коем случае. Если король зайдет так далеко и Уайетту суждено предстать перед судом, нельзя допустить, чтобы его судили вместе с этой шайкой. С Уайеттом мы начнем с чистого листа, ибо после нынешнего процесса осужденным прямая дорога на плаху. А если люди, осведомленные о перемещениях двора, заметят противоречия в показаниях? Брертон однажды заявил мне, возражает он, что способен быть в двух местах одновременно. А также и Уэстон. Любовники Анны – иллюзорные джентльмены, вовлекшие королеву в грех. Они приходят и уходят, и никому из них нет отказа. Словно мошкара скользят над рекой, поблескивая во тьме, дублеты расшиты алмазами. Луна взирает на них, воды Темзы отражают их, мерцающих, как рыбы или жемчужины. Его новые союзники, Куртенэ и Полы, делают вид, будто не удивлены обвинениями против Анны. Эта женщина – еретичка, а равно и ее братец. А еретикам, как известно, неведомы приличия, их не сдерживают законы, ни человеческие, ни божественные. Они ничем не брезгуют, берут все, что идет в руки. А те, кто (по глупости) потакал еретикам из лени или жалости, теперь могут лицезреть их истинную натуру. Поделом Генриху Тюдору, приговаривают старые семейства, будет ему хороший урок. Может быть, Рим протянет королю руку помощи? Теперь, когда Анна почитай что мертва, если Генрих приползет к папскому престолу на коленях, возможно, Папа простит его и примет в свои объятия? А как же я, спрашивает он. Вы, Кромвель? Новые хозяева взирают на него с рассеянным отвращением. – Я стану вашим блудным сыном, – улыбается он. – Вашей заблудшей овцой. В Уайтхолле придворные сбиваются в тесные группки, что-то приглушенно обсуждают, ощетинившись локтями, сжимая кинжалы на поясе. Хмурые судейские шепчутся по углам. А нельзя ли освободить короля малой кровью, сэр, спрашивает Рейф. Однажды, говорит он, когда ты устанешь торговаться и договариваться и решишь идти до конца, действуй быстро и безукоризненно. Враг не успеет и глазом моргнуть, а ты уже занес его имя в список арестантов, блокировал порты, подкупил жену и детей. Его наследники – под твоей опекой, его деньги – в твоих сундуках, его собака отзывается на твой свист. Прежде чем враг проснется, ты должен стоять у его изголовья с топором наготове.
Когда он, Томас Кромвель, приходит навестить Уайетта в тюрьме, комендант Кингстон спешит уверить его, что к арестованному относятся со всевозможным почтением. – А королева, как она? – Места себе не находит, – отвечает расстроенный Кингстон. – Я повидал немало заключенных, но она беспокойней всех. То говорит, я знаю, что должна умереть, то обратное. Думает, король приплывет за ней и заберет ее обратно во дворец. Надеется, что произошла ошибка и скоро все разъяснится. Что король Франции вмешается и защитит ее. Тюремщик огорченно качает головой. Он застает Томаса Уайетта за игрой в кости – занятием, которое старый сэр Генри Уайетт не одобрил бы. – И кто в выигрыше? Уайетт поднимает глаза. – Этот горланящий идиот, мое лучшее я, играет против того ноющего дурака, моего худшего я. Догадайтесь, кто в выигрыше. Впрочем, всегда есть вероятность, что роли поменяются. – Вам здесь удобно? – Телу или духу? – Моя забота – тела. – Вас ничем не смутишь, – говорит Уайетт, в голосе невольное восхищение напополам со страхом. Еще как смутишь, думает он, Кромвель, только об этом не пишут в депешах. Уайетт не видел, как я выходил от Уэстона. Не видел, как Анна робко коснулась моей руки и спросила, неужели я верю во все эти россказни. Он садится, не сводя глаз с заключенного, говорит: – Я всю жизнь к этому шел. Учился сам у себя. Его карьера построена на лицемерии. В глазах, что некогда смотрели с презрением, нынче лишь уважение, впрочем, поддельное. Руки, что тянулись сбить с него шляпу, теперь простерты для дружеского объятия, грозящего обернуться сломанными ребрами. Он развернул врагов к себе лицом, словно в танце, а теперь намерен развернуть в обратную сторону: позволить им оглянуться на долгие холодные годы, ощутить дуновение холодного ветра, что пробирает до кости. Чтобы враги ложились спать, выбившись из сил, а поутру вставали, ежась от холода. – Я запишу все, что вы скажете, но даю вам слово: как только дело завершится успешно, я уничтожу записи. – Успешно? – переспрашивает Уайетт, изумленный выбором слова. – Король узнал, что его жена изменяла ему с несколькими мужчинами: один из них – ее брат, другой – лучший друг, третий – слуга, которого, по ее словам, она едва знала. Зеркало правды разбито, говорит Генрих. Собрать осколки – это ли не успех? – Что значит – узнал? Откуда? Никто, кроме Марка, не признался. А что, если Марк солгал? – Но он признался, так почему мы должны сомневаться? Наше ли дело убеждать его в собственной неправоте? Для чего тогда существуют суды? – Но где доказательства? – настаивает Уайетт. Он улыбается: – Правда постучалась удверей, закутавшись в плащ с капюшоном. И Генрих впустил ее, потому что давно знал. Правда не пришла незваной гостьей. Томас, я думаю, король знал всегда. Знал, что она изменяла ему если не телом, то словами, если не делом, то в мечтах. Она никогда его не любила, а он бросил к ее ногам весь мир. Генрих уверен, что никогда не удовлетворял ее, и даже когда лежал рядом, она воображала на его месте другого. – Нашли чем удивить, – говорит Уайетт. – Этим кончается любой брак. Не знал, что это преступление перед законом. Помилуй Бог! Да половину Англии следовало бы бросить в темницу! – Одни обвинения пишутся на бумаге, другие мы не доверяем перу. – Если чувство есть преступление, то я признаюсь… – Ни в чем вы не признаетесь. Норрис признался, что любит ее. Если от вас потребуют признания, не признавайтесь ни за что в жизни. – Но чего хочет Генрих? У меня голова идет кругом. – Король мечется. Ему хочется прожить жизнь заново. Никогда не встречать Анну. Встретить ее, но пройти мимо. А больше всего ему хочется, чтобы она умерла. – Хотеть еще не значит мочь. – Значит, если мы говорим о Генрихе. – Насколько я сведущ в законах, прелюбодеяние – не измена. – Да, но те, кто принудил королеву к прелюбодеянию, изменники. – Вы думаете, они брали ее силой? – спрашивает Уайетт сухо. – Нет, это всего лишь юридический термин. Предлог думать лучше о королеве, навлекшей на себя позор. Впрочем, Анна тоже изменница, она сама призналась, собственными устами. Желать королю смерти – измена. – И снова прошу простить мою непонятливость, – говорит Уайетт. – Полагаю, Анна сказала нечто вроде «если король умрет». Позвольте мне порассуждать. Выходит, если я скажу: «Все люди смертны», то напророчу Генриху смерть? – На вашем месте я не увлекался бы рассуждениями, – произносит он мягко. – Томаса Мора сгубили именно они. А теперь займемся вами. Мне может понадобиться ваше свидетельство против королевы. Достаточно, если оно будет на бумаге, незачем произносить его в суде. Давным-давно, у меня в гостях, вы обмолвились, что Анна говорит мужчинам: «Да, да, да, да, нет». Уайетт кивает, узнавая свои слова, жалея, что произнес их. – Вам нужно переставить в вашем свидетельстве лишь одно слово. Да, да, да, нет, да. Уайетт не отвечает. Молчание длится, оседая вокруг, усыпляющее молчание: на деревьях раскрываются листья, благоухают цветы, вода журчит в фонтанах, в садах слышен молодой смех. Когда Уайетт подает голос, в нем слышна натянутость: – Это не доказательство. – Какая разница? – Он подается вперед. – Я здесь не для того, чтобы переливать из пустого в порожнее. Я не могу расколоться надвое, быть вашим другом и королевским слугой. Поэтому ответьте: вы готовы подписать признание и, если потребуется, произнести одно слово? – Он откидывается назад. – И тогда, если вы убедите меня в своей лояльности, я напишу вашему отцу. Скажу ему, что его сын выбрался живым из этой передряги. – Он замолкает. – Так я напишу ему? Уайетт кивает. Самый скупой из жестов, кивок будущему. – Вот и хорошо. А после, в качестве компенсации за ваше пребывание здесь, я позабочусь снабдить вас некоей суммой. – Не стоит. – Уайетт с неохотой отводит глаза. Чистое ребячество. – Стоит, поверьте. Вы задолжали в Италии. Ваши кредиторы приходят ко мне. – Я не ваш брат, а вы мне не опекун. – Если вы дадите себе труд задуматься, то поймете, что ошибаетесь. Уайетт говорит: – Я слыхал, Генрих решил аннулировать брак. Убить ее и развестись с ней в один и тот же день. Это так похоже на Анну. Все или ничего. Ей мало было стать его любовницей, ей непременно нужна была корона. Попрать веру, переписать законы, ввергнуть страну в хаос. Если Генриху потребовалось столько усилий, чтобы заполучить Анну, то сколько же стоит от нее избавиться? Даже ее смерти ему будет мало. – Вы совсем ее разлюбили? – любопытствует он. – Она истощила мою любовь, – бросает Уайетт. – А возможно, и не было никакой любви, я сам в себе не уверен, вы меня знаете. Осмелюсь заметить, многие мужчины испытывали к Анне разные чувства, но любил ее только король. А теперь Генрих уверен, что она обвела его вокруг пальца. Он встает: – Я напишу вашему отцу. Объясню, что ради вашей безопасности вы пробудете здесь еще какое-то время. Но сначала я должен… нам казалось, Генрих оставил мысль об аннулировании брака, но король передумал, поэтому… Разрешая его затруднения, Уайетт заканчивает за него: – Придется вам идти на поклон к Гарри Перси.
Прошло почти четыре года с тех пор, как в грязном трактире «Марк и лев» ему удалось вбить в голову Гарри Перси одну, но поворотную истину: его светлость, каковы бы ни были его собственные измышления по этому поводу, никогда не был женат на Анне Болейн. Тогда он грохнул кулаком об стол и заявил юному графу, что если тот не уберется с пути короля, то будет уничтожен: он, Томас Кромвель, позволит кредиторам его разорить. Грохнул кулаком и пригрозил, что если Гарри Норрис не забудет Анну Болейн и свои притязания, ее дядюшка Норфолк отыщет его в любой норе и откусит ему яйца. За эти годы жизнь не раз сталкивала его с Гарри Перси. С тех пор юный граф превратился в развалину, по уши увяз в долгах, и каждый день приближает его к разорению. Все вышло, как он предсказывал, за исключением того, что граф еще сохранил свои яйца. После беседы в «Марке и льве» Гарри Перси, не просыхавший несколько дней кряду, велел слугам смыть с одежды рвоту и предстал перед королевским советом: небритый, дрожащий, зеленого цвета, воняя перегаром, доверив ему, Томасу Кромвелю, изложить правдивую повесть своей безрассудной страсти. В ней граф отрекся от любых притязаний на Анну Болейн, отрицал наличие между ними брачного договора, клялся честью, что никогда не состоял с ней в блудной связи, и она вольна претендовать на королевскую руку, сердце и брачное ложе. В чем и присягнул на Библии, которую держал перед ним престарелый Уорхем, бывший архиепископом до Томаса Кранмера, скрепляя клятву святым причастием под взглядом Генриха, буровящим его спину. Теперь он, Кромвель, скачет к графу в родовое поместье Сток-Ньюингтон, к северо-востоку от кембриджской дороги. Слуги Перси уводят их коней, но, прежде чем зайти внутрь, он делает шаг назад и поднимает глаза на крышу и трубы. – Материалу фунтов на пятьдесят, не меньше, иначе зимой потечет, – говорит он Томасу Ризли. – Не считая работы. Он перебарывает искушение спросить лестницу и самому оценить состояние свинцовых полос, но это несовместимо с его высоким положением. Господин секретарь волен поступать, как ему вздумается, однако начальник судебных архивов должен помнить о своем освященном веками статусе и вести себя соответственно. Впрочем, возможно, ему не возбраняется влезть на крышу в качестве викария короля по делам англиканской церкви. Должность новая, традиции еще не сложилось. Он усмехается. Должно быть, достоинство мастера Ризли будет оскорблено, если попросить того сбегать за лестницей. – Я забочусь о своих вложениях, – объясняет он Зовите-Меня. – Своих и королевских. Граф должен ему немалую сумму, но куда больше – десять тысяч фунтов – королю. После смерти Гарри Перси его собственность достанется казне. Таким же хозяйским взглядом он оценивает состояние графа: цвет желтушный, щеки впали, выглядит старше своих тридцати четырех – тридцати пяти. Кислый запашок, висящий в воздухе, напоминает ему Кимблтон, покойную королеву: спертый тюремный воздух, рвотную вонь от таза, который торопливо унесла служанка. – Не мой ли приезд стал причиной вашего нездоровья? – спрашивает он без особой надежды. Граф смотрит печально. – Нет. Говорят, печень. Должен признать, Кромвель, вы обошлись со мной не слишком сурово. Учитывая… – Учитывая то, чем грозился. – Он с грустью качает головой. – О Господи, а нынче я стою перед вами, смиренный проситель. И вам ни за что не угадать причину моего визита. – Давайте попробую. – Я приехал уведомить вас, милорд, что вы женаты на Анне Болейн. – Нет. – Примерно в тысяча пятьсот двадцать третьем вы заключили тайный союз, а стало быть, ее так называемый брак с королем недействителен. – Нет. Внезапно в графе вспыхивает гнев, отблеск славы древнего рода, тот пограничный огонь, что пылает на северных рубежах королевства, устрашая шотландцев. – Вы заставили меня присягнуть, Кромвель. Пришли за мной в трактир «Марк и лев», угрожали. Силком притащили в совет, заставили клясться на Библии, подчиниться королевской воле, причаститься. Вы видели меня, вы меня слышали. Как я могу отступиться от своих слов? Вы же сами объявите меня клятвопреступником. Граф вскакивает. Он остается сидеть. Не потому, что хочет унизить Гарри Перси, просто боится не сдержаться и отвесить тому оплеуху, а бить слабых и больных – не в его правилах. – Не клятвопреступником, – мягко отвечает он. – Вас подвела память. – Я женился на Анне, а потом забыл? Он откидывается в кресле, изучая противника. – Вы всегда были пьяницей, милорд, что и стало причиной вашего нынешнего плачевного состояния. Как вы справедливо заметили, я притащил вас в совет из таверны. Возможно, вы не успели протрезветь? К тому же были смущены, сбиты с толку. – Я был трезв. – У вас болела голова, вас мутило. Вы боялись сблевать на почтенные башмаки архиепископа Уорхема, и эта мысль настолько поглотила вас, что вы не могли думать ни о чем другом. Вы не прислушивались к вопросам, которые вам задавали. Это вполне простительно. – Но я прислушивался, – возражает граф. – Любой из членов совета вас поймет. Всем нам время от времени случается перебрать. – Господь свидетель, я прислушивался! – Хорошо, давайте зайдем с другого боку. Возможно, сама церемония совершалась с нарушениями. Старый архиепископ уже тогда был не здоров. Я помню, как тряслись его руки. – Обычное дело в его годы. Но Уорхем знал, что делает. – Если церемония прошла не по правилам, то ваша совесть чиста, и вы вправе отказаться от клятвы. Возможно, это была и не Библия вовсе? – Судя по переплету, Библия. – У меня есть книга по бухгалтерскому делу, которую часто путают с Библией. – А чаще других вы сами. Он усмехается. Уж что-что, а мозги граф не пропил, еще нет. – А как насчет таинства? – спрашивает Перси. – Я скрепил клятву святым причастием, а разве облатка не есть Тело Христово? Он молчит. «Мне есть что возразить, но я не хочу давать тебе повод назвать меня еретиком». – Я не стану этого делать, – произносит Перси. – Не вижу смысла. Все говорят, Генрих задумал ее убить. Разве этого недостаточно? А после ее смерти не все ли будет равно, с кем она была обвенчана? – Не совсем. Король сомневается в своем отцовстве. Однако не намерен дознаваться, кто настоящий отец ее ребенка. – Елизаветы? Я видел ее, – говорит Перси. – Она – его дочь, не сомневайтесь. – Но если… даже если вы правы, король все равно намерен лишить свою дочь права наследства, ибо никогда не был женат на ее матери… надеюсь, вам ясно. Открыть дорогу для детей от следующего брака. – Понимаю, – кивает граф. – Итак, если вы хотите помочь Анне, это ваша последняя надежда. – Помочь? Тем, что ее брак расторгнут, а дочь признают незаконнорожденной? – Вы можете спасти ей жизнь. Если король остынет. – Вы позаботитесь, чтобы этого не случилось. Уж вы не откажетесь подкинуть дровишек и раздуть мехи. Он пожимает плечами: – Я не испытываю ненависти к королеве, пусть ее ненавидят другие. Итак, если вы сохранили к ней какую-то привязанность… – Я больше не в силах ей помочь. Мне бы помочь себе. Господу ведома истина. Вы заставили меня лгать перед Ним. А теперь хотите выставить болваном перед людьми. Придется вам найти другой способ, господин секретарь. – Не сомневайтесь, найду, – бросает он, вставая. – Жаль, что вы не захотели угодить королю. – У двери оборачивается. – Вы упрямы, потому что слабы. Гарри Перси поднимает глаза: – Хуже, Кромвель. Я умираю. – До суда, надеюсь, дотянете. Ибо я намерен включить вас в состав судей. Вы ей не муж, теперь ничто не мешает вам стать ее судьей. Мы весьма ценим ваш богатый жизненный опыт и мудрость. Гарри Перси что-то кричит вслед, но он размашисто пересекает комнату и уже за дверью качает головой в ответ на немой вопрос. – Я был уверен, что вы достучитесь до его разума, – замечает мастер Ризли. – Его разум упорхнул. – Вы расстроены, сэр? – Я, Зовите-Меня? С чего бы? – Мы все еще можем освободить короля. Милорд архиепископ что-нибудь придумает. Даже если придется вспомнить Мэри Болейн. Сослаться на то, что Анна, по сути, была его свояченицей. – Беда в том, что король знал. Он мог пребывать в неведении относительно тайного замужества Анны, но никогда не заблуждался насчет того, чья она сестра. – А вам случалось иметь дело с двумя сестрами? – задумчиво спрашивает мастер Ризли. – Вам что, больше не о чем думать? – Мне интересно. Как это бывает? Говорят, Мэри Болейн переспала со всем французским двором. Как думаете, король Франциск отымел их обеих? Он с уважением смотрит на Ризли. – Надо будет обдумать этот вариант… А теперь, раз уж вы были хорошим мальчиком, не подрались с Гарри Перси, не обзывали его, а спокойно ждали за дверью, как обещали, поведаю вам страшную тайну… Однажды, в поисках покровителя, Мэри Болейн предлагала мне стать ее мужем. Мастер Ризли смотрит на него, открыв рот, из которого вылетают бессвязные звуки. Что? Когда? Как? И только забравшись в седло, его попутчик обретает способность к связной речи: – Разрази меня гром! Вы могли породниться с королем! – Правда, ненадолго. День стоит ветреный и ясный. Бодрым галопом они возвращаются в Лондон. В другие времена, в другой компании путешествие могло бы быть в радость. Уже в Уайтхолле, слезая с лошади, он спрашивает себя, кого бы он пожелал в попутчики. Бесс Сеймур? – Мастер Ризли, вы в состоянии прочесть мои мысли? – спрашивает он. – Нет. Зовите-Меня удивлен и немного обижен. – А архиепископ? Как думаете, у него получится? – Вряд ли, сэр. Он кивает: – Тем лучше.
Входит императорский посол, на голове – рождественская шляпа. – Специально ради вас, Томас, – говорит Шапюи. – Хотелось вас осчастливить. Он садится, велит принести вина. Прислуживает Кристоф. – Этот головорез у вас на все руки мастер, – замечает посол. – Не он ли пытал мальчишку Марка? – Прежде всего никакой Марк не мальчишка. А во-вторых, никто его не пытал. По крайней мере, – уточняет он, – не пытал в моем присутствии, по моему приказу, с моего согласия или разрешения, высказанного прямо или косвенно. – Я гляжу, вы готовитесь к суду, – говорит Шапюи. – Веревка с узелками, угадал? Веревку затягивают на лбу. Грозились выдавить Марку глаза? Его охватывает гнев. – Возможно, там, где вы росли, так и делают. Что до меня, то я впервые слышу о таком способе. – Значит, дыба? – Будете в суде, сами решите. Мне приходилось видеть людей после дыбы. Не здесь, за границей. Их приносили на руках, а Марк подвижен и гибок, как в дни, когда плясал до упаду. – Как скажете. – Шапюи доволен, что задел его. – А как поживает ваша королева-еретичка? – Смела как львица, нравится вам это или нет. – К тому же горда, но ничего, скоро ее гордость усмирят. И никакая она не львица, а одна из ваших лондонских кошек, что орут по ночам на крышах. Он вспоминает о черном коте, жившем когда-то у него в доме. Кота звали Марлинспайк. Несколько лет кот рыскал по окрестным помойкам, дрался, отстаивая территорию, пока однажды не исчез, отправившись, как свойственно его племени, на поиски лучшей доли. – Как вам известно, – говорит Шапюи, – многие придворные наносят визиты принцессе Марии, дабы предложить свои услуги, когда придут новые времена, а они не за горами. И только вы всё сидите сиднем. Черт подери, думает он, когда мне ездить, я и так разрываюсь на части, сместить королеву Англии – это вам не шутка. – Надеюсь, принцесса простит мое отсутствие. Я тружусь ради ее блага. – Теперь вам необязательно называть ее «принцессой», – замечает посол. – Разумеется, она будет восстановлена в правах наследования. – Шапюи ждет. – Принцесса Мария надеется, все ее сторонники надеются, император надеется… – Надежда – великая добродетель, однако посоветуйте ей не принимать гостей без разрешения короля. Или моего. – Она не может запретить им. Они все ее старые слуги. Посетители стекаются толпами. Грядут новые времена, Томас. – Король – хороший отец и будет рад примириться с дочерью. – Его величество мог бы почаще проявлять отцовские чувства. – Эсташ… – Он замолкает, знаком отпускает Кристофа. – Я знаю, вы старый холостяк. А дети? У вас ведь есть дети? Да не пугайтесь вы так! Мне любопытно. Пора нам узнать друг друга ближе. Посол рассержен сменой темы. – В отличие от вас я не путаюсь с женщинами. – А я бы с радостью принял ребенка в семью. Женщины никогда не пытались навязывать мне детей, а я бы не стал отказываться. – Возможно, эти дамы хотели поскорее от вас отделаться? – предполагает Шапюи. Ответ посла заставляет его расхохотаться. – Что ж, вполне возможно! А теперь, дорогой друг, ужинать. – Впереди у нас много пиров! – Шапюи сияет. – Как только конкубина умрет, Англия вздохнет спокойно.
* * *
Даже узникам Тауэра, как бы горько ни оплакивали они свою судьбу, не сравниться в глубине отчаяния с королем. Днем его величество в тоске бродит по дворцу, являя собой иллюстрацию к Книге Иова. Вечером в сопровождении музыкантов отправляется вниз по Темзе, в гости к Джейн. У дома Николаса Кэрью, несмотря на все его красоты, есть один существенный недостаток: от реки до него восемь миль. Не слишком удобно для путешествий даже долгими июньскими вечерами, ибо король не желает расставаться с Джейн до самой темноты. Будущую королеву перевозят в Лондон. Толпы любопытных перемещаются вслед за ней в надежде разглядеть неясный силуэт: склоненная шейка, опущенные глаза. Зеваки штурмуют ворота, подсаживают друг друга. Братья Джейн, желая купить любовь лондонцев, не скупятся на подарки. Пущен слух, что Джейн – истинная благородная англичанка, наша, не то что Анна Болейн, которую многие до сих пор считают француженкой. Однако толпа недоумевает и даже негодует: разве не следует королю жениться на знатной принцессе из дальних стран, вроде Екатерины? – Джейн прячет деньги в сундук, на случай если король передумает, – рассказывает ему Бесс Сеймур. – Так надлежит поступать нам всем. Надежно запертый сундук еще никому не помешал. – А ключ прячет на груди. – Умно! Кому придет в голову туда сунуться? Бесс лукаво улыбается. Тем временем весть об аресте Анны распространяется по Европе, и – хотя Бесс невдомек – каждый час Генриху приходят новые предложения. Император надеется, что королю придется по душе его племянница, португальская инфанта, за которой обещают четыреста тысяч дукатов, а принц Луис мог бы составить партию принцессе Марии. А если королю не понравится инфанта, в запасе есть герцогиня Миланская, хорошенькая юная вдовушка с немалым приданым. Для тех, кто верит в предзнаменования, настало занимательное время. Страшные истории из книг вершатся наяву. Королева в тюрьме, ее обвиняют в прелюбодеянии. Потрясены основы государственности, самой природы. Духи мертвых маячат в дверных проемах, стоят у окон, подпирают стены, стремясь выведать тайны живых. Колокол звонит сам по себе, не потревоженный человеческой рукой. В пустых комнатах кто-то яростно спорит, шипение висит в воздухе, словно горячий утюг опустили в воду. Доселе благоразумные прихожане испытывают непреодолимое желание кричать во весь голос в церквях. Женщина протискивается сквозь толпу и хватает его лошадь за уздечку. Прежде чем стражник оттаскивает ее, она успевает крикнуть: – Храни нас Господь, Кромвель, что о себе думает король? Сколько жен ему потребно? В кои-то веки щечки Джейн окрашивает румянец. Или это лишь отсвет ее платья нежного оттенка желе из айвы.Показания, обвинительные акты, петиции перемещаются между судьями, обвинителями, генеральным прокурором, лорд-канцлером. Каждая стадия процесса вытекает одна из другой и призвана породить мертвые тела в строгом соответствии с законом. Джорджа Болейна ввиду его знатности будут судить отдельно, вслед за прочими обвиняемыми. В Тауэр приходит судебный приказ: послать за злодеями. Доставить обвиняемых, а именно: Уэстона, Брертона, Смитона и Норриса в Вестминстер, на суд. Кингстон отправляет их на барке. Двенадцатое мая, пятница. Вооруженные стражники ведут их сквозь толпу беснующихся зевак, делающих ставки. Игроки верят, что Уэстон выйдет сухим из воды: его семейство не дремлет. Что до прочих, тут шансы равны: половина – за то, что казнят, половина – за то, что помилуют. На Марка Смитона, который во всем сознался, никто не ставит, гадают лишь, повесят ли его, обезглавят, сварят живьем в кипятке или сожгут, если только король не придумает для него что-нибудь особенное. – Для них законы – пустой звук, – говорит он Ричу, наблюдая за сценками, которые разыгрываются внизу. Им невдомек, что за государственную измену мужчину должно повесить до полусмерти, четвертовать живьем и выпотрошить, а женщину – сжечь, и никак иначе. Король может лишь заменить повешение обезглавливанием, а варят в кипятке только отравителей. Суд может вынести лишь одно решение, которое будет передано толпе, истолковано превратно, так что выигравшие будут скрежетать зубами, а проигравшие – требовать свои денежки. Не обойдется без драк, порванных рубах, разбитых голов и крови на мостовой, между тем обвиняемых от смерти будут отделять еще несколько дней. Они не услышат обвинения до суда, и, как принято в процессах об измене, у них не будет защитников. Впрочем, их не лишают права самим себя защищать и вызывать свидетелей, если найдутся охотники свидетельствовать в их пользу. Случаи, когда обвиняемые в измене выходили из зала суда оправданными, у всех на слуху, но нынешним подсудимым рассчитывать не на что. Сейчас им следует думать о семьях, о том, чтобы задобрить короля, – это соображение способно усмирить самых буйных. Негоже препятствовать осуществлению правосудия. Предполагается, что в награду король дарует обвиняемым смерть от топора, менее унизительную для их чести. Впрочем, присяжные шепчутся, что Смитона скорее всего повесят, ибо какая у простолюдина честь?.. Председательствует Норфолк. Когда обвиняемых вводят в зал суда, они разделяются: трое джентльменов не желают стоять рядом с Марком, считая это ниже своего достоинства. Им приходится сбиться в кучу, но это устраивает их и того меньше. Он замечает, как старательно джентльмены отводят глаза, как ежатся, опасаясь случайно задеть локтем соседа, подергиваясь внутри дублетов и рукавов. Только Марк признает вину. Юношу из милосердия держали в кандалах, чтобы не навредил себе ненароком. Целый и невредимый Марк предстает перед судом, на нем ни царапины, как и было обещано, но юношу душат рыдания. Марк умоляет о милости. Остальные обвиняемые скупы на слова, однако из уважения к суду держат себя в руках: трое героев ристалища, которые видят, как на них надвигается неприкасаемый соперник, король Англии собственной персоной. Они могли бы принять вызов, да только пункты обвинения, места, подробности мелькают слишком быстро. При желании они могли бы отыграть очко-другое, но к чему оттягивать неизбежное?.. Когда они входят в зал суда, лезвия алебард смотрят в противоположную сторону, когда выходят – повернуты к ним остриями. Они протискиваются сквозь толпу, живые мертвецы, вдоль узкого коридора из алебардщиков, к реке, возвращаются в свое временное пристанище, прихожую, где им надлежит ждать своего часа, писать прощальные письма и исповедоваться. Все обвиняемые раскаялись, но только Марк признался, в чем именно.
Прохладный вечер: толпа угомонилась, судебное заседание завершено. Он сидит у открытого окна, клерки суетятся вокруг, бумаги увязаны, он говорит: пора домой. Я буду ночевать в городском доме, в Остин-фрайарз, отошлите документы на Ченсери-лейн. Он – господин того, что изложено на бумаге, и того, о чем бумаги умалчивают, повелитель лакун, ложных толкований и неточных переводов. Новости из Англии просочатся с английского на французский, затем (вероятно, через латынь) на кастильский и итальянский, через Фландрию к восточным владениям императора, через границы германских княжеств в Богемию, Венгрию и к далеким снежным просторам; торговыми судами в Грецию и Левант; в Индию, где слыхом не слыхивали об Анне Болейн, не говоря уже о ее любовниках и брате; по Шелковому пути в Китай, где знать не знают никаких Генрихов, а само существование Англии представляется сомнительной легендой о месте, где рты у мужчин расположены на животе, а женщины умеют летать; это страна, где правят кошки, а люди ловят для них мышей, притаившись на корточках у мышиных нор. В Остин-фрайарз он некоторое время рассматривает Соломона и царицу Савскую. Когда-то шпалера принадлежала кардиналу, затем король забрал ее себе, а когда Вулси умер и Кромвель пошел в гору, преподнес ему в дар, словно извиняясь, словно возвращая истинному владельцу то, что всегда ему принадлежало. Генрих подметил, каким взглядом всматривается он в лицо царицы, вожделея не ее, но Ансельму, антверпенскую вдовушку, на которой непременно женился бы, если бы внезапно не сорвался с места и не вернулся в Англию разделить жизнь со своим народом. В те дни он не раздумывал долго, всегда все просчитывал, а решившись, действовал без промедления. Таков он и сейчас. В чем еще предстоит убедиться его врагам. – Грегори? Он прижимает сына к груди. Тот весь в дорожной пыли. – Дай посмотрю на тебя. Почему ты здесь? – Вы не сказали, что возвращаться нельзя, – объясняет Грегори. – Не запрещали категорически. А еще я изучаю искусство публичных выступлений. Хотите послушать, как я говорю речи? – Хочу, но не сейчас. Тебе не следует скакать через полстраны с одним или двумя сопровождающими. Найдутся люди, которые, зная, чей ты сын, захотят тебе навредить. – А откуда они узнают? – удивляется Грегори. Двери распахнуты, на лестницах шорох шагов, на лицах любопытство: вести из суда опередили его. Да, подтверждает он, признаны виновными и приговорены к казни. Нет, мне неведомо, когда они отправятся на Тайберн, но я буду просить короля даровать им быструю смерть. Да, и Марку тоже. Здесь, под этой крышей, я обещал проявить милосердие, и это единственная милость, которую я могу ему предложить. – Мы слыхали, осужденные в долгах как в шелках, сэр, – замечает Томас Авери, его счетовод. – Слыхали, толпа собралась преогромная, сэр, – подхватывает один из его телохранителей. Появляется Терстон, присыпанный мукой. – А Терстон слыхал, что пирожки уходили задешево, – говорит шут Энтони. – А что слыхал я? А я слыхал, сэр, вашу новую комедию приняли хорошо. Смеялись все, кроме тех, кому умирать. – Но приговор еще можно смягчить? – спрашивает Грегори. – Несомненно. Он не в силах продолжать. Кто-то подает ему эль, он вытирает губы. – Помню, в Вулфхолле, когда Уэстон вам нагрубил, – говорит Грегори, – мы с Рейфом накинули на него волшебную сеть и сбросили с высоты. Но мы бы не стали убивать его по-настоящему. – Король волен осуществить то, что задумал, и многие знатные юноши поплатятся жизнью. Он призывает домочадцев выслушать его со всевозможным вниманием. – Когда соседи начнут говорить – а они непременно начнут, – что это я осудил джентльменов на смерть, скажите им, что это не я, а король, суд и что все формальности были соблюдены. Что в процессе раскрытия истины никого не подвергли пыткам. Не верьте, когда вам скажут, будто они умрут из-за того, что я затаил на них обиду. Обида тут ни при чем, это дело государственное. Я все равно не уберег бы их от королевского гнева. – Но мастер Уайетт не умрет? – спрашивает Томас Авери. Слышен ропот. Уайетт – местный любимчик, домочадцы души в нем не чают за щедрость и обходительность. – Пойду к себе. Скопилось много писем из-за границы. А Томас Уайетт… скажем так, послушался моего совета. Думаю, скоро мы увидим его здесь, но нельзя сказать наверняка, король волен… Впрочем, довольно. Он обрывает себя на полуслове, Грегори идет за ним. – Они и вправду виноваты? – спрашивает сын, когда они остаются одни. – Почему любовников столько? Будь он один, королевская честь была бы меньше задета. – Это выделило бы его среди прочих джентльменов, – криво усмехается он. – И люди сказали бы, что прибор у Гарри Норриса побольше королевского, да и пользоваться им он мастак? – Только послушай, что ты говоришь. Королю приходится терпеть, что его личная жизнь в отличие от жизни обычного человека выставлена напоказ. Король считает, по крайней мере хочет показать, что королева распутна, испорчена и не способна обуздать свои страсти. Если у нее были связи с таким количеством мужчин, какие могут быть оправдания? Поэтому они и предстали перед судом до нее. Если они виновны, то она и подавно. Грегори кивает. Кажется, понимает до известной степени. Когда Грегори спрашивает, виноваты ли они, сына волнует, совершали ли они то, в чем их обвиняют, или нет. Когда о виновности спрашивает он, его интересует, признал ли их виновными суд. Мир судейских погружен в себя, люди не в счет. Попробовали бы вы распутать сплетение бедер и языков, распластать содрогающиеся тела на белом листе: так пресытившийся любовник, достигнув пика наслаждения, откидывается на белую простыню. Ему приходилось видеть идеальные обвинительные акты, ни слова лишнего. Нынешний вердикт не таков: фразы сталкиваются, трутся и рассыпаются, уродливые по форме, уродливые по смыслу. Обвинение против Анны зачато в нечистоте, рождено до срока, бесформенная кипа бумаги. Его еще доводить до ума, вылизывать, как медведица вылизывает только что родившегося детеныша. Ты вскармливаешь его, не зная, что вырастет: кто мог подумать, что Марк признается, кто ожидал, что Анна поведет себя так, словно кругом виновата? Как сказали сегодня в суде: мы виновны во всем, в чем нас обвиняют, и нет такого греха, которого бы мы не совершили, мы – средоточие пороков, но мы пребываем в неведении, каких именно пороков, и даже церковь не способна наставить нас. Из Ватикана – кому и разбираться в грехах, как не им? – приходят вести, что в это трудное время любой знак примирения со стороны короля будет встречен с пониманием. Ибо, если кого-то события последнего времени и удивляют, то только не Рим. Еще бы, Рим не удивишь ни супружеской неверностью, ни кровосмешением. В Ватикане времен кардинала Бейнбриджа ему не потребовалось много времени, чтобы понять: никто при папском дворе – включая самого Папу – не управляет событиями. Интриги плетутся сами по себе, заговоры безымянны, что не мешает им цвести пышным цветом, и точно известно одно: никто ничего не знает. Впрочем, закон в Риме никогда не был в чести. В римских тюрьмах, когда забытый арестант умирает с голоду или когда тюремщики забивают несчастного до смерти, его тело просто запихивают в мешок и сбрасывают в Тибр, гнить на дне. Он поднимает глаза. Грегори сидит смирно, не желая нарушать его задумчивость. – Когда их казнят? – спрашивает сын. – Не завтра. Чтобы все устроить, нужно время. В понедельник в Тауэре судят королеву, и Кингстон не сможет… суд заседает публично, в Тауэре будет не протолкнуться. Перед глазами мелькает непристойная картина: осужденные на казнь протискиваются к эшафоту сквозь толпу желающих посмотреть на королеву под судом. – А вы придете? – настаивает Грегори. – Придете на казнь? Я хотел бы поддержать их в последний час и помолиться за них, но без вас я не справлюсь. Еще упаду без чувств. Он кивает. Нужно трезво смотреть на вещи. В юности он знавал хвастунов, клявшихся, что не пожалеют живота, и белевших как полотно от пореза на пальце, но как бы то ни было казнь – не поле боя. Страх заразителен. В драке не успеваешь испугаться, и только когда все позади, колени начинают трястись. – Не приду я, придет Ричард. Твое желание заслуживает уважения, хотя это зрелище причинит тебе боль. – Знать бы, думает он, что принесет следующая неделя. – А приду ли я… впереди расторжение брака, все будет зависеть от того, согласится ли королева помочь нам. – Он думает вслух. – Возможно, я буду в Ламбете с Кранмером. И прошу тебя, сынок, не спрашивай, для чего нам понадобилось расторгать брак. Таково желание короля. Он совершенно не способен думать о тех, кому вскоре предстоит умереть. Вместо этого перед глазами стоит картина: Мор на эшафоте сквозь пелену дождя, его тело, уже мертвое, откидывается навзничь от удара. У опального кардинала не было гонителя более непримиримого, чем Мор. «И все же я не испытывал к нему ненависти. Напротив, из кожи вон лез, чтобы помирить его с королем. И я верил, что мне удастся его убедить, я и вправду в это верил: он так упрямо цеплялся за жизнь, и ему было ради чего жить! Под конец Мор стал собственным палачом. Все писал и писал, говорил и говорил и внезапно, одним росчерком пера, прервал свою жизнь. Если на свете существовал человек, который сам себя обезглавил, этот человек – Томас Мор».
* * *
Королева в пурпурно-черном, вместо скромного чепца изящная шляпа, над полями колышутся черные и белые перья. Запомни перья, говорит он себе, скорее всего ты видишь ее в последний раз. Как она выглядела, спросят его женщины. Бледная, но бесстрашная. Каково ей было войти в этот огромный зал и встать перед пэрами Англии, мужчинами, ни один из которых не испытывает к ней вожделения. На ней порча, теперь она труп, и, вместо того чтобы домогаться этой груди, волос и глаз, мужчины отводят взгляд. Лишь Норфолк смотрит со злобой, не страшась мести Горгоны. Посередине громадного зала соорудили помост со скамьями для судей и пэров, скамьи поставили также в боковых галереях, но большинству зрителей придется стоять, пихаясь локтями, пока стражники не скажут: «Хватит», и не запрут двери на засовы. Но счастливчики не перестанут толкаться, а те, кто застрял во дворе, поднимут шум, и тогда Норфолк с белым жезлом в руках призовет публику к молчанию, а свирепая гримаса на его лице убедит самых отчаянных, что шутки кончились. Рядом с герцогом сидит лорд-канцлер, готовый дать самый компетентный юридический совет в королевстве. А вот и лорд Вустер, с чьей жены, можно сказать, все началось. Граф смотрит на него волком, с чего бы? Рядом Чарльз Брэндон, герцог Суффолский, с первого взгляда возненавидевший Анну и не скрывавший своих чувств от короля. Граф Арундел, граф Оксфордский, граф Рэтленд, граф Вестморленд – и между ними простолюдин Томас Кромвель. Тут слово, там – полслова, он движется мягко, расточая улыбки, подбадривая приунывших: все идет своим чередом, интересы короны не пострадают, народных волнений не ожидается, к ужину все разойдутся по домам и улягутся в собственные постели. Лорд Сандис, лорд Одли, лорд Клинтон, согласно списку, занимают места на помосте. Лорд Морли, тесть Джорджа Болейна хватает его за руку: Томас Кромвель, прошу вас, если вы меня любите, не допустите, чтобы мою бедную маленькую дочурку Джейн втянули в этот омерзительный процесс. Она больше не ваша маленькая дочурка, думает он, после того как вы выдали ее замуж против воли. Впрочем, лорд Морли не виноват, обычное дело. Как однажды в сердцах сказал ему король, только бедняки могут выбирать, кого им любить. В ответ он сжимает руку лорда Морли, советует запастись мужеством и просит занять свое место: обвиняемая в зале, суд вот-вот начнется. Он кланяется послам, но где Шапюи? По залу передают вопрос, у посла квартана, в ответ он печалится: весьма сожалею, не послать ли ко мне, на случай если больному что-нибудь нужно? Передайте послу, что назавтра жар спадет, к среде больной встанет с постели, но в ночь на четверг лихорадка вернется. Генеральный прокурор зачитывает обвинение, что занимает немало времени: преступления против закона, преступления против Бога. Вставая с места, он думает: а ведь король ждет вердикт к обеду. Окинув взглядом зал, замечает Фрэнсиса Брайана, закутанного в плащ, готового сорваться с места и отнести весть за реку Болейнам. Умерь свой пыл, Фрэнсис, процесс займет некоторое время, и, возможно, скоро здесь станет жарко. Они управились бы за час или два, если бы не надобность подтвердить присутствие девяноста пяти судей и пэров, если бы не шарканье, кряхтенье, сморканье, одергивание мантий, ощупывание поясов и прочие ритуалы, не совершив которые многие не могут и слова сказать публично – тут и целого дня не хватит. Королева сидит молча, напряженно внимая списку преступлений, сводящему с ума перечислению дат, мест, мужчин, их детородных органов, их языков: в рот, изо рта, в иные отверстия; в Хэмптон-корте и в Ричмондском дворце, в Гринвиче и Вестминстере, в Мидлсексе и Кенте; опрометчивые слова и грязные намеки, ревнивые перепалки и извращенные намерения. Если король умрет, королева, как утверждает обвинение, обещала выбрать одного из любовников в мужья, непонятно только, кого именно. – Это ваши слова? Она мотает головой. – Вы должны отвечать вслух. Безучастный тихий голос: – Нет. Ничего другого Анна-королева не скажет: нет, нет и еще раз нет, и лишь однажды, отвечая на вопрос, давала ли она деньги Уэстону, подумав немного, да. В толпе раздается возглас, Норфолк грозится взять под стражу того, кто нарушает тишину. В любой уважающей себя стране, как заметил вчера герцог Суффолкский, суд над знатной женщиной проходил бы приватно – в ответ он, Кромвель, закатил глаза и воскликнул: милорд, Бога ради, мы в Англии! Добившись тишины, изредка прерываемой кашлем или шепотом, Норфолк готов выслушать выводы обвинения. – Продолжайте… вы… Норфолк не в первый раз испытывает неловкость, обращаясь к простолюдину, который не конюх и не ломовой извозчик, а королевский министр. Лорд-канцлер наклоняется, вероятно, хочет напомнить, что обвинитель на процессе – начальник судебных архивов. – Продолжайте, мастер, – говорит Норфолк чуть любезнее. – Прошу вас. Она отрицает измену, вот в чем суть. Она ни разу не повысила голос, но считает ниже своего достоинства объясняться, оправдываться, извиняться: смягчать. И никто не способен сделать это за нее. Отец Уайетта уверял, что умирающая львица способна серьезно поранить, если забыть об осторожности, однако он не чувствует ни угрозы, ни напряжения, ничего. Как оратор Кромвель славится красноречием, хорошим слогом, внятностью изложения, но сегодня его не заботит, какое впечатление произведет речь на судей и подсудимую, все равно всё истолкуют превратно. Его голос почти сливается с усыпляющим бормотанием толпы, монотонный голос сельского священника, бубнящего проповедь, не громче, чем жужжание мухи, бьющейся в стекло. Боковым зрением он видит, как генеральный прокурор подавляет зевок, и отмечает про себя: никогда бы не подумал, что сумею превратить блуд, кровосмешение, заговор и измену в рутину. Незачем возбуждать толпу. Это суд, а не римский цирк. Вынесение приговора процесс не быстрый. Суд заклинает ораторов быть краткими, никаких речей, довольно одного слова: девяносто пять голосов за, ни одного против. Когда Норфолк начинает читать приговор, ропот усиливается, собравшиеся снаружи напирают, и кажется, будто стены раскачиваются, словно лодка на причале. – Ее собственный дядя! – восклицает кто-то, и герцог обрушивает кулак о стол, угрожая дерзкому кровавой расправой. Это производит впечатление, позволяя Норфолку закончить: «…приговаривается к сожжению в пределах Тауэра либо к отсечению головы, буде так повелит король…» Слышен возглас одного из судей, который подается вперед, что-то яростно шепчет. Норфолк взбешен, судейские сбиваются в кучу, пэры вытягивают шеи. Он устремляется к герцогу. – Эти люди говорят мне, что я читаю неправильно, что нельзя приговорить к сожжению или отсечению головы, что следует выбрать одно и что женщина, виновная в измене, подлежит сожжению. – Милорд Норфолк получил соответствующие указания от короля. – Он намерен с порога пресечь возражения, в чем и преуспевает. – Приговор составлен в соответствии с королевской волей, и нечего учить меня, что правильно, а что нет, ибо никогда еще королева не представала перед судом! – Нам пришлось сочинять на ходу, – вставляет лорд-канцлер примирительно. – Дочитайте, что там написано, – говорит он Норфолку и отходит в сторону. – Я уже дочитал. – Норфолк скребет переносицу. – «…либо к отсечению головы, буде так повелит король». Герцог понижает голос, съедая конец речи. Королеве не суждено услышать финал своего приговора. Впрочем, суть она уловила. Он смотрит, как Анна встает с кресла, внешне спокойная, должно быть, не верит, и с чего бы ей верить? Он переводит взгляд на Фрэнсиса Брайана, но того и след простыл. Впереди суд над Рочфордом: следует вывести Анну из зала прежде, чем введут ее брата. Торжественность момента рассеивается. Судьи преклонных лет спешат в нужник, те, что помоложе, встают, чтобы размять ноги, посплетничать, заключить пари на оправдательный приговор. Пока ставки в пользу Джорджа, однако, судя по выражению его лица, обвиняемый не обманывается на свой счет. Его тревожит только одно: Рочфорду нечего терять, у него в отличие от прочих не осталось на этом свете ни единой родной души. Жена предала, отец отвернулся, дядя председательствует в суде. Наверняка Джордж будет говорить убедительно и с чувством. Так и есть. Выслушав обвинения, Болейн просит изложить их по порядку, одно за другим. – Ибо что есть наше земное время, джентльмены, по сравнению с обещанием вечной жизни? В зале мелькают улыбки, учтивость Джорджа производит впечатление. Болейн напрямую обращается к нему, Кромвелю: – По пунктам. Места, даты. Я намерен опровергнуть ваши домыслы. Однако силы не равны. Перед ним – его записи, но, если потребуется, он отложит их в сторону и продолжит по памяти. При нем его хваленое самообладание, хорошо поставленный голос, его непробиваемая учтивость. Если Джордж думает, что он дрогнет, перечисляя ласки,принимаемые и даримые любовниками, значит, ему невдомек, откуда он родом: какие времена, какие нравы сделали господина секретаря таким, каким он стал. Совсем скоро лорд Рочфорд начнет ныть, словно капризный плаксивый мальчишка; младший Болейн не привык сражаться за жизнь, слишком равнодушен к исходу поединка. Пусть этот суд оправдает его, будет другой суд, другие, более веские доказательства, закончится все изувеченным трупом Джорджа. Еще он надеется, что обвиняемый скоро выйдет из себя и не сможет сдержать презрения к Генриху – и тогда его судьба будет решена. Он передает Рочфорду бумагу. – То, что здесь записано, как утверждается, было сказано королевой, а вы ей ответили. Не обязательно зачитывать вслух, просто сообщите суду, вы признаете свои слова? Джордж презрительно улыбается, наслаждаясь моментом, ухмыляется, набирает воздух в легкие, читает вслух: – «В постели король полное ничтожество, ни умения, ни желания». Джордж решает потрафить зрителям, и, кажется, ему удается достичь цели: в зале раздаются робкие смешки. Однако со стороны судей – тех, от кого все зависит, – слышится возмущенный ропот. Джордж поднимает глаза, протягивает руку: – Эти слова – не мои. Я от них отказываюсь. Однако слова уже принадлежат ему. Решив покрасоваться перед толпой, Джордж только что вслух подверг осмеянию законность престолонаследия, усомнился в правах королевских отпрысков. Он, Кромвель, кивает. – Мы слышали, что вы распространяете слухи, будто принцесса Елизавета – не королевская дочь. Так и есть. Даже присутствие судей вас не останавливает. Джордж не отвечает. Он пожимает плечами, отворачивается. Похоже, даже простое упоминание о том, в чем его обвиняют, в устах Джорджа звучит признанием вины. Как обвинителю, ему следовало бы поменьше говорить о вещах, задевающих честь короля, но едва ли упоминание о них в суде нанесет чести Генриха больший урон, чем песенки про короля Палка-с-пальчик и его жену-ведьму, что распевают в тавернах. В таких делах мужчина всегда обвиняет женщину. Не так сделала, не то сказала, посмотрела косо, усмехнулась невпопад. А ведь Генрих боится Анны, понимает он. Впрочем, с новой женой все затруднения короля останутся в прошлом. Он собирается с мыслями, сгребает бумаги; судьи готовы вынести решение. Как ни крути, обвинение против Джорджа весьма шатко, но если его оправдают, Генрих придумает новое, и тогда Болейнам не поздоровится, как, впрочем, и Говардам, а этого дядюшка Норфолк не допустит. Никто не посмеет усомниться в обвинениях, выдвинутых против Джорджа и тех, кого осудили до него. Все уже смирились с мыслью, что эти мужчины злоумышляли против короля и прелюбодействовали с королевой: Уэстон из-за собственного безрассудства, Брертон, потому что закоренел в грехе, Марком двигало честолюбие, Генри Норрис просто оказался под рукой, дерзко возомнил себя ровней королю. Джордж Болейн – не вопреки, а потому, что был ее братом. Все знают: на пути к власти Болейны ни перед чем не остановятся. Если Анна не гнушалась идти по трупам, почему бы ей не посадить на трон бастарда Болейнов? Он смотрит на Норфолка, тот кивает в ответ. Вердикт ни для кого не станет неожиданностью. Неожиданностью окажется поведение Гарри Перси. Граф встает, открывает рот – и в зале в кои-то веки воцаряется тишина, а не жалкое ее подобие. Он вспоминает Грегори: хотите послушать, как я говорю речи? Затем граф подается вперед, издает стон и с грохотом валится на пол. Его тут же подхватывают стражники, и по залу прокатывается ропот: «Гарри Перси умер». Едва ли, думает он. Графа приведут в чувство. День перевалил за полдень, жаркий и безветренный; свидетельские показания, что лежат перед судьями, свалят с ног здорового. Свежеструганные доски помоста застланы отрезом синей ткани, стражники сдергивают его, сооружая носилки для графа. Внезапно на него накатывает воспоминание: Италия, зной, кровь, умирающего поднимают с земли, раскачивают, бросают на связанные вместе чепраки – обобрали убитых – и тащат в тень, под стену: церкви? сарая? Где спустя пару минут тот испускает дух, бранясь и запихивая кишки в рану, словно желая оставить мир после себя в чистоте. Ему становится нехорошо, и он опускается в кресло рядом с генеральным прокурором. Стражники выносят графа, его голова запрокинута, глаза закрыты, ноги безвольно болтаются. – Вот и еще один из тех, кого она погубила, – замечает его сосед. – А чтобы узнать остальных, нам и нескольких лет не хватит. Все это так, и суд – лишь временная мера, задуманная, чтобы сместить Анну и освободить место для Джейн. Еще невозможно почувствовать, каковы будут последствия, как отзовутся сегодняшние события в будущем, но он уже ощущает дрожь в сердце державы, шевеление в государственной утробе. Он встает, подходит к Норфолку, побуждая того не мешкать. Судя по виду Джорджа Болейна – между обвинением и осуждением, – граф того и гляди лишится чувств, по лицу текут слезы. – Посадите лорда Рочфорда, – велит он. – Налейте ему что-нибудь. Пусть Болейн изменник, но пока еще граф и имеет право выслушать смертный приговор сидя.На следующий день, шестнадцатого мая, он в покоях Кингстона. Комендант Тауэра не знает, какой эшафот сооружать для королевы, приговор неясен, ждут решения короля. Кранмер у королевы, пришел ее исповедовать, возможно, архиепископу удастся мягко втолковать Анне, что ради нее самой ей лучше покориться. И что король еще способен на милосердие. Стражник входит и обращается к коменданту: – Пришел посетитель. Не к вам, сэр. К мастеру Кромвелю. Иностранный джентльмен. Жан де Дентвиль, бывший послом во времена коронации Анны. Посетитель медлит в дверях. – Мне сказали, я найду вас здесь, а время не ждет… – Мой дорогой друг. – Они обнимаются. – Я не знал, что вы в Лондоне. – Я только что с корабля. – По вам видно. – Что поделаешь, я не родился моряком. Посол пожимает плечами, по крайней мере слои материи на плечах поднимаются и опускаются, этим теплым весенним утром Жан закутан с ног до головы, словно на дворе ноябрь. – Поэтому я решил перехватить вас до того, как вы вернетесь к игре в шары, каковой, вероятно, предаетесь, принимая наших посланников. Меня отправили к вам, чтобы поговорить о юном Уэстоне. Господи, думает он, неужто сэру Ричарду Уэстону удалось подкупить короля Франции? – Вы едва не опоздали. Завтра его казнят. А что с Уэстоном? – Вызывает обеспокоенность, – говорит посол, – что за простую галантность карают так жестоко. Я уверен, юноша виновен лишь в нескольких любовных стишках да паре любезностей и острот. Возможно, король сохранит ему жизнь? И года два Уэстон не будет показываться при дворе, скажем, отправится путешествовать? – У него жена и маленький сын, мсье. Увы, мысль об их благополучии не остановила его от необдуманных шагов. – Неужели им будет лучше, если король обречет его на смерть? Генрих больше не дорожит репутацией милосердного правителя? – Еще как дорожит. Король много говорит об этом. Мсье, позвольте совет? Забудьте об Уэстоне. Как бы ни уважал вас мой господин, едва ли он отнесется благосклонно к вмешательству короля Франции в то, что Генрих почитает семейным делом. Де Дентвиль удивлен. – Вы называете это семейным делом? – Я гляжу, вы не просите милости для лорда Рочфорда. А ведь он был у вас послом. Вызывает удивление, что короля Франции не волнует его судьба. – Ах да, Джордж Болейн. Что поделаешь, смена власти, этого следовало ожидать. Впрочем, французский двор выражает надежду, что монсеньор не пострадает. – Уилтшир? Вижу, он хорошо служил Франции, вам его не хватает. Пока ему ничего не грозит. Разумеется, былого влияния монсеньору не вернуть. Как вы изволили выразиться, смена власти. – Позволительно ли мне заметить, – посол замолкает, отхлебывает вина, откусывает вафлю, – что мы во Франции теряемся в догадках. Если Генрих решил избавиться от конкубины, почему бы не сделать это, не привлекая внимания? Французам не понять, что такое суд и парламент, все у них шито-крыто. – А если королю захотелось выставить свой позор напоказ, неужели одного-двух любовников недостаточно? Ладно, Кремюэль, – посол делает большие глаза, – мы ведь можем говорить, как мужчина с мужчиной? Главный вопрос, состоятелен ли Генрих как мужчина? До нас доходили слухи, что стоит ему подготовиться, тут конкубина бросает на него особенный взгляд, – и всё, пиши пропало. Это похоже на колдовство, ведьмы часто делают мужчин неспособными. Впрочем, – добавляет посол с легким презрением, – не могу представить француза, которого смутили бы подобные пустяки. – Вам следует понять, – говорит он, – что Генрих, хоть и мужчина не хуже прочих, еще и джентльмен, а не блудливый пес, который сношается в канаве с… не мне судить о женщинах, которых выбирает ваш король. Последние месяцы, – он набирает воздуха в грудь, – особенно последние недели стали тяжелым испытанием для моего господина. И ныне он нуждается в счастье. Не приходится сомневаться, что его следующий брак успокоит страну и станет залогом процветания Англии. Он говорит как по писаному, уже сейчас составляя в уме дипломатические депеши. – Ах да, – посол усмехается, – эта малышка. Не слыхал, чтобы кто-нибудь хвалил ее ум или красоту. Неужели Генрих снова берет в жены пустое место? В то время как император предлагает ему весьма выгодные союзы… как мы слышали. Мы всё понимаем, Кремюэль. У мужчины и женщины, короля и конкубины, могли возникнуть разногласия, но они ведь не единственные люди на свете, они не в Эдемском саду! Конкубина не вписывается в новый политический расклад и больше его не устраивает. Старая королева в некотором смысле ее защищала, а теперь, когда Екатерина мертва, Генрих тщится обрести былую респектабельность. Поэтому женится на первой же попавшейся порядочной девушке, и нужды нет, приходится ли она родственницей императору, ибо теперь, когда Болейнам конец, Кремюэль взлетит высоко и позаботится набить совет сторонниками Карла. – Губы посла кривятся, что вполне может сойти за улыбку. – Кремюэль, признавайтесь, сколько вам платит император. Не сомневайтесь, мы дадим больше. Он смеется: – Ваш господин сидит как на иголках. Знает, что деньги стекаются к моему королю. Боится, что мы нанесем Франции визит, да не с пустыми руками, а хорошенько вооружившись. – Не забывайте, чем вы обязаны королю Франции! – Посол рассержен. – Только благодаря нашим хитроумным маневрам Папа еще числит вашу страну среди христианских государств. Мы всегда хранили верность нашим союзникам, заботясь о вашем благе больше, чем вы сами. Он кивает: – Люблю я слушать, как французы себя нахваливают. Не отобедаете со мной на неделе? Когда все закончится и ваше недомогание пройдет? Посол наклоняет голову, на шляпе вспыхивает брошь в виде серебряного черепа. – Я буду вынужден сообщить моему господину, что мои усилия спасти Уэстона ни к чему не привели. – Скажите, что опоздали. Что обстоятельства ополчились против вас. – Нет, я скажу, что против меня ополчился Кромвель. А кстати, вам известно, что сделал Генрих? – Посол выглядит довольным. – На прошлой неделе он послал за французским палачом. Не с французских территорий, нет, ему потребовался тот, что рубит головы в Кале. Кажется, ваш король не доверяет умертвить свою жену англичанам. Удивляюсь, что он не выволок ее на улицу и не задушил собственноручно! Он оборачивается к Кингстону. Комендант Тауэра немолод, и хотя бывал во Франции по королевским делам лет пятнадцать назад, с тех пор вряд ли хоть раз воспользовался своим французским. Говорите по-английски, да погромче, советовал кардинал. – Вы слышали? Генрих послал в Кале за палачом. – Клянусь мессой! – восклицает Кингстон. – Еще до суда? – Так утверждает мсье посол. – Я очень рад, – говорит Кингстон громко и внятно. – Просто камень с души. – Комендант стучит себя по голове. – Надо понимать, король выбрал… – Кингстон взмахивает рукой. – Да, меч, – отвечает Дентвиль по-английски. – Вас ждет изысканное представление. – Посол касается шляпы. – Au revoir, господин секретарь. Они смотрят, как посол уходит. Его уход сам по себе спектакль, слуги закутывают посла потеплее. В свой прошлый визит де Дентвиль изнемогал от жары под пуховыми перинами, прогоняя лихорадку – следствие сырого английского воздуха и лютого холода. – Малютка Жанно, – говорит он, глядя послу вслед. – До сих пор боится английского лета. И короля – в первый раз, когда его представляли Генриху, бедняжка трясся от страха. Нам с Норфолком пришлось его поддерживать под локотки. – Правильно ли я понял, – спрашивает комендант, – что Уэстона казнят за стишки? – В общих чертах. Выходит, Анна, словно книга, открытая только для мужа, но в которой всяк был волен писать что хотел. – Ладно, мое дело маленькое, – говорит Кингстон. – Вам не приходилось наблюдать, как женщину сжигают живьем? Мне не довелось. Бог даст, и не доведется.
Когда Кранмер заходит проведать его вечером шестнадцатого мая, вид у архиепископа больной, под глазами залегли тени. Интересно, они появились недавно или были там месяц назад? – Скорей бы все закончилось, – говорит Кранмер. – Вернусь в Кент. – Вы оставили Грету в Кенте? – мягко спрашивает он. Кранмер кивает. Едва ли архиепископ способен произнести имя жены вслух. Всякий раз, когда король упоминает о браке, Кранмер дрожит от страха, а в последнее время Генрих ни о чем другом не говорит. – Она боится, что король женится и снова обратится к Риму, и тогда нас разлучат. Я убеждаю ее, что бояться нечего. Если бы король передумал и священники могли жить с женами открыто… когда я понимаю, как призрачны мои надежды, то говорю себе, лучше бы я отослал ее домой, пока здесь для нее нет места. Вы знаете, как это бывает, проходит несколько лет, люди умирают, забывают вас, забывают ваш язык. – Всегда остается надежда, – говорит он твердо. – Передайте ей: в новом парламенте я сделаю все, чтобы вымести из законов последние остатки Рима. К тому же, – он улыбается, – уж если англичанам удалось заполучить папские денежки, они с ними не расстанутся, будьте уверены. – Как королева? Исповедовалась? – спрашивает он. – Нет. Еще не время. Позже. Если дойдет до этого. Что ж, коли так, он рад за Кранмера. Что может быть хуже его доли? Услышать, как виновная женщина признает свои грехи или как невинная умоляет о пощаде? Но и в том, и в другом случае хранить молчание. Возможно, Анна решила тянуть до конца, когда не останется никакой надежды на отмену приговора. Он понимает ее. Сам поступил бы так же. – Я сказал ей, что все готово для аннулирования брака, – рассказывает Кранмер, – и что слушания пройдут завтра в Ламбете. Она спросила, будет ли там король. Я ответил, нет, мадам, король пришлет своих поверенных. Милуется с этой Сеймур, съязвила она и тут же поправилась: нет, я не должна говорить дурно о короле. Я подтвердил, что это неразумно. Тогда она спросила, разрешат ли ей самой защищать себя в Ламбете? Я ответил, что ее интересы также будут представлять поверенные. Это опечалило ее, а потом она заявила: я подпишу все, что скажет король. Я на все согласна. Может быть, король отправит меня во Францию, в монастырь? Должна ли я подтвердить, что была обручена с Гарри Перси? Я сказал ей: мадам, граф отрицает вашу помолвку. И тогда она рассмеялась. Он сомневается. Даже полное и подробное признание уже не поможет ей, хотя, возможно, могло бы помочь до суда. Король больше не желает слышать о ее любовниках, прошлых и настоящих. Он вычеркнул их из памяти. А вместе с ними и ее. Анне невдомек, насколько далеко все зашло. Вчера король сказал: «Надеюсь, скоро Джейн придет в мои объятия». Кранмер говорит: – Ей трудно вообразить, что король отверг ее. Всего месяц назад Генрих заставил императорского посла ей кланяться. – Король сделал это ради себя, не ради нее. – Мне кажется, Генрих любил ее. И до последнего времени они жили душа в душу. Приходится признать, что я не знаю ничего. Ни о мужчинах, ни о женщинах. Ни о собственной вере, ни о вере других. Она спросила меня: «Я попаду в рай? Я сделала много добрых дел». Такой же вопрос Анна-королева задала Кингстону. Возможно, она спрашивает об этом каждого встречного. – Королева говорит о поступках. – Кранмер качает головой. – Не о вере. Надеюсь, она понимает, как понимаю теперь я, что мы спасены не нашими делами, но единственно той жертвой, которую принес Господь. Его добродетелями, не нашими. – Надеюсь, вы не пришли к заключению, что все эти годы она была тайной паписткой. Какая ей в том выгода? – Мне жаль, что вам пришлось распутывать это все, – говорит Кранмер. – Когда я начинал, я не знал, что меня ждет. И хорошо, что не знал, ибо открытия подстерегали меня на каждом шагу. Он вспоминает похвальбу Марка, джентльменов в зале суда, отводящих глаза и отдергивающих руки, чтобы ненароком не коснуться друг друга. Он узнал о человеческой природе много нового. – Гардинер из Франции требует подробностей, но я не хочу предавать их гласности, ибо они слишком отвратительны. – Опустим над ними завесу тайны, – соглашается Кранмер. Впрочем, короля подробностями не смутить. Кранмер рассказывает: – Он всем твердит о своей книге. Вот и вчера в доме архиепископа Карлайла… кстати, дом снимает Фрэнсис Брайан… В разгар вечера король вытащил свои записки и начал читать вслух. Совсем помешался с горя. – Несомненно, – говорит он. – В любом случае Гардинер будет доволен. Я обещал, что трофеи достанутся ему. Должности, пенсии, те, что вернутся короне. Однако Кранмер не слушает. – Она спросила меня: после смерти я останусь женой короля? Нет, мадам, отвечал я, король хочет аннулировать брак, и я прибыл, чтобы получить ваше согласие. Я согласна, говорит она, но я останусь королевой? Думаю, по закону – да. Я не знал, что еще ей сказать. Кажется, она обрадовалась. Но этому не было конца! Королева то смеялась, то молилась, то бранилась. Расспрашивала меня о ребенке, которого носит леди Вустер. Анна думает, что плод не шевелится, хотя леди Вустер уже на пятом месяце, и что причиной тому сильный испуг. Мне не хотелось ей говорить, что эта дама свидетельствовала против нее. – Я разузнаю о здоровье миледи, – говорит он, – но не спрашивайте меня о здоровье ее супруга. Граф так и зыркал на меня в суде. Знать бы, чем я ему насолил. По лицу архиепископа проходит череда загадочных выражений. – Так вы не знаете? Что ж, значит, слухи оказались ложными, чему я весьма рад. – Кранмер молчит. – Нет, вы и впрямь не знаете? При дворе болтают, что ребенок леди Вустер – ваш. Он потрясен: – Мой? – Говорят, вы часами просиживали с ней, заперев дверь на замок. – И это доказывает супружескую измену? Выходит, доказывает. Вот и расплата. Лорд Вустер проткнет меня насквозь. – Непохоже, чтобы вы испугались. – Испугался, но не лорда Вустера. Скорее новых времен, тех, что грядут. Анна карабкается по мраморным ступеням рая, а ее добрые дела, словно драгоценные камни, оттягивают запястья и шею. Кранмер говорит: – Не знаю, что заставляет ее так думать, но Анна верит, что для нее еще не все потеряно.
* * *
Все эти дни он не один. Его союзники не сводят с него глаз. Фицуильям всегда рядом, из головы казначея не выходит полупризнание Норриса, которое тот немедленно взял обратно, Фицуильям без конца говорит о нем, пытаясь вычленить связный рассказ из сумбурных слов. Николас Кэрью всегда рядом с Джейн, но Эдвард Сеймур порхает между сестрой и королевскими покоями, где не спят, и дыхание короля, словно дыхание минотавра, слышится в лабиринте комнат. Он понимает: его новые друзья защищают свои вложения. Они не допустят его колебаний. Он должен дойти до конца, а их руки скрыты, и если король выразит хоть малейшее недовольство, то виноват будет Томас Кромвель и больше никто. Рич и мастер Ризли тоже не отходят от него ни на шаг. – Мы хотим помочь, хотим учиться, понять, как вы это делаете, – твердят они. Куда им. Мальчишкой, сбежав от отца через Ла-Манш, гол как сокол, он промышлял на улицах Дувра финтом с тремя картами. – Вот королева. Смотрите на нее. Опля! И где теперь ваша королева? Королева в рукаве, а денежки в кармане. «Высечь его!» – кричат игроки.Он приносит Генриху бумаги на подпись. Кингстон до сих пор не получил инструкций, как следует казнить приговоренных. Он обещает, что заставит короля принять решение. – Ваше величество, – говорит он, – на Тауэрском холме нет виселицы, и едва ли благоразумно везти их на Тайберн. Могут начаться волнения… – Волнения? – удивляется Генрих. – Лондонцы не испытывают к ним никаких теплых чувств. Горожанам нет до них никакого дела. – Разумеется, но стоит ли давать повод для беспорядков, к тому же дни стоят погожие… Король ворчит. Хорошо. Пусть будет палач. А Марк? – Видите ли, я обещал ему смягчить приговор, Марк признался добровольно, а посему… – Француз здесь? – спрашивает король. – Жан де Дентвиль. Представил грамоты. – Нет. Не тот француз. Палач из Кале. – Ваше величество полагает, королева утратила девственность при французском дворе? Генрих молчит, размышляет, затем говорит: – Она всегда, заметьте, всегда кичилась передо мной превосходством французов. Думаю, вы правы. Я не верю, что ее девственность отнял Гарри Перси. Он не стал бы лгать. Ложь несовместима с его достоинством пэра Англии. Да, именно при французском дворе ее и развратили. Считать ли приглашение палача-француза – наверняка мастера своего дела – жестом милосердия или этот вид убийства просто отвечает жестоким представлениям Генриха о том, как следует казнить королеву? Наверное, к лучшему, что король ополчился против какого-то неизвестного француза, обесчестившего Анну, иностранца, которого, возможно, уже нет на свете. – Так это был не Уайетт? – спрашивает он. – Нет, – отвечает Генрих мрачно. – Не Уайетт. На этом и остановимся. Однако нужно написать Уайетту, пусть знает: суд ему не грозит. – Ваше величество, – говорит он, – королева жалуется на свое окружение. Она хотела бы видеть рядом собственных фрейлин. – Ее двор распущен. Об этом позаботился Фицуильям. – Вряд ли дамы отправились по домам. Ему известно: фрейлин в ожидании новой госпожи приютили друзья. Генрих говорит: – Пусть останется леди Кингстон, остальные – на ваше усмотрение. Если кто-нибудь согласится служить ей. Вероятно, Анна не догадывается, что ее все оставили. Если верить Кранмеру, она воображает, будто друзья оплакивают ее, в действительности же они потеют от страха и ждут не дождутся, когда голова королевы упадет с плеч. – Кто-нибудь согласится из милосердия, – говорит он. Генрих рассматривает бумаги на столе, словно не понимает, что в них. – Смертные приговоры. Подписать, – напоминает он. Он стоит рядом с королем, когда тот обмакивает перо в чернила и выводит подпись на каждом приговоре: квадратные, витые буквы тяжело ложатся на бумагу; твердая мужская рука, когда все слова сказаны.
Он заседает в Ламбете, в суде о королевском разводе, когда любовники Анны умирают: сегодня последний день слушаний. На Тауэрском холме племянник Ричард, его глаза и уши. Рочфорд, сохраняя присутствие духа, произносит прочувствованную речь. Палач начинает с него, довершая начатое с третьего удара. После этого остальные говорят немного. Все объявляют себя грешниками, признают, что заслужили кару, и опять – ни слова о том, за что повинны смерти. Марк, оставленный напоследок, скользя по крови, взывает к Божьему милосердию и просит собравшихся молиться за него. Палач взял себя в руки и больше не допускает ошибок, обходясь одним ударом. На бумаге все завершено. Судебные записи у него, можно поместить их в архивы, уничтожить, потерять, но мертвые тела не ждут. Тела следует сгрузить на повозку и вывезти за стены Тауэра: их можно увидеть, груду безголовых трупов, бесстыдно сплетенных, словно в постели, или словно их вырыли из земли, как бывает на войне. Внутри крепостных стен палач и его подручные разденут трупы до исподнего. Простолюдинов похоронят на кладбище церкви Святого Петра в Оковах, одного Рочфорда зароют под плитами церковного пола. Но сейчас, когда тела лежат в ряд, без знаков отличия, выходит путаница. Один из могильщиков говорит; пошлите за королевой, она быстро сообразит, какая часть тела кому принадлежит, но остальные, со слов Ричарда, быстро затыкают ему рот. Черствость тюремщиков можно понять, замечает он, они слишком многое видели. – Уайетт смотрел вниз из-за решетки на Колокольне, – рассказывает Ричард. – Он подал мне знак, и я хотел показать ему, что есть надежда, но не сообразил как. Его выпустят, говорит он, однако не раньше, чем казнят Анну. Часы, оставшиеся до казни, кажутся бесконечными. Ричард обнимает его: – Если бы она правила дольше, то скормила бы нас собакам. – Если бы мы позволили ей править дольше, мы бы это заслужили.
В Ламбете королеву представляют двое поверенных, от имени короля выступают доктор Бедилл и доктор Трегонвелл, а также Ричард Сэмпсон, королевский советник. Кроме них, присутствует он, Томас Кромвель, другие члены совета, включая герцога Суффолкского, чьи семейные дела так запутаны, что ему пришлось изучить некоторые разделы канонического права, которые его светлость проглотил, как дитя глотает пилюлю. И сегодня Брэндон сидит, гримасничая и вертясь в кресле, пока священники и судейские подробно разбирают обстоятельства дела. Они приходят к выводу, что в суде обойдутся без Гарри Перси. – Не понимаю, как вы умудрились не добиться его согласия, Кромвель, – говорит герцог. Неохотно судьи приходят к выводу, что Мэри Болейн можно считать препятствием к заключению законного брака, хотя бы пришлось признать виновным самого короля, ибо его величество знал, что не должен жениться на Анне, если до брака имел отношения с ее сестрой. Вывод не представляется мне очевидным, мягко возражает Кранмер. В данном случае, безусловно, имеет место родство по браку, однако король получил от Папы диспенсацию, каковую в то время счел приемлемым условием. Тогда король не знал, что в подобных случаях Папа не правомочен давать разрешение, это выяснилось позже. Все это шито белыми нитками. Неожиданно герцог заявляет: – Все знают, что она ведьма. И если она заколдовала его, обманом женив на себе… – Вряд ли король подразумевал колдовство, – говорит он, Кромвель. – А что ж еще? – не унимается герцог. – Нам следует это обсудить. Если она заколдовала его, брак незаконен, таково мое мнение. Герцог откидывается назад и скрещивает руки. Поверенные смотрят друг на друга. Сэмпсон смотрит на Кранмера. Все старательно избегают смотреть на Брэндона. Наконец Кранмер произносит: – Нам не следует выносить это на публику. Мы можем принять решение о расторжении брака, но держать его в строжайшем секрете. Все облегченно вздыхают. Он говорит: – Одно утешение, что нас не засмеют публично. Лорд-канцлер добавляет: – Правда так редка и драгоценна, что иногда ее следует держать под замком. Герцог Суффолкский спешит к своему баркасу, крича, что наконец-то избавился от Болейнов.
Первый королевский развод тянулся долго и совершался у всех на глазах, о нем судачили не только на советах правителей, но и на рыночных площадях. Второй, если победит благопристойность, будет скорым, закрытым и непубличным. Впрочем, присутствия городской верхушки и знати не избежать. Тауэр – целый город со своим арсеналом, крепостью и монетным двором. Он кишит рабочим людом и чиновниками, но на время казни будут приняты строжайшие меры безопасности, а иностранцев выдворят за стену. Об этом позаботится Кингстон. Анна, как узнает он с горечью, перепутала день своей смерти, встав помолиться в два часа ночи восемнадцатого мая. Королева призвала своего елемозинария и Кранмера, чтобы исповедаться в грехах. Никто не предупредил ее, что в утро казни комендант сам приходит за осужденными. Королева не ведала о протоколе, да и откуда ей знать? Кингстон оправдывается: войдите в мое положение, пять казней в один день, одна на следующий, причем казнить будут не кого-нибудь, а королеву Англии! Разве может она умереть, если городские чиновники не собрались, а плотники еще сколачивают эшафот? Хорошо еще, Анне в ее покоях не слышно стука молотков. Комендант сожалеет о недоразумении, особенно ближе к обеду, когда ошибка вскрывается. Ситуация щекотливая и для Кингстона, и для его жены. Вместо того чтобы обрадоваться лишнему дню, Анна рыдает и говорит, что хотела бы умереть сегодня, что больше нет мочи терпеть. Ей уже известно о французском палаче. – Я уверил ее, что боли не будет, что она ничего не почувствует, – рассказывает Кингстон. Но Анна снова сжимает пальцы на горле. Затем королева вкушает Святых Тайн, присягая на Теле Господнем, что невиновна. Разве, будь она виновата, она бы так поступила, вопрошает Кингстон. Королева оплакивает тех, кто ушел. Шутит, говорит, что ее запомнят как Анну-Без-Головы, Анну sans tкte.
Он говорит сыну: – Если ты пойдешь на казнь вместе со мной, это будет самым суровым испытанием в твоей жизни. Если ты выдержишь его с достоинством, это послужит твоей доброй славе. Грегори молча смотрит на него. – Она женщина, я не выдержу. – Я буду рядом, когда это случится. Тебе необязательно смотреть. Когда ее душа отлетит, мы встанем на колени и опустим глаза, чтобы помолиться. Эшафот установлен на ровном месте, где раньше устраивались турниры. Отряд из двухсот йоменов призван охранять процессию. Вчерашнее недоразумение, смятение, проволочки забыты: сегодня все должно пройти как по маслу. С раннего утра он у эшафота, оставив Грегори в комендантских покоях, где собираются шерифы, олдермены, чиновники и знать. Он ставит ногу на ступени, проверяя прочность. Один из рабочих, которые посыпают опилками эшафот, говорит: не сомневайтесь, сэр, выдержат, мы все утро бегаем вверх и вниз, но можете убедиться сами. Когда он поднимает глаза, палач уже здесь, разговаривает с Кристофом. Палач молод, одет с иголочки, приличное жалованье позволяет ему выглядеть настоящим джентльменом, и его непросто отличить от прочих чиновников. Это задумано, чтобы не испугать королеву раньше времени, а если одежда испачкается, что ж, эту потерю легко возместить. Он подходит к палачу. – Как вы это сделаете? – Я удивлю ее, сэр. – Переходя на английский, молодой человек показывает на свои ноги. На них мягкие домашние туфли. – Она не знает, как выглядит мой меч. Я спрячу его в соломе, отвлеку ее, она не успеет сообразить, с какой стороны я подойду. – Покажите меч мне. Палач пожимает плечами: – Как вам будет угодно. Должно быть, вы Кремюэль? Мне говорили, вы тут за главного. Они шутили, что если при виде ее уродства я упаду без чувств, есть человек, который подхватит меч, и зовут его Кремюэль, только он способен срубить Гидре голову, хотя я не знаю, кто такая Гидра. Они объяснили, что это ящерица или змея и вместо отрубленной головы у нее отрастают две. – Ну уж нет, не надейтесь, – говорит он. С Болейнами покончено раз и навсегда. Меч тяжелый, двуручный, почти четыре фута в длину: два дюйма шириной, закругленное острие, двойное лезвие. – Приходится упражняться, – говорит палач, крутнувшись на месте, как танцор. Он высоко поднимает руки, складывая ладони, словно сжимает меч. – Каждый день брать меч в руки, хотя бы ради практики. В любое время твои услуги могут понадобиться. В Кале казнят не слишком часто, но приходится путешествовать. – Хорошее ремесло, – говорит Кристоф. Ему неймется подержать меч в руках, но он, Кромвель, еще не готов ему позволить. – Мне сказали, я могу заговорить с ней по-французски, и она поймет. – Можете. – Кто-то должен предупредить ее, что придется встать на колени. Сами видите, тут нет плахи. Она должна выпрямиться. Если не будет дергаться, через мгновение все будет кончено. Если нет, порублю ее на куски. Он возвращает меч. – Я за нее ручаюсь. – Все случится между двумя ударами сердца. Она ничего не поймет. Миг – и она в вечности. Они уходят. – Мастер, – говорит Кристоф по дороге, – палач сказал мне, чтобы женщины обернули ее юбки вокруг ног, когда она опустится на колени. Если она упадет неудачно, весь свет увидит то, что видели столько благородных джентльменов. Он не бранит мальчишку за грубость. Кристофер прав. И когда время придет, женщины разберутся, что делать. Наверняка обговорят это заранее.
Фрэнсис Брайан возникает перед ним, дымясь внутри кожаного джеркина. – Что, Фрэнсис? – Мне поручили, как только ее голова слетит с плеч, скакать с новостью к королю и мистрис Джейн. – Зачем? – интересуется он холодно. – Они боятся, что палач промахнется? На часах около девяти. – Вы завтракали? – спрашивает Фрэнсис. – Я всегда завтракаю. Интересно, завтракал ли король? – Генрих почти не говорит о ней, – сообщает Фрэнсис Брайан. – Только недоумевает, как такое могло с ним случиться. Оглядываясь на прошедшие десять лет, он не понимает, что на него нашло. Они молчат. – Смотрите, ведут, – говорит Фрэнсис. Мрачная процессия движется через ворота: представители городской власти, олдермены, чиновники, за ними следуют стражники. В середине – королева в окружении сопровождающих женщин. На ней платье темного дамаста, короткая накидка из горностая, на голове старомодный гейбл: хитроумный способ, как решат многие, спрятать лицо. Накидка из горностая, неужели та самая? В нее куталась Екатерина, когда я видел ее незадолго до смерти, вспоминает он. Этот мех – последний трофей Анны. Три года назад она вышагивала на коронацию по синей ткани, расстеленной во всю длину аббатства, еле передвигаясь под тяжестью плода, заставляя сердца зрителей биться учащенно; теперь шагает по жесткой земле, в туфельках, тонкая и пустая, и множество рук готовы поддержать ее, чтобы в целости и сохранности доставить туда, где ей предстоит умереть. Один или два раза королева замедляет шаг, и вся процессия вынуждена остановиться, но она не спотыкается, а оглядывается назад. – Не знаю почему, – говорит Кранмер, – но она верит, что надежда есть. Лица дам скрыты под вуалями, даже лицо леди Кингстон: не хотят, чтобы это утро наложило отпечаток на всю их жизнь, чтобы мужья и воздыхатели, глядя на них, думали о смерти. Грегори занял место рядом с ним. Сына трясет, он чувствует его дрожь, кладет руку в перчатке Грегори на плечо. Ричмонд узнает его, юный герцог стоит на видном месте рядом с тестем, Норфолком. Суррей что-то шепчет на ухо отцу, но тот смотрит прямо перед собой. Как дом Говардов дошел до такой жизни? Одна из женщин снимает с королевы накидку, под ней – худенькая фигурка, мешок костей. Королева не выглядит грозным врагом Англии, но внешность обманчива. Будь это во власти Анны, Екатерина сейчас стояла бы там, где стоит она. И юная Мария, и, разумеется, он, стаскивая одежду в ожидании грубого английского топора. – Это продлится всего мгновение, – говорит он сыну. По пути к эшафоту Анна раздавала милостыню, теперь бархатный мешочек опустел. Она просовывает в него руку и выворачивает наизнанку жестом экономной кумушки, проверяющей, не завалялось ли чего внутри. Одна из женщин протягивает руку, Анна, не глядя, передает ей мешочек и подходит к краю эшафота. Помедлив, глядя куда-то поверх толпы, начинает говорить. Толпа подается вперед, но не более чем на несколько дюймов, все глаза устремлены на нее. Голос королевы едва слышен, слов почти не разобрать, речь соответствует моменту: «…молиться за короля, славного, добродетельного и великодушного правителя…» Слова, которые должны быть произнесены, ведь даже сейчас может появиться королевский посланник. Анна переводит дух… но нет, она закончила. Ей больше нечего сказать, и теперь от смерти ее отделяют несколько мгновений. Она вдыхает, на лице изумление. Аминь, произносит она, аминь. Голова опускается. Кажется, Анна пытается совладать с дрожью, сотрясающей тело с головы до пят. Одна из женщин под вуалью подходит к ней сбоку, что-то говорит. Трясущимися руками Анна легко снимает жесткий головной убор, должно быть, думает он, чепец держался сам по себе, без булавок. Волосы собраны в шелковую сетку на затылке, она встряхивает головой, подхватывает локоны, одной рукой поднимает над головой и свертывает в кольцо. Ей подают льняной чепец, и Анна надевает его. Кажется, что чепец не удержит волосы, но страхи напрасны, вероятно, она готовилась. Но теперь Анна смотрит вопросительно, словно ждет указаний. Тянет чепец вверх, возвращает на место. Она явно не знает, что делать дальше, не знает, завязать ли тесемки: будет ли чепец держаться сам, или у нее в запасе несколько ударов сердца, чтобы затянуть узел. Палач выступает вперед, Анна замечает его – и ее взгляд застывает. Француз преклоняет колено, прося прощения. Это формальность, колено едва касается соломы. Затем знаком велит встать на колени ей и, когда Анна повинуется, отступает назад, словно не желая касаться даже края ее одежд. На вытянутой руке палач передает сложенный кусок ткани одной из женщин, затем поднимает руку к лицу, показывая, что надлежит сделать. Он надеется, что эта женщина – леди Кингстон. Помощница действует быстро и умело, но когда мир меркнет перед глазами, Анна издает слабый звук. Ее губы шепчут молитву. Француз знаком велит женщинам отойти. Они удаляются, опускаются на колени, одна почти валится на землю, остальные ее поддерживают. Несмотря на вуали, каждый может видеть их руки, беспомощные голые руки, когда дамы подбирают юбки, словно пытаясь уменьшиться в размерах, уцелеть. Королева остается одна, одна, как никогда в жизни. Христу я вручаю душу мою, Господи, прими мою душу, произносит она. Затем поднимает руку, пальцы снова тянутся к чепцу, и он думает: опусти руку, ради Христа, опусти ее. Он не вынесет, если… Палач бросает: – Подайте меч. Голова в повязке слепо озирается по сторонам. Палач стоит позади Анны, она не чувствует его. Из толпы раздается стон. Становится тихо, затем тишину пронзает звук, похожий на резкий вдох или свист сквозь замочную скважину: телу отворяют кровь, маленькое и плоское, оно обращается алой лужей. Герцог Суффолкский до сих пор на ногах. Как и Ричмонд. Остальные встают с колен. Палач скромно отвернулся и уже отдал меч. Его помощник подходит к телу, но женщины успевают раньше, загородив ему проход. – Обойдемся без мужчин! – со злобой бросает одна. Он слышит голос Суррея: – Довольно мужчины носили ее на руках. Милорд, обращается он к Норфолку, угомоните вашего сына, пусть убирается. Ричмонд выглядит скверно. Он видит, как Грегори подходит к юному графу, кланяется и говорит запросто, как ровеснику: милорд, давайте уйдем отсюда. Знать бы, почему Ричмонд не преклонил колен. Возможно, поверил слухам, что королева собиралась отравить его, и не счел нужным оказать ей последнюю честь. Другое дело Суффолк. Старого вояку ничем не проймешь, Брэндон – давний враг Анны, на поле битвы повидал немало крови, хотя едва ли столько. Кажется, Кингстон не озаботился подумать о похоронах. – Дай Бог, – говорит он, Кромвель, ни к кому в особенности не обращаясь, – чтобы комендант не забыл приспустить флаги. – Их приспустили два дня назад, сэр, когда хоронили ее брата, – отвечает кто-то. За прошедшие дни комендант немало навредил своей репутации, хотя король держал его в неведении до последней минуты, и, как впоследствии признается сам Кингстон, все утро ему казалось, что вот-вот прибудет посланник из Уайтхолла: даже когда королева всходила на эшафот, даже когда снимала чепец. Кингстон не подумал о гробе, поэтому срочно освобождают деревянный сундук из-под стрел. Еще вчера сундук с содержимым собирались отправить в Ирландию, и каждую отдельную стрелу наточили нести смерть. Теперь на сундук глазеет толпа, он стал гробом для мертвого тела, достаточно широким для тщедушной королевы. Палач пересекает эшафот, поднимает отрубленную голову, заворачивает в льняную ткань, словно новорожденного, и ждет кого-нибудь, кто примет его ношу. Женщины сами опускают безжизненное вялое тело в сундук. Одна из них забирает голову у палача и кладет в ноги трупа – больше в сундуке места нет. Затем женщины, перепачканные свежей кровью, выпрямляются и с достоинством уходят, сомкнув ряды, словно солдаты.
* * *
Вечером в Остин-фрайарз он пишет письма во Францию, Гардинеру. Епископ за границей: притаившийся зверь точит когти, готовясь к прыжку. Убрать его с глаз долой было победой. Знать бы, как долго ему удастся удерживать Гардинера на расстоянии. Жаль, что рядом нет Рейфа, который сейчас с королем или с Хелен, в Стипни. Он привык полагаться на Рейфа и никак не смирится с новым распорядком. Все ждет, что раздастся его голос или звуки шуточной потасовки, которую затеяли Рейф, Ричард и Грегори: пытаются спустить друг друга с лестницы или притаились за дверью, чтобы неожиданно выпрыгнуть из-за угла, – забавы, которыми не гнушаются мужчины двадцати пяти – тридцати лет, когда поблизости нет родственников постарше. Вместо Рейфа с ним мастер Ризли, вышагивает по комнате. Зовите-Меня уверен, что следует на манер летописца изложить события дня или хотя бы поведать миру о собственных переживаниях. – Я словно стоял на высокой скале, спиной к морю, а передо мной полыхала равнина. – Серьезно, Зовите-Меня? Так не стойте на ветру, лучше выпейте со мной вина, которое прислал из Франции лорд Лайл. Я держу его для себя. Зовите-Меня принимает чашу. – Я слышу запах пожарищ. Горят дома. Падают башни. Ничего не осталось, кроме пепла. Одни обломки. – Обломки всегда на что-то сгодятся. Обломки кораблекрушения вещь полезная: спросите любого жителя прибрежных земель. – Вы толком не ответили на мой вопрос, – говорит Ризли. – Почему вы позволили Уайетту избежать суда? Только ради дружбы? – Вижу, вы не слишком цените дружеские узы. Он наблюдает, попался ли Ризли. – И все же, – не унимается Зовите-Меня, – Уайетт не представлял для вас угрозы, не презирал вас, не унижал. Уильям Брертон славился высокомерием, многих осаживал, стоялу вас на пути. Гарри Норрис, юный Уэстон, они мешали вам, и теперь вы можете поставить рядом с Рейфом своих людей. И Марк, это ничтожество, без него воздух станет чище. Падение Джорджа Рочфорда заставит остальных Болейнов держаться тише, а монсеньор теперь и носа не высунет из деревни. Императору все произошедшее только на руку. Жалко, что лихорадка помешала послу прийти, ему бы понравилось. Вряд ли, думает он. Шапюи брезглив. Но ты должен, если потребуется, встать с постели, чтобы самому увидеть результат того, чего так долго желал. – Теперь в Англии воцарится мир, – произносит Ризли. Слова Зовите-Меня вызывают в памяти что-то знакомое. Кажется, так говорил Томас Мор? «Спокойствие курятника, когда лисицы след простыл»? Он видит разодранные тушки, одни убиты ударом мощной лапы, остальные задавлены и искусаны, когда лисица в панике металась по курятнику, а куры заполошно трещали крыльями: растерзанные тушки обмоют, а следы от алых перьев впитаются в стены и пол. – Все актеры мертвы, – говорит Ризли. – Все четверо, тащившие кардинала в ад, и бедный Марк, сочинивший балладу об их деяниях. – Все четверо, – говорит он. – Все пятеро. – Один джентльмен спросил меня: если Кромвель поступает так с мелкими врагами, то что он готовит королю? Он стоит, глядя в темнеющий сад: вопрос, словно острый нож, вонзился между лопаток. Единственный из подданных короля осмелится задать его. Единственный решится оспаривать его преданность королю, преданность, которую он демонстрирует ежечасно. – Надо же, – наконец произносит он, – Стивен Гардинер называет себя джентльменом. Возможно, в маленьких мутных стеклах Зовите-Меня наблюдает неясное отражение: смятение и страх – чувства, которые нечасто увидишь на лице господина секретаря. Ибо если Гардинер так думает, то кто еще? – Ризли, – говорит он, – надеюсь, вы не ждете, что я буду растолковывать вам мотивы своих поступков? Если выбрал путь, не оправдывайся. Господу ведомо, я всегда желал нашему господину королю только добра. Мое дело – служить и повиноваться. И если вы возьмете на себя труд всмотреться в меня пристальнее, то увидите, что это так. Он оборачивается, когда чувствует, что готов встретить прямой взгляд Ризли. Его улыбка неумолима. – Пейте мое здоровье, – произносит он.III Трофеи
Лондон, лето 1536 г.Король спрашивает: – Что сталось с ее одеждой? С ее чепцом? Он отвечает: – Их забрали служители Тауэра. Таков обычай. – Выкупите все, – приказывает король, – и сожгите. Я хочу точно знать, что ничего не осталось. И еще говорит: – Соберите все ключи от моих личных покоев. Здесь и в других дворцах. Все ключи от всех комнат. Я хочу поменять замки. Повсюду новые слуги либо старые на новых должностях. Генри Норриса в королевских покоях сменил Фрэнсис Брайан и будет теперь получать пенсион в сто фунтов. Юный герцог Ричмонд назначен канцлером Честера и Северного Уэльса, а также (вместо Джорджа Болейна) лордом-хранителем Пяти портов и коннетаблем Дувра. Томас Уайетт выпущен из Тауэра и пожалован пятьюстами фунтами. Эдвард Сеймур стал виконтом Бошемом. Ричард Сэмпсон – епископом Чичестерским. Вдова Фрэнсиса Уэстона объявила, что снова выходит замуж. Он обсудил с братьями Сеймурами девиз, который возьмет себе Джейн. Сошлись на «Повиноваться и служить». Рассказывает о девизе Генриху. Улыбка, кивок, полное одобрение. Голубые глаза короля безмятежны. Всю осень этого тысяча пятьсот тридцать шестого года на витражах, на каменной и деревянной резьбе белых соколов будут заменять на фениксов, геральдических львов обезглавленной женщины – на леопардов Джейн Сеймур. Экономия расходов: достаточно исправить животным головы и хвосты. Венчание проходит быстро и без помпы, в королевиных покоях Уайтхолла. Между Джейн и королем обнаружилось дальнее родство, но все нужные разрешения получены. Перед церемонией Генрих выглядит печальнее, чем положено жениху в такой день. Прежнюю королеву не вспоминает: она в могиле уже десять дней, а Генрих и словом ее не помянул. «Не знаю, Сухарь, будут ли у меня еще дети, – говорит король. – Платон учит, что наилучшее потомство рождается у мужчин от тридцати до тридцати девяти лет. Я уже вышел из этого возраста. Мои лучшие годы позади. Куда они ушли, не знаю». Король чувствует, что судьба недодала ему обещанного. «Когда умер мой брат Артур, отцовский астролог предрек мне счастливое царствование, богатство и много сыновей». По крайней мере вы богаты, думает он, а если будете держаться меня – станете несравненно богаче. Где-то в вашем гороскопе присутствовал Томас Кромвель. От покойницы остались долги, которые надо возвращать, около тысячи фунтов – их покроет конфискованное имущество. Она задолжала своим скорняку и чулочнику, плетельщицам и торговцу льняным товаром, аптекарю, шорнику, красильщику, кузнецу и булавочнику. Статус ее дочери под вопросом, однако девочка хорошо обеспечена золотыми подзорами для кровати, а также чепчиками белого и пурпурного атласа с золотой отделкой. Королевиной вышивальщице причитается пятьдесят пять фунтов, и хорошо видно, на что пошли деньги. Палачу-французу уплачено двадцать три фунта с лишним, но это расход, который едва ли повторится в будущем.
В Остин-фрайарз он берет ключи и заходит в каморку, где хранится Рождество, где плакал от страха запертый Марк. Крылья из павлиньих перьев придется уничтожить. Падчерица Рейфа едва ли спросит о них в следующее Рождество – дети не помнят, что было год назад. Вытряхнув крылья из мешка, он растягивает холстину, подносит ее к свету и видит прореху. Теперь понятно, как перья вылезли и щекотали лицо покойника. Они облезлые, как будто погрызенные, яркие павлиньи глазки2 поблекли. Да и вообще – пустая безделица, ничего ценного. Он думает о своей дочери Грейс. Думает, изменяла ли мне жена? Когда я уезжал по кардинальским делам, а это случалось часто, утешалась ли она с торговцем, у которого покупала шелк? Или, как многие женщины, со священником? Вспоминая Лиз, ему трудно в такое поверить. Однако у нее было грубое лицо, а у Грейс – прекрасное, с тонкими чертами. Сейчас оно видится смутно – смерть забирает воспоминания одно за другим, оставляя лишь тонкий налет праха. Он спрашивает Джоанну, сестру покойной жены: – Как ты думаешь, у Лиз были другие мужчины? Я хочу сказать, в пору нашего брака. Джоанна негодует: – Да как ты мог подумать? Гони эту мысль туда, откуда пришла. Он пробует последовать совету, но не может отделаться от чувства, что Грейс ушла от него еще дальше. Она умерла совсем маленькой, он даже не успел заказать портрет. Ее одежда, ее мяч и деревянная кукла давным-давно розданы. А вот от его старшей дочери, Энн, осталась тетрадь. Иногда он достает ее и читает выведенное твердым почерком имя. Энн Кромвель. Тетрадь Энн Кромвель. Разглядывает рыбок и птиц, которых она рисовала на полях, русалок и грифонов. Он держит тетрадь в деревянной шкатулке, обитой изнутри и снаружи красной кожей. Крышка выцвела до бледно-розовой, и, только подняв ее, видишь прежнее карминно-красное нутро. Короткие летние ночи он проводит за письменным столом. Бумага драгоценна, поэтому черновики не выкидывают, а переворачивают и пишут на обороте. Часто он берет старые листы и видит беглые записи канцлеров, давно обратившихся в прах, министров-епископов, спящих под мраморными плитами с перечнем их заслуг. Поначалу, когда он вот так натыкался на записи кардинала – короткий расчет, брошенный черновик, – сердце сжималось, вынуждая отложить перо и ждать, пока схлынет пароксизм горя. Теперь он привык к этим встречам, но сегодня, перевернув лист и увидев почерк кардинала, в первый миг не узнает его, как будто свет, падающий под непривычным углом, изменил очертания букв. Это мог написать кто-нибудь полузнакомый, должник или заимодавец, с которым ему случилось вести дела месяца два назад, либо смиренный писарь, строчащий под диктовку хозяина. Он придвигает документ чуть ближе к дрожащему пламени свечи, и слова обретают привычные очертания – их вывела рука человека, которого уже давно нет. Днем он, Кромвель, думает только о будущем, но иногда по ночам воспоминания приходят и смущают его покой. Однако… Следующая задача – помирить короля и леди Марию, пока Генрих не убил дочь и, что важнее, пока сторонники Марии не убили его. Он помог им занять места в новом мире, мире без Анны Болейн, а они решили, что сумеют обойтись и без Томаса Кромвеля. Они насытились за его пиршественным столом и хотят смести хозяина вместе с объедками. Но это его стол; он, Кромвель, стоит среди обглоданных костей. Пусть только попробуют его свалить! Они увидят, что он закован в броню, как моллюск, и, как моллюск, прирос к своему месту. Ему надо писать законы, принимать меры, служить народу и королю; он намерен получать титулы и почести, строить дома, и, кто знает, может быть у него еще будут дети. Он женит Грегори, и внуки заменят ему умерших дочерей. Он воображает, как стоит в луче света и держит младенца – так, чтобы видели покойники. Он думает: как ни старайся, однажды меня не станет, а по нынешним временам это может случиться скоро. Здоровьем меня Бог не обидел, но фортуна переменчива – либо враги доконают, либо друзья. Когда час придет, я могу сгинуть быстрее, чем высохнут чернила. От меня останется гора документов, и те, кто займет мое место – допустим, Рейф, или Ризли, или Рич, – будут приговаривать, беря бумагу из стопки, вот старая купчая, вот старый черновик, вот старое письмо времен Томаса Кромвеля, они перевернут лист и напишут поверх меня. Летом 1536 года король жалует ему баронский титул. Он не может назваться лордом Патни – это смешно. Однако… Барон Кромвель Уимблдонский – уже лучше; в тамошних полях он бегал мальчишкой. Слово «однако» точно бесенок, притаившийся у тебя под креслом. Оно превращает чернила в слова, которых не было прежде, гонит строки через страницу, заставляя их вылезать на поля. Конца не будет. Думать, будто что-то закончилось – только себя обманывать. Всякий конец – начало. Вот оно.
Послесловие
Обстоятельства, сопутствовавшие гибели Анны Болейн, вызывают споры уже много веков. Свидетельства путанны, противоречат друг другу или сделаны постфактум, источники часто предвзяты или ненадежны. Не существует официальной записи судебных слушаний, и последние дни Анны приходится восстанавливать по фрагментам, опираясь на современников, которые могут быть неточны, пристрастны, забывчивы, пересказывать с чужих слов или прятаться под псевдонимом. К пространным и красивым речам, которые она якобы произносила во время суда и на эшафоте, следует относиться скептически, как и к ее «последнему письму» – это почти наверняка подделка или (если выражаться более мягко) плод литературного творчества. В этой книге я пыталась показать, как последние критические недели могли выглядеть с точки зрения Томаса Кромвеля. Я не утверждаю, что все было именно так, а лишь предлагаю читателям свою версию. Некоторых известных обстоятельств в моей книге нет. Чтобы не умножать персонажей, здесь не упомянута покойная фрейлина королевы Бриджит Уингфилд, которая (из могилы) отчасти способствовала возникновению порочащих Анну слухов, и таким образом вина Джейн, леди Рочфорд, возможно, оказывается несколько преувеличена. Мы склонны читать жизнь Джейн Рочфорд в обратной последовательности, поскольку знаем, какую зловещую роль та сыграла в гибели Екатерины Говард, пятой жены Генриха. Джулия Фокс в книге «Джейн Болейн» (2007) характеризует свою героиню более положительно. Знатоки последних дней Анны заметят отсутствие и других действующих лиц, в частности, Ричарда Пейджа, которого арестовали одновременно с Томасом Уайеттом; его не судили и обвинений против него не выдвигали. Поскольку он никак больше в истории не участвует и никто не знает, почему его арестовали, я сочла за лучшее не утомлять читателя еще одним именем. Я в долгу у Эрика Айвза, Дэвида Лоудса, Алисон Уэйр, Дж. У. Бернарда, Реты М. Уорник и многих других исследователей жизни и гибели Болейнов. Разумеется, это книга не об Анне Болейн и не о Генрихе VIII, но о карьере Томаса Кромвеля, чья полная научная биография до сих пор не написана. Тем временем господин секретарь остается лоснящимся, мясистым и глубоко упрятанным, как самая аппетитная слива в рождественском пироге, однако я продолжу мои усилия вытащить его на свет.От автора
Я искренне благодарна тем историкам, которые нашли время прочесть «Волчий зал», отозвались о нем и поддержали это начинание, а также многим читателям, присылавшим мне генеалогические деревья и обрывки семейных легенд с пикантными подробностями о давно исчезнувших местах и почти забытых именах. Спасибо Бобу Вустеру за возможность посетить Аллингтонский замок, некогда принадлежавший семейству Уайеттов, и Руперту Тислетуэйту, потомку Уильяма Полета, который принимал меня в своем замечательном девонском доме. И спасибо всем, чьими любезными приглашениями я надеюсь воспользоваться во время работы над следующим романом. Я особенно признательна моему мужу Джеральду Макюэну, вынужденному делить дом со столькими невидимыми людьми, за его неизменные доброту и заботу.Хилари Мантел Зеркало и свет
Действующие лица
Покойники
Анна Болейн, королева Англии. Ее предполагаемые любовники: Джордж Болейн, виконт Рочфорд, ее брат. Генри Норрис, главный из джентльменов, состоящих при короле. Фрэнсис Уэстон и Уильям Брертон, джентльмены из окружения короля. Марк Смитон, музыкант.Дом Кромвеля
Томас Кромвель, позднее лорд Кромвель, государственный секретарь, лорд – хранитель малой королевской печати, викарий короля по делам церкви. Грегори, его сын, единственный выживший ребенок от брака с Элизабет Уайкис. Мерси Прайор, его теща. Рейф Сэдлер, его старший письмоводитель, который вырос в семье Кромвеля, позднее приближенный короля. Хелен, жена Рейфа. Ричард Кромвель, его племянник, женатый на Франсис Мерфин. Томас Авери, его домашний счетовод. Терстон, его главный повар. Дик Персер, псарь. Женнеке, дочь Кромвеля (вымышленный персонаж). Кристоф, слуга (вымышленный персонаж). Мэтью, слуга, ранее служивший в Вулфхолле (вымышленный персонаж). Бастингс, рулевой барки (вымышленный персонаж).Семья и двор короля
Генрих VIII. Джейн Сеймур, его третья жена. Эдуард, его малолетний сын, рожденный в 1537 году, наследник престола. Генри Фицрой, герцог Ричмондский, незаконнорожденный сын Генриха от Элизабет Блаунт, женатый на Мэри Говард, дочери герцога Норфолка. Мария, дочь Генриха от Екатерины Арагонской, лишена права престолонаследия после того, как брак ее родителей был признан недействительным. Елизавета, малолетняя дочь Генриха от Анны Болейн, лишена права престолонаследия после того, как второй брак короля был признан недействительным. Анна, сестра герцога Вильгельма Клевского, четвертая жена Генриха. Кэтрин Говард, фрейлина Анны, пятая жена Генриха. Маргарет Дуглас, племянница Генриха, дочь его сестры Маргариты от второго брака с Арчибальдом Дугласом, графом Ангусом, выросла при дворе Генриха. Уильям Беттс, врач. Уолтер Кромер, врач. Джон Чамберс, врач. Ганс Гольбейн, художник. Секстон, известный как Заплатка, шут, ранее состоял при Вулси.Семейство Сеймуров
Эдвард Сеймур, старший сын, женатый на Энн (Нэн) Стэнхоуп. Леди Марджери Сеймур, его мать. Томас Сеймур, его младший брат. Элизабет Сеймур, его сестра; вдова сэра Антони Отреда, впоследствии жена Грегори Кромвеля.Политики и церковники
Томас Ризли, прозванный Зовите-меня, хранитель личной королевской печати, бывший протеже Гардинера, впоследствии переметнувшийся к Кромвелю. Стивен Гардинер, епископ Винчестерский, посол во Франции, бывший секретарь кардинала Вулси, впоследствии королевский секретарь, чья должность перешла к Кромвелю. Ричард Рич, спикер палаты общин, канцлер палаты приращений. Томас Одли, лорд-канцлер. Томас Кранмер, архиепископ Кентерберийский. Роберт Барнс, лютеранский священник. Хью Латимер, реформат, епископ Вустерский. Ричард Сэмпсон, епископ Чичестерский, специалист в каноническом праве, консерватор. Катберт Тунстолл, епископ Даремский, бывший епископ Лондонский. Джон Стоксли, епископ Лондонский, консерватор, соратник казненного Томаса Мора. Эдмунд Боннер, посол во Франции после Гардинера, епископ Лондонский после Стоксли. Джон Ламберт, священник-реформат, обвиненный в ереси и сожженный на костре в 1538 году.Придворные и аристократы
Томас Говард, герцог Норфолкский. Генри Говард, его сын, граф Суррейский. Мэри Говард, его дочь, замужем за Фицроем, королевским бастардом. Томас Говард, его единокровный брат, известный как Правдивый Том. Чарльз Брэндон, герцог Суффолкский, старый друг Генриха, был женат на его покойной сестре Марии. Томас Уайетт, друг Кромвеля, поэт, дипломат, предполагаемый любовник Анны Болейн. Генри Уайетт, его престарелый отец, давний сторонник Тюдоров. Бесс Даррелл, любовница Уайетта, ранее фрейлина Екатерины Арагонской. Уильям Фицуильям, позднее лорд-адмирал и граф Саутгемптон, союзник Кромвеля. Николас Кэрью, видный придворный, сторонник Марии, дочери короля. Элиза Кэрью, его жена, сестра Фрэнсиса Брайана. Фрэнсис Брайан, прозванный Наместником Сатаны, закоренелый игрок и недипломатичный дипломат, шурин Николаса Кэрью. Томас Калпепер, джентльмен из свиты короля. Филип Хоуби, джентльмен из свиты короля. Джейн Рочфорд, фрейлина, вдова казненного Джорджа Болейна. Томас Болейн, граф Уилтширский, отец Анны Болейн и Джорджа Болейна. Мэри Шелтон, кузина Анны Болейн и бывшая фрейлина. Мэри Маунтигл, фрейлина. Нэн Зуш, фрейлина. Кэтрин, леди Латимер, урожденная Кэтрин Парр. Генри Буршье, граф Эссекский.Двор королевских детей
Джон Шелтон, распорядитель двора королевских дочерей. Энн Шелтон, его жена, тетя Анны Болейн. Леди Брайан, мать Фрэнсиса Брайана и Элизы Кэрью, воспитательница королевских дочерей Марии и Елизаветы, позднее малолетнего Эдуарда.В монастыре в Шефтсбери
Элизабет Зуш, настоятельница. Доротея Вулси, известная как Доротея Клэнси, незаконнорожденная дочь кардинала.Соперники Генриха в борьбе за трон
Генри Куртенэ, маркиз Эксетерский, потомок дочери Эдуарда IV. Гертруда, его жена. Маргарет Поль, графиня Солсбери, племянница Эдуарда IV. Генри, лорд Монтегю, ее старший сын. Реджинальд Поль, ее сын, предполагаемый вождь крестового похода с целью вернуть Англию под власть папы. Джеффри Поль, ее сын. Констанция, жена Джеффри.Дипломаты
Эсташ Шапюи, посол императора Карла V в Лондоне, франкоговорящий савояр. Диего Уртадо де Мендоса, посол императора. Жан де Дентвиль, французский посол. Луи де Перро, сеньор де Кастильон, французский посол. Антуан де Кастельно, епископ Тарба, французский посол. Шарль де Марильяк, французский посол. Гохштеден, посланник Клеве. Олислегер, посланник Клеве. Харст, посланник Клеве.В Кале
Лорд Лайл, лорд-наместник, губернатор, дядя короля. Хонор, его жена. Энн Бассет, одна из дочерей Хонор от первого брака. Джон Хуси, чиновник из гарнизона Кале, поверенный Лайла.В Тауэре
Сэр Уильям Кингстон, королевский советник, комендант Тауэра. Эдмунд Уолсингем, смотритель Тауэра, его заместитель. Мартин, тюремный надзиратель (вымышленный персонаж).Друзья Кромвеля
Хемфри Монмаут, лондонский купец, побывавший в тюрьме за то, что дал приют Уильяму Тиндейлу, переводчику Библии на английский язык. Роберт Пакингтон, купец и член парламента. Стивен Воэн, антверпенский купец. Маргарет Вернон, аббатиса, ранее наставница Грегори. Джон Бойл, монах-расстрига, драматург.Frères humains qui après nous vivezN’ayez les cuers contre nous endurciz.Терпимей будьте, братья-люди, к нам,Что раньше вас прошли земным путем[101].Франсуа Вийон
Взгляни наверх, крепчает ветер,Готовы мы отплыть.«Потоп», миракль
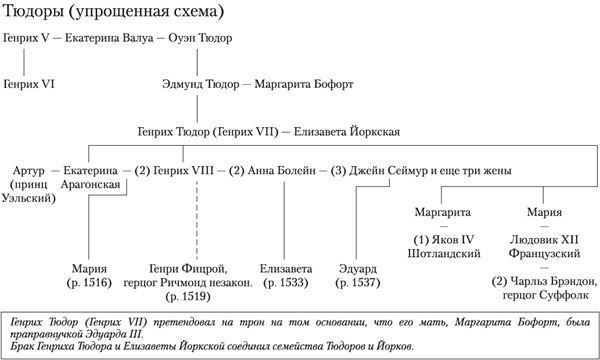

Часть первая
I Обломки (1)
Лондон, май 1536 г. Королеве срубили голову, он уходит. Острый приступ голода напоминает ему, что сейчас время второго завтрака или раннего обеда. Для событий этого утра еще не придумано правил. Очевидцы, преклонившие колени, чтобы проводить ее душу, встают и надевают шляпы. Под шляпами ошеломленные лица. Он возвращается похвалить палача, который исполнил работу с изяществом и блеском, и, хотя король был щедр, важно наградить за отличную службу не только кошельком, но и словами. Бывший бедняк, он знает по опыту. Маленькое тело лежит там, где упало: на животе, раскинув руки, оно плывет в алом, кровь сочится сквозь доски эшафота. Француз – за ним посылали в Кале – запеленал голову в ткань и передал одной из женщин, которые прислуживали Анне в последние минуты. Он наблюдает, как, приняв узел у палача, женщина вздрагивает от затылка до пят. Впрочем, узел она сжимает крепко, голова тяжелее, чем кажется. Ему, бывавшему на полях сражений, это известно. Женщины ведут себя весьма похвально. Анна бы ими гордилась. Они не позволяют никому из мужчин ее коснуться; выставляют вперед ладони, отстраняют тех, кто вызвался помочь. Оскальзываясь в крови, склоняются над тщедушным телом. Он слышит их сдержанные вдохи, когда они поднимают за ткань то, что осталось от Анны. Женщины боятся, что ткань порвется и пальцы коснутся холодеющей плоти. Обходят пропитанную кровью подушку, на которой она преклонила колени. Краем глаза он видит, как кто-то срывается с места – легкий на подъем тощий придворный в кожаном джеркине. Ловкач Фрэнсис Брайан спешит сообщить королю, что отныне тот – свободный мужчина. Фрэнсис – кузен мертвой королевы, однако не забывает, что и будущая королева – его кузина. Под гроб приспособили узкий сундук для стрел, как раз по размеру. Женщина, которая держит узел, опускается на колени вместе со своей подмокшей ношей. Поскольку места в сундуке больше нет, голову помещают в ноги трупа. Женщина встает, крестится. Окружающие повторяют ее жест, его рука послушно следует за всеми, затем он спохватывается и сжимает пальцы в кулак. Бросив прощальный взгляд, женщины отступают, держа руки на весу, чтобы не запачкать платья. Кто-то из подчиненных Кингстона приносит льняные полотенца, слишком поздно. Эти люди меня поражают, говорит он французу. У них было несколько дней, чтобы найти гроб. Они знали, что ей не жить. Никаких сомнений не было. – Может, и были, мэтр Кремюэль. – (Ни один француз не способен произнести его имя правильно.) – Может, и были, поскольку, как я понимаю, сама дама надеялась, что король пришлет гонца остановить казнь. Видели, как она смотрела через плечо, поднимаясь по ступеням? – Он о ней и думать забыл. Все его мысли о новой невесте. – Alors[102], пусть на этот раз все сложится, – говорит француз. – Надейтесь на лучшее. Если меня вызовут снова, я запрошу больше. Палач отворачивается и начинает чистить меч, обращаясь с ним любовно, словно оружие – его друг. – Толедская сталь. – Француз протягивает меч, предлагая ему полюбоваться. – Чтобы заполучить такой клинок, до сих пор кланяемся испанцам. Он, Кромвель, трогает пальцем лезвие. Сегодня, глядя на него, в это трудно поверить, но его отец был кузнецом. Его влечет ко всему железному, стальному, к тому, что извлечено из земли и выковано, к тому, что плавится, чеканится, заостряется. На мече гравировка: терновый венец и молитва. Зрители понемногу расходятся, придворные, олдермены и городские чиновники, в шелках и золотых цепях, в ливреях Тюдоров, со знаками отличия лондонских гильдий. Два десятка очевидцев, и никто толком не понимает, свидетелем чего стал. Они знают, что королева мертва, но все произошло так быстро, что еще не уложилось в голове. – Она не страдала, Кромвель, – говорит Чарльз Брэндон. – Милорд Суффолк, не переживайте, она страдала. Брэндон ему омерзителен. Когда все преклонили колени, герцог остался стоять. Слишком много чести; герцог ненавидит королеву. Он вспоминает, какой нетвердой походкой она шла к эшафоту, ее взгляд через плечо, который не ускользнул от француза. Даже произнеся последнее слово и призвав молиться за короля, она продолжает всматриваться поверх толпы. И все же не позволила надежде себя ослабить. Редкая женщина способна так встретить свой конец, да и мужчин немного. Он заметил, что ее начала бить дрожь, но это было уже после молитвы. Обошлись без плахи, француз просто велел Анне встать на колени. Одна из женщин завязала повязку. Она не видела ни меча, ни даже его тени, клинок вошел в шею с тихим свистом, мягче, чем ножницы в шелк. Все мы – точнее, большинство, не Брэндон – сожалеем, что до такого дошло. Сундук несут в часовню, плиты подняты: Анну положат рядом с братом Джорджем Болейном. – При жизни они делили ложе, – говорит Брэндон, – весьма удобно, что теперь они делят гробницу. Посмотрим, как они будут любиться там. – Идемте, господин секретарь, – говорит комендант Тауэра. – Предлагаю легкий завтрак, если вы окажете мне честь. Все мы сегодня встали ни свет ни заря. – Вы можете есть, сэр? – Его сын Грегори сегодня впервые видел смерть. – Мы должны трудиться, чтобы есть, и есть, чтобы трудиться, – говорит Кингстон. – Зачем королю слуги, которые из-за мыслей о куске хлеба не могут сосредоточиться? – Сосредоточиться, – повторяет Грегори. Недавно сына послали учиться искусству риторики, и, хотя Грегори еще не овладел приемами красноречия, он стал внимательнее к отдельно взятым словам. Иногда кажется, будто он выстраивает их в ряд, чтобы рассмотреть, иногда – тычет в них палкой, а порой – от этого сравнения невозможно удержаться – подбирается к ним, крутя хвостом, словно пес, обнюхивающий какашки других собак. – Сэр Уильям, а бывало раньше, чтобы английскую королеву казнили? – спрашивает Грегори коменданта. – Насколько я знаю, нет, – отвечает комендант. – Во всяком случае, юноша, при мне такого не случалось. – Это заметно, – говорит он, Кромвель. – Так все ваши промахи последних дней просто из-за отсутствия опыта? Вы не способны с первого раза что-нибудь сделать правильно? Кингстон заливисто смеется. Вероятно, думает, что он пошутил. – Видите, милорд Суффолк, – обращается комендант к Чарльзу Брэндону, – Кромвель считает, мне не мешает набраться опыта в отрубании голов. Этого я не говорил, думает он, а вслух произносит: – Сундук для стрел был удачной находкой. – Я бросил бы ее в навозную кучу, – откликается Брэндон. – А под ней закопал бы ее братца. И заставил бы их отца смотреть. О чем вы только думали, Кромвель? Зачем оставили его в живых? От него одни неприятности. Он гневно оборачивается к герцогу, впрочем зачастую его гнев притворный. – Милорд Суффолк, вам часто случалось оскорблять короля и после на коленях умолять о прощении. И, зная вас, не сомневаюсь, что на этом вы не остановитесь. Так что же? Вам нужен король, которому неведомо милосердие? Если вы, как утверждаете, любите короля, подумайте о его душе. Однажды он предстанет перед Господом и ответит за каждого подданного. Если я говорю, что Томас Болейн не опасен для государства, значит не опасен. И если я говорю, что он будет жить в мире и покое, то так тому и быть. Гуляющие придворные поглядывают на них: Суффолк, с огромной бородой, сверкающие глаза, мощная грудь, и государственный секретарь, одетый неярко, приземистый, в теле. Придворные с опаской обходят ссорящихся, удаляясь судачить в дальний конец лужайки. – Господи помилуй! – говорит Брэндон. – Вы решили преподать мне урок? Мне, пэру королевства? Вы, оттуда, откуда вы взялись? – Я стою там, куда меня поставил король. И если я намерен преподать вам урок, вам придется его усвоить. Он, Кромвель, думает, остановись, что ты творишь? Обычно он сама учтивость. Но если смолчать у эшафота, то где тогда говорить правду? Он косится на сына. С коронации Анны прошло три года без одного месяца. Некоторые из нас стали мудрее, другие – выше. Грегори, когда он велел ему присутствовать на казни, сказал, что не сможет: «Она женщина, я не выдержу». Однако мальчик следил за лицом и речами. Всякий раз, когда ты будешь среди людей, учил он Грегори, знай, они оценивают тебя, прикидывают, достоин ли встать рядом со мной на королевской службе. Они отступают, чтобы отвесить поклоны герцогу Ричмондскому, Генри Фицрою, королевскому бастарду. Это красивый юноша, унаследовавший от отца тонкую розоватую кожу и рыжие волосы: нежное растеньице, гибкий, как тростинка, ему еще предстоит вытянуться и возмужать. С высоты своего роста Ричмонд нависает над ними. – Господин секретарь? Этим утром Англия стала лучше. Грегори спрашивает: – Милорд, вы тоже не встали на колени. Почему? Ричмонд вспыхивает. Он понимает, что не прав, и, как его отец, не умеет это скрыть, но, как отец, готов с пеной у рта отстаивать свою неправоту. – Я не хочу быть лицемером, Грегори. Милорд отец сказал мне, что Болейн хотела меня отравить. Хвасталась этим. Теперь ее непотребства разоблачены и она понесла заслуженное наказание. – Вы не больны, милорд? – Слишком много вина вчера вечером, догадывается он: пили за будущее Ричмонда, не иначе. – Просто устал. Мне нужно выспаться. Выбросить это зрелище из головы. Грегори провожает Ричмонда глазами: – Как вы думаете, он станет королем? – Если станет, он тебя не забудет, – весело отвечает он. – Он и так меня помнит, – говорит Грегори. – Я сболтнул лишнего? – Иногда полезно говорить то, что у тебя на уме. В особых случаях. Даром тебе это не пройдет, но говорить все равно следует. – Не думаю, что стану советником, – замечает Грегори. – Вряд ли я когда-нибудь это освою: открывать рот или молчать, смотреть или отводить взгляд. Вы сказали, когда палач занесет меч, после чего она умрет, – так вот, когда он занесет меч, вы сказали, опусти голову и закрой глаза. Но я наблюдал за вами – вы смотрели. – А что мне оставалось? – Он берет сына за руку. – Иначе покойница приставила бы отрубленную голову на место, выхватила у палача меч и гнала бы меня до самого Уайтхолла. Может быть, она и мертва, думает он, но все еще способна меня погубить.Завтрак. Пшеничные булки из лучшей муки, кружащее голову крепкое вино. Герцог Норфолк, дядя покойной, кивает ему: – Не всякий труп влезет в сундук для стрел, другому пришлось бы руки отрубать. Вы не думаете, что Кингстон сдает? Грегори удивлен: – Сэр Уильям не старше вас, милорд. Раздается гогот: – Считаешь, шестидесятилетних надо, как старых лошадей, ссылать в деревню щипать траву? – Грегори считает, из них давно пора варить клей. – Он обнимает сына за плечи. – И скоро сварит его из собственного отца. – Но вы гораздо моложе милорда Норфолка. – Грегори оборачивается к герцогу, подробно объясняет: – Мой отец здоровяк, если не считать лихорадки, которую он подхватил в Италии. Да, он работает от зари до зари, но работа еще никого не сводила в могилу, как он любит повторять. Врачи говорят, его не свалишь с ног пушечным ядром. Те, кто присутствовал на казни, своими глазами видели, что с прежней королевой покончено, и теперь теснятся в открытых дверях. Городские чиновники, отпихивая друг друга, спешат перемолвиться с ним словечком. У всех на устах один вопрос: господин секретарь, когда мы увидим новую королеву? Когда Джейн удостоит нас чести ее лицезреть? Проедет ли она по городу верхом или проплывет на королевской барке? Какой герб выберет, какой девиз? Когда нам усадить художников и мастеров за работу? Скоро ли коронация? Какой подарок придется ей по душе, как угодить будущей королеве? – Мешок с деньгами будет всегда кстати, – отвечает он. – Вряд ли она покажется на публике до свадьбы, но ждать осталось недолго. Она по-старомодному набожна, поэтому стяги и расписные ткани с изображением ангелов, святых и Девы Марии придутся ей по вкусу. – Придется поискать, что у нас залежалось со времен Екатерины, – говорит лорд-мэр. – Весьма благоразумно, сэр Джон, к тому же сэкономит городскую казну. – У нас есть триптих с житием святой Вероники, – замечает престарелый член гильдии. – На первой доске плачущая святая стоит на пути к Голгофе, а Христос несет мимо свой крест. На второй… – Разумеется, – бормочет он. – …на второй святая вытирает лицо Спасителя, на третьей держит окровавленный плат, на котором проступает образ Христа, запечатленный Его драгоценной кровью. – Моя жена заметила, – говорит комендант Кингстон, – что утром дама вместо обычного своего чепца надела головной убор по образцу тех, которые носила покойная Екатерина. Жена задумалась, что бы это значило. Возможно, то был знак уважения умирающей королевы королеве умершей. Этим утром они встретятся в иной стране, им будет о чем поговорить. – Если бы моя племянница подражала Екатерине в скромности, кротости и покорности, – говорит Норфолк, – то сберегла бы голову на плечах. Грегори от изумления пятится, врезаясь в лорд-мэра: – Но, милорд, Екатерина не была покорной! Она годами отказывалась подчиниться королю, который велел ей отступиться и дать ему развод! Разве вы не сами ездили убеждать ее, а она заперлась у себя в комнате, и вы все Святки кричали ей через дверь? – Вы перепутали меня с милордом Суффолком, – бросает герцог. – Еще один бесполезный старый дурень, так, Грегори? Чарльз Брэндон – это великан с большой бородой, а я жилистый старикан с дурным нравом. Видите разницу? – Ах да, припоминаю, – говорит Грегори. – Эта история так пришлась по душе моему отцу, что мы сделали из нее пьесу, которую поставили в Двенадцатую ночь. Моему кузену Ричарду, который изображал милорда Суффолка, приделали кудельную бороду до пояса, а мастер Рейф Сэдлер, натянув юбку, честил герцога по-испански. Отцу досталась роль двери. – Жаль, я не видел. – Норфолк трет кончик носа. – Нет-нет, Грегори, я не шучу. – Они с Чарльзом Брэндоном давние соперники и радуются промахами друг друга. – Интересно, что вы поставите на следующее Рождество? Грегори открывает рот и снова закрывает. Будущее – чистый белый лист. Он, Кромвель, спешит вмешаться, пока сын не начал этот лист заполнять: – Джентльмены, могу поведать вам, какой девиз избрала новая королева. «Повиноваться и служить». Гости пробуют слова на вкус. Брэндон хохочет: – Лучше подстелить соломки, не так ли? – Совершенно согласен. – Норфолк опрокидывает мадеру. – Отныне, кто бы ни вздумал перечить Генриху, это будет не Томас Говард. Он тычет себя пальцем в грудину, словно иначе его не поймут. Затем хлопает государственного секретаря по плечу, всем видом подчеркивая доброе расположение: – И что теперь, Кромвель? Не обманывайтесь. Дядюшка Норфолк нам не товарищ, не союзник и не друг. Он хлопает нас, чтобы оценить нашу твердость. Оглядывает бычью шею Кромвеля, примеряется, какой клинок подойдет.
В десять они оставляют честную компанию. Снаружи солнечные лучи пятнают траву. Он шагает в тень, его племянник Ричард Кромвель рядом. – Надо бы навестить Уайетта. – Все хорошо, сэр? – Лучше не бывает, – отвечает он честно. Именно Ричард несколько дней назад привел Томаса Уайетта в Тауэр, не применяя силу, не зовя стражников. Словно пригласил на прогулку по берегу реки. Ричард наказал относиться к узнику со всевозможным почтением, поместить его в удобную камеру в надвратной башне: туда и ведет их надзиратель Мартин. – Как заключенный? Словно речь идет не об Уайетте, а о простом узнике, до которого ему не больше дела, чем до любого другого. Мартин отвечает: – По-моему, сэр, он никак не может забыть тех пятерых джентльменов, что третьего дня лишились голов. Мартин произносит это небрежно, будто потерять голову все равно что шляпу. – Мастер Уайетт удивляется, почему его не было среди них, – продолжает Мартин. – А еще он все время ходит, сэр. Потом садится, на столе бумага. Кажется, будто собирается писать, но нет. Не спит. Глухой ночью требует света. Подвигает к столу табурет, очиняет перо. Шесть утра, светло как днем, ты приносишь ему хлеб и эль, он сидит перед чистым листом, а свеча горит. Только добру перевод. – Приноси ему свечи. Я оплачу. – Хотя должен признать, он настоящий джентльмен. Не такой гордец, как те, другие. Генри Норриса называли Добрый Норрис, но с нами обращался как с собаками. Истинного джентльмена по тому и видно, что он учтив даже в дни испытаний. – Я запомню, Мартин, – говорит он серьезно. – Как поживает моя крестница? – Ей уже два, можете поверить? В ту неделю, когда родилась дочь Мартина, он навещал в Тауэре Томаса Мора. То было самое начало их поединка; он еще надеялся, что Мор уступит королю и спасет свою жизнь. «Будете крестным?» – спросил его Мартин. Он выбрал имя Грейс, так звали его умершую младшую дочь. Мартин говорит: – Мы не можем присматривать за узником каждую минуту. Боюсь, мастер Уайетт наложит на себя руки. Ричард смеется: – Мартин, неужто среди твоих подопечных не было поэтов? Любителей тяжко вздыхать, а если молиться, то непременно в рифму? Поэт подвержен меланхолии, но, уверяю тебя, способен позаботиться о себе не хуже прочих. Ему нужны пища и питье, а если у него что-нибудь заболит или кольнет, ты об этом услышишь. – Уайетт пишет сонет, когда ушибет палец на ноге, – замечает он. – Поэты благоденствуют, – подхватывает Ричард, – а вся боль достается их друзьям. Мартин сообщает узнику об их прибытии легким стуком в дверь, словно за ней покои знатного лорда. – Посетители, мастер Уайетт. В комнате танцуют солнечные блики, молодой человек сидит за столом в луче света. – Отодвиньтесь, Уайетт, – говорит Ричард. – Солнце падает вам прямо на лысину. Он забывает, как груба молодость. Когда король спрашивает: «Я лысею, Сухарь?» – он отвечает: «Форма головы вашего величества восхитит любого живописца». Уайетт проводит ладонью по редким светлым волосам: – Выпадают, не успеешь оглянуться, Ричард. К моим сорока ни одна женщина на меня и не взглянет, если только не вздумает проломить мне череп ложечкой для яйца. Каждую минуту Уайетт готов расплакаться или расхохотаться, но ни смех, ни слезы не имеют значения. Еще живой, когда пятеро казнены, живой и не перестающий этому изумляться, он трепещет на грани нестерпимой боли, словно человек, который подвешен на крюке и упирается в пол лишь пальцами ног. Он, Кромвель, слышал о таком способе допроса, но не имел надобности к нему прибегать. Заводите руки узнику за спину и подвешиваете его на потолочной балке. Вес тела удерживает лишь эта крохотная точка опоры. Если узник шевельнется или если выбить из-под него ноги, он повиснет на руках и вывихнет оба плеча. Хотя это лишнее, незачем никого калечить, пусть болтается в воздухе, пока не удовлетворит ваше любопытство. – В любом случае мы уже позавтракали, – говорит он. – Комендант Кингстон такой растяпа, что мы боялись, как бы он не угостил нас заплесневелым хлебом. – Он не привык, – говорит Уайетт. – Отрубить голову английской королеве и пяти ее любовникам. Такое выпадает не каждую неделю. Он раскачивается, раскачивается на крюке, вот-вот оступится и завопит. – Итак, все кончено? Иначе бы вас здесь не было. Ричард пересекает комнату, склоняется над затылком Уайетта, треплет его по плечу, твердо и по-дружески, словно хозяин любимого пса. Уайетт неподвижен, лицо в ладонях. Ричард поднимает глаза: сами скажете, сэр? Он наклоняет голову: говори ты. – Она храбро встретила смерть, – произносит Ричард. – Говорила мало и по делу, просила прощения, благодарила короля за милосердие и не пыталась оправдаться. Уайетт поднимает голову, в глазах изумление. – Она никого не обвиняла? – Не ей обвинять кого бы то ни было, – мягко замечает Ричард. – Но вы же знаете Анну. У нее было здесь время подумать. Должно быть, она спрашивала себя, – его голубые глаза косятся в сторону, – почему я здесь, где свидетельства против меня? Наверняка она молилась за пятерых казненных и недоумевала, почему среди них нет Уайетта? – Вряд ли она обрадовалась бы, увидев вашу голову на плахе, – говорит он. – Знаю, любви между вами не осталось, знаю, насколько злобный был у нее нрав, но едва ли она желала увеличить число мужчин, которых погубила. – Не уверен, – говорит Уайетт. – Возможно, она сочла бы это справедливостью. Ему хочется, чтобы Ричард наклонился и зажал Уайетту рот. – Том Уайетт, – говорит он, – покончим с этим. Возможно, вы чувствуете, что исповедь облегчит душу. Коли так, пошлите за священником, скажите, что должны, получите отпущение грехов и заплатите ему за молчание. Но, бога ради, не исповедуйтесь мне. – Он мягко добавляет: – Вы сделали то, что трудно было сделать. Вы сказали то, что должны были сказать. Но больше ни слова. – Иначе платить придется нам, – говорит Ричард. – Ради вас мой дядя прошел по лезвию ножа. Подозрения короля были настолько сильны, что никто другой не сумел бы их развеять, и, если бы не мой дядя, король казнил бы вас вместе с остальными. А к тому же, – Ричард поднимает глаза, – сэр, можно ему сказать? Суд не нуждался в показаниях, которые вы нам дали. Ваше имя не упоминалось. Ее брат сам себя осудил, открыто насмехаясь над королем и утверждая перед лицом судей, что, несмотря на всю похвальбу, Генрих не способен удовлетворитьженщину. – Именно так, – говорит он, глядя в потрясенное лицо узника, – чего вы хотели от Джорджа Болейна? А мне пришлось терпеть этого глупца годами. – А жена Джорджа, – продолжает Ричард, – оставила письменное признание, в котором утверждает, что видела, как ее муж целовал свою сестру и его язык был у нее во рту, а также, что они часто запирались вдвоем и проводили вместе часы. Уайетт отодвигает табурет от стола, подставляет лицо свету, и солнечные лучи стирают с него всякое выражение. – Фрейлины Анны, – продолжает Ричард, – тоже свидетельствовали против нее. Рассказали обо всех этих хождениях в темноте. Так что обошлись без вашей помощи. Они сообщили, что это продолжалось целых два года, если не больше. Господи, думает он, довольно. Вынимает из-за пазухи стопку сложенных листов, бросает на стол: – Это ваши показания. Сами уничтожите или доверите мне? – Сам, – говорит Уайетт. Он до сих пор мне не доверяет. Господь свидетель, думает он, я всегда был с ним честен. Всю неделю, час за часом, он торговался за жизнь Уайетта. В обмен предлагал Генриху свидетельства узника о прелюбодеяниях королевы. Прелюбодействовал ли с ней сам Уайетт – об этом он не спрашивал и никогда не спросит. Короля заверил, что нет, впрочем без лишних слов. Если он ввел Генриха в заблуждение, лучше об этом не знать. – Я обещал вашему отцу за вами присмотреть. Я исполнил обещание. – Премного обязан.
Снаружи красные коршуны чертят небо над Тауэром. Король решил не выставлять на всеобщее обозрение головы Анниных любовников. Если придется ехать по Лондонскому мосту с новой женой, его город должен быть чист и прибран. Коршунов лишили добычи; неудивительно, замечает он Ричарду, что они кружат над Томом Уайеттом. Ричард говорит: – Сами видите. Достойный человек. Даже тюремщики от него без ума. Ночной горшок и тот в восторге, что Уайетт до него снисходит. – Мартин пытался обиняками вызнать, что его ждет. – Ага, – говорит Ричард. – Еще привяжешься к нему ненароком. И что потом? – Здесь он пока в безопасности. – Аресты прекратятся? Уайетт был последним? – Да. – Значит, с этим покончено? – Покончено? Нет.
Сейчас Томасу Кромвелю пятьдесят. Те же быстрые глазки, то же непробиваемое коренастое тело, то же расписание дня. Его дом там, где он просыпается: в архивах на Чансери-лейн, в его городском доме в Остин-фрайарз, с королем в Уайтхолле или в любом из тех мест, где случится заночевать Генриху. Встает в пять, читает молитвы, совершает омовение, завтракает. В шесть принимает посетителей, рядом с ним его племянник Ричард Кромвель. Барка государственного секретаря доставляет его вверх или вниз по реке в Гринвич, в Хэмптон-корт, на монетный двор или в арсенал Тауэра. Хотя он до сих пор простолюдин, большинство согласится, что Кромвель – второй человек в Англии. Он викарий короля по делам церкви. У него есть право вмешиваться в работу любого ведомства, любого департамента королевского двора. Он держит в голове английские законы, псалмы и пророков, колонки королевских бухгалтерских книг, а также родословную, размер владений и доход каждого влиятельного англичанина. Он знаменит своей памятью, и король любит его проверять, вытаскивая на свет подробности забытых судебных дел двадцатилетней давности. Иногда он крошит пальцами сухие стебли розмарина или руты, чтобы запах пробудил воспоминания. Однако всем известно, это для вида. Он не помнит только того, чего никогда не знал. Его главная обязанность (в настоящее время) избавлять короля от старых жен и снабжать новыми. Дни его длинны и наполнены трудами, всегда найдутся законы, которые следует написать, или послы, которых следует улестить и ввести в заблуждение. Он трудится при свече летними сумерками и зимними закатами, когда темнеет в три пополудни. Даже его ночи ему не принадлежат. Часто он спит в соседней с королем комнате, и Генрих будит его среди ночи, чтобы допросить о поступлениях в казну, или просит истолковать сон. Иногда Кромвелю приходит в голову, что ему следует жениться, – уже семь лет, как он потерял Элизабет и дочерей. Но какая женщина смирится с его образом жизни?
Дома его встречает Рейф Сэдлер. При виде хозяина он стягивает шляпу: – Сэр? – Все позади. Рейф ждет, не сводит глаз с его лица. – Рассказывать нечего. Достойный конец. Король? – Мы почти его не видели. Бродил между часовней и спальней, говорил со своим капелланом. – Рейф теперь доверенное лицо Генриха, у короля на посылках. – Я решил зайти на случай, если вы захотите что-нибудь ему передать. На словах. То, что нельзя доверить чернилам. Он задумывается. Что можно сказать мужчине, который только что убил жену? – Ничего. Ступай домой к жене. – Хелен будет рада узнать, что несчастья дамы остались позади. Он удивлен: – Хелен же ее не жалеет? Рейф смущен: – Она считает Анну защитницей евангельской веры, которая, как вы знаете, близка сердцу моей жены. – Ах да, – говорит он, – но я сумею защитить ее лучше. – И потом, все женщины сочувствуют, когда что-то случается с их сестрой. Они жалостливее нас, и без их жалости наш мир стал бы суровее. – Анна не заслуживает жалости, – говорит он. – Ты не рассказывал Хелен, что она угрожала отрубить мне голову? И, как нам известно, хотела укоротить жизнь короля. – Да, сэр, – отвечает Рейф, словно успокаивая его. – Это подтвердили в суде, верно? Однако Хелен спросит – простите меня, естественный вопрос для женщины, – что станет с дочерью Анны Болейн? Король от нее отречется? Он не может быть уверен, что она его дочь, но и в противоположном не может быть уверен… – Теперь это не важно, – говорит он. – Даже если Элиза – дочь Генриха, она все равно незаконнорожденная. Как мы теперь знаем, его брак с Анной никогда не был законным. Рейф чешет макушку, отчего его рыжие волосы встают хохолком. – Выходит, если его брак с Екатериной также незаконен, король ни разу не был женат. Дважды был молодоженом, но не мужем – такое когда-нибудь случалось с королями? Может быть, в Ветхом Завете? Дай Бог, чтобы мистрис Сеймур не оплошала и подарила ему сына. Нам без наследника никак. Дочь короля от Екатерины незаконнорожденная. Как и дочь Анны. Остается его сын Ричмонд, который всегда был бастардом. – Рейф нахлобучивает шляпу. – Пошел я домой. Рейф выскальзывает за дверь, оставляя ее открытой. – До завтра, сэр, – доносится с лестницы. Он встает, запирается, но у двери медлит, рука застыла на деревянной панели. Рейф вырос в доме, и ему недостает его постоянного присутствия – у Рейфа собственный дом, семья и новые обязанности при дворе. Он помогает карьере Рейфа, который для него все равно что сын, почтительный, не знающий усталости, заботливый, и – что немаловажно – Рейфа любит и ему доверяет король. Он садится за стол. На дворе еще май, а уже две английские королевы отправились на тот свет. Перед ним письмо Эсташа Шапюи, императорского посла, хотя предназначено письмо не ему, а новости, в нем изложенные, не первой свежести. Посол использует новый шифр, но, вероятно, его можно прочесть. Должно быть, ликует, сообщая императору Карлу, что конкубина доживает последние часы. Он трудится над письмом, пока не начинает различать имена, включая собственное, затем обращается к иным заботам, оставляя письмо мастеру Ризли, королю дешифровщиков.
Когда колокола бьют к вечерне, он слышит, как внизу мастер Ризли смеется с Грегори. – Поднимайтесь, Зовите-меня! – кричит он, и молодой человек, прыгая через две ступени, взлетает по лестнице и размашистым шагом входит, в руке письмо. – Из Франции, сэр, от епископа Гардинера. Письмо предусмотрительно вскрыто, чтобы ему не трудиться самому. Зовите-меня-Ризли? Эта шутка из тех времен, когда Том Уайетт был кудряв, Екатерина была королевой, Томас Вулси правил Англией, а он, Томас Кромвель, еще спал по ночам. Зовите-меня однажды вбежал в Остин-фрайарз – изящный юноша, деятельный, нервный, как заяц. Мы оценили его дублет с разрезами, шляпу с пером и сверкающий кинжал на поясе. Как же мы смеялись. Он был обходителен, схватывал на лету, любил поспорить и ждал, что им будут восхищаться. В Кембридже Стивен Гардинер был его наставником и многому его научил, но епископу не хватало терпения, в котором нуждался Зовите-меня. Он хотел, чтобы его слушали, хотел делиться своими мыслями; по-заячьи настороженный, чего-то недопонимая, что-то угадывая, вечно натянутый как струна. – Гардинер сообщает, что французский двор бурлит, сэр. Ходят слухи, что у королевы была сотня любовников. Король Франциск веселится от души. – Еще бы. – Вот Гардинер и спрашивает, что ему, как английскому послу, отвечать? Французское воображение живо дорисует подробности, которые упускает Стивен: чем занималась покойная королева, с кем, сколько раз и в каких позах. – Нехорошо давшему обет безбрачия смущать свой ум подобным, – говорит он. – Наш долг, мастер Ризли, уберечь епископа от греха. Ризли встречает его взгляд и хохочет. Пребывая вдали от Англии, Гардинер ждет, что Зовите-меня будет снабжать его самыми подробными сведениями. Учитель вправе рассчитывать на благодарность ученика. У Ризли есть должность, он хранитель личной королевской печати. Есть доход, красавица-жена, расположение короля. В настоящую минуту он владеет вниманием государственного секретаря. – Грегори выглядит довольным, – замечает Ризли. – Грегори рад, что все позади. Он никогда такого не видел. Впрочем, никто из нас не видел. – Наш бедный государь, – говорит Зовите-меня. – Его добротой воспользовались. Ни один мужчина не страдал так, как страдал он. Две такие жены, как принцесса Арагонская и Анна Болейн! Такие острые языки, такие порочные сердца. – Он присаживается на краешек табурета. – Двор бурлит. Все хотят знать, конец ли это. И что вам сказал Уайетт без протокола. – Пусть себе бурлит. – Спрашивают, будут ли еще аресты. – Неизвестно. Ризли улыбается: – Это вы решаете. – Не знаю. Он чувствует усталость. Семь лет король добивался Анны. Три года правления, три недели, чтобы довести дело до суда, три удара сердца, чтобы все завершить. Три удара его сердца – не только ее. И это цена, о которой не следует забывать. – Сэр, – Зовите-меня подается вперед, – пора заняться герцогом Норфолком. Внушите королю сомнения в его преданности. Сделайте это сейчас, пока герцог в опале. Другого случая может не представиться. – Сегодня утром герцог был со мной на редкость любезен. Учитывая, что мы погубили его племянницу. – Томас Говард равно любезен с врагами и с друзьями. – Верно. Герцогиня Норфолкская, которую герцог бросил, отзывается о нем теми же словами, если не хуже. – Теперь, – говорит Зовите-меня, – когда Анна и его племянник Джордж опозорены, самое время герцогу со стыдом удалиться в свои владения. – Стыд и дядюшка Норфолк несовместимы. – Я слышал, он требует объявить Ричмонда наследником. Герцог рассуждает так: если мой зять станет королем, а моя дочь сядет на трон рядом с ним, вся Англия будет под пятой Говарда. Говорит: «Раз все трое детей Генриха теперь незаконные, почему бы не выбрать Ричмонда? По крайней мере, он может сидеть на лошади и держать меч, это не хворая карлица леди Мария и не Элиза, которая так мала, что способна обкакаться на публике». Он говорит: – Не сомневаюсь, Ричмонд стал бы отличным королем, но мысль о пяте Говарда невыносима. Взгляд мастера Ризли останавливается на нем: – Друзья леди Марии хотят вернуть ее ко двору. Они рассчитывают, что парламент, когда соберется, провозгласит ее наследницей. И они ждут, что вы исполните свои обещания. Обратите сердце короля к дочери. – Ждут? – переспрашивает он. – Вы меня удивляете. Если я что-нибудь кому-нибудь обещал, то не им. Зовите-меня пугается: – Сэр, старые семейства – ваши союзники, они помогли вам сбросить Болейнов. Они ждут благодарности. Они старались не для того, чтобы Ричмонд стал королем, а Норфолк захватил власть. – Стало быть, мне придется выбирать? – спрашивает он. – Из ваших слов следует, что обе стороны сцепятся между собой и в этой войне уцелеют либо друзья леди Марии, либо Норфолк. А вы не задумывались, что, кто бы ни одержал верх, первым делом он расправится со мной? Дверь открывается. Зовите-меня вздрагивает. Входит Ричард Кромвель: – А вы кого ждали, Зовите-меня? Епископа Винчестерского? Вообразите Гардинера в дверях в легком дуновении серы, он бьет раздвоенными копытами, опрокидывая чернильницу. Вообразите слюну, что стекает у него по подбородку, когда он вскрывает сундуки и роется в бумагах, вращая злобным глазом. – Письмо от Николаса Кэрью, – говорит Ричард. – А я вас предупреждал, – произносит Зовите-меня. – Люди Марии. Уже. – Кстати, – замечает Ричард, – кошка снова сбежала. С письмом в руке он спешит к окну: – Где она? Зовите-меня позади него: – Какая кошка? Он ломает печать: – Вон там, на дереве! Он опускает глаза к письму. Сэр Николас просит о встрече. – И это кошка? – удивляется Зовите-меня. – Это полосатое чудище? – Она приехала в ящике из Дамаска. Я купил ее у итальянского торговца, и вы не поверите, сколько я ему заплатил. Кошка не должна выходить за порог, иначе загуляет с лондонскими котами. Мне следует подыскать ей полосатого мужа. – Он открывает окно. – Кристоф, она на дереве! Кэрью предлагает собрать представителей старых династий: Куртенэ во главе с маркизом Эксетерским и Полей, которых будет представлять лорд Монтегю. Как потомки короля Эдуарда и его братьев, они ближе всех стоят к трону. Они якобы защищают интересы королевской дочери Марии. Если им не суждено самим управлять Англией, как раньше Плантагенетам, они надеются управлять ею через королевскую дочь. Предмет их восхищения – ее родословная, кровь, унаследованная от испанской матери. Печальная малышка Мария волнует их куда меньше. И я не премину намекнуть ей об этом при встрече, думает он. Ее судьбу нельзя доверять людям, грезящим о прошлом. Кэрью, Куртенэ, Поли – все как один паписты. Кэрью – старый боевой товарищ Генриха, но также друг королевы Екатерины. Невозможное сочетание для нынешних времен. Воображает себя образцом благородства и любимцем фортуны. Для Кэрью, Куртенэ, Полей и их сторонников Болейны были грубым промахом, ошибкой, которую исправил палач. Разумеется, Томаса Кромвеля также не мешает подправить, низведя до писаря, ему не привыкать к низкому положению – пусть добывает нам деньги, но много на себя не берет. Раб, которого можно растоптать на пути к грядущему величию. – Зовите-меня прав, – обращается он к Ричарду. – Сэру Николасу не мешало бы умерить спесь. – Он поднимает письмо. – Эти люди ждут, что я прибегу к ним по свистку. – Они ждут, что вы станете им служить, – говорит Ризли. – Иначе они вас раздавят. Под окном толпится вся молодежь Остин-фрайарз, повара, писари, мальчики на побегушках. – Кажется, мой сын лишился разума. Грегори, – говорит он в окно, – кошку сетью не поймаешь. Она тебя заметила, отойди от дерева. – Посмотрите, Кристоф трясет дерево, – говорит Ричард. – Недоумок. – Прислушайтесь к моим словам, сэр, – умоляет Зовите-меня. – Не далее как на прошлой неделе… – Ничего удивительного, – обращается он к Ричарду, – что кошка сбежала. Устала от воздержания. Хочет найти своего принца. Так что там случилось на прошлой неделе? – Я слышал разговор о кардинале. Смотрите, Кромвелю хватило двух лет, чтобы отомстить врагам Вулси. Томас Мор мертв. Королева Анна мертва. Те, кто оскорблял кардинала, – Брертон, Норрис – хотя Норрис был не худшим… Норрис, думает он, никогда не сказал кардиналу плохого слова в лицо. Только за глаза. Паразит и захребетник ваш Добрый Норрис, лицемер. – Если бы я хотел отомстить за Вулси, – говорит он, – мне пришлось бы расправиться с половиной королевства. – Я только передаю, что болтают люди. – Наконец-то Дик Персер, – говорит Ричард, высовываясь из окна. – Сними ее оттуда, малый, пока не стемнело. – Они спрашивают себя, – продолжает Ризли, – кто главный враг кардинала? И отвечают: король. Как отомстит Томас Кромвель королю, своему правителю и властелину, когда предоставится возможность? В темнеющем саду ловцы кошки воздели руки, словно молятся на луну. Различить смутный силуэт на дереве способен лишь зоркий глаз, кошка почти слилась с веткой, на которой лежит, свесив лапы. Он вспоминает Марлинспайка, кардинальского кота, которого принес в Остин-фрайарз, когда тот умещался в кармане. Марлинспайк вырос и сбежал на поиски кошачьего счастья. Я выше этого, думает он: этого дня, этого меркнущего света, этих силков. Я та кошка из Дамаска. Мне пришлось так долго сюда добираться, что меня на моей ветке ничто не испугает и не смутит. И все-таки вопрос Ризли свербит в голове, просачиваясь в мозг, словно прохладный ручеек по стене подвала. Он в смятении: во-первых, тем, что такой вопрос задан. Во-вторых, тем, кто мог его задать. И в-третьих, он не знает ответа. Ричард оборачивается от окна: – Что говорит Кристоф, сэр? Он переводит: арго мальчишки не просто понять. – Кристоф клянется, что во Франции они всегда ловили котов сетью, даже малые дети, и, если к нему прислушаются, он покажет, как это делается. – Он обращается к Ризли: – Вопрос… – Только не обижайтесь… – …исходит от Гардинера? – Потому что, кроме этого чертова паскудника, епископа Винчестерского, кто мог такое сказать? – подхватывает Ричард. Зовите-меня отвечает: – Когда я передаю слова Винчестера, я только передаю его слова. Я не говорю ни за него, ни в его пользу. – Хорошо, – говорит Ричард, – потому что иначе я оторву тебе башку и зашвырну на дерево, к кошке. – Ричард, поверьте, я не сторонник епископа. Иначе я был бы с ним в составе посольства, а не с вами здесь. – На глаза Ризли набегают слезы. – Я пытаюсь образумить господина секретаря, а вам бы только возиться с кошкой да угрожать мне. Вы заставляете меня продираться через тернии. – Я вижу ваши раны, – говорит он мягко. – Когда будете писать Стивену Гардинеру, скажите, что ради него я пороюсь среди трофеев. Джордж Болейн получал от Винчестерской епархии две сотни фунтов в год. Для начала вернем епископу эти деньги. Едва ли это смягчит Гардинера, думает он. Всего лишь демонстрация добрых намерений разочарованному человеку. Стивен так надеялся, что падение Анны увлечет на дно и его, Кромвеля. – Вы упомянули о врагах кардинала, – говорит Ричард. – Я бы причислил к ним епископа Гардинера. Однако он ведь не пострадал? – Он считает, что пострадал, – говорит Ризли. – Был доверенным лицом кардинала, пока мастер Кромвель его не оттеснил. Королевским секретарем, пока мастер Кромвель не отнял у него пост. Король удалил его от двора, и он думает, это происки мастера Кромвеля. Верно, все так и есть. Гардинер знает, как навредить, даже из Франции. Знает, как расчесать кожу и впрыснуть отраву. – Мысль, что я затаил злобу против моего государя, не что иное, как измышления больного епископского разума. Что у меня есть, кроме того, что мне даровал Генрих? Кто я без него? Все мои упования только на короля. Ризли спрашивает: – Но вы напишете Николасу Кэрью? Вы готовы с ним встретиться? Мне кажется, это необходимо. – Чтобы его успокоить? – спрашивает Ричард. – Нет. – Закрывает окно. – Ставлю на Персера. – А я на кошку. Он воображает, каким кажется кошке мир сверху: сквозь призму громадного глаза руки возбужденных людей раскручиваются, словно ленты, маня во тьме. Возможно, она думает, что они на нее молятся. Или решила, что добралась до звезд. Возможно, тьма расступается перед ней вспышками и пятнами света, крыши и фронтоны кажутся тенями на воде. И когда она всматривается в сеть, то видит не ее, а просветы между ячейками. – По-моему, следует выпить, – говорит он Ризли. – А еще зажечь свечи и камин. Пришлите Кристофа, когда вернется из сада. Пусть покажет нам, как у них во Франции разводят огонь. Возможно, мы сожжем письмо Кэрью, мастер Ризли, как думаете? – Что я думаю? – Зовите-меня ощеривается почти как сам Гардинер. – Я думаю, что Норфолк против вас, епископ тоже, а теперь вы хотите настроить против себя старые семейства. Храни вас Господь, сэр. Вы мой хозяин, вам я служу и за вас молюсь. Но святые угодники! Вы же не думаете, будто эти люди свалили Болейнов, чтобы сделать вас хозяином положения? – Думаем, – говорит Ричард. – Именно так мы и думаем. Возможно, это вышло случайно, но мы постараемся, чтобы так все и оставалось. Как тверда рука Ричарда, когда он протягивает ему кубок. Как тверда его рука, когда он кубок принимает. – Лорд Лайл прислал это вино из Кале, – говорит он. – За погибель наших врагов, – говорит Ричард, – и удачу друзьям. – Надеюсь, вы их различаете, – говорит Ризли. – Зовите-меня, согрейте ваше бедное дрожащее сердце. – Он бросает взгляд на окно, замечает свое мутное отражение в стекле. – Можете написать Гардинеру, что скоро он получит деньги. А потом займитесь шифром. Кто-то принес в сад факел. Слабое мерцание заполняет окна. Его тень в окне поднимает руку, наклоняет голову. – Пейте за мое здоровье.
Ночью ему снится смерть Анны Болейн в виде триптиха. На первой доске он стоит и смотрит, как королева восходит на эшафот в своем тяжелом гейбле. На второй она в белом чепце преклоняет колени, а француз поднимает меч. На последней доске на ткани, в которую завернута отрубленная голова, проступает кровавый лик. Он просыпается, когда ткань сдергивают. Если на ней запечатлелось лицо Анны, он все равно уже ничего не видит. Сегодня двадцатое мая тысяча пятьсот тридцать шестого года.
II Спасение обломков
Лондон, лето 1536 г. Где мой оранжевый джеркин? – спрашивает он. – У меня был оранжевый джеркин. – Я его не видел, – отвечает Кристоф. Тон скептический, словно они рассуждают о комете. – Я перестал носить его до того, как взял тебя в дом. Ты был за морем, украшал собой навозную кучу в Кале. – Вы меня оскорбляете! – Кристоф возмущен. – А ведь именно я поймал кошку. – Нет, не ты! – возражает Грегори. – Это был Дик Персер. Кристоф только стоял и улюлюкал. А теперь ждет благодарностей. Его племянник Ричард говорит: – Вы перестали носить его после падения кардинала. Не лежало сердце. – Зато сегодня я бодр и весел. И не собираюсь предстать перед женихом с кислой миной. – С нашим королем одежду нужно шить двухстороннюю, – замечает Кристоф. – Никогда не знаешь, будешь плясать или подыхать. – Твой английский все свободнее, Кристоф, – замечает он. – Этого не скажешь про ваш французский. – Чего ты хотел от старого солдата? Слагать стихи на нем я не собираюсь. – Зато ругаетесь вы отменно, – говорит Кристоф ободряюще. – Лучше всех, кого я знаю. Лучше моего папаши, который был вор не из последних и держал в страхе всю округу. – Интересно, признал бы тебя отец? – спрашивает Ричард. – Таким, каким ты стал? Наполовину англичанином в ливрее моего дяди? Кристоф поджимает губы: – Его небось давно повесили. – Ты жалеешь о нем? – Плевал я на него. – Не надо так говорить, – произносит он умиротворяюще. – Джеркин, Кристоф? Поищешь? Грегори замечает: – Последний раз, когда мы все вместе выходили из дома… – Не надо, молчи, – перебивает его Ричард. – Даже не вспоминай. – Понимаю, – соглашается Грегори. – Мои учителя внушили мне это с младых ногтей. Не говорить об отрубленных головах на свадьбе. Вообще-то, королевская свадьба состоялась вчера, маленькая приватная церемония. Сегодня депутации верноподданных готовы поздравить новую королеву. Цвета его повседневной одежды – тусклые дорогие оттенки, которые итальянцы именуют berettino[103]: серо-коричневая палая листва Дня святой Цецилии, серо-сизый свет Рождественского поста. Однако сегодня повод обязывает. Изумленный Кристоф помогает ему облачиться в праздничное одеяние, когда вбегает Зовите-меня-Ризли. – Я не опоздал? – Ризли пятится. – Сэр, вы собираетесь идти в этом? – Разумеется! – Кристоф оскорблен. – А вас никто не спрашивает. – Я только хотел напомнить, что темно-желтый носили люди кардинала, и если это напомнит королю… ему может не понравиться такое напоминание… – Зовите-меня запинается. Вчерашний разговор словно пятно на его собственном джеркине, которое он не может стереть. – Хотя, конечно, ему может понравиться, – добавляет он смиренно. – Если ему не понравится, он велит мне снять джеркин с плеч. Главное, чтоб не голову. Зовите-меня вздрагивает. Он очень чувствителен, даже для рыжеволосого. Когда они выходят на солнце, Ризли съеживается. – Зовите-меня, – говорит Грегори, – вы знаете, что Дик Персер забрался на дерево и снял кошку. Отец, разве ему не положена прибавка к жалованью? Кристоф что-то бормочет. Похоже на «еретик». – Что? – спрашивает он. – Дик Персер – еретик, – говорит Кристоф. – Он верит, что облатка всего лишь хлеб. – Как и мы! – восклицает Грегори. – Безусловно… хотя… – Сомнения отражаются на его лице. – Грегори, – говорит Ричард, – мы ждем от тебя меньше теологии и больше развязности. Тебе предстоит встреча с новыми королевскими братьями – сегодня Сеймуры в фаворе. Если Джейн подарит королю сына, они еще больше возвысятся, Нед и Том. Но будь начеку. И мы будем. Ибо это Англия, счастливая страна, земля чудес, где под ногами валяются золотые самородки, а в ручьях течет кларет. Белые соколы Болейнов словно жалкие воробьи на заборе, а феникс Сеймуров устремился ввысь. Благородные представители славного рода, лесничие, хозяева Вулфхолла, новые родственники короля теперь ровня Говардам, Тэлботам, Перси и Куртенэ. Кромвели – отец, сын и племянник – тоже могут похвастаться происхождением. Разве не все мы родом из Эдема? «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто джентльменом был тогда?» На этой неделе, когда Кромвели выходят из дома, джентльмены в Англии расступаются.Король облачен в изумрудный бархат – лужайка, сияющая алмазами. Отойдя от старого друга Уильяма Фицуильяма, своего казначея, он берет под руку государственного секретаря, отводит в нишу окна, где стоит, моргая в солнечном свете. Сегодня последний день мая. Итак, первая брачная ночь: как спросить? Невеста выглядит такой невинной, что, забейся она под кровать и пролежи до утра на спине, читая молитвы, он бы не удивился. А Генрих, как утверждают многие женщины, нуждается в поощрении. Король шепчет: – Такая свежесть. Такой такт. Такая девичья pudeur[104]. – Рад за вас, ваше величество. – Он думает, да, да, но как тебе удалось? – Из ада в рай, и всего за одну ночь! Такой ответ его устраивает. Король говорит: – Задача, как всем известно, стояла непростая, деликатная… и вы, Томас, проявили твердость и расторопность. – Король оглядывает комнату. – Джентльмены и, должен признаться, не только джентльмены, но и дамы спрашивают меня: не пора ли мастеру Кромвелю получить награду за труды? Вы знаете, я не спешил продвигать вас, но потому лишь, что боялся оставлять палату общин без вашего присмотра. Однако, – Генрих улыбается, – палате лордов твердая рука нужна не меньше. Именно там теперь ваше место. Он кланяется. Маленькие радуги порхают по каменной кладке. – Королева со своими фрейлинами, – говорит король. – Набирается смелости. Я просил ее показаться двору. Ступайте к ней, шепните несколько одобряющих слов. Приведите ее, если сможете. Он отворачивается, и посол Шапюи тут как тут. Один из франкоговорящих подданных императора, не испанец, а савояр. Шапюи в Англии уже довольно давно, однако не смеет вести разговоры на нашем языке; для дипломатического разговора его английский недостаточно хорош. Чуткие уши посла уловили слово «pudeur», и он с улыбкой спрашивает: – Итак, господин секретарь, кому пришлось стыдиться? – Стыдиться? Напротив, гордиться. Невеста проявила истинную скромность. – Я думал, что стыдиться пришлось вашему королю. Учитывая недавние события. И просочившиеся слухи о том, что предыдущую он удовлетворить не мог. – На сей счет мы располагаем только свидетельством Джорджа Болейна. – Что ж, если королева, как вы утверждаете, делила постель с Джорджем – собственным братом, – естественно, что именно ему она поведала о бессилии мужа. Впрочем, теперь, с отрубленной головой, лорду Рочфорду затруднительно отстаивать свою точку зрения. – Посол сверкает глазами, кривит губы, но он держит себя в руках. – Стало быть, вчера новобрачный показал себя с лучшей стороны. И он думает, что до прошлой ночи мадам Джейн сохраняла невинность? Разумеется, откуда ему знать. Он считал девственницей Анну Болейн, чем, уж мне-то поверьте, удивил всю Европу. С послом не поспоришь. В этом деликатном вопросе обвести Генриха вокруг пальца не сложнее, чем сыграть на дудочке. – Полагаю, он потешится с мадам Джейн месяца два, – рассуждает Шапюи, – пока не положит глаз на другую. И сразу обнаружится, что Джейн ввела короля в заблуждение и брак незаконен, поскольку до свадьбы она дала обещание другому джентльмену, не так ли? Эсташ забрасывает удочку наобум. Он знает, что голова Анны Болейн слетела с плеч, но хочет знать, на каком основании расторгнут брак. Ибо брак должен быть расторгнут: казни недостаточно, чтобы исключить Элизу из числа наследников престола, – следует доказать, что брак с самого начала был незаконен. И как королевский клир это проделал? Он, Томас Кромвель, не намерен удовлетворять любопытство посла. Он наклоняет голову и торит путь сквозь толпу, на ходу меняя языки. Новая королева говорит только на родном английском, да и то нечасто. Ее брат Эдвард хорошо знает французский, младший, Том Сеймур, – неизвестно, что тот говорит, но слушать не желает никого. Женщины вокруг Джейн разодеты в пух и прах, и в сердце позднего утра аромат лаванды струится в воздухе, словно пузырьки смеха. Какая жалость, что душистые травы бессильны против высокородных вдов, которые обступили свою добычу, словно часовые в парче. Женщины Болейнов растворились: ни бедной Мэри Шелтон, которая надеялась выйти за Гарри Норриса, ни бдительной Джейн Рочфорд, вдовы Джорджа. Вокруг лица, которых не видали при дворе со времен королевы Екатерины; в центре толпы бледная молчаливая Джейн выглядит крохотной фигуркой из теста. Генрих щедро одарил ее драгоценностями казненной женщины, a золотошвеи спешно расшили платье сердечками и узелками влюбленных. Она делает движение ему навстречу, один из узелков отваливается. Джейн наклоняется, но фрейлина оказывается шустрее. Джейн шепчет: – Спасибо, мадам. На лице Джейн смущение. Ей не верится, что Маргарет Дуглас – племянница короля, дочь шотландской королевы – у нее на посылках. Мег Дуглас хорошенькая девица лет девятнадцати-двадцати. Она выпрямляется – свет вспыхивает на рыжих волосах – и занимает свое место. На ней французский головной убор во вкусе Анны Болейн, но большинство женщин вернулись к старомодным гейблам. Рядом с Мег ее ближайшая подруга Мэри Фицрой, молоденькая жена Ричмонда. Ее муж, вероятно, уже ушел, поздравив отца с новым браком. Юной супруге нет семнадцати, неуклюжий гейбл придает ей вид прилизанный и настороженный, глаза стреляют по сторонам. Она замечает его, локтем толкает Мег, опускает глаза, выдыхает: – Кромвель. Обе отводят взгляд, словно не желая его видеть. Фрейлинам Анны не по душе вспоминать, как они, поняв, что дни королевы сочтены, наперебой с ним откровенничали. Чем делились, какие показания давали. Кромвель сплутует, вложит нужные слова в ваши уста. С его обходительностью он заставит вас сказать то, чего вы вовсе не имели в виду. Его опережает семейство новой королевы: ее мать леди Марджери и двое братьев. Эдвард Сеймур выглядит довольным, Том Сеймур – развязным, а одет с такой вызывающей роскошью, которую даже Джордж Болейн счел бы de trop[105]. Взгляд леди Марджери пронзает знатных вдов. Ни одной из них не удалось сохранить остатки былой красы, ни одна не сподобилась выдать дочку за короля. С прямой спиной она низко приседает перед Джейн, а когда выпрямляется, явственно слышен хруст коленных суставов. Поэт Скелтон однажды сравнил Марджери с примулой. Но сейчас ей шестьдесят. Взгляд Джейн скользит поверх ее родных, затем она поворачивает голову, позволяя ему скользнуть поверх Кромвеля. – Господин секретарь, – произносит она. Долгая пауза, пока королева преодолевает робость. Наконец она шепчет: – Хотите… поцеловать мне руку? Или что-нибудь еще… в таком роде… Он опускается на колено, губы касаются изумруда, который ему уже доводилось лобызать на узкой руке покойной Анны. Короткими пальчиками другой руки Джейн гладит его по плечу, словно говоря, ах, нам обоим тошно, но мы переживем это утро. – Ваша сестра не с вами? – спрашивает он Джейн. – Бесс в пути, – отвечает леди Марджери. – Все случилось так внезапно, – говорит Джейн. – Бесс никогда не думала, что я выйду замуж. Она еще в трауре по мужу. – Довольно ей носить черное. Позвольте предложить свои услуги. Я знаю хороших итальянских портных. Леди Марджери сверлит его испытующим взором. Затем отворачивается и взмахом руки велит вдовам отступить. На мгновение взгляды знатных старух сцепляются с ее взглядом. Они втягивают воздух, словно от боли, приподнимают подолы и пятятся. Ничего не поделаешь – кому, как не прямым родственникам королевы, подвергнуть ее неделикатному допросу, столь естественному наутро после первой брачной ночи. – Итак, сестра? – начинает Том Сеймур. – Тише, Том, – говорит его брат Эдвард, оглядываясь через плечо. Он, Кромвель, стоит непрошибаемой стеной между семьей и двором. – Итак, – повторяет новая королева. – Нам хватило бы словечка, – вступает ее мать. – Просто знать, как ты себя чувствуешь этим утром. Джейн размышляет. Долго разглядывает свои туфельки. Том Сеймур ерзает. Кажется, он готов ущипнуть сестрицу, как некогда в детской. Джейн набирает воздух в легкие. – Итак? – требует Том. Джейн шепчет: – Братья, миледи мать… мастер Кромвель… я скажу только, что совершенно не ожидала того, что попросит у меня король. Братья смотрят на мать. Разумеется, девица в курсе, как мужчины совокупляются с женщинами? К тому же она уже не девица. – Разумеется, – говорит леди Марджери. – Тебе двадцать семь лет, Джейн, простите, ваша милость. – Да, – соглашается Джейн. – Королю не следовало обхаживать тебя, как тринадцатилетнюю, – говорит мать. – Если он выказал нетерпение, то таковы все мужчины. – Ты привыкнешь, – утешает сестру Том. – Это цена, которую приходится платить за все. Джейн кивает с несчастным видом. – Уверена, король не был груб, – заявляет леди Марджери. – Нет, не груб. – Джейн поднимает глаза. – Дело в том, что он хочет от меня очень странного. Я и вообразить не могла, что жена такое должна. Они смотрят друг на друга. Губы Джейн движутся, она словно проговаривает слова про себя, прежде чем произнести вслух. – Впрочем, наверное… право, я не знаю… наверное, мужчинам это нравится. Эдвард почти отчаялся. Том решает взмолиться: – Господин секретарь? Почему он? Разве он в ответе за вкусы короля? Лицо леди Марджери застывает. – Это что-то неприятное, Джейн? – Наверное, да, – отвечает королева. – Хотя, конечно, я еще не пробовала. Том делает страшное лицо: – Я советую, сестра, делай все, что он просит. – Дело в другом, – говорит Эдвард, – что бы там ни было… его капризы… его требования… они способствуют зачатию ребенка? – Думаю, что нет, – отвечает Джейн. – Вы должны с ним поговорить, – обращается к нему Эдвард. – Кромвель, вы должны напомнить ему, как надлежит вести себя христианину. Он заключает ручки Джейн в свои ладони. Смелый жест, но ничего другого не остается. – Ваша милость, отбросьте стыдливость и расскажите, чего от вас требует король. Ее руки ускользают из его рук, бледная фигурка утекает, она раздвигает братьев, шаткой походкой продвигаясь к своему королю, своему двору и своему будущему. Шепчет на ходу: – Он хочет, чтобы я поехала с ним в Дувр осматривать укрепления. Без улыбки Джейн преодолевает огромный зал. Все глаза обращены к ней. Держится надменно, бормочет кто-то. Не знай вы Джейн, можно подумать, это и впрямь так. Генрих протягивает ей руки, словно ребенку, который учится ходить, и горячо целует. На его губах вопрос, она шепчет ответ. Он склоняет голову, чтобы расслышать ее слова, лицо гордое, взволнованное. Шапюи толпится со знатными старухами и с их мужским потомством. И, словно делегат – делегат от них к Кромвелю, – посол отделяется от толпы и обращается к нему: – Похоже, она надела на себя все украшения, как флорентийская невеста. Впрочем, для такой простушки держится неплохо. Ей идет в отличие от предыдущей, у которой чем богаче был наряд, тем меньше ее красил. – Под конец. Возможно. Он вспоминает дни, когда кардинал был жив и Анне не требовалось иных украшений, кроме ее глаз. Последние месяцы она таяла, а ее лицо заострялось. Когда Анна сошла с барки у Тауэра, ускользнула из его рук, уперлась локтями и коленями в булыжную мостовую, он поднял ее, и она была не тяжелей воздуха. – Итак, – говорит Шапюи, – пока ваш король в добром расположении духа, заставьте его признать принцессу Марию наследницей. – Разумеется, вслед за его сыном от новой жены. Шапюи кивает. – Заставьте вашего господина поговорить с папой, – отвечает он послу. – Над моим господином висит булла об отлучении. Негоже угрожать королю в его собственном королевстве. – Вся Европа желает залечить эту рану. Пусть король обратится к Риму с покаянным письмом и отменит закон, отделивший вашу страну от Вселенской церкви. Как только это будет сделано, его святейшество с распростертыми объятиями примет заблудшую овцу и возобновит взимание доходов с Англии. – Полагаю, с процентами за выпавшие года? – Разве это не обычная банковская практика? Кроме того… – Как, это еще не все? – Король Генрих должен отозвать своих послов. Нам известно, что вы ведете переговоры с лютеранскими правителями. Мы хотим, чтобы вы их прекратили. Он кивает. Шапюи просит его зачеркнуть труды последних четырех лет. Вернуть Англию Риму. Признать первый брак Генриха законным, а его дочь от этого брака – наследницей престола. Разорвать дипломатические отношения с немецкими княжествами. Отречься от Евангелия, обнять папу и преклонить колена перед идолами. – А чем в эти дивные новые дни заняться мне? – спрашивает он. – Мне, Томасу Кромвелю? – Вернуться к кузнечному ремеслу? – Боюсь, я утратил навык. Пожалуй, выберу дальнюю дорогу, как поступил мальчишкой. Пересеку море и предложу услуги пехотинца королю Франции. Как думаете, он будет рад меня видеть? – Это не единственный вариант, – говорит Шапюи. – Вы можете остаться на своем посту и принять щедрый предварительный гонорар от императора. Он понимает сложности возвращения вашей страны к status quo ante[106]. – Посол улыбается ему, затем поворачивается, рука взлетает в приветствии. – Карю! Плюшевый фасад, широкая грудь шита золотом. Неужто это сам Николас Кэрью? Вельможа живо поправляет посла: – Кэ-рью. Ждет повторения. Шапюи разводит руками: – Мне это не по силам, сэр. Кэрью не настаивает, обращается к государственному секретарю: – Мы должны встретиться. – Это честь для меня, сэр Николас. – Принцессе Марии нужен эскорт, чтобы вернуться ко двору. Приезжайте ко мне в Беддингтон. – Лучше вы ко мне. Я занят. Сэр Николас сердится: – Мои друзья ждут… – Можете привести с собой ваших друзей. Сэр Николас придвигается ближе: – Мы заключили с вами сделку, Кромвель. И теперь рассчитываем получить по счету. Он не отвечает, просто отодвигает сэра Николаса с дороги. Проходя мимо, прикладывает руку к сердцу. Может показаться, его срывает с места внезапная забота. Однако это не так, никаких срочных дел у него нет. Его мальчики тут как тут. Ричард спрашивает: – Чего хотел сэр Николас Кара Господня? – Получить по счету. Прав был Ризли – это сделка. По версии Кэрью: мы, друзья принцессы Марии, поможем тебе свалить Анну Болейн, а потом, если будешь перед нами пресмыкаться, не станем тебя уничтожать. У государственного секретаря иная версия. Вы помогаете мне свалить Анну, и… и ничего. Ричард спрашивает: – Вы знаете, что король спал с женой Кэрью? До ее свадьбы и после. – Нет! – говорит Грегори. – А мне не рано знать? А остальные знают? А Кэрью знает, что все знают? Ричард ухмыляется: – Он знает, что мы знаем. Это лучше слухов, это власть: сведения о внутренней экономике двора, из счетных контор, где устанавливают меру обещаний и взвешивают монеты стыда. Ричард говорит: – Мне самому по душе Элиза Кэрью. Для холостяка… – Нам это ни к чему, – замечает он. – Когда это вас останавливало? Не далее чем две недели назад вы с женой графа Вустерского заперлись одни в комнате. Добывал улики. – А вышла она, улыбаясь, – говорит Ричард. Потому что я заплатил ее долги. Грегори замечает: – К тому же она с пузом. И от кого ребенок, болтают разное. – Пошли, – говорит Ричард, – пока не вернулся сэр Николас Кара Господня. Сейчас мы над ним посмеемся. Однако тут из-за угла выскальзывает Рейф. Он от короля, и выражение его лица – если вы в состоянии его прочесть – смесь почтительности, осторожности и недоверчивости. – Король зовет вас, сэр. Он кивает: – А вы, мальчики, ступайте домой. – В голову приходит мысль. – Ричард… Племянник оборачивается. Он шепчет: – Загляни к Уильяму Фицуильяму. Узнай, готов ли он поддержать меня в королевском совете. Он знает, что у Генриха на уме. Знает не хуже прочих. Именно Фицуильям пришел к нему в прошлом марте, рассказал, как ненавидят Болейнов, и дал понять, что эта ненависть способна объединить ихврагов, сплотить вокруг общей цели. Именно он намекнул на готовность короля к переменам, намекнул со спокойной уверенностью человека, знающего Генриха с младых лет. Ричард говорит: – Думаю, он пойдет за вами, сэр. – Выясни, на что он надеется, – говорит он. – И внуши ему, что его надежды оправданны. – Сэр… – перебивает Рейф. Он берет Рейфа под руку. Компания джентльменов оборачивается и смотрит на них. Рейф оглядывается через плечо, оставляя их за спиной, разодетых, словно собрались позировать Гансу: шелковые чулки, шелковистые бородки, кинжалы в ножнах черного бархата, алые книжечки в руках. Все они Говарды или родня Говардов, а один, младший единокровный брат герцога Норфолка, даже имя носит такое же. Томас Говард меньшой. Спутать их невозможно. Молодой Говард – худший поэт при дворе, старый в жизни не сочинил ни строчки. Рейф говорит: – Настроение у короля не такое радужное, каким кажется. Сегодня он сомневается в том, во что верил еще вчера. Спрашивает, справедлив ли был приговор? В виновности Анны он уверен, но как насчет джентльменов? Помните, сэр, с какой неохотой он подписывал бумаги? Как нам пришлось на него насесть? Теперь его вновь одолевают сомнения. «Гарри Норрис был моим старым другом, – говорит король. – Возможно ли, что он предал меня с моей женой? А Марк? Лютнист, мальчишка, неужто она согрешила бы с таким?» Некогда жизнь короля протекала на виду у двора. Он обедал в огромном зале, говорил вслух все, что думал, испражнялся за одной тонкой занавеской и совокуплялся за другой. Ныне правители ценят уединение: их охраняют слуги в мягких туфлях, а в королевских покоях тишина. Министр, который спешит на доклад со шляпой в руке, вынужден приспосабливаться к новым порядкам, быть уступчивым и терпеливым. Обычно, когда требовалось успокоить королевскую совесть, он звал архиепископа. Однако сейчас это не поможет. С тех пор как осудили покойную королеву, Кранмер сам не находит покоя. У дверей его встречают. В старые дни – и то сказать, всего месяц назад – бдительные королевские джентльмены преградили бы ему путь. Гарри Норрис, выскальзывая навстречу: «Сожалею, господин секретарь, его величество молится». И сколько он намерен молиться, Гарри? «О, без сомнения, все утро…» И Норрис, очаровательно посмеиваясь, испаряется, а из-за двери слышится хихиканье этой мартышки Фрэнсиса Уэстона. Придворные недоумевают, неужели королева делила ложе с таким ухмыляющимся щенком, как Уэстон? Нам остается только пожимать плечами.
Король обмяк в кресле, локти лежат на коленях. Прошел час с тех пор, как Генрих скрылся от глаз подданных, и изумрудное сияние потускнело. С ним Чарльз Брэндон, нависает над королем, словно часовой. Он опускается на одно колено: «Ваше величество». Поднимаясь, вежливо бормочет: «Милорд Суффолк». Герцог осторожно кивает. Генрих спрашивает: – Сухарь, вы слыхали историю о Екатерининой гробнице? Суффолк говорит: – Об этом болтают во всех тавернах и на всех ярмарочных площадях. Как только голова Анны упала с плеч, свеча рядом с гробницей вспыхнула сама по себе. – Герцог смотрит с беспокойством, словно и впрямь считает такое возможным. – Вам необязательно в это верить, Кромвель. Я вот не верю. Генрих раздражен: – Разумеется, верить необязательно. Откуда эти слухи, Сухарь? – Из Дувра. – Вот как. – Генрих явно не ожидал ответа. – Она похоронена в Питерборо. Что может быть известно в Дувре? – Ничего, ваше величество. Он намерен и дальше отвечать односложно, пока король не отошлет Брэндона восвояси. – Если эта история родом из Дувра, – замечает тот, – значит ее выдумали французы. – Порочишь французов, Чарльз, – говорит Генрих, – а от их денег не отказываешься. Герцог оскорблен: – Но я же этого не скрываю! – Видите ли, ваше величество, – вставляет он, – милорд Суффолк берет также деньги у императора, так что одно уравновешивает другое. – Знаю, – говорит Генрих. – Господь свидетель, Чарльз, если бы мои советники не брали денег, мне пришлось бы платить им самому, а Сухарю пришлось бы изыскивать на это средства. – Сэр, – обращается он к королю, – что будет с Томасом Болейном? Возможно, не стоит отбирать у него графский титул? – До того как я его возвысил, Болейн был небогат, – отвечает Генрих. – Однако он сослужил стране некоторую службу. – К тому же, сэр, он искренне стыдится преступлений, которые совершили его дочь и сын. Генрих кивает: – Хорошо. Только он должен отказаться от этого глупого титула «монсеньор». И не попадаться мне на глаза. Пусть сидит в своих землях, подальше от меня. Как и герцог Норфолк. Я больше не желаю видеть никого из Болейнов, Говардов и их родни. До тех пор, разумеется, пока французы или император не задумает вторгнуться в наши земли либо шотландцы не перейдут границу. Если запахнет войной, первым делом вы вспомните о Говардах. – Болейн останется графом Уилтширским, – говорит он. – А вот должность хранителя малой королевской печати… – С этим справитесь вы, Сухарь. Он кланяется: – И если вашему величеству будет угодно, я оставлю за собой также должность государственного секретаря. Стивен Гардинер занимал ее, пока, как тонко заметил мастер Ризли, его не сместили. Он не желает, чтобы Стивен наушничал, выплескивая королю свои гнилостные измышления в надежде, что его вернут ко двору. И единственный способ этого не допустить – взять все на себя. Однако Генрих его не слушает. На столе перед ним стопка из трех книжиц в переплете алой кожи, перевязанная зеленой лентой. Рядом его ореховая шкатулка для писем, еще времен Екатерины, украшенная ее вензелем и гранатом, ее эмблемой. Генрих говорит: – Моя дочь Мария прислала письмо. Не помню, чтобы я разрешал ей мне писать. Может быть, вы? – Я бы не посмел. Он был бы не прочь заглянуть в шкатулку. – Кажется, она питает надежды, что может стать моей наследницей. Как будто считает, Джейн не сумеет родить сына. – Она сумеет, сэр. – Легко сказать, одна уже клялась, но не сдержала клятвы. Наш брак чист, говорила она, Господь вознаградит вас. Но прошлой ночью во сне… Надо же, вы тоже ее видели: Ану Болену в кровавом воротнике. Генрих спрашивает: – Я поступил правильно? Правильно? Непомерность вопроса удерживает его, словно рука на запястье. Был ли я беспристрастен? Нет. Был ли рассудителен? Нет. Хотел ли я блага моей стране? Да. – Что сделано, то сделано, – говорит он. – Как вы можете так говорить? Словно нет греха? Нет раскаяния? – Не оглядывайтесь назад, сэр. Вперед – вот единственное направление, какое дозволяет Господь. Королева подарит вам сына. Ваша сокровищница наполняется, законы блюдутся. Вся Европа с восхищением смотрит на то, как вы противостоите ложным притязаниям Рима на власть. – Смотрит-то смотрит, но без восхищения. Пусть так. Они полагают, что Англия – низко висящий плод. Обессилевшая дичь. Добыча для чужеземных владык и их охотников. – Наши крепости растут, – говорит он. – Форты. Никто не осмелится. – Если папа меня отлучит, император и Франция получат благословение вторгнуться в Англию. По крайней мере, так скажет им папа. – Они не развяжут войну ради благословения, сэр. Вспомните, как часто они говорили: «Мы пойдем крестовым походом на турок»? И где их обещания? – Тот, кто завоюет Англию, получит отпущение грехов. Желающих найдется немало. – Успеют нагрешить еще. – Он стоит над Генрихом – пришло время напомнить королю, ради чего была пролита кровь. – Каждый день я беседую с послом императора. Вы знаете, что его господин готов заключить с нами союз. При жизни Анны Болейн он был вынужден вам противостоять. Теперь вы устранили причину раздора. Имея союзником императора, мы можем не бояться короля Франциска. – (Хотя, думает он, с Франциском я тоже веду переговоры, постоянно.) – А если император подведет, у нас есть друзья среди немецких князей. – Еретики, – встревает Брэндон. – А дальше что, Сухарь? Союз с сатаной? Он раздражен: – Милорд, немецкие князья не еретики и ничем не хуже наших правителей, они являют пример для своих подданных, отказываясь вручать их тела и души Риму. Генрих обращается к герцогу: – Милорд Суффолк, вы не могли бы нас оставить? Чарльз выглядит недовольным: – Как будет угодно. Но помни мои слова и не вешай носа, Гарри. В прошлом году жена родила мне здорового сына, а я старше тебя. Герцог выходит. Король смотрит ему вслед с тоской, словно Брэндон отправляется в долгое путешествие. – «Гарри», – повторяет он. Собственное имя в его устах звучит нежно. – Суффолк забывается. Но для него я всегда останусь мальчишкой. Его не убедить, что мы оба давно немолоды. – Рука короля незаметно поглаживает книжицы, ласкает мягкую алую кожу. – Вы знали, что у Джейн нет собственных книг? Только маленькая поясная, с драгоценным камнем, да и тот недорогой. Я подарю ей эти. – Они ее обрадуют, сэр. – Книги принадлежали Екатерине. Это духовные наставления. Джейн много молится. – Королю не по себе. Можно подумать, будто молитвы – его единственная надежда. – Сухарь, все может случиться. Что, если завтра я умру? Я не могу оставить королевство на дочерей, одна из которых наполовину испанка и не отличается добрым нравом, другая еще дитя, и обе рождены вне законного брака. Следующая в очереди на трон – дочь королевы Шотландии, но, зная мою сестру, – король вздыхает, – кто поручится, что Мег законнорожденная? Я спрашиваю себя: женщина, слабая телом и духом, способна ли она править, учитывая изъяны ее пола? И даже если она наделена твердостью характера и живым умом, наступит день, когда ей придется выбрать мужа, посадить на трон чужеземца или возвысить подданного, – кому она сможет довериться? Поставить женщину у власти – значит всего лишь отсрочить беды, и пусть десять – двадцать лет все будет идти своим чередом, однажды беды вас настигнут. Остается одно. Мы должны объявить наследником юного Ричмонда. Я поручаю это вам, но что скажет парламент? Ничего хорошего, думает он. – Я полагаю, они станут убеждать ваше величество довериться Господу и приложить все усилия, чтобы увенчать нынешний брак рождением наследника. А мы тем временем примем закон, который позволит вам выбрать наследника по вашему усмотрению. И необязательно объявлять свой выбор. Не стоит ни в ком возбуждать излишних надежд. Кажется, будто Генрих слушает вполуха, – на самом деле это значит, что он весь обратился в слух. – Ее библиотеку описали. – Покойной Анны, имеет в виду Генрих. – Там есть крамольные сочинения, почти на грани ереси. А также среди книг ее брата. Превосходные французские тома: имена Джорджа и Анны рядом, черный лев Рочфордов и коронованный сокол, надпись его рукой: «Эта книга принадлежит мне, Джорджу Рочфорду». Он ждет. Король успокаивает свою совесть: убеждает себя, что Болейны и их присные – враги Божьи. Едва ли хоть какая-нибудь из этих книг покажется ему еретической. Впрочем, как и Генриху, когда его разум прояснится. Король поднимает один из алых томиков, заглядывает внутрь, высказывая наконец то, что тревожит его по-настоящему: – Палата общин заявит, что я не вправе распоряжаться короной. – Жалкий икающий смешок. – Они укажут мне мое место, Сухарь. – С них станется, – улыбается он. – Они могут даже обратиться к вам «Гарри», но я найду на них управу, сэр. – Кто в эту сессию спикер? – Ричард Рич. – Понятно. Вы спите по ночам, Сухарь? В вопросе нет подвоха – никакого скрытого смысла. – Ибо, – добавляет Генрих, – хранитель малой королевской печати – высокий пост, к тому же вы мой викарий по делам церкви, и скоро епископы соберутся на собор, а еще, к моему удовольствию, вы остаетесь королевским секретарем. Кто еще способен нести такую ношу? Впрочем, в этом вы похожи на кардинала – трудитесь за десятерых. Я часто спрашиваю себя, откуда вы взялись? – Из Патни, ваше величество. – Это мне известно, я другого не понимаю: что делает вас таким, какой вы есть? Чудны дела Твои, Господи, – говорит Генрих, и на сем разговор завершается.
В кордегардии его ждет Чарльз Брэндон. – Послушайте, Кромвель, я знаю, вы злитесь, что я не преклонил колени, когда этой потаскухе рубили голову. Он поднимает руку, но остановить Чарльза – все равно что остановить несущегося на тебя быка. – А вы не забыли, как она меня донимала? – орет герцог. – Обвиняла в том, что я сношаю собственную дочь! Все головы в людном помещении поворачиваются к ним. Он лихорадочно перебирает в голове отпрысков Чарльза, законных и незаконных. – Будто здесь Вулфхолл! – бушует герцог и тут же поправляется: – Не то чтобы я верил в клевету про старого сэра Джона. Это Анна Болейн утверждала, что он блудит с невесткой. А на самом деле отвлекала внимание от шашней с собственным братцем! – Возможно, милорд, впрочем неудивительно, что она затаила на вас обиду. Именно вы рассказали королю про нее и Тома Уайетта. – Да, я, и не отказываюсь от своих слов! Разве мог я спокойно стоять и смотреть, как моему старому товарищу наставляют рога? Гарри не понравилось, он вышвырнул меня вон, как собаку. Что ж, он король, а король всегда убивает гонца. – Герцог понижает голос. – Но я всегда, даже под страхом смерти, буду говорить ему то, что он должен знать, потому что я его друг. Я подсаживал его в седло, Сухарь, когда он был зеленым юнцом. Подставлял плечо, когда он держал наперевес свое первое копье, готовясь ко встрече с настоящим противником, а не с размалеванной деревяшкой. Его рука в перчатке дрожала, и я сказал ему ни больше ни меньше: «Courage, mon brave!»[107] – специально выучил фразу по-французски. И после первых проб на турнирах не было никого храбрее, чем Гарри. Как опытный воин, я помог ему, вы же знаете, я был старше, тогда и сейчас. – Лицо герцога разглаживается. – Ваш малец Грегори тоже хорош на ристалище. Отличная выправка, лучшая сбруя и оружие, прямой, честный, почтительный. И ваш племянник Ричард крепкий малый, правда не так изящен, поздно начал, но мяса на костях хватает, – поверьте мне, они с Грегори из той породы, что не свернут с пути, только вперед! Страх им неведом. Голос крови. – С высоты своего роста герцог смотрит на него сверху вниз. – Это у вас в роду. Думаю, бывает жребий и похуже, чем родиться сыном кузнеца. Каким-нибудь дурачком, грызущим перо. А у этих в крови железо, а не чернила. Отец Чарльза пал при Босворте, где был рядом с Генрихом Тюдором. Говорят, он нес тюдоровское знамя, хотя кто поручится, что в действительности было на поле боя? Если он пал рядом со стягом, рука живого подхватила древко; Тюдоры входили в силу, а с ними Брэндоны. Он говорит: – Мой отец был пивоваром, не только кузнецом. Варил отвратительный эль. – Прискорбно слышать, – искренне сочувствует Чарльз. – А теперь слушайте, что я скажу. Гарри понимает, что поступил дурно. Сначала женился на вдове брата, затем его угораздило взять в жены ведьму. Он говорит, доколе мне искупать грехи? Ему известно, чем промышляют ведьмы – забирают мужскую силу. Заставляют твой корень усохнуть. Я сказал ему, ваше величество, хватит киснуть. Позовите архиепископа, очистите совесть и начните сначала. Мне не нравится, что эти мысли одолевают его, словно проклятие. Вы советуете ему идти вперед, не оглядываясь. От вас он это выслушает. Я что, он держит меня за дурачка. – Герцог протягивает ему мощную длань. – Итак, друзья? Союзники, думает он. Что-то теперь скажет герцог Норфолк?
В Остин-фрайарз вечная толпа у ворот, люди выкрикивают его имя, суют прошения. – Дорогу, дорогу! – Кристоф собирает бумаги. – Назад, крысы! Не лезьте к господину секретарю! – Эй, Кромвель! – кричит кто-то. – Вместо того чтобы держать этого французского шута, взял бы на службу доброго англичанина! Это подливает масла в огонь: половина Лондона хочет проникнуть за ворота и служить Кромвелю, и сейчас они выкрикивают свои имена, а также имена сыновей и племянников. – Спокойно, друзья. – Его голос перекрывает крики. – Король может сделать меня великим, и тогда жду вас всех погреться у моего камелька. Они смеются. Он уже стал великим, и лондонцы это знают. Его собственность огорожена высокими стенами, его дом полон людьми днем и ночью. Стражники салютуют ему, он минует двор и входит в дверь. Слева и справа от двери два отверстия. В них можно высунуть шпагу или дуло. Любой злодей будет заколот или пронзен пулей сразу с двух сторон. Терстон, его главный повар, как-то сказал: – Я не военный, сэр, но по мне это слишком: прикончив врага у ворот, вы зарежете его еще раз в дверях? – Никакая предосторожность не лишняя, – отвечал он. – В наши времена гость войдет в ворота другом, а по пути через двор превратится во врага. Некогда Остин-фрайарз был невелик: двенадцать комнат, которые он снял для себя, своих писарей, Лиззи, дочерей и тещи Мерси Прайор. Ныне Мерси вошла в преклонный возраст. Она хозяйка дома, но по большей части сидит у себя с книгой на коленях. Она напоминает ему изображение святой Варвары, которое ему случилось видеть в Антверпене, – святая читала посреди стройки на фоне лесов и необожженного кирпича. Строителей принято ругать – за то, что затягивают работу и завышают расходы, за пыль и шум, но он любит грохот и стук, их болтовню и песенки, их тайные приемчики и секреты. Мальчишкой он вечно забирался на чужие крыши. Покажи ему лестницу – и он мигом влезет наверх в поисках обзора. Но что он видел с крыши? Только Патни. В гостиной его ждет племянник Ричард. Стоя под шпалерой, подарком короля, он распечатывает собственноручное письмо королевской дочери. Ричард говорит: – По-моему, леди Мария решила, что возвращается. Он идет к себе, отбиваясь от писарей, которые тащатся вслед за ним, нагруженные стопками бумаг, конторскими книгами, распухшими от статутов и прецедентов, пергаментами и свитками. – Потом, мальчики, потом… В его комнате резкий аромат можжевельника и корицы. Он снимает оранжевый джеркин. Окна закрыты ставнями от полуденной жары, и в полутьме ткань светится, словно в руках у него огонь. В дни темнее нынешних некоторые жалкие богословы утверждали, что если бы Господь пожелал, чтобы мы ходили в цветном, то создал бы цветных овец. Вместо этого Божественное провидение даровало нам красильщиков и материалы для их ремесла. В городе, среди грязно-серого и сизого, мышиного и цвета ослиного крупа, золото заставляет сердце биться чаще. Под серым обложным дождем, поливающим Лондон зимой и летом, промельк лазури напоминает нам о небесах. Как солдат на поле битвы поднимает глаза и видит трепетание ярких знамен, так и работник среди дневных трудов радуется королевскому пурпуру, серебру, пламени и оттенку зимородкова крыла на платье вельможи на фоне блеклых английских небес. Ричард входит за ним, закрывает за собой дверь. Становится тихо. Он привычным жестом прикладывает руку к груди и вынимает из внутреннего кармана кинжал. – Даже теперь? – удивляется Ричард. – Особенно теперь. – Без привычной тяжести рядом с сердцем он не чувствовал бы себя собой. – Я понимаю, на улице, – говорит Ричард. – Но при дворе? Не могу представить себе обстоятельства, при которых он вам понадобится. Вот и я не могу, думает он. Именно поэтому мне нужен кинжал. Он трогает лезвие большим пальцем. Первый нож он сделал себе сам еще мальчишкой. Отличный кинжал, ему до сих пор не хватает того клинка. – Ступай к Шапюи, – велит он Ричарду. – Кланяйся ему от меня и пригласи его на ужин. Если откажется, скажи, я внезапно почувствовал неодолимую страсть к дипломатии и хочу заключить сделку до заката. И если он не придет, придется позвать французского посла. – Отлично придумано. Ричард уходит, а он, без оранжевого джеркина и без кинжала, спускается во внутренний двор, на свежий воздух, идет на кухню навестить Терстона.
Он слышит повара раньше, чем видит: какой-то несчастный жалеет, что родился на свет. – Я говорил тебе раз, – ревет Терстон, – говорил два, говорил три, а в следующий раз, если ты возьмешь для чеснока эту ступку, я собственноручно вытряхну твои мозги, разотру пестиком и отдам Дику Персеру накормить собак. Он проходит холодную комнату, где с крюков свисают два павлина, горло перерезано, на шпорах гири. Заворачивает за угол, видит лицо мальчишки, которого распекают: – Мэтью? Мэтью из Вулфхолла? Терстон фыркает: – Из Вулфхолла? Прямиком из ада! Он удивлен, встретив мальчишку здесь: – Я взял тебя в писари, а не на кухню. – Да, сэр, я им говорил. Бледный честный Мэтью каждое утро приносил ему письма, когда в прошлом году король посещал Сеймуров. Тогда он решил, что такому миловидному и смышленому мальчишке не стоит прозябать в провинции. Бледное личико озарилось, когда он спросил Мэтью, не хочет ли тот повидать мир. – Этот мальчик не на своем месте, – говорит он Терстону. – Произошла ошибка. – Отлично, забирайте, иначе я его покалечу! – Снимай. – Он показывает на заляпанный фартук. – Правда, сэр? – Пришло твое время. – Он помогает мальчишке снять фартук, без которого тот выглядит очень тощим. – Как поживает твой приятель Роб? Есть от него известия? – Да, сэр. Он делает, как было велено, держит ухо востро и честно записывает всех, кто бывает в Вулфхолле. Только я не могу добраться до вас, чтобы передать новости. – Прости, что с тобой обошлись так сурово. Перейди двор, найди Томаса Авери и скажи, что я велел обучить тебя счетоводству. Если освоишь это ремесло, твои услуги могут пригодиться в других домах. Мальчишка обижен: – Но мне нравится у вас! – Несмотря на этого грубияна? – Он показывает на Терстона. – Если я тебя куда-нибудь отошлю, ты все равно останешься на моей службе. – И мне придется взять другое имя? – Мальчишка натягивает на плечи воображаемый джеркин. – Я вас понял, сэр. Терстон говорит: – Хорошо, хоть кто-то понял. Вокруг две дюжины мальчишек тащат по каменному полу корзины с провизией, точат ножи для резки овощей, пересчитывают яйца, делают пометки в списках, ощипывают птицу. Дела в доме идут своим чередом без его участия. Здесь кровяные пудинги томятся на плите, чистится рыба; а через двор востроглазые писари сидят на табуретах, готовые строчить письма. Здесь жаровни и латунные кастрюли; там перочинные ножички, воск для печатей, ленты и шелковые шнурки, чернильные слова, что ползут по пергаменту, гусиные перья. Он вспоминает тот день во Флоренции, когда наверх позвали его. «Эй, англичанин, тебя зовут в контору». И как он неспешно снял фартук, повесил на гвоздь и навсегда оставил позади медные сковороды и тазы, ряды кувшинов для масла и вина в нише, каждый высотой с семилетнего мальчишку. Он прыгал через две ступеньки, а когда пересекал sala[108], слышал, как капли из фонтана в стене падали в мраморную чашу, тихий неритмичный барабанный бой: кап-кап… кап… кап-кап-кап. Мальчишка, которые скреб ступени, посторонился, давая ему дорогу. Он пел: «Скарамелла идет на войну…» Он говорит Терстону: – У нас ужинает Шапюи, только мы двое. – А то как же. – Терстон просеивает муку, поднимая белые клубы. – Кто-то мне сказал, этот испанец, что вечно толчется в вашем доме, и твой хозяин сгубили королеву, потому что она мешала их дружбе. – Шапюи не испанец, а савояр, не притворяйся, будто не знаешь. Терстон одаривает его взглядом, в котором читается: не хватало еще различать чужеземцев между собой, это унизительно и бессмысленно. – Я знаю, что император – король Испании и господин половины мира. Неудивительно, что вы хотите забраться к нему в постель. – А что делать, – говорит он. – Прижму его к груди. – Когда к нам снова пожалует король? – спрашивает Терстон. – Хотя откуда у короля взяться аппетиту? Кто стерпит, когда твои яйца открыто обсуждают при дворе? – Откуда мне знать? Со мной такого не случалось. – Весь Лондон слышал. – Терстону явно по душе тема разговора. – Конечно, что именно сказал Джордж, мы не знаем, он говорил по-французски, но мы думаем что-то вроде: у короля встает и он заправляет куда надо, но ненадолго, поэтому дама не получает удовольствия. – Вот видишь, надо было учить французский. – Суть я уловил. – Терстона не сбить с толку. – Если ты не ублажишь даму, она не понесет, а если понесет, то ребеночек не доживет до крещения. Вспомните королеву-испанку. В молодости она рожала дюжинами. И ни один не выжил, кроме малышки Марии, которая размером с мышь. У его ног блестящие угри извиваются в корыте, сплетаясь друг с другом, словно ждут, что их забьют и замаринуют. Он спрашивает Терстона: – Что говорят на улицах? Про Анну? Терстон хмурится: – Никто ее не любил, даже женщины. Говорят, если она занималась этим с братцем, ясно, почему никто из ее детей не задержался в утробе. Ребенок от брата, или зачатый в пятницу, или когда суешь бабе сзади – все это против природы. Они сами вываливаются, бедные грешные создания. А ради чего им рождаться? Чтобы тут же отдать концы? Терстон верит в то, что говорит. Кровосмешение греховно, мы все это признаем, но греховно и соитие в любой позе, кроме одобренной священниками. А равно соитие в пятницу, когда Христос был распят, в воскресенье, субботу и среду. Послушать церковников, так грешно входить в женщину во время Рождественского и Великого поста, а равно в дни почитания святых, которыми пестрит календарь. Больше половины года следует воздерживаться по той или иной причине. Удивительно, что дети еще появляются на свет. – Некоторые женщины любят быть сверху, – рассуждает Терстон. – Разве это угодно Господу? Вообразите, какие жалкие отродья от этого заводятся. Обычно им не протянуть и недели. Послушать Терстона, так дети все равно что черствые булки или вянущий цветок – недели не протянут. Однажды они с Лиззи потеряли ребенка. Терстон сварил куриный бульон, чтобы поддержать ее силы, и молился за хозяйку, пока резал овощи. Это было на Фенчерч-стрит. В те дни он перебивался случайными заработками, Грегори держался за материнскую юбку, Энн еще не отняли от груди, а Грейс не было и в помине. Тогда Терстон был простым поваром, а не главным, под командой у которого армия помощников. Он помнит, как бульон поставили перед Лиззи, как слезы капали в тарелку и бульон унесли нетронутым. – Так и будете стоять без дела? – спрашивает Терстон. – Или забьете для меня этих угрей? Он смотрит на корыто с угрями. Сам он в бытность поваром держал угрей в их стихии, пока не закипит вода в кастрюле. Впрочем, что толку спорить? Он закатывает рукава. – И шкуру с них спустите, – говорит Терстон.
– Студентом в Италии, – рассуждает посол Шапюи, – я на ужин довольствовался хлебом с оливками. – Нет пищи здоровее, – соглашается он. – Однако английский климат не годится для олив. – Изредка мог позволить себе немного зеленых бобов в стручках. Стаканчик vin santo[109]. Из уважения к гостю Грегори сам вносит льняное полотенце и таз. Пальцы посла теребят стебли сухой лаванды. – Вы собираетесь охотиться летом, мастер Грегори? – Надеюсь, – отвечает Грегори и опускает голову, а посол осеняет себя крестным знамением и произносит молитву перед едой. Часто забывают, что Шапюи – духовное лицо. Интересно, как у него с женщинами? Блюдет ли посол обет безбрачия или, как и хозяин дома, не выставляет свои похождения напоказ? Приносят угрей, приготовленных двумя способами: соленых, под миндальным соусом, и запеченных в апельсиновом соке. К угрю подают пирог со шпинатом, зеленый, как летний вечер, приправленный мускатным орехом и сбрызнутый розовой водой. Блестит серебро, салфетки сложены в форме тюдоровских роз, полотенца, которыми накрывают хлеб и столовые приборы, расшиты серебряными веночками. – Bon appetite[110], – желает он послу. – Я получил письмо. – От принцессы Марии. И что она пишет? – Вы знаете, что она пишет. А теперь послушайте, что скажу я. – Он подается вперед. – Принцесса, как вы ее называете, а вернее, леди Мария верит, что отец вернет ее ко двору. Она считает, что с новой мачехой ее беды остались позади. Вы должны ее в этом разубедить, или это сделаю я. Шапюи двумя пальцами берет кусок угря. – Все эти годы она винила в своих страданиях Анну Болейн. Считала, что именно конкубина разлучила ее с матерью и заперла в глуши. Она чтит своего отца и верит в его мудрость. Как и должно дочери, разумеется. – Тогда ей следует принести присягу. До сих пор она увиливала, но теперь время пришло. Все подданные должны сделать это по требованию короля. – Давайте уточним, чего именно вы от нее хотите. Она должна признать, что брак ее матери не имел законной силы, и хотя она старшая из детей короля, но трон не наследует. Она также должна будет признать наследницей малолетнюю дочь казненной Болейн. – Клятву пересмотрят. Там не будет упоминания об Элизе. – Отлично. Поскольку, как я понимаю, она дочь Генри Норриса. Или лютниста? Это восхитительно, – говорит посол про угря. – Итак, чего добивается Генрих? Мой господин не согласится признать наследником вместо Марии молодого Ричмонда. Как и король Франции. – Парламент установит порядок престолонаследования. – Серьезно? Не прихоть короля? – Посол хихикает. – Вы сказали об этом Генриху? – Мария утверждает, что не хочет быть королевой. Говорит, что поддержит того, кого выберет отец. Однако не соглашается признавать его главой церкви. – Верно, – кивает посол. Старый епископ Фишер отверг присягу, и в прошлом году Генрих его казнил. Томас Мор отверг присягу и стал короче на голову. Он говорит: – Мария тешит себя иллюзиями. Неужто она думает, будто мы повернемся к Риму, потому что Анна Болейн мертва? Шапюи вздыхает: – Жаль, Томас, что в старые дни в Риме мы друг друга не знали. Каким удовольствием было бы разделять с вами трапезу! Там готовят такие крошечные равиоли с начинкой из сыра и трав. Легкие, воздушные, если повар знает свое дело. – Посол поправляет салфетку на плече. – Разумеется, император желает королю успеха в новом браке. Его печалит, впрочем, что ваш господин не счел нужным прислушаться к его советам относительно выбора невесты. Он мог бы получить в жены герцогиню Миланскую, прелестную вдову шестнадцати лет от роду. Но что сделано, то сделано, будем исходить из того, что есть. Император надеется, что, если мадам Джейн родит королю наследника, это будет способствовать миру и благоденствию. Вам, мон шер, я желаю, чтобы новый брак сделал Генриха более… – посол заводит глаза, – податливым. И что бы ни говорил о его трудностях в постели брат покойной королевы, мы должны пожелать королю… как там у Боккаччо? – «восстания плоти»? Мальчик приносит телятину. Он, Кромвель, сам берет нож для нарезания мяса. – Я полагаю, – Шапюи делает паузу, дожидаясь ухода слуги, – я полагаю, что в Германии сейчас недоумевают. Ваши друзья-еретики знают, что мадам Джейн была фрейлиной королевы Екатерины. Они спрашивают себя, неужто Кремюэль обезумел? Зачем погубил конкубину, такую же еретичку, как он сам, и привел на ее место верную дочь Рима? – Посол касается пальцем губ. – Не иначе, Кремюэль что-то замышляет. Однако, как я всегда говорю императору, Кремюэль всегда что-то замышляет. И, судя по событиям двухнедельной давности, его замыслы всегда успешны. – Я не виновен в смерти Анны, – говорит он. – Она сама себя сгубила, она и ее джентльмены. – Но в удобное для вас время. Он кладет нож на стол, перламутровая ручка блестит. – Едва ли я мог назначить время для их ссоры. – Вы говорили, что не знаете, как от нее избавиться, но должны это сделать, иначе она избавится от вас. Говорили, что вернетесь домой и попытаетесь вообразить, как это могло бы случиться. Видимо, вы обладаете самым сильным воображением в Англии. По-моему, Генрих ужаснулся тому, что вскрылось при расследовании. – Шапюи вытирает пальцы. – Что за картину вы вложили в голову христиан! Королева Англии лежит на спине, задрав юбку: «Все сюда, все ко мне!» – Эта картина заставляет вас ворочаться по ночам? – Генри Норрис, лучший друг короля. Фрэнсис Уэстон, тщеславный юнец, которого угораздило проходить мимо, когда она была не одета. Сельский головорез с Севера Уилл Брертон. Мальчишка Смитон… выходит, не такая уж она гордячка, если легла с мальчишкой, которого наняли играть на лютне. Какая ненасытность! Неужто ей не хватало братца? – Шапюи кладет салфетку на стол. – Я все понимаю: Генрих устал от нее и возжелал малютку Джейн. «Кремюэль, – сказал он, – найдите способ от нее избавиться». Однако он был не готов к тому, что вскроется в результате вашего расследования. Возможно, мон шер, он не простит вам, что вы его выставили на посмешище. – Напротив, он пожаловал мне титул. – Когда-нибудь это вам аукнется. У Генриха долгая память. А сегодня примите мои поздравления. Вы стали милордом. Барон Кромвель… – Уимблдонский. – О нет, пощадите! Возьмите другое имя. Этого мне не выговорить. – И теперь я лорд – хранитель малой королевской печати. – Это высокий пост? – Мне больше не нужно. Посол берет ломтик телятины: – А знаете, совсем неплохо. – Предупреждаю вас, – говорит он. – Если Мария разозлит отца, его гнев докатится до ваших дверей. – Если ваш повар захочет сменить место, пришлите к моим дверям заодно и его. – Шапюи берет со стола вилку, восхищаясь зубцами. – Мы оба знаем, что принцесса не станет приносить клятву, провозглашающую ее отца главой церкви. Она не может присягать тому, что считает неестественным. Может быть, чем подвергать гонениям, король отправит ее в обитель? И больше не будет подозревать в том, что она жаждет трона? Это станет достойным уходом от мира. Она может удалиться в один из великих монастырей, где впоследствии станет аббатисой. – Шефтсбери подойдет? Или Уилтон? – Он опускает кубок. – Ах, оставьте, посол! Она готова удалиться в обитель не больше вашего. Если мир с его треволнениями так Марии безразличен, почему бы не присягнуть, и дело с концом? Тогда все от нее отстанут. – Мария может отказаться от будущих притязаний, но не от прошлого. Она не признает, что ее родители не состояли в законном браке. Не смирится с тем, что ее мать назовут шлюхой. – Никто не называл ее шлюхой. Вдовствующей принцессой. Вы не забыли, что после расставания Генрих относился к ней с почтением и не жалел расходов на ее содержание? – Послушайте, Екатерина умерла! – с горячностью произносит посол. – Оставьте ее, пусть покоится с миром! Однако она не желает покоиться с миром. Даже из могилы Екатерина тянется к дочери. Приходит по ночам, рядом с ней тощий старик, ее советник епископ Фишер, а в руках у нее свиток доводов в свою пользу. Когда пришло известие о смерти Екатерины, при дворе устроили танцы, но в день похорон у Анны Болейн случился выкидыш. Труп восстал из гроба и принялся душить разлучницу, пока у той не застучали зубы; встряхнул ее так, что королевский сын выскочил из утробы. – Посол, – он соединяет кончики пальцев, – позвольте мне заверить вас, что Генрих любит дочь. Однако он ждет от нее покорности, как отец и правитель. – Более всего Мария почитает Отца Небесного. – Но если ей суждено умереть, ее душа предстанет пред Господом, отягощенная грехом непокорности. – Вы злодей, – говорит Шапюи. – Верны себе. Вместо того чтобы утешать, угрожаете. Генрих не станет убивать собственную дочь. – Кто знает, что на уме у Генриха? Только не я. – Так и передам императору. Подданные Генриха живут в страхе. Я уговариваю моего господина: ваш христианский долг – освободить Англию. Даже узурпатор Ричард Скорпион не был так презираем, как нынешний правитель. – Мне не нравится выражение: «нынешний правитель». Граничит с изменой. Всякий, кто его употребляет, подразумевает другого претендента. – Изменить может только тот, кто должен хранить верность. Я ничего не должен Генриху, за исключением формальной благодарности за гостеприимство, которое я могу назвать весьма символическим и не идущим ни в какое сравнение, – посол кланяется, – с вашим радушием. Вся Европа знает, как туманно его будущее. Только в январе… Отложите вилку, думает он, хватит меня закалывать. Память о том дне жива до сих пор. Цепенящий холод и смятение. Его выдернули из-за письменного стола – увидеть несчастье своими глазами. Конь Генриха рухнул на ристалище. Генрих ударился головой, его принесли в шатер. Король лежал восковой, словно кукла, ни дыхания, ни пульса, мы решили, он умер. Он помнит, как положил руку королю на грудь и ощутил слабое биение жизни, – но неужели это он, как впоследствии рассказывали очевидцы, воззвал к Господу и, не боясь переломать королевские ребра, со всей силы ударил короля в грудину? Как он мог такое забыть? Генрих дернулся, захрипел, его вырвало, и король сел. Обратно в мир живых. «Кромвель, это вы? – сказал Генрих. – А я думал, что увижу ангелов». – Хорошо, – говорит Шапюи, – не станем упоминать этот эпизод, если он лишает вас аппетита. Однако нельзя не признать, что в Англии есть люди, представители лучших семейств, которые остаются верными сынами Рима. – Как такое возможно? – спрашивает он. – Все они принесли присягу. Куртенэ, Поли. Все признали Генриха не только своим королем, которому обязаны служить, но и главой церкви. – Разумеется, – отвечает Шапюи. – А что им было делать? Какой выбор вы им оставили? – Вероятно, вы считаете, что клятвы для них ничего не значат. И ждете, что они нарушат слово. – Вовсе нет, – успокаивает его посол. – Уверен, они не пойдут против помазанника Божия. Я беспокоюсь, что, возмущенный попранием древних прав, какой-нибудь их сторонник нанесет королю смертельный удар. Хватит простого кинжала. Все может произойти и без человеческого участия. Чума убивает за день, потовая лихорадка – за несколько часов. Вы знаете, что я прав, и, если я прокричу это лондонцам с кафедры у стен собора Святого Павла, вы не посмеете меня повесить. – Не посмею. – Он улыбается. – Но, к вашему сведению, бывало, что послов убивали на улицах. Я ни на что не намекаю. Посол опускает голову. Ковыряется в листьях салата. Сладкий латук, горьковатый эндивий. Мэтью входит с фруктами. – Боюсь, абрикосы снова не уродились, – сетует он. – Кажется, я не ел их уже несколько лет. Надеюсь, епископ Гардинер угостит меня абрикосами, если заглянет на огонек. Шапюи смеется: – Предварительно замочив их в кислоте. Вы знаете, что он уверяет французов, будто Генрих собирается вернуть страну в объятия Рима? Он не знает, но подозревал. – Вместо абрикосов мы заготавливаем персики. Шапюи доволен. – Вы готовите их по венецианскому рецепту. – Он зачерпывает ложку и лукаво смотрит на него поверх десерта. – Что будет с Гуйеттом? – С кем? А, с Уайеттом. Он в Тауэре. – Я прекрасно знаю, где он. Там, где вы можете за ним присмотреть, пока он сочиняет свои загадочные вирши. Почему вы его защищаете? Его место на плахе. – Его отец был другом моего бывшего хозяина, кардинала. – И просил вас покрывать преступные деяния сына? – смеется посол. – Я дал ему слово, – сухо отвечает он. – Выходит, это обещание для вас свято. Но почему? Когда ничто другое не свято? Я вас не понимаю, Кремюэль. Вы не боитесь, когда следует бояться. Вы как будто играете костями, залитыми свинцом. – В игральные кости заливают свинец? Как интересно. – Вы обманываете самых знатных людей королевства. – Вы про Кэрью и прочих? – Они знают, что вы в них нуждаетесь. Вам не выстоять в одиночку. Если новый брак короля продлится недолго, что тогда? Сегодня вы в фаворе, но что с вами будет, если Генрих лишит вас своей милости? Вспомните кардинала. Его не спасла даже принадлежность к духовному сословию. Если бы он не умер по пути в Лондон, Генрих отрубил бы ему голову вместе с кардинальской шапкой. И некому будет вас защитить. У вас есть сторонники. Сеймуры вам обязаны. Фицуильям помог вам избавиться от конкубины. Но за вашей спиной нет родословной. Вы были и остаетесь сыном кузнеца. И ваша жизнь зависит от следующего удара королевского сердца, а ваше будущее – от того, улыбнется он или нахмурится. В январе, когда я думал, что Генрих умер, и когда все вокруг вопили не своим голосом, я вскочил и сказал: «Я иду, я рядом». Но прежде чем выйти из комнаты, я посыпал бумаги песком и взял со стола турецкий стилет с гравированным подсолнухом на рукояти, который лежал там для красоты. Теперь у меня было с собой два кинжала. Потом я нашел Генриха и заставил его воскреснуть из мертвых. – Я помню те крохотные равиоли, – говорит он. – В доме Фрескобальди, когда кончался Великий пост, их начиняли рубленой свининой, а за столом посыпали сахаром. – Похоже на банкиров, – фыркает Шапюи. – Никакого вкуса, одни деньги.
Ризли вплывает в Остин-фрайарз, когда они приходят с вечерней молитвы. Ричард говорит: – Здесь Зовите-меня, но вам на сегодня достаточно. Выставить его? – Нет. Я хочу послать его к Марии. – Вы доверите ему такое дело? – Я пошлю с ним Рейфа, если король его отпустит. Однако Мария очень чувствительна к собственному статусу и может решить, что Рейф связан… – С нами, – заканчивает фразу Рейф. В то время как мастер Ризли происходит из семьи потомственных герольдов. Герольды имеют собственный статус и очень им дорожат. Зовите-меня входит с пергаментом в руке: – Когда мы начнем обращаться к вам лорд Кромвель, сэр? – Когда пожелаете. – Я подумал… теперь, когда вам пожалован титул, не стоит ли вернуться к вашему происхождению? – Он разворачивает разноцветный свиток. – Это герб Ральфа Кромвеля из замка Таттершолл. Он был казначеем великого Гарри, завоевавшего Францию. Сколько можно? – Я не имею никакого отношения к лорду Ральфу, равно как и он ко мне. Вы знаете, кем был мой отец и откуда я родом. Если не знаете, спросите Стивена Гардинера. Он посылал своего человека в Патни выведать мои секреты. Зовите-меня изнывает от желания спросить: и выведал? Но от темы не отклоняется: – Вы должны пересмотреть свои взгляды на этот вопрос. Так будет удобнее королю. Ричард говорит: – Удобней, чем сейчас, ему уже никогда небудет. – Однако если бы вы носили древнее имя, то пользовались бы большим уважением. Не только среди вельмож, но и среди простонародья, не говоря о чужеземных дворах. За границей говорят, будто Генрих вас прогнал, а на ваше место посадил двух епископов. – Держу пари, один из них – Гардинер. – Он обожает эти умозрительные миры, что прорастают в складках правды. – А что еще говорят? – Что любовников конкубины четвертовали, а ее заставили смотреть, прежде чем сожгли на костре. Считают нас такими же варварами, как сами. Говорят, все семейство под замком. Предвижу, ее отцу будет нелегко убедить людей, что он жив. Я полагаю, вы не тронули его, потому что… – Зовите-меня запинается. – Потому что он поступил так, как вы ему велели. Люди должны знать, что за это полагается награда. Если можно назвать наградой такую жизнь, какая предстоит Томасу Болейну. Он говорит: – Я верю в экономию. Палачу нужно платить, Ризли. Думаете, он предлагает свои услуги gratis?[111] Зовите-меня замолкает, моргает, набирает побольше воздуху и с искренним рвением продолжает: – Говорят, что леди Мария уже вернулась ко двору и примерила драгоценности покойной королевы. Что король собирается выдать ее замуж за сына французского короля герцога Ангулемского и что герцог будет жить в Англии, готовясь взойти на престол. – Я слышал, она не имеет склонности к замужеству. – Так вы обсуждали с ней этот вопрос? – Кто-то же должен поддерживать надежды французов. Зовите-меня сомневается, – возможно, его дразнят? Он, лорд Кромвель, изучает герб другого лорда Кромвеля: – Я предпочел бы корнуольских галок кардинала. Что сегодня из Кале? В Кале злоба и междоусобицы знатных семейств заперты внутри городских стен. Эти крошащиеся стены, английская защита – бездонная яма для денег, кишащая слухами, подтачиваемая интригами. Кале – своего рода чистилище. Несчастный ждет не дождется, но не прощения, а попутного ветра. Все, о чем говорят в крепости, несется через море с шипением и грохотом волн, разбиваясь о стены Уайтхолла. Кале наша последняя опора на материке, его пределы – наша последняя территория. Управлять Кале должен самый стойкий и верный из слуг короля. Вместо этого там правит лорд Лайл. Он приходится Генриху дядей, один из бастардов короля Эдуарда, и Генрих обожает товарища по детским играм. Лорд Лайл уже хлопочет о том, чтобы его не забыли при дележке имущества Болейнов. Раньше, для того чтобы выбивать синекуры и поблажки, у него был Гарри Норрис, не позволявший королю о нем забыть. Прошли те времена, теперь Норрис кормит могильных червей. Зовите-меня говорит: – Это жена Лайла мутит воду. Она ведьма, к тому же папистка. Вы знаете, что у нее есть дочери от первого брака? Она вечно пыталась пристроить их в свиту Анны. А теперь рассчитывает на новую королеву. – Мне кажется, у Джейн хватает фрейлин, – говорит он. – Зовите-меня, я попрошу вас с Рейфом поехать в Хансдон. Попытайтесь образумить Марию. Но будьте с ней ласковы. Она нездорова. Письмо Марии по-прежнему лежит у него в кармане. Даже в собственном доме он не решается оставить его без присмотра. Мария пишет, что у нее слезятся глаза, ноют зубы, а по ночам она не может сомкнуть век. И только свидание с отцом способно ее утешить. Неверные друзья разлучили их. Когда они будут изгнаны или сокрушены мечом правосудия, когда ложные советчики будут сброшены в Темзу, тогда король, ее отец, обратится к ней, и пелена спадет с его глаз, и он увидит свою дочь и наследницу в истинном свете. Однако сначала король должен призвать ее к себе. Позволить ей согреться в лучах его славы. До той поры она – дева в зачарованном саду. Ждет того, кто прорвется сквозь колючие заросли и разрушит чары. – Поезжайте сами, сэр, – говорит Ризли. Он мотает головой. – Не желаете быть разносчиком дурных вестей? – Она любит отца, – говорит он. – И ей придется ему поверить. Король не потерпит своеволия. Тем более от собственного дитяти. Солнце садится, последний теплый луч ложится на стол. На столе «Декреталии папы Григория» с обширными примечаниями и монограммой: «TC» – Thomas Cardinalis. В неверных сумерках, в которых тени словно текучая вода, он видит фигуру королевской дочери: она съежилась, ушла в себя, лицо бледное, упрямое. Его зачаровывает осторожное смещение света, где она, живой призрак, выстраивает себя по частям. Она на него не смотрит – он смотрит на нее. – Ризли, вы должны сказать ей: «Смирение, мадам, вот добродетель, которая вас спасет. Истинное смирение – это не раболепство, оно не унизит вас, не затронет вашу совесть. Скорее его можно назвать преданностью». – Так и быть, – говорит Зовите-меня, – раз вы считаете, что я должен обращаться к ней, как вы обращаетесь к палате общин. Вероятно, следует упомянуть, что смирение снимает немалую долю ответственности. – Думаю, это ее утешит. Но не говорите с ней как с малым ребенком. И не пытайтесь ее запугать. Она храбра, как ее мать, и способна дать отпор. Более того, она упряма, как мать, и может занять оборону. Если она разозлится, отступите и передайте слово Рейфу. Вы должны воззвать к ее женской природе. К ее дочерней любви. Скажите ей, как это ранит ее отца, – он прикладывает руку к сердцу, – ранит вот здесь, скажите, что ей следует думать не о мертвых, а о живых. Фигура мастера Ризли расплывается: он теряет очертания, его окутывает ночь. Ему хочется, чтобы принцесса не исчезала, пока она не растает в пламени его воли, а это случится, если он найдет нужные слова, которые заставят ее усомниться в собственной правоте. – Сэр, – говорит Ризли, – по-моему, вам известно то, что неизвестно остальным. – Мне? Ничего я не знаю. Никто мне ничего не рассказывает. – Это как-то связано с Уайеттом? Рейф сказал, что стихи, обвиняющие Уайетта, полные зашифрованных обвинений и горьких шуток, имеют хождение между придворными в непосредственной близости от короля. Листок вкладывают в молитвенник, втискивают в перчатку, используют в игре вместо пикового короля. – Все напуганы, – говорит Зовите-меня. – Все оглядываются через плечо. Гадают, не будет ли выдвинуто новых обвинений. Я беседовал с Фрэнсисом Брайаном, и, когда всплыло имя Уайетта, он потерял нить разговора и посмотрел на меня так, словно видит впервые. – Фрэнсис? – смеется он. – Вероятно, был пьян. – По-моему, дамы тоже боятся. Когда я доставил послание королеве Джейн, они встрепенулись, начали переглядываться, подавать друг другу знаки… – Мой бедный мальчик! Вы входите – и женщины начинают переглядываться. Неужели с вами такое впервые? Расскажите мне, какие знаки они подавали друг другу, и я постараюсь их расшифровать. Зовите-меня вспыхивает: – Сэр, это не шутки. Королева – та, другая – заплатила за деяния, которые совершила, но этим дело не кончилось. Ты входишь в комнату, слышишь, как хлопает дверь, как кто-то шарахается при твоем приближении. И в то же время чувствуешь, что за тобой следят. Следят, а ты как думал? – Все решили, – продолжает Зовите-меня, – что Анну сгубило признание Уайетта, но никто не понимает, что заставило его так поступить, его считали храбрым и… – Неразумным? – Не совсем. Скорее галантным. Все гадают, чем Анна ему насолила и почему мед обратился желчью? Лучше бы их похоронили в одной могиле, чем… Неудивительно, что ты запинаешься. Порой наши фантазии, словно танцоры, неожиданно и резко взмывают вверх. И мы видим ящик для стрел, узкий даже для одного тела. – Они считают, что Уайетт должен был умереть ради любви, а сами ради нее не готовы перейти улицу. Он думает об Уайетте в тюрьме. Сумерки наползают от ручейков и протоков Темзы, последний луч света скользит, словно шелк, всплывает на поверхность, уходит под воду. Свет движется, в то время как вода неподвижна. Он видит Уайетта издалека, словно отражение в зеркале или сквозь время. Он говорит Ризли: – Доброго пути. Запоминайте все, что скажет Мария. Как выйдете от нее, сразу запишите. Он идет в спальню, Кристоф топает за ним. – Этот чудной Мэтью, – говорит Кристоф. – Я слыхал, его повысили. Отошлите его обратно в Вулфхолл. Ему только свиней пасти, а не прислуживать лорду. – Надо было мне самому поехать к Марии, – говорит он. – Вернулся бы прежде, чем об этом начнут судачить. Он затворяет дверь, завершая день. Кристоф говорит: – Как раньше, когда мы ездили в Кимболтон, чтобы втайне повидать старую королеву. Когда мы остановились на постоялом дворе, женка трактирщика… – Прекрати, хватит уже. – …запрыгнула к вам в постель. На следующее утро вы велели мне заплатить по счету и дали свой кошелек. А в Кимболтоне мы остановились у церкви. Помните, я свистнул и появился священник? Он помнит каменного дьявола, его змеиные объятия, зеленовато-голубые перья на крыльях архангела Михаила, его разящий меч. – Мы решили тогда, вам нужно исповедаться. Надеялись послушать. Но вы не стали исповедоваться. И даже если мы раскаемся, прощения нам не видать, если мы намерены грешить снова. Он видит себя в оконном стекле, раздетого до рубахи, яркий всполох белого. Без парчи и бархата он выглядит грузным – тяжелый отруб мясницкой туши. Его седеющие волосы коротко стрижены, и нечему смягчить черты, которыми наказал его Господь: маленькие рот и глаза, большой нос. Нынче он носит льняные рубахи столь тонкие, что сквозь них можно читать английские законы. У него есть бархатный зеленый джеркин, который сшили в прошлом году и прислали в Вулфхолл; есть пурпурный джеркин для верховой езды. От прошлой коронации у него остался темно-багровый, в котором, как сказала фрейлина Анны, он был похож на ходячий синяк. Если человека создает одежда, то он создан, но никто, даже в юности, не говорил ему: «Наш Томмазо сегодня красавчик». В лучшем случае: «Раненько надо проснуться, чтобы опередить этого дюжего английского ублюдка». Никто не скажет, что он хорошо смотрится в седле, – он просто садится на лошадь и едет куда надо. Он пускает лошадь неспешным шагом, но на месте оказывается раньше прочих. Ночь теплая, но Кристоф развел слабый, потрескивающий огонь и поставил на него мисочку с ароматическими травами и ладаном – эта смесь убивает любую заразу. Толстые восковые свечи, ждущие прикосновения тонкой свечи, чернила, записная книга, открытая на чистой странице, в случае если он проснется и решит внести еще пункт в список завтрашних дел. Похоже, мне нужно выспаться, говорит он Кристофу, и Кристоф отвечает: посла давно след простыл, даже Зовите-меня убрался, мастер Ричард дома с женой, король читает молитвы или пытается ублажить королеву, птицы сложили головки под крыло, заключенные сопят в Тауэре, Маршалси, Клинке и Флите. Дик Персер уже выпустил сторожевых псов. Бог в своих небесах. Ворота на засове. – А я наконец в собственной спальне, – говорит он. Семь лет назад, когда Флоренция, осажденная войсками императора, умоляла французов о помощи, члены городского совета пришли в дом к торговцу Боргерини и заявили: «Мы хотим купить вашу спальню». Прекрасные расписные филенки, роскошные занавеси и прочее должны были растопить сердце короля Франциска. Но Маргарита, жена торговца, заупрямилась и прогнала просителей прочь. Не все в жизни продается, заявила она. Эта комната – сердце моей семьи. Вон отсюда! Если хотите забрать спальню, придется переступить через мой труп. Он не готов жертвовать жизнью ради мебели. Но он понимает Маргариту и никогда не сомневался в правдивости этой истории. Наши вещи переживут нас, преодолеют потрясения, которые нас сломят. Мы должны быть достойны их, потому что, когда нас не станет, они будут свидетельствовать о нас. В этой комнате есть вещи тех, кто уже не может ими воспользоваться. Книги, которые подарил ему его хозяин Вулси. Одеяло желтого турецкого атласа, под которым он спал с Элизабет, своей женой. В сундуке лежит резной образ Пресвятой Девы, завернутый в стеганый чепец. Гагатовые четки свернулись в ее старом бархатном кошельке. Есть еще наволочка, на которой она вышивала оленя, бегущего сквозь листву. Смерть ли оборвала работу, или Элизабет сама ее бросила, недовольная результатом, но иголка осталась в ткани. Позднее другая рука – ее матери или одной из ее дочерей – вынула иглу, но остались два прокола, и, если провести пальцем вдоль линии стежков туда, где они должны были продолжиться, почувствуешь два крохотных бугорка. У него есть сундучок фламандской работы, который перенесли из соседней комнаты, и в нем, переложенные пряностями, лежат ее рукава, ее золотая шапочка, ее юбки и чепцы, ее аметистовое кольцо и кольцо с алмазной розой. Если она войдет, ей будет во что одеться. Однако жену не сотворишь из чепцов и рукавов; сожми в ладони все ее кольца, но ты не сожмешь ее руку. Кристоф говорит: – Вы грустите, сэр? – Нет, не грущу. Не могу себе позволить. Я слишком многого достиг, чтобы грустить. Я был прав, говорит он, мне не следует ехать к Марии. Пусть все идет как идет, посмотрим, какие вести привезут Рейф и Зовите-меня. Вот кардинал, думает он, был мастером в подобных делах. Вулси всегда говорил: разберись, чего хотят люди, и, может быть, ты сумеешь предложить им именно это. И пусть ты ошибешься, но все может пройти легче, чем ты ожидал. С Томасом Мором не вышло. Мор вел себя словно утопающий, который отталкивает протянутую руку. Он предлагал ему руку снова и снова, неизменно встречая отказ. Для Генриха век уговоров позади – он закончился, когда Мор каплями стек на эшафот, утонув в крови и дождевой воде. Отныне настал век принуждения, и королевская воля – инструмент, который каждое утро затачивает кузнец: остроконечный, жалящий, он глубоко ввинчен в наш испорченный век. Ты увидишь, как Генрих, изощренный обманщик, берет посла под руку и пытается очаровать. Ложь доставляет ему глубокое и утонченное удовольствие, такое глубокое и утонченное, что он даже не осознает своей лжи, искренне считая себя правдивейшим из государей. Генрих считает, что он, Кромвель, недостаточно знатен, чтобы беседовать с чужеземными вельможами, поэтому ему остается только стоять у стены и не сводить глаз с королевского лица. Впоследствии они с послом перекинутся парой фраз: «Кремюэль, неужели на этот раз я должен ему верить?» Вы просто обязаны, посол, скажет он. «Вы считаете, я только вчера родился на свет? Сегодня он говорит одно, а что скажет через неделю?» Верьте мне, посол, готов поклясться, я прослежу, чтобы он сдержал слово. «Но чем вы поклянетесь, если выкинули вон святые реликвии?» Он кладет руку на грудь. Моей верой, говорит он. – Ах, господин секретарь, – скажет посол, – вы слишком часто прижимаете руку к груди. А ваша вера представляется мне весьма легковесной, способной меняться день ото дня. После чего посол, оглянувшись через плечо, придвинется ближе: – Нам нужно встретиться, Кремюэль. Давайте поужинаем. Затем кости встряхивают в стаканчике, и уже не важно, знатен ты или нет. Он будет договариваться снова и снова, и посол, исполнившись доверия, выложит ему свои беды. «Мой господин, мой господин император, мой господин король… в некотором смысле он очень похож на вашего… и, держу пари, мой дорогой Кремюэль, ваши заботы не слишком отличаются от моих». Посол будет лгать и выдавать правду за ложь, внимательно следя за реакцией. И когда Кремюэль наконец кивнет, они выберутся на твердую почву. Поднимая брови, усмехаясь, они продолжают торг, обмениваясь вынужденной ложью – легко, словно перепрыгивают через лужи. Его новый друг поймет, что правители не чета обычным людям. Правителям приходится прятаться от самих себя, чтобы их не ослепил собственный свет. И когда вы это осознаете, то можете возводить барьеры, скрывающие лицо, ширмы, чтобы за ними улаживать дела, потаенные углы, куда можно уединиться, открытые пространства, где можно развернуться и все переиграть. В этом есть своя прелесть, ты наслаждаешься собственной ловкостью, но есть и цена: привкус желчи во рту и усталость. Жан де Дентвиль однажды спросил его, вы не задумывались, Кремюэль, почему мы все время лжем? И не кажется ли вам, что, когда мы будем исповедоваться на смертном одре, сила привычки непременно заведет нас в ад? Впрочем, и эти слова француза были уловкой, попыткой выведать что-то свое. В зале совета, в присутствии и в отсутствие короля, у них есть условные жесты и вздохи – словно контрапункт тому, что может быть сказано вслух. Но когда джентльмен из личных покоев сообщает, что его величество задерживается, все ерзают, скрывая облегчение. Советники гадают, что случилось: конная прогулка, несварение или лень, а возможно, король просто устал от наших лиц? Кто-нибудь непременно скажет: «Господин секретарь, может быть, вы начнете?» И, ведомые им, они запускают новый виток перебранок и ссор, однако над столом витает тайный дух товарищества, который негоже проявлять при короле, предпочитающем видеть своих советников разобщенными. Если советники хмурятся, король улыбается – неизменно великодушный правитель. Если лезут в драку – воздает зачинщикам должное. Если проявляют настойчивость, король смягчается, уговаривает, очаровывает. Это его советники, шайка отъявленных злодеев, которые берут на себя его грехи. Те, кто соглашается быть хуже ради того, чтобы Генрих стал лучше. В июне ночи коротки, но, когда городские вороты запирают и гасят огни, он, Кремюэль, задергивает занавески и запирается наедине с заботами об Англии. За пределами этой спальни, этой кровати, тьма расползается до самого побережья, летит над волнами: к стенам Кале, через сонные поля Франции и темные заснеженные пики, через Италию к султанатам. Ночь укутывает Лондон одеялом, будто нас уже нет и над нами могильный покров, черный бархат и холодный серебряный крест. Сколько жизней мы проживаем, где спим и видим сны и где забытые языки снова вползают в рот. Когда он был ребенком, его звали Ножи-Точу, потому что отец точил ножи. Ему не исполнилось и двенадцати, а он уже выбивал мелкие отцовские долги: дружелюбный, улыбающийся, настойчивый. В пятнадцать скитался с приятелями где придется, вечно в бегах, в синяках, в поисках новых синяков и новых драк. Наконец, когда он подался в солдаты к королю Людовику, за синяки стали платить. Тогда он говорил на французском – арго бивуаков. Он говорил на любом языке, потребном для торговли или обмена – от холщовых мешков до статуй святых, скажи, что тебе нужно, и я это раздобуду. В восемнадцать две из его жизней были прожиты. Третья началась во Флоренции, во дворе дома Фрескобальди, куда он приполз израненный с поля сражения. Опираясь на стену, он мутным взором разглядывал новое поле битвы. Со временем хозяин взял его наверх – молодого англичанина, способного договариваться с соотечественниками и впоследствии ставшего незаменимым: честного, неболтливого, почтительного к старшим, не привыкшего ныть, не знающего усталости, готового исполнить любое поручение. Он не похож на других англичан, хвастался его хозяин приятелям: не дерется на улицах, не плюется как дьявол, носит кинжал, но прячет его под одеждой. В Антверпене он начал сызнова писарем у английских купцов. Он итальянец, кричали они, весь ловкость и коварство и способен добывать прибыль из воздуха. Это была его четвертая жизнь: Нидерланды. Он говорил по-испански и на языке, который был в ходу в Антверпене. А потом оставил и эту жизнь – вдову Ансельму в ее домике, полном теней, выходящем на канал. Ты должен вернуться домой, говорила она, найти молодую англичанку с хорошим приданым, а я буду надеяться, что она сделает тебя счастливым в постели и за столом. В конце концов она заявила, Томас, если ты сейчас не уйдешь, я сама соберу тебе котомку в дорогу и выброшу ее в Шельду. «Садись на корабль», – говорила она, словно тот корабль был последним. Следующую жизнь он прожил с женой, дочерями и своим хозяином – великим кардиналом. Это и есть моя настоящая жизнь, думал он, наконец-то я до нее добрался: но стоит так подумать, и снова пора собирать котомку. Его разум и сердце путешествовали вместе с кардиналом на север, в изгнание. Путешествие оборвалось на полпути, и его похоронили в Лестере, зарыли вместе с Вулси. Шестую жизнь он прожил государственным секретарем, слугой короля. Седьмая – лорда Кромвеля – только начиналась. Для начала, думает он, нужно устроить церемонию – короновать Джейн. Для Анны Болейн я расставил на улицах говорящих святых и соколов в человеческий рост. Я размотал мили синевы, словно дорогу в рай, от дверей аббатства до трона. Я заплатил за каждый ярд, и вы, миледи, прошли по этому пути. Теперь все сначала: новые знамена, расписные полотнища с геральдическим фениксом; с утренней звездой, райскими вратами, кедром и лилией среди терний. Он ворочается во сне. Ступает по синеве, по волнам. В Ирландии нужны большие луки, а хороший лук идет по пять марок за два десятка. В Дувре нужны деньги, чтобы платить за починку крепостных стен. А еще лопаты, совки и сорок дюжин землекопов, причем нужны были вчера. Сделать пометку, думает он, а еще разобраться, что тревожит фрейлин. Это заметил Зовите-меня, это заметил я. Тут что-то нечисто. Этим женщинам есть что скрывать. В Кенте вдова Джорджа Болейна разбирается с делами и пытается взглянуть в лицо будущему: она написала ему, что нуждается в деньгах. Бет, жена графа Вустерского, со своим громадным животом удалилась в деревню. Ребенок не от него, что бы ни болтали при дворе. Если родится мальчик, граф расшумится, если девочка – пожмет плечами и примет дитя. Женщины могут ошибаться в расчетах. Повитухи могут ввести их в заблуждение. Однажды в Венеции, думает он, я видел женщину, нарисованную на стене высоко над каналом, а позади нее были луна и звезды. «Подними факел, – сказал ему Карл Хайнц. – Видишь ее, Томмазо?» И на миг он ее увидел – она смотрела со стены Немецкого подворья на Кремуэлло, который шел к ней из самого Патни. Он был ее паломником, она – его святыней. Обнаженная, увитая венками, она приложила руку к своему пылающему сердцу. На эшафоте Анне прислуживали четыре женщины. Они оскальзывались в ее крови. Их лица скрывали вуали, и ему не верится, что это те, кто был с ней в последние недели, те, кого он сам к ней приставил, чтобы записывали ее слова. Хочется думать, что король, вняв мольбам, позволил ей самой выбрать спутниц для последней прогулки по неровной земле, когда ветер трепал ее юбки, и она все оглядывалась через плечо, навстречу вестям, которых не дождалась. Леди Кингстон, думает он, скажет мне, кто они. Но должен ли я знать? У них останутся воспоминания об этом дне. Возможно, они захотят ими поделиться. Оставьте меня, говорит он им, я должен выспаться. Замрите под вашими вуалями по углам кровати. Плотнее запеленайте эту голову с отверстым в крике ртом. Вы знаете, на что способен взгляд Медузы. Нельзя смотреть ей в лицо. Уловите ее образ в полированной стали. Всмотритесь в зеркало будущего: незапятнанное, speсula sine macula[112]. Мы украсим город для Джейн. На каждом углу будет райский сад с девой в беседке, оплетенной полосатыми ало-серебряными розами; змей обвил ствол яблони; певчие птицы, пойманные Адамом, сидят в клетках на суку. Завтра он ответит на письмо вдовы Джорджа Болейна. Джейн хочет получить столовое серебро и вещи мужа. У нее всего сотня марок в год, а этого недостаточно для благородной дамы, которой больше не суждено устроить судьбу, – кто польстится на женщину, которая пришла к Томасу Кромвелю и обвинила собственного мужа в том, что он спал с сестрой и замышлял убить короля. Нам не сбежать из этих недель. Они повторяются, всякий раз сызнова, всякий раз иначе, и никогда не кончаются. Когда Анну арестовали, каждый час приносил ему письма от Кингстона, коменданта Тауэра. Рейф изучал их, в каких-то делал пометки, какие-то оставлял для архива. «Сэр Уильям пишет, королева снова говорит, что король отошлет ее в монастырь. И тут же – что за свои добрые дела она отправится прямиком в рай. Пишет, что королева все время смеется. Отпускает шутки. Говорит, потомки запомнят ее как Анну без головы». – Бедняжка, – заметил Ризли. – Едва ли потомки запомнят ее. Рейф посмотрел на письмо: – Я должен зачитать: «Эта дама черпает в смерти радость и удовольствие». – По-моему, это выдает ее страх, – сказал Ричард Кромвель. – Если так, – ответил Зовите-меня, – ей нужны капелланы. – А еще, – продолжил Рейф, – она хочет сообщить господину секретарю, что через семь лет после ее смерти на страну обрушатся невиданные бедствия, но какие именно, она не уточняет. – Хорошо хоть она дает нам отсрочку, – сказал он. – Возможно, Анна обнаружит, что Господь не готов исполнять ее пожелания с таким рвением, с каким их исполняли мужчины. – Рейф распечатал еще письмо и пробежал его глазами. – Джордж Болейн хочет вас видеть, сэр. Пишет, это вопрос его совести. – Хочет исповедоваться? – Ризли поднял бровь. – Чего ради? Расследование завершено, а его преступления столь отвратительны, что даже милосерднейший из правителей не принял бы его покаяния. Думаю, избегни он кары, люди на улице побили бы его камнями или его поразил бы сам Господь. – Избавим Господа от хлопот, – сказал Ричард. – Ему есть чем заняться. Он заметил косой взгляд Ризли. Мальчишки сражались за влияние, за место рядом с ним. – Лорд Рочфорд оставил долги, – сказал он. – Он хочет, чтобы я привел в порядок его дела. – Не думаю, что его беспокоят долги, – заметил Рейф. – Похоже, мне недостает милосердия. Хотите схожу вместо вас, сэр? Он мотнул головой. Джордж Болейн, мужчина, который возвысился благодаря тому, что обе его сестры раздвинули ноги перед королем. Сначала Мария, затем Анна. Но когда тебя зовет умирающий, ты должен явиться лично. Позднее, ведя его в Мартинову башню, Кингстон сказал: – Кроме вас, никто ему не поможет, господин секретарь. Он думал, у него есть друзья. – Комендант оглядывается. – Однако его друзья оказались в таком же положении. Джордж читал молитвенник. – Сэр, я знаю, вы мне поможете. – Он вскочил, слова путались. – У меня есть долги, а кое-кто должен мне… – Не спешите, милорд. – Он поднял руку. – Послать за писарем? – Нет, всё здесь. – Джордж перебирает стопку бумаг на столе. – А еще у меня есть труппа актеров. Вы дадите им работу? Мне бы не хотелось, чтобы их вышвырнули на дорогу. Это он исполнит. Он как раз намерен развлечь лондонцев. – Монахи и их жульничества, – сказал он. – Двор Фарнезе в Риме и его подхалимы. Джордж воодушевился: – У нас есть все необходимое! Тиара, посохи, епитрахили, а еще колокольчики, свитки и ослиные уши для монахов. Один из актеров, он играет Робина Доброго Малого, он выходит с метлой и метет перед актерами, а после еще раз выходит со свечой, показать, что представление окончено. Вот, сэр. – Джордж придвигает ему бумаги. – Король получит все, и мои долги тоже, но эти скромные люди, которые мне задолжали, я не хочу, чтобы их преследовали. Он взял бумаги: – Никогда не поздно проявить заботу о ближнем. Джордж вспыхнул: – Я знаю, вы считаете меня великим грешником. Таков я и есть. Он видел, что Джордж в нелучшей форме. Под глазами синяки, выбрит плохо, словно во время бритья ему не сиделось на месте. Джордж опустился в кресло, сжал рукой подлокотник, чтобы унять дрожь, с удивлением всмотрелся в нее – и впрямь, пальцы выглядели непривычно голыми. – Я отдал кольца на хранение. – Поднял другую руку. – Но обручальное не снимается… Снимется, когда твои пальцы остынут. Кому достанутся украшения Джорджа? Вдова их продаст. – Вы в чем-нибудь нуждаетесь, милорд? Кингстон делает все, что должен? – Я хотел бы увидеть сестру, но вы не позволите. Пусть успокоится и приготовится к встрече с Господом. По правде сказать, господин секретарь, – Джордж хохотнул, – я не представляю себе встречу с Богом. По закону я уже мертв, но, кажется, этого не сознаю. Удивляюсь, что до сих пор дышу. Мне нужно записать это, объяснить, или… быть может, вы мне объясните, мастер Кромвель? Как я могу быть одновременно живым и мертвым? – Читайте Евангелие. – Лучше бы я послал Рейфа, подумал он. Гордость не позволила бы Джорджу утратить перед ним самообладание. – Я читал Евангелие, но не следовал ему, – сказал Джордж. – Думаю, я его не понимал. Потому что, если бы понимал, остался бы в живых, как вы. Жил бы себе в тишине, вдали от двора. Презирал свет и его соблазны. Сторонился суеты, забыл о честолюбии. – Никто из нас на такое не способен, – заметил он. – Все мы читаем проповеди. И даже пишем их сами. При этом все мы тщеславны, честолюбивы и не умеем жить в тишине и покое. Мы просыпаемся утром, чувствуем, как кровь бурлит в жилах, и думаем, во имя Пресвятой Троицы, чью голову я должен снести с плеч сегодня? Какие новые миры завоевать? Или, по крайней мере, думаем: если Господь сделал меня матросом на корабле дураков, как мне убить пьяного капитана, чтобы отвести корабль в порт и не разбиться о скалы? Вряд ли он сказал это вслух. Судя по лицу Джорджа, все-таки про себя. Джордж задал вопрос и ждал ответа, подавшись вперед. – Том Уайетт сказал, что имел мою сестру? – Его свидетельство не было публичным и не дошло до суда. – Но оно дошло до короля. Не понимаю, как Уайетт мог сказать такое и остаться в живых? Почему Генрих не убил его на месте? – С какого-то времени короля перестало заботить ее целомудрие. – Хотите сказать, одним больше, одним меньше? – Джордж вспыхнул. – Господин секретарь, не знаю, как вы это называете, но я отказываюсь считать это правосудием. – Я никак это не называю, Джордж. Или, если хотите, можно назвать это necessita[113]. Он почуял в углу ночной горшок Джорджа. Очевидно заметив его деликатное внимание, то, как вздрогнули его ноздри, Джордж сказал: – Я мог бы вылить горшок сам, но меня не выпускают. – Он развел руками. – Господин секретарь, я не стану ничего оспаривать. Ни вердикт, ни обвинение. Я знаю, почему мы умираем. Я не такой дурак, каким вы меня всегда считали. Он промолчал. Однако Джордж отпихнул кресло и последовал за ним к двери: – Мастер Кромвель, помолитесь Господу, чтобы укрепил меня на эшафоте. Я должен показать пример, если, как я полагаю, в соответствии с моим положением, начнут с меня… – Да, милорд, вы будете первым. Виконт Рочфорд. Затем остальные джентльмены. Последним лютнист. – Лучше бы первым шел Марк, – сказал Джордж. – Он простолюдин и, скорее всего, сломается. Но я не думаю, что король нарушит традиции. И тут Джордж зарыдал. Раскинул руки, привыкшие к шпаге, – молодые, сильные, полные жизни – и обхватил Томаса Кромвеля, словно сцепился с самой смертью. Его тело сотрясалось, ноги дрожали, он съежился и зашатался, словно репетируя то, что не позволил бы увидеть миру, – свой страх, неверие, безумную надежду, что все это сон, от которого можно проснуться. От слез глаза стали как щелки, зубы стучали, руки слепо шарили по его спине, голова клонилась к его плечу. – Храни вас Господь, – сказал он и поцеловал лорда Рочфорда на прощание, как равного. – Скоро ваша боль останется позади. – За дверью велел стражникам: – Бога ради, вынесите его горшок. И вот он просыпается в собственном доме. Джордж ретируется, унося с собой привкус своих слез. В комнате затихают шаги. Он распахивает занавески: тяжелый бархат, вышитый листьями аканфа. Еще не рассвело. Я спал всего ничего, думает он. Иногда, когда размышляете над тем, как утекают и притекают деньги, вас может сморить сон: река намывает монеты, и вы подбираете их на берегу. Но затем в ваш сон вторгаются люди: «Сэр, если вам нужны писари для нового ведомства, мой племянник хорошо управляется с цифрами…» Не простое это дело – упразднить монастыри. Даже несмотря на то, что сейчас распускают только мелкие. У некоторых земли в десяти графствах. Добавьте движимое и недвижимое имущество, деньги, что пойдут в королевскую казну… впрочем, из них еще придется вычесть долговые обязательства, пенсии, дарственные, ренту. Он учредил новую службу, которая займется проверкой расчетов, доходами и расходами. «Сэр, мой сын изучает древнееврейский и ищет пост, где пригодится его греческий…» Со времен Вулси у него остались тридцать четыре туго набитых сундука с бумагами. Нужно перевезти их. «Ваш сын способен таскать тяжести?» Может, Ричард Рич согласится хранить их у себя дома. Недавно он назначен канцлером палаты приращений, но места для нового ведомства нет – ему отвели в Вестминстерском дворце небольшой закуток, который приходится делить с мышами. Это не дело, думает он. Я построю для нас дом. На мече палача из Кале слова молитвы. «Покажите мне», – просит он. Он помнит выгравированные слова, чувствует их под пальцами. Любовников Анны обезглавили, а после раздели. Пять льняных саванов. Пять тел. Пять отрубленных голов. Когда мертвые восстанут из могил, они захотят узнать себя. Какое кощунство приложить голову не к тому телу! Вы только подумайте, что сотворили эти неумехи из Тауэра! Когда подмокшую ношу сгрузили с телеги, без всяких знаков отличия, то обнаружили, что не могут определить, кто есть кто. Его с ними не было, он был в Ламбетском дворце с архиепископом, поэтому обратились к его племяннику Ричарду: «Сэр, что нам теперь делать?» Я бы развернул саваны и посмотрел на руки, думает он. У Норриса на ладони был шрам, у Марка мозоли от струн, Уэстон в детстве лишился ногтя, Джордж Рочфорд… у Джорджа на пальце обручальное кольцо. Остается Брертон. Если, конечно, эти болваны по ошибке не срубили голову случайному прохожему. Что мне нужно, думает он, так это люди, владеющие счетом. Способные сосчитать пять голов, пять тел и тридцать четыре сундука бумаг. Умеет ли ваш сын считать? Готов выйти из дома в любую погоду? Без устали cкакать по зимним дорогам? Клерки, которые трудятся в палате приращений, честны и знают свое дело: Данастер и Фримен, Джобсон и Гиффорд, Ричард Полет, Скьюдамор, Арундель, Грин. Нанял ли он Уотерса и может ли представить его Спилмену? Его друг Роберт Саутуэлл, Боллз, Морис и… кто еще? Кого он забыл? Когда Анну разрубили на две части, человек из Кале показал ему свой меч, и он провел пальцами по выгравированным словам. От прикосновения к стали пальцы немеют. Когда я похолодею, я сниму это обручальное кольцо. Он шагает к королю, всегда к королю, его руки – без колец, без оружия – распахнуты. Шелковые джентльмены из его сна поворачиваются и смотрят ему вслед. Лица Говардов накладываются на ухмылки Говардов. Томас Говард старший, Томас Говард меньшой. В полусне он спрашивает себя: чем занимается младший, на что тратит свое время? Это ведь тот, который плохой поэт. Его рифмы падают и шлепаются. Тебя-Любя. Ночь-Прочь. Розы-Грезы. Радость-Младость. Тяп-Ляп. Зачем ты считаешь Говардов, думает он. Считай клерков. Бекуит, я забыл Бекуита. Саутуэлл и Грин. Гиффорд и Фримен. Джобсон и Стамп – Уильям Стамп. Кто способен забыть Стампа? Я. Очевидно. Все нужно записывать, наставляет он своих людей. Не доверяйте себе. Человеческая память изменчива. Вы чиновники палаты приращений. Двадцать фунтов в год плюс щедрая оплата издержек. Вы не сидите дома, вечно в пути, пересекаете королевство вдоль и поперек по делам службы. Вы будете загонять лошадей, если дело срочное. В каждом монастыре свои уставы, свои обязательства, свои монахи. Некоторые аббаты говорят: «Пощадите нас», и он говорит, возможно, пощадим. Заплатите в казну доход за два года, и мы подумаем, не сделать ли для вас исключение. Монастыри надо закрывать помедленней, чтобы монахи – те, кто пожелает, – нашли себе место в крупных обителях. Надо назначить аудиторов. Некоторые уже назначены, и троих зовут Уильямами. А еще есть Майлдмей и Уайзмен, Роукби и Бергойн. Но не Стамп. Прочь из моего сна, Стамп. Во времена Христа не было ни монахов, ни Стампа. Палате нужны гонцы и привратник. Кто-то должен сдерживать толпу просителей, но при этом открывать дверь. Плати ему per diem[114], остальное он доберет подношениями. Разве ты не хочешь, чтобы перед тобой распахивали дверь, если ты готовишься завоевать мир? Фортуна, твои двери отворены: Томас, лорд Кромвель, входи. Ныне Остин-фрайарз превращается в дом влиятельного человека, фасад освещен эркерными окнами, городской садик прирастает фруктовыми садами. Он купил прилегающие угодья у монахов и своих друзей – итальянских купцов, которые живут неподалеку. Он владеет окрестными землями, и в его сундуках: ларе орехового дерева с резными лавровыми венками и шкафе размером выше Чарльза Брэндона – купчие, разложенные в строгом порядке. Это его права и свободы, древние печати и подписи мертвых, заверенные городскими чиновниками, олдерменами и шерифами, чьи цепи переплавлены на монеты, а тела покоятся под землей. Здесь – на Броад-стрит, Свон-аллей и Лондон-уолл – трудились портные и скорняки. Две сестры унаследовали сад и до того, как их мужья продали его монахам, бродили под сенью плодовых деревьев, розовощекие в вечернем, пропитанном яблочным ароматом воздухе. Пальцы Изабеллы лежат на локте Маргариты. Сквозь сплетение ветвей они смотрят в небо, их ноги в деревянных башмаках приминают траву. Виноторговец продает склад, торговец свечами уступает лавку, склад и лавка отходят аббатству, минуют века – его палец прилежно водит по строчкам, – и ныне они принадлежат мне. Осторожно, не размажь имена, чернила еще не высохли: Саломон Ле Котилье и Фульке Сент-Эдмунд. Вот их печати: кролики, львы, цветы, святые мученики, птенцы в гнездах; городские гербы, подкова, дикобраз и сердце Христово. История пишется на коже: шкурах давно забитых овец и нерожденных ягнят; мертвые вырезают землю у нас из-под ног, и, когда он спускается по лестнице в Остин-фрайарз, ступени под ним расступаются, ниже другая лестница, видимая только мысленным взором, ступени ведут все глубже, туда, где римские легионы оставили свой прах в земле, стекло в глине и кости в реке. Все глубже и глубже ведут ступени, в недра его души, через Францию, Италию и Нидерланды, сквозь низины и зыбучие пески, топи и заливные луга, через поймы снов, покуда, потрясенный, он не пробуждается навстречу новому дню. Лязг наковальни, несущийся из кузни, сотрясает солнечный свет в комнате, где он, беспомощное дитя, лежит спеленатый, плохо соображающий со сна, словно впервые ощущая биение собственного сердца.
В Тауэре Томас Уайетт сидит за тем же столом, за которым он его оставил, в том же луче света, словно не сдвинулся с места со дня смерти Анны. Перед ним книга, и Уайетт не поднимает от нее глаз, не говоря о том, чтобы встать и приветствовать его, просто замечает вслух: – Вам понравится, господин секретарь. Новая. Он берет книгу. Стихи Петрарки, листает. Уайетт говорит: – В этом издании стихотворения расположены в порядке, который сообразуется с жизнью поэта. Они выстроены в связную историю. Или кажутся таковыми. Я всегда хотел иметь собственную историю, а вы? – Поднимает взгляд, голубые глаза блестят. – Выпустите меня. Я больше не выдержу и дня. – Как раз сегодня король решил, что именно при французском дворе Анна рассталась с девственностью. Я хочу, чтобы он утвердился в этом мнении и не вспоминал об англичанах, которые могли оказаться у нее под рукой. Здесь безопаснее. – Я вернусь в Кент. Не буду мозолить глаза. Уеду туда, куда скажете. – Вам бы только куда-нибудь ехать, – говорит он. – Не важно куда. Уайетт говорит: – Я подбивал итог жизни – в этом году десять лет, как я впервые отправился во Францию с посольством Чейни. Мне сказали, что у меня молодые ноги и крепкий желудок, поэтому я был гонцом, болтался по волнам туда-сюда. Обливался потом, загонял лошадей, а Вулси спрашивал: «Где вас носило, юноша? Цветочки собирали?» Милорду кардиналу не было равных в скорости. – Ему не было равных во всем. – Теперь Болейны и их присные освободили для вас место. Вы можете приблизить к королю своих людей. Гарри Норрис, я понимаю, почему вы хотели от него избавиться. Брертон, Джордж Болейн – ясно, в чем ваша выгода. Но Уэстон совсем мальчишка. А Марк хоть и носил шляпу с брошью, но, ручаюсь, не нашел в карманах и двадцати пенсов, чтобы заплатить за саван. – Бедный Марк, – говорит он. – Стоял на коленях перед Анной, а она смеялась над ним. Он видит телегу, груженную телами, дерюга, которой тела прикрыты, пропиталась кровью, мальчишеская рука вывалилась наружу, словно в поисках поддержки. Он говорит: – Я собирался сделать Марка свидетелем. Но он сам себя выдал. Я его не пытал. – Я вам верю. Но я такой один. – Дайте мне несколько дней. Возможно, неделю. Когда вы выйдете отсюда, получите сотню фунтов из казны. – Они мне не нужны. – Поверьте мне, они вам нужны. – Скажут, что это плата за то, что я предал друзей. – Господи Исусе! – Он шлепает книгой о стол. – Друзей? Когда это они проявляли к вам дружеское участие? Уэстон, этот вечно скалящийся паяц, неспособный удержать в штанах свой уд? Или хвастун Брертон. Уверяю вас, теперь его родня на севере будет вести себя осмотрительнее. Они думали, что законы не про них. Но те дни миновали. Прошла пора мелких властителей. Закон един для всех, и это королевский закон. – Осторожнее, – говорит Уайетт, – вы на грани того, чтобы объяснить свои мотивы. Или просто на грани, думает он. – Чтобы спасти вас, Том, мне пришлось трудиться до кровавого пота. Ваша жизнь висела на волоске. Уайетт поднимает глаза: – Я скажу вам, почему до сих пор жив. Не потому, что боюсь смерти или равнодушен к бесчестию. Есть женщина, которая носит мое дитя. Если бы не это, вам пришлось бы губить Анну как-то иначе. Он изумленно смотрит на Уайетта: – Кто она? – Он опускается на трехногий табурет. – Вы же понимаете, что рано или поздно признаетесь. – Внезапно до него доходит. – Только не говорите, что это дочь Эдварда Даррелла. Та, что последовала за Екатериной, когда король отправил ее в ссылку. Уайетт опускает голову. – А вы не пробовали влюбиться в женщину, которая принесет вам меньше хлопот? – Я такой, какой есть. Понимаю, это плохая отговорка. Он говорит: – Я помню Бесс Даррелл ребенком в Дорсете. Бывал там по делам. Ее отец хранил верность Екатерине, он был ее управляющим, но теперь, после его смерти, дочь ничто не связывает. – Думаете, ей было бы лучше в свите Анны Болейн? Справедливое замечание. – Лучше всего ей было бы в монастыре. Но я полагаю, вы поступили по-своему. – По-своему, – печально соглашается Уайетт. – Я люблю ее, люблю давно. Мысумели сохранить нашу любовь в тайне потому лишь, что она жила вдали от двора. Когда я навещал Екатерину в Кимболтоне, думает он, не Бесс ли маячила в тени? Он вспоминает старых испанок. Они не доверяли поварам и готовили Екатерине в ее собственной комнате, их платья пропитались запахом дыма и вареных овощей. Они оскорбляли его на своем языке, спрашивая друг друга вслух, волосатое ли у него тело, как у сатаны? Он видит, как входит в покои Екатерины, видит ее, закутанную в меха, в воздухе пахнет нездоровьем. Краем глаза замечает движение – кто-то выносит таз. Он подумал тогда, что девушка несет рвоту своей госпожи прикрытой, словно гостию. Это могла быть дочь Эдварда Даррелла, золотистые волосы под чепцом служанки. – Я убеждал ее, – говорит Уайетт, – что, если она не хочет оставить Екатерину, пусть хотя бы присягнет. Какая тебе разница, Бесс, что король провозгласил себя главой церкви? Я приводил примеры, искал доводы. Но она не позволила Генриху победить в споре. Она была с Екатериной, когда та умирала. – Деньги? – спрашивает он. – Ничего. То, что завещала ей Екатерина, так и не выплатили. Кроме меня, ее некому защитить. Она знает, что я женат, и с этим ничего не поделаешь. Она не может вернуться в семью с моим ребенком под сердцем. Я не могу отправить ее в Аллингтон – мой отец ее не примет. Не знаю, кто мог бы ее приютить, семья жены настроила против меня всех. Ничто не обрадует их сильнее, чем мои злоключения. Уайетт по возможности не называет жену по имени. Он прижил с ней сына, но одному Господу ведомо, как он умудрился. – Я бы выбрал Аллингтон. Поговорить с вашим отцом? – Он болен. Я не хочу его тревожить. Я страшусь его презрения. И я знаю, что заслужил его. Ему хочется возразить. Какое презрение? Отец любит вас и восхищается вами, но жизнь ожесточила его. В Тауэре Генри Уайетт сидел не в светлой, наполненной воздухом комнате, а в подвале, закованный в кандалы, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги его мучителей и скрежет их ключей. Палачам не нужны специальные приспособления. Боль могут причинять самые простые предметы. Тюремщики закидывали голову Уайетта назад и вгоняли ему в рот конский мундштук. Вливали в ноздри горчицу и уксус, и, почти захлебнувшись едкой смесью, он извергал ее наружу, проглатывая то, что не сумел выплюнуть. Узурпатор Ричард приходил посмотреть на его мучения, убеждая отступиться от Тюдора, беглеца без средств и без будущего. «Уайетт, почему ты так глуп? Чего ради служить нищему изгнаннику? Оступись от него, переходи на мою сторону, и я сумею тебя вознаградить». Он не отступился. И тогда его бросили на соломе в темноте. Зубы Уайетта были выбиты, внутренности он успел выблевать на грязный пол. Желудок был пуст, горло разъедала кислота. У него не было чистой воды, а когда он смог есть, ему не принесли хлеба. Уайетт говорит: – Эта забавная история о том, как кошка приносила еду моему отцу, я никогда в нее не верил, даже ребенком. Думал, ее придумали для детей глупее меня. А теперь я понимаю, что значит сидеть взаперти. Узники готовы поверить во что угодно. Кошка спасет нас. Томас Кромвель принесет ключ. – Интересно, готова ли Бесс присягнуть сейчас? Екатерина мертва и не обидится. – Я не спрашивал, – говорит Уайетт, – и не собираюсь. Не станет же Генрих ее преследовать? В тех, кто твердит ему, что он глава церкви и стоит ближе всех к Господу, нет недостатка. Мы надеемся, что, когда леди Мария вернется ко двору, она нам поможет. Она должна позаботиться о Бесс – девушке, которая осталась одна на белом свете и которая держала руку ее умирающей матери. – Несомненно, – говорит он. – Однако, пока вы пребывали тут в обществе Петрарки, мир не стоял на месте. Король требует клятвы от самой Марии. И если она будет упрямиться, то вскоре окажется здесь, рядом с вами. Уайетт отводит глаза: – Тогда вам придется мне помочь. На кону моя честь. Где была твоя честь, думает он, когда ты задирал юбки Бесс Даррелл? Он встает и отпихивает табурет ногой. Жалкое сиденье для королевского советника. – Я поговорю с Бесс. Где-нибудь для нее найдется местечко. Возьмите королевские деньги, Том. Они вам нужны. – Я подчинюсь вам, – говорит Уайетт, – как велел мне отец. Думаю, вам, как и всем людям, свойственно ошибаться, и одному Господу ведомо, не приведет ли ваш путь к пропасти. Впрочем, меня туда ведут все дороги. Я дошел до перекрестка, я бросил жребий, и теперь мне все едино – что трясина, что бездна, что лед. Поэтому я последую за вами, как гусенок за гусыней. Или Данте за Вергилием. Даже в преисподнюю. – Сомневаюсь, что заберусь этим летом дальше южного побережья. Или острова Уайт. Он поднимает книгу со стола. На переплете ни царапины, хотя кожа тонкая, как у женщины: отпечатано в Венеции, на титульном листе гравюра с изображением резвящихся путти, клеймо издателя в виде морского чудища. Представим, что кто-то сохранил обрывки Уайеттовых виршей – пастораль, нацарапанная на обороте счета от оружейника, стих, который женщина прижала к обнаженной груди. Если издатель возьмется напечатать жизнь этого поэта, у него выйдет история, способная погубить многих. Уайетт говорит: – Она меня не оставляет, Анна Болейн. Я вижу ее такой, как в последний раз, вижу здесь. Я тоже ее вижу, думает он, в шапочке с пером, с усталыми глазами. Он выходит: – Мартин! Кто додумался принести Уайетту этот жалкий табурет? – Он не жаловался, сэр. Джентльмен не жалуется. – А я лорд, и я жалуюсь. Как же я не заметил этот пакостный табурет, когда посещал узника в прошлый раз, думает он. Впрочем, я пришел сразу после того, как наблюдал фокус, проделанный палачом из Кале.
В Остин-фрайарз его ждет Грегори: – Приходили от Фицроя. Зовут вас к нему. – Я видел Уайетта, – говорит он. – И? – Грегори встревожен. – После расскажу. Негоже заставлять королевского сына ждать. – Рейф думает, Фицрой попросит вас сделать его королем. – Ш-ш-ш. – Не сейчас, – поправляется Грегори. – Это не измена говорить, что все люди смертны. – Нет, и все равно говорить такого не стоит. Это сгубило Анну Болейн, думает он. Она принимала Генриха за обычного мужчину. А он, как все правители, полубог-полузверь. Грегори говорит: – Пришел Ричард Рич. Сочиняет обращение к королю. Посмотрим? Я люблю смотреть, как он работает. Сэр Ричард роется в бумагах, как ворон в мусорной куче. Тюк-тюк-тюк – не клювом, а пером – крошит все, словно разбивает об камень раковины улиток. – Здравствуйте, господин спикер, – говорит Грегори. – Здравствуй, Сухарик, – рассеянно отвечает Рич. Красивый и праздный, его сын наблюдает, как трудится сэр Ричард. – Рич считает свою фамилию пророческой[115], – говорит Грегори. – Он умеет превращать чернила в деньги. У вас острый ум, не правда ли, Рикардо? – Находчивый, – говорит Рич. – Цепкий. На большее не претендую. Обязанность Рича – составление приветственного слова королю на открытии парламента. – Не хотите послушать, сэр? Я кое-что набросал. Он садится: – Вообразите, что я король. – Позвольте предложить вам другую шляпу, – говорит Грегори. Рич говорит: – С вашего позволения я готов. Начинает читать. Грегори ерзает: – Помните шляпу посла Шапюи? Мы еще хотели нахлобучить ее на снеговика? – Ш-ш-ш, – шикает он на сына. – Внимай господину спикеру. – Интересно, что с ней стало. Рич замолкает, хмурится: – Вам не нравится начало? – Думаю, королю оно понравится. – Далее я сравниваю его в мудрости с Соломоном… – С Соломоном вы точно не ошибетесь. – …с Самсоном в силе и Авессаломом в красоте. – Постойте, – говорит Грегори. – У Авессалома были роскошные волосы, иначе они не запутались бы в ветках. Волосы короля не столь… обильны. Он может решить, что вы издеваетесь. – Никто не заподозрит в подобном господина спикера, – говорит он твердо. – Тем не менее, – гнет свое Грегори, – Авессалом едва ли может служить примером достойного поведения. – Отложите вашу речь, – говорит он Ричу, – идемте со мной к Фицрою. Рич с радостью соглашается. На пороге их догоняет Кристоф: – Не уходите без меня, сэр. Вдруг на вас нападут. Теперь, когда вы стали лордом, вы не должны ходить без охраны. – Ты, что ли, охрана? – Рич смеется. – Пусть идет, он старается быть полезным. Со временем он научился ценить внешность Кристофа. Кто станет брать в расчет такого увальня? На улице он оправляет на Кристофе ливрею, стряхивает с нее пыль: – Ты должен с меня пыль отряхивать, не я с тебя. Это ты ходил сегодня ночью в моей спальне? – Ночью я сплю, – отвечает Кристоф. – Наверное, это был призрак. – Вряд ли, – говорит Рич. – Никогда не слышал, чтобы призраки расхаживали в июне. Похоже на правду. Дамы под вуалями – насколько он знает, они пока живы – пробыли с ним до зари, после чего растаяли в стене. Он помнит пятна на их платьях, темные мазки – там, где ткань впитала кровь королевы.
Король охотится, но его сын по совету врачей остался в Лондоне, в Сент-Джеймсском дворце, который недавно возвели на месте больницы. Место, затопленное рекой Тайберн, осушили и очистили, и теперь там красивый парк. Туда король с семейством удаляется, когда устает от многолюдного Уайтхолла. Двор заставлен лесами, и сразу за воротами их встречают крики рабочих. Слышно, как откалывают и отбивают камень. При виде прибывших важных господ шум стихает, но эхо от звона металла о камень еще длится. Каменщик спускается с лесов и стягивает шапку: – Мы сбиваем ГА-ГА, сэр. Инициалы Генриха и покойной королевы, переплетенные любовно, словно змеи. – Отдохните часок, пока я буду говорить с лордом Ричмондом. Каменщик выбивает из шапки пыль. – Никак нельзя, сэр. – Слушай, что тебе говорят, – вмешивается Кристоф. – Вам заплатят за это время, – убеждает он. – Десятнику нужен письменный приказ. Он пригибает голову каменщика рукой, теперь они стоят нос к носу. – Чего ради я должен строчить любовное письмо твоему десятнику? Назови его имя, и я запечатлею его инициалы в своем сердце. – (От каменщика разит потом.) – Кристоф, сбегай на кухню, пусть принесут работникам хлеба, эля и сыра. Скажи, Кромвель велел. Каменщик нахлобучивает шапку: – Все равно сейчас обед. Как увидите короля Гарри, скажите, что мы пьем за новую королеву.
За приемной, в маленьком, обитом деревянными панелями кабинете герцог Ричмонд на правах больного принимает их в длинном халате и ночном колпаке. – Ночью у меня была лихорадка. Доктор опять не разрешает мне выходить. На стекле капли дождя. – Сегодня не лучший день для прогулок, сэр. Оставайтесь дома. – Главное, это не потница, – решает подбодрить больного Рич. – Нет, – соглашается юноша. – Иначе я не стал бы вас звать, чтобы не заразить. Они кланяются, благодарные, что с их здоровьем считаются, хоть они и простолюдины. – И не чума, – добавляет Рич. – На расстоянии пятидесяти миль о чуме не слыхать. По крайней мере, пока. Он громко смеется: – Напомните, чтобы я не подпускал вас к своей постели, если мне случится захворать. Нашли чем приободрить его милость! Рич неловко извиняется перед герцогом. Однако он удивлен: что здесь смешного? Юноша говорит: – Рич, я благодарен за вашу заботу, но не могли бы вы оставить нас с господином секретарем наедине? Рич не намерен сдаваться: – Со всем почтением, милорд, у господина секретаря нет от меня тайн. Знал бы ты, как сильно ошибаешься, думает он. Рич мнется, кланяется, выходит. Фицрой говорит: – Стук прекратился. – Я подкупил их хлебом и сыром. – Как бы они ни спешили, мне все мало. Я хочу, чтобы она исчезла. Эта женщина. Стереть все ее следы. По крайней мере, все видимые следы. – Юноша бросает быстрый взгляд в окно, словно кто-то зовет его с улицы. – Кромвель, бывают медленные яды? Он вздрагивает: – Храни Господь вашу милость. – Я думал, возможно, когда вы жили в Италии… – Вы подозреваете, что покойная королева вас отравила? – Отец сказал мне, она бы отравила меня, если бы смогла. – Милорд ваш отец был… – он подыскивает слова, – был в потрясении от открывшихся ему деяний покойной королевы. – И они куда ужаснее тех, о которых нам сообщили, ведь правда? Милорд Суррей говорит, ему показали свидетельства, которые не огласили в суде. Все самое страшное от нас утаили. Я бы казнил ее еще более изощренным способом. Интересно, каким, думает он. Что бы вы сделали с ней, сэр? Отпилили бы голову ржавым кухонным тесаком? Сожгли на костре из зеленых веток? – И, кроме того, – говорит Ричмонд, – она была ведьмой. – Его беспокойные пальцы теребят завязки колпака. – Некоторые не верят, что ведьмы существуют, хотя про них упоминается у Фомы Аквинского. Я слышал, они могут заставить молоко скиснуть, а домашнюю скотину выкинуть. Могут наколдовать, чтобы лошадь споткнулась на дороге, всегда на одном и том же месте, и всадник получит увечья. Если всегда на одном и том же месте, думает он, то что мешает всаднику держаться крепче? – Ведьмы могут сделать так, чтобы у человека усохла рука. Разве узурпатор Ричард не страдал от этого недуга? – Так он утверждал, однако после болезни его рука была такая же, как прежде. – Иногда они вредят детям. Читают молитвы задом наперед. Или травят их ядом. Вы не думаете, что Анна Болейн отравила милорда кардинала? Неожиданно. – Нет, – честно отвечает он. – Его смерть не была вызвана естественными причинами. Я слышал от джентльменов, заслуживающих доверия. – Кто-нибудь мог подкупить его врачей. Он вспоминает доктора Агостино, взятого под стражу в Кэвуде, его ноги связали под брюхом лошади. Куда он делся потом? Прямиком в подземелье Норфолка. Нельзя же сказать юноше, что если в деле и был отравитель, то, скорее всего, это его тесть. Фицрой говорит: – Когда я был маленьким – я вам уже рассказывал, – кардинал принес мне куклу – моего двойника в платье, вышитом гербами Англии и Франции. Я не знаю, где она сейчас. – Я могу предпринять поиски, сэр. Возможно, она у госпожи вашей матери? Юноше такая мысль в голову не приходила. – Вряд ли. Это было после того, как мы расстались. У нее теперь другие дети, и едва ли она обо мне вспоминает. – Напротив, сэр. Вы причина ее возвышения, ее нынешнего почтенного замужества и высокого статуса. Уверяю, она каждый день поминает вас в своих молитвах. Первые шесть-семь лет мальчики живут с матерями, потом их без всяких разговоров отрывают от материнской юбки, стригут – и теперь уши постоянно мерзнут – и швыряют в угрюмый мир, где их за все ругают и наказывают, и дальше до самой женитьбы ни любви, ни ласки, кроме как за деньги. Разумеется, его воспитывали иначе. В пять лет он уже сидел в кузне, копался в куче железяк, в шесть болтался под ногами подмастерьев, привыкая к слепящим искрам, которые взмывали в воздух дугой, звенящей поверхности наковальни и неумолчному грохоту, застревавшему в голове, даже когда кузню закрывали на ночь. В семь, не научившись читать, но умея браниться, он бегал где придется, словно сын лудильщика. Ричмонд говорит: – Ребенком я не знал, что Вулси низкого рода. Он казался мне таким величественным. Увы, его кончина достойна жалости. Ему повезло не сгинуть на плахе. Мне говорили, его сердце разбилось в дороге, и это его убило. Все возможно. Тем, кто не верит, что сердце может разбиться, повезло прожить жизнь без бед. Ричмонд привстает в кресле: – Как вы думаете, королева Джейн родит сына? – Всей Англии известно, что она из рода, который славится плодовитостью. – Но при дворе утверждают, что король не может удовлетворить женщину и не способен… – Я советую вам, сэр, – я настоятельно вам советую – сменить тему. Но Ричмонд – сын короля и несется вперед на всех парусах. – Мой брат Суррей сказал, – герцог имеет в виду своего шурина, – что парламент поступил дурно, приняв билль о престолонаследии. Они предоставили королю право выбирать наследника, а должны были признать мое первенство. Слава богу, у юнца хватило мозгов выставить Рича. Услышь он такое, все выложил бы Генриху. – Я хочу быть королем, – продолжает Ричмонд. – Я готов. Суррей говорит, отец должен это признать. Если сегодня он умрет, я могу не бояться Элизы, она всего лишь дочь конкубины, если не подкидыш, найденный в канаве. Никто во всей Англии не поддержит ее притязания. Он кивает, в целом все так и есть. – А что до леди Марии, она такая же незаконнорожденная, как и я, но я англичанин, а она наполовину испанка. К тому же я мужчина. Говорят, она отказывается признать моего отца главой церкви. А значит, она изменница. – Мария принесет присягу, – говорит он. – Она может произнести слова присяги. Может подписать документ, если вы ее заставите. Но милорд отец видит ее насквозь. Мария недостойна трона, и она его не получит. Когда он в последний раз беседовал с Ричмондом, тот был доволен своим положением. Кто стоит за этими нечестивыми притязаниями? Его тесть Норфолк? Если Норфолк что-то замышляет, ему хватит ума держать свои мысли при себе. Нет, это сын Норфолка, недалекий своевольный юнец, подталкивающий своего друга к трону, который еще не освободился. Он говорит: – Если милорд Суррей советовал… – Я сам себе голова, – перебивает юноша. – Суррей мне друг и дает хорошие советы, но, когда я стану королем, я сам решу, как поступать, и никому не позволю морочить мне голову, как моему отцу. Я не позволю женщинам собой помыкать. Он склоняет голову: – Милорд, я не в силах изменить порядок престолонаследования. Нововведения выражают волю короля. Не вижу, чем я могу помочь. – Придумайте что-нибудь. Все говорят, что вы верховодите в парламенте. А когда я стану королем, я вас награжу. Когда ты станешь королем? – Я не доживу. – Доживете, – говорит Ричмонд. – С тех пор как в январе отец свалился с лошади, его нога воспалена. Мне говорили, что старая рана открылась и там свищ до самой кости. – Если это так, то он переносит боль с удивительной стойкостью. – Если это так, то рана не останется в чистоте. Она загноится, и он умрет. Измена в каждом его выдохе, но Ричмонд себя не слышит. Он чувствует напряжение воли в теле мальчика, становящегося мужчиной. Прядь волос, которая выбилась из-под колпака, огненно-рыжая, цвет Плантагенетов. Его прадед Эдуард признал бы его. Дом Йорков поддержал бы его притязания. Если бы исчезнувшие в Тауэре сыновья короля Эдуарда были живы, они походили бы на Ричмонда с его блеском в глазах, словно отсвет на лезвии меча, с его тонкой кожей, которая то бледнеет, то краснеет, выдавая чувства, которые обуревают юношу. Ричмонд говорит: – Будь милорд кардинал жив, он посадил бы меня на трон. Он предлагал провозгласить меня королем Ирландии, разве нет? В нынешних обстоятельствах он непременно сделал бы меня королем Англии. Он отворачивается: – Вам следует отдохнуть, милорд, и ваше недомогание пройдет. Львы иногда загрызают своих детенышей. Стоит ли этому удивляться, думает он. – Сделайте это, – говорит Ричмонд ему вслед.
Он в немом изумлении, словно получил удар из воздуха. Лучше держаться подальше от монархов. Они думают об убийстве с утра до вечера. А еще и об отцеубийстве, словно в этом году было мало сюрпризов. Рич, прислонившись к стене, сплетничает с Фрэнсисом Брайаном. При виде него они выпрямляются. Украшенная драгоценными камнями повязка на глазу Брайана хитро подмигивает. – Вам привет из Франции. Епископ Гардинер шлет вам свою любовь и поцелуи. Я здесь только до ближайшего отлива. Привезти депеши. Пошептаться с королем. Вас проведать. Гардинер не верит, что теперь вы барон. Говорит, когда-нибудь удача от вас отвернется. – Правда? Поцелуйте его от меня. – Непременно, – говорит Брайан. – Он удивляется, чего вы так носитесь с Екатерининой дочкой. Убежден, что вы покрываете Марию и это вас погубит. Он сказал: «Для дочери Генриха отрицать, что ее отец глава церкви, такая же великая измена, как отрицать, что он король». И добавил: «Поверьте мне, Фрэнсис, Кромвель зайдет слишком далеко и это его погубит». – Спасибо, – говорит он. – Что бы я без вас делал, Фрэнсис. Рич смущен. Государственный секретарь шутит? Ричу невдомек. – Чего хотел Фицрой, сэр? Полагаю, он в долгах? – спрашивает Рич. – Сколько? – Признанного мота Брайана радуют успехи многообещающих юнцов. – Он говорил о кардинале. Думаю, у него приступ меланхолии. Рич спрашивает: – Если вы беспокоитесь о его здоровье, не стоит ли сообщить королю? – У него лучшие лекари. К тому же король не придет его навестить, вы же знаете, как он боится заразы. – Но король навестил вас, сэр, когда вы лежали с лихорадкой. – Не раньше, чем я пошел на поправку. К тому же у меня была итальянская лихорадка. Настоящая, пробирающая до кости трехдневная малярия, не чета простому ознобу, поражающему тех, кто не бывал южнее кентских болот. – Особая честь, – замечает Рич с завистью. Лихорадка вернется, думает он. И скорее всего, Генрих снова придет его навестить. Ему не верится, что король скоро умрет, хотя человек, на которого ополчится его единственный сын, все равно что покойник. Отец любит сына, но сын не любит отца. Сын хочет, чтобы отец умер, хочет занять его место. Так заведено. Так должно быть. Он думает о кардинале в день ареста, люди Гарри Перси врываются в его покои, рука, прижатая к ребрам. «Мне больно. Холод словно точильный камень в груди». Если сердце кардинала разбилось, то кто в этом виноват? Сам король, кто еще? – Вернуть рабочих? – спрашивает Рич. Фрэнсис говорит: – Мне сказали, что на потолочных балках Хэмптон-корта затесался один Екатеринин резной гранат. Сам я не могу разглядеть. Лекари утверждают, когда теряешь один глаз, второй начинает видеть хуже. Скоро я ослепну и стану просить подаяние на большой дороге, а добрый епископ Гардинер будет водить меня за руку.
Рейф Сэдлер и Томас Ризли возвращаются от Марии из Хансдона без подписанного документа, без присяги. Ризли говорит: – Зачем вы нас послали, сэр? Вы знали заранее, что мы ничего не добьемся. – Как она выглядит? – Болезненно, – отвечает Рейф. – Король винит во всем тех, кто дает ей плохие советы, – говорит он. – Если честно, – заявляет Ризли, – я не думаю, что виноваты те, кто ей советует. Всему виной ее собственное упрямство. – Какая разница, – небрежно замечает он. Ризли говорит: – Сэр, не посылайте меня туда больше. – Он вспыхивает и выпаливает со страстью: – Если мастер Рейф не хочет рассказывать, я расскажу. Дом полон людей Николаса Кэрью, слуг семьи Куртенэ, слуг в ливреях Монтегю. Никто не разрешал им там находиться, и они бахвалятся, что, мол, Кромвель теперь ничто и им все позволено. Мария возвращается ко двору, власть папы будет восстановлена, и в мире воцарится порядок. – Они называют ее принцессой, – вставляет Рейф, – не заботясь, что их могут услышать. – Мы обратились к ней «леди Мария», – говорит Зовите-меня. – Она разозлилась. Думала, что мы назовем ее принцессой и преклоним колени. Когда мы передавали ей ваши пожелания, она прервала нас: «Расскажите мне, как она умерла». Она без конца проклинала Анну Болейн. Мы сказали, что она ушла с миром, а Рейф назвал ее… – Образцом христианского смирения. – Рейф отводит взгляд, удивленный собственными словами: его даже не было на казни. – Но она ничего не хотела слышать. Называла Анну «тварью», жалела, что ее не сожгли живьем. Спрашивала, какую молитву она читала, побледнела ли, задрожала… Я не предполагал, что девушка может быть такой жестокой, что одна женщина может так ненавидеть другую. Меня чуть не стошнило, клянусь. У нее черное сердце, и она этим кичится. Рейф смотрит на Зовите-меня: – Ш-ш-ш. Это было нелегко, но все уже позади. К тому же Мария не так тверда в своем решении, как считают ее люди. Она спросила: «Как, государственный секретарь не приехал?» Будто ждала именно вас. Чтобы принести присягу и никто ее в этом не обвинил. Она всем скажет, что вы ее заставили, что вы ей угрожали. Рим и Европа ей поверят. – Я предпочел бы, чтобы она подчинилась добровольно. Что бы кто ни говорил. – Подчинилась? – переспрашивает Ризли. – Я в жизни не видел никого, менее склонного подчиняться или уступать. О чем она думает по ночам? Изобретает новые пытки? Сэр, вы знаете, меня сложно выбить из колеи. Я многое повидал. Я был в Тауэре, когда вы подвесили монаха за руки… – Никого я не подвешивал, – перебивает он. – …и даже тогда я не дрогнул. Я понимал, что его вопли – это вопли гнусного предателя, который еще надеется себя спасти… – Никого я не подвешивал, – повторяет он. – Рейф, скажи ему. – Вы перепутали, – спокойно говорит Рейф. – Говорили о том, чтобы его подвесить, но на самом деле все это произошло только в вашем воображении. – В воображении монаха, – говорит он. – В этом все дело. Я заставил монаха это вообразить. – Так заставьте Марию, – говорит Зовите-меня. – Посмотрим, станет ли ей так же худо от того, что она вообразит, как мне от нее. Мария думает, ее кузен-император прискачет за море на белом коне и усадит ее перед собой в седло. Скажите ей, что никто за ней не прискачет, никто за нее не заступится, а отец силой заставит ее подчиниться своей воле.
Июнь. Герцог Ричмондский шагает в процессии вместе с палатой лордов. Вылитый отец, судачат в толпе, – мощные мышцы под душной тяжелой мантией. На раскрасневшемся лице предвкушение, словно в теплом ветерке юноша предчувствует будущее. Кажется, Генриху пришлась по душе приветственная речь Ричарда Рича. Королю нравятся сравнения: царь Соломон, царь Давид. И он не помнит слов Авессалома: «Нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего». Не только в Хансдоне верят, что со сменой королевы волна повернет вспять и Англия вернется к Риму. На это он, лорд Кромвель, дает обоснованный ответ: «Акт об аннулировании полномочий епископа Римского». Заседает не только парламент, епископы собираются на конвокацию. Они суетятся и ворчат – старые, новые, – «мои епископы», как называла их Анна. До вечера спорят о таинствах, их именовании и количестве, какие обряды приемлемы, какие признать идолопоклонством, кому доверить чтение проповедей и на каком языке. Он, лорд Кромвель, возвышается над ними, викарий короля по делам церкви, а ведь когда-то, во времена архиепископа Мортона, был последним из мальчишек, чистивших овощи на кухне Ламбетского дворца. Грегори восклицает: – Подумать только, мой отец над всеми епископами! – Я не над ними, я просто… – хочет поправить он сына, но осекается. – А ведь и вправду над ними. Всю неделю, прошедшую с казни королевы, архиепископ не высовывал носа. Сейчас, припертый к стене в задней комнате, Кранмер делает вид, будто углубился в бумаги, испещренные пометками. – Епископ Тунстолл почеркал мой текст. А теперь, – Кранмер берет перо, – я почеркаю его текст. – И правильно! – Хью Латимер похлопывает архиепископа по плечу. – Кромвель, как Ричарду Сэмпсону удалось стать епископом? От него так разит папизмом, что, мне кажется, передо мной сам епископ Римский. Кранмер говорит: – Он ускорил аннуляцию королевского брака, и это его награда. Мне хотелось бы, чтобы король… я предпочел бы, чтобы король выдержал некий период времени для раздумий между двумя… прежде чем снова… – Он запинается, отодвигает бумаги, трет уголки глаз. – Я этого не вынесу. – Анна была нашей доброй госпожой, – говорит Хью. – Так мы думали. Нас ввели в заблуждение. – Я принял ее последнюю исповедь, – говорит Кранмер. – Кстати, да, – говорит он. – И что? – Кромвель, вы же не думаете, что я поведаю вам ее слова? – Нет, но я надеялся прочесть их по вашему лицу. Кранмер отворачивается. Латимер говорит: – Исповедь не таинство. Покажите мне, где Христос ее установил. Кранмер говорит: – Короля вы не убедите. Генрих любит исповедоваться и получать отпущение. Он всегда искренне раскаивается и намерен не повторять грех. Возможно, в данном случае. Искушение отрубить жене голову возникает не каждый год. – Томас… – Архиепископ запинается, на лице внутренняя борьба. – Томас… поместье в Уимблдоне… Хью с удивлением смотрит на Кранмера. Меньше всего он ожидал от архиепископа этих слов. – Поскольку поместье отходит к вам вместе с титулом, – говорит Кранмер, – полагаю, вы захотите его забрать. Сейчас оно принадлежит мне, точнее, епархии… – А также дом в Мортлейке, – говорит он. – Если не возражаете. Король вам возместит. Хью Латимер говорит: – Не спорьте, Кранмер. Вы должны Кромвелю деньги. Епископы задумали изложить принципы единой веры, чтобы унять злопыхателей и положить конец заблуждениям глупцов, а также угодить немецким богословам, с которыми хотят достичь согласия, одновременно успокоив короля, который не доверяет новизне, и превыше всего немецкой. Они намерены выпустить официальный акт, даже если придется заседать до Пасхи. Учитывая разногласия, которые они намерены примирить, и количество сторон, которые хотят ублажить, едва ли им удастся это раньше, чем солнце погаснет, а земля остынет. Нам бы не помешал совет мертвецов, говорит Хью Латимер. Если бы с нами был отец Томас Билни. Он учил нас пути и истине, он открыл наши ожиревшие сердца. Но Маленький Билни сожжен в Нориче, в лоллардском рву, а его кости выброшены собакам. И когда ты об этом вспоминаешь, то слышишь, как хихикает Томас Мор. Именно Латимер, епископ Вустерский, открывает собрание проповедью. «Прежде всего определимся с тремя понятиями: что есть благоразумие, что есть век и что есть свет. И кто есть сыны века, и кто – сыны света». От Латимера тоже несет гарью. Когда он идет, воздух вокруг него искрит.
Король, памятуя о том, как его дочь заботит собственный статус, велит герцогу Норфолкскому ехать в Хансдон и добиться ее подчинения. После молодого Ричмонда Норфолк – самый знатный вельможа в королевстве. Норфолк заходит к нему пожаловаться на дурацкое поручение. Впрочем, по нынешним временам герцог рад любому поручению. Норфолк признает, что после казни племянницы не знал, куда бежать. И пусть он оправдал ожидания Генриха на суде, герцог уверен, что король отправит его в изгнание и отберет титул. Сейчас Норфолк в нетерпении меряет шагами комнату, бренча при ходьбе. На шее тяжелая золотая цепь – символы Говардов перемежаются тюдоровскими розами. Под рубашкой, в резной ладанке, святые реликвии, пучки поблекших волос и осколки костей. На правой руке толстый золотой браслет, украшенный сероватым алмазом, словно выбитым зубом. – Я заявил Генриху, – возмущается герцог, – что мои манеры оставляют желать лучшего, и я не привык сюсюкать с юными кокетками. Если бы Мария была моей дочерью… но что толку об этом говорить? – Сдерживая себя, герцог сжимает кулак ладонью другой руки. Герцогиня Норфолкская рассказывала ему, что когда Томас Говард захотел взять ее в жены – не важно, что в те времена у нее уже был жених, – то вломился в дом ее отца и пригрозил, что не оставит от него камня на камне. Девушке пришлось подчиниться, о чем она очень скоро пожалела. Возможно, так будет и с Марией? Герцог не умолкает, предвидя отпор: – …и тогда она заявит мне… а я ей в ответ… скажу, что все королевство считает ее упрямство и своенравие достойными самого сурового порицания, но король, известный милосердием и ангельским характером… стоит ли говорить «ангельским», Кромвель? – Лучше «отеческим». Смысл тот же, но без ненужного преувеличения. – Хорошо, – неуверенно соглашается герцог. – Так вот, известный милосердным, отеческим и так далее и тому подобное… характером, король полагает, что, будучи женщиной, существом слабым и изменчивым, она поддалась дурному влиянию, но тогда ей придется назвать тех, кто потворствует ее упрямству, и, хочет она того или нет, признать власть короля и подчиниться его законам, и это меньшее, Кромвель, из того, что король вправе требовать от подданных. А затем ей придется отказаться от попыток искать защиты в Риме? Так? Он кивает – все споры следует решать дома, в Англии. Юноша рядом с ним кланяется. Томас Говард меньшой. Ах да, вспоминает он, мне снились ваши стихи: слезы-грезы, борьба-судьба, очи-ночи. Старший Томас не рад единокровному брату: – Что заставило тебя вылезти из-под девкиной юбки, юнец? – Сэр… милорд… – Праздное поколение. – Норфолк поджимает губы. – Им бы все в игрушки играть. – А что ваша милость предложит взамен? – спрашивает юноша. – Войну? Он подавляет улыбку. – Правдивый Том, – говорит он. Юноша подскакивает: – Что? – Разве не так вы себя именуете? В ваших виршах. «Навеки ваш, Правдивый Том». – Он пожимает плечами. – Дамы обмениваются вашими стихами. Герцог смеется, впрочем, смех больше похож на рычание. – Мастер Кромвель знает, что замышляют дамы. От него ничего не утаишь. – Обмениваться стихами не преступление, – замечает он. – Даже плохими. Правдивый Том краснеет. – Вас требует король, сэр. – А меня? – спрашивает герцог. – Нет, ваша милость, только лорда Кромвеля. – Молодой человек отворачивается от герцога. – Если позволите, король ударил шута Секстона. Тот неудачно сострил и теперь ходит с разбитой головой. Видит Бог, бедняга выбрал неудачный момент. Его величество получил письмо от кузена и начал вопить так, словно обжегся, а само письмо пришло прямиком из ада и подписано сатаной. И я не знаю – мы не знаем, – от какого кузена письмо. Их слишком много. Слишком много кузенов. И мало кто из них верен и честен. – Дайте пройти, – говорит он. – Я разберусь. Хорошего дня, милорд Норфолк. – И добавляет через плечо Правдивому Тому: – Поль его имя. Реджинальд Поль. Сын леди Солсбери. Он шагает к королевским покоям, явственно ощущая, как пружинят подошвы башмаков. Говарды взволнованы – меньшой Томас схватил старшего за рукав и что-то шепчет. Чем бы это ни было, пусть себе секретничают. В караульной, раскинув ноги, сидит Секстон, словно только что свалился на пол. Рана пустяковая, но шут держится за голову и скулит: – Моя бедная головушка дала течь. Он нависает над шутом: – Что ты здесь делаешь, Заплатка? Шут поднимает голову: – А ты? Никак заришься на мой хлеб? – Я решил, ты удрал. Говорили, в прошлом году король тебя прогнал. – И прогнал, и побил, потому что я назвал его женщину бесстыжей. Из милосердия меня подобрал Николас Кэрью и держал у себя, пока мои шутки вновь не поднялись в цене. А они в цене, не так ли? Теперь весь мир знает правду про Нэн Буллен. Дешевка каких поискать. Такая ляжет с прокаженным под забором. Он говорит: – У короля теперь есть Уилл Сомер. Ты ему больше не нужен. – Сомер, Сомер, только и слышишь про Сомера. А как же Секстон? Гоните в шею, его время прошло. Все говорят, Томас Кромвель, вот истинный благодетель для тех, кто лишился хозяина, – пригрел кардинальскую челядь. Да только не Заплатку, Заплатку вышвырнул в канаву. – Моя воля, вышвырнул бы тебя в навозную кучу. Ты высмеивал кардинала, от которого видел только хорошее. – Удивительно, почему я до сих пор жив? – говорит Секстон. – Четверо актеров, тащивших кардинала в ад, казнены. Как и Смитон, чья вина лишь в том, что сделал кукле старого Тома Вулси голову из свиного пузыря, пинал ее да горланил песенку, вытягивая колбасные кишки из кукольного нутра. Их всех казнили, как ты пожелал, и я слышал, ты похоронил их не с теми головами, и теперь, когда мертвые восстанут из могил, Смитон будет Джорджем Болейном, а пустая башка Уэстона достанется Доброму Норрису. Нам есть чего стыдиться, думает он, но не этого. – Головы рубить не шутка, неудивительно, что тебе не до Заплатки. – Шут задирает клетчатый джеркин и почесывается. – Лорд Том из Патни. Ты пустил шутов по миру. Сомеру не позавидуешь. Кому нынче нужны остроты, когда шутки расхаживают по дворцу, разглагольствуют обо всем на свете и называют себя баронским титулом? Ему приходится перешагнуть через ноги шута. – Запахнись и убирайся вон, Секстон. И чтоб я больше тебя здесь не видел.
Когда он предстает перед Генрихом, король любезно обращается к гудящей толпе: – Не могли бы вы оставить меня наедине с лордом – хранителем малой печати? Замешательство – Генрих впервые именует его новым титулом. Шарканье, топот, поклоны. Придворные, сметенные королевским взглядом, недостаточно проворны. На столе лежит толстый фолиант. Генрих положил сверху руку, словно запрещая открыть книгу: – Когда-то я мог рассчитывать на ваш совет… – Король запинается, смотрит в пустоту перед собой. – Поль. Из Италии пришла его книга. Мой подданный, мой вассал, Реджинальд Поль. Мой кузен, моя родня. Как он может спать по ночам? Единственное, чего я не в силах вынести, – это неблагодарности и вероломства. Пока король перечисляет, чего он не в силах вынести, глаза его советника не отрываются от книги. Он знал, что Поль ее пишет. Его предупреждали. Его удивляет лишь ее толщина. Не меньше трехсот страниц, и каждая пропитана изменой. Он знает, что внутри, однако это не остановит короля от пересказа – это история Полей, их обид и зависти. Бесконечная резня до Тюдоров, когда лучшие семьи Англии кромсали друг друга на полях сражений, казнили на рыночных площадях и развешивали части тел на городских воротах. События, которые привели к тому, что этим летним днем манускрипт оказался перед Генрихом на столе, начались задолго до нашего рождения: до того, как Генрих Тюдор высадился в Милфордской гавани и прошел через Уэльс под бело-зеленым знаменем с красным драконом. Это знамя победитель возложил на алтарь собора Святого Павла. Он пришел с войском, одетым в лохмотья, с молитвой на устах: пришел ради спасения Англии, с метлой, чтобы вымести обугленные кости, и тряпкой, чтобы стереть кровь. Что осталось от старого правления после победы, после того как Ричарда Плантагенета сбросили в могилу нагишом? Сыновья старого короля Эдуарда пропали в Тауэре. Остались бастарды и дочери, а еще племянник не старше десяти лет от роду. Предъявив его народу, Тюдор убрал мальчика с глаз долой. Однако он никогда не отказывал ему в праве именоваться графом Уориком, в отличие от права угрожать новому правлению. Генрих Тюдор славился плодовитостью, и теперь его детям надлежало продолжить династию. Невесту для старшего сына Артура искали среди европейских принцесс. Король и королева Испании предложили одну из своих дочерей, но с оговоркой. Они не желали отпускать Каталину в чужую страну, пока положение ее правителя оставалось шатким. Всю жизнь Генриха Тюдора преследовали мертвецы, претендующие на его корону. И хотя юный Уорик пребывал в заточении, это не останавливало самозванцев, собиравших армии под его знаменами. Поэтому претендент должен был умереть, но не заколот или задушен в темном углу – ему предстояло окончить дни при свете дня на Тауэрском холме от меча палача. Был раскрыт заговор – попытка побега. Кто в это поверит? Юноша, с детства лишенный свободы, был чужд честолюбивых замыслов. Его не учили рыцарским доблестям, он никогда не держал в руках меча. Все равно что убить калеку, но Генрих Тюдор пошел на это, чтобы не упустить испанскую принцессу. Со смертью Уорика его сестра Маргарет оказалась во власти короля, и он обеспечил ее будущее, отдав в жены своему стороннику. – Моя бабка выдала ее за Ричарда Поля, – говорит король. – Скромный, но достойный брак. Я вернул ей положение. Я почитал ее семейство за древнюю кровь и сожалел о его упадке. Я сделал ее графиней Солсбери. Что еще я мог ей дать? Вернуть брата? Я не умею воскрешать мертвых. Испанская принцесса Каталина знала, что стоит за ее браком. Всю жизнь она пыталась примириться с Маргарет Поль. Доверила ей стать воспитательницей Марии, своей единственной дочери. – Однако, как мне рассказывали, существовало проклятие. Не упоминайте о проклятии, думает он. Упоминание только увеличивает его силу. – Свадьба состоялась, и спустя несколько недель Артур умер. Что дальше, вы знаете… Он думает о недоношенных детях Екатерины, слепых личиках и недоразвитых ручках, соединенных в молитвенном жесте. – Не я погубил Уорика, – говорит Генрих. – И даже не мой отец. Виноваты родные Екатерины. Не понимаю, почему отец позволил испанцам запустить свои кровавые руки в дела королевства. Сколько мне еще страдать, чтобы успокоить совесть Кастилии? Что еще я могу дать семье Уорика? Мне они обязаны положением и богатством. Другие короли держали бы их в черном теле. Это правда. Они играют на вашем чувстве стыда, думает он. – Кто способен понять Маргарет Поль? Только не я. Генрих говорит: – Ее сын Монтегю никогда меня не любил. Честно говоря, я отвечал ему тем же. Его брат Джеффри не заслуживает доверия. Но в Реджинальда я верил – добрая душа, единственный, кто выглядел достойным моих забот, – по крайней мере, так меня уверяли. Я оплатил его учение, его путешествие в Италию. Я доверил ему отправиться в Сорбонну, представлять меня в деле об аннулировании брака. Первом аннулировании. – Я слышал, он справился блестяще. – Я наградил бы его. Сделал бы архиепископом Йоркским. Вы знаете, он не рукоположен в священники, но ничего не мешало ему принять сан, а после Вулси как раз оставалась свободная епархия… но он отказался. Сказал, что слишком молод, что недостоин. Я тогда еще должен был догадаться, что он задумал. – Король ударяет кулаком по книге. – Все, о чем я просил, – одно слово из Италии, заявление, ученое суждение, нечто, что я мог предъявить миру как свидетельство, что его семья на моей стороне. Я сказал ему, мне не нужна книга, у меня их достаточно. Одно слово, объясняющее, как и почему я могу быть главой собственной церкви. И я ждал. Долго. А он все обещал и обещал. И всегда находилось оправдание. Жара, холод, внезапная болезнь, плохие дороги, ненадежные гонцы, необходимость поехать туда и сюда, свериться с редкой книгой или спросить совета ученого богослова. Что ж, теперь все позади. Вот она, эта книга. – Король выглядит изможденным, словно сам еенаписал. – Стоило ждать так долго, ибо пелена упала с моих глаз. Он тянется к манускрипту, но король прикрывает его рукой: – Я избавлю вас от хлопот. Здесь есть предисловие, адресованное мне, холодное и оскорбительное по тону. И каждая следующая страница обиднее предыдущей. Я опаснее для христиан, чем магометане. Реджинальд называет меня Нероном и диким зверем. Советует императору Карлу вторгнуться в Англию. Утверждает, что с самого начала своего царствования я разорял подданных и бесчестил знать. И теперь они готовы взбунтоваться, лорды и простолюдины, и он убеждает их восстать и покончить со мной. – Ваше величество должны были заметить… – А еще я проклят, – говорит Генрих. – И ад разверзся подо мной. Так он утверждает. – …ваше величество не могли не заметить, что бунт, к которому он призывает, не только может быть направлен против кого-то, но и сыграть кому-то на руку… – Разумеется. Вы видите, как все взаимосвязано? Поль убеждает Европу выступить против меня в то время, как моя собственная дочь отказывается мне подчиниться. Скажите, почему Реджинальд до сих пор не принял сан? Раз уж его так влечет духовная стезя. Я скажу вам почему. Потому что семья задумала женить его на моей дочери. Ловко придумано, если им удастся это провернуть. В жилах Марии Тюдор течет самая благородная испанская кровь. Соединить ее с кровью Плантагенетов – в этом и состоит их замысел. Поли с их кликой мечтают о новой Англии – на самом деле об Англии старой, – которой они будут править. – Я думаю, – говорит он, – что леди Мария дорожит вашим расположением больше, чем благосклонностью любого жениха. Даже если его послали Небеса. – Это вы так говорите. Вы вечно ее выгораживаете. – Она женщина, она молода. Поверьте, ваше величество, она поймет, в чем состоит ее долг, и подчинится. Эти люди, которые именуют себя ее сторонниками, используют ее. Не верю, что она способна разгадать их интриги. Король говорит: – Я двадцать лет прожил с ее матерью, и поверьте, она была способна разгадать любые интриги. Вы сами сказали когда-то, что, родись Екатерина мужчиной, из нее вышел бы герой, подобный Александру. Однажды он сказал Кранмеру, что сны королей не похожи на сны обычных людей. Во сне к королям приходят их предки, чтобы поговорить о войне, мести, законе и власти. Мертвые короли спрашивают: «Ты знаешь нас, Генрих? Мы тебя знаем». Есть места, где кипели древние битвы, и, когда ветер всегда дует в определенную сторону, луна убывает, а ночь темна, там можно расслышать топот копыт, скрип упряжи и вопли раненых. А если подкрасться ближе – вообрази себя духом, способным проскользнуть между травинками, – то услышишь хрипы и молитвы умирающих. И все они, души Англии, взывают ко мне, говорит ему король, ко мне и к каждому королю, ибо король несет бремя преступлений других королей, и былое по-прежнему вопиет о справедливости. – Вы считаете меня суеверным, – говорит Генрих. – Вам не понять. Как бы ни оскорбляли меня Поли, я связан с ними нашей общей историей. Путы истории можно ослабить, думает он. – Если было преступление, это старое преступление. Если был грех, он давно утратил новизну. – Вам не понять моих забот. Да и откуда? И правда, думает он, откуда? Духи не преследуют Кромвелей. Уолтер не встает по ночам – в руке кружка с элем, чекан в поясе, – чтобы бражничать у причалов, показывая Патни свои сбитые кулаки. У меня нет истории, только прошлое. – Но если я не в силах понять вас, что я могу для вас сделать, сэр? – Ступайте к Маргарет Поль. Она в Лондоне. Выясните, знает ли она о книге своего жалкого сына. Знает ли его брат. – Уверен, они станут отрицать. – Я спрашиваю себя: что вам известно? – Глаза короля останавливаются на нем. – Вы не так потрясены, как я. – Вспомните, ваше величество, за что в былые времена меня приблизил милорд кардинал. Не за мои познания в законах, законников вокруг было пруд пруди. А за мои связи в Италии. Я ценю моих итальянских друзей. Пишу им письма, а они пишут мне. – Если вы знали, почему не остановили его? – Я мог помешать Реджинальду отослать книгу вашему величеству. Но он был полон решимости изложить свои мысли. Помешать ему отослать книгу папе я не в силах. Генрих отпихивает книгу от себя: – Он клянется, что существует единственная копия, и она перед вами. Но почему я должен ему верить? Через два месяца книгу напечатают, и ее будут читать все, кому не лень. Возможно, именно сейчас ее читают папа и император. – Думаю, Карла он должен был предупредить. Если ему предстоит возглавить вторжение, к которому призывает Поль. – Они никогда не сойдут на английский берег, – говорит Генрих. – Я съем их живьем. Все отступает, боль, сомнения и затаенная ревность, терзавшие Генриха последний час. Он ударяет по книге кулаком, и кровожадный огонек в глазах не дает забыть: псы едят псов, но никому не под силу поглотить Англию. Король встает с кресла, и ты думаешь, сейчас он велит принести Эскалибур. Но дни великанов и героев миновали. Он говорит: – Людей в ливреях Полей видели в Хансдоне с посланиями для леди Марии, хотя мы не можем утверждать, что она их прочла. И Куртенэ тоже там, хотя леди Марии запрещено принимать… – Куртенэ? Лорд Эксетерский собственной персоной? – Король потрясен. – Нет, его жена. Думаю, леди Мария не могла не впустить ее в дом. Вы же знаете Гертруду Куртенэ. – Ничего, видит Бог, я найду на нее управу. Она исчерпала мое терпение. Скажите Эксетеру, что он больше не состоит в совете. Мужчина, неспособный управиться с женой, не может править государством. – Генрих хмурится. Перед его мысленным взором мелькают лица. – Что скажете насчет Рича? Он предпочел бы уменьшить число членов совета, но еще один советник, умеющий считать, не помешает. – Отлично. Можете ему сказать. Ричард Рич в королевском совете! Он видит Томаса Мора, который вертится в могиле, словно цыпленок на вертеле. Словно одержимый тем же видением, Генрих показывает на фолиант: – Поль утверждает, что я погубил Мора и Фишера. Пишет, что не смел меня обвинять, его останавливала верность престолу, но, когда пришла весть об их смерти, он воспринял ее как божественное послание. – Ему следовало счесть ее посланием от меня. Генрих отходит к окну и говорит: – Верните Реджинальда. – Фигура короля смутно отражается в оконных стеклах, разделенных свинцовым переплетом. Кажется, будто платье давит ему на плечи и он не в силах возвысить голос, упавший до шепота. – Обещайте ему что хотите. Дайте любые гарантии. Заставьте вернуться в Англию. Я хочу посмотреть ему в глаза.
В караульной перешептываются королевские советники. Он подходит ближе. Советники замолкают. Он обводит их взглядом: – Надеялись, что он даст мне по голове, как Заплатке? Слухи о книге Поля успели просочиться. Генриху книга не понравилась, в ней короля называют Нероном. Уильям Фицуильям говорит: – Поль не мог бы найти худшего времени. Все это ударит по Марии, если Генрих решит, что она причастна. – А также по семье Полей, – добавляет лорд-канцлер Одли. – И всем знатным семействам. В том числе Куртенэ. – Эксетер больше не в совете. Вы вместо него, Рич. – Что? Я? – Поддержите его, Фицуильям. – Исусе! Спасибо! – восклицает Рич. – Спасибо, лорд Кромвель. – Вас выбрал король. Думаю, ему понравилось то, что вы сказали про Авессалома. – Что? – спрашивает лорд-канцлер. – Сына царя Давида? Который запутался волосами в ветвях дерева? Что сказал о нем Рич? Где сказал? Кто-то отводит лорда Одли в сторонку, объясняет. Рич выглядит изумленным. Фицуильям говорит: – Сухарь, вы знали об этой книге. – Я влез в голову Реджинальду, словно червяк в яблоко. – Когда? Когда вы узнали? – гадает Фицуильям. Рич говорит: – Неудивительно, что в последние недели вы держались так самоуверенно. С такой-то картой. Теперь не стоит опасаться, что король снова обратится к Риму. – А юноша-то схватывает на лету, – замечает он Фицуильяму. Он признает, что уже год наблюдает за Полем, который застрял в Италии. Истерзанный собственными словесными излияниями, Реджинальд пишет и зачеркивает. Вносит поправки, дописывает, делая еще хуже. Но наконец письмо подписано – чернила просушены песком, листы свернуты и перевязаны, посланец найден. Смерть Анны Болейн ускоряет развитие событий. Вероятно, Реджинальд размышляет так: «Ныне, когда решимость Генриха поколеблена, когда он готов раскаяться, я пригрожу ему проклятием и заставлю вспомнить о Риме». Возможно, он добился бы своего, если бы смягчил аргументы, но Реджинальд не понимает Генриха как человека и еще меньше понимает разум и волю правителя. – Я с ним встречусь, с Полем, – говорит он. Вспоминает молодого ученого, юношу не высокого и не низкого, не худого и не полного, вспоминает его приятное широкое лицо. Невзрачный облик Реджинальда не вяжется с замысловатым и бесполезным устройством его разума, заставленного полками и нишами, где хранятся сомнения и неуверенность. – Однажды я над ним посмеялся, – говорит он. Юноша разглагольствовал о том, что народами должна управлять добродетель. Согласен, заметил он тогда, но советую вам больше читать, чтобы возместить недостаток практического опыта. Итальянцы знают толк в подобных материях. С тех пор Реджинальд его боится и неизменно отзывается о нем дурно: называет его дьяволом, не самый лестный отзыв. И тем не менее, когда к нему заходит путешествующий ученый или знатный молодой итальянец, который хочет усовершенствовать свой английский, Полю не приходит в голову спросить себя: «Возможно, его подослал сатана, он же Кромвель?» В былые времена Реджинальд склонялся к учению Лютера, мы помним, как он колебался то в одну, то в другую сторону. В былые времена он ставил под сомнение власть папы, и его сомнения записаны. Просчет Поля в том, что он думает вслух. Беспомощные фразы, составленные на манер Цицероновых, дрожат в воздухе – он уверен, что никто их не слышит. Затем берется за перо, уверенный, что никто не прочтет. Однако друзья Люцифера заглядывают в его книги. В сумерках он прячет манускрипт под замок, но у дьявола есть ключ. Демонам ведомы все его помарки и кляксы. Чернила предают его, бумажные волокна шпионят за ним. Когда он ложится в постель, английские лазутчики – конский волос в матрасе и перья в подушке – подслушивают, как уклончиво и обтекаемо он молится тому Богу, в которого верит сейчас. Фиц говорит: – Теперь вы можете разделаться с Полями. Со всем семейством. – За исключением Реджинальда, – встревает Рич. – Он не в нашей юрисдикции. Лорд Одли говорит: – Дельное замечание, господин спикер. Но вы можете запереть в клетке одну певчую птицу, чтобы завлечь другую. Рич говорит: – Разве суть в этом, лорд-канцлер? Дела обстоят ровно наоборот. Это Поль находится на свободе, и его песня выманивает остальных. Налицо измена. – Пожалуй, вы правы, – соглашается Одли. Он говорит: – Надо было разделаться с ними два года назад. – Пророчица, – говорит Фиц, – Элиза Бартон, изменница. Как это похоже на них – прятаться за юбками безумной монашки, возомнившей, что с ней говорит Господь. Впрочем – поправьте, если я ошибаюсь, – кажется, Бартон ставила Куртенэ выше Полей? – По-моему, она не отличала одних от других, – говорит Рич. – Думаю, господин секретарь прав. Пусть строят козни. А мы будем наблюдать. Они сами себя повесят. – Клянусь Богом, готовый советник! – Фиц сдергивает с Рича шляпу и, отскочив на другой конец комнаты, подбрасывает к украшенному тюдоровскими розами потолку. Неужто среди роз затесались инициалы «ГА-ГА»? Верный долгу, лорд-канцлер щурится и вытягивает шею.
Л’Эрбе, дом Полей. Когда он входит, графиня Маргарет поднимает глаза, но не произносит ни слова. Чем она занята? Вышивает, как все старые дамы. Ястребиный профиль склоняется над вышивкой, словно клюет ее. Сын Маргарет Генри, лорд Монтегю, при виде его морщится: – Господин секретарь, прошу вас, садитесь. Он предпочел бы стоять. – Полагаю, вы знаете, о чем книга, более или менее? Король никому ее не показывает. Думаю, он не откажется прочесть вам избранные места, но хочет, чтобы вы написали брату в Италию и сообщили ему, что его величество не гневается. Монтегю с изумлением смотрит на него: – Не гневается? – Ваш брат может вернуться в Англию и изложить свои соображения лично. – Будь вы Рейнольдом, вы бы вернулись? Рейнольд, так вот как зовут его в семье. Имя нежное и текучее, словно вода. – Король даст ему охранную грамоту. А король всегда держит слово. Монтегю говорит: – Мы, его семья, поверьте, Кромвель, мы потрясены поступком моего брата. Полагаю, вам известно об этом деле больше нашего. – Могу я передать королю, что вы от него отрекаетесь? Монтегю с заминкой отвечает: – Пожалуй, это слишком… – Осуждаем, – говорит Маргарет Поль. – Можете передать, что мы осуждаем его книгу и пребываем в смятении. – Или в изумлении, – предполагает он. – Глубоко скорбите и охвачены ужасом при мысли, что он осмелился осудить короля, оклеветать и опорочить своего правителя, угрожать ему вторжением и утверждать, что он проклят. – Разве я сторож брату моему? – спрашивает Монтегю. – Кому-то придется стать ему сторожем. Если не вам, то мне. Реджинальда следует запереть ради его собственного блага. Сейчас между вами и королевским гневом стою только я. – Очень любезно с вашей стороны, – говорит Монтегю. – Я также стою между королем и его дочерью. Вам следует понять, что до того, как король получил книгу, леди Мария была в опасности из-за собственной глупой гордости. А теперь ее положение ухудшилось, потому что король подозревает ее в соучастии. И именно ваше семейство виновато в этом. Медлительного Монтегю непросто расшевелить, но Маргарет Поль откладывает вышивку и говорит: – Мы помогли вам избавиться от Болейнов, которые вам угрожали. – Я взял на себя ответственность, не вы. – Вы должны нам, а платить не хотите. Вы знали, что книга пишется. Знали, к чему это приведет. – Вы можете объяснить это Николасу Кэрью? Кажется, он не понимает. Я ничего ему не должен. Я ничего не должен вам, мадам. Напротив, это вы мне должны. Жизнь и смерть Марии от меня не зависят, но могут зависеть от вас. Я прошу вашей помощи для того, чтобы она и дальше пребывала среди живых, и, надеюсь, совершила бы еще немало добрых дел. – Ее мать, храни Господь ее душу, поручила мне воспитание Марии, – говорит Маргарет Поль. – Могу ли я предать доверие Екатерины, посоветовав ее дочери поступить против совести? Монтегю говорит: – Не понимаю, Кромвель, в чем ваша выгода. Вы хотите спасти Марию от нее самой и от ее друзей, но вы же не думаете, что она это оценит? – Если она станет королевой, – говорит Маргарет Поль, – а я молюсь, чтобы ее миновала эта напасть, то первым делом она… Что? Посадит меня в Тауэр? Отрубит голову? Сделает лорд-канцлером? – Миледи матушка… – предостерегает Монтегю. – О, я помню Акт об измене, – живо откликается Маргарет. – Я вижу ловушку. Предвидеть будущее – преступление. Мы вынуждены жить одним днем. – В предыдущие месяцы, – говорит он Монтегю, – вы уверяли императорского посла Шапюи, что Англия готова восстать против короля. – Он поднимает руку: не перебивайте. – А две-три недели назад на юго-западе видели вооруженных простолюдинов. – Это земли Куртенэ, – говорит Монтегю. – Их и обвиняйте. Вор у вора дубинку украл, думает он. – Вам повезло, что все обошлось и там стало спокойнее. Но любое повторение – попытка нарушить покой короля в любой части королевства, – и вам будет сложно объяснить, что подстрекатель не вы. – Но как вы докажете его вину? – спрашивает Маргарет. – Насколько я понимаю, это обязанность обвинителя. – Это не составит труда. К тому же закон дает способ защитить страну от изменников. Я говорю про билль о лишении прав за измену, для которого суда не требуется. Маргарет замолкает, втыкает иглу в ткань. Вспоминает горькую участь отца. – Мадам, – говорит он, – не пытайтесь вашим упрямством, увертками и интригами развязать руки королю, который приложил все усилия, чтобы возместить вам причиненные страдания. Молитесь о примирении, как надлежит доброй христианке. И напишите леди Марии письмо. – А вы его доставите? – спрашивает Монтегю. – Передайте его вашему другу Шапюи. Чтобы юная леди не подумала, будто оно поддельное. Маргарет говорит: – Вы змий, Кромвель. – Ах нет, что вы. Я пес, мадам, и я иду по вашему следу. Он вклинивается массивным корпусом между Маргарет и светом. Графиня вышивает цветочный узор. Виола, символ ее рода, по-другому фиалка, или анютины глазки. – Мои поздравления. Для такой тонкой работы нужен острый глаз. Маргарет берется за ножницы. – Теперь не то, что раньше. Я знавала и лучшие времена.
Он посылает племянника Ричарда в Тауэр освободить Томаса Уайетта. Прибытие книги Реджинальда, как только просочились слухи о ее содержании, вызвало такой переполох, что все и думать забыли про Уайетта. Никто не видел самой книги; придворные догадываются, чтó там, но не могут вообразить ее горького многословия, ее безрассудного пренебрежения к покровительству живых и неуемного восхваления мертвых. Ходят слухи о новых арестах. Леди Хасси, некогда состоявшую при Марии, отправили в Тауэр. Он посылает Ризли поговорить с ней. Она признается, что когда на Троицу с милостивого позволения короля навещала Марию в Хансдоне, то называла ее принцессой. – Клянется, что во всем виновата привычка, – говорит Ризли. – Что она и в мыслях не держала заявлять, будто Мария – законная наследница Генриха. Что сказала так, не подумав. В комнату влетает Ричард Кромвель. – Я велел Уайетту убираться в Кент и никогда не упоминать о мертвых. Сидеть там, пока не позовут. Комендант Кингстон спрашивает, нужны ли камеры для знатных узников, и если нужны, то сколько, а также желательно уточнить их ранг, пол, возраст и когда их ждать. Он хочет подготовиться. – Как, Кингстон не готов? Удивительно! – Сэр, – говорит Ризли, – я знаю, вы жалеете леди Марию, но пришло время отказаться от нее. – Он обращается к Ричарду: – Она выглядит скромницей, как любая девушка, говорит тихо, шарахается от мужчин, но, когда мы с Сэдлером приехали в Хансдон, клянусь, будь у нее в руке кинжал, она вонзила бы его в меня, когда я сказал, что палач из Кале чисто исполнил свою работу. Ее трудно любить, только и скажет он, ничего больше.
Генрих занимает место за столом совета, упираясь кулаком в стол, чтобы удержать равновесие. Король двигается осторожно, избегая толчков и ударов. Вежливо благодарит нового советника, когда Рич отодвигает кресло, чтобы дать больше места перевязанной ноге. – Принесли клятву, Рич? Отлично. Король с тихим сопением опускается в кресло и хватается за стол, чтобы придвинуться ближе. – Подушку, ваше величество? – предлагает Одли. Генрих закрывает глаза: – Спасибо, нет. Сегодня у нас один вопрос… – Или кресло попросторнее? Король осекается: – …вопрос, не терпящий отлагательства… Спасибо, лорд Одли, мне удобно. Он ловит взгляд лорд-канцлера и прижимает ладонь ко рту. Но Ричарда Рича так просто не уймешь. – И вы здесь, сэр? – обращается Рич к Эдварду Сеймуру. – Я не знал, что вы приняли присягу. – Так вышло… – начинает Эдвард. – Так вышло, что мне нужен его совет, – говорит король. – По крайней мере в этом вопросе, который касается меня очень близко. Вам ясно, Рич? Теперь Эдвард – родственник короля, разумеется, королю нужен братский совет. Однако Эдвард ерзает в самом конце стола, будто в суде, гадая, придется ли платить. Ему и сестре. Ричард Рич никак не угомонится. Он наклоняется и шепчет: сэр, это точно заседание совета? Куда я попал? Он, Кромвель, отвечает тоже шепотом: сидите тихо и слушайте. Фицуильям оглядывается: – А где милорд Норфолк? – Я велел ему не показываться мне на глаза, – отвечает Генрих. Отличная новость для Фица. Его ссоры с Норфолком тянутся десятилетиями. – Вам не стоило посылать его к Марии, сэр. Вы же его знаете. Он разговаривает с женщиной, словно с крепостной стеной, которую собирается проломить. – Я не думаю, – говорит лорд-канцлер, – что следует именовать королевскую дочь «женщиной». – А кто же она? – спрашивает Фицуильям. – Можете называть ее «леди», от этого ничего не изменится. Норфолк – последний человек на свете, способный ее убедить. Генрих говорит: – Я признаю, что мой выбор был нехорош. Она не из тех, кто подчиняется силе. – Ему показалось или в тоне короля мелькнула извращенная гордость? – Нам следует выбрать другого посланника. Возможно, милорда архиепископа с его даром мягко увещевать… Фиц изумленно смотрит на короля: – Она ненавидит Кранмера. И с чего ей любить его? Он развел вас с ее матерью. Кранмер называет ее плодом кровосмешения. – И вполне справедливо. – Король склоняет голову. – То был великий грех – совершенный, разумеется, по неведению. – Ваше величество, – говорит Эдвард Сеймур, – мы понимаем… нет нужды… избавьте себя… – Простите, груз двадцати лет давит на плечи. – Генрих выглядит расслабленным и покорным, но он знает это опасное подергивание королевских губ. – Поскольку весь христианский мир вот уже целое поколение обсуждает мой брак во всех университетах, с каждой церковной кафедры, в каждом трактире, я не считаю зазорным повторить это еще раз. И хотя из Писания следует, что подобный союз незаконен, некогда я верил, что папа вправе его разрешить. Теперь я вижу, что ошибался. Моя дочь Мария – плод преступной связи. Если Екатерина не раскаялась в этом грехе при жизни, боюсь, ей суждено ответить за него там, где она сейчас. В Питерборо, думает он. – Мои же глаза открылись на мерзости и нечестивые притязания Рима, – продолжает король, – и я уже семь лет тружусь над тем, чтобы выйти из-под его ненавистной власти и повести мою страну истинной дорогой Христовой. Если я до сих пор не искупил свой грех, то уж не знаю, джентльмены, как и когда я его искуплю. Терпеть непослушание дочери, знать, что мои близкие родственники настраивают ее против меня, читать в собственном доме поношения от этого неблагодарного чудовища Поля, который называет меня еретиком, раскольником и иудой… – Нет, сэр, – встревает Рич. – Иудой Поль называет не вас, а епископа Сэмпсона, который был вашим поверенным в деле о разводе. – Наш новый советник любит точность. – Генрих разворачивается к Ричу. – А кем тогда он называет меня? Антихристом? Люцифером? Денницей, думает он; светоносным. – Предупреждаю, – говорит Генрих, – если я услышу хотя бы один голос в защиту этого заблудшего создания, моей дочери, я буду знать, что это слова изменника. Я готов выслушать ваши советы. Я созвал судей, чтобы решить, каким образом довести ее дело до суда. Фицуильям хлопает ладонью по столу: – До суда? Храни нас Господь! Вашу плоть и кровь? Умоляю, не спешите с решением. Вы будете выглядеть чудовищем в глазах всего света! Он вставляет: – Ваше величество, Мария больна. – Король скоро и сам заболеет! – восклицает Рич. – Только посмотрите на него! Эдвард Сеймур шепчет: – Рич, помолчите. Генрих поворачивается к нему: – Скажите, Сухарь, а когда она не больна? Неужели я породил это болезненное создание? Ее братья и сестры умерли. Удивляюсь, что она до сих пор жива. Интересно, что Господь хотел этим сказать. Фицуильям говорит: – Если вы не знаете, Гарри, то кому тогда знать? Вы наместник Божий, разве нет? Вам ведомы все наши судьбы. – Мне ведома ваша, – говорит Генрих. Король бросает взгляд на дверь. Кивок – и сюда войдут стражники. Ричард Рич застыл, челюсть отвисла, пальцы сжимают перо. Эдвард Сеймур привстает с места: – Простите, ваше величество. Простите господину казначею его грубую речь. Мы все… мы все переутомились… Генрих вздыхает: – Переутомились, изнурены, обессилены. Верно, Нед. Ступайте, Фицуильям, пока я не велел вас вывести, мое терпение не беспредельно, ни вы, ни моя дочь не можете испытывать его бесконечно. Итак, Сухарь, расскажите нам о ее болезни. Что на сей раз? Я слышал о коликах, лихорадке, головной и зубной боли. – Боюсь, все вместе. Она пишет… – Покажите мне ее письмо. Письмо лежит у него в кармане. – Я пошлю за ним, сэр. – Некоторые из вас, моих советников, знают больше меня о том, что на уме у моей дочери. – И снова эта улыбка сквозь зубы – Генриху больно. – Господин секретарь обещал, что получит ее согласие – что заставит ее принести присягу, не выходя из Уайтхолла. Но и он подвел меня. Фицуильям с порога оборачивается к советникам, прижимая бумаги к груди: – Некоторые из ваших советников, ваше величество, пытаются спасти вас от себя самого. Вы бушуете оттого, что Поль вас оскорбил. Бросайтесь на врагов, но не обижайте друзей. А что до Марии, так заприте ее, заприте покрепче, туда, откуда она не причинит никому вреда. Но созвать судей, предать суду собственную дочь? И что дальше? Я скажу вам, она виновна. Зачем вам судья? Зачем присяжные? Она не станет приносить присягу и приведет свои доводы, но не так, как Томас Мор. Скажет, что она не приблуда, а принцесса Англии, а вы такой же глава церкви, как и я. И что вы сделаете? Отрубите ей голову? Одли говорит еле слышно: – Храбрец. Сеймур бормочет: – Мертвец. Он, лорд Кромвель, встает, пересекает комнату, хватает казначея за джеркин, толкает к дверям. Двери мягко распахиваются, словно адские врата. Он сжимает казначейскую цепь, пытаясь сдернуть ее через голову Фица. Советник вопит, цепь извивается. Фиц продевает пальцы сквозь звенья, завязывается борьба. – Руки прочь, Кромвель! – орет Фиц, пытаясь достать его другим кулаком, но он подтягивает цепь к себе, оказываясь нос к носу с казначеем. – Угомонись, болван, – шипит он. До Фица доходит, он разжимает кулак. Вскрикивает – пальцы застряли в звеньях, – и цепь свободна. Толчок в грудь, Фиц падает навзничь, двери захлопываются. Он, лорд Кромвель, подходит к столу, кладет цепь на стол перед королем. Цепь звякает. – Не стоило, – говорит Генрих. – Не стоило драться ради меня, если вы разделяете его мысли. – Его пальцы тянутся к цепи – золото еще хранит тепло бархата. – Впрочем, я аплодирую вам, милорд. Фица нелегко сдвинуть с места. – Король не смотрит на советников. – Приведите ко мне лорда Монтегю, хочу зачитать ему отрывки из письма брата. Позовите епископа Иуду, странно, но Сэмпсон – единственный, на кого я могу положиться. Вероятно, стоит вернуть Гардинера из Франции. Обычно он находит решения, которые не приходят в голову никому из вас. Напомните сэру Николасу Кэрью, что я запрещаю ему видеться с моей дочерью. Скажите Куртенэ, что для меня не тайна их поползновения и что я крайне ими недоволен. Фрэнсиса Брайана – в Тауэр, я слышал, он распускает по городу сплетни, что Марию содержат в черном теле и что я бессердечный отец. – Вы же знаете Фрэнсиса, – говорит Эдуард Сеймур. – Это пустая болтовня. Он любит вас, ваше величество. – А Фицуильям? – хмурится Одли. – Мы должны назначить нового казначея? – Фицуильям, – мягко произносит король. – Не стоит судить его слишком строго. Он мой старый друг, и, думаю, вы согласитесь, что он понимает меня лучше, чем кто-либо из живущих. – Генрих с пугающей неторопливостью оглядывает притихших советников; их время полностью принадлежит ему. – Я знаю, о чем вы толкуете между собой, как пытаетесь мною управлять, как обсуждаете тех, кого я люблю и кого ненавижу. Единственное живое существо на свете, которому мужчина может доверять, – его незамужняя дочь. У нее не должно быть воли, кроме отцовской, не должно быть мыслей, кроме тех, что ему по нраву. Взамен отец защищает ее и заботится о ее благополучии. Но у господина казначея нет детей. Так распорядился Господь. Он не может чувствовать то, что чувствую я, не в силах понять, как я страдаю. Мои помыслы неизменны: Мария знает, какого признания я от нее требую, знает с тех пор, как была составлена присяга. Если она думает, будто мои права всего лишь причуда недавно умершей женщины, то ее ввели в заблуждение, и если она еще питает надежду, что я готов на коленях ползти в Рим, то она глупее, чем я думал. Но чего вы не видите и не в состоянии понять, так это того, что я люблю мою дочь. Я думаю обо всех моих детях, умерших в колыбели, и о тех, кто умер, не увидев света. Если я потеряю Марию, что у меня останется? Спросите себя… в ком найду я утешение в этом мире, если не в ней? В комнате тихо. У меня было чувство, признается потом Одли, что надо перекреститься и сказать: «Аминь». Даже новый советник не осмеливается заметить: «Как же, ваше величество, ведь у вас есть молодой Ричмонд». Или напомнить Генриху о рыжем поросеночке Элизе, повизгивающем где-то в глуши. Эдвард Сеймур хмурится: если у короля нет никого в этом мире, то как быть с его сестрой Джейн, как быть с семейством из Вулфхолла? – Итак, достойный господин секретарь, – говорит король, – раз вы так любите меня и мою службу, будьте любезны, доведите это дело до конца. Здесь мы больше не будем это обсуждать. Король упирается в стол рукой, помогая себе встать. Советники вскакивают, преклоняют колени. С колен не встают, пока король не выходит. И даже когда дверь за ним закрывается, все молчат. Молчание прерывает лорд-канцлер: – До конца? Какого конца? – Бог его знает, – говорит он. – Лучше бы я никогда не становился советником! – выпаливает Рич. – Лучше бы мне оказаться в Китае! Сеймур бормочет: – Лучше бы тебе оказаться в Утопии. В письме, которое до сих пор лежит у него в кармане, Мария пишет: «Кромвель, дальше пути нет, я не уступлю ни пяди. Я не подпишу бумагу, порочащую королеву, мою покойную мать. Я никогда не соглашусь, что мой отец – глава церкви. Не позволяйте им меня подталкивать, не позволяйте им умолять меня, я поступлю так, как велит мне совесть. Вы мой лучший друг, моя опора. Вся моя надежда на Вас». – Думаю, он хочет, чтобы вы ее убили, – говорит Эдвард Сеймур. В былые дни кардинал любил смеяться над тем, как Генрих, выпростав ногу из-под шлафрока, демонстрировал французскому послу свою икру. «Разве у вашего короля такая нога? Скажите, такая? Господь не обидел короля Франциска ростом, но ему не сравниться со мной шириной плеч». Ныне тот же король волочит ноги, а выходя из комнаты совета, запахивает шлафрок. Превосходная икра забинтована, лицо одутловатое и бледное. Генрих – средоточие боли, его тело очаг болезни, кровь, желчь и флегма. Его отяжелевшая недужная плоть – место, где все аргументы истощились.
В Тауэре Фрэнсис Брайан спрашивает его: – Тут вы держали Тома Уайетта? – Здесь много воздуха, не находите? – говорит он. – Моим друзьям всегда отводят лучшие помещения. – Одного выпускаем, другого сажаем. – Фрэнсис сползает в кресле, оглядывает комнату. На одном глазу повязка, другой затуманен. – Домашнего ареста было недостаточно? – Здесь безопаснее. Я говорил то же самое Уайетту. – Я слыхал, теперь вы хранитель малой королевской печати. Вы лезете вверх с такой прытью, милорд, что скоро в королевстве не хватит лестниц. – Зачем мне лестницы? У меня есть крылья. – Так скорее летите во тьму, пока они не растаяли. – Король полагает, что Мария бы так не упрямилась, если бы ее кто-то не убеждал. И прежде всего ваш зять Кэрью. – Старина Кара Господня, – смеется Фрэнсис. – Возомнил себя верным рыцарем в черных доспехах. Обещает Марии сделать ее королевой. Записывать некому. На столе только ин-фолио с бумагами лорда Кромвеля, рядом томик Петрарки: путти, морское чудище, переплет мягкий, словно кожа. Его руки неподвижны. Еще будет время, чтобы все записать. – Значит, Кэрью. Кто еще? – Клан лорда Эксетера. Маленький плакса Монтегю. – Если король арестует их, вы дадите показания? – Дам. Или я, или они. Почему я должен быть лучше Тома Уайетта? – Никто и не думает, что вы лучше. – Но вы ведь не захотите тащить их сюда? Предпочтете договориться. – Мое природное человеколюбие останавливает меня от… Фрэнсис фыркает: – Вас ничто не остановит. Но вы не сможете погубить людей Марии, не затронув ее, а ее трогать вы не хотите. И вы не думаете, что сумеете и дальше управлять Генрихом, если он и дальше будет убивать своих близких. Он вспоминает Фрэнсиса у эшафота, потеющего в кожаном джеркине, ждущего, когда можно будет помчаться к Сеймурам с вестью, что голова Анны слетела с плеч. Хотите скорости, обращайтесь к Фрэнсису Брайану. Ваши желания бурлят у него под кожей, готовые реализоваться. Если нужно кого-нибудь подкупить или очаровать, провернуть что-нибудь тайное или грязное, вы знаете, кто никогда вам не откажет. Хотите, чтобы кто-нибудь произнес вслух то, что больше никто не осмелится произнести, только кивните Фрэнсису. – Я вас раскусил, Кромвель, – говорит он. – Считаете себя осторожным и предусмотрительным политиком. А вы такой же игрок, как и я. – Такой, да не такой. Если вас отравят, вы все равно поползете к карточному столу. Если ослепнете, будете распознавать жезлы и кубки по запаху. Ощупывать пальцами точки на костях. Фрэнсис говорит: – Другой с вашим происхождением получил бы спокойное местечко и пересчитывал трофеи. Но не Кромвель. Он должен непременно всем заправлять. Если девчонка Сеймуров родит королю сына, кто займется его воспитанием, если не Кромвель? А если наследником объявят Фицроя, на кого ему положиться, если не на Кромвеля? Если Мария станет королевой, она никогда не забудет, кому обязана спасением. – Поверьте, Фрэнсис, – улыбается он. – Так далеко я не загадываю. Мне бы пережить эту неделю. – Вы не остановитесь, пока не станете герцогом. Или королем. – Фрэнсис сдергивает повязку, трет шрам. – Кстати, из вас выйдет неплохой король. Он отводит взгляд от изуродованного лица Брайана. Тот хохочет: – Вы видали лица и пострашнее. Он идет к двери: – Мартин? Принеси мне кресло. Почему этот жалкий табурет все еще здесь? Разве я не вышвырнул его за дверь? Появляется тюремщик: – Никак сам обратно приполз? Я спущу негодника с лестницы. – Лучше порубите его на дрова, – предлагает Фрэнсис. – Покажите, кто тут главный. – И кларет захвати, – велит он Мартину. – Запишешь на мой счет. – У вас тут и счет открыт? Благослови меня, святая Агнесса. – Я подумываю завести здесь собственного повара, кухонных мальчишек и кладовую для дичи. Я держу тут рубашки на смену и овчинный тулуп. А еще писарей. – Никаких писарей, – говорит Фрэнсис. – Иначе я не открою рта. – Если вы дадите обещанное признание, я отложу его до той поры, когда оно мне пригодится. Я сам запишу ваши показания, а остальным незачем знать, что они исходят от вас. Но чтобы хоть кто-нибудь из нас дожил до следующей недели, Кэрью должен написать Марии, что ей не стоит ждать помощи ни от него, ни от его друзей и, если она не поступит так, как я ей велел, ее ждет смерть. Я замолвлю за вас словечко перед Генрихом, – он трет глаз, как раньше Брайан, – и, когда все закончится, вы выйдете на свободу. Это не продлится долго. Марии придется выбирать: отец или папа. – Отец или мать, – говорит Фрэнсис. – Вы не можете сражаться с мертвыми. Уступите им Марию. Один Бог знает, отчего вы решили связать с ней будущее. Даже если вы спасете ее теперь, она может умереть, с ее-то слабым здоровьем. А если король обратит свой гнев против вас, никто не позволит вам уйти тихо, обрезать яблони и слушать соловьев, как старине Генри Гилдфорду. Вспомните падение Вулси. Не справитесь – и Генрих посадит вас на мое место. Или куда похуже, где вы обрадуетесь и кривому трехногому табурету. – Надо же, похоже, вас заботит мое будущее, – говорит он. – Советы раздаете. – Что без вас эта страна? Я предпочту, чтобы вы благоденствовали. Ссужали мне деньги. Входит Мартин, толкая перед собой кресло. Придется запастись терпением, думает он: даже если я добуду доказательства измены, могу ли я позволить себе извлечь их на свет? Брайан прав. Трудно низвергнуть два старинных семейства и их присных, не успев толком похоронить Болейнов, да еще не повредить при этом девушке, чьи интересы они якобы защищают. Генрих не может быть готов до того, как я буду готов: я должен сдерживать моего кровожадного короля. – Это не все, Фрэнсис. Когда Кэрью напишет письмо, ваша сестра Элиза должна лично отвезти его в Хансдон и поговорить с госпожой вашей матушкой. Леди Брайан состоит при Марии с рождения. Полагаю, она принимает ее интересы близко к сердцу. – К тому же, – говорит Фрэнсис, – госпожа моя матушка не такая безголовая дура, какой кажется. – Пусть поговорят с Марией, мать и дочь, пусть дают любые обещания. Я доверяю всему вашему семейству быть моими посредниками. – Что ж, – неприязненно замечает Фрэнсис, – если вам обязательно втягивать в это женщин. – Они уже втянуты. Все это дело вертится вокруг них. Фрэнсис смотрит в чашу. Он жадно осушил ее, словно хочет разглядеть судьбу в винном осадке. – Одни говорят, Генрих не убьет свою дочь. Другие говорят, мы не верили, что он убьет жену. Но я… я всегда знал, что он уничтожит Анну Болейн. Если не собственными руками, то чужими.
Приходит тепло. Долгие дни, на протяжении которых, если слухи правдивы, леди Мария не берет в рот ни крошки. Короткие светлые ночи, которые она проводит, меряя комнату шагами, лицо распухло, глаза покраснели. Она утопает в горьких слезах. Слезы полезны молодым женщинам, особенно тем, у кого прекратилось обычное женское, или тем, кто жаждет мужской ласки, но вынужден обходиться без мужчины. Если королевская дочь перестанет плакать, возможно, ей станет хуже. Поэтому никто не утешает ее, когда ее рыдания доходят до рвоты. И когда она восклицает: «Пожалей меня, Господи!» – очевидно, Он ее не жалеет. Юристы, чьего совета спросил король, постановили, что Марию следует снова привести к присяге, а стало быть, ей прекрасно известно, что ей предстоит. Разумеется, известно, говорит король. По этому поводу у нее не должно быть никаких сомнений. И все же, как месяцем раньше, имея в виду Анну Болейн, он добавляет: – Кромвель, закон должен быть соблюден до последней буквы. – Пригласи Шапюи, – велит Ричарду он, лорд Кромвель. – Он должен со мной поужинать. Посол скажет, что у него нет аппетита, однако ничто не мешает ему смотреть, как буду есть я. Ричард говорит: – Вам следовало решить этот вопрос две недели назад. С каждым днем вы подвергаете нас опасности. Почему вы не хотите сами навестить Марию? – Потому что я могу действовать только на расстоянии. Он вспоминает Виндзорский замок, палящую жару, лето от Рождества Христова тысяча пятьсот тридцать первое. Во дворах телеги со скарбом, король и его приближенные отбывают охотиться, устраивать танцы и прочие развлечения. Он, вынужденный обратиться в незаметную тень, поднялся по лестнице и миновал галерею пустых комнат с закрытыми ставнями, пока не нашел Екатерину в одиночестве, всеми покинутую, ожесточенную, сознающую, но не смирившуюся с тем, что Генрих ушел, не сказав ей ни слова прощания. Ее дочь Мария, хрупкая как тростинка, прислонилась к спинке материнского кресла. Мадам, сказал он, ваша дочь нездорова, ей лучше присесть. От судорожной боли девушка согнулась и вцепилась в позолоту. Екатерина сказала ей на кастильском: «Ты дочь Испании. Стой прямо». В тот день он сразился за болезненное худенькое тельце и победил. У его ног табурет, на нем подушка, на подушке вышита русалка. Одной рукой он поднял табурет, другой – русалку. Выдержав взгляд испанской королевы, со стуком опустил табурет на каменные плиты пола. Солнце лилось сквозь цветные стеклышки: квадраты света, бледно-зеленого и алого, трепетали, словно флаги, на бледном камне. Екатерина закрыла глаза. Еле заметно кивнула, словно сама испытывает страдания. Затем открыла глаза, посмотрела в сторону. Он заметил, что принцесса качнулась, шагнул вперед и подхватил ее. Он помнит ее тонкие косточки, трепещущее невесомое тельце, блестящий от пота лоб. Мария опустилась на табурет, он подал ей подушку, всматриваясь в ее лицо. Девушка прижала русалку к животу, обняла, согнулась, чтобы утишить боль. Через секунду со стоном выдохнула. Затем вскинула голову, посмотрела на него изумленно и благодарно. И тут же сделала бесстрастное лицо. Все произошло так быстро, будто и не было. Но до конца разговора, до того как он откланялся и вышел, Мария не сводила с него глаз.
После ужина, когда падает тишина и длинный летний день уступает место сумеркам, они с послом поднимаются на одну из садовых башен. Лондон притаился под ними в голубоватой дымке. На столе блюдо с клубникой, которую они должны доесть, пока не взойдет луна. Посол оставил бумаги у подножия башни. Ин-фолио белой кожи с императорским двуглавым орлом покоится на траве среди маргариток. – Меня раздражает, – говорит он послу, – как свысока смотрят на Генриха европейские правители. Они могут сколько угодно разгонять парламенты, душить подданных налогами, взламывать церковные сундуки, убивать советников, но если они преклоняют колени перед Ватиканом, то могут служить образцами добродетели, и папа шлет им свое благословение, называя блистательными монархами. Кто из них годами терпел бы рядом бесплодную жену? Давно бы ее отравили. Кто смирился бы с непокорством собственного дитяти? Будь Мария дочерью кого-нибудь из этих правителей, ее бы заперли и забыли, а то и убрали по-тихому. – Вы правы, – соглашается Шапюи, – но вы же не станете такое предлагать. – Дело не в том, что я предложу. Эта история меня погубила. Я покойник. – Вы говорили такое и раньше. Когда вас изводила конкубина. – Говорил и снова повторю. В этом деле я зашел так далеко, что пути назад нет, – я заверил короля, что Мария подчинится. А Генрих не терпит тех, кто нарушает обещания. Шапюи задумчиво водит пальцем по мраморным прожилкам столешницы: – Как вы втащили это сюда? – Лебедкой через окно. Вы же не думаете, что я помолился мощам епископа Фишера и он заставил стол взлететь? Он арендовал дом у каноника церкви СвятогоВарфоломея в Смитфилде. Настоятель Уилл Болтон строил для короля, умело планируя и доводя до конца крупные архитектурные замыслы. Благослови меня, Болтон, говорит он порой, когда приезжает сюда и его лошадь ведут в стойло, а Кристоф втаскивает в дом дорожные сумы. Настоятель отдыхал и охотился здесь летом, и его ребус – бочонок (тон), пронзенный арбалетной стрелой (болт), до сих пор вмурован в стену. Дом маленький, по одной большой комнате на этаже, плодовые деревья, беседки и садовые башни, установленные так, чтобы ловить летний ветерок и разглядывать город над верхушками деревьев. – Настоятель Болтон в последние пять лет жизни охромел, – говорит он. – Он ни разу не поднимался сюда полюбоваться видом. Хотя стоит ли удивляться, каноник почил в возрасте восьмидесяти двух лет. – Ну вы-то собираетесь жить вечно, – замечает Шапюи. – И вечно карабкаться вверх. – Когда войдем в дом, я покажу вам глазурованные плитки в гостиной. Настоящая лазурь. Наверняка Болтон выписал их из Италии. Приглушенные голоса, голуби устраиваются на ночлег, чистят перышки на голубятне – словно летние снежинки, перья уплывают в сумерки, он провожает их глазами. Шапюи говорит: – Меня не удивляет, что все в этой стране презирают Ватикан. Рим своей многолетней нерешительностью предал Екатерину. – Ее все предали. Королева слушала горстку старух. Фишер, может быть, и святой, но ничем ей не помог. Полагаю, он советовал ей крепиться и надеяться на лучшее. А что до ее друзей за границей… что сделал для нее император? Издавал воинственные звуки? Шапюи говорит: – Мой повелитель воевал с турками. У него хватало забот поважнее, чем усмирять своевольного правителя маленького острова. – А что сдерживает моего короля сейчас? Он в своем праве. И волен вести себя с собственной дочерью как пожелает. – Я заранее извиняюсь за то, что скажу, – говорит Шапюи, – и да простят меня умершие, но, если император не предпринимал шагов ради спасения своей благородной тети, возможно, он просто не знал, что с ней делать. Она стала бы ему обузой. Королева привыкла жить на широкую ногу. И могла дожить до преклонных лет. Человек, способный так открыто высказать то, что у него на уме, отринув условности, достоин уважения. Он всегда говорил, не стоит недооценивать Шапюи. Под маской показной учтивости страстный маленький человечек, коварный, но всегда готовый рискнуть. – С Марией все иначе, – продолжает посол. – Даже если ей не суждено править самой, на трон могут претендовать ее отпрыски, и они способны развернуть мир в сторону, угодную императору. Вы сказали, Генрих в своем праве. Но какие бы заботы ни тревожили императора, он не допустит дурного обращения с Марией. Он пришлет корабли. – Они никогда не пристанут к берегу. – Вы видели карту этих островов? Мой господин правит морями. Пока вы будете защищать побережье Кента, он вторгнется со стороны Ирландии. Пока будете следить за юго-западом, нападет с северо-востока. – Его капитаны сгинут на этих берегах. Король сказал, что съест их живьем. – Я должен это передать? – Как хотите. Вы понимаете и я понимаю, что император не в силах спасти Марию. Ее дело не терпит отлагательства. В пролете винтовой лестницы возникает голова Кристофа. – Господа, желаете цукатов? – Он со звоном опускает на стол серебряный поднос. – Здесь мастер Зовите-меня. – Кристоф бросает злобный взгляд на Шапюи. – Пришел заняться шифрами. Он может взломать любой. Шапюи всплескивает руками. Он боится за бумаги, которые оставил у подножия башни. У посла ноют коленные суставы, и от мысли, что надо спуститься на три пролета и подняться обратно, Шапюи издает тихий стон. – Попроси Зовите-меня подождать в тени виноградных лоз, послушать соловьев. Затем принеси бумаги посла. И не смей в них заглядывать. Голова Кристофа пропадает из виду. – Что за осел! – Шапюи берет с блюда ягоду и хмурится. – Томас, я понимаю, нелегко внушить невинной девушке, что мир не таков, каким она его воображает. Покойная Екатерина в присутствии дочери не позволяла и словом осудить короля. Во всем был виноват кардинал, совет, конкубина. Генрих был всегда прав. Естественно, Мария ожидала, что отец немедленно заключит ее в свои объятия, как только с Анной Болейн будет покончено. – Посол осторожно откусывает от ягоды. – Естественно, вы должны ее в этом разубедить. Он кивает: – Она не знает своего отца. – Да и откуда? Она не видела его пять лет. Она была в заточении. – В заточении? Ее содержали в роскоши. – Но мы не должны говорить об этом ей, Томас. Лучше заверить ее, что она страдает, на случай если она считает, что страдала недостаточно. Мария хвасталась мне, что не боится топора. – Не боится? Когда наступит ее последняя ночь на земле, которую она проведет без сна, и впереди останется только жалкий завтрак с палачом, поздно будет плакать и умолять меня ее спасти. В последовавшем молчании он гадает, куда подевался Кристоф? Неужели читает бумаги посла? То-то будет скандал. Впрочем, это может быть полезно, если бумаги на французском. У Кристофа отличная память. – Ее мать… – Посол осекается. В сгущающихся сумерках он опасается говорить о мертвых дурно. – Я думаю, она поклялась Екатерине, что не отступится. Живых переубедить можно. С мертвыми не договоришься. – Она не хочет жить? – Не любой ценой. – Значит, такой ее запомнит история – внучкой испанских королей, которой не хватило ума или расчета, чтобы себя спасти? Кристоф ухает снизу, заставляя посла, положившего в рот анисовый леденец, поперхнуться. Юноша врывается в башню, хлопает бумагами об стол – черный орел на фоне белого мрамора. – Почему так долго, Кристоф? – Из Ислингтона пришли вести, что надвигается ненастье. Коровы улеглись на поле. Умоляю, спускайтесь, как только начнется дождь. Если сюда ударит молния, вам конец. Только дурак будет торчать на башне в грозу. – Я увижу по небу. Сначала гроза начнется над Лондоном. Голова Кристофа скрывается из виду, сальный шар под шляпой набекрень. Он ждет, пока юноша окажется вне пределов слышимости, и говорит: – Если ее отец умрет, Мария может стать королевой вне зависимости от желания Генриха или парламентского акта. А став королевой, наведет свои порядки. Вернет нас под власть Рима. Закует в кандалы. С радостью отрубит мне голову. Я не верю ни единому ее слову. – Какому именно слову? Он вынимает из кармана письмо и подталкивает к послу: – Послать Кристофа за свечой? – Я разберу, – говорит Шапюи. – Ее рука, – соглашается он и прищуривается. Арка позади него наполняется отраженным вечерним светом, бледным матовым сиянием. – Она полна решимости отвергнуть присягу. Однако называет вас своим другом, ближайшим после отца, храни Господь ее невинную душу, своим лучшим другом. – Должен ли я ей верить? Думаю, она исполнена вероломства. Он наслаждается собой. Послу придется меня уламывать, думает он. Я буду изображать ветреную наследницу, а ему придется прогонять мои страхи и задабривать меня обещаниями. – Мария уже навлекла на меня неисчислимые беды, – говорит он. – Я утратил расположение короля, а что у меня есть, кроме этого? Даже если король меня пощадит, кому нужен отставной советник? Посол не включается в игру, лишь мрачно замечает: – Почему она считает вас другом? Должно быть, это идет от ее матери. Единственное объяснение. После всех трудов… – Шапюи резко обрывает себя, он разгневан и пристыжен. – Если она вам доверяет, придется и мне вам довериться. Что за наказание! – Вам следует убедить ее подчиниться отцу и уладить все с императором. Он должен дать ей благословение. – К несчастью, я не держу императора в кладовке, чтобы всякий раз спрашивать у него разрешения. – Разве нет? Так повесьте там его портрет. Со временем вы научите его вам отвечать. Ему кажется, внизу кто-то топает. – Ш-ш-ш. Он встает, кричит в пролет: – Кто там? Посол подбирается, готовый при любой опасности спуститься с башни. В окне нет стекла, меркнущий свет окрасил кирпичную кладку слабым румянцем. Ответа нет. Настоятель Болтон не озаботился тем, чтобы выстроить высокую стену или укрепить изгородь. Злоумышленнику ничего не стоит согнуть иву или акацию, раздвинуть податливую лещину и проникнуть внутрь. Он кладет руку на сердце, нащупывая кинжал между шелком и льном. – Оборонять башню нетрудно, – замечает он. – Даже садовую. Просто сбрасываешь всех сверху. – Уверен, вам понравится, – говорит Шапюи. – Говорят, вы подрались с советником Фицгийомом. Томас, какой вы еще ребенок. – Кристоф? – зовет он, его голос закручивается в каменной спирали. – Ты здесь? Эхом приходит ответ: – А где еще мне быть? Кристоф удивлен. Юноша всегда настороже, не зря все детство провел среди воров. Когда Кристоф не исполняет его поручений, он садится на корточки, прислонившись спиной к стене, опускает голову и, кажется, дремлет, но уши держит востро и незаметно зыркает по сторонам. – Никого нет, – успокаивает он посла, – только Кристоф. Шапюи откидывается в кресле. – Ешьте клубнику, – говорит он. – Напишите в Рим. – Не доверяю я этому фрукту. Почему вы едите его сырым? – Шапюи хмурится. – Chez-moi[116] его запекают в тесте. – Папа простит ее, если для нее это вопрос жизни и смерти. Скажите, что получите для нее отпущение грехов. Если беспокоитесь о цене, я сам улажу этот вопрос с Римом. – Я больше беспокоюсь о том, что у меня случится несварение. И о том, что мои доводы ее не убедят. – Отправляйтесь с утра, я выпишу разрешение. – Он наклоняется к послу. – Скажите ей, что, пока Анна Болейн была жива, Генрих никогда не восстановил бы ее в правах наследования. Но сейчас, если она готова к безусловному подчинению, фортуна может перемениться. – Вы делаете Марии предложение? – Шапюи поднимает брови. – Я думал, Генрих предпочитает ей своего бастарда. Я думал, вы сами благоволите к Ричмонду. Что случилось? – Нельзя посадить на трон Ричмонда, не вызвав ожесточенных споров. На ком бы ни был женат король – если он когда-либо был женат, – всему свету известно, что он никогда не состоял в браке с матерью Ричмонда. Что до новых наследников, то можно ли полагаться на живучесть младенцев? Скажите Марии: если она готова поступиться своими убеждениями, сейчас самое время позаботиться о будущем. – Он откидывается в кресле. – Да, после она будет себя презирать. Но такова цена. Скажите ей, время все залечит. – Мне кажется, – говорит посол, – все ваши речи сводятся к одному: вы будете жить, если позволит Кромвель. Возможно, вы даже будете править, но только с позволения Кромвеля. – Можете и так сказать. – Он начинает терять терпение. – Можете сказать что хотите. Я пришлю ей документ, который она должна подписать. Акт о повиновении. Ей необязательно его читать. Лучше не читать, тогда впоследствии она сможет от него откреститься. Но пусть его перепишут, король не должен видеть, что он составлен моей рукой. – Разумеется. – Шапюи улыбается. – Она не глупа, вы же знаете. – Скажите ей, что отныне я обещаю ей защиту. Она будет жить свободно как королевская дочь, и никто не заставит ее молиться так, как молюсь я, или отказаться от святых и обрядов. Но пусть знает: если не подчинится сейчас, она пропала. Я буду считать ее самой жестокой и неблагодарной из женщин. Я не стану препятствовать воле короля. И даже если случится чудо и она останется в живых, для меня она все равно что умерла. Я попрощаюсь с ней навеки. Никогда больше не появлюсь перед ней. Не взгляну на нее и не перемолвлюсь с ней ни словом. Пауза. – Ясно. – У посла язвительный вид. – Об этом лучше напишите ей сами. А я обещаю передать письмо. – Спускаемся? Вставая, Шапюи морщится и трет спину: – Сначала вы, милорд. Мне потребуется время. Он поднимает бумаги посла с мраморной столешницы: – Позвольте мне. Он спускается. На первом пролете бросает через плечо: – Обещаю не заглядывать внутрь. Кристоф на посту, в той самой позе, в какой он его воображал. Рядом в сумерках маячит тень. – Добрый вечер, сэр, – мягко произносит тень. Это мастер Ризли с охапкой пионов в руках.
В гостиной с лазоревой плиткой, где пламя единственной свечи мерцает на синеве, он пишет первый черновик. Ему трудно вообразить себя королевской дочерью. На рассвете забирает черновик с собой в город и в первых солнечных лучах снова корпит над бумагой: робкий, дрожащий, покорный. Вероятно, черновиком следовало бы заняться в одиночестве, но не хочется слишком много о нем думать. Он берет перо, проверяет острие: – Это потребует самоуничижения. Ричард Кромвель спрашивает: – Мне привести кого-нибудь более способного? – Ричард Рич знает толк в искусстве пресмыкаться, – говорит Грегори. – И Ризли умеет лебезить, если потребуется. Он начинает: «Смиренно простираюсь перед вашим величеством…» – А что, если так? «У ног вашего величества», – предлагает Грегори. – Это слишком, – замечает Ричард. – Возможно, но не грех и подольститься. Он исправляет фразу: – Только не вздумайте упомянуть, чем мы тут занимались, за пределами этой комнаты. Король должен думать, будто она сочинила сама. «Пишу вам, чтобы…» Чтобы что? – «Чтобы открыть свое сердце… вручаю мою душу… всецело предаю мое тело… не желая иного положения, состояния, а равно статуса и способа существования, нежели тот, который ваша милость сочтет…» – Словно учебник по праву, – говорит Ричард. – Одного, другого, третьего. – Верно, не пойдет. Она же не судейский из Грейз-инн. Он раздражен. Он не умеет писать, не учитывая все возможные обстоятельства, исключая любые лакуны, щели, крошечные просветы, которые позволят смыслу вытечь и ускользнуть. «Простить мои прегрешения… Я признаю, принимаю, выражаю согласие, отдаю должное, полагаю законным…» – Короля не должно удивлять, что она обратилась к юристам, – говорит Грегори. – И поэтому в ее признании чувствуется их рука. – «…признаю и принимаю право его королевского величества быть перед Господом верховным главой церкви Англии… И от чистого сердца, без всякого принуждения заявляю и признаю, что брак, ранее заключенный между его величеством и моей матерью, был по законам божеским и человеческим кровосмесительным и нелегитимным…» – Кровосмесительным и нелегитимным, – повторяет Грегори. – Это охватывает все. Больше желать нечего. – Если забыть, – замечает Ричард, – что фактически она не приносит слов присяги. Он посыпает чернила песком. – Пока никто не откроет Генриху на это глаза. Пусть это будет ее собственное признание, сокрушительное и всеобъемлющее. Упоминая Екатерину, он называет ее «покойной вдовствующей принцессой», как надлежит верноподданным, но также «моей матерью», моей дорогой матерью, чьи руки бессильно опущены и вздрагивают внутри савана. Каталина, сегодня ты повержена, живое победило мертвое, Англия одержала верх над Испанией. Он и раньше писал письма за Марию, более жалобные и угодливые: «Я всего лишь женщина, и я ваше дитя». Они не имели успеха и не тронули сердце короля. Чтобы тронуть его сердце, вы должны дать ему все, чего он хочет, и в той форме, о которой он до поры до времени не догадывается сам. «Я вручаю мою душу вашему попечению и предаю мое тело на вашу милость». – Пусть Рейф отвезет это в Хансдон, – говорит он. – И сегодня же получит ее подпись.
На дворе третья неделя июня. Анна умерла хмурой дождливой весной, но прошел месяц – и лето в разгаре. Жарким утром закрываете глаза, и на веках пылающий отпечаток золотистой ткани. Поднимаете руку, чтобы прикрыть лицо, и сияние становится пурпуром, словно епископы просвечивают сквозь пламя. С герцогами Норфолком и Суффолком он скачет в Хансдон, почтить юную леди, раскаявшуюся, смирившуюся, униженную – и снова достойную называться дочерью короля. Хертфордшир – графство богатое и многолюдное, в нем много зелени, а также усадеб джентльменов и придворных. Дом, построенный из кирпича на возвышенности, приспособлен для приема королевской семьи. Поместье старое, но нынешнему дому всего около восьмидесяти лет. Они гордятся древними грамотами с раскрашенными щитами и гербами давно забытых лордов: черная полоса наследницы Деспенсеров, серебряный лев Моубреев, королевский герб Эдмунда Бофорта с сине-серебряной составной каймой. Два года назад король потратил около трех тысяч на новую черепицу и перекрытия, а также прислал людей из мастерской Галейона Хоне украсить стекла главных покоев розами в полоску, любовными узелками, трепещущими белыми соколами и геральдическими лилиями. В то же самое время – как оказалось, весьма кстати – дом обзавелся новыми петлями, запорами, крючками, засовами и замками. В пути челядь трех лордов едет отдельно во избежание ссор. Норфолк посмеивается: – Все знают, чем занимается Кромвель, когда забирается к северу от Лондона. Останавливается в каком-нибудь грязном кабаке, хватает судомойку и получает свое. – Мало того что герцог выражается куда грязнее, он сопровождает свои слова жестами: поднимает и опускает локоть, сжимает и разжимает кулак. Чарльз Брэндон хохочет. Такие шутки ему по вкусу. Он замечает, что Томас меньшой скачет рядом с Норфолком. О чем бы братья ни шептались, когда он оставил их одних, они шепчутся снова. – Видите? – спрашивает он Суффолка. – Вижу, – отвечает тот. – «Навеки ваш, Правдивый Том». Полюбил-Разлюбил. Блещут-Плещут. Птичьем-Девичьем. Бедняга, думает он. Даже Суффолк понимает, как дурны его вирши. Он вспоминает потрясенное лицо молодого Говарда при словах, что дамы обмениваются его стихами. Словно Правдивый Том впервые об этом слышал. Словно думал, что после прочтения дамы съедают бумагу. В доме их встречает леди Шелтон. Мария состоит под ее присмотром последние три года – должность, которой не позавидуешь. Входит Брэндон, леди Шелтон приседает: – Милорд Суффолк. И Томас Кромвель, наконец-то. Она горячо целует его, словно кузена. Томаса Говарда, который и впрямь приходится ей кузеном, спрашивает: – Мы можем надеяться, что ваша милость не станет портить мебель? Согласно описи, шпалера, которую ваша милость разорвали, стоит сто фунтов. – И что с того? – спрашивает Норфолк. – Я же не зад подтер вашей шпалерой. Где Джон Шелтон? Впрочем, не надо, я сам его найду. Чарльз, идемте со мной. Герцоги выходят, криками требуя хозяина дома. Он спрашивает: – Норфолк набросился на шпалеру? Чем еще он успел вас удивить? – Угрожал избить леди Марию, повредил кулак о стену. – Леди Шелтон прикрывает рукой улыбку. – Буянил, словно пьяный медведь. Я думала, Мария лишится чувств. Я сама чуть в обморок не упала. Но теперь, слава богу, вы здесь. – Безобразнее прежнего, – говорит он. – А вот вы, миледи, от забот и тягот становитесь только краше. Леди Шелтон не держит на него зла, хотя покойная королева приходилась ей племянницей. Она отмахивается от комплимента, говорит: – Пресвятая Дева, мы вас заждались. Леди Брайан, как вам известно, вверены заботы о малышке, но поскольку она опекала Марию с тех пор, как ее отняли от груди, то считает нужным вмешиваться во все на свете и указывать Шелтону, как вести хозяйство, словно весь мир вертится вокруг леди Элизы. У нас нет никаких инструкций, запрещено только называть ее принцессой Елизаветой. Как вы считаете, король от нее отречется? Он пожимает плечами: – Мы не смеем спрашивать. Нога беспокоит Генриха, он не в духе, потому что не может с утра три часа ездить верхом, а после играть в теннис. С королем непросто сладить, когда ему недостает моциона. Но кто знает, теперь, когда леди Мария подчинилась, возможно, мы найдем способ к нему подступиться. Что вы думаете? Вы видите ребенка каждый день. – Я думаю, она дочь Генриха. Никому не даст покоя своим ревом. У кого-нибудь из любовников Анны были рыжие волосы? – Ни у кого из покойных джентльменов. Леди Шелтон задумывается. – Понятно… выходит, были и другие? Те, которых не судили? – Ее мысли кипят. – Уайетта можно назвать светловолосым… – Уайетта можно назвать лысым. – Вы, мужчины, так безжалостны друг к другу. – Король полагает, Анна спала с сотней мужчин. – Неужели? Мало ему быть простым рогоносцем. – Она оглядывается через плечо. – Это правда, Уайетта освободили? Ему хочется сказать, земля приняла вашу племянницу, пора двигаться дальше. – Никто больше не содержится в тюрьме по этому делу. Вы слыхали о письме из Италии? – Рейнольд, да. Редкий дурак. Я решила, что он погубил Марию. А что дочь Джона Сеймура? Как держится, она ведь теперь хозяйка? – Она подходит Генриху. Смиряет его норов. – Для этого хватило бы и мокрой тряпки. Впрочем, я желаю ей успеха. Возможно, она не так проста, если сумела одолеть мою племянницу. Леди Шелтон берет его под руку, ведет вглубь дома и велит принести вина. – Я расскажу вам, как было, когда Сэдлер приехал с вашим письмом. Мы можем присесть. Шелтон просидит с герцогами не меньше часа, будет изливать жалобы на леди Брайан. Ему нравится слушать леди Шелтон. Ее рассказу можно доверять. – Ступай, Роб, – говорит леди Шелтон слуге. Мальчишка – Мэтью из Вулфхолла – поворачивается к двери и ловит его взгляд. Он отводит глаза. Я же говорил ему, думает он, как бы одиноко тебе ни было – странный дом, чужое имя, – ты не должен подавать мне никаких знаков, особенно в присутствии женщин, которые порой видят то, что упускают мужчины. – Мы с часу на час ждали ваше письмо, – говорит леди Шелтон, – и документ, который Мария должна подписать. Императорский посол Шапюи посетил нас два дня назад и просидел с ней три или четыре часа. Есть он не стал, но осушил большую кружку эля. Шелтон сказал тогда: «Надеюсь, бедняга не пожалеет об этой кружке. Когда молодая дама считает себя принцессой, как извиниться и оставить ее ради того, чтобы навестить ночной горшок?» Посол вышел от Марии с таким видом, словно речь шла о спасении его собственной жизни. Шелтон проводил его и пожелал счастливого пути, а когда вернулся в дом и стаскивал сапоги, Мария вбежала к себе, заперлась на засов и придвинула к двери сундук. Для нас такое не впервой. Обычно мы зовем крепкого детину, который рубит для нас дрова. Шелтон послал за ним и на этот раз, и, когда дровосек вышиб дверь, Мария как ни в чем не бывало читала молитвы. Однако у нее был еще целый день, думает он, чтобы осмыслить предстоящее. – Когда прискакал Сэдлер, давно стемнело, на часах было одиннадцать. Мария еще не спала, вытянулась на покрывале в сорочке, мы не смогли заставить ее лечь на простыню. Она сказала: «Если это джентльмен, я оденусь. Если письмо, то заявляю вам, что прочту его не раньше утра». Это Сэдлер, ответили мы и принялись гадать, как она поступит, потому что раньше она утверждала, что Сэдлер не джентльмен, хотя и приближенный короля. Как с ней сладить, думает он. – Но тут она воскликнула: «Сэдлер – слуга лорда Кромвеля!» – бросилась вниз по лестнице, не обувшись, и вырвала пакет у него из рук. Она сказала: «Отдайте его мне, и покончим с этим!» Прижала пакет к себе и унеслась наверх, крича: «Я подпишу! Я должна. Шапюи мне советовал, император мне велел, а папа простит меня, потому что меня заставили, и это не грех». Леди Шелтон продолжает: – Я в жизни так не удивлялась. Позднее она вышла из комнаты, брызгая слюной, и обратилась ко мне: «Шелтон, скоро вашей службе придет конец. Мой добрый отец призовет меня к себе. И вы никогда больше не будете за мной шпионить». – Леди Шелтон сжимает в руках кубок с вином. – К полуночи она подписала документ и заявила, что не желает, чтобы он оставался в доме. Велела мастеру Сэдлеру убираться в ночь. «Или письмо, или я. Я не останусь с ним под одной крышей». Какая глупость, ворота парка охраняются, она не одолела бы и пятидесяти шагов. Вообразите, все это время леди Брайан таскалась за ней с горячим отваром ромашки и вопила: «Моя дорогая, вы подхватите лихорадку!» А в детской не переставая ревел этот дьявольский ребенок – у нее все еще режутся зубы, – и тут Шелтон, который в обычных обстоятельствах держится учтиво, как заорет: «Прочь отсюда, леди Брайан! А вы, принцесса, живо пейте, если не хотите, чтобы я зажал вам нос и заставил выпить силком!» Простите его, что назвал Марию принцессой, но это самый быстрый способ заставить ее подчиниться. Затем мастер Сэдлер заявил весьма разумно и любезно: «Я не погнушаюсь соломенным тюфяком в беседке, а письмо заберу с собой. Думаю, это всех устроит». Хороший мальчик. Он улыбается. Клянусь вам, сэр, говорил ему Рейф, чтобы убраться из этого дома, я провел бы ночь в гамаке, в хлеву или на траве. Так и вышло, ночь я проспал как убитый, во сне видел мою жену Хелен, а проснулся под пение птиц, прижимая Хелен к груди. Мне принесли хлеба и эля, а еще воды, чтобы умыться. Не побрившись и наскоро попрощавшись, я сел на лошадь и поскакал к вам. Поверьте, сэр, стоило провести ночь под звездами, чтобы, передавая вам пакет, увидеть, как просветлело ваше лицо. Он отставляет кубок: – Миледи, нам надо идти к остальным. Я защищу вас от Норфолка. Я не шпалера, меня так легко не порвать. Мария Болейн однажды припала ко мне, приняв за стену. Норфолк ударит меня кулаком, но кулак отскочит. Леди Шелтон спрашивает: – Мы с Джоном гадаем, распустят ли ее двор? – Не сейчас. – Он умолкает, потом говорит: – Король не примет Марию, пока весть о ее покорности не перелетит границу и он не удостоверится, что Рим и император знают. – Разумеется. Иначе это будет выглядеть так, будто король передумал и решил не настаивать. Или испугался императора. – Вы разумная женщина. Идемте. – Он подает ей руку. Все Болейны не чужды политике. – Можете смягчить условия ее содержания. Никаких посетителей без моего согласия, но она может прогуливаться в парке. И переписываться. Леди Шелтон опирается на его руку: – Я думаю, она только притворяется покорной. – Леди Шелтон, – говорит он, – мне все равно.
Войдя к Марии, они преклоняют колени. Норфолку, как самому знатному, надлежит приветствовать ее от имени короля, могущественного и милосердного властелина, да продлятся дни его правления. Просить прощения за нанесенные обиды, за излишнюю настойчивость. Лишь страхом за ее жизнь можно оправдать резкость их предыдущих бесед, говорит Норфолк. – Томас Говард, – отвечает Мария, – я удивляюсь вашей смелости. Норфолк вскидывает голову, глаза вспыхивают. – Милорд Суффолк, – Мария отворачивается к Брэндону, – на вас вины нет. – Ну, раз так… – Брэндон пытается встать, один взгляд – и он снова опускается на колени. – Вероятно, вы считаете женщин немощными созданиями, – обращается Мария к Норфолку, – если думаете, что они не способны помнить дольше недели. Я на память не жалуюсь. И не забыла, как вы преследовали мою мать. – Я? – удивляется Норфолк. – О чем вы… – Мне известно, что вы поощряли честолюбивые замыслы вашей племянницы Анны, затем отреклись от нее и довели ее до смерти. Полагаете, я не испытываю жалости к этой заблудшей женщине? – Мария берет себя в руки, понижает голос. – Я не чужда раскаяния. Стоя на коленях, он рассматривает королевскую дочь. Ей двадцать лет, и, очевидно, она уже не вырастет. Мария выглядит такой же тощей и чахлой, как в Виндзоре пять лет назад. Болезненное бледное личико, мутные глаза, удивленные и наполненные болью. На ней корсаж и юбка цвета пижмы, который совершенно ей не идет. Волосы забраны под шелковую плетеную сеточку. Мария не носит гейбл, вероятно, чтобы не давил на голову, которая болит нестерпимо. – Моя дражайшая леди, – говорит Чарльз. Голос непривычно мягок. Герцог повторяет фразу, но больше ему сказать нечего. – Что ж, здесь Кромвель. Все образуется. – Образуется, как же! – огрызается она. – Когда милорд Норфолк все исправит. Вы собираетесь пользовать меня как свою жену? – Что? – Герцог таращит глаза, губы трогает непрошеная ухмылка. Мария вспыхивает: – Я имела в виду, вы собираетесь меня бить? – Кто сказал вам, что я бил жену? Кромвель, вы? Что наплела вам эта окаянная баба? – Герцог разворачивается, простирает к ним руки. – Шрам на виске, который она показывает, был у нее до нашей встречи. Она утверждает, что я стащил ее с кровати, где она рожала, и проволок по комнате. Клянусь Иоанном Крестителем, не было такого! Мария говорит: – Я не знала этой истории, теперь знаю. Вы не уважаете женщин, даже если Господь поставил женщину над вами. Ступайте. Я хочу поговорить с лордом Кромвелем наедине. – Вот как? – Норфолк усмирен, но усмирен не до конца. – И что такого вы хотите ему сказать, чего не готовы сказать нам? – Чтобы объяснить это вам, милорд, не хватит вечности. Брэндон уже на ногах. Больше всего на свете ему хочется убраться восвояси. Норфолку подъем дается тяжелее. Нога подворачивается, он с силой наступает на камыш, которым устлан пол, кряхтит, рука молотит по воздуху. Чарльз подхватывает его под локоть: – Держись крепче, Говард, я тебя подниму. Норфолк отпихивает его: – Отпусти меня! Это судорога. – Герцог не желает признавать возраст. Он обходит герцогов – позвольте, милорд Суффолк, – обхватывает Томаса Говарда обеими руками сзади и небрежным рывком поднимает на ноги. Его сердце поет.
– Итак, – говорит Мария. – Я слышала, теперь вы хранитель малой королевской печати. А что случилось с Томасом Болейном? – Король разрешил ему удалиться в Сассекс и жить в мире и покое. Она презрительно фыркает, трет лоб, – кажется, даже сетка ее раздражает. – Болейн, в отличие от Томаса Говарда, всегда был любезен с моей матерью. Никогда не оскорблял ее, по крайней мере в глаза. И все-таки он холодный и себялюбивый человек и водит компанию с еретиками. Король милостив. – Некоторые говорят, даже слишком. Это предупреждение. Она не слышит его: – Вы стали таким влиятельным, лорд Кромвель. Возможно, вы были таким всегда, только мы этого не замечали. Кому ведомы замыслы Господа? Только не мне, думает он. – Я велел Кэрью написать вам. Полагаю, он написал? – Да, сэр Николас дал мне совет. – Который вас разочаровал. – Который удивил меня. Видите ли, милорд, я знаю, что он принес присягу, несмотря на то что поддерживал мою мать. Я думаю, все, кто остался в живых, ее принесли. Не все, думает он. Бесс Даррелл не принесла. Любовница Тома Уайетта. – Миледи Солсбери подписала, и ее сын лорд Монтегю, лорд Эксетер и все Куртенэ. Покуда была жива Анна Болейн, им приходилось перед нею склоняться. Но я думала, после ее смерти им незачем скрывать свои истинные мысли. Почему не сказать прямо, что отец должен примириться с Римом? Почему не помочь мне вернуть отцовское расположение, а также мои права и титул? Я не знала, что король будет упорствовать в своих заблуждениях, не знала… Что вокруг столько робких сердец? Столько соглашателей, честолюбцев и трусов? – Они предоставили отдуваться вам, – говорит он. – А сами по привычке спрятались. – С тех пор как я получила эти советы от моих друзей – такие отличные от того, что они говорили раньше, – я почувствовала себя очень одинокой, милорд. Она идет к нему – он успел забыть, какая она неуклюжая, тычется, словно слепая. На низком столике стеклянный графин в серебре. Она замечает его, делает шаг вбок, хватается за столик, он наклоняется, плещется вино – багряная волна заливает белую льняную скатерть. – Ой! – вскрикивает Мария, хватает графин, тот выскальзывает из ее пальцев… – Оставьте, – говорит он. Она в ужасе смотрит себе под ноги, шарахается от осколков: – Это графин Джона Шелтона. Из Венеции. – Я пришлю ему другой. – Я знаю, у вас там друзья. Посол Шапюи мне сказал. – Я рад, что он сумел объяснить вам опасность вашего положения. Последняя неделя была… – Он качает головой. – Шапюи сказал: «Кромвелю пришлось применить все свои таланты и добродетели. Рискнуть всем. Он уже ощущал острие топора». – Подол ее платья пропитался кларетом, она безуспешно пытается стряхнуть влагу. – Больше никто из лордов за меня не вступился. Ни Норфолк, он не стал бы. Ни Суффолк, он бы не посмел. Мы этого не забудем… Она запинается. Вот она и назвала себя во множественном числе, думает он. Уже. – Посол говорит: «Кромвель еретик, но мы должны надеяться, что Господь направит его к истинной вере». – Мы все на это надеемся, – замечает он набожно. – Я часто спрашиваю себя, почему я не умерла в колыбели или в утробе, как мои братья и сестры? Должно быть, у Господа был особый замысел относительно меня. Возможно, вскоре я буду возвышена так, как не смею и мечтать. Опасность возникает внезапно, словно удушливая вонь вспыхнувшей серы. Когда Мария движется, платье цвета пижмы отбрасывает бледный желтушный отсвет. Она, как и Ричмонд, думает, что Генрих при смерти. – Какой у Господа мог быть замысел, кроме того, чтобы вы жили в довольстве и были доброй дочерью своему отцу? – спрашивает он. – Я всегда буду послушна королю. Но у меня есть другой Отец, Небесный. – Волю Отца Небесного порой трудно истолковать, воля же вашего отца предельно ясна. Поздно делать оговорки, Мария. Вы подписали документ. Она поднимает глаза, во взгляде ярость. В следующий миг они уже вновь бесстрастно-голубые, как у Генриха. – Да, я приложила к нему руку. – Шапюи прав. Я не смог бы сделать для вас большего. И сомневался, хватит ли моих сил даже на это. Ваш отпор ранил вашего отца, его здоровье пошатнулось. – Я верю, – говорит она. – Мое здоровье тоже пошатнулось. Итак, когда я могу вернуться ко двору? Вы могли бы забрать меня с собой уже сегодня. Пусть мне найдут лошадь. Мы будем в Гринвиче до темноты. – Король в Уайтхолле. К тому же многое еще нужно устроить. – Разумеется, но я неприхотлива. Я готова разделить ложе с прачкой, лишь бы быть рядом с отцом. – Она снова начинает ходить по комнате, давя осколки. – Я знаю, вы считаете меня хилой. Леди Шелтон говорит, труп и тот порумянее, и она права. Но я всегда была хорошей наездницей. Клянусь, я не отстану от вас в дороге. – Леди Мария, вам придется набраться терпения. Король должен удостовериться, что весть о вашем решении разлетелась по стране и за ее пределами. – Теперь об этом узнают все, – говорит она, – я понимаю. – И мало кто усомнится, что вы поступили правильно. – Шапюи рассказал мне о письме Рейнольда. Ко мне это не имеет никакого отношения. Я ничего не знала. Я могу лишь пожалеть тебя, думает он, даже если не до конца тебе верю. Он говорит: – Ваши сторонники – Куртенэ, Поли, – забудьте о них. Они уверяют, будто чтут вашу древнюю кровь, но больше думают о своей. Возможно, они не прочь выдать вас за кого-нибудь из своих наследников, но взамен потребуют подчинения, ибо жена должна подчиняться мужу, будь она хоть королевской дочерью. И если вашему отцу, не приведи Господь, суждено умереть до того, как у него родится сын, они потребуют корону. Они могут выступать под вашими знаменами, но никогда не позволят вам править. Мария отворачивается. В солнечном свете, что пробивается сквозь королевские гербы, сквозь желтую шкуру львов на стекле, она поднимает руки, теребит шелковую сетку чепца, стаскивает его. Опустив голову, трет виски и лоб, затем вынимает шпильки, распуская волосы. Он смотрит на нее, онемев. На его памяти женщины проделывали такое только в одном случае. Да и то он знавал такую, которая, прежде чем приступить к делу, плотнее затягивала волосы в пучок на макушке. Она говорит: – Я так страдаю, мастер Кромвель, что думаю, Господь меня любит. Простите, я больше не в силах выносить эти путы. Голова болит, зубы ноют. Джон Шелтон сказал, может быть, лучше их вырвать, чтобы боль ушла. У меня течет из глаз и носа, а тут, – она подносит руку к щеке, – опухоль размером с теннисный мяч. Она невинна, думает он. Сомнений быть не может. Как она сказала Норфолку: «Вы собираетесь пользовать меня как свою жену», не ведая, отчего он ухмыляется. – Миледи, – говорит он, – позвольте мне вам помочь. Ваши глаза, голова, ваш разум, все ваши органы взбунтовались. Вы не можете переварить съеденное, ночной сон вас не освежает. Но теперь вы избрали правильный путь, поступили как все – мужчины и женщины, любящие Господа, – все, кто покорился и осознал свой долг перед страной. Вы прилагали все усилия, чтобы отвечать «нет». Теперь вы ответили «да». Выбрали жизнь, и вас ждет процветание. Вы думаете, только слабые люди подчиняются закону, потому что он их страшит? Только слабые люди исполняют свой долг, потому что не смеют отказаться? Это не так. Подчинение дает силу и спокойствие. И скоро вы их ощутите. Поверьте, я не лукавлю. Это будет как солнечный луч посреди долгой зимы. Она говорит: – Я бы много отдала, чтобы снова сесть в седло. Но у меня нет лошади. Мне запретили ее иметь. – Как только я доберусь до Лондона, я найду вам лошадку. И я скажу Джону Шелтону, что вы можете выезжать с сопровождающими когда захотите. – Он боялся, что крестьяне при виде меня преклонят колени и признают меня принцессой. Если такое случится, думает он, Шелтон найдет способ их усмирить. И едва ли посол Шапюи выскочит из канавы и похитит вас. Он говорит: – В моей конюшне есть прелестная серая в яблоках кобыла, очень умная. Ее можно доставить сюда очень быстро. – Как ее зовут? Жидкая рыжеватая прядь ее волос вяло свисает с плеч. Мария беспокойно тянет к ней руку. В это мгновение она выглядит вдвое моложе своих лет. – Ее зовут Дусёр. Но вы можете назвать ее по-своему. – Нет. Хорошее имя. Она роняет чепец на столик, шелковые нити впитывают пролитое вино. Ему хочется поднять чепец, но сетка безнадежно испорчена. – Ничего, возьму другую, – говорит она. Ее глаза следят за ним, в них горит алчный огонь. – Этот синий на вашем джеркине хорош. Мне нравится узор. Он вспоминает Марию Болейн. «Мне нравится ваш серый бархат». Как давно это было, словно в другой жизни. Тогда внутри джеркина я был другим человеком. Тоньше? Возможно. Осторожнее? Наверняка. Он говорит: – Когда вернетесь ко двору, выберете любой шелк и дамаст, который только пожелаете. Король обсуждал со мной ваши нужды. Мария подносит ладонь ко рту, издает тихий стон, и ее лоб прорезает глубокая морщина. В следующее мгновение влага начинает течь у нее из носа и глаз, слезы катятся по щекам – тяжелые холодные слезы, словно камни у входа в гробницу. Он пересекает комнату. На высокой ноте, зажав рот пальцами, она голосит, словно споткнулась о труп. Раскачивается из стороны в сторону, мычит, и он подхватывает ее, чтобы не упала. Ее мышиные косточки трепещут в его руках. Дверь открывается. Леди Шелтон окидывает взглядом разбитое стекло, багровое пятно, девушку с перекошенным лицом и обращается к ней строго, как к собственной дочери: – Мария, хватит. Отпустите милорда хранителя. Наденьте чепец. Вой прекращается. Лицо Марии пошло алыми пятнами, ее трясет как в лихорадке. – Я не могу. Мой чепец испорчен. Я врезалась в стол и разбила графин сэра Джона, о чем сожалею, затем я… – Не важно, – заявляет леди Шелтон. – Я никогда не слушала ваших объяснений, с чего бы мне теперь начинать. – Она собирает рыжие пряди, зажимает их в кулаке, словно собирается выволочь Марию из комнаты за волосы, затем, издав гневный возглас, отпускает ее. – Я отведу вас к леди Брайан, пусть приведет вас в порядок. Вытрите нос. Он слышит мысли Марии, они такие громкие, словно шлепаются о стены: я английская принцесса, вы мне обещали. – Мария, запомните, – говорит он. – Я сдержал обещание. Я отношусь к вам с почтением. Можете на меня рассчитывать. Но это все. В глазах Марии смятение. – Но вы сказали, что я буду… если что-то случится с королем… что вы поможете мне… разве вы не обещали послу? – Я обещал то, что должен был обещать, – говорит он. – У меня не было выхода. Дернув Марию за волосы, Энн Шелтон прекращает дальнейшие расспросы. Она обращается к нему поверх головы Марии: – Вы обязательно должны перед отъездом увидеть Элизу. Леди Брайан настаивает.
То, что желает продемонстрировать им леди Брайан, представляет собой дергающийся ворох ткани, молотящие по воздуху красные кулачки, глотку, из которой вырывает пронзительный визг. – А теперь, миледи, – леди Брайан подхватывает малышку, – покажите этим джентльменам, как хорошо вы умеете себя вести. Они прискакали издалека, чтобы поведать вашему милорду отцу, как вы поживаете. Он в смятении: – Она вопит так, словно увидела епископа Гардинера. Брэндон фыркает. Томас Говард кисло улыбается. – Не хотите сказать их милостям, как рады их видеть? – спрашивает леди Брайан у своей подопечной. – Песенку не споете? – Позволю себе усомниться, – говорит Норфолк. – «Ой-лю-лю, лю-лю, лю-лю, – выводит леди Брайан. – Дрозд строит храм на холме, зяблик на мельницу тащит мешок…» Нет? Не важно, милая. Держите. – Она достает кольцо из слоновой кости, перевязанное зелеными ленточками, дитя хватает кольцо и сует в рот. – Ее зубки растут очень медленно. Суффолк взирает на ребенка с высоты своего роста: – Слава богу, не то, боюсь, она бы меня покусала. – Еще не все потеряно, мы можем вернуться позднее, – говорит он. – Да, когда ей исполнится тридцать, – бормочет Суффолк. Но герцог любит детей и не может устоять, чтобы не наклониться к ребенку и не скорчить рожицу. Девочка перестает хныкать, дотрагивается до герцогской бороды, гладит, с сомнением разглядывает свои пальцы. – Ничего, не отвалится, – говорит ей герцог. Черные глазки стреляют в него, затем дитя снова сует в рот кольцо, но больше не плачет. – Никогда не видела, чтобы ребенок так страдал, – говорит леди Брайан. – Поэтому я порой слишком ее балую. Сэр Джон разрешает ей сидеть за столом, и она слишком мала, чтобы не озорничать. – Она оборачивается к нему. – Мастер Кромвель, а как поживает ваш малыш Грегори? – На голову выше меня, подыскивает себе невесту. – Как летит время! Кажется, совсем недавно вы привозили его… куда же… – В Хартфилд. – Мария чахла, – леди Брайан оборачивается к герцогам, – и, пока не появился Томас Кромвель, с ней не было сладу. Мы немогли заставить ее сесть за общий стол, потому что тогда ей пришлось бы сидеть ниже сестры, – тогда Элиза была принцессой. И сэр Джон сказал, помяните мое слово, дай волю одной, другая тоже захочет обедать у себя, повара будут сбиваться с ног, а расходы станут непомерными, – и он решил, или Мария будет садиться за стол с нами, или останется без обеда и ужина. Но мастер Кромвель велел лекарям сказать, что Марии для здоровья необходим кусок красного мяса с утра. Сэр Джон не мог отказать ей в завтраке, поскольку завтракаем мы у себя. Поэтому она исправно получала свою порцию оленины утром, пока были запасы, или солонины, когда запасы кончались. Суффолк улыбается: – Она завтракала, как Робин Гуд со товарищи, пирующие в лесу. Уверен, ей это пошло на пользу. – Значит, Мария снова принцесса? – спрашивает леди Брайан. Он говорит: – Она остается леди Марией, королевской дочерью. – А эту красотку, – добавляет Норфолк, – надлежит именовать леди Приблуда, пока не будет других указаний. – Как не стыдно! – Леди Брайан возмущена. – Кем бы она ни была, она дочь джентльмена, и я не знаю, как дальше поддерживать ее статус. Дети растут, и за последний месяц она выросла из всех одежек, а сэр Джон заявил, что у него нет ни денег, ни указаний. Мы ставили заплаты и штопали, пока было можно. Ей нужны сорочки, чепчики… – Мадам, разве я похож на няньку? – спрашивает Норфолк. – Обратитесь к Кромвелю, полагаю, он понимает детские нужды. Кромвелю не чуждо любое ремесло – дайте ему кусок батиста, и до ужина он обошьет вашу маленькую леди. Герцог круто поворачивается и выходит из комнаты. Они слушают, как он велит Джону Шелтону распорядиться насчет лошадей. – Напишите мне, – говорит он леди Брайан. Он собирается выйти вслед за Норфолком, не хочет оставлять его наедине с Марией. Но леди Брайан не отстает, на лестнице шепчет ему в ухо: – Кромвель, я с ней беседовала. Как вы велели. И моя дочь леди Кэрью тоже. – Она говорит еле слышно. – Мы сделали, как вы велели. – Хорошо. – Вы разрушили ее гордость. Это нехорошо. – Я спас ей жизнь. – Для чего? Он ускоряет шаг: – Пришлите мне список того, что нужно малышке. Шелтон снаружи, с конюхами. Леди Шелтон, смеясь, говорит: – Незачем спешить. Мария унеслась наверх. Думали, она побежит советоваться с вашими врагами? Похоже, вы считаете ее неверной любовницей. Он замедляет шаг: – Герцоги мне не враги. Мы все слуги короля. – Кажется, вы внушаете Суффолку благоговейный страх. И впрямь, думает он, Брэндон ведет себя как шелковый. Он оборачивается и берет ее руку, но снизу доносится рев, словно охотничий клич: – Кромвель! Это Чарльз, стоит на пороге, закинув голову назад, и тычет вверх: – Кромвель, вы это видите? Ему приходится сбежать по ступеням, чтобы взглянуть с другого угла. Над ними в дымке алого цвета инициалы покойной Анны на глазурованном своде. – Шелтон! – вопит герцог. – У вас «ГА-ГА». Разбейте их. Пока погода не испортилась. – Чарльз гогочет. – Позвольте леди Марии швырнуть в них кирпичом. Мэтью держит его лошадь под уздцы. – Так держать, – говорит он. И это не про лошадь. Он взбирается в седло, и под скрип седла и сбруи мальчишка бормочет: – Заберите меня домой, как только будет можно, сэр. – Я передам Терстону, что ты по нему соскучился. Мэтью отворачивается: – Храни вас Господь, сэр. Он подбирает поводья. Джон Шелтон стоит на пути, извиняясь за «ГА-ГА». – Я уж думал, что извел все до единого. Он говорит: – В прошлом месяце Галейон Хоне прислал счет из Дуврского замка за витражи с гербом королевы в личных покоях. – Что? – спрашивает Норфолк. – Теперешней или старой? – Потрачены впустую, – говорит он. – Две сотни фунтов. Брэндон присвистывает: – Дьявол. С камня их можно сбить, с дерева срезать, забелить стену, распороть узор, но когда они сияют сверху, подсвеченные солнцем, что делать тогда? Они выезжают на дорогу. Летние дни длинные, они еще успевают вернуться до темноты. – Не отчаивайтесь, Кромвель, – говорит Норфолк. – Понимаю, вы предпочли бы где-нибудь заночевать, но не все потеряно. Смотрите по сторонам, может быть, разглядите в канаве девку с раздвинутыми ногами. Норфолк скачет впереди со свитой, они с Брэндоном едут рядом, колено к колену. В Саутуорке, говорит герцог, где у его семьи был большой дом, а стекольщики держали лавки, все жили в страхе перед пожарами, которые вспыхивали, когда открывали печи. – Хватит пучка соломы, – говорит Брэндон, – чтобы сгорел целый квартал. Еще бы, при таком жаре, думает он. Кузня опасное место, и кузнецы вечно ходят черные и обгорелые, но им не пронзают сердце изделия собственных рук, и они не разбиваются насмерть, свалившись с колоколен, что почти каждый день происходит со стекольщиками. На перекрестке с дорогой в Вэр Томас Говард останавливается и оборачивается в седле. Брат следует его примеру и, изогнувшись, смотрит на них. – Видите, как корежит Говардов? – говорит он. – Не терпится знать, о чем мы беседуем. Как ни странно, о стеклах. – Знаете, Кромвель, – говорит герцог, – в юности я славился меткостью и переколотил немало стекол. Полагаю, вы тоже. Или у вас не было случая? – Было, милорд, в Патни тоже есть стекла. – Милорд Норфолк! – кричит Чарльз. – Я рассказываю Кромвелю, что не бил стекол много лет.
В первую неделю июля король дает понять, что готов встретиться с дочерью. Нет, вернуть ее ко двору пока не готов. – Королева меня торопит, – говорит Генрих. – И я думаю, вы могли бы устроить нашу встречу. Я оценил бы ее дочерние чувства. И еще, Сухарь, – добавляет король, – я не хочу ехать далеко. Доктора не выходят от Генриха. Настроение короля испорчено ноющей болью в раненой ноге. Я начинаю подозревать, говорит Беттс, что задета кость. Будь это мясо, мы бы промыли рану – или отрезали ногу, если не будет другого выхода. Но кость либо заживет, либо нет. Молодой Ричмонд прав. Болезнь запущена. В следующем году Генрих может нас покинуть. В Остин-фрайарз он заходит в комнату Мерси Прайор: – Матушка, король хочет повидаться с дочерью. Думаю, мы могли бы предложить ему для этого наш новый дом в Хакни. Комната Мерси выходит в сад, и она всегда может посидеть на припеке. Она поддерживает переписку с друзьями, многие моложе ее, есть ученые, некоторые лютеране. Иногда мистрис Сэдлер приходит почитать ей вслух. Теперь Хелен читает так свободно, словно ее учили этому с детства, и пишет разборчиво. Но сегодня Мерси сидит в одиночестве с Новым Заветом Тиндейла на коленях. Она уже не может разбирать слова, но любит держать книгу в руках. Мерси откладывает ее и некоторое время разглядывает, словно ребенка, чтобы убедиться, что ему удобно. – Новостей нет? Вот уже год с тех пор, как его арестовали в Антверпене, ученый богослов сидит в императорской тюрьме в Вилворде. Его время истекает. Тиндейл или отречется, или сгорит на костре. Или отречется и сгорит на костре. Император хочет создать прецедент, чтобы другим было неповадно, хочет держать Антверпен в страхе. Король Англии не намерен защищать своего подданного – Тиндейл выступал против его развода. Если вам не нравится папа, это не значит, что вы на стороне Генриха. Тиндейл, как и Мартин Лютер, всегда говорил, мы не признаем Рим и его власть, но не можем порицать ваш брак с Екатериной: он законен и его нельзя расторгнуть. – Ты можешь замолвить за него словечко перед королем? – спрашивает Мерси. – Теперь, когда с ним новая королева и он успокоился… Ты говоришь, он готов примириться с дочерью. А другая сторона спора умерла. Екатерина умерла и не умерла. Ее дело живет, пустив глубокие корни в кислую почву. Мерси говорит: – Я думаю о Тиндейле в темнице. Ты не вытащишь его оттуда до зимы? Это возможно? – Ты имеешь в виду, возможно ли это для меня? Думаешь, я на это способен? – Ты на все способен. Для Мерси это не комплимент. У него есть план крепости Вилворде. Он знает, где содержат Тиндейла. Но даже если удастся доставить его к побережью, куда Тиндейлу податься дальше? – Я думаю, вскоре мы увидим Новый Завет в Англии. Генрих разрешит. В переводе Тиндейла. Но без его имени. – Надеюсь, что доживу, – говорит Мерси. – Это все Томас Мор и его шпионское гнездо, оно живо даже после его смерти. Если бы я думала, что мертвецы способны испытывать боль, я выкопала бы его из могилы и пинала вдоль Чипсайда за те страдания, что он причинил мужчинам и женщинам, которые несравненно ближе к Господу, чем он. – Блаженны кроткие, – говорит он. – Да, так утверждают. Я вижу, куда это заводит. В эти недели ему часто приходило на ум, что если сравнить дочь короля и Тиндейла – кто упрямее, кто более склонен к саморазрушению, – то неизвестно, за кем останется победа. – Но ты же видишь, – говорит он, – Мария сдалась. Если мы привезем ее в Хакни и они не договорятся, королю будет легче отступить. Весь год он перестраивает дом, переданный Генриху графом Нортумберлендским. Молодой Гарри Перси болен и сильно задолжал казне. Он предложил в частичную уплату долга дом со всей обстановкой. Генрих спросил его, почему бы вам, Сухарь, туда не переехать? Вместе с молодым Сэдлером, который строит летний дом напротив. Сможете присмотреть за тем, как ведутся работы. Король прислал им высушенные дубы из собственных угодий, и вместе с Рейфом они устроили производство кирпича, благо воду можно брать из ручья. Мерси говорит: – Пойми, Томас, как только тяжелые работы будут завершены, Генрих тебя выставит. Но ведь, в конце концов, дом принадлежит королю. Он заложил сад, поручив послам присылать ему саженцы и семена растений, не произрастающих в Англии. Свет зальет старые комнаты. Никаких больше «ГА-ГА», никаких заносчивых стекольщиков Хоне – Джеймс Николсон справится ничуть не хуже, только запросит дешевле. Вместе со строителями он обошел участок, обсуждая трубы, объем резервуаров, скрытые родники, которые можно использовать для подачи воды. Даже в давние дни в Остин-фрайарз он обустроил ванную, но у воды, текущей из труб, слабый напор; если хотите накормить короля, воды на кухне должно быть достаточно. – Ты со мной? – спрашивает он Мерси. – Все должно быть готово для ночлега двух королевских особ женского пола. – Хелен Сэдлер справится. Стара я уже ездить. А поскольку ни я, ни она и близко не бывали при дворе, нам обеим пришлось бы гадать, чего они захотят. Впрочем, Мария такой же человек, как все мы, и ничем не отличается от других девушек. А Джейн такая же королева, думает он, как и другие. Генрих представил ее послам, позволил вступить в беседу. Он удивлен – все вокруг удивлены – ее спокойствию и умению держаться. Однако потом она будто ушла в себя. В первую неделю ее глаза то и дело искали его или братьев, словно она хотела спросить, что дальше? Женщины в ее окружении до сих пор вздрагивают от каждого шороха. А чего вы хотели, Томас, спрашивает Фрэнсис Брайан. Всего несколько недель миновало с тех пор, как вы допрашивали их одну за другой, связывая их жалкие истории в узелки. Им нужно время, чтобы оправиться от страха.
Великий день настает. У Хелен в руках список. Мебель Гарри Перси была накрыта, чтобы уберечь ее от побелки и запаха краски. В парадной спальне с синего балдахина и золотой парчи спороли гербы. Под графским стеганым покрывалом золотого дамаста и синего бархата новые одеяла из плотной белой шерсти. Утром он просыпается с мыслью о Тиндейле в сырой темнице. Если его не прикончит палач, то доконает следующая зима. В Антверпене отпечатанные листы прячут между складок ткани в тюках, белое на белом. В тепле и покое Господь шепчет внутри каждого рулона. Его слово плывет по морю, выгружается в восточных портах, едет в Лондон на телеге. Он делает пометку: Тиндейл, поговорить с Генрихом, еще одна попытка. Он посоветовал выделить для леди Марии самую теплую комнату в доме. Огромная пуховая перина готова, желтый бархатный балдахин, подушки желто-коричневого бархата и зеленого узорчатого атласа. – Настоящая постель для новобрачных, – говорит Хелен. Видно, какое удовольствие ей, девочке, выросшей в бедности, доставляет возиться с превосходными тканями и иметь под своим началом целую армию подушек. Она говорит: – Я передвинула большое пурпурное кресло в галерею для короля. Теперь нужно найти кресло пониже для королевы. Есть еще золотое парчовое креслице для леди Марии. Говорят, она маленькая и тщедушная. Я ее увижу? Хелен замужем за доверенным лицом короля, почему бы ей не сделать реверанс леди Марии? Однако она не станет нарушать традиций. – Когда вы пригласите их на ужин, я встану рядом со слугами. Не подзывайте меня, вы же знаете, это нехорошо. Они разговаривают в галерее, Хелен смотрит на шпалеру, на белые шерстяные ноги бегущих фигур, на девушку со струящимися волосами: – Я не знаю, кто эти люди. На шпалере выткана горестная история Аталанты. – Она тоже была дочерью царя, – говорит он. – И? Дочери правителя не суждено жить в покое. Вечное «и» или «но». – Но царь хотел сына. И когда родилась дочь, он оставил ее умирать на склоне горы. – Невинного младенца? – Хелен потрясена. – Это было очень давно, в Аркадии, – говорит он. – Но она выжила, медведица выкормила ее своим молоком. – Так это сказка. А что потом? – Она стала охотницей, жила в глуши. Поклялась остаться девственницей. – Ради чего? – Думаю, она обещала это богам. Тогда еще не было пап. И Христа. Они верили в своих маленьких божков. Шум со двора заставляет их выглянуть из окна. Прибыл Терстон в окружении свиты кухонных мальчишек. Дождливым английским летом приходится излучать собственное сияние. Терстон займется блюдами, требующими руки мастера: желе из розовой воды, трясущимся пудингом, корзиночками с творожным суфле.
Король одет в белое с золотом, королева – в белое с серебром. – Сегодня получше, – говорит король. Он не спешит навстречу дочери – или делает вид, будто не спешит, – гуляет по саду, рядом с ним Рейф Сэдлер, обозревает новые посадки. – Поживу тут с неделю. Ближе к концу лета. А ты выметайся, думает он. Рейф ловит его взгляд. – Я загляну к тебе в гости, Сэдлер, – обещает король. – Мастер Сэдлер живет через дорогу, – объясняет он Джейн. – Ты знаешь, что он женился на нищенке? – Нет, – отвечает Джейн, и снова молчок. – Она пришла просить милостыню к дому лорда Кромвеля с двумя детишками, которые цеплялись за ее юбку. У нее не было никого в этом мире, но Кромвель, увидев, что она женщина добродетельная, взял ее в дом. – Королю нравится собственная история, на лице играет румянец, манеры просты и изящны, глаза горят ярче, чем в предыдущие несколько недель. – Мастер Сэдлер, видя, как она расцветает день ото дня, отдал ей свое сердце – и, несмотря на ее бедность, он на ней женился. Джейн не проявляет должной отзывчивости – или королю кажется, что не проявляет. – Разве это не высшее милосердие? – настаивает Генрих. – Мужчина, который мог выгодно жениться, выбирает женщину, стоящую ниже его, за ее высокие моральные качества? Джейн что-то бормочет. Король наклоняется к ней: – Разумеется, еще как встревожились! Кромвель, семейство Сэдлеров не в обиде? Кромвель их уговорил. Он сказал им, что нет преград для истинной любви. – Король поднимает руку Джейн и целует ее. – И он был прав.
Сигнал подан, момент приближается. Король озаряет комнату своей улыбкой: – Этого дня мы ждали очень давно. Приведите ее, Кромвель. – Генрих оборачивается к Рейфу. – Лорд Кромвель обошелся с моей дочерью с таким тактом и заботой, словно он мой родственник, – кажется, король удивлен собственным словам, – что, разумеется, далеко от истины, но я собираюсь щедро вознаградить его и весь его дом. Леди Шелтон, вы сходите с ним? Леди Шелтон прибыла из Хертфордшира в свите Марии вместе с сундуком новых платьев. Когда они вместе поднимаются по лестнице, она говорит: – Король весь светится. Можно подумать, Джейн сообщила ему добрую весть, хотя, я полагаю, еще рановато. – Некоторые женщины знают с той минуты, когда понесли. – Когда имеешь дело с королем, лучше перестраховаться. На вершине лестницы он останавливается: – Как она? – Молчит. – А как поживает ее корсаж цвета пижмы? – Истреблен, как имя папы. – И никогда не воскреснет? – Из него сшили подушку и отдали в детскую. Будем надеяться, леди Элиза с ней разберется, как только у нее прорежутся зубки. Должна признаться, это я виновата. Король не поскупился на траурные цвета после смерти ее матери. Но мне показалось, вашей милости не понравится, если она будет в черном. Тридцать два ярда черного бархата по тридцать фунтов восемь шиллингов. Сорок два шиллинга восемь пенсов новому главе гильдии портных за пошив. Четырнадцать ярдов черного атласа по шесть фунтов шесть шиллингов. Тринадцать ярдов черного бархата для ночной сорочки и подкладку из тафты. Девяносто черных беличьих шкурок. А еще нижние юбки, парлеты, корсажи, рукава, всякая всячина. Итого – одна тысяча семьдесят два фунта шестнадцать шиллингов шесть пенсов заплачено королем. Теперь Марии предстоит носить цвета поярче. Каждый день после его отъезда, точнее, с тех пор как король выразил свое одобрение, возы с щедрыми дарами тянулись из Бишопсгейта. Он говорил с итальянскими торговцами тканей, обсуждал с Гансом прекрасный изумруд – будущую подвеску в оправе из жемчуга. Меха Екатерины придется переворошить и, если король сочтет нужным, отдать Марии на зиму. Тиндейл, думает он. Помни о будущей зиме.
Когда они входят, Мария поднимает взгляд. Встречается с ним глазами. Красавица Элиза Кэрью избегает смотреть на него. Другая дама возится с подолом Марии. Это Маргарет Дуглас, рыжеволосая племянница короля. – Со мной леди Мег, – говорит Мария, словно он мог ее не заметить. – Король решил… раз уж это семейная встреча… Всякий раз, Мег, когда я вижу тебя, ты стоишь на коленях. Он хочет помочь ей. Не обращая внимания на его протянутую руку, Маргарет поднимается с пола, пересекает комнату и выглядывает в сад из окна. Жена Кэрью остается поправить шлейф. – Миледи? – говорит он. – Вы готовы? Мег понесет шлейф. Они выплывают из комнаты, в новом малиновом с черным платье Мария выглядит чопорно и зажато, а он жестом удерживает леди Кэрью: – Спасибо. – За что? – За то, что помогли мне ее спасти. – У меня не было выбора, меня заставили. Женщины, лестницы, слова из-под ладони – неужели слугам императора тоже приходится этим заниматься? Ты задерживаешь дыхание, пока Мария отмеряет каждый шажок. Дочь английского короля, ребенок королевы Шотландии – такие мгновения кажутся созданиями мастера, задумавшего вышить их шерстью или цветами. Мария оглядывается, словно проверяет, на месте ли он. Мег дергает ее за шлейф. Кажется, будто она управляет Марией, бормоча и кудахтая, словно женщина, толкающая тачку. Когда Мария останавливается, леди Мег тоже останавливается. Неужели Мария в панике? Что, если именно сейчас она думает, нет, я не смогу? Однако, шепчет он леди Шелтон, я не слишком тревожусь за исход дела, если она передумает, то потеряет равновесие и приземлится бесформенной кучей прямо у ног отца. – Мы старались как могли, – вздыхает леди Шелтон. – По-моему, ей к лицу более нежные оттенки, но она пожелала выглядеть царственно. Что такое с шотландской девчонкой? Вы ей не нравитесь? – Бывает, – говорит он. Их не предупредили, что королевских особ женского пола будет три: Мария, королева, Мег Дуглас. Они думали, королева возьмет с собой обычных камеристок. Но всадники еще не успели спешиться, а он уже окликнул Хелен, и она унеслась в дом. Совсем скоро Хелен вернулась: добавила красные подушки золотого шитья, доложила она, постелила на пол ковер. Повесила шпалеру с историей Энея, – по крайней мере, Рейф так сказал. Надеюсь, думает он, Дидона вышита не в языках пламени. У подножия лестницы Мария резко останавливается: – Милорд Кромвель! Мег злобно выдыхает: – Мадам, король ждет! – Я забыла поблагодарить вас за серую в яблоках. Очень спокойная лошадка, как вы и обещали. – Она обращается к Мег: – Лорд Кромвель прислал мне кобылу из своей конюшни. Ничто не обрадовало бы меня больше – я не сидела в седле пять лет, и теперь мое здоровье пошло на поправку. – Она и впрямь выглядит лучше, – говорит леди Шелтон. – В лице прибавилось краски. – Ее звали Дусёр. Мне нравится, но я придумала новое. Я зову ее Гранат. Это эмблема моей матери. Леди Шелтон закрывает глаза, словно от боли. Мария у порога расправляет юбки. Двери распахиваются. Король и королева стоят против света: золотое солнце и серебристая луна. Мария глубоко и прерывисто вдыхает. Он становится у нее за плечом – а что ему остается?
Вечером король отпускает его, чтобы побыть с семьей. Расходятся рано, никаких бесед о политике, никаких бумаг на подпись. Хелен говорит: – Вы утомились. Не хотите перейти лужайку и часок посидеть с нами? Грегори и мастер Ричард уже там. Вечер, словно голубка, устраивается на ночлег. Когда хроники нынешнего правления будут написаны нашими внуками или чужеземцами, далекими от этих тающих в дымке полей и мерцающего света, они придумают заново встречу короля и его дочери – речи, которыми они друг друга приветствовали, взаимные поклоны, обещания, благословения. Они не увидят, не запишут, как леди Мария, чуть не падая с ног, склонилась в поклоне и как король вспыхнул, пересек комнату и прижал ее к груди. Ее сопение и хныканье, когда она обнимала белую с золотом ткань его джеркина, его всхлипывания, несмелые ласки и слезы, брызнувшие из глаз. Королева Джейн робко стояла поодаль с сухими глазами, пока неожиданная мысль не заставила ее сдернуть кольцо с пальца: – Вот, это вам, носите. Мария перестает хныкать. Он вспоминает леди Брайан, сующую кольцо для зубов леди Приблуде. – Ах. – Мария едва не роняет кольцо. Крупный алмаз удерживает полуденный свет в ледяном объятии. Маргарет Дуглас берет ее запястье и надевает кольцо на палец: – Слишком большое! – Мег в отчаянии. – Его подгонят. Король протягивает открытую ладонь. Камень исчезает в одном из кармашков. – Ты щедра, милая, – говорит он Джейн. Он, Кромвель, замечает блеск в глазах короля, когда тот подсчитывает стоимость камня. – Вы великодушны, мадам, – говорит Мария королеве. – Я желаю вам того, что принесет вам утешение. Надеюсь, скоро вы родите сына. Я каждый день буду за вас молиться. Отныне я считаю вас своей матушкой. Словно так было задумано Господом. – Но… – говорит королева. Обеспокоенная, она делает знак мужу, чтобы тот наклонил голову, шепчет ему в ухо. Король говорит, улыбаясь: – Королева сказала, даже Господу такое не под силу – она старше вас всего на семь лет. Мария в изумлении смотрит на Джейн: – Скажите ей, это выражение моего почтения. Общепринятая форма пожелания добра. Ее милость не должна… – Она поняла, не правда ли, милая? – Генрих улыбается Джейн сверху вниз. – Мы идем? Коленопреклоненные слуги ждут, когда мимо прошествуют августейшие особы. В комнату врывается Хелен с серебряным подносом, на котором лежат половинки лимонов, – и, поняв свою ошибку, пятится назад, отвешивая низкий поклон. Запах лимонов наполняет воздух. Джейн рассеянно улыбается Хелен. Мария ее не замечает, но хотя бы не сбивает с ног. Король замедляет шаг и готов заговорить, затем оборачивается к жене и дочери, которые замерли перед дверью. – Я не пойду впереди вас, – говорит Джейн. – Мадам, вы королева, вы должны быть первой. Джейн протягивает руку, голую, без кольца. Звезда испускает лучи в кармане на животе короля. – Давайте войдем как сестры, – говорит Джейн. – Никто не будет в обиде. Генрих сияет: – Ну разве сама она не драгоценность? Вы согласны, Кромвель? Идемте, мои ангелы. Попросим Господа благословить нашу трапезу и наше воссоединение. Молюсь, чтобы оно продлилось вечно. Но позднее, когда молитва прочитана, король омыл руки в мраморном тазу, блюда расставили и король отведал артишоков, заметив, что любит их больше всего на свете, он замолкает и погружается в раздумья. Наконец выпаливает: – Сэдлер, это ваша жена? Та, что поклонилась нам, когда мы вошли? – Он ухмыляется. – Если бы она пришла просить милостыню к моим воротам, я бы тоже на ней женился. И милосердие тут ни при чем. Какие глаза! Какие губы! – Король косится на Джейн. – И она уже подарила Сэдлеру сына. Джейн не видит и не слышит. Она поглощена своим пирогом с форелью, ломтики огурцов разбросаны по тарелке, словно зеленые полумесяцы. Будто ее наставляет Блаженная Екатерина. Та, другая, сидя на ее месте, хохотала бы, замышляя месть.
Шагая по тропинке, Рейф удивляется: – Гранат? – Он издает стон. – Я знал, что добром это не кончится. Приносят клубнику и малину. Приходит Ризли под руку с Ричардом Ричем. Занимают места в беседке. Кувшины с белым вином стоят на земле в лохани с холодной водой. Окажись здесь Мария, думает он, непременно бы ее опрокинула. Кубки Рейфа украшены изображениями учеников Христа. – Надеюсь, это не Тайная вечеря, – говорит Рейф. – Держите, сэр. Этот ваш. Он узнает святого Матфея, сборщика податей, поднимает кубок и произносит тост, который слышал от тосканских купцов: «Во имя Господа и барышей». Тяжесть этого дня опускается на плечи. Голоса то громче, то тише, и он уходит в свои мысли. Думает о крыльях, которыми бахвалился перед Фрэнсисом Брайаном. Когда крылья Икара расплавились, тот беззвучно пролетел сквозь воздух и с шуршанием вошел в воду, а перья остались на ровной маслянистой поверхности моря. Почему мы упрекаем Дедала за падение Икара и помним только его неудачи? Он изобрел пилу, топор и отвес. Выстроил лабиринт на Крите. Он приходит в себя. Из дома доносится детский плач. Хелен подскакивает: – Маленький Томас! Окно открыто! Ночной воздух вреден! Они смотрят наверх: появляется лицо няни, ставни плотно закрываются, плач смолкает. Рейф протягивает руку: – Милая, успокойся. У него хватает нянек. Они хотят, чтобы она посидела с ними подольше, ее красота словно благословение. Хелен садится и говорит: – Иногда, когда он плачет, у меня болит грудь, хотя его уже забрали у кормилицы. Дочерей я кормила сама, но теперь я леди. Вот так-то. Они улыбаются, все отцы, за исключением Грегори. Рич поднимает святого Луку. Он никогда не забывает о делах. – За ваш успех, сэр. – Рич опрокидывает кубок. – Хотя вы дотянули до опасной черты. Грегори говорит: – К тому времени, как мой отец выпустил из тюрьмы нашего друга Уайетта, тот успел выдернуть последние остатки волос. Отец не спешит, дабы показать свою власть. – Не вижу в этом ничего дурного, – говорит Рич. – Если она у тебя есть. Милорд, сегодня Кристофер Хейлс принял присягу в качестве начальника судебных архивов. Он спрашивает, вы готовы съехать? Он не собирался съезжать. От Чансери-лейн рукой подать до Уайтхолла. – Скажите Киту, я найду ему другой дом. – Жаль, вы не слышали короля, – говорит Рейф, – когда он сказал, сколь многим обязан нашему хозяину. Лорд Кромвель стал мне ближе, чем родственник. – А потом вспомнил, что я из простых, – улыбается он. – Если бы не это, он был бы рад состоять со мной в родстве. – Он окидывает их взглядом. Все ждут. Он вспоминает слова Уайетта: вы на грани того, чтобы объяснять свои поступки. – Господь свидетель, я бы решил все давным-давно, но Мария должна была осознать, чего от нее хотят. Вы были на совете, Рич, когда король вышвырнул Фицуильяма… – По-моему, вышвырнули его вы. – Поверьте, так лучше. – Мне было тяжело вернуться к столу с цепью в руке, думает он. Затылком я ощутил холодок, словно моя голова отделилась от плеч. Но мне пришлось идти. Словно Иисусу по воде. Пришлось расправить крылья. Мастер Ризли дотрагивается до его руки: – Сэр, ваши друзья хотели, чтобы я сказал… они поручили мне сказать вам… они надеются, что доброе расположение, которое вы проявили к королевской дочери, вам не повредит. С одной стороны, достойно похвалы примирить отца с дочерью и заставить непокорное дитя подчиниться… – Зовите-меня, возьмите клубники, – говорит Рич. – …с другой стороны, у нас нет причин полагать, что благодарность воспоследует. Остается надеяться, что вам не придется жалеть о своей доброте. – Гардинер будет рвать и метать, – говорит он. – Решит, что я хитростью добился преимущества. – Но вы добились, – говорит Хелен. – Мария с вас глаз не сводила. – Это другое, – говорит он. Она смотрела на меня, думает он, как на диковинного зверя: на что еще он способен? – Я обещал Екатерине за ней присмотреть. – Что? – Рейф изумлен. – Когда? – В Кимболтоне. Когда Екатерина была больна. – И вы завалили в постель ту женщину на… – Грегори осекается. – Простите. – На постоялом дворе. Но я не отравил ее мужа. Не измыслил преступления, за которое его могли бы повесить. – Никто и не думал вас обвинять, – успокаивает его Рич. – Епископ Гардинер обвиняет. – Он смеется. – Я видел ту женщину первый и последний раз в жизни. Но я помню ее, помню, как на рассвете она пела на ступеньках трактира. Я помню комнату больной в замке и Екатерину, съежившуюся в горностаевом плаще. Ее лицо, отмеченное печатью пережитых страданий и страданий, которые еще предстоят. Неудивительно, что она не боялась топора. В тот день она назвала его «ничтожным». Он помнит юную женщину – теперь он знает, что это была Бесс Даррелл, – которая скользнула в тень с тазом в руках. Мастер Кромвель, спросила его Екатерина, вы исповедуетесь? На каком языке? Или вы не ходите к исповеди? Он не помнит, что ей ответил. Возможно, сказал, что исповедовался бы, если бы чувствовал вину. Он уже уходил, когда: «Господин секретарь, постойте…» Он подумал тогда – вечно одно и то же. Стоит повернуть к двери, сделать вид, что тебе больше нет до узника дела, – и он готов признаться, предложить взятку, назвать имя, которого ты ждал. «Вы помните нашу встречу в Виндзоре? – спросила тогда Екатерина и, не дрогнув, добавила: – В тот день, когда король меня бросил?» Даже лебеди на реке застыли от жары, листья на деревьях поникли, собаки во дворе выводили свою собачью музыку, пока их звонкий лай не стих вдали, и кавалькада величественных всадников двинулась через луга и поляны, королева упала на колени, молясь в полуденном свете, а король уехал на охоту и больше к ней не вернулся. – Помню, – ответил он. – Ваша дочь была больна. Я заставил ее присесть. Не хотел, чтобы она потеряла сознание и расшибла голову. – Считаете меня плохой матерью? – Да. – И все ж я верю, что вы мой друг. Он посмотрел на нее с изумлением. Морщась от боли, вцепившись в ручки кресла, царственная дама встала. Горностаи соскользнули на пол, обнюхивая друг друга, сбившись в мягкую груду. – Как видите, я умираю, Кромвель. Когда я больше не смогу ее защитить, не позвольте им причинить вред принцессе Марии. Я оставляю ее на ваше попечение. Она не ждала от него ответа, только кивнула: вы свободны. Он ощутил запах кожаных переплетов ее книг, несвежего пота ее белья. Поклонился: мадам. Спустя десять минут он был в дороге – на пути к предстоящей задаче, туда, где обещания исполняются. Грегори спрашивает: – Зачем вы это сделали? – Я ее пожалел. Умирающую женщину в чужой стране. Ты же меня знаешь, думает он. Должен был узнать. Генри Уайетт сказал мне, присмотрите за моим сыном, не дайте ему себя погубить. И я сдержал обещание, пусть ради этого мне пришлось его запереть. В дни кардинала меня называли псом мясника. Пес мясника силен и жилист. Я таков, и я хороший пес. Вели мне охранять что-нибудь, и я не подведу. Ричард Кромвель говорит: – Тогда вы не могли знать, сэр, о чем на самом деле просит вас Екатерина. В этом смысл обещания, думает он. Грош ему цена, если ты заранее знаешь, во что тебе обойдется его исполнение. – Что ж, – говорит Рейф, – вам удалось сохранить это в тайне. – Я никогда не был открытой книгой. – Мне кажется, зря вы согласились, – замечает Грегори. – Что? По-твоему, не следовало мешать королю убить собственную дочь? Ричард Рич спрашивает: – Скажите, сэр, мне любопытно, насколько далеко простиралась ваша верность слову? Если бы Мария открыто выступила против короля, вы и тогда бы ее поддержали? Ричард Кромвель отвечает: – Мой дядя – королевский советник, который давал присягу. Его обещание Екатерине было не пустыми словами, но и не клятвой. Оно не связало бы его, если бы затронуло интересы короля. Он молчит. Как сказал Шапюи, живых переубедить можно – с мертвыми не договоришься. Он думает: я связал себя. Почему? Почему тогда отвесил поклон? Рич спрашивает: – Мария знает об этом… как бы сказать… обязательстве? – Никто не знает, кроме меня и вдовствующей Екатерины. Я никогда о нем не упоминал. – Не стоит и впредь о нем распространяться, – продолжает Рич. – Пусть и дальше остается в тени. Он улыбается. Все, произнесенное таким вечером в саду, покрыто туманом. В Аркадии. Ричард Кромвель поднимает глаза: – Не пытайтесь сделать из этого грязный маленький секрет, Рич. Это было проявление доброты, и ничего больше. – А вот и Кристоф, – говорит Рейф. – «Et in Arcadia ego»[117]. Туша Кристофа заслоняет последние солнечные лучи. – Шапюи пришел. Я велел ему оставаться в доме, пока не узнаю, расположен ли мой хозяин его принять. – Надеюсь, ты изложил эту мысль вежливее, – говорит Рейф и встает. – Я приведу его, – вмешивается Грегори. Его сын видит, что Рейф не готов встретить посла. Рейф снимает шляпу и приглаживает волосы. – Так ты выглядишь опрятнее, – замечает он, – но едва ли счастливее. Рейф говорит: – По правде сказать, Мария поразила меня, когда я привез в Хансдон бумаги. Сбежала с лестницы – мне не приходилось раньше видеть благородную даму необутой, только если на пожаре. Когда она выхватила письмо из моих рук, я решил, она хочет его порвать. А затем она с воплем унеслась, словно в руках у нее карта острова сокровищ. – Этим сокровищем, – говорит он, – была ее жизнь. – Я не поручусь за надежность этой дамы, – говорит Рич. – Боюсь, она может оказаться поддельной монетой. Хелен поднимает глаза: – Тише, наш гость. Грегори говорит: – Он не понимает по-английски. – Разве? – удивляется Хелен. Они смотрят, как посол пересекает лужайку, блестя, словно черный с золотом светлячок. – Рад случаю вас приветствовать, – говорит Шапюи. – Мастер Сэдлер, какое наслаждение видеть вас в кругу семьи. Как буйно цветет ваш сад! Вам следует посадить виноградную лозу и обвить ее вокруг решетки, как у Кремюэля в Кэнонбери. – Посол берет руку Хелен. – Мадам, вы не говорите по-французски, а я по-английски, но, даже владей я вашим языком, слова бессильны. Таким прекрасным цветком можно лишь молча любоваться. – Посол поворачивается. – Итак, Кремюэль, мы пережили dies irae[118]. И все ваши мальчики здесь. Думаю, мы можем друг друга поздравить. До меня дошли слухи, что король пожаловал дочери тысячу крон, не говоря об алмазе, который стоит не меньше, и предоставил гарантии ее будущего. Поверьте мне, джентльмены, если Кремюэль сумел усмирить леди Марию, вскоре он спустится в ад и уговорит Сатану пожать руку Гавриилу. Поймите меня правильно, я не сравниваю молодую даму с дьяволом. Однако должен признать, его жалобы, что она самая упрямая женщина на свете, вполне обоснованны. Надо же, думает он, она показала тебе billet doux[119], что я ей прислал. Они обнимаются. Он боится раздавить хрупкие кости посла. Шапюи с улыбкой оглядывается: – Друзья, пусть это будет началом эры согласия. Никому не нужна ни еще одна мертвая дама, ни война. Ваш правитель не может позволить себе воевать, мой господин любит мир. Я всегда говорю, что войны начинаются в человеческое время, а заканчиваются во время Господне. Какой прелестный летний дом. – Посол ежится. – Простите, сырость. Мы не войдем внутрь? – Что за ужасный климат, – замечает Рейф. – Увы, – соглашается посол, следуя за хозяином дома. – Будете в Италии… Хелен собирает кубки: – Кристоф, забирай, но осторожнее со святым Лукой, – кажется, он треснул. Должно быть, Ричард Рич его грыз. Придется использовать для цветов. – Шапюи смотрел на вас с вожделением, – говорит Кристоф. – Он сказал, когда я вижу мистрис Сэдлер, я сгораю от желания и жалею, что не говорю на ее языке. Я готов сразиться за нее с самим королем Генрихом! – Ничего подобного он не говорил! – смеется Хелен. – Ступай в дом, Кристоф. – Она берет его за руку. – Вы не закончили историю, сэр. Про Аталанту со шпалеры. Лучше бы это была другая история, думает он. – Она была девственницей, – подгоняет его Хелен, – а ее отец… А дальше вы замолчали. – Он хотел выдать ее замуж, но она питала неприязнь к супружеской жизни. – Она вызывала женихов на состязание, – вступает Грегори. – Аталанта была самой быстрой бегуньей в мире. – Если обожатель сумел бы обогнать Аталанту, ей пришлось бы стать его женой, но если побеждала она, то… – Он лишался головы, – встревает Грегори. – И это доставляло ей большое удовольствие. Головы валялись повсюду, нельзя было сделать и шагу, чтобы из оливковой рощи тебе под ноги не выкатилась голова. В конце концов она вышла замуж за того, кто сумел ее обогнать, но ему помогла богиня любви. Позднее, в тающем свете галереи Грегори аккуратно разворачивает ее к шпалере: – Видите золотые яблоки? Венера дала их жениху, и, когда они побежали, он бросил яблоки под ноги Аталанте. – Это яблоки? – Хелен разглядывает шпалеру, смеется, посасывая палец. – Я и не поняла, что они бегут. Решила, играют в шары. Видите ее руку? Я думала, она только что бросила шар. Он видит, как рука хватает воздух. Понятно, почему Хелен ошиблась. – Так что случилось? – спрашивает кто-то. – Она споткнулась о яблоки? Голоса бормочут, гости расходятся, свет гаснет. Птицы устраиваются на ночлег под крышей. Вечерня и повечерие отслужены. Холодная роса выступает на траве. Ставни защищают дом от озерных и болотных испарений. Аталанта хватает золотое яблоко, сдается. Нельзя сказать, что она уступает намеренно, но ей ведомо, что ее ждет, если она собьется с пути. – Возможно, она просто устала бежать, – говорит Хелен. – Ей была не чужда корысть, – говорит он. – «Et in Arcadia»[120]. – Она вышла замуж? – Хелен оценивает героиню мифа – женщину с распущенными волосами, простертыми обнаженными руками. – Думаю, муж запретил бы ей бегать с голыми сиськами. Впрочем, возможно, в те времена мужьям не было до этого дела. Он думает, я видел ее в Риме, высеченную в мраморе: сильные тонкие ноги, туника в складку, торс, прямой, как у мальчика. Некоторые мифы утверждают, что Аталанта была неравнодушна к плотской жизни. Она разделила ложе с супругом в храме языческой богини, а после обратилась львицей. По крайней мере, думает он, этого можно не опасаться. Превращение в дикого зверя дочери Генриха не грозит. Когда-нибудь Марии придется выйти замуж, но пока у ее порога не толпятся женихи, заключившие договор с богиней любви. Завтра утром она возвращается в Хертфордшир. Король с королевой собираются провести вместе свое первое лето. Нанесут визит в Дувр. Когда закончится сессия парламента, отправятся на охоту. Кольцо, неожиданный дар, будет уменьшено. Но изумрудная подвеска достанется не Марии, цветущей ветви Арагона и Кастилии, а Джейн, дочери Джона Сеймура из Вулфхолла.
Возможно, вам доводилось видеть в Италии картину, которая изображает дом, у которого отсутствует четвертая стена? Художник хотел показать внутреннее убранство комнаты, где дева преклонила колени на prie-Dieu[121] в окружении ваз со спелыми плодами. Дева ушла в себя, лицо сосредоточенное, она скинула туфли и ждет благодати. Вы уже видите ангела, золотым пятном реющего на фоне неба над крышей. Горожане внизу спешат по своим делам, кто-то поднял голову, привлеченный колыханием воздуха. На соседней улице под аркой, ниже на лестничный пролет, хозяйка развешивает белье, кто-то восстает из мертвых. Белые пеликаны расселись на крыше в ожидании вести о пришествии Христа. Епископ в митре пересекает площадь, павлин сидит на балконе среди горшков с цветами, перистые облака растянулись рулонами шелка над городом – городом, который сам изображен на блюде в миниатюре, его перевернутые очертания мягко сияют на серебристой поверхности: шпили и башни, сады и колокольни. А теперь вообразите Англию, ее столицу, где лебеди плавают среди речных судов, а ее мудрые дети наряжены в бархат. Широкая Темза – ползучая дорога, по которой королевская барка несет от дворца к дворцу короля и его молодую жену. Отдерните занавески, которые защищают их от нескромных взглядов, и увидите ее скромно сдвинутые ножки в крохотных парчовых туфельках, лицо опущено, королева внимает виршам, которые шепчет ей в ухо король: «Грущу, сударыня, похищен поцелуй…» Его мощная рука подбирается к ней, кончики пальцев вопрошающе замерли на животе. Руки короля в огне, на каждом пальце рубин. Внутри камней мерцает свет, мелькают серые и белые облака. Рубин веселит душу и защищает от чумы. Врачи рассуждают о его страстной натуре, подразумевая страстный нрав короля. Изумруд также обладает чудодейственными свойствами, но во время соития может расколоться. И все же его зелень не сравнится ни с какой другой земной зеленью – это арабский камень, его находят в гнездах грифона. Его зеленые глубины лечат утомленный ум и, если всматриваться в него не отрываясь, делают глаза зорче. Смотрите… улица расступается, стены распахиваются: перед вами королевский советник, поглощенный думами, на пальце бирюза, в руке перо. В день середины лета стены Тауэра расцвечены стягами и вымпелами цвета солнца и моря. Потешные сражения разыгрываются посередине реки, а грохот пушечных выстрелов тревожит извилистые протоки устья и рыбу в ее глубинах. Во время торжеств и увеселенийкоролеву Джейн показывают лондонцам. Она едет рядом с королем в здание гильдии шелкоторговцев на парад городской стражи. Две тысячи человек в сопровождении факельщиков проходят от собора Святого Павла до Вестчип и Олдгейта и через Фенчерч-стрит обратно на Корнхилл. На констеблях алые плащи и золотые цепи, сияет оружие, и лорд-мэр вместе с шерифом скачут в доспехах и багряных сюрко. Танцоры и великаны, вино, пироги и пиво, сверкающие во тьме фейерверки. «О Лондон, ты цветок средь прочих городов».
III Обломки (2)
Лондон, лето 1536 г. Знаете, почему говорят: «Нет дыма без огня»? Это не слова ободрения тем, кто любит огонь, а предупреждение об опасности дымоходов, но равно и королевских дворов – как и любых пространств, где спертый воздух не находит выхода. Случайная искра, сажа с треском воспламеняется, пламя с ревом взмывает в небеса, несколько минут – и дворец полыхает.В начале июля grandi[122] играют тройную свадьбу, объединяя состояния и древние имена. Маргарет Невилл выходит за Генри Мэннерса, Энн Мэннерс за Генри Невилла. Доротея Невилл станет женой Джона де Вера. Милорд кардинал как свои пять пальцев знал все их титулы, гербы и родословные, все родственные связи по вторым-третьим бракам, всех крестных и крестников, опекунов и их подопечных, все прибыли от поместий, приходы и расходы, судебные тяжбы, древние свары и неоплаченные долги. Празднование почтил своим присутствием сын и наследник Норфолка Генри Говард, граф Суррейский. Юный граф намерен провести лето, охотясь с королем и Фицроем. С детства он был товарищем королевского сына, и Ричмонд смотрит ему в рот. Суррей везде поспел, ему нет равных ни в чем, играет ли он в карты или в кости, ставит на игроков или сам выходит на корт, гарцует на ристалище или танцует, исполняет песенки собственного сочинения или вписывает их в дамские альбомы, украшенные рисунками лент, сердец, цветов и стрел Купидона. Его брак с дочерью графа Оксфордского не помеха волокитству. Не будем строги к поэтам – мы не ждем, что Суррей исполнит все обещания. Он молод и долговяз: длинные ноги, длинные пестрые чулки. Суррей торит свой путь, возвышаясь над простыми смертными, как на ходулях. Его презрение к лорду Кромвелю не имеет границ: «Я приму во внимание ваш титул, лорд Кромвель. Впрочем, для меня вы остались тем, кем были». Тройная свадьба побуждает короля задуматься о других браках. Из-за близости к трону его племянница, шотландская принцесса, лакомый кусок. Если Джейн не преуспеет, а Фицрой не получит поддержки парламента, однажды Маргарет Дуглас может стать королевой. Никому не по душе идея посадить женщину на трон, но, по крайней мере, Мег хороша собой и не спесива. Она живет под покровительством короля с двенадцати лет, и Генрих любит ее, как родную дочь. Кромвель, замечает король, пометьте: мы должны найти для нее принца. Однако король медлит, король откладывает. Вечно одно и то же, те же трудности были с Марией, бывшей наследницей, или с Элизой, другой наследницей, пусть и недолго. Выбери мужа будущей королеве, и ты выберешь английского короля. Жена подчиняется мужу: это долг любой женщины, даже королевы. Но как довериться чужестранцу? Англию может ждать судьба провинции, управляемой из Лиссабона, Парижа или с востока. Лучше выдать ее за англичанина. Но как только жених будет назван, подумай, что возомнит о себе его семейство. Подумай о зависти и злобе великих домов, чьих сыновей обошли. Ты смотришь на королеву Джейн и спрашиваешь себя: да или нет? И если да, то когда? Женщины записывают дни своих регул. Вероятно, записывают и за другими, присматриваются опытным взглядом, готовые разнести добрые или злые вести. И двух месяцев не прошло после королевской свадьбы, но вы уже ощущаете нетерпение короля. Вместе с Фицуильямом и Ризли он незаметно покидает гостей, чтобы заняться бумагами в задней комнате. На Фицуильяме цепь казначея. Король простил ему выходку на совете. Это сделано из любви к нам, сказал Генрих. Казначей сжимает цепь, гадая, прогрызают ли личинки тщеславия ходы в мозгу герцога Норфолка: – Говорю вам, Сухарь, если бы молодой Суррей не был женат, отец домогался бы для него шотландской принцессы или, на худой конец, Марии, если ее восстановят в правах наследования. Покуда была жива его племянница Анна, Норфолк кичился тем, что трон достался Говардам, и не готов отказаться от честолюбивых планов. Не очень-то она привечала дядюшку Норфолка, замечает он. Покойная королева ни с кем не считалась. Ни со мной, ни с вами, ни даже с королем. Впрочем, длинноногий уже женат, поэтому здесь дядюшке Норфолку ловить нечего. – И даже будь Суррей свободен, – добавляет Ризли, – сомневаюсь, что Мария выберет Говарда. После того, как Норфолк обещал размозжить ей голову. Король прибывает на празднования в Шордич. Он и его свита наряжены турками: бархатные тюрбаны, шаровары полосатого шелка, алые башмаки с кисточками. В конце пира король ко всеобщему ликованию снимает маску. Молодой герцог Ричмонд уходит рано, разгоряченный вином и танцами. Уходит рано и Ризли, что куда более неожиданно. – Я пойду в Уайтхолл, сэр, и как только… Фиц смотрит ему вслед: – Вы ему доверяете? Ему, выкормышу Гардинера? – Он трет щеку. – Впрочем, вы никому не доверяете, не так ли? – Всем нам нужен второй шанс, Фиц. – Он подкидывает в ладони казначейскую цепь. Всю прошлую неделю, завидев Кромвеля, лорд Одли в притворном ужасе хватался за свою. Его обычные шуточки. Одли знает, что он, лорд Кромвель, не претендует на канцлерский пост. Государственный секретарь обладает любыми полномочиями, какие пожелает, и с утра до ночи рядом с королем, ловит каждый его знак. К середине июля обустройство двора леди Марии идет полным ходом. После визита в Хакни – в дом, который отныне зовется «королевским», – она возвращается в Хертфордшир. После слез, обещаний, отцовских клятв, что отныне он ее от себя не отпустит, наступает период охлаждения: Генрих понимает, что должен отдалиться от дочери, чтобы подавить все домыслы, будто готов снова объявить ее наследницей. Леди Хасси, жену ее бывшего управляющего, держат в Тауэре после досадной оговорки на Троицу. Король требует уважения к собственной дочери, но не желает, чтобы ее именовали «принцессой». К тому же он хочет показать Европе: не он нуждается в Марии, а она в нем. В Хакни она промолвила, так тихо, что расслышал только он: «Я вам обязана, лорд Кромвель, и буду молиться за вас до конца моих дней». Но случись что, и ему может потребоваться нечто большее, чем молитвы. Он зовет Ганса, хочет сделать ей подарок. Она молода и нуждается во внимании. Он намерен подарить ей нечто куда более ценное, чем скаковая лошадь. То, что будет напоминать ей о последних опасных неделях и о том, кто отвел ее от края пропасти. Он думает о кольце, на котором будет выгравирована похвала смирению. Смирение нас связывает, смирение каждого пред Господом. Благодаря Ему мы живем в человеческих домах и жилищах, а не прячемся в полевых норах и убежищах, словно дикие звери. Но даже звери покоряются льву, проявляя мудрость и благоразумие. Граверы искусны, они могут вырезать молитву или стих мелко-мелко. Однако, предупреждает Ганс, кольцо все равно будет весить немало, – возможно, женщине с маленькими ручками оно не подойдет. Тогда пусть привесит его на цепочке к кушаку, рядом с миниатюрой, изображающей отца, – туда, где уже носит образки, которым молятся юные девы: святая Урсула и одиннадцать тысяч дев, Фелицитата и Перпетуя, съеденные живьем на арене. У Ганса круглое лицо, деловитое и простодушное. Не скажет ни слова поперек, в его речах не бывает второго дна. Никогда. – А почему бы не сделать подвеску? Медальон? И места больше, чтобы поместить добрый совет. – Но кольцо это… – Знак, – говорит Ганс. – Томас, как вы можете быть таким… Посланцы от герцога Ричмонда. В последнее время его постоянно прерывают на полуслове, что в собственном доме, что в королевских покоях, в конюшне, часовне или в комнате совета. – Уже иду, – говорит он и добавляет, обращаясь к Гансу: – Нужно подумать. Он оставляет стол, заваленный набросками, – его идеи, исправления Гольбейна. Он должен снова повторить Марии то, что проговорил недостаточно ясно. Вы взвалили на себя ношу и несли ее в одиночку. А теперь взгляните, к чему это привело. Ваши плечи поникли, вы устали, согнулись под грузом прошлого, а ведь вам всего двадцать. Хватит. Пусть бремя ляжет на тех, кто сильнее, кто избран Господом нести тяжкий крест государственного правления. Оглянитесь вокруг, оторвите глаза от молитвенника. Улыбнитесь. Вы удивитесь, какую легкость вы почувствуете. Разумеется, он не станет объясняться с женщиной в подобных выражениях. Поникли, согнулись, – чего доброго, Мария обидится. Иногда она выглядит в два раза старше своих лет, иногда кажется несформировавшейся девочкой.
В Сент-Джеймсском дворце люди Ричмонда увлекают его в комнату больного, закрытую ставнями от летней жары. – Доктор Беттс, – кивает он и отвешивает поклон жалкому комку под грудой одеял. При звуке его голоса молодой герцог шевелится и откидывает одеяла: – Кромвель! Вы не исполнили того, что я вам велел. Я говорил, что парламент должен объявить меня наследником. – Он ударяет в подушку кулаком, словно та противится его законным правам. – Почему моего имени нет в билле? – Потому что милорд ваш отец еще не решил, – отвечает он просто. – Билль позволяет королю выбрать того, кто будет ему наследовать. И вам известно, что ваши шансы велики. Слуги сгрудились вокруг постели, под присмотром доктора они укладывают молодого герцога обратно на подушки, встряхивают одеяла, укутывают больного. Большая миска воды булькает на жаровне, увлажняя воздух. Ричмонд подается вперед, кашляет. Его лицо горит, сорочка в пятнах пота. Подавив приступ кашля, он откидывается назад, дотрагивается до груди. – Болит, – говорит он Беттсу. – Перевернитесь на больной бок, милорд. Юноша отгоняет слуг. Он хочет видеть Кромвеля и не собирается отказываться от своего намерения. Ричмонд говорит что-то, но слова бессвязны, и вскоре его веки начинают трепетать. По знаку доктора слуги убирают подушки и укладывают больного на бок. Беттс жестом подзывает его, сюда, милорд. – Обычно я заставляю его сидеть, чтобы облегчить дыхание, но ему нужен сон, и я прописал микстуру. Иначе он может вскочить и сделает себе только хуже. Его беспокоит яд, часто упоминает вас. – Доктор делает паузу. – Я не говорю, что он вас обвиняет. – Некоторые люди постоянно думают, что их отравили. Я слышал про такое в Италии. – В Италии, – говорит Беттс, – у них, вероятно, есть для этого основания. Я говорю ему, милорд, отравление обычно проявляется спазмами и ознобом, рвотой и помрачением сознания, жжением в горле и кишках. Но тогда он вспоминает Вулси, говорит, что перед смертью тот испытывал боль в груди. Он бесцеремонно тянет доктора за полу. Есть разговоры, не предназначенные для чужих ушей. В покоях герцога не протолкнуться: слуги, те, кто пришел пожелать больному выздоровления, вероятно, кредиторы. Схоронившись в оконном проеме, он бормочет: – Кстати, насчет Вулси. Не знаю, откуда у юного Фицроя такие сведения, но как вы считаете, это похоже на правду? – Что кардинала отравили? – Беттс пристально смотрит на него. – Понятия не имею. Скорее, его подвело сердце. Напрягите память. Я восхищался вашим старым господином и делал все, чтобы примирить его с королем. – Беттс выглядит озабоченным, словно боится, что он, Кромвель, затаил обиду. – В конце жизни его пользовал доктор Агостино, не я. Говорят, он голодал и прочищал желудок, что нежелательно во время путешествия в зимнюю пору… к тому же вспомните, что ждало его в конце пути. Суд или лишение прав без суда, затем Тауэр. Страх способен многое сотворить с человеком. Он говорит: – Кардинал не боялся ни живых, ни мертвых. – О чем не преминул вам сообщить, полагаю. – Ясно, что доктор недоумевает, к чему ворошить прошлое? – Не думайте, будто я придаю значение словам Ричмонда. Когда король болен, он убежден, что против него ополчится весь мир. Юноша весь в отца, невыносимый пациент. Когда его лихорадило, он заявил: «Это всё Говарды – Норфолк не испытывает ко мне отцовских чувств, он любит меня только потому, что я королевский сын. И если я не стану королем, я для него бесполезен. А теперь Норфолк во мне не нуждается – он нашел другой способ подобраться к трону, честный или бесчестный». – Если задуматься, честных способов нет. – Что до меня, я предпочитаю об этом не задумываться, – говорит доктор Беттс. – Были свидетели его слов? – Рядом стоял доктор Кромер. С Божьей помощью и посредством врачебной науки мы обуздали лихорадку, а с ней и разговоры об измене. – Но если не яд, что тогда? Помимо уязвленного самолюбия, думает он. Доктор пожимает плечами: – Июль. Мы должны быть за городом. Вы принимаете слишком много законов, милорд. Распустите парламент, и мы немедленно покинем Лондон. Говорят, города изобрел Каин, а если не он, то кто-то другой, столь же склонный к смертоубийству. – Доктор отворачивается, чтобы уйти, но медлит. – Милорд, насчет королевской дочери… Доктор Кромер поручил мне передать вам наше общее мнение. Вы справились лучше нас, эскулапов. Ее дух был так подавлен папистскими обыкновениями, что ее здоровье и разум истощились. Говорят, ваше присутствие в Хакни подействовало на нее, как зелье Асклепия. Асклепий, бог врачевателей, обязан своим искусством змее. Он спасал тех, кто был на пороге или даже за порогом смерти. Аид, боясь лишиться притока покойников, возревновал. – Здесь нет моей заслуги, – говорит он. – Приятная компания пробудила аппетит. Она держит пост. Словно ее плоть недостаточно истощена. – Если бы король потрудился спросить нас, мы настоятельно рекомендовали бы выдать ее замуж. Мои коллеги показывали мне сочинения древних, в которых описана подобная немощь: юные девы, исполненные пылкости, усердия и одолеваемые фантазиями, склонны морить себя голодом, будучи принуждаемы к чему-либо помимо их воли. Их девственность – причина недуга, и, если не устранить ее, они начинают видеть духов и пытаются повеситься или утопиться. – Я бы сказал, нам это не грозит. Интересно, можно ли не видеть духов? Они ведь обычно являются незваными. Когда люди упоминают кардинала, он спрашивает себя: если бы я был с ним тогда, поддался бы он яду, страху, чему-то еще? Некоторые утверждают, что кардинал наложил на себя руки. Он вспоминает промозглый и темный конец тысяча пятьсот двадцать девятого года: Томас Говард и Чарльз Брэндон врываются в Йоркский дворец, как умеют врываться только герцоги, набивают сокровищами Вулси дорожные сундуки; бубнящие писари составляют описи серебряной посуды и драгоценных камней; от реки тянет холодом, с навеса барки капает, призрачные голоса глумятся во влажном тумане. В Патни, когда они пересекали пустошь, их нагнали лошади; Гарри Норрис, весь в мыле, соскочил с седла – передать невразумительное послание короля. Он видел, как вспыхнули глаза его господина, как прояснилось лицо. Вулси решил, что кошмар закончился, что Норрис отвезет его домой, и упал на колени – кардинал, коленопреклоненный в дорожной пыли. Однако Норрис покачал головой и что-то зашептал ему на ухо, притворяясь расстроенным. Когда надежда испарилась, вместе с ней ушли силы Вулси, и словно под воздействием чар он мгновенно переменился: неуклюжий, бормочущий старик. Слуги отряхнули пыль с его ладоней, усадили его в седло, вложили поводья ему в руки, словно ребенку. Без всякого почтения, для это не было времени, а еще этот мерзавец Секстон хихикал и выкидывал коленца, пока он угрозами не заставил его угомониться. Они приехали в Ишер, к холодному очагу и пустым кладовым, к низким лежанкам, освещая путь сальными свечками в оловянных подсвечниках. По крайней мере, погреб оказался полон, и вместе с Джорджем Кавендишем, человеком кардинала, они пили всю ночь – сказать по чести, были так напуганы, что не смогли бы уснуть. Если бы я знал, чем все закончится, поступил бы я иначе? Впереди ждала суровая зима; голодный, нечесаный, в отчаянии, он ежедневно скакал через Суррей по лужам, в сумерках, доставляя своему господину вести из парламента: что было сказано и сделано против Вулси, колкости Томаса Мора и грубые измышления Норфолка. Ни еды, ни отдыха, ни молитвы, он приезжал и уезжал в темноте, взбираясь на дышащего паром жеребца. Зима туманов, влажной шерсти и дождя, ручьем стекающего с гладкой кожи. И Рейф Сэдлер, промокший и замерзший до дрожи, как щенок грейхаунда, одни ребра да глаза: изумленный, потерянный, не проронивший ни единой жалобы. И все же спустя шесть лет он в Сент-Джеймсском дворце: барон Кромвель, солнце сияет. Над головами слуг мастер Ризли выкликает его имя. Протиснувшись в комнату, Ризли отчаянно размахивает шляпой с пером, на лице румянец, шнуровка на вороте распущена. – Не ходите туда, – говорит он, торя путь из комнаты больного. – Иначе Фицрой объявит вас отравителем. Доктор Беттс хихикает: – Я вижу, вам не терпится поделиться новостями, юноша. Что ж, я вас покидаю. Но прислушайтесь к моему совету, каким бы срочным ни было ваше дело, никогда не спешите на жаре. И шляпу носите на голове, а не в руках, иначе солнце сожжет вашу бледную кожу. А воду лучше пить теплую – от холодной случаются колики. И ни в коем случае не прыгайте в реку. – Не буду. – Ризли изумленно взирает на доктора. Тот касается полей шляпы и удаляется. Глядя ему в спину, Ризли спрашивает: – Фицрой поправится? Беттс безмятежен: – Видал я и более безнадежные случаи.
Они выходят на солнцепек, спинами ощущая жар. Ризли обращается к нему: – Сэр, я допросил слуг шотландской принцессы. – С какой целью? И наденьте вы шляпу. Беттс дело говорит. Молодой человек аккуратно надевает шляпу, хотя рядом нет зеркала, чтобы восхититься тем, под каким углом она надвинута, пристально смотрит на хозяина, словно пытается разглядеть в его глазах отражения маленького Зовите-меня. – Я давно подозревал, с ней что-то не так, – неделями вертел эту мысль в голове, – ее виноватый вид в вашем присутствии, словно она боялась, что неприятная правда выйдет наружу, и… – Вы думали, что дамы обменивались тайными знаками. – Вы смеялись надо мной, – говорит Ризли. – Да. Итак, что вы обнаружили? Надеюсь, не любовника? – Я должен извиниться, сэр, что забежал вперед вас, – я понял на свадьбе, но не стал говорить, пока не добыл доказательства. Я допросил ее капеллана, слуг Харви и Питера, конюхов: не было ли у принцессы тайных свиданий? И они не стали скрытничать, все, за исключением капеллана, который боится. Он начинает понимать: – Как я мог быть таким наивным? Кто он? Кто знает? Кто из женщин, я имею в виду? Мастер Ризли говорит: – Женщин я оставляю вам. Шорох мягких подошв, спешка, внезапное исчезновение бумаг, шиканье, шелест юбок, грохот дверей; затаенный вздох, косой взгляд, быстрый росчерк пера, невысохшие чернила; шлейф аромата и воска, которым запечатывают письмо. Всю весну мы следили за Анной-королевой, ее привычками и обыкновениями, ее стражниками и воротами, ее дверями и потайными комнатами. Мы наблюдали за джентльменами короля в гладком черном бархате, невидимыми, если только лунный свет не упадет на расшитую бисером манжету. Мы различали внутренним оком силуэт – там, где никого не должно быть. Мужчина, крадущийся вдоль пристани к лодке, терпеливый гребец, которому заплачено за молчание, и ничто не выдаст тайны, кроме легкой волны и мерцающей серебром зыби на реке, видавшей многое. Лодка качается, всплеск, широкий шаг, сапоги неизвестного мерят скользкий причал: он в Уайтхолле или Хэмптон-корте, куда бы ни ехала королева и ее фрейлины. Тот же трюк на твердой земле: монетка конюху, незапертая дверь или ворота, стремительный бросок вверх по лестнице в комнату, где дрожит пламя свечей. Что дальше? Поцелуи и преступные объятия, пуховая перина, на которой Мег Дуглас, племянница короля, раскинулась в ожидании запретных наслаждений. Зовите-меня говорит: – Это Томас Говард. Меньшой, конечно. Единокровный брат Норфолка. – Томас меньшой. – Навеки ваш, Правдивый Том. Завлек ее своими виршами, сэр. Совлек с нее покровы своим хитроумием. Катастрофа, думает он. Всю зиму и весну мы не сводили глаз с Анны, а приглядывать следовало за другой. Правдивый Том на реке, Правдивый Том в темноте. Срывает с себя рубаху, срам выпирает через белье, шотландская принцесса лежит на спине, раздвинув округлые бедра. Для Говарда. Он спрашивает Зовите-меня, как Мег умудрилась оставаться с ним наедине? При дворе столько остроглазых матрон. Взять ту же миледи Солсбери, Маргарет Поль. Она до сих пор состоит при новой королеве, поскольку король, пусть и взбешен поведением ее сына, предпочитает держать графиню перед глазами. Разумеется, чтобы сохранить лицо перед миром, мы делаем вид, будто никакого письма не было, будто проклятая книга все еще в Италии, где Поль сражается с непослушными фразами. Мы предпочитаем многого не замечать. И вот характерный пример. – Сначала поговорим с Мег. Он представляет, как она бежит к ним, растрепанная и простоволосая, вылитая Аталанта, рот открыт, в горле замер протяжный вопль.
Поначалу она возмущена и все отрицает: какое право вы имеете вмешиваться в мою жизнь? Мне донесли… говорит он. Как, кто? – Ваши собственные люди, – отвечает он и видит, как ранит ее это открытие, как она заливается слезами размером с яблочное семечко. Ее подруга Мэри Фицрой, дочь Норфолка, стоит рядом. – И что же такого особенного донесли вашей милости слуги? – Голос Мэри Фицрой сочится ядом. – Мне донесли, что леди Маргарет уединялась с одним джентльменом. Мэри Фицрой кладет руку на плечо Мег: молчи, ничего не говори. Но Мег вспыхивает: – Что бы вы ни думали, вы ошибаетесь! И нечего так на меня смотреть! – Как, миледи? – Словно я шлюха. – Господь покарает меня, если я хотя бы на миг… – Так знайте, мы с Томасом Говардом женаты. Мы принесли друг другу обеты и свято их соблюдаем. Вы не сможете нас разлучить. Наш брак законен во всех смыслах. Вы опоздали, все кончено. – Возможно, не все, – говорит он. – Будем надеяться, что нет. Когда вы сказали «во всех смыслах», что вы имели в виду? Я не понимаю. Посмотрите на мастера Ризли – он тоже теряется в догадках. На столе перед ними эскизы кольца для леди Марии. Мастер Ризли сдвигает их в стопку, торжественный, как алтарный служка. Его взгляд задерживается на эскизах, где линии вьются и переплетаются. – Простите, сэр, – бормочет он и кладет на листы книгу. Тоже верно. Не хватало только, чтобы Мег взяла эскиз и высморкалась в него. Он спрашивает Мэри Фицрой: – Вы не присядете? – Мне и на ногах хорошо, лорд Кромвель. – Итак, что мы имеем. Мастер Ризли поднимает табурет, вопросительно глядя на Мег. Когда ее носовой платок промокает от слез, она комкает его и бросает на пол, и Мэри Фицрой подает ей новый: он вышит эмблемами Говардов, и Мег промокает щеки синеязыким львом Фицаланов. – Кромвель, у вас нет права сомневаться в моих словах. Отведите меня к моему дяде-королю. – Поверьте, лучше вам иметь дело со мной, миледи. Я могу доложить королю, но сперва нам следует решить, как преподнести ему эту новость. Разумеется, вы хотите сохранить ваше доброе имя. Это мы понимаем. Но ни вам, ни мне лучше не станет, если вы будете настаивать, что состоите в браке, поскольку вы с лордом Томасом принесли свои обеты без разрешения и согласия короля. – И мы не станем вас выгораживать, – говорит Ризли, поднимая перо. – Итак, какого числа состоялась ваша помолвка?.. Новый поток слез, и новый носовой платок. Интересно, думает он, что будет делать Мэри Фицрой? Это платок точно последний. Задерет юбку и оторвет кусок ткани от исподнего? Мег говорит: – Какая разница когда? Я люблю лорда Томаса больше года. Поэтому вы не сможете и мой дядя не сможет утверждать, что мы действовали необдуманно. Вы не разлучите нас, ибо наши судьбы соединены пред Господом. Миледи Ричмонд подтвердит мои слова. Она все знала, и, если бы не ее помощь, мы бы никогда не познали блаженства. Он поднимает глаза: – Вы сторожили за дверью, миледи? Мэри Фицрой съеживается. Угодить такой молоденькой в такую мясорубку… – Вы подавали им сигнал, когда старшие уходили? – высказывает предположение Ризли. – Вы поощряли их свидания? Вы присутствовали при помолвке? – Нет, – отвечает она. Он оборачивается к Мег: – Таким образом, свидетелей ваших слов нет. Заметьте, я говорю «слов», не осмеливаясь упоминать «клятвы» или «обеты». Отрицай, шепчет он Мег еле слышно, отрицай все вместе и по отдельности и будь настойчива в своем отрицании. Никаких слов. Никаких свидетелей. Никакой помолвки. Мег вспыхивает: – Но свидетель есть. Мэри Шелтон стояла за дверью. – Снаружи? – Он качает головой. – Это ведь не может считаться свидетельством, верно, мастер Ризли? Ризли смотрит на него с яростью. Это ведь он раскрыл заговор и не хочет, чтобы дело замяли: – Леди Маргарет, вы и ваш любовник обменялись подарками? – Я подарила лорду Томасу свой портрет, украшенный алмазом. – Она с гордостью добавляет: – А он подарил мне кольцо. – Кольцо еще не доказательство, – утешает он ее, взгляд скользит по наброскам. – Вот, смотрите, эскизы кольца, которое делают для леди Марии. Знак дружбы, не более того. Мэри Фицрой перебивает: – Это целебное кольцо, такие дарят друг другу знакомые, дешевенькое. Ризли спрашивает: – А теперь вы скажете, что и алмазик был крошечный? – Такой крошечный, – отвечает Мэри Фицрой, – что я сперва его не заметила. Ему хочется ей аплодировать. Она не боится Зовите-меня, хотя даже я его порой побаиваюсь. – Никаких доказательств на бумаге? – спрашивает он Мег. – Я имею в виду, кроме… Стихов, думает он. Девушка говорит: – Я не отдам вам мои письма. Я ни за что с ними не расстанусь. Он смотрит на Мэри Фицрой: – Покойная королева знала об этих делах? – Разумеется. – В ее тоне презрение, но к нему ли, к его вопросу или к Анне Болейн? – А ваш отец Норфолк? Он знал? Мег перебивает: – Мой муж, – она смакует слово, – мой муж решил, будем держать все в тайне. Сказал, если мой брат Норфолк узнает, он будет трясти меня, пока зубы не выпадут, поэтому станем скрывать, пока можно. Но после… – Мег закрывает глаза, – не знаю, вероятно, он ему рассказал. Он вспоминает тот день в Уайтхолле, разговор с Норфолком и Правдивым Томом, прерванный призывом короля. Он сказал тогда: «Дамы обмениваются вашими стихами», и поэт неожиданно испугался. И когда он пошел к двери, схватил брата за руку, и Томасы Говарды яростно зашептались. Обернувшись, он заметил на лице старого герцога гнев и смущение: что, что ты сделал, мальчишка? Все сходится. Не похоже на Норфолка – задумать интригу с таким количеством рассыпающихся элементов ab origine[123], но, когда Правдивый Том обратился к нему за защитой, герцог, выбранив и прокляв брата, наверняка постарался обратить эту напасть во благо Говардов. Он подается вперед над столом, ближе к Мег. Не будь она особой королевской крови, похлопал бы ее по руке. – Вытрите слезы. Давайте начнем заново. Вы сказали, что лорд Томас посещал вас в покоях королевы. Многие бывали в покоях королевы, скажем так, забавы ради. Пели, смеялись. Приходили туда без задней мысли. Спустя много месяцев – там было всегда многолюдно – в случайном разговоре лорд Томас выразил вам восхищение, что неудивительно, и сказал: «Миледи, если бы вы не стояли так высоко…» – Он – Говард, – говорит Ризли. – Думаю, он полагает, что на свете нет никого выше его. Он поднимает руку. Сцена так великолепна, что жаль ее прерывать. – «Если бы вы не стояли так высоко надо мной и не были назначены королем в жены какому-нибудь правителю, клянусь, я умолял бы вас отдать мне вашу руку». – Да, – говорит Мэри Фицрой, – именно так все и было, лорд Кромвель. – А вы ответили: «Лорд Томас, моя рука не для вас. Я сочувствую вашим страданиям, но не могу их облегчить». – Нет, – говорит Мег; ее бьет дрожь. – Нет, вы ошибаетесь. Мы помолвлены. Вам нас не разлучить. – И, будучи мужчиной, влюбленным мужчиной, и не в силах противиться вашей красоте и желанию обрести столь бесценный дар, он не удержался и посвятил вам стихи, ну и так далее. Но вы остались неколебимы и не позволили ему даже лизнуть вашу нижнюю губу. Зря я так сказал, думает он. Следовало обойтись «поцелуем». Мег встает. Носовой платок зажат в кулачке – усеянный перекрещенными серебряными крестиками Говардов, легкими, как летний снег. – Я хочу поговорить с королем наедине. Как бы высоко он вас ни вознес, король не позволит вам допрашивать меня и заявлять, будто я не замужем, когда я утверждаю обратное. Мастер Ризли спрашивает: – Миледи, вы действительно не понимаете? Лучше бы вас соблазнили, опорочили и распевали о вас непристойные баллады на улицах, чем дать слово мужчине без согласия короля. Мэри Фицрой говорит: – Ради Христа, присядь, Мег, и постарайся понять, о чем толкует милорд. Он старается изо всех сил. – Ему не разделить того, что соединил Господь! Мэри Фицрой поднимает на нее глаза: – Уверена, лорду Кромвелю уже говорили такое раньше. Он улыбается: – Мы должны спросить себя, леди Маргарет, что есть брак. Это не только обеты, но и постель. Если вы принесли обеты при свидетелях и разделили ложе, вы замужем по закону. Вы будете мистрис Правдивый Том, и вам придется столкнуться с крайним недовольством короля. И я не знаю, какую форму оно примет. – Мой дядя не станет меня преследовать. Он любит меня, как дочь. Мег запинается. Она произнесла это собственными устами, она слышит себя и только сейчас понимает: что есть любовь короля к дочери? Две недели назад тонкий лед трещал под Марией. И только Томас Кромвель отвел ее от полыньи. Зовите-меня встает, словно хочет поддержать готовую упасть Мег. Но принцесса аккуратно опускается в кресло. – Король скажет, что я поступила глупо. – Или вероломно. Мастер Ризли нависает над ней, теперь почти с нежностью. Мег спрашивает: – Мой брак – это ведь не преступление? – Пока нет, – отвечает он. – Но скоро будет. Мы примем билль до созыва парламента. Мэри Фицрой спрашивает: – Вы примете закон против Мег Дуглас? – Вы же понимаете, леди Ричмонд, дамы порой не сознают собственных интересов. Иногда не знают, как себя защитить. Теперь об этом позаботится закон. Иначе любой поэт не откажется заполучить такой трофей и, если ему улыбнется удача, обеспечить свое будущее. А если не выгорит, что он теряет, кроме уязвленной гордости? Согласитесь, это несправедливо. – А сами вы стихов не пишете? – спрашивает Мэри Фицрой. – Не люблю входить на поле, где и без меня тесно, – говорит он. – Мастер Ризли, вы не запишете? Зовите-меня снова садится за стол и берет перо. Он диктует: – «Акт против того, кто, не имея на то королевского дозволения, женится или возымеет намерение жениться на королевской племяннице, сестре, дочери…» – Может быть, добавить тетю? – спрашивает Зовите-меня. Он смеется: – Добавьте тетю. Итак, подобное деяние будет признано изменой. Мэри Фицрой не верит своим ушам: – Изменой? Даже если женщина согласна? – Особенно если согласна. – Тру-ля-ля, тра-ля-ля, – бубнит Зовите-меня, скрипя пером, – трам-парам-пам-пам, и будет наказан как за измену. Отдам Ричу, пусть сформулирует. – К счастью, – говорит он, – в данном случае о согласии речи не идет. Я сомневаюсь, что леди Мег действительно может считаться замужней ввиду отсутствия консумации брака, как полагает мастер Ризли. – Я? – Зовите-меня поднимает песочные брови и оставляет на бумаге кляксу. Мэри Фицрой говорит: – Мег, отношения между тобой и лордом Томасом никогда не переходили границы пристойности. Ты подтвердишь это и будешь на этом настаивать. – Леди Маргарет, ваша подруга дает вам весьма ценные советы. – Он оборачивается к Мэри Фицрой. – Вы должны быть рядом с мужем. Я прикажу сопроводить вас в Сент-Джеймсский дворец. Мэри говорит: – Я не нужна Фицрою. Я ему даже не нравлюсь. Он не считает меня своей женой. Мой брат Суррей снабжает его шлюхами. Прямолинейна, совсем как ее отец. – Миледи, – говорит он, – вы немало поспособствовали этой интриге. Однако, поскольку мы еще не определили рамки нового билля, я не знаю, какое наказание грозит вам. Впрочем, едва ли король станет преследовать жену своего сына, если застанет ее у постели больного. Не тревожьтесь о леди Маргарет, в Тауэре она ни в чем не будет знать нужды. Но если не хотите последовать за ней, советую вам отправиться в Сент-Джеймсский дворец и оставаться там. Мег снова на ногах, снова заливается слезами, цепляясь за спинку кресла. Мастер Ризли встает и берет дело в свои руки. Он тверд и холоден: – Леди Маргарет, вас не бросят в подвал. Не сомневаюсь, лорд Кромвель устроит так, чтобы вас поместили в апартаменты покойной королевы. Он собирает бумаги. – Идемте, миледи, – умоляет Мэри Фицрой, – вспомните о вашем королевском достоинстве. Не заставляйте их выводить вас силой. И благодарите лорда Кромвеля – я ему доверяю, только он способен отвратить от вас гнев короля. И направить его на Правдивого Тома, думает он. Генрих не простит ему. Он стоит у стены, пока женщины проходят мимо, не проронив ни слова. Но шотландская принцесса не унимается. – Что плохого, если я расскажу правду? – слышится с лестницы ее звонкий голос, затем они уходят. Зовите-меня говорит: – Я думал, она не примет вашу протянутую руку. – По природе она не глупа, просто влюблена. – Хорошо, что мужчины от этого не глупеют. Посмотрите на Сэдлера. А ведь правда. Влюблен в жену, но ничуть не утратил остроты ума. Настроение мастера Ризли поднимается. Теперь, когда Мег в тюрьме, он доведет дело до конца. – А вы были когда-нибудь влюблены, сэр? – Обошлось. Он вспоминает, как расспрашивал Рейфа: каково это? Хотя Уайетт предупреждал его о симптомах. Жаркие вздохи, холодная грудь. Или наоборот? Он думает, нужно исхитриться помочь Бесс Даррелл. Я тут разбираюсь с новым коварством Говардов, а в ней тем временем дитя Уайетта растет. – Мне нужен Фрэнсис Брайан. Он здесь или за границей? – Хотите стребовать услугу за услугу? – Зовите-меня взволнован, нетерпелив, так что не развивает эту тему. – Кто сообщит королю, что Мег замужем? Он вздыхает: – Я. – Не хотел бы я оказаться на месте Норфолка. Племянница опозорила его весной, брат – летом. Теперь вы легко его свалите. – Зовите-меня бросает на него косой взгляд. – Если захотите. Я сам не знаю, чего хочу, думает он. Если Норфолк задумал этот мезальянс или просто скрыл его от короля, то дело серьезное. Однако не серьезнее прежних, которые я ему якобы простил. – Допустим, шотландцы перейдут границу? Кто, если не Норфолк, даст им отпор? – Суффолк, – отвечает Ризли. – А если французы постучатся в другую дверь? – Когда-то вы были солдатом, сэр. – Много лет назад. – Я нес пику. Или прислуживал тому, кто ее нес. Мы сражались как единое целое. Я был мальчишкой. А сейчас мне пятьдесят. Пожалуй, я сумею постоять за себя в уличной драке, но предпочту уладить ссору миром. – Я так стар, что за мной нужен уход, Зовите-меня. Как вы заметили, все в прошлом. Но что толку было спасать королевскую дочь, если теперь он обратит свой гнев на племянницу и казнит ее? – Но почему, если, как она уверяет, они давно любят друг друга, обеты были принесены только через год? Думаю, его страсть вспыхнула, когда малышку Элизу объявили незаконнорожденной и Мег стала ближе к трону. – Или устал посвящать ей стихи без надежды. Думаю, после помолвки они разделили ложе. – Определенно. Но неужели они не думали о последствиях? Он пожимает плечами. Мег пришлось положиться на удачу. А еще бывает, что женщина теряет ребенка раньше, чем кто-либо еще узнает о ее беременности. И только потом, лет двадцать спустя, у нее развяжется язык. Зовите-меня говорит: – Король захочет, чтобы на нее надавили, захочет знать, когда именно это случилось, имена свидетелей. – Тогда мы надавим на Правдивого Тома. Он уже думает, что мне известно больше, чем на самом деле. – Так думают многие, – замечает Ризли. – Том боится, что из его виршей всем понятно, куда ему удалось засунуть своего петушка. Однако у дочери Норфолка храброе сердце. Ей следовало бы заседать в королевском совете. Помните, как она не хотела пускать меня в покои Анны после коронации? Ризли не помнит, да и откуда? Зовите-меня досталась бурлящая толпа, рев труб, стяги, фырканье лошадей и топот копыт. Анне, хрупкой, на сносях, пришлось выдержать три дня на палящей жаре под враждебными взглядами толпы. Цвет английской аристократии с неохотой нес ее шлейф. У алтаря под весом короны ее тонкая шейка согнулась. Ее лицо блестело, но не от пота – от сознания своей судьбы. Ее рука, которая давно чесалась, уверенно сжала скипетр. Архиепископ Кранмер помазал ей лоб миром. После церемонии королева удалилась, подальше от взоров города и его богов, в покои, где сняла с себя торжественные одежды. Он последовал за ней. Он видел, что ее глаза остекленели от усталости, но ему надо было поднять ее и сопроводить на пир в Уайтхолл. Если бы это ему не удалось, пришлось бы срочно переговорить с королем, ибо слухи распространяются, как огонь по соломенной крыше: не появись Анна на публике, сказали бы, что у нее выкидыш. У двери он наткнулся на дочь Норфолка, четырнадцатилетнюю упрямицу, возмущенную до глубины души: «Королева не одета!» Анна ответила ему раздраженным голосом, и он, отодвинув девушку, вошел. Королева лежала на громадной кровати, как покойница, тонкая сорочка обтягивала живот, тонкая рука словно успокаивала принца внутри. Волосы разметались вдоль тела, как черные перья. Он смотрел на нее с жалостью, изумлением и каким-то даже аппетитом, воображая, что у него самого есть сейчас женщина на сносях. Она повернула голову. Прядь волос упала с кровати. Под влиянием странного порыва – что это было, страсть к аккуратности? – он поднял прядь, задержал на мгновение между большим и указательным пальцем, затем уложил рядом с остальными и разгладил. – Нет! Не трогайте королеву! – взвизгнула Мэри Норфолк. Мертвая женщина сказала: – Ему можно, он заслужил. Она открыла глаза. Оглядела его и одарила странной, замедленной улыбкой. Тогда я понял (скажет он после), что Анна не удовлетворится королем, а поглотит еще многих мужчин: молодых и старых, богатых и бедных, благородных и простых. Но по крайней мере, она не поглотила меня. Он вспоминает ее распухшие ступни, босые, с синими венами. Жалкие, беззащитные, ледяные даже среди июньской жары.
По велению короля для Правдивого Тома готовят помещение в Тауэре. Комендант Кингстон является лично, предлагает верхний этаж Колокольной башни, где хороший камин. Будем надеяться, говорит Кингстон, что король проявит милосердие и молодой человек доживет до зимы. Он спрашивает Кингстона: – Вы знаете Мартина, надзирателя? – Знаю, один из ваших единоверцев. – Пусть Мартин присматривает за лордом Томасом, – говорит он. – Он уважает стихотворцев. Кингстон недоуменно смотрит на него: – Они все писали стихи. Все покойные джентльмены. – Джордж Болейн, несомненно, – говорит мастер Ризли. – Полагаю, Марк. Но вообразите Уилла Брертона, жонглирующего терцинами! Что до Норриса, он был занят подсчетами прибылей и активов. Кингстон говорит: – Они все баловались стишками. Я не судья. Но покойная королева говорила, что только Уайетт знал в этом толк. – Сэр Уильям, попросите жену составить леди Маргарет компанию, как некогда покойной королеве. Я должен знать, о чем она говорит. – Он добавляет: – Я не утверждаю, что все кончится, как в прошлый раз. Пусть леди Кингстон поддерживает в ней веру, что впереди ее ждет долгая счастливая жизнь, если она осознает, в чем состоит ее долг. – Говорят, вы хотите принять новый закон, – замечает Кингстон. – Это слишком жестоко – заставить их совершить преступление задним числом. Они пытаются объяснить коменданту Тауэра, в чем суть. Правителя не сдерживают путы времени: прошлое, настоящее, будущее. Он не вправе извинять прошлое тем, что оно позади. Не может сказать: «былое не воротить», ибо прошлое просачивается сквозь почву, сочится ручейком, за которым не уследишь. Порой истинное значение событий раскрывается только задним числом. Воля Господа, к примеру, явлена в наши дни более искусными переводчиками. Что до будущего, то желания короля меняются стремительно, и закону приходится за ними поспевать. – Не забывайте, какое выдающееся предвидение проявил его величество во время суда над покойной королевой. Он знал, каким будет приговор еще до объявления вердикта. – Все так, – соглашается Кингстон. – Палач уже пересекал море. Кингстон давно в советниках. Он должен знать, как устроен королевский мозг. Если Генрих говорит: «Я так хочу», его желание все равно что уже исполнено. Король выражает свою волю и ждет, чтобы она осуществилась. – Но вы же не собираетесь ее казнить? – спрашивает Кингстон. – Шотландскую принцессу! Что скажут ее соплеменники? – Не думаю, что она им дорога. Они давно считают Мег англичанкой. Тем не менее я молюсь за благоприятный исход. Что до лорда Томаса, думаю, герцог Норфолк замолвит за него словечко. – Норфолк? – удивляется комендант. – Генрих спустит его с лестницы. Несомненно, думает он. Хотел бы я это видеть. – Будьте готовы, сэр Уильям. Больше посоветовать ничего не могу. Не хочется, чтобы вы снова оплошали. В конце концов, с казни королевы прошло уже два месяца. Вполне возможно, внутренняя машинерия, которой ведает Кингстон, успела заржаветь. – В любом случае, – говорит Кингстон, – я полагаю, мы не станем приглашать его снова? – Француза? Нет. Бог мой! Я не так богат. Нет, только старый добрый топор. Говарды – приверженцы традиций. Чтобыумереть, им не нужны новомодные штучки. – Следует отдать ему должное, – говорит Кингстон, – справился он превосходно. Отличный меч. Он мне показывал. Мы все убили Анну Болейн, думает он. В любом случае все представляли, как это будет. Скоро я услышу, что король сам спрашивал у палача: «Господин палач, можно на пробу замахнуться вашим мечом?» Как сказал Фрэнсис Брайан, Генрих непременно убил бы Анну Болейн, но в данном случае это сделал за него другой. Его руки помнят тяжесть, когда француз дал ему меч. Он видел, как свет играет на острие, прочел слова на лезвии, провел по ним пальцем. «Зерцало справедливости». Speculum justitiae. Моли Бога о нас.
В Остин-фрайарз все восхищены мастером Ризли: его упорством, его убежденностью, что не бывает дыма без огня. И Мег Дуглас повезло, что он не стал медлить. – Вообразите, – замечает Ричард, – если бы кто-нибудь застал ее голышом в объятиях Правдивого Тома. Ричард Рич говорит: – Оскорбив короля подобным образом, я бы не рассчитывал прожить долго. Рич трудится над новым законом. Новые статьи не помешают лицам королевской крови делать глупости, но пропишут формальный порядок действий, буде таковое случится. Нужно решить, кто замешан в преступлении Мег? Он запросил расписание дежурств: кто из фрейлин прислуживал покойной королеве в марте, апреле и в те дни мая, когда она была жива. Но надменные знатные старухи, ведающие этими делами, – леди Рэтленд, леди Сассекс – удивленно поднимают брови, намекая, что сие есть тайна. В то же время, по словам Рейфа Сэдлера, в покоях короля есть список: знаешь, кто там должен быть и когда. Впрочем, это не обязательно работает. Нынешней весной все перемешалось. Приближаясь к королю с дурными вестями, он находит Генриха в толпе архитекторов. Король вознамерился потратить деньги. – Милорд Кромвель? Который? В руках у Генриха макет фриза с иониками – орнаментом из яиц и стрелок, который нравится ему чуть больше, чем лавровые венки. – Венки, – говорит он. – Я должен кое-что вам рассказать. Архитекторы сворачивают эскизы. Он глазами провожает их до двери. Поняв, о чем речь, король начинает орать во всю глотку, что дело надлежит сохранить в тайне. Фриз до сих пор у него в руке; будь Мег Дуглас рядом, он бы разбил яйца о ее голову и утыкал ее стрелками. – Я не желаю повторения того, что было в мае, – особа королевской крови перед открытым судом. Европа будет возмущена. – Так что мне делать? Генрих понижает голос: – Найдите более тонкий способ. Что касается Правдивого Тома: – Предъявите обвинение в измене – пусть в обвинительном акте будет указано, что он действовал по наущению дьявола. Или это был милорд Норфолк? Он молчит. Тем временем, как сказано в одном из Томовых виршей: «и как трава растет молва». Ходят слухи, что лорд Томас арестован, предполагают, будто он был одним из любовников покойной Анны.
В Колокольной башне они с Ризли идут к Правдивому Тому через нижнее помещение, где тень Томаса Мора сидит на корточках в темноте при закрытых ставнях. Он прикладывает ладонь к стене, словно надеется прочесть в дрожи каменной кладки, что произносил здесь Мор: шутки, истории и притчи, библейские стихи, афоризмы, банальности. Кристоф шагает позади с доказательствами. Это не запятнанные простыни, а кое-что похуже. Стихи – Правдивого Тома и Мег в числе других – дошли до него в великом множестве: что-то нашлось, что-то передано через третьи руки. Листки загнуты по краям, некоторые многократно складывались, записаны одной рукой, прокомментированы другой, неразборчиво, с кляксами, они сомнительны с точки зрения поэтического мастерства, но не содержания. Я ее люблю, она меня не любит. Ах, она жестокая! Ах, я умру! Интересно, не затесались ли среди них стихи, сочиненные Генрихом? Покойным джентльменам вменяли, что они смеялись над королевскими виршами. К счастью, почерк Генриха не спутаешь ни с каким другим. Он узнает его даже в темноте. В верхнем помещении Правдивый Том глядит в стену: – Я все гадал, когда вы появитесь. Он – лорд Кромвель – снимает джеркин. – Кристоф? Юноша подает бумаги. Они кажутся еще более помятыми, чем раньше. – Жевал ты их, что ли? Кристоф ухмыляется. – Я всеяден, – сообщает он Тому. Когда он, лорд Кромвель, расправляет листки, готовясь читать вслух, Том подбирается, как любой поэт, в ожидании вердикта, который вынесут его стихам.
Бесс Даррелл присылает ему весточку: приходите в Л’Эрбе. Неудивительно, что Поли предложили ей свой кров, она – наследие покойной Екатерины. Но ей придется скрывать, что она носит ребенка. Старая графиня не потерпит бастарда Уайетта под своей крышей. Он находит Бесс и леди Солсбери мирно сидящими рядом, словно Пресвятая Дева и святая Анна из молитвенника. На коленях – отрез превосходного льна, украшенный райской вышивкой – цветущим летним садом. Он приветствует графиню изысканным поклоном – куда ниже, чем при предыдущей встрече. Замечает, что Бесс еще не расшнуровала корсаж. Она деликатного сложения; сколько ей удастся скрывать свою тайну? Графиня показывает на вышивку: – Я знаю, что вы в своей доброте всегда замечаете женское рукоделие. Видите, я нашла себе в помощь молодые глаза. – Должен выразить вам восхищение. Хотел бы я, чтобы цветы в моих садах расцветали так же быстро. – Ваши сады разбиты недавно, – сладко замечает леди Солсбери. – Господь не торопится. – И все же, – говорит Бесс, – Он создал мир за неделю. Он наклоняет голову, обращается к графине: – Говорят, вашего сына Рейнольда вызвал к себе папа. – Правда? Первый раз слышу. Он и сам услышал только что, и это вполне может оказаться ложью. – Интересно, что замыслил Фарнезе. Не стал бы он гонять Рейнольда в Рим, чтобы перекинуться в «Сдайся-смейся». Графиня смотрит вопросительно. – Это карточная игра, – объясняет Бесс. – Детская. Графиня говорит: – Мы знаем о планах моего сына не больше вашего. – Меньше, – еле слышно выдыхает Бесс, теребя пальцами лепестки. – А вам известно, что король требует его возвращения? – Это дело Рейнольда и его величества. Я уже объясняла – и его величество принял мое объяснение, если вы не знали, – что ни я, ни мой сын Монтегю не знали заранее, что Рейнольд пишет книгу против короля. И нам неизвестно, где он сейчас. – Но он написал вам? – Написал. Его письмо глубоко задело мое материнское сердце. Он считает, что тем, кто соблюдает законы этого королевства и этого короля, не видать рая, даже если их принудили к подчинению обманом или угрозами. – Но ведь вас не обманывали и не принуждали? Ваша верность происходит от благодарности. – И это еще не все, – продолжает Маргарет Поль. – Мой сын просит меня не вмешиваться в его дела. Говорит, что я бросила его в детстве, что я в нем не нуждалась. Я действительно отослала его учиться. Но я полагала, что отдала его Господу. – Она поднимает подбородок. – Рейнольд разрывает родственные связи. Он считает, что мы прокляты из-за того, что покорились Генриху Тюдору. Печально, что Рейнольд написал такое письмо, думает он. Впрочем, весьма удобно для всех. Графиня делает аккуратную петельку и втыкает иголку в ткань. – Вы хотели поговорить с мистрис Даррелл. – Вставая, она перекладывает работу на колени Бесс и бормочет вопрос, не предназначенный для его ушей. Бесс отвечает вслух: – Нет, я доверяю милорду хранителю малой королевской печати. – Тогда и я ему доверяю, – говорит графиня. Он улыбается: – Это обнадеживает. Леди Солсбери подбирает юбки. Мое обаяние на нее не действует, думает он. Бесс Даррелл сидит, опустив голову, и не поднимает глаз, пока они не остаются одни. Дверь тем временем приоткрыта. Ее гейбл скрывает то, что имел возможность лицезреть Уайетт, волосы цвета чистого золота. Он воображал, что Уайетт преследовал только бегущую дичь, что его волновала погоня, а не добыча. Впрочем, Бесс выглядит не просто пойманной, но и укрощенной. Женщина в ловушке злой судьбы. Он смотрит вслед леди Солсбери: – Можете судить, насколько она мне не доверяет. Даже дверь оставила открытой. Бесс говорит: – Она не думает, что вы повалите меня на пол и изнасилуете. Скорее, боится, что вы станете нашептывать мне на ухо плохие стихи, склоняя к замужеству. Выходит, она знает о Мег Дуглас. Неудивительно, все только об этом и толкуют. Он говорит: – Я нашел для вас пристанище. Как и обещал Уайетту. Семейство Куртенэ просит вас составить компанию миледи маркизе. – Гертруде? – Она складывает ткань на коленях, складывает снова и снова, пока не получается квадрат с иголкой внутри. – Но она вас не любит. – Зато она у меня в долгу. – Верно. Вы могли уничтожить ее семейство два года назад. А вы терпеливы. Думаю, вы отложили это до лучших времен. Королева Екатерина всегда говорила: «Кромвель держит слово, к добру или к худу». – Она отводит глаза. – Я знаю, что вы исполнили обещание присмотреть за Марией. Я была в Кимболтоне, когда вы его дали. Все, что я могу сказать, милорд, остерегайтесь благодарности. Неудивительно, думает он, что Уайетт к вам так привязан. Загадочные колкости слетают с ваших уст с той же легкостью, что у него. – А что до вашего положения, сами решите, как его объяснить. Куртенэ понимают, чем вам обязаны. Вы были с Екатериной в ее последние часы. Вытирали смертный пот с ее лба. Сейчас они бахвалятся тем, что для нее сделали, а на деле они не сделали ничего. Они не станут выпытывать имя мужчины. А если станут и им не понравится ваш ответ, придется смириться. – Понравится, – говорит она. – Они обязаны Уайетту его признаниям. Он сотворил это. – Она разводит руками. – Страну, в которой мы живем. Англию без Болейнов. – Уайетт ничего не сотворил. Его показания не понадобились. – Как скажете. Вы любите утешать, милорд. Торите свой путь через поле сражения, с молитвой для раненых и водой для умирающих. – Так и есть, – просто соглашается он. – Я вернул ему бумаги, и он может порвать их. Он рассказал мне о вашей связи, и я обещал найти вам убежище… Думал предложить свой дом, любой из своих домов, но мои советчики – домашние, которым дороги мои интересы, – решили… Она смеется: – Нет, лорд Кромвель, я не стану делить с вами кров. Незамужняя женщина, отвергнутая собственной семьей, – ваши враги только обрадуются такому подарку, а вы, викарий короля по делам церкви, будете выглядеть как похотливый епископ или римский кардинал. Он говорит: – Куртенэ не догадываются о моем участии в вашем деле. Пусть так и остается. За вас замолвил словечко Фрэнсис Брайан. Он ваш избавитель. Он любит Тома Уайетта и восхищается им. – Думаю, Фрэнсису не впервой избавляться от женщин, – говорит она. – Нет-нет, во мне не сомневайтесь, я поступлю, как вы скажете. И буду вечно вам благодарна. Вы спасли Тома Уайетта, когда он сам бы себя не спас. – Я просто отпер дверь, – говорит он, – но это вы заставили его выйти из темницы. Если бы не дитя, которое вы носите, он не стал бы бороться за жизнь. Мальчик или девочка, этот ребенок обладает великой силой. Он уже спас отца от плахи. – Ребенок? – говорит она. – Кажется, я ошибалась. – Так ребенка нет? – Нет. – И не было? – Я не уверена. – Уайетт знает, что вы его обманули? – Он знает, что до сих пор дышит! – взрывается она. Они молчат. Бесс разматывает ткань, белизна распускается цветами на фоне ее юбки. Найдя иголку, пробует острие указательным пальцем, словно хочет пустить кровь. Говорит: – Вы понимаете, почему я пошла на обман. – Мне нравится ваш обман, – говорит он. – Он поднимает вас в моих глазах. – Вы правы, идти мне некуда. Я никому не нужна, кроме Уайетта, а он не может быть рядом. Я поклялась ему кровью своего сердца и считаю себя замужней, как любая женщина в Англии, только у него уже есть жена. «Amor mi mosse», – думает он. Меня ведет любовь, я говорю любя. – Возможно, вы захотите остаться здесь, с леди Солсбери. – Здесь найдется и другая пара глаз. К тому же, думаю, в этом доме у вас уже есть шпионы. Что я должна буду делать у Куртенэ? – Жить. – Но чем мне отплатить вам, лорд Кромвель? – Пишите мне. Держите связь через слугу, который сам к вам подойдет. Я даже пришлю вам бумагу. – И что я должна буду писать? – Кто навещает их. Кто в отъезде. Кто из дам задумал рожать. – У меня нет денег. Пару раз он уже оплачивал ее карточные долги. Набожная Екатерина даже в дни изгнания играла на крупные суммы и ждала, что приближенные заплатят. – Я все улажу, если Уайетт не сможет. Она говорит: – Я буду следить за тем, что происходит в семействе Куртенэ, но не стану писать о личном, а лишь о том, что угрожает общественному благу. Обо всем, что может представлять для вас интерес. – Спасибо. – Он встает. – Но имейте в виду, мои интересы весьма разносторонни и обширны. – Прежде чем уйти, не хотите посмотреть вышивку? – С удовольствием. Она поднимает вышивку, показывает, как символ Полей – виола, или анютины глазки, сплетается по краю с цветами календулы. – Это их способ поддерживать друг друга, они раздают эти вышивки своим сторонникам. Цветы вышивают на алтарных облачениях, делают украшения для шляп. На прошлой неделе такое украшение подарили послу Шапюи. Календула, или, как ее еще зовут, мэригольд, золото Марии, означает… – да, вижу, вы уже поняли – означает леди Марию, этот образец сияющей добродетели. А теперь смотрите, – она показывает острием иглы, – как они сплетаются. Так и Рейнольд обовьет ее тело и душу. – Выходит, сегодня леди Солсбери солгала мне in toto[124] или только частично? Она бросает взгляд на дверь: – Рейнольд действительно написал ей письмо. – Очевидно, они состряпали его всем семейством. Это уловка, способ отвести подозрения. – Кажется, она потрясена до глубины души. – Равно как и король. Он чувствует себя одураченным, смятенным, обманутым. Своими письмами Рейнольд добился, чего хотел. Удивляюсь, что он не написал мне. – Он дотрагивается до ее руки. – Благодарю вас. Трудно представить, что Ричард Рич пишет билль против вышивания, но в этом нет нужды. Для того чтобы охватить все, что у Полей на уме, хватит существующих законов, особенно подойдет последний, направленный против тех, кто замыслил жениться на королевской дочери. Он не узнал о мечтах леди Солсбери ничего по-настоящему нового, однако лишнее доказательство, вышитое стежками на ткани, не помешает. – Надеюсь, когда вышивка будет закончена, – говорит он, – ее спрячут подальше от света. Как сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют. Она говорит: – Интересно, где сейчас Анна Болейн? К такому вопросу он не готов. Он воображает, как Анна мечется по продуваемым сквозняками залам потустороннего мира, где стены сделаны из треснутого стекла.
Отправляясь к королеве Джейн, он берет с собой Ризли: – На случай, если женщины вновь что-нибудь замышляют. Отныне я доверяю только вам. Если увидите, что кто-то вступил в непозволительный брак, тут же укажите мне на них. Не миндальничайте. Доколе мы будем терпеть? Ясное летнее утро. Дамы только что вернулись с молитвы. Бесс Отред, вдовая сестра королевы, сидит рядом с Джейн. По другую руку – жена Эдварда Сеймура Нэн, до замужества Нэн Стенхоуп. Разумеется, это не та, что грешила со старым сэром Джоном. Та умерла, и ее имя никогда не упоминают в Вулфхолле. Шотландской принцессы словно и не было. Дамы трудятся над тем, что занимает их досуг уже много недель, – спарывают букву «А» с атласа и дамаста, заменяя ее на «Д», чтобы Джейн могла носить платья покойной королевы. – Неужто эту прелюбодейку невозможно извести? – сочувственно мурлычет мастер Ризли. – У нее было много платьев, – говорит Бесс Отред. – Я помню, как перешивала их. – Голос низкий и сосредоточенный, мелкие жемчужины дождем сыплются под ее ножницами в шелковую коробочку. – Хвала Господу, припуски довольно большие, – бормочет Нэн. – Ее величество будет пошире старой королевы. – Она подбрасывает рукав Джейн. – А скоро, даст Бог, станет еще шире. Джейн опускает голову. Нэн поднимает глаза, откладывает ножницы: – Мы рады визиту любезного мастера Ризли. Зовите-меня вспыхивает. Джейн обращается к сестре: – Мастер Ризли теперь… этот, личной королевской печати. Я хотела сказать, хранитель. И разумеется, вы знаете государственного секретаря. Хотя теперь он лорд – хранитель малой печати. – Вместо чего? – спрашивает Бесс Отред. – Вместе со всем прочим, миледи, – кланяется он. Джейн объясняет: – Он отвечает за все в Англии. Я не понимала, пока мне не объяснил один посол. Его изумляло, что один человек может занимать столько постов и иметь столько титулов. Такого никогда не было. Лорд Кромвель и правительство, и церковь в одном лице. Посол сказал, когда-нибудь король загоняет его до того, что ноги у него подломятся, он рухнет в канаву и умрет. Зовите-меня решает сменить галс: – Миледи Отред, надеюсь, теперь вы будете жить при дворе? Бесс мотает головой: – Семья моего мужа хочет видеть меня на севере. Они не отпускают маленького Генри, хотят вырастить из него настоящего йоркширца. И как бы я ни желала видеть сестру в зените славы, мне не хочется, чтобы малыши меня забыли. Джейн трудится над собственной вышивкой. У женщин свои правила, которых мужчинам не понять. Не подобает королеве отпарывать инициалы предшественницы. Джейн поднимает вышивку – орнамент из жимолости и желудей. – Неплохо для деревенской простушки, – замечает она. Прав Норфолк, думает он, скоро я научусь управляться с иголкой. – Ваше величество, у меня есть просьба, но, возможно, вам она придется не по душе. Мне нужно встретиться с фрейлинами покойной королевы. Нам придется пригласить их ко двору. – Внезапно он чувствует страшную усталость. – Я должен расспросить их. Возможно, имело место недоразумение. Нам придется пересмотреть обстоятельства, о которых я надеялся забыть. – Бедная Мег Дуглас, – говорит Бесс Отред. – Королю следовало давно найти ей мужа. Оставьте без присмотра нежное создание, и Говарды налетят, словно мухи. – Кого вы хотите расспросить? – спрашивает Нэн. – А вы как думаете? – Мистрис Мэри Шелтон. Шелтон была составительницей сборника, она решала, какие стихи оставить, какие выбросить, знала, что в них зашифровано. – И, – продолжает Нэн, – вдову Джорджа Болейна. – Леди Рочфорд дама весьма деятельная, – замечает мастер Ризли. – Она помнит все, что видела. Дальнее, смутное воспоминание проплывает перед его мысленным взором: мягкой походкой Джейн Сеймур движется в покоях Анны, в руках – сложенные простыни. Анна еще не королева, но живет надеждой, и прислуживают ей, как королеве. Он вспоминает белые сгибы, легкий аромат лаванды. Вспоминает Джейн, чье имя едва ли знал тогда, лавандовые тени на белом склоненном лице. Нэн говорит: – Думаю, именно леди Рочфорд была свидетельницей брака Мег. Ей в радость погубить другую женщину. Бесс Отред удивлена: – Но не она ее погубила. Не она их выдала. Это правда. Но, как заметила другая Бесс – Бесс Даррелл, – настоящий, бесповоротный крах готовится долго и тщательно. Бесчестье Мег, раскройся оно раньше, стало бы бесполезной кодой к тому, что случилось с покойной королевой, – пропало бы зазря. Нэн говорит: – Мег, Шелтон и Мэри Фицрой вечно шушукались по углам. Мы-то думали, это все ради… – Она прикусывает губу. Бесс говорит: – Мы думали, они защищают тайны Болейнов. – Она серьезнеет. – De mortuis nil nisi bonum[125]. Он изумлен: – Вы знаете латынь, мидели? – В отличие от сестры я не пренебрегала уроками. Много же хорошего это мне принесло. Джейн поднялась высоко, а я бедная вдова. Королева только улыбается. Она говорит: – Я не против, если Мэри Шелтон вернется ко двору. Она не завистлива и не зла. А еще, думает он, для короля она давно прочитанная книга, так что одной заботой у вас будет меньше. – Но, Джейн, – говорит Бесс, – ты же не приблизишь к себе леди Рочфорд? Она издевалась над тобой вместе с Болейнами. И она жена изменника. – Она в этом не виновата, – замечает мастер Ризли. – И что с того? – Бесс возмущена. – Я удивлена, что король решился обратиться к Джейн с такой просьбой. – Это не он, – говорит королева. – Король никогда не позволяет себе сделать что-нибудь неприятное. Лорд Кромвель старается за него. – Джейн поворачивает голову, бледные глаза словно брызги прохладной воды. – Я уверена, леди Рочфорд будет рада вернуться ко двору. Лорд Кромвель в долгу перед ней за некий совет, в котором когда-то нуждался. Нэн говорит: – Если Рочфорд вернется, то уже навсегда. И мы никогда больше от нее не избавимся. – Не важно, – говорит Джейн. – Вы будете ей достойной противницей. Это комплимент? Нэн не уверена. Бесс резко бросает: – Сестра, не будь такой смиренной. Не забывай, что ты английская королева. – Уверяю тебя, я об этом помню, – бормочет Джейн. – Но коронации еще не было, так что никто не знает. – Все королевство знает, – говорит он. – Весь свет. – О вас знают даже в Константинополе, мадам, – говорит Ризли. – Венецианцы отправили туда послов с новостями. – А им что за дело? – спрашивает Джейн. – Правителям важно знать, что происходит в семействах других правителей. – У каждого турецкого султана по дюжине жен, – говорит Джейн. – Будь король их веры, мог бы стать мужем покойной королевы, упокой Господь ее душу, Екатерины, упокой Господь ее душу, и моим. А еще Мэри Болейн, Мэри Шелтон и матери Фицроя. И папа ничего бы ему не сказал. Мастер Ризли робко замечает: – Вряд ли король намерен стать турецким султаном. – Много вы знаете, – говорит Джейн. – Если вы пойдете к нему прямо сейчас, то увидите его в любимом костюме. Королю показалось мало надеть его один раз на свадьбу. Притворитесь удивленными. Нэн говорит: – Лорда Кромвеля ничем не удивишь. Джейн оборачивается к ней: – Иногда, отрываясь от забот, лорд Кромвель приносил нам пирожные. Апельсиновые тарты в корзинках. Когда королева бывала им недовольна, она швыряла их на пол. – Так все и было, – говорит он. – Но покойная королева делала много чего похуже. Впрочем, nil nisi… – Он встречает взгляд Бесс Отред и улыбается. Когда они выходят из покоев Джейн, он замечает: – Нэн ошибается. На свете еще есть такое, что может меня удивить. Например, вдова Отреда с ее латынью. Он сухо называет ее «вдовой Отреда», словно никогда о ней не думал. Представляет себе сэра Антони Отреда, старого бравого воина, представляет свою покойную жену. Мертвые стесняют нас. Чем говорить о них дурно, лучше вовсе не поминать их всуе. Мы не говорим о них и не думаем, мы раздаем их одежду нищим, сжигаем их письма и книги. Когда они вышли от Правдивого Тома и спускались по лестнице, Кристоф шлепал ладонью по стене – хлоп-хлоп-хлоп, словно будил тени, чающие обрести мир. Два года минуло с тех пор, как епископ Фишер спустился по этой лестнице навстречу казни. Он был стар, тощ и слаб, его тело распласталось на эшафоте, как сухие водоросли. У дверей на него обрушивается толпа просителей: – Лорд Кромвель, на одно слово! – Посмотрите сюда, сэр! – Милорд хранитель малой королевской печати, вы должны это знать! Ему пихают бумаги, хранитель личной королевской печати их собирает. Он видит слугу в ливрее Ричмонда, окликает его: – Как здоровье милорда? – Ему стало хуже. Мы не хотим говорить королю. – Я ему скажу. – Король должен навестить сына.
В тюрбане Генрих кажется очень высоким. Со времен тройной свадьбы он добавил на тюрбан самоцветов и перьев. На боку висит кривой кинжал, украшенный не полумесяцем, а тюдоровской розой. Он, лорд Кромвель, преклоняет колени перед королем, Зовите-меня рядом. Они не выражают изумления его нарядом. И у притворства есть пределы. – А я надеялся вас поразить, – с обидой замечает Генрих. – Вижу, королева вас предупредила. Как быстро во дворце распространяются слухи. – Она не хотела испортить вам удовольствие. Раздраженный король велит им подняться: – Вам не кажется, что я женился на дурочке? Она не в состоянии понять простых вещей. Он колеблется: – Она из тех смиренных душ, что не ведают своей выгоды. Ваше величество правит много лет, за что мы ежедневно благодарим Господа, королева же, в отличие от вас, неопытна в делах мирских. Король поправляет серебряный пояс: – Думаю, послы считают ее некрасивой. – Им-то что? – Он раздражен. – Шапюи не знаток женщин. – А равно и французы, – добавляет Ризли. – Они все прелаты – негоже им высказывать свое суждение по этим вопросам. Кажется, им удается его успокоить. Зеркало полускрыто занавеской, Генрих бросает косой взгляд, довольный собственным отражением. – Итак, – спрашивает король, – зачем я вас вызывал? Он вынимает из кармана шелковый мешочек: – Я хотел просить соизволения вашего величества подарить леди Марии вот это. Генрих вынимает подарок из мешочка. Снова и снова вертит в руке, всматриваясь в резьбу. На случай, если король не разобрал надпись, мастер Ризли зачитывает вслух. – В награду за смирение, – произносит Генрих. – Очень уместно. Думаете, моя дочь усвоила урок? – Не дожидаясь ответа, говорит: – Я заездил вас, Томас. Вы непременно должны поохотиться со мной этим летом. А еще я возьму с собой моего сына. Надеюсь, к тому времени он оправится и сможет держаться в седле. Король любит называть Ричмонда «моим сыном». Он говорит: – Ваше величество, слуги герцога полагают, вам следует посетить Сент-Джеймсский дворец. – А что вы посоветуете? Он чувствует, как дрожь сотрясает хранителя личной печати, Зовите-меня трепещет всеми фибрами. Подобный совет влечет последствия. Ибо Генрих добавляет: – Природа его недуга еще себя не показала. Если выяснится, что это заразно… – Храни Господь, – вставляет мастер Ризли. Генрих смотрит на кольцо, сжимает его в ладони. – Оно мне нравится, поэтому я сам вручу его дочери. А вы найдете что-нибудь еще, не правда ли? Он кланяется. Можно подумать, у него есть выбор. Король кивком отпускает их, его голубые глаза спокойны. Изумруд на тюрбане сверкает, как глаз ложного божества, а большие розовые ноги в бархатных туфлях похожи на поросят, бредущих на рынок.
Вероятно, дамы, которых отлучили от двора, сидели на тюках – никого не приходится просить дважды, и он заходит их поприветствовать. Мэри Шелтон напоминает ему резную деву работы Николауса Герхардта: белокожую, розовощекую, в ямочках, но взгляд резкий. Впрочем, она и не дева. Когда Шелтон собирала рукописи, имевшие хождение среди рабов и обожателей покойной королевы, она сравнивала загадки, остроты и нечестивые молитвы, переписывала и порой сопровождала стихотворными комментариями или новыми загадками, решая, кому отвечать. Ее правка очень щадящая, иначе она вычеркнула бы все стишки Правдивого Тома до последнего. Он соглашается с покойной королевой: только Уайетт умеет писать стихи. Он говорит ей: – Уверен, ваша кузина знала про Мег и Правдивого Тома. Ей доставляло удовольствие, что еще один из Говардов возвысился? – Нет. Но удовольствие она получала. – Ей не приходило в голову предостеречь леди Мег? – Зачем? Он обдумывает ее ответ. Почему одна женщина должна помогать другой? Мэри Шелтон говорит: – Я согласна, это вина моей кузины Анны. Она научила нас думать только о себе и следовать своим желаниям. Amor omnia vincit[126]. Так она говорила. – Возможно, на время. – Любовь побеждает все? – Бедное нежное создание, она опускает голову. – При всем уважении, милорд, любовь не победит и гусенка, калеку с ног не свалит, яйца не разобьет! Шелтон собиралась замуж за Гарри Норриса, пока Анна не сказала ей: «Если король умрет, Норрис женится на мне». Шелтон выстроила для своей любви маленький домик, а он рухнул от одной фразы, и теперь она живет на обломках. Он спрашивает: – А дочь Норфолка? Я знаю, она покрывала Мег. Она не живет с мужем, не правда ли? Ей никогда не позволят. У нее, случаем, нет любовника? Шелтон качает головой: – Слишком боится отца. А вы бы на ее месте не боялись? – Если бы смог вообразить себя на ее месте, – смеется он, – боялся бы. А как в этом замешана Джейн Рочфорд? – Она, как всегда, себе на уме. Спросите у нее сами. – Я спрашиваю у вас. – Не стану утверждать, что она была в спальне в первую брачную ночь Мег, но чистые простыни принесла она. Он поднимает руку: – Ни слова о простынях. Мег Дуглас невинна. Нетронута, как дочь Норфолка. Чиста, как будто только что из материнской утробы. – Ясно, – говорит Мэри Шелтон. – Не забудьте оповестить Джейн Рочфорд. Пусть начисто сотрет свою память. Почему непременно на белых простынях, думает он. Господь даровал вам для наслаждений целый мир. Почему не в парке у дерева?
Перед тем как вернуться ко двору, вдова Джорджа Болейна оговаривает условия. Уточняет, какие комнаты хочет, просит выделить стойла для двух лошадей, а также стол и кров для себя, двух служанок и слуги. Дайте леди Рочфорд то, что она требует, пишет он, но, как только она прибудет, пришлите ее ко мне. – Что слышно про Бет Вустер? – Она с ходу завязывает разговор, словно и не было прошедших недель. В глазах блеск. – Сейчас она на седьмом месяце. Интересно, граф определился, чей ребенок? – Король желает знать про Мег Дуглас. – Нет, не желает. Много ли ему радости знать, что его племянница себя сгубила? А желает он, чтобы все знали, что ее подруг опросили, а стало быть, он сделал все ради установления правды. Его можно только пожалеть. Так и будет считать себя ничтожеством: друзья наставили рога, дочь непокорна, племянница вышла замуж без его ведома. Да и вы с ним не церемонились. – Я? – Генрих сказал: «Сделайте меня свободным». И вы сделали. Но он хотел быть свободным как принц, а не как нищий. Вы разнесли дворец его мечты и оставили его нагим среди обломков. Вы раскрыли ему глаза, и оказалось, что жена лгала ему, а друзья притворялись. Вы всегда ждете от женщин предательства – грех Евы, как вы это называете, измена в женской натуре. Но предательство Норриса и Уэстона, которых он любил всей душой… – Я дал королю то, о чем он просил. Она говорит, как Шапюи, думает он. Считает, что Генрих никогда меня не простит. – Но разве он знал, как над ним будут смеяться? – спрашивает леди Рочфорд. – Над его одеждой, стихами, мужской силой? Теперь ему с этим жить, а вам – с ним. Придется создавать ему новую репутацию. Вам и Сеймурам. – Репутацию? Он король Англии. – Он обычный мужчина. – Она усмехается. – Думаю, с бледной Джейн он управится. Много от него не требуется. Не завидую я ей. Анна говорила, обслюнявит тебя всю, как щенок мастифа. Он прикрывает глаза. – Говорят, коронация отложена, – замечает она. – Ждут, пока спадет жара. Скорее всего, на Михайлов день. Я надеюсь, что меня известят заранее: нужно время замазать черноглазых богинь, которых я заказал написать для Анны, заменить их танцующими англичанками с округлившимися животиками и поднятыми вверх розовыми руками. Леди Рочфорд говорит: – Думаю, он не коронует Джейн, пока она не убедит его, что наследник у нее в утробе. – Убедит? Думаете, она может солгать? – Всякое бывало. Так не пойдет, думает; она хочет увлечь его туда, куда он ни ногой, – в заросли прошлого. – Сеймур разыграет свою карту, – говорит она. – За ней наблюдают и ждут. Господь свидетель, совести у нее нет. В деревне мне пришлось терпеть бесконечные вздохи соседей: «Ах, наконец-то наш король обрел счастье, Англия обрела счастье, этот брак благословен!» Но откуда взяться благословению, если свадебный наряд шили из савана? – Кто шил, миледи? – Интересный вопрос. Вы, я, мастер Уайетт – кому принадлежит основная заслуга? Думаю, вам. Мы выкололи наш мелкий узор, но ткань кроили вы. – В мае я предупреждал вас, подумайте, прежде чем говорить. Если вы дадите показания против собственного мужа, от вас станут шарахаться. Вас будут ненавидеть. Вы будете одиноки. – Как мало вы знаете о нашей жизни, – говорит она. – О женской доле. Я одинока много лет. – Отныне все изменится. Никто больше не вспоминает об Анне Болейн. Никто о ней не думает. Вы будете веселы, угодливы и постараетесь заслужить одобрение новой королевы, иначе вас отошлют от двора, и я не стану вас защищать. – Джейн Сеймур никуда меня не отошлет. Я ее знаю. Я кое-что знаю про нее. У него екает сердце. Шапюи спрашивал, как она умудрилась столько лет провести при дворе и остаться девственницей? Он думает, какой-то мерзавец ее обесчестил. Волна ярости, словно морской вал, едва не сбивает его с ног. Джейн Рочфорд ухмыляется: – Это не то, о чем вы подумали. Никто не зарился на бедную Джейн, в постели она холодна, как рыба. Мне известно кое-что другое – ее приемы. Я видела все, что она делала против Анны, служанка против госпожи. Помните, Анна нашла в кровати рисунок? Мужчина в короне, а рядом женщина без головы. Доктор Кранмер потянулся, чтобы выхватить рисунок и разорвать, но она отвела руку и прочитала вслух: «Anne Sans tête»[127]. Анна сказала, это люди Екатерины, они за мной следят. «Кремюэль, – она стиснула его руку, – как им удалось добраться до меня в моей собственной спальне?» Он говорит: – Это не Джейн, она не говорит по-французски. – Любой знает по-французски несколько слов, – смеется леди Рочфорд. – Я уверена, что все эти годы вы думали на меня. – Неудивительно. Вы с Анной друг друга не любили. Она говорит: – Эти люди унижали меня с детства – Говарды, Болейны. Джордж Болейн разговаривал со мной так, словно я девчонка, которая разносит уголь, чтобы добыть пропитание, или прачка. Я родом из такой же знатной семьи. Чем Анна Болейн лучше меня? Она похожа на голодного ребенка, думает он. Брось ей ломтик внимания, и она будет жадно глотать, пока не подавится. Он помнит Анну Болейн в тот день, но, кроме страха, в ее словах было презрение. «Пусть делают что хотят, все равно я стану королевой, пусть даже потом меня сожгут». – По крайней мере, до этого не дошло, – говорит он. – До костра. Джейн поднимает бровь: – В этом мире, возможно. Думаю, дьявол свое дело знает. Он собирает бумаги, хотя они не договорили. На самом деле, они даже не приступили к настоящему разговору. – Так я свободна? – Леди Рочфорд встает. – Спасибо, что вернули меня ко двору. С тем имуществом, что досталось мне от Болейнов, и жалованьем от Джейн я сумею вести жизнь, достойную знатной дамы, если буду осмотрительна в тратах. Если нет, осмелюсь надеяться, вы меня выручите. – Моя признательность имеет границы. – По крайней мере, вы не сказали: «Мои сундуки не бездонны». Я бы рассмеялась вам в лицо. – Она поворачивается к двери. – Что до Мег Дуглас, должно быть, вы спрашиваете себя, могла ли я неверно истолковать то, что видела весной: ночные хождения, жаркие взгляды, томные вздохи… – Миледи, если вы знали об этой интрижке, почему не пришли ко мне? Это позволило бы избежать большой беды, это помогло бы мне… – В чем? Вы ни на миг не усомнились в виновности этих джентльменов. Вы сказали, накидайте грязи, авось что-нибудь прилипнет. И все равно не сомневайтесь. Это не было ошибкой, не было несправедливостью. Вы были правы насчет Анны Болейн. – Верю вам на слово, – лжет он. – Она была порочна до глубины души. Каковы бы ни были наши поступки, Господь видит не их, а наше сердце. Разве нет, господин секретарь? Он говорит: – Вам следует запомнить мой новый титул, мадам.
В Остин-фрайарз его встречает Ричард Кромвель. – Мой привратник, – обращается он к Ричарду. – Никогда не впускай сюда женщин. Я не желаю ни видеть их, ни говорить с ними. – Что, никогда-никогда? – спрашивает Ричард. – Никак вы собрались в монастырь? Но я слышал, в монастырях полно женщин, в том числе распутных. А если за вами пришлет королева, что мне придумать? – Скажи, пусть напишет мне, и я отвечу ей письмом. В руки больше не возьму любовные вирши. Стихи, прославляющие военные победы. Стихотворные переводы псалмов. Все, что угодно, только не эти женские штучки. Грегори замечает: – Только на прошлой неделе вы тепло отзывались о леди Марии и сказали, что ей нужны подарки. Его племянник говорит: – Здесь Ричард Рич. И Зовите-меня. – И Рейф, – добавляет Грегори. – Вид у них мрачный. Мы отправили их в сад. – Рейф? Почему раньше не сказали? Он спешит в сад. Дождь закончился с час назад, и теплый воздух напоен ароматами трав.Даже колышки, что подпирают юные деревца, как будто подрагивают от растительной силы. Молодые люди стоят на влажной утоптанной дорожке, их рукава касаются спутанных роз, колючий шиповник цепляет подолы. Они о чем-то беседуют приглушенными голосами, а при его приближении замолкают и смотрят на него настороженно, почти виновато. Рейф говорит: – Я не понимаю, как так вышло. Вероятно, кто-то похитил ваши письма или записи. Когда я следил за вашим письменным столом, такого не случалось. – Я уверяю тебя, Сэдлер, – говорит Ричард Кромвель, – ничто тайное не покинет пределов этого дома. Ни слово, ни бумага. – В любом доме могут завестись предатели, – замечает Зовите-меня. Ричард Рич говорит: – Мы никогда не распускали досужих слухов, порочащих вашу репутацию. И не пытались посеять раздор между вами и вашим царственным господином. Мастер Ризли говорит: – Ваши друзья всегда советовали вам жениться. – Ради Христа! – восклицает он. – Что случилось? – Шапюи получил некие сведения или сделал некие выводы. Он утверждает, что король обещал выдать леди Марию замуж. За вас. – Господи, – говорит он после молчания, – а я сделал ей подарок. По крайней мере, пытался. – Об этом толкуют везде, – говорит Зовите-меня. – Вести долетели до Фландрии, прокатились по Франции, перебрались через горы и вернулись к нам из Португалии. – Король знает? – Странно было бы, если б не знал, – говорит Рич. Ризли говорит: – Тон у ваших писем к его дочери весьма теплый. Кто-то их выкрал. – Необязательно, – замечает он. Он по собственной воле показывал послу письма Марии, она в свою очередь показывала его письма Шапюи. – Мы не можем утверждать, что их похитили. Мы можем сказать, что превратно истолковали, с тем чтобы поднять шум. – Друзья вас предупреждали, – говорит Зовите-меня. – Мы говорили вам в саду у Сэдлера. Вы дали ее матери обещание, сами признались. Теперь оно вышло вам боком. Он видит лицо Генриха, как тот разглядывает кольцо на ладони. Я сам ей вручу, а вы найдите что-нибудь другое. Неужели король спасал его от него самого? Он говорит: – Королю в голову не придет отдать руку дочери своему советнику. А если придет, я откажусь. Он не может думать, что я ищу этого брака. – До сих пор не мог. – Грегори выглядит потрясенным. – Но если поверит… – Это мощное оружие, сэр, – говорит Рич, – если ваши враги задумают обратить его против вас. Многие убеждены, что муж Марии, кто бы им ни стал, когда-нибудь взойдет на трон. И любого, кто к ней посватается, можно обвинить в измене. – Нечего повторять без конца одно и то же, Рич, – говорит Ричард Кромвель. – Это награда моему дяде за доброту. Он спас ее, а теперь утверждают, будто он думал только о себе. Когда вспыхивает пожар, думает он, ты бежишь тушить его с ведром воды. Но губят тебя не дым и пламя, а кирпичи и бревна, которые разлетаются в разные стороны, когда взрывается дымоход. Грегори говорит: – Я знаю, что делать. Слухи не прекратятся, пока вы не скажете: «Я уже женат». Выйдите на улицу и предложите себя первой попавшейся женщине. – Согласен, – говорит его племянник. – Старой или молодой. Любого сословия и положения. – А если она уже замужем? – Предоставьте это нам, – говорит Ричард. – Мы уберем его с глаз долой, верно, Рич? Тень улыбки на лице Рича. – Мы найдем способ от него избавиться. Большинство из нас вольно или невольно нарушают закон. Любого, если хорошенько покопаться, найдется за что наказать. – Или просто прирежем муженька и сбросим в навозную кучу, – говорит Ричард. – Все равно все уверены, что мы только этим и занимаемся. – Я сам прирежу посла, – говорит он, – как только его увижу.
Он находит Шапюи в саду, тот сидит под деревом и читает книгу. Он сам предложил ее послу: «Диалог между Законом и Совестью». Он берет книгу и вертит в руках. Типография Джона Растелла. – Могу одолжить вам вторую часть. Только она на английском. – У нее есть продолжение? – удивляется посол. – Я думал, все уже сказано. Вопросы совести надлежит рассматривать в рамках закона. Отсюда следует, что нет нужды в особых законах, прописанных церковниками. – Он забирает книгу обратно. – А скоро англичане спросят, зачем вообще нужны священники, если каждый человек сам себе священник? Немцы уже так говорят. – Похоже, придется мне жениться. По крайней мере, Шапюи не пытается лгать. Он не делает вид, будто первый раз об этом слышит, просто машет рукой, отрицая, что был источником слухов: – Мой дорогой Томас, и вы поверили, что я мог такое сказать? Благородные английские лорды уничтожат вас, и тогда мне придется иметь дело с Норфолком как с главным министром. Клянусь мессой, от одной мысли об этом я вяну с тоски. – Думаю, вы пытаетесь меня погубить, – говорит он. – Прошу вас, – посол делает знак своим людям, – бокал превосходного рейнского. – Пропитайте им губку, – говорит он. – Выпью, когда буду висеть, прибитый к кресту над Лондоном. – Не богохульствуйте, – мягко говорит посол, протягивая ему кубок. – Я только передал то, что слышал от честных и уважаемых людей. Что король якобы выбрал дочери в мужья англичанина и этот англичанин – вы. Однако я заверил императора, что, по моему мнению, Кромвель откажется. Он помнит, чей он сын, и еще не окончательно утратил разум. – Едва ли я сумел бы отрицать, кто был мой отец. Он вспоминает, как в конце дня Уолтер окунал голову в ведро с водой, а потом отплевывался и задыхался. Зачем? Едва ли от этого он становился чище. – Разумеется, если король сделал вам это предложение, лицом к лицу, как вы могли отказаться? – спрашивает Шапюи. – Король его не делал и не сделает. Это невозможно. Он предпочтет, чтобы Мария умерла. Гордость ему не позволит. – Ах да, – говорит посол, – его гордость. Что касается моих собственных наблюдений, мне показалось, леди Мария краснеет при упоминании вашего имени. – Она краснеет от гнева, – говорит он. – Размышляет, как прикончит меня, когда получит власть. Распятие будет милостью. – Он делает глоток рейнского. – А теперь она возненавидит меня еще больше. Кстати, отличная брошь. Какая искусная работа. Он готов поклясться, что Шапюи бледнеет. Рука посла касается цветка календулы, лепесток украшен жемчужиной. Бывалого дипломата не смутить. Он снимает шляпу и начинает отстегивать украшение: – Мон шер, это вам. Он готов расхохотаться. – Вы щедры. – Предательское украшение падает в его ладонь. Он кладет его в карман. – Я примерю потом, перед зеркалом. Дома его ждет Рейф: – Печально слышать такое про Шапюи. После нашей дружеской беседы в моем саду. – Шапюи нам не друг. Он спрашивает себя, показать ему брошь? Но не показывает. – Что теперь? – спрашивает Рейф. – Навестим французского посла и посмотрим, что он скажет.
– Монсеньора нет дома, – докладывает привратник. Затем, словно гость мог не понять, повторяет по-английски: – Нет его. – Неужели? – Он снимает шляпу. – А он не притворяется? Не следит за мной из окна? А если я откину крышку того сундука, не окажется ли, что он сидит там, скрючившись? Обязанности посла исполняет Антуан де Кастельно, епископ Тарба. Представив епископа в такой нелепой позе, привратник невольно улыбается. Впрочем, возможно, его любезность объясняется всегдашней щедростью Кромвеля. – Милорд, у него другой ваш знакомый. Войдите… Жан де Дентвиль сидит у пылающего камина. За окном птицы сомлели от жары, трава на лужайках сохнет, превращаясь в солому. – Это вы! – восклицает он. – Что за манеры, Томас! Вам следовало сказать: «С возвращением, посол». – И надолго вы решили почтить нас своим присутствием? – Нет, если это будет зависеть от меня. – И что вас сюда привело? – У тебя нюх на несчастье, думает он. Иначе ты бы не приехал. – Прослышали о моем предстоящем бракосочетании? Посол не улыбается: – Мой король сказал, придется съездить, Жанно, лично поздравишь Кремюэля. Из уст старого друга поздравления особенно приятны. Он фыркает: – Ваш король предпочел бы увидеть меня скорее мертвым, чем женатым. – Он живет надеждой. – Если эти нелепые слухи пошли из Франции, я поручу нашему послу их опровергнуть. – Определенно, епископ Гардинер не считает вас достойным супругом для принцессы. Он полагает, ваше дело – как он сказал? – подковывать лошадей. – Дентвиль обращает на него взгляд печальных темных глаз. – Вы обескуражены, Томас? Не привыкли к предательству? А чего вы ждали от Шапюи? Он, Кромвель, отступает подальше от камина. – Неужто вам и впрямь холодно? Никогда не поверю, – говорит он. – Не знаю, чего я ждал. Не этого. Посол сердито ерзает в своих мехах: – Вы думали, император и его люди будут вам благодарны, потому что вы исполнили обещание, данное Каталине? Они решили, это был хитрый трюк, который вы замыслили у постели умирающей королевы. Они полагают, у вас нет ни чести, ни совести. Кстати, так же они думают о Генрихе, поэтому не удивляются его поступкам. Впрочем, как и мы. – Не знаю, что еще я мог для нее сделать, – говорит он. – Я поступил с девушкой честно. Генрих не пощадил бы ее. Я уберег короля от величайшего преступления. – Не сомневаюсь. А теперь должны уберечь его от следующего. Я говорю о дочери шотландской королевы. Как вы поступите теперь? Если они думают, что вы спасли Марию для себя, что мешает им повторить те же домыслы? Мне доводилось видеть шотландскую принцессу. Лакомый кусочек, не то что королевская дочка, не так ли? Он видит, как, задыхаясь от кашля, пробирается сквозь дым. Выносит девушку из пожара. Хрясь! Дом рушится. Его заваливает обломками. – А вам никогда не хотелось выйти? – спрашивает он. – Проветриться, взбодрить кровь? Когда завершатся парламентские слушания, приглашаю вас за город. – Поверьте, – отвечает француз, – для развлечения мне хватает дипломатии. – Он машет рукой на мясную муху, принявшую его меха за звериную тушу. Кислый запах плывет в летней духоте. – Держитесь веселей. Думаю, мой господин король Франциск готов сделать вам предложение. Я сказал ему, не стоит недооценивать Кремюэля, предложим ему больше. Мой король понимает, вы ничего не делаете даром. И он видит, что, хотя вы, возможно, еретик, вы удерживаете Генриха от войны. Если бы не вы, ваш господин и дальше воображал бы себя правителем Франции. – Чего хочет ваш король? – Кале. – Ни за что. – Отдайте Кале на ваших условиях, иначе скоро мы отберем его на своих. Если уступите нам, Генриху найдется чем заняться в своем маленьком королевстве. Его нога должна убраться с французской земли. Если он готов оставаться внутри собственных стен, мы не станем ему досаждать. Если не готов, кто знает. За дверью Кристоф развлекает толпу соотечественников. На прощание кричит и показывает им кулак. – Я сказал им, – довольно сообщает ему Кристоф, – что вы сильны как бык и готовы заделать леди Марии наследников. А они говорят, король выбрал Кремюэля, потому что хотел унизить внучку Испании. Говорят, если у вас появятся дети, Генрих заставит их скрести полы. Чтобы заработать на пропитание, они будут чистить нужники и при свете луны вывозить дерьмо на телегах.
Восемнадцатого июля заканчивается сессия парламента. Билль о лишении Правдивого Тома прав принят. То немногое, чем он владел, изъято в пользу короля, и ему осталось только ждать лютой смерти. Каждое утро он будет прислушиваться к шагам за дверью. Первым придет Кингстон или его заместитель, не позже девяти. Затем – священник. – Отложить казнь? – спрашивает он короля. Генрих говорит: – Да, пусть ждет. – А леди Маргарет? Вы же видите, сэр, она стала жертвой обмана. Невинная девушка оплакивает свою участь, живет надеждой на ваше милосердие. – Я дам ей – им обоим – время осмыслить свою глупость и свои злодеяния, прежде чем воздам по заслугам. Когда король с королевой отправляются в Дувр, французские корабли появляются вблизи побережья. В Лондоне, после месяца споров, епископы принимают исповедание веры в десяти статьях. Из Базеля приходят слухи, что Эразм умер. Ганс, у которого в Базеле знакомые, утверждает, что это правда. Незадолго до отбытия из Уайтхолла король подтверждает его полномочия викария по делам церкви и посвящает его в рыцари. Так что теперь он сэр Томас, равно как и лорд Кромвель. Если Генрих поверил, что он пытался соблазнить, обольстить или совратить его дочь, то никак этого не показывает: любезно строит планы увидеться, как только дела позволят ему покинуть столицу. Ричмонд до сих пор болен, но король решает, что, если сидеть на месте, заразится весь двор. – Обязательно пришлите Грегори, – говорит король на прощание. Его сын нарасхват. От Сомерсета до Кента, от центральных графств до северных пустошей, замки и поместья соревнуются между собой, как развлечь его: приятного молодого человека, видного, знающего свое место, однако накоротке с великими мира сего, вежливого со слугами и щедрого к беднякам. Он музицирует на вёрджинеле и лютне, поет дуэты, говорит по-французски, готов сыграть в любую игру, требующую ловкости или удачи, в гостиной или на свежем воздухе. На охоте не знает ни устали, ни страха. Ежедневно, подавая пример другим, стреляет по мишеням – и только скромность мешает ему превзойти отца в стрельбе из длинного лука. Он, лорд Кромвель, не устает благодарить Господа за то, что по-прежнему хорошо видит вдали. Вблизи ему нужны очки. Неудобная штука, но Стивен Воэн прислал ему превосходные линзы из Антверпена. Иногда писари читают ему вслух, чтобы сберечь его зрение. Он говорит им: «Каждое слово, не общий смысл, не ваше изложение, а каждое слово». Если они запинаются, заставляет читать заново. В Остин-фрайарз он просит Мэтью принести «Книгу под названием Генрих». Он надеется, хотя времени не хватает, записать то, чему был свидетелем с тех пор, как Анну Болейн отправили в Тауэр. Он хочет собрать все, чему учит королевских советников, особенно тех, кто принял присягу недавно. Их роль – побуждать в своем господине добродетель. Если Генрих думает о себе хорошо, то и поступает хорошо. Если ты смутишь его душу, сравнивая короля с правителями, безупречными нравственно и при этом удачливыми, не удивляйся, если он заставит тебя об этом жалеть. Иногда он читает свою книгу, чтобы восстановить уверенность в себе. Надеется, что со временем выйдет целый том – недлинный, но исполненный мудрости.
Через день после отъезда короля он в Доме архивов на Чансери-лейн. Входит Ричард Кромвель, кладет бумаги на стол: – Стихи из Кента. Он подносит бумаги к лицу, воображая запах яблок. Узнает руку Уайетта, но, начав читать, спрашивает: – Это его стихи? – С его стола, сэр. – Выходит, вы шпионите за Уайеттом? – с улыбкой спрашивает он. Он читает имена умерших. Рочфорд. Норрис. Уэстон. «Проходят дни, печаль гнетет сильней». – Сильней? – удивляется он. – С чего бы это? – Читает: – «И Брертон, прощай! Хоть так, как их, не знал тебя, друзей и ты имел». Скатертью дорога, Брертон. Он шлепает бумаги на стол и водит пальцем по строчкам: – Надо же, и Марк не забыт. «Ты из низов взобраться ловко смог». – Перед глазами землистое лицо мальчишки-лютниста. Обезумевший от ужаса, отчаянно колотящий в дверь чулана посреди ночи; уверенный, что его коснулся призрак с перьями вместо пальцев и дырами вместо глаз. Ни формы, ни страсти, думает он. Некоторые строчки мог бы сочинить Правдивый Том, а не Том Уайетт. И все-таки они заставляют его увидеть тела, вперемешку сваленные на телеге: бледные английские руки и ноги раскинуты, головы в подмокшем от крови мешке. «Прощайте – всем от сердца я скажу. Упал топор…» Он говорит Ричарду: – Видишь, автор их не оправдывает. Он говорит, что они мертвы, но не говорит, что должно быть иначе. Упоминает о гордости Джорджа Болейна, пишет, что почти не знал Брертона. Чего убиваться? – Потому что скорбь распространяется, как зараза. Растет день ото дня. – До известной степени. – Он много знает о скорби. Читает вслух: – «Ах, Норрис, Норрис! Каверза судьбы смогла тебя и ближних погубить! Подумаю – не удержать слезы…» – Он останавливается. – Каверза судьбы? Заметь, он не говорит, что кто-то сгубил Норриса. Не говорит, что кто-то его направлял. Судьба вела его, обстоятельства. Ричард говорит: – Он верит в виновность Норриса. Это очевидно. – Что ж. Я думал, что определил его судьбу, но, возможно, он справится сам. – Он подносит бумаги к свету: ни помарок, ни исправлений. Водяной знак в виде единорога. Ричард говорит: – Не стану утверждать, что их автор Уайетт, но он знал, о чем писать не стоит. Дама не упомянута. А зачем, думает он. Анна и так всегда в его комнате. Ричард замечает: – Может быть, это действительно Уайетт. Писал другой рукой, левой. Или другим сердцем. – Это ничего не меняет, – говорит он. – «Упал топор – и вот он, ряд голов». Это мнение одного человека. И еще один удар по нашей вере в справедливость нашего правосудия. Мы сделали то, что сделали, – а могли бы сделать меньше, и пусть бы виновные говорили сами за себя. Он смотрит, как Ричард собирает бумаги. «Уйми же плач и на молитву стань». – Я еду в Мортлейк, в мой новый дом, – говорит он.
На новом месте ему не спится. До сумерек он бродит по саду, решая, с чего начать: выкорчевать старые пни или заняться новыми посадками. Ходит по комнатам, переделывая и расширяя их в голове: прихожая, большая гостиная, галерея, часовня, библиотека. А еще кухня, буфетные, чуланы; дровяной сарай и сарай для угля, кладовые для сухих припасов и для мяса, пекарня. Эта комната для Зовите-меня, если ему случится заночевать, угловая рядом для Ричарда, – наверное, стоит прорубить еще окно? После переделки Хэмптон-корта осталось достаточно материалов, можно будет переправить их сюда на барке. В главные покои ведет отдельная лестница – следует поставить там стражника. Эти места знакомы ему еще со времен сестры Кэт и ее мужа Моргана Уильямса. У семьи Уильямс был дом на реке, почти под стенами особняка. Люди основательные, они любили строить планы: Томас, говорили они ему, голова на плечах у тебя есть, и, если уйдешь от Уолтера, чего-нибудь да добьешься. Можешь наняться писарем к кому-нибудь из наших друзей, экономом к какому-нибудь старику, закончив карьеру счетоводом у знатного человека. Он видит, как портной Моргана Уильямса шьет ему хороший джеркин на выход, такой же, как у шурина; в тридцать или в тридцать пять в этом джеркине он окунает своих детей в древнюю купель Буршье в приходской церкви. Особняк всегда принадлежал архиепископам. Некоторое время там служил на кухне его дядя, а половина знакомых мальчишек зарабатывала свои пенни, таская дрова, разгружая барки, чистя рыбные садки. Он и помыслить не мог, что когда-нибудь войдет в ворота особняка иначе чем работником, что будет разгуливать с чертежами в руках, оглядывая все вокруг оценивающим взглядом нового владельца. Впрочем, он никогда не думал становиться архиепископом. Если вы удивляетесь свалившейся на вас удаче, лучше делать это в одиночестве – никогда не выставляйте своих чувств напоказ. Если вы хранитель малой королевской печати, ходите с важным видом походкой избранника Божия. Так поступал Мор, когда был канцлером. Отделавшись от прежней жизни – Уильямсов с их планами, Уолтера с его тумаками и пинками, – он и подумать не мог, что снова вернется на эти улицы. Но нас всегда тянет к нашим корням, к земле нашей невинности. Шип-лейн всегда пролегала здесь, спускаясь с горы к верфям. Город, который он знал, был скопищем узких улочек и кривых переулков, состоял из воровских притонов со сломанными дверями, гниющих лодок, расползающихся пеньковых канатов, илистой грязи и склизкого гравия. Здесь, где река делала поворот, припала к земле его родина. Он чувствует, что прихватил с собой из Лондона гостей: Норриса и Джорджа Болейна, молодого Уэстона, Марка и Уильяма Брертона. Он сходит с барки, и они следуют за ним. Стоят на берегу Стикса, ожидая переправы. Они умерли с разницей в несколько минут, но это не значит, что теперь они вместе. Мертвые бродят по переулкам иного мира, словно чужестранцы, заплутавшие в Венеции. Если они встретятся, о чем заговорят? Стоя перед судьями, они сторонились друг друга, словно боялись заразы. И каждый был готов обвинить другого, чтобы выгородить себя. Прочь, говорит он им. Не думайте, будто можете здесь расхаживать. Заплатите перевозчику и убирайтесь. Сучка спаниеля вертится у него на руках, пока они шагают в сумерках, морда задрана, вислые уши настороже. И хотя для своей породы она мелковата, у нее нюх прирожденного охотника. Всегда есть некое ощущение пертурбаций, прежде чем все обустроится на новом месте: твоя собака найдет себе место у камина, застелют простыни, подадут говядину. В воздухе запах, который напоминает ему о прошлом, – пивное сусло, возможно, хмель, хотя в его детстве хмель был только привозной, и местные пивовары обходились корнем лопуха или календулой. Хмель травит собак, говорили они, когда чужестранцы хвастались тем, что их эль хранится дольше. Он помнит, как стоял рядом с королем, когда в мае тот подписывал смертные приговоры, – молчаливый Рейф Сэдлер по другую руку, окно открыто, впуская внутрь свежий воздух, король, как малое дитя, которое впервые усадили за грифельную доску. Для Генриха это тяжкий труд, досадная обязанность – росчерком пера лишать жизни. И королевская рука медлит, взгляд изучает недописанные линии – словно те допишут себя сами, избавив его от непосильной задачи. Генри Норрис, да. Ему хочется подтолкнуть руку Генриха. Уильям Брертон, да. Он чувствует – как если бы был королем – тяжелый взгляд Рейфа Сэдлера на королевском затылке. Лютнист Смитон, да, это легко, чернила стекают на бумагу, как масло, чтобы через день-два обратиться кровавой смертью. Как человека без рода и племени, Смитона должны придушить и, еще живого, выпотрошить на глазах толпы. Он обращается к Генриху: – Будьте милосердны… Король спрашивает: – Почему я должен проявить милосердие к тому, кто совратил королеву Англии? – Марк очень молод и до смерти перепуган. Никто, пребывая в страхе, не способен принять смерть достойно. А ему надо наконец осознать свои грехи и помолиться. – Вы думаете, человек, которого ожидает встреча с палачом, может сохранять спокойствие? – Я видел и такое. Генрих закрывает глаза: – Хорошо. И снова замирает. И снова вы видите перед собой ребенка, ссутуленного детскими горестями: mauvais sujet[128], наказание для учителя, он вертится на месте, пиная табурет, выглядывая в окно, где гаснет погожий денек. Я должен быть там, на солнышке, думает мальчишка. Для чего я выписываю эти буквы, неужели учитель так меня ненавидит? Король со вздохом берет со стола перочинный ножик (с гладкой рукоятью из слоновой кости), чтобы очинить перо. – Уэстон, – говорит он. – Вы понимаете, он так молод… Они с Рейфом переглядываются над головой короля. Все, без исключения. Виновны все до единого. Рейф протягивает руку, берет ножичек, очиняет королю перо, Генрих бормочет слова благодарности: его всегдашняя вежливость. Делает вдох и, согнув шею, спокойный, как бык, впряженный в свое будущее, принимается за дело: Фрэнсис Уэстон, да. Он, Кромвель, думает, я ведь уже такое делал? В какое-то другое время, некая сходная форма принуждения. Рука Генриха, его вышитый каменьями тяжелый рукав, скользит по столу. Рядом с именем Уэстона возникает клякса, расцветает на бумаге, раскрываясь, как одинокий черный цветок, и сорок лет ускользают в чернильную тьму. Его лицо не меняется, в этом он уверен, но он снова ребенок: стоит, скрестив руки, расставив ноги в позе взрослого мужчины. Стоит в рассеянном сиянии, закатное солнце зажигает начищенные медные изгибы. Оловянные тарелки отбрасывают слабую рябь, резким отраженным светом вспыхивают лезвия кухонных ножей: для резки овощей, для разделки филе, для рубки туш. Это Ламбетский дворец, владения повара: эхо рассерженных голосов, среди них выделяется голос его дяди Джона. Что там происходит? Кого-то хотят выпороть. Рука эконома хлопает по столу. Допущена оплошность: кто, что, почему. (Впрочем, никаких «почему», никого не волнует «почему».) Воровство, нарушение – правил или этикета, надломленная корочка пирога, расколотое блюдо: кухонный грех, буфетное преступление. Чем бы это ни было, дядя Джон должен примерно наказать виновного, вопли которого отражаются от холодных сводов, многократно повторяясь внутри головы. Мальчишка-рыбник сидит, согнув шею, прижав к глазам кулачки, под ударами эконома – тот самый рыжий мальчишка-рыбник, которого он, Томас Кромвель, только вчера чуть не утопил в кадке с водой. – Это сделал я! – От сердитых слез кожа на лице пошла красными полосами, нос потек, глаза стали похожи на щелочки. – Отстаньте, уйдите от меня, хватит, это сделал я. Он прячет улыбку – плохая выдалась неделя для бедняги. И когда мальчишку уводят, чтобы наказать, а кучка любопытной прислуги рассеивается, дядя тихо говорит ему: – Ты, чертенок, это же ты сделал. – Я? Да меня и близко не было. Ты же слышал. Он сам признался. – У него не было выбора. Бог весть, – Джон отворачивается, – почему ты не можешь ужиться с этим мелким негодником? Вы же оба городские. – Уроженцы Патни друг друга не жалуют, сам знаешь. – Тебя не поймаешь в ступе пестом, Томас. Интересно, чем ты кончишь? Уайтхоллом, очевидно. Король откладывает перо. Трет кончики пальцев: дело сделано, deo gratias[129]. Рейф подхватывает листы. Каждый росчерк пера означает взмах топора. Как тот мальчишка-рыбник, они поймут, что если Томас Кромвель сказал: «Это сделал ты», значит так оно и было. Нет смысла спорить. Только лишняя боль. За дверью он говорит Рейфу: – Отвези это в Тауэр, пока он не передумал. – Сэр?.. – Взгляд Рейфа удивленно скользит по его руке. Он сжимает в ладони – как он там оказался? – перочинный ножик короля, украшенный черными буквами «ГР». Ах, вздыхает он, надо бы вернуть… Рейф предлагает, давайте я отнесу, нет, говорит он, лучше убедись, что бумаги попали Кингстону в руки, еще успеешь вернуться к Хелен до темноты. Рейф уходит, напоследок оглянувшись через плечо, – бледный проблеск над черным водоворотом. Он, Кромвель, возвращается к своему господину, сжимая в ладони перочинный нож. Медлит в дверях, на губах слова: ваше величество, я случайно прихватил ваш ножик. Но Генрих молится, стоя коленями прямо на каменном полу у стола. Его глаза закрыты, губы движутся: salve, regina[130]. Розоватый вечерний свет дрожит вокруг. Он кладет на стол перочинный ножик и идет к двери. Не пятясь, как надлежит в присутствии короля, но уверенно, будто в собственном доме, прервав кого-то на полуслове, выходит, оставляя дверь открытой. Вчера вечером Дик Персер спросил его: – Хозяин, а королева и правда виновна? Неужели она правда кувыркалась со всеми этими молодцами? Бесполезно объяснять, что ее судили не за это, а за измену. Миновал всего лишь месяц, а они помнят только про блуд и распутство. – Хочешь знать, что я думаю? – Он провел рукой по глазам. – Видишь ли, Дик, для того нам и нужны суды, судьи и присяжные… чтобы защитить нас от тирании одного человека. За дверью к нему устремляются королевские джентльмены, но он выставляет ладонь, не давая им приблизиться: – Ступайте к нему, он молится, но, смею предположить, скоро велит принести ужин. – Он раздражен – если Генрих может внезапно опуститься на колени и воззвать к Пресвятой Деве, кто-то должен заранее подложить подушку для молитвы. – Разожгите огонь, уже выпали росы. Позже он позовет музыкантов… Клеман Жанекен, его псалмы. Дуэты Франческо Спиначино, сальтареллы Дальца из Милана: pavane alla venetiana, pavane alla ferrarese[131], новая токката Капиролы, заученная по манускрипту, украшенному по краям обезьянами и скачущими зайцами. Гальярда, бас-данс, Chansons Nouvelles en musique a quatre parties[132]: четверо мертвы или все равно что мертвы, даже пятеро, если считать Джорджа Болейна. В иные ясные вечера музыканты неспешно соберутся у королевского порога: желе и фрукты, жаренные в меду, уносят, и, как только слуги удаляются, консорт в сборе, у одного из музыкантов в руках лютня: дрожащая нота, извлеченная струной, настроенной на серафический лад. Поскольку Норриса, Брертона и Уэстона больше нет, другие джентльмены, отобранные Томасом Кромвелем, займут их места в королевских покоях. Но им не сравниться со старыми слугами, ибо те знали, когда ты настроен петь, а когда молиться. Неужели и после смерти они будут вписывать в расписание дежурств свои имена: шесть недель на службе, шесть недель отдыха? К третьей неделе мая их головы на улице. Придет осень, дни станут короче, и тень Гарри Норриса вернется к своим обязанностям, раскачиваясь, словно паук на шелковой ниточке в темноте. В тайном углу воображения мальчишка-рыбник вечно ждет, когда его выпорют, Джордж Болейн вечно сидит в своей камере и вскакивает, когда ты входишь: мастер Кромвель, я знал, что вы придете. Джордж встает, протягивает руки, и этот образ шевелится у него внутри, повсюду: в любом замкнутом пространстве, и гаснет свет, как будто ставни закрыты до половины. Над ним тень, словно распахнутые ангельские крыла; кровь на губах, ее изгибы не перья, но камень – и холод, холод, пробирающий до кости. Каменная арка, подвал, крипта, где кто-то затаился во тьме, кто-то боялся боли так давно, что шагает ей навстречу, раскинув руки, почти радуясь, что она наконец-то пришла. Он вспоминает себя восемнадцатилетним. Жалкий и изувеченный, он выполз с поля битвы и тащился по Италии, пока не остановился отдохнуть – или сделать привал – у ворот банкирского дома Фрескобальди. Тогда он не знал, чей это дом, знал только, что ему нужен кров. Он видел городского святого, намалеванного на стенах, – покровителя города: малыш Геркулес, сжимающий змею в кулачке, герой Геркулес, очищающий Авгиевы конюшни метлой и граблями. Когда на его стук ворота открылись, он вполз внутрь. «Как меня зовут? – сказал он привратнику. – Я Эрколе, и я могу работать». Теперь, вспоминая беспомощного юношу на мостовой, он видит себя в саже, словно спасался из горящего дома. Он шагает по особняку в Мортлейке, лорд Кромвель на своей земле, шум прибоя знаком ему, как плеск вод в материнской утробе. Наконец он гасит свет, засыпает и во сне стоит, завернутый в черный плащ, в порту, где от горящих кораблей вспыхнули пристани. Ближе к утру грохот в ворота будит домочадцев. Он встает, читает короткую молитву и спускается узнать причину. Это люди Ричмонда из Сент-Джеймсского дворца, молодой герцог умер.
Он спрашивает: – Кто-нибудь поехал известить короля? – (В кои-то веки это выпало не ему – чтобы добраться от Мортлейка до Дувра, нужны крылья.) – Предупредите милорда архиепископа, он должен быть готов отправиться к королю. Генрих скажет, думает он, это Господь его наказал за то, что позволил епископам составить новое исповедание веры. Позволил уменьшить число таинств. – Убедитесь, что вести дошли до миледи Клинтон. Помните о материнских чувствах, скажите ей тихо, не стучите в ворота и не орите. Семнадцать лет назад, когда родился королевский сын, его и близко не было при дворе, поэтому приходится доверять очевидцам. Фрэнсис Брайан приметил Бесси Блаунт, когда она только появилась в свите королевы, прекрасная, как богиня, и ей еще не исполнилось четырнадцати. Король не стал бы трогать ее в таком возрасте, самый снисходительный духовник затряс бы подбородками, не в силах в такое поверить. Год или два Генрих танцевал с ней, оглядываясь на Чарльза Брэндона, готового перехватить ее для себя. Затем королеве Екатерине пришлось смотреть, как ее маленькая фрейлина толстеет, округляясь, смеясь и мучаясь тошнотой каждое утро. Екатерина ничего не сказала, только похвалила свежий цвет ее лица. Ха, заметила она, думаю, наша малютка Бесси влюблена. Бесси отослали от двора, не дожидаясь, пока ее живот стал заметен. Ее семейство оценило оказанную им честь и надеялось, что родится мальчик. Генрих больше ее не видел, разве что один раз, когда ребенок появился на свет. Он получил неискренние поздравления от послов: это доказательство того, что ваше величество способно зачать отпрыска мужского пола и вскоре Господь не откажет вам в утешении, даровав сына, рожденного в законном браке. Впрочем, все знали, что обычное женское у Екатерины прекратилось и она больше не родит. Именно Вулси занялся обустройством младенца, нашел новоиспеченной матери достойного мужа, распределил земельные наделы и привилегии. Возможно, он присматривал за Бесси слишком рьяно. Десять лет спустя, когда власть ускользала из рук кардинала, его враги открыли свои пыльные, богом забытые сундуки, и оттуда выползла заплесневелая клевета. Они утверждали – приводя в пример Бесси Блаунт, – что все английские девицы мечтали стать конкубинами. Шлюхи не давали королю прохода, уверяли они, надеясь на щедрую награду. Похоже, замечал кардинал сухо, что мне следует добавить к моим прегрешениям разложение института брака, моральное развращение невинных дев и признание сводничества достойным ремеслом.
У английских королей не в обычае присутствовать на похоронах собственных жен и детей. Когда умер принц Артур, главным плакальщиком был предшественник герцога Норфолка, посему король решает, что Говарду надлежит продолжить традицию, взяв на себя заботы о погребении. А поскольку Фицрой находился на попечении нынешнего герцога и был женат на его дочери, пусть упокоится в Тетфорде, среди предков герцога. Велено перевезти тело в закрытой повозке и держать все в тайне. – Что Генрих задумал? – спрашивает Шапюи. – Он же не собирается сохранять смерть сына в секрете? Он говорит: – Эсташ, мне нечего вам сказать о душевном состоянии короля. Меня держат для того, чтобы писать законы и наполнять казну. За остальное отвечает архиепископ. – Этот сомнительный господин. Он бросает на посла острый взгляд, пытаясь понять, как много тот знает. – Еретик, – продолжает Шапюи. А, только это. Какое облегчение. Посол возвращается к похоронам: – Смерть Ричмонда на руку принцессе Марии. – Он ухмыляется. – Вашей нареченной. Его друзья собираются в Доме архивов. Зовите-меня спрашивает: – Милорд хранитель, помните тот день, когда вы были в Сент-Джеймсском дворце с Ричардом Ричем? Когда Фицрой заболел? Рич рассказал мне, что вы велели ему выйти из комнаты. Что там происходило? Сын замыслил измену против отца, думает он. Но теперь это не важно. Ризли говорит: – Ричмонд боялся, что его отравили. Я сам слышал его слова. – Ради Христа, не начинай, – говорит Рейф Сэдлер. – Иначе я тебе вмажу. – Если только влезешь на ящик, коротышка. – Зовите-меня решает не обижаться, слишком увлечен раскрытием очередного заговора. – Если Ричмонд был упомянут в очереди наследников на престол, подозрение падает на людей Марии. И даже если нет, зная ее характер… Рейф перебивает: – Ее характер – ее дело. Король примирился с дочерью. Это стоило нашему хозяину немалых трудов. – Примирился? – фыркает Ризли. – Ее заставили встать на колени. Думаешь, она об этом забудет? Никогда. – Друзья, – просит Грегори, – хватит ссориться. Никто никого не травил. Он говорит Ризли: – Думайте как хотите, но не распространяйте эти слухи в судебных иннах. Или куда вы там ходите. – В бордели Саутуорка, – бормочет Рейф себе под нос. – Правда? – Грегори не скрывает интереса. Рейф спрашивает: – Что мы скажем Генриху? Единственный вопрос, который остается решить. Ему придется поехать в Кент и что-то сказать королю. Сорок пять лет на этой земле, двадцать семь – на троне, и все, что Генрих может предъявить, – это три незаконнорожденных отпрыска, один из которых мертв.
Он идет в Тауэр к Мег Дуглас, с последним образчиком ее виршей в кармане. – Позволите мне прочесть? Узнав собственный почерк, она вскипает: – Откуда это у вас?
В сумерках он входит в Сент-Джеймсский дворец. При известии о его прибытии челядь сбивается в стайки, перешептываясь и шикая друг на друга. Старшие слуги уже в трауре, младшие в желто-голубых ливреях повязали на рукава траурные ленты. Однако все краски меняют цвет, желтый выцветает синюшно-багровым, голубой сгустился до темно-синего. Слуга обращается с нему с мольбой: – Сэр, лорд Суррей в конюшне. Он отбирает для себя лучших лошадей, и мы боимся, что обвинят нас. Он ускоряет шаги. Слуга бежит за ним: – Что с нами будет? С герцогской челядью? – Я возьму столько, сколько смогу. Король о вас позаботится. В последнем он не уверен. Со стороны кажется, что Генрих испытывает не скорбь по умершему сыну, а ревнивую ярость, словно чувствует себя обманутым. Норфолк уже обращался к нему за советом: – Кромвель, что мне делать? Закрытая повозка? Как это выглядит? Должен ли я поставить памятник за свой счет? Или Генрих хочет, чтобы я сбросил мальчишку в общую могилу, как крестьянина, который ходил в домотканой одежде и обедал вареным луком? В конюшне он находит молодого Суррея, стоящего в сторонке, пока грум Колинз выводит вороную испанскую кобылу Ричмонда под черной бархатной попоной. Лошадь мускулистая, легконогая, шерсть лоснится. При виде него глаза Суррея вспыхивают. Не утруждая себя приветствием, юноша говорит: – Он хотел, чтобы кобыла досталась мне. – Если желаете что-либо забрать, вам следует обратиться к королю. Впрочем, никто не станет возражать, если вы уладите этот вопрос с милордом шталмейстером. – Джайлз не станет мне перечить, – говорит Суррей. – А кстати, где он? – Наверное, он молится. – Я думал, вы не верите в молитвы за усопших. – Возможно, Джайлз Фостер верит. Черный цвет еще больше удлиняет руки и ноги молодого человека. Когда он отворачивается – рука в красной перчатке лежит на лошадиной гриве, – на него падает закатный луч, и Суррей сверкает от макушки до пят, словно капли росы в паутине. При ближайшем рассмотрении оказывается, что он усыпан мелкими алмазами. Ему следовало бы накинуть плащ: какой бы благородной породы ни была кобыла, лошадиный запах не вывести. Суррей берет в руки уздечку: – Вы уступите мне дорогу, Кромвель? Я хочу ее вывести. Он не двигается с места. – Вы могли бы проявить милосердие и, раз уж вы с милордом были как братья, забрать себе нескольких слуг. – Сами-то уже выбрали? Ваша свита и так раздута до неприличия. В городе только и мелькает ваша ливрея. Вы нанимаете головорезов, Кромвель. Никогда не видел таких злобных рож и такой готовности лезть в драку. Он действительно нанимает тех, кто из-за сомнительного прошлого едва ли найдет себе другого хозяина. Впрочем, он не в состоянии объяснить это Суррею. Он говорит: – Согласен, выглядят ребята грозно, но они не ввяжутся в драку без повода. – Аесли дать им повод? – Мне трудно судить. Я могу переломить тебя напополам, юнец, думает он. Проводит рукой по блестящей шкуре кобылы, находит чувствительное местечко между ушами, трет. Суррей плачет, зарыв лицо в чепрак с шитым золотом гербом мертвого юноши. – Он был моим другом, – говорит Суррей. – Но вам, Кромвель, этого не понять – дружбы, что возникает между людьми знатного происхождения и древнего рода. Я понимаю, думает он, что ты хлюпаешь носом совсем как мальчишка-конюх. – Вашему отцу не понравилось бы, что вы плачете. Примите это как христианин, сэр. Ричмонд теперь там, где его не коснется никакое зло и ничто не испортит его юной прелести. Он сын короля, но вскоре обретет Отца Небесного. Лицо Суррея искажается: гнев, слезы. – Лучше бы я умер, Кромвель, – говорит он. – Нет, не я, лучше бы вы умерли. Он вспоминает разорение Йоркского дворца: грохот сокровищ в чужих сундуках, драки у реки. Он пригрел большую часть слуг Вулси, остальных забрали герцоги. Интересно, Чарльз Брэндон еще держит того недотепу, который отвечал за камины в Ишере? Ему нравится думать, что Суффолк каждую зиму с тысяча пятьсот двадцать девятого года коптится, как селедка, и будет коптиться до скончания века.
Королева Джейн просит его прийти, он находит ее с часословом на коленях. Я знаю этот томик, думает он, он принадлежал той, другой. Джейн протягивает ему книгу: – Это ее, Анны Болейн. Они с королем передавали его друг другу. Король сделал надпись здесь, под Мужем скорбей. Он берет книгу. Христос стоит на коленях, окровавленный с головы до пят, каждая рана выписана тонкими мазками. Кайма из гороховых стручков и спелой клубники окаймляет картинку. Под ней король написал несколько строк по-французски. – Леди Рочфорд мне перевела, – говорит Джейн. – «Навеки твой Генрих». А тут она ему ответила. Он не видит. – Под Благовещеньем, – поясняет Джейн. – В те дни она еще жила надеждой родить сына. Наконец он находит: жеманная Дева с опущенным взором получает благую весть, ангел Господень за ее спиной. Джейн читает: – «Тебе скажу начистоту: дарю любовь и доброту». Вы думаете, она была к нему добра? – Нечасто. Ручка Джейн гладит обложку, словно книга – живое существо, которое нуждается в ласке. – Иногда король – ну, как сказать – наносит мне визит, а после остается в моей постели. Но быстро просыпается, когда ему снится плохой сон. Тогда он становится на колени у кровати и молится. Выкрикивает: «Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa»[133]. И что-то добавляет по-латыни. А потом приходят джентльмены и уводят его. – Надеюсь, мадам, вам удается выспаться? Джейн кивает Мэри Шелтон, которая стоит рядом. Та приседает и выходит, бросив на него усталый взгляд. – Все любят Шелтон, – говорит Джейн. – Король любит Шелтон. – Она ждет, когда дверь закроется. – Мои фрейлины считают, что, если женщина не испытывает удовольствия в постели, она не может зачать. Это так? Джейн ждет. Кажется, она способна прождать весь день, понимая, что задает вопросы, на которые трудно ответить. Он говорит: – Наверное, вам стоит посоветоваться с вашей матушкой. Может быть, опытные дамы из вашей свиты подскажут? Например, леди Солсбери. – Они давно состарились и ничего не помнят. – Тогда ваша сестра. Я слыхал, у нее двое превосходных малышей. – Бесс поддерживает меня. Она говорит, прочти «Аве Мария», Джейн, и король скоро извергнется. Бесс призналась, что видела мало радостей в супружеской постели. Отред действовал стремительно, как на маневрах. Он хохочет. Иногда ты забываешь, что Джейн королева. – Надеюсь, он не бил в барабан? – Нет, но она всегда знала, когда он готов извергнуться. Бесс говорит, что не отказалась бы от резвого нового мужа. Лучше молодого и влюбленного, которого она научит всему. Но она считает, дети появляются без спроса, с удовольствием или без него, и не важно, что говорят лекари. – Она протягивает руку за книгой. – Забудьте. Мне не следовало спрашивать. А сейчас ступайте к королю. Сегодня он не в турецком костюме. В покоях короля он с удивлением застает Рейфа: – Ваше дежурство, мастер Сэдлер? Паж ядовито замечает: – У мастера Сэдлера свое расписание. Он вечно здесь торчит. – Ругает милорда Норфолка, – говорит Рейф. – Послал за описью имущества Ричмонда… – А Мег Дуглас? – Миловать не настроен. – Понятно.
Портной-генуэзец драпирует короля в черный бархат. Он приветствует портного, жестами веля ему удалиться. Генрих говорит: – Вы до сих пор практикуете этот итальянский язык. И его варианты. Король достаточно знает по-итальянски, чтобы исполнять любовные баллады, но недостаточно, чтобы говорить о деньгах. Портной удаляется, кланяясь, ткань черными складками свисает с рук. – Я удивлен, – говорит король, – что герцог Норфолк так забылся, что не исполняет моих пожеланий. Я сказал, закрытая повозка. Я сказал, тайно. А теперь я слышу, что впереди скакали всадники в черном. – Он не хотел унизить королевского сына. – Он нарушил мой замысел. – Он просто не понял его до конца. Генрих смотрит на него: это не извинение. – Скажите ему, что я посажу его в Тауэр. – Я не посмею доставить такое послание. Он удивляется сам себе: когда он произносит эту полезную ложь, на его устах улыбка. Генрих обезоружен, как тот, кто, обнаружив смешной детский страх, находит способ его рассеять. – Если вы боитесь Томаса Говарда, я избавлю вас от этого поручения. Я думал, вы никого не боитесь. Вам не следует бояться, милорд. За вами стою я. – Тауэр переполнен, – говорит он. – Миледи ваша сестра пишет из Шотландии, умоляя пощадить ее дочь. – Я владею Шотландией, – говорит Генрих. – После Флоддена мне следовало забрать ее назад. У тебя не было ни людей, не денег, думает он. У тебя не было меня. – Кардинал часто говорил, что браки надежнее войн. Если хотите завоевать королевство, сочините поэму, соберите букет, наденьте шапочку и ступайте свататься. – Хороший совет, – говорит Генрих. – Для любого правителя, чье сердце принадлежит ему. Или того, кто распоряжается чужими сердцами. Но если принцессы начнут отдаваться первым встречным только потому, что им пришлись по душе их вирши, не знаю, куда покатится мир. – Я склоняю вас к милосердию, – говорит он. – Моя племянница опозорена и обесчещена. Она доверилась первому, кто обратил на нее внимание. Отдала ему то, чем мог распоряжаться только я. Жалко, что здесь нет Кранмера, думает он. Это задача архиепископа – устраивать так, чтобы одни грехи были прощены, другие пересмотрены. Ему решать, что измена больше не измена, а убийство не убийство. У него хранятся ключи от сада за высокой стеной, от разума короля. Ему ведомы его тайные тропы, узкие аллеи и темные углы, куда не проникает солнечный свет. – Я думаю, – говорит он, – что если обещание дано необдуманно, в спешке, юным созданием, не спросившим совета благоразумных друзей, под воздействием чувств, без понимания, каковы могут быть последствия… я спрашиваю себя, сэр, неужели Господь в своей мудрости не улыбнется подобному обещанию? – С Господом не шутят, – говорит Генрих. – Как сказал нам апостол Павел, что посеет человек, то и пожнет. Будь ты хоть мужчина, хоть женщина. Принести клятву, не думая ее исполнять, – это богохульство. Если слова всего лишь дыхание, сотрясение воздуха… не узы, не оковы, не доброе имя… – Я говорю о влюбленных, не о государях. Король отворачивает лицо: – Хорошо, разница есть. – Пауза. – Многие влиятельные лорды и безрассудные девицы должны быть вам благодарны, милорд Кромвель. Он склоняет голову. Ризли удивится, думает он, что я снова дал Норфолку ускользнуть, когда тот был у меня на крючке. Он воображает, как кричит Томасу Авери, который заведует его бухгалтерией: выпиши ему счет, пусть заплатит, милосердие стоит денег. Король показывает на связку бумаг – описи, как и сказал Рейф. Он принимается листать: – Проследите, чтобы леди Мария получила серебряную посуду, золотую, разумеется, мне. – Он переворачивает страницу. – Соболей и овчину отдайте смотрителям моего гардероба. Шпалеры… Моисей в тростниках… казни египетские… Моисей, ведущий свой народ через Синайскую пустыню… Проследите, чтобы имущество моего сына не уплыло в руки людей его матери. Я щедро наградил Бесси, точнее, леди Клинтон, на большее пусть не рассчитывает. Да, и присмотрите за дочерью Норфолка – пусть ее имущество перепишут, и чтобы не вышло, что принадлежащее мне оказалось в ее распоряжении. – Ей причитается вдовья часть, сэр. Она вдова милорда Ричмонда, даже если до сих пор девица. Генрих фыркает: – Девица? После того как она оказалась замешана в шашнях моей племянницы и запятнала свое доброе имя, я очень в этом сомневаюсь. Что может знать девица о тайных свиданиях, черных лестницах и смазанных запорах? Вот, значит, как. Хочет использовать неразумное поведение вдовы, чтобы отобрать у Мэри Фицрой полагающееся ей имущество и обогатить казну. Можно сказать, она легко отделалась. – Пусть отец отошлет дочь в деревню, – говорит Генрих, – и присматривает за ее поведением. Лучшим выходом будет определить ее в монастырь. Он опускает глаза на опись. Атлас, отороченный серебром, зеленый бархат, чтобы весенней порой скакать по лесным тропинкам, когда кусты одеты изумрудной зеленью. Образ святой Доротеи с корзиной и венком; Маргарита Антиохийская, побивающая дракона; святой Георгий, также побивающий дракона, с мечом, пикой, щитом и страусовым пером на шляпе. Ложки, кубки, курительницы, ларцы, чаши для святой воды; золотые цепи с розами белой эмали, розы красной эмали с рубиновыми сердцевинами. Королю нравится зачитывать это вслух, словно он читает умершему сыну: я подарил тебе жизнь, я же даровал тебе все это. – Маленькая солонка из берилла. – Генрих вздыхает. – Крышка украшена рубином, ножки – жемчужинами и камнями. Здесь не сказано какими. И я совсем ее не помню. – Новогодний подарок от милорда кардинала. Не скажу, в каком году. Король поднимает глаза: – Не похоже на вас. Я так понимаю, Суррей увел черную испанскую кобылу. – Вместе со сбруей. – Скажите Джайлзу Фостеру, что я беру гнедую и саврасую. – Сэр. – Он склоняет голову. – Мэри Фицрой может забирать меринов и ездить куда пожелает. – Кислая ухмылка. – Вы считаете меня бесчувственным? Раздаю и прибираю к рукам, когда мой сын спеленат, чтобы лежать среди чужих? Но как велит псалмопевец: «Placebo Domino in regione vivorum»[134]. Я буду угождать Господу на земле живых, ибо только здесь возможно какое-то действие. – Генрих смотрит вдаль. – Я слышал, моего кузена Реджинальда Поля вызвали в Рим. Папа благословил его на крестовый поход против меня. Теперь он едет ко французскому двору – побуждать французов к войне. Интересно – как? Французские армии только что вошли в Савойю. Король нарушил два договора, теперь император жаждет его крови. Франциску есть чем заняться, вместо того чтобы выслушивать Рейнольда, когда тот ввалится к нему на порог с томами канонического права, блея о своих древних притязаниях. Он говорит: – Французы ничего для него не сделают. Да и папа не даст ему ни кораблей, ни денег, ни солдат. – Но он укрепил его духовной силой. – Губы Генриха кривятся. – Наставил на путь. Генрих кормил неблагодарного Поля, сейчас ощущает ядовитый удар Плантагенетова хвоста, укус змеиных зубов. Генрих подается вперед, будто задыхается. Почти чувствуешь, как бешено колотится его сердце, а лицо у короля красное, словно пасхальная телятина. Король бьет ладонью по подлокотнику кресла: – Предатель. Предатель. Я желаю ему смерти. Он ждет, когда приступ пройдет. Говорит: – Войны, которые вел ваш отец, еще не закончены. Но хочу вас заверить, сэр, в Италии найдут способы избавиться от предателя. Куда бы ни проследовал Поль, мои люди следуют за ним. Генрих отводит глаза: – Делайте что должно. Я уже говорил вам, что семейство Поль прокляло нас после смерти Уорика. Мой брат Артур умер в пятнадцать, мой сын Ричмонд – в семнадцать. Раньше король объяснял нехватку наследников тем, что его брак был заключен незаконно. Теперь в этом виноваты Поли. Объяснение весьма удобное – то, первое, давно себя исчерпало. – Вы виделись с Маргарет Поль, – говорит Генрих. – Во всяком случае, так мне донесли. Продолжайте бывать у нее. Наверное, мне не следует подозревать все семейство, и тем не менее я их подозреваю. Король жестом отпускает его. Он кланяется и выходит. Генрих произносит ему вслед: – Dieu vous garde[135]. Он рад, что Генрих не порицает его за визит к Маргарет Поль. Ему не хочется признаваться, что ездил туда ради Бесс Даррелл. Не хочется, чтобы всплыло имя Уайетта. Король говорит, что простил кого-то, но на самом деле ничего не забывает: Уайетт по-прежнему в опасности, а значит, и его женщина тоже. Графиня оставила его наедине с Бесс и ее вышивкой, но, когда он собрался уходить, путь ему преградил слуга: – Миледи графиня хочет вас видеть. Слуга отвел его в обшитую деревянными панелями комнату, личный кабинет графини. Сюда не долетал уличный шум: копыта по мостовой, крики извозчиков, стук и грохот из мастерских за стеной. Стол был накрыт для мессы дорогой парчой, алтарь из серебра, сияющие неразличимые фигурки живут своей благочестивой жизнью. Похожий был у Ансельмы, много лет назад в Антверпене. Впрочем, леди Солсбери одна из богатейших дам в Англии, и, вероятно, ее алтарь стоит куда дороже. Маргарет Поль обернулась к нему: – Надеюсь, вы не довели мистрис Даррелл до слез? – С чего бы? Она открыла шкатулку для писем: – Держите. – Это рука вашего сына? – У него есть секретари. Вероятно, итальянцы. Я не знаю их имен. Зато я знаю. – Поверьте, мастер Кромвель, я не изменница. Как я могу предать Генриха, который все для меня сделал? Путь от унижения, когда моего отца Кларенса лишили прав, до нынешнего моего высокого положения был долгим и мучительным. – Вы не можете помнить отца. Вам тогда и пяти не было. – Даже ребенок понимает, когда кого-то уводят в тюрьму, откуда ему не выйти. Мой отец умер не от топора – бог знает как он умер, но я верю, что он исповедался перед смертью, у него был священник, он не умер без покаяния. Я с малолетства знала, что такое измена и чем она грозит. Я видела на своем веку четырех правителей: моего дядю короля Эдуарда, моего дядю-узурпатора, первого Генриха Тюдора и нынешнего короля, чье имя имею все основания благословлять. Он начал читать письмо Поля. Жесткое, как она и сказала. – Я едва знала моего бедного брата Уорика. Он был ребенком, когда Генрих Тюдор бросил его в темницу. – Ради сохранения мира. – Чтобы не потерять трон. Сказать по правде, наша ветвь куда ближе к трону, чем его. – Но Тюдор выиграл сражение. Господь благословил его армию. Он завоевал Англию на поле боя. – И никто из нас, – ответила она резко, – никогда не оспаривал его прав. Когда мой брат должен был взойти на эшафот, я была на сносях, но явилась ко двору, чтобы просить о милости. Я умоляла о дозволении надеть траур, совершить положенные обряды, которыми утешилась бы моя душа, – но за упокой изменника не молятся, по нему не носят черных одежд. Когда изменник умирает, всем надлежит смеяться. – Вряд ли старый король на этом настаивал. – Вы его не знали. В те времена никто не мог поручиться за свою жизнь. Когда нынешний Генрих взошел на престол, мы думали, что обрели землю обетованную. Он хотел уладить все несправедливости, вернуть отнятые права. К тому времени я вдовела уже несколько лет. Когда умер мой муж, мне пришлось занимать деньги на похороны. Генрих вернул мне состояние и титул. Он и Екатерина оказали мне несравненную честь воспитывать их дочь, их единственного ребенка, доверили вырастить из нее достойную супругу великому государю или подготовить ее к самостоятельному правлению. Генрих благоволил к моим сыновьям… – И все они женились на богатых наследницах, – вставил он. – За исключением Рейнольда, который метит выше. Она стояла к нему спиной, глядя во двор. Что бы там ни происходило, она явно находила это достойным пристального внимания. – Я не понимаю моего сына. Я допускаю, что он проявляет неблагодарность, но ни в чем другом он не повинен. Он склонен к непорочности, к жизни в целомудрии. Он не испытывает желания вступить в брак. – Даже с королевской дочерью? – Не стоит судить всех по себе, Кромвель. Она повернула голову, убедиться, что удар достиг цели. – Все эти годы, – сказал он, – вы учились лицемерить. Сами сказали, что улыбались, когда хотелось плакать. Но ведь может быть и наоборот – вы плачете, когда хочется улыбаться? Так что, хотя вы вроде в замешательстве от поступка Рейнольда, как королю верить в вашу искренность? Она разводит руками: – Я лишь взываю к нашей общей истории. Я слабая женщина, никогда не носившая ни лат, ни кольчуги. На мне нет кирасы, только вера в Господа. Я беззащитна перед клеветниками, но верю в короля и его умение различать, кто достоин быть рядом с ним и служить ему. – Однако на этом месте вы видите меня, – сказал он. – И задаетесь вопросом, разбирается ли Генрих в людях. – Вы ему полезны. В этом я не сомневаюсь. И я не отказываю вам в праве именоваться новым титулом. Просто я стара и небыстро привыкаю к новому. Мы думаем о вас как о мастере Кромвеле. – Что ж, – промолвил он мягко, – коли вы научились, как сами утверждаете, считать Тюдоров законными правителями Англии, уверен, вы научитесь думать обо мне как о лорде – хранителе малой королевской печати. А если я когда-нибудь забуду о своем низком происхождении, мне останется рассчитывать на нашу дружбу, мадам, и умолять вас указать мне мое место. Это встряхнет тебя, подумал он. «Наша дружба» – тебе тошно это слышать. Да как он смеет, мальчишка из Патни! Он сказал: – Вы утверждаете, что у вашего сына нет намерения захватить власть. Однако хотеть этого могут другие. Другие могут строить заговоры в его пользу – в стране и за ее пределами. Ее взгляд метался, словно птицы в лиловом полумраке гнезда. – Вы говорите обо мне? Вы обвиняете меня? – Знатным семействам не привыкать к переменам в своей участи. Десятилетиями они карабкаются вверх, враги сбрасывают их вниз, они низвергают врагов и приковывают цепями к своей триумфальной колеснице. Прежде было так, что, если вы цепляетесь за колесо Фортуны, оно вознесет вас так же высоко, как когда-то сбросило. Но тут появляюсь я и спихиваю вас на обочину. Имейте в виду, я могу это сделать. – Есть такая пословица, – промолвила графиня, – справедливость которой освящена веками. «Чем выше заберешься, тем больнее упадешь». – Мысль неглубокая, да и метафора подкачала. Ничего нового, колесо. Пришли новые времена. Ими управляют новые механизмы. Тем не менее, – он улыбнулся, – примите мои поздравления. Вы произнесли то, что хотел бы, но не осмеливается сказать вслух милорд Норфолк. – Герцог – временщик, – промолвила она холодно. – Он забыл, что некогда на свете были лорды Норфолки, до того как этот титул перешел к Говардам. – Однако на свете никогда не было лордов Кромвелей. До сегодняшнего дня. Вы надеетесь, что у нас нет будущего. Но в настоящем вам придется с нами считаться. Можете умолять или браниться, ваши женские чары на меня не действуют, равно как и приемы святых отцов. Если мужчин вашего семейства не пугает открытое противостояние, обещаю, что буду денно и нощно отстаивать интересы Генриха перед изменниками и папистами. Сжав руки, графиня неподвижно стояла против света, ее голос заледенел. – Я рада, что мы говорим без обиняков. Одному Господу ведомо, что замыслил Рейнольд против короля, но я никогда не чувствовала такой горечи: ни когда умер его отец, ни когда умирали мои дети. Я непременно ему об этом напишу. Уверена, вы прочтете мое письмо – до того, как оно пересечет границу, или после, – поэтому я вас больше не задерживаю. Однако я дам вам совет и прошу к нему прислушаться. Вы говорите о новых временах и механизмах. Так знайте: эти механизмы заржавеют еще до того, как вы пустите их в дело. Не пытайтесь сражаться с благородными семействами Англии. Вы проиграете битву еще до ее начала. Кто вы? Одиночка. Кто следует за вами? Черные вороны и стервятники. Не останавливайтесь, не то они сожрут вас живьем. Ее тихий вежливый тон не оставлял возможности для ответа. Склонив голову, она вышла из комнаты. Поле боя осталось за ним. Ее шкатулка для писем стояла открытая, но она была права – ему незачем было туда заглядывать. Снаружи ждал эскорт во главе с Ричардом Кромвелем. Его люди вооружены дубинками и кинжалами, готовы наброситься на любого, кто позволит себе косой взгляд. От Даугейт до Остин-фрайарз рукой подать, но письма с угрозами приходят каждый день, иногда в стихах. Лондонцы, которые пихают их локтями, лондонцы, чьи равнодушные глаза скользят по ним, видят уважаемого торговца, что спешит в сопровождении домочадцев на городское собрание или обед, который устраивает гильдия. Но есть те, в чьей памяти запечатлелось его лицо, – так они утверждают, когда угрожают его убить. Хвала Господу, внешность у меня незапоминающаяся, думает он. Грубые черты, выпирающее брюхо, как у отца в лучшие дни, – только одет я получше. Он говорит Ричарду: – Я не обольщаюсь насчет графини. Ее сын годами скармливал наши тайны императору. Молодой Джеффри Поль, его брат, так часто бывал у Шапюи, что Эсташ попросил его держаться подальше. Звонят колокола церкви Всех Святых, им вторят колокола Святой Марии. Ричард говорит: – Понятно, почему король отказывается им верить. Он вернул им состояние, и ему не нравится, что его держат за дурака. Звонят колокола церкви Иоанна Крестителя, за ними Святого Свитина и вдали – собора Святого Павла. Ричард кричит через улицу: – Это Хемфри Монмаут или мои глаза меня обманывают? Торговец, старый друг, приветствует его криком. Со своими спутниками он пробирается между двумя повозками, перешагивает ручеек лошадиной мочи. Он, Кромвель, обнимает друзей: – Приедете поохотиться в Кэнонбери? – Я буду охотиться с вами, – говорит Роберт Пакингтон. – А старый Монмаут может постоять в сторонке. Монмаут пихает его локтем в бок: – Старый! Кто бы говорил! Где они, твои сорок? А с вами, Томас, я охотно поохочусь с соколом. Обычный разговор. Потом звучит имя Тиндейла, к чему он внутренне готов. Он отвечает, что по официальным каналам сделал все возможное, теперь ждет результата. Меняет тему, семья, все ли здоровы? Но Пакингтон упрямо возвращает разговор в прежнее русло: – Гости из Антверпена были? – Все те же, – осторожно отвечает Ричард. – Никого нового? Он говорит: – Никого, кто сообщил бы нам то, чего мы не знаем. Они тепло расстаются. Торговцы, оживленно болтая, удаляются. Они с Ричардом шагают молча. Он спрашивает: – Что? – Такое ощущение, что они готовят сюрприз. Возможно, подарок? Ему незачем говорить Ричарду, что он терпеть не может сюрпризов. Ричард смотрит на него искоса: – И что теперь? Убить Рейнольда? – Не посреди улицы.
Это разговор для Остин-фрайарз, для его кабинета. Он говорит: – Пусть это будет Фрэнсис Брайан. Роль как раз для него. Сделает себе имя. Уверен, порой он задается вопросом, ради чего живет на свете? – Брайан? – Ричард опрокидывает в рот воображаемый стакан. – Да. Много ли я найду других таких же отчаянных, думает он. – Я это сделаю, – говорит Ричард. Его охватывает страх. – Нет. – Мне понадобится помощь местных, но, судя по вашим рассказам, я легко найду компанию головорезов в любом итальянском городе. Есть джентльмены, с которыми можно уладить дело на расстоянии. Я хочу сказать, что мне необязательно самому втыкать кинжал. Но я могу присмотреть. – Ты нужен мне здесь, Ричард, – говорит он. Господь свидетель, как ты мне нужен. – С этим мог бы справиться Том Уайетт. Король простил бы ему все прегрешения. И сделал бы графом. Ричард медлит с ответом: – Эти люди вокруг Поля… они способны переманить его на свою сторону. В Риме есть хитрецы. Я люблю Тома Уайетта, как никого другого, но он не устоит перед внезапным соблазном. Он говорит: – Когда мы поедем в Кент, ты и я, чтобы встретить двор, мы нанесем визит в Аллингтон, с королем или без него. Сэр Генри пишет, что совсем плох. Я его душеприказчик и должен с ним кое-что обсудить. А Том Уайетт будет рад тебя видеть. Ричард вынимает из кармана листок: – Смотрите, что пришло. – Он держит листок рядом с собой. – Еще одно стихотворение. Не краденое, отдали добровольно. На сей раз он уверен: это Уайетт, и никто другой. И снова поэт скорбит об ушедших. Два с половиной месяца миновало – с мая до Ламмастайда, праздника сбора урожая. Мертвые гниют, но медно-зеленая плоть еще плотно сидит на костях. Стихотворение посвящено угасанию, превратностям фортуны, падению великих от рук великих: у трона гремит гром, circa regna tonat[136]; даже восседая под балдахином, король слышит его, чувствует дрожь каменных плит, раскаты в кости. Он видит молнии, которые швыряют вниз боги, и они несутся сквозь хрустальные сферы, где ангелы чистят крылья от блох, – пока, сталкиваясь и вращаясь, в реве белого пламени молнии не обрушиваются на Уайтхолл, воспламеняя крышу, сотрясая зубы скелетов в аббатстве, заставляя плавиться стекло в мастерских Саутуорка, поджаривая рыбу в Темзе.
Они в Кенте, и на рассвете король призывает его к себе: он входит, засовы дребезжат, освобождая его господина из-под гнета ночи. Генрих, в ночной сорочке, сидит на позолоченном резном табурете, а чудесный бледный рассвет сочится сквозь окна, и черты короля проступают из тьмы, словно Господь создал его специально для этого случая. Король начинает без предисловия, как делает часто, словно они не договорили, словно их разговор прервало какое-то мелкое недоразумение: открылась дверь, искра вылетела из камина. Генрих говорит: – В те дни, когда я хотел ее, Анну Болейн, но не мог заполучить и мы были в разлуке – допустим, я в Гринвиче, а она в Кенте, – я представлял, что она стоит передо мной и улыбается, словно живая, – король протягивает руку, – реальная, как вы, Кромвель. Но теперь я знаю, что ее здесь не было. Что бы я ни воображал. В комнате сладко пахнет лавандой и воском. Под окном за садом мальчишка поет:
Лето проходит. Королевская свита скачет по лесистым графствам. В дремучих лесах, куда король не суется, можно встретить коварные тени волков, вепрей и вымершие виды – оленя, у которого между рогами крест. Он говорит Фицуильяму: – Если он не может охотиться, мы должны научить его молиться. В последний день июля они в Аллингтонском замке. Король спрашивает вслух, не пришло ли время посвятить Томаса Уайетта в рыцари? Его престарелый отец будет доволен. Прошлое забыто, и я уверен в его преданности. Его поражает короткое молчание королевских джентльменов при упоминании имени Уайетта. Генри Уайетт говорит ему: – Томас, я сомневаюсь, что доживу до зимы. Один за другим они уходят – те, кто служил отцу Генриха, кто помнит короля Эдуарда и дни Скорпиона. Израненные, изрубленные на полях сражений, потерявшие здоровье, голодавшие, познавшие опалу и изгнание. Те, кто со всеми своими земными пожитками стоял на пристанях чужеземных городов, принося страшные клятвы Господу. Те, кто на двадцать лет похоронил себя в сумрачных библиотеках и вышел оттуда обладателями неудобной правды об Англии. Те, кто заново учился ходить после того, как их растягивали на дыбе. Когда они смотрят на нынешних, то видят нарисованных рыцарей, неспешно едущих по лужайкам изобилия, по пастбищам сорокалетнего мира. Разумеется, иное дело на шотландской границе, где набеги и распри никогда не прекращались, или в Кенте, где через пролив видна Франция и можно услышать боевые барабаны. Но в сердце страны покой, которого не знали наши предки. Посмотри, как плодится Англия, – войди в город, и лица, которые ты увидишь, будут лицами детей, подмастерьев и цветущих девушек. Не оглядывайтесь, всегда говорил он королю, хотя и сам грешен, сам размышляет о прошлом в час, когда свет гаснет, зимой или летом, перед тем как вносят свечи, когда земля и небо сливаются, когда трепещущее сердце птицы на ветке замедляется, когда ночные звери просыпаются и потягиваются, когда кошачьи глаза сверкают во тьме. Когда цвета уплывают с рукавов и платьев в темнеющий воздух, когда страница мутнеет, а буквы тают, обретая иную форму, и старая история исчезает, а на ее месте растекаются причудливые и скользкие чернильные реки. Ты оглядываешься в прошлое и спрашиваешь себя: моя ли это история, моя ли земля? Моя ли это мерцающая фигура, силуэт, что движется по аллеям, избегая часа, когда гасят огни, уклоняясь от света дня? Или это жизнь моего ближнего, слившаяся с моей? Или жизнь, о которой я мечтал и молился? Моя ли это суть, дрожащая в пламени свечи, или я выскользнул за пределы себя – прямо в вечность, словно мед с ложки? Придумал ли я себя, сгубил ли, забыл ли? Должен ли обратиться к епископу Стивену, который расскажет, какие грехи меня преследуют, и заверит, что они непременно меня отыщут? Даже если я ускользну в сон, прошлое будет идти по моему следу, мягкими лапами по плитам, топ-топ: вода в алебастровой чаше, прохладная посреди жаркого флорентийского полдня. Когда кардинал преклонил колени в пыли, он понял, что Вулси стар, хрупок и смертен. На пустоши в Патни Гарри Норрис изумленно смотрел на него сверху вниз, и его людям пришлось усадить Вулси на мула. Его сердце и воля отказали, и вместе с сердцем суставы. Заплатка стоял рядом, отпуская шутки, и он чуть не прибил его, он должен быть прибить наглеца, но как это помогло бы кардиналу – имущество конфисковано, цепь сорвана с шеи, – а теперь и его шут валялся бы в суррейской грязи с проломленным черепом? Когда они добрались до Ишера и вошли в пустой дом, он поднялся на надвратную башню, глянуть, нет ли погони. Построенный во времена, когда епископом Винчестерским был Уэйнфлит, усовершенствованный при кардинале, дом радовал душу и глаз, когда был населен и отдраен, когда огонь пылал в каминах, буфет ломился от золотой и серебряной посуды, постели были застелены, шпалеры развешены, мясо отбито и обжарено, фрукты нарезаны, надеты на шпажки и потушены в масле, а воздух наполнен ароматом сластей и жарки. Еще вчера никто не мог вообразить, что хозяина грубо выгонят из дворца, отправят в плаванье по реке, втолкнут в заброшенные комнаты, где печи на кухне остыли, в каминах пепел, а толстые стены не отражают, а впитывают холод, словно реликварии. С вершины Уэйнфлитовой башни страна, распростертая во тьме, выглядела скорее воображаемой, чем настоящей. Скоро День Всех Душ, подумал он. Ему показалось, что время дрогнуло и встало, словно катастрофа, постигшая его хозяина и Англию, замедлила перемещение небесных светил. Моросило, на реке мелькали огни. Когда он спускался, голоса тех, кто внизу, поднимались к нему, невнятные, словно пение, но, когда кто-то произнес его имя: «Томас Кромвель», – ему показалось, что голос прозвучал прямо в ухе. Особенность дома, подумал он тогда. Лестница была кирпичная, винтовая, и он уже видел ее при дневном свете, свежеокрашенную, стекающую с этажа на этаж. В темноте, куда не проникал свет факелов, кирпич был цвета запекшейся крови, но на каждом повороте, словно обещание, сияла полоска света. Спустившись к подножию, он, моргая, возник из тьмы, словно дитя, рожденное в жестокий мир. Слуги нашли свечи, чтобы осветить нижний этаж. – Кто приготовит мне ужин, Том? – спросил кардинал. – Я, я умею. – Идите сюда, на вас паутина. – Джордж Кавендиш, доверенное лицо кардинала. – Позвольте мне, Томас. Он позволил Джорджу стряхнуть с себя паутину, пассивный, как животное, не сводя глаз с кардинала, покинутого всеми старика в одежде с чужого плеча. Стоял, прижавшись спиной к стене, чувствуя, как бьется сердце, в ожидании того, что сделает дальше.
Часть вторая
I Приращение
Лондон, осень 1536 г. Покойник выходит из «Колодца с двумя ведрами», тыльной стороной ладони вытирает рот, оглядывается по сторонам. Затем натягивает капюшон, проверяет, не смотрит ли кто, и шагает к массивным воротам Остин-фрайарз. На воротах новый стражник, который кладет ему руку на плечо, просматривает сумку с бумагами: – Нож? Покойник вытягивает руки, миролюбиво позволяя себя ощупать. Выходит охранник постарше. – Мы знаем этого джентльмена. Входите, отец Барнс. – Во дворе он говорит: – Его милость ждет вас. Покойник поднимается на второй этаж.Зимой тысяча пятьсот двадцать шестого года, десять лет назад, монах Роберт Барнс предстал перед Вулси по обвинению в ереси. Сумрачным морозным днем, свет льется только от замерзших луж, Барнс стоит в приемной, в черной сутане по обычаю своего ордена. Его плоть под сутаной леденеет от ужаса. Ему сказали, что кардинал готовится. Хотелось бы знать, к чему именно? В прошлый сочельник в кембриджской церкви Святого Эдуарда на полуночной мессе отец Барнс проповедовал против роскоши и богатства церкви. Разумеется, это означает проповедь против роскоши и богатства кардинала. Сейчас февраль: dies irae. Пока он ждет, человек кардинала приглядывает за ним, в жаровне едва тлеет огонь. – Холодно, – замечает отец Барнс. – А вы не захватили с собой дровишек? Зрители хихикают. Барнс отодвигается от кардинальского прихвостня. В кабинете Вулси пылает громадный камин. Барнс отступает от камина к стене. – Отец Роберт, – говорит кардинал, – станьте там, где теплее. Он чувствует, что они сговорились его мучить. – Я не в суде, – выпаливает он. – Ваш слуга Кромвель за дверью насмехается, спрашивает, не прихватил ли я дровишек. – Разумеется, вы не в суде. – Кардинал вежлив. Пурпурные шелка вспыхивают в воздухе, пропитанном смоляным духом. – Вас называют еретиком, хотя, вероятно, у вас нет разногласий с учением церкви. У вас разногласия со мной. Снаружи колокольный звон пронзает морозный воздух. Входит слуга с подносом. Кардинал сам разливает вино с пряностями из кувшина, пышно глазурованного тюдоровскими розами. – Чего вы хотите от меня, Барнс? Чтобы я отказался от прославляющих Господа пышных обрядов и церемоний и ходил в домотканом? Чтобы сидел за скудным столом и угощал послов гороховой кашей? Расплавил серебряные кресты и раздал монеты беднякам? Беднякам, которые все пропьют? Пауза. Затем Барнс еле слышно отвечает: – Да. Кардинальский злодей Кромвель вошел вслед за ним и теперь стоит, прислонившись к двери. Вулси говорит: – Жаль, что ученый человек губит себя. Вам следует понять, что бессмысленно отвергать ересь только ради того, чтобы подстрекать к мятежу. Ополчитесь на церковь – вас сожгут в Смитфилде, ополчитесь на государство – удавят на Тайберне. Я здесь церковь и государство в одном лице. Впрочем, если раскаетесь, вы еще можете избежать как той, так и другой участи. Отца Барнса начинает бить дрожь. Суровый взгляд кардинала заставляет его упасть на колени. – Ваша милость, простите. Я не хотел причинить никому зла. Я даже кошку не обижу. Кромвельсмеется. Барнс вспыхивает, стыдясь собственных слов. Кардинал говорит: – Сегодня вас допросят четверо епископов. Все до единого обожают топить котят ради удовольствия. Что до меня, то я намерен поступить с вами мягко, доктор Барнс, – из уважения к вашему университету и лично к вам. За вас ходатайствовал мой секретарь Стивен Гардинер. Если вы удовлетворите епископов своими ответами – советую отвечать кратко и смиренно, – я наложу на вас епитимью, причем вам придется покаяться публично. Засим продолжительные посты и молитвы, но вы же не против? Разумеется, вы не сможете оставаться приором. Вам придется оставить Кембридж… – Милорд кардинал… Вулси поворачивает голову, мягко вопрошает: – Что? Допивайте вино, доктор Барнс. И воспользуйтесь моим предложением. Другой возможности не представится. Выброшенный обратно на холод, Барнс заливается слезами, словно женщина, и отворачивается к стене. Чтобы сломать его, Вулси даже не пришлось повышать голос. К нему подходит Томас Кромвель: – Вытрите слезы. Для друзей можете придумать другую историю. Скажете им, что отвечали дерзко. Что нашли в себе смелость ему перечить. Барнс съеживается, уходит в себя. Этот Кромвель ставит его в тупик. Вид у него такой, что впору служить вышибалой в таверне. В Прощеный вторник монах кается на плитах собора Святого Павла, а Вулси взирает на него со своего позолоченного трона. Князья церкви в парчовых одеяниях, украшенных драгоценными каменьями, смотрят, как Барнс простерся на полу рядом с чужеземными купцами из Стил-ярда, у которых Томас Мор нашел еретические книги. Их доставили в собор на ослах, сидящими задом наперед. Прицепили им на грудь выдранные с мясом страницы из Лютеровых книг, которые болтаются, словно грязные лохмотья. На спинах вязанки сухих щепок для растопки – напоминание, что костер разведен и ждет их, если они посмеют отказаться от своих слов. Как и доктор Барнс, они принесли публичное покаяние, и, если вновь возьмутся за старое, их ждет публичные страдания и смерть, а их пепел бросят в выгребную яму. У церкви собралась толпа. Лица размыты дождем, силуэты расплываются в тусклом зимнем свете. Люди сбились под просмоленным навесом, который словно лежит у них на плечах, превращая их в чудище со множеством ног. – Посторонитесь, – велят толпе. Большие корзины ставят посреди площади, вываливают на решетку содержимое. Стопка выходит внушительная. Один из помощников палача подносит факел. Его товарищ подпихивает книги металлическим прутом, сбивая в кучу. Под их умелым присмотром, несмотря на проливной дождь, страницы схватываются. Подозреваемых водят вокруг костра, достаточно близко, чтобы они вздрагивали от жара и отворачивали лица от летящих искр. Буквы вздыхают, когда страницы скручиваются, распадаются в безмолвную слякоть. Доктора Барнса отправляют в монастырь, здесь, в Лондоне. Никто не собирается держать его в черном теле, ему даже дозволено принимать посетителей. Однажды к нему приходит Томас Кромвель: – Я живу неподалеку. Приходите на ужин. – На скамье он оставляет потрепанный экземпляр тиндейловского Нового Завета. – Прибыло из Антверпена. Барнс поднимает глаза. Кардинальский еретик, думает монах. – У меня двадцать экземпляров. Могу достать больше. Довольно скоро епископ Лондонский начинает подозревать, откуда берутся Новые Заветы. Еще один неприятный допрос, но Тунстолл по натуре мягок и не внушает Барнсу такого же благоговейного страха, как Вулси. – Откуда у меня взяться книгам Тиндейла? Я никуда не выхожу, никого не вижу. Барнс уверен, что имя Кромвеля не всплывет. Так и выходит. Тунстолл качает головой и вскоре отсылает его в Нортгемптоншир. Оттуда до любого порта путь неблизкий. И некуда бежать из-под юрисдикции кардинала. А если тебя вздумают навестить друзья-реформаты, об этом тут же узнает вся округа. Однажды ночью Барнс сбегает из монастыря. На следующее утро в келье несчастного находят записку, адресованную кардиналу, в которой монах выражает намерение утопиться. На берегу реки лежит его сложенная ряса. Тела не находят, но намерения грешника достаточно ясны. И это последние известия о Роберте Барнсе, до тех пор покуда не меняются времена и папа не утрачивает власть. Тогда он выныривает в новой, изменившейся Англии, где былые прегрешения забыты.
– Входи, старый призрак, – приветствует его кардинальский еретик. – Чудны дела твои, Господи. Всплыл из водяной могилы. – Вам бы только шутить, – говорит Барнс. – Но вы даже не замочили ног! Барнс никогда и не был в реке. Он всплыл в Нидерландах, где обрел друзей, защитников и братьев во Христе. Шли годы, и он вернулся, отягощенный знанием множества языков. Мир изменился, и теперь Барнс – королевский капеллан и доверенный гонец короля, который отвозит его письма за границу. – Тунстолл отправился в Дарем, – говорит хозяин дома. – Милорд кардинал умер. – Он откидывается в кресле. – А я стал лордом. – Привез вам это. – Барнс кладет на стол гравюры. Толстый Мартин. – Вы меня балуете, – говорит лорд Кромвель. На старых портретах Лютер тощ и одухотворен, на последних толст. Тонзура исчезла много лет назад. Иногда он отращивает бороду. Барнс говорит: – Когда паписты жгут его книги, они кладут поверх портрет, словно сжигают его самого. Однако в Германии простые крестьяне верят, что его образ не горит в огне. Палец лорда Кромвеля тычет в гравюру. – Я вижу, он обзавелся нимбом. – Это не он придумал. Он не считает себя святым. Но разве не удивительно, на что способны печатники? Вся Европа знает его в лицо. Самый забитый деревенский дурачок. – Это хорошо? – На его жизнь покушались неоднократно. Однажды, – Барнс улыбается, – его хотел убить лекарь, который умел становиться невидимым. – А, этот. – Тайные наемники со скальпелями из воздуха. – Я опасаюсь невидимых убийц со времен Вулси. Успел обзавестись ушами, как у лисицы, и голова у меня на шарнире. Только запахнет папистом или йоркширцем, она мигом поворачивается к нему. – Он разглядывает гравюру. – Его нрав не смягчился? – Я бы сказал, стал еще тяжелее. Тщеславен и обидчив, как женщина. С тех пор как женился на монашке, Лютер раздобрел. Чего нельзя сказать о нашем архиепископе. В браке Кранмер сохранил худобу и бледность. – Это потому, что он все время тревожится. Боится, что узнает король, – говорит Барнс. – Король знает. – Скорее всего, вы правы. Однако его еще не припирали к стене. Наш государь яростный противник женатого духовенства. Кранмер женился в Германии, привез Грету в Англию и держит взаперти. Безбрачные священники – известные сплетники, многие были бы не прочь свалить архиепископа, если бы могли. Но и за ними водятся грешки, которые не терпят огласки: тайные любовницы, дети. Он говорит: – Мы разделяем это бремя, я и Кранмер. Архиепископ внушает королю, как быть хорошим, я втолковываю ему, как быть королем. У каждого своя епархия. Мы пытаемся убедить его, что великий правитель – добрый правитель и наоборот. Барнс замечает: – Лютер говорит с правителями честно. Резко, если потребуется. – Но в конце концов уступает, и правильно. – Он изучает невзрачные черты Лютера, переворачивает гравюру. – Видишь ли, Роб, мы делаем то, что можем. Мы заключили договор, мы с Кранмером. Мы оставляем королю его обряды, он не мешает нам издавать Писание. По-моему, неплохая сделка. – Мне кажется, – говорит Барнс, – что наш господин думает, будто назначение Писания – позволить ему и дальше менять жен. Вы говорите, что король разрешит печатать Библию, так почему он медлит? Он сбивает гравюры вместе, словно колоду карт, и сует в шкатулку для писем. – Томас Мор говорил, каждый переводчик видит свое, и если он не находит в тексте того, что жаждет обрести, то сам туда это вписывает. Король не позволит напечатать перевод Тиндейла. Нам пришлось отказаться от этой мысли, оставив ее осуществление другим. – Если Генрих ждет перевода, заверенного отпечатком Божьего пальца, то ждать ему придется долго. Лютер трудился над каждой фразой по три-четыре недели. Я никогда не думал, что он закончит работу, но вот два года назад на книжной ярмарке в Лейпциге он уже продавал полный текст Библии меньше чем за три гульдена, и с тех пор она переиздавалась дважды. Почему у немцев есть слово Божие, а у англичан нет? Можно пялиться в текст, пока из глаз не потечет кровь, можно извести стопку бумаги выше шпиля Святого Павла, но я говорю вам: никакое слово не окончательно. Это правда. Нет текста, не требующего правки. Однако можно оторвать его от себя, отослав печатникам. Нужно только, чтобы печатали в самый край листа. Особой красоты в этом нет, но заметки на полях не исказят смысл. – Простите мое возмущение, – говорит Барнс. – Все эти годы я трудился ради блага короля, пытался создать союз, прийти к соглашению с немецкими государями и их богословами – а тут приходят вести из Англии, и вы выбиваете почву у меня из-под ног. Отрубив голову королеве. На дворе осень, а Барнс все еще не может прийти в себя. – Королеве, уверовавшей в слово Божие! – Королеве из рода Говардов, – говорит он. – Вы знаете, во что верят Говарды. В себя. – Кранмер не верит, что она виновна. – Кранмер – как я. Он верит в то, во что верит король. – Это тоже неправда. – Барнс бурлит, как горячий источник в Витербо. – Немцы знают, что Кранмер лютеранин, в чем бы он ни убеждал Генриха. Кранмер моя единственная карта. Я устал ждать от наших английских епископов того, что мог бы противопоставить папистским предрассудкам, и дождался – они выпустили десять статей, одной рукой давая, а другой отнимая. Каждое слово можно толковать двояко. – Так и есть. – Они пишут обо всем и ни о чем. – Вы можете сказать немцам… как бы сформулировать? Что хотя эти статьи и представляют собой изложение нашей веры, его нельзя называть полным. Барнс округляет глаза: – Вы посылаете меня нагишом. Если вам нужны союзники, у вас должно быть что-то за душой для обмена. Более пяти лет прошло с тех пор, как немецкие государи образовали лигу, которую называют Шмалькальденской, для защиты от императора, их сюзерена. Англии нужны друзья, те, кто готов вместе с ней противостоять папе, а кто лучше немцев подходит на эту роль? Как и Генрих, немецкие правители хотят вывести своих подданных из тьмы. Если евангелический союз одновременно станет дипломатическим, мы можем увидеть новую Европу, Европу с новыми правилами. Однако до сих пор мы играем по старым: настраиваем Францию против императора, стравливаем две могучие силы, полагая, что наша безопасность в их разобщенности, дрожим от страха, что они придут к согласию, украдкой пытаемся разрушить их договоры и посеять между ними недоверие, клевещем, предаем, вносим смуту. Это недостойно великой нации. Барнс говорит: – Ваша задача, милорд, убедить короля, что перемены необходимы и они во благо. – Но король не любит перемен! – Теперь он злится. – Знаете, Роб, уж если нам удалось сохранить евангельскую веру в ваше отсутствие, позвольте нам самим судить, как именно поступать. – Можно подумать, я путешествовал ради удовольствия. Я служил королю, и это была нелегкая служба. Народ в Германии верит, что приходят последние времена. – Они ждут их вот уже десять лет, а может быть, и того больше. Если говоришь Генриху о последних временах, он думает, ты его запугиваешь. А из этого не выйдет ничего путного. Трудно иметь дело с людьми, которые считают, что после недоразумения в райском саду у человека отшибло волю и разум. – Король говорит, если, как полагает Лютер, наше спасение зависит исключительно от нашей веры в Христа, избравшего для жизни вечной одних, а не других, и если наши труды бесполезны в очах Божьих, не помогают нашему спасению, то зачем помогать ближнему? – Труды следуют за избранием, – говорит Барнс. – А не наоборот. Это очень просто. Тот, кто спасен, доказывает это жизнью во Христе. – Вы полагаете, я избран? – спрашивает он. – Я покрыт ламповой сажей, мои руки смердят монетами, и когда я смотрюсь в зеркало, то вижу грязь, – вероятно, так приходит мудрость? Что я человек падший, вынужден согласиться. Мне приходится иметь дело с пороком по делам службы. В благословенные времена земля давала нам все, в чем мы нуждались, но теперь нам приходится вгрызаться в ее глубины, рыть, взрывать этот мир, дробить, катать, вколачивать и размягчать. Надо готовить обеды, Роб. Нужно писать мелом на доске и чернилами на странице, копить деньги и заключать сделки. И мы должны дать беднякам возможность себя прокормить. Я знаю, что за границей магистраты строят больницы, содержат нуждающихся, ссужают деньги ремесленникам и торговцам на обзаведение мастерской и семейством. И мне известно, что Лютер не оставляет нам надежды спастись добрыми делами. Однако горожане не нуждаются в монахах и их благодеяниях, если о них заботится город. И я верю, я действительно верю, что тот, кто трудится ради общего блага, исполняя свой долг, заслуживает спасения, и не верю, что… – У него захватывает дух – сколько на свете того, во что он не верит. – Я грешу, – говорит он, – каюсь, я опускаюсь все ниже, снова грешу и снова каюсь, надеясь, что Господь исправит мои изъяны и несовершенства. Я цепляюсь за веру, но не готов оставить свои труды. Мой господин Вулси учил меня: пробуй все. Не упускай ни одну из возможностей. Будь готов ко всему. – Вы цитируете вашего кардинала? Сейчас? – Признайтесь, – он смеется, – вы его боялись, Роб. Барнс уходит. Глаза опущены в пол, что-то бормочет о Дунсе Скоте. Человек опытный и умный, Барнс теперь боится находиться в Англии, словно Англия – край света, Далекая Фула, где земля, воздух и вода смешались в студенистое варево, где ночь длится полгода, а люди разрисовывают себя синей краской. Некогда, до Вулси, европейские правители считались с Англией не больше, чем с этой студенистой страной, куда никогда не ступала их нога. Англия выращивала овец, овцы были ее опорой, однако говорили, что местные женщины развратны, а мужчины кровожадны, и если не убивают в чужих землях, то разбойничают в своих. Кардинал, проявив мудрость, нашел применение этой репутации. Он заставил считаться со своей страной: хитростью и подкупом, мудростью колдуна и уловками фокусника, умением создавать из воздуха армии и золотые слитки, ворожить мечи и пики из тумана. Я сохраняю равновесие, господа, говорил он: могу вмешаться в ваши мелкие дрязги, могу пройти мимо. У короля Англии, лгал он, сундуки ломятся от золота, а за его спиной могущественная армия: англичане так воинственны, что король спит в доспехах, каждый стряпчий держит при себе меч, писарь воткнет в вас свой перочинный нож, и даже кобыла, впряженная в плуг, воинственно бьет копытом. Не прошло и двух лет, и теперь все спрашивали: что думает Англия? Как Англия намерена поступить? Франции приходилось ее упрашивать, императору умолять. А что до войн, то кардинал их избегал. Генрих на французской земле гарцует на своем жеребце, забрало опущено, доспехи сверкают золотом, но дальше этого не шло, если не считать нескольких жалких стычек в развороченной грязи под пение боевых труб. Если война – это ремесло, говорил кардинал, то мир – высокое и благословенное искусство. Его мирные переговоры стоили иных военных кампаний, а дипломатия заставляла вспомнить о Византии. Его соглашения составили славу западного мира. Но когда Генрих затеял бракоразводный процесс, плюнув императору в глаза, все выгоды были упущены. Папская булла об отлучении висит над королем как меч, подвешенный на волоске. Если тебя отлучают от церкви, ты становишься прокаженным. Если булла будет подписана, король и его министры станут мишенью для убийц, которых благословил папа. Низложить Генриха станет священным долгом его подданных. Армии, которые вторгнутся в страну, заслужат отпущение грехов, неотделимых от любого вторжения, – насилия над женщинами и грабежей. Каждое утро, просыпаясь в Остин-фрайарз, в дворцовых покоях, в Степни или в Доме архивов на Чансери-лейн, лорд Кромвель пытается измыслить способ отвратить эту беду. На этой неделе Франция и император воюют друг с другом. Но что принесет нам следующая неделя? Обстоятельства меняются так стремительно, что новости не успевают пересечь пролив, по пути утрачивая свою новизну. Даже теперь – когда король дважды разведен и снова женат – наши люди в Риме держат двери приоткрытыми на узкую щелочку: все еще поддерживают диалог, подмазывают и подмигивают. Курия должна сохранять надежду, что Англия вернется в загон. Великое дело – не давать хода папской булле. Но следует помнить и о другом возможном исходе: Карл, или Франциск, или оба вместе вступают в Уайтхолл.
Люди делятся на тех, кто величает лорда Кромвеля его настоящим титулом. Льстецов, именовавших его милордом, когда он еще таковым не был. И завистников, неспособных вымолвить «милорд», когда он им стал. Грегори идет за ним: – Как вы думаете, будь матушка жива, ей бы понравилось именоваться леди Кромвель? – Думаю, любой женщине понравилось бы. – Он останавливается, бумаги в руке, меряет Грегори взглядом. – А не стоит ли нам протянуть руку помощи герцогу Норфолку в его беде? Бога ради, милорд, сделайте что-нибудь с королем, чтобы он вернул мне свою милость, просит герцог. Разве я виноват, что Ричмонд умер? – Зовите-меня, – говорит он, – пошлите к людям Норфолка, дайте им понять, что, если они пригласят Грегори поохотиться летом, я не стану возражать. – Меня? Ричард говорит: – Можно подумать, ты здесь чем-то занят. Грегори переваривает услышанное: – Я слыхал, в Кеннингхолле хорошие охотничьи угодья. Я бы поехал. Но прежде мне хотелось бы знать, когда я получу мачеху? Он хмурится: мачеху? – Вы обещали, – объясняет Грегори, – вы поклялись нам, что женитесь на первой встречной, чтобы никто не сказал, будто вы метите в женихи леди Марии. Вы готовы? Кто она? – Вспомнил, – говорит он. – Это была племянница Уильяма Парра, Кейт. Ныне она леди Латимер, увы. – Мы же согласились, что муж не препятствие, – возражает Грегори. – Разве она замужем не вторым браком? Меняет мужей, как только поизносятся. Как она ответила на ваши ухаживания? – Пригласила на обед, – говорит Рейф. – Мы все свидетели. – Взяла его за руку, – добавляет Ричард. – Отвела в сторонку, очень нежно. – Я думаю, – включается мастер Ризли, – если бы мы не пялились, не пихались локтями, не приплясывали и не гримасничали, как обезьяны, она бы его поцеловала.
– Я приехала, – сказала леди Латимер, – чтобы увидеть новую королеву. Хочу представить мою сестру Энн Парр и попросить для нее место. – Я рад, что вы вернулись ко двору, миледи. Если ваша сестра не уступает вам красотой, она его получит. Сдавленное хихиканье со стороны его приближенных. Он делает вид, будто не слышит. Кейт Латимер миловидная курносая женщина двадцати пяти лет из семьи потомственных придворных. Мод Парр, ее мать, много лет служила королеве Екатерине, ее дядя Уильям – постельничий короля. – Я замолвлю словечко за вашу сестру перед леди Рэтленд, но вряд ли Джейн может взять кого-то еще. Леди Лайл шлет мне письма с каждым новым судном. Если я не пристрою ее дочерей, ее гнев ураганным ветром обрушится на меня из Кале. – Дочери Бассета. – Кейт прикусывает губу: присматривается к соискательницам, словно они прохаживаются перед ней. – Королева не обязана брать всех, достаточно и одной. Вы же замолвите словечко за мою сестру? И приходите на этой неделе обедать в Чартерхауз-ярд. Лорду Латимеру не терпится вернуться к летним забавам, а мне хочется разговоров, пока он не увез меня на север. Он подозревает, что Латимер папист, впрочем пока хранящий верность королю. – Вам нравится замок Снейп? Она морщит носик: – Как вам сказать, видите ли, это Йоркшир. – Она касается его рукава, кивает в сторону окна. – Кажется, мы забавляем ваших мальчиков. – О, это сборище юных болванов. При виде хорошенькой женщины не могут держать себя в руках. Спрятавшись за него, она опускает голову, словно они собираются обсудить ее бархатные туфельки, и шепчет: – Тиндейл? На мгновение ему кажется, что он ослышался. – Еще жив, – отвечает он с заминкой. – Но надежды нет, – кивает она. – Мы знаем, вы сделали все возможное. И сейчас он должен страдать, как страдают праведники. Пока не перейдут в лучший мир. Он смотрит на леди Латимер другими глазами: – Умоляю вас, не доверяйте никому при дворе. – А вы в Йоркшире. Он вдыхает аромат ее кожи: розовое масло, гвоздика. Оборачивается в сторону окна: – Я никогда никому не доверяю. – Если король задумал короновать Джейн, он должен сделать это в Йорке. Показать свою власть. Самое время. – Ради проходящих мимо она возвышает голос. – Известите нас, в какой из дней вам удобно. Нам хотелось бы принять вас со всем возможным радушием. – Оглядывается через плечо. – Пришлите одного из ваших юных болванов с запиской. Кажется, леди Латимер уловила соль шутки, потому что у выхода из галереи она оборачивается и посылает ему воздушный поцелуй.
В августе он в Кенте, его дела следуют за ним. Юный Мэтью связывает его бумаги, как некогда в Вулфхолле, Кристоф едет рядом, с седла свисает дубинка, чтобы сокрушать наемных убийц. – Вы слыхали о горшках c огнем? – спрашивает Кристоф, с деревьев капает. – Их заполняют горючей смесью и раскручивают пращой. Может такой горшок попасть в Гардинера? Перелететь через море и поджечь его? Он задумчиво говорит: – Когда я был молод, мы делали такие в Италии. Запечатывали серу свиным жиром. Вряд ли с тех пор придумали что-нибудь новое. – Свиной жир – это вещь, – говорит Кристоф. – Когда начнем делать горшки? Хозяин Аллингтонского замка совсем плох – вряд ли проживет больше нескольких недель. – Это лето последнее, – говорит сэр Генри. – От мыслей, что мой мальчик в Тауэре, я не мог сомкнуть глаз. Я знал, вы не допустите, чтобы он страдал от дурного обращения, но государственные заботы не позволяли вам приглядывать за ним ежечасно. – Руки старика дрожат, капля вина падает на приходно-расходную книгу перед ним на столе. – Святое распятие! – Сэр Генрих пальцем вытирает вино со страницы. – Позвольте мне. Он убирает книгу от греха подальше. Старик вздыхает: – Я верю, что Том научился вести себя потише. Надеюсь, мирная жизнь придется ему по нраву и он проживет долго. – Сэр Генри закрывает глаза. – Станет хозяином Аллингтона после меня и оценит его прелести. Мои охотничьи угодья и леса. Мои цветущие луга. Томас Уайетт просит отослать его за границу. Отправьте меня куда-нибудь по делам королевской службы. Куда угодно. Я хочу оказаться за пределами королевства. Он откладывает бумаги и сидит рядом с задремавшим старцем. Lauda finem, думает он: восхвалим конец. Вспоминает львицу, которая подкралась к Тому Уайетту во дворе замка, где сейчас витает аромат вечерних цветов, а не ее смертоносное дыхание. Сэр Генри открывает один глаз и говорит: – Он проиграет последнюю рубаху, если не приколотить ее гвоздями к спине. Продаст или заложит поместье в игорном доме. И будет просить у вас в долг, Томас Кромвель, не успеет остыть мой прах.
Во время путешествия он отписывает Рейфу эссекские имения, принадлежавшие ныне покойному Уильяму Брертону. В соответствии с волей короля перераспределяет владения молодого Ричмонда. Чарльзу Брэндону достались жирные куски. Чтобы подкрепить лояльность Генри Куртенэ, маркиза Эксетерского, и потрафить его жене Гертруде, маркизу отписана часть Дорсета. Земли в графстве Девон уходят Уильяму Фицуильяму, а также земли и строения аббатства Уэверли. Аббатство было первым пристанищем цистерцианцев в Англии, но местность подвержена наводнениям, сундуки пусты, и рассчитаться предстоит всего с тринадцатью монахами. Фицу дарованы поместья в Гемпшире и Сассексе, стоящие на почве потверже. Недавно он произведен в лорд-адмиралы и нуждается в поддержании своего высокого статуса. И снова удар для герцога Норфолка. Некогда герцог уступил этот пост молодому Ричмонду, надеясь после его смерти получить обратно. Однако король сказал, Фиц полезнее, он предан мне и способен говорить правду в лицо. Нельзя также обойти патентами и землями новую семью короля, ее тоже ждет приращение. Том Сеймур лавирует между дамами, разбрасывая улыбки, словно букеты. На нем гиацинтовый дублет и плащ фиолетового бархата. Эдвард Сеймур предпочитает общество облаченных в черное ученых мужей, учится приносить стране пользу. Все согласны, что новый шурин короля не идет ни в какое сравнение с предыдущим, хотя, как сказал Грегори, для того чтобы быть лучше Джорджа Болейна, достаточно не сношать собственную сестру. Эдвард Сеймур приглашает его в свой городской дом и показывает картину, которая занимает целую стену. Это портрет всех Сеймуров, упомянутых в источниках со времен возникновения письменности; другие, воображаемые Сеймуры, продолжающие род в прошлое, ко временам Адама и Евы, расположены сверху посередине. Дальновидные предки облачены в стальные доспехи, которые стали ковать значительно позже. Они держат в руках палаши, алебарды, боевые молоты и булавы, а их жены обозначены эмблемами своих семейств. С бородами и без них, все Сеймуры несут явные черты фамильного сходства и все похожи на Эдварда. Над всеми нависают гербы, словно укрытия от дождя. Что до королевы, то Генрих не знает, как ей угодить, чем порадовать. Джейн дарованы замки, поместья, ренты, привилегии, свободы и права. Ее патентные грамоты написаны золотом и украшены изображениями короля – на них он моложе, свежее и чище выбрит, словно Джейн стерла с его лица последние десять лет. Генрих дотошно изучил ее тело и душу. Ему нравится, что никто из мужчин, за исключением брата или кузена, не может похвастаться тем, что целовал ее в щечку. Она исповедуется капеллану не более пяти минут. Ей настолько нечего скрывать, что она вполне могла бы стать прозрачной. И все свое внимание Джейн отдает королю. У Екатерины были обезьянки, у Анны спаниели, а у нынешней королевы есть только муж. Джейн обходится с Генрихом почтительно и так бережно, словно боится, что он сломается. В то же время рядом с королем Джейн всегда излучает бодрость, как и он, Кромвель. А главное, держится так, словно любое его желание естественно. И в благодарность за золото и драгоценные каменья медленно улыбается и моргает, словно девушка, которой ее возлюбленный протягивает дольку яблока на кончике ножа. Прежде чем отложить перо, лорд Кромвель вспоминает леди Латимер в ее нортгемптонширском поместье.
Лето кончается, и Грегори возвращается домой, взъерошенный и загорелый. – Милорд Норфолк был ко мне добр. Заметив меня с книгой, он говорил: «Грегори Кромвель, неужели ты еще не покончил с учебой?» Я отвечал ему: «Нет, милорд, я оставил „Грамматику“ Линакра и сейчас приступил к „Новому землевладению“ Литтлтона ради изучения права. А еще отец спросил меня, знаком ли я с семью греческими мудрецами? Я ответил, что незнаком, и тогда он велел мне заняться ими в сентябре». Милорд Норфолк на это сказал: «К дьяволу семерых мудрецов, я сроду про них не слышал и глупее от этого не стал. Отложи свою книгу, малый, и ступай проветрись, а с твоим отцом я это улажу». Он кивает: – Все улажено. Думает, я не виню старого тощего развратника, он был добр к моему мальчику. – Но его сын, – продолжает Грегори, – держался не слишком гостеприимно. Говорил со мной по-итальянски. Я не все понимал, но обычно чувствуешь, когда тебя оскорбляют. – Это правда, особенно по-итальянски. – Суррей называет вас секретаришкой. Еретиком. Вы говорите, что Бог не один, что их три. Говорите, Христос не Бог или Бог не Христос. Называет вас сакраментарием. Это те, кто считает, что не надо крестить младенцев. Суррей тоже притворяется евангелистом, но только ради того, чтобы позлить отца. Милорд Норфолк проклинает день, когда миряне начали читать Писание. «Блаженны кроткие! – говорит он. – Со всем уважением к нашему Спасителю, нельзя допустить, чтобы подобные мысли имели хождение в военном лагере». И чем больше он ненавидит Библию, тем больше Суррей ее почитает. Он кивает. Отцы и сыновья. В возрасте, когда лордов подсаживают на робких пони, он играл в кузне, уворачиваясь от копыт. «Получит копытом в лоб, – говаривал Уолтер, – может, пойдет ему впрок». Он получил копытом в лоб, но не уверен, что это пошло ему впрок. Грегори говорит: – Мэри Фицрой в Кеннингхолле с семьей. С утра до вечера бранится из-за наследства. У нее записано все, что причитается ей как вдове Ричмонда. Герцог удивлен, до сих пор он едва удостаивал ее взглядом; милорд Норфолк не из тех, кто считает, будто отцы должны разговаривать с дочерями. Она говорит: «Если вы не истребуете у короля мое наследство, я обращусь к лорду Кромвелю, который славится добротой к вдовам». Мастер Ризли подавляет смешок. Но когда Грегори уносится прочь, заходит за ним в кабинет и говорит: – Вы хотите женить Грегори. А вы никогда не задумывались о Мэри Фицрой? Заручились бы поддержкой герцога на веки вечные. – Странно слышать это от вас. Разве не вы говорили, что я должен его погубить? У мастера Ризли покаянный вид. – Я не понимал ваших методов. Теперь Норфолк зависит от него, он его защита перед королем. Генрих взвивается при одном упоминании герцога. Правдивый Том, смерть Ричмонда, его нищенские похороны… у Генриха накопились обиды. Норфолк уже видит себя в Тауэре. Клянусь решеткой святого Лаврентия, я не заслужил подобного обращения, восклицает герцог. Разве я хоть в чем-то чинил ему препятствия, разве когда-нибудь шел поперек его воли? Я всегда был верен Генриху. И все мои труды, мои деньги, слуги и молитвы в его распоряжении. «Я весь, весь, весь исхожу желчью и гневом», – пишет герцог. Читая это письмо, так и видишь, как из головы Норфолка вырываются языки пламени. Что до его дочери… – Это не про нас, – говорит он Ризли. – Норфолк метит выше. Говарды не думают о будущем. Вернее, думают не так, как мы. Они надеются, что будущее повторит прошлое. Итак, семь мудрецов, говорит он Грегори: вот их изречения. Умеренность во всем, никаких излишеств (по сути, это одно и то же, но мудрую мысль не грех повторить). Познай себя. Познай свои возможности. Смотри вперед. Не пытайся достичь невозможного. И наконец, Биант Приенский: πλεῖστοι ἄνθρωποι κακοί – худших везде большинство.
Этим летом палата приращений усердно превращает монахов в монеты. Распущены только небольшие обители: палата готова трудиться усерднее, буде Генрих того пожелает. В Вестминстере, куда переехали чиновники, есть сад, где они могут передохнуть, слушая пение птиц и вдыхая пряный аромат лекарственных трав. Тысячелистник и ромашка укрепляют трудолюбивых, засидевшихся допоздна над таблицами. Буквица прогоняет головную боль, огуречная трава утешает сердце. Настойкой девясила, или Христова ока, хорошо промывать глаза тем, кто проводит долгие часы над книгами, аромат кустов розмарина улучшает память. Епископ Латимер говорит ему, плохо, если бедняки ничего не получат от закрытия монастырей. Однако непохоже, что нищий преклонит голову там, где раньше почивал аббат. Скорее, джентльмен снесет дом аббата и построит на его месте дом побольше из камней аббатства. Это мудрая политика – не все доходы отправятся в королевскую казну. Имя папы можно изъять из богослужебных книг, но прихожане вклеят его обратно, в надежде, что Рим вернет свое влияние. А вот если раздать земли, ни один подданный не захочет вернуть их церкви. Можно переписать молитвы, но не арендные договора. Сердца еще могут обратиться к Риму, но не деньги. Даже если Генрих умрет, думает он, наше дело не пропадет. Спустя поколения имя папы окончательно выветрится из головы и никто не поверит, что мы молились деревяшкам и штукатурке. Англичане увидят Господа при свете дня, а не в дыму благовоний, услышат слово Божие из уст того, кто стоит к ним лицом, и больше не будут смотреть в спину священнику, бормочущему на чужом языке. Вместо полуграмотных монахов, сидящих на корточках в грязи, подобрав рясы, монахов, которые играют в бабки на фартинги и заглядывают женщинам под юбки, у нас будут священники, живущие в довольстве, которые станут направлять невежественных и помогать неимущим. Мы забудем идолов, жеманных святых дев с изнуренными лицами, Христа с раной в боку, разверстой, как промежность шлюхи. Верующие будут славить Господа в сердце своем, вместо того чтобы пялиться на его лик над головой, словно на трактирную вывеску. Мы разобьем раки, говорит Хью Латимер, и учредим школы. Выгоним монахов и купим буквари и дощечки с азбукой для маленьких рук. Мы отделим живого Бога от его фальшивых изображений. Господь не есть его хитон, гвозди или шипы. Он не заперт в драгоценных ковчегах и витражных стеклах. Господь обитает в человеческом сердце. Даже в сердце герцога Норфолка. Когда дни становятся короче, Норфолк пишет ему, прося стать его душеприказчиком. Герцог не думает о смерти, хотя, разумеется, sic transit gloria mundi[137], и скоро ему стукнет шестьдесят пять, хотя он недоумевает, куда делось время. Он ищет встречи, в удобное лорду – хранителю малой печати время. Хочет поговорить о Мэри Фицрой: – Какая жалость, что Ричмонд не умер на несколько недель раньше. Тогда Генрих мог бы жениться на моей дочери, в жилах которой течет самая благородная кровь в королевстве, а не на дочке Джона Сеймура. Моя девочка невинна, как в день, когда ее крестили, потому что я не подпускал к ней Ричмонда. Именно потому, что брак не был консумирован, король утверждает, что вдове не полагаются выплаты. Однако герцог пребывает в таком благодушном настроении, что он решает до поры до времени ему об этом не говорить. – Знаете, кто меня навестил? – спрашивает Норфолк. – Императорский посол. Умолял об аудиенции. Предлагал деньги. Теперь, – добавляет герцог милостиво, – все улажено. Я привык получать деньги от императора, пока моя племянница не вмешалась и все не испортила. – Значит, ваша милость вернули себе то, что полагалось вам по праву, – замечает он рассудительно. Герцог смотрит на него: – Уж не вас ли я должен за это благодарить? Он отмахивается: – Шапюи ценит ваш благородный род и ваш неоценимый опыт. Он понимает вашу значимость для короля и государства. – Возможно, – говорит Норфолк, – но куда больше он ценит ваши обеды. Думает, что вы заправляете всем. Кремюэль то, Кремюэль сё. И все же вы оказали мне услугу. Я это ценю. – Герцог ковыляет прочь на своих коротеньких ножках.
Он просит мастера Гольбейна зайти. Тот приносит с собой следы своих занятий: ароматы льняного семени и лавандового масла, сосновой смолы и кроличьего клея. – Теперь, когда вы стали лордом, я должен снова написать ваш портрет? – Я доволен прежним. – Если портрет может считаться попыткой что-то скрыть, то предыдущий прекрасно справляется, это тайна между ним и Гансом. – Я хотел бы целую стену портретов. Портретов древних королей. Ганс жует губу: – Насколько древних? – Задолго до короля Гарри, завоевавшего Францию. До его отца Болингброка. – Вы хотите портреты убитых королей? – Если хватит места. Ганс распластывается по стене, измеряя ее размер раскинутыми руками: – Возможно, вам придется построить новую комнату. – (Под окном топот каменщиков, леса складывают, в воздухе повисла пыль.) – Напишите имена. А портрет Генриха хотите? Вы стоите рядом, нашептывая ему в ухо суммы. Он понимает, на что намекает Ганс. Если в нынешнем году будут писать портрет Генриха, художник хочет получить этот заказ. – Он теперь редко садится в седло и не играет в теннис. Поэтому стал таким. – Ганс хлопает себя по животу. – Верно. Король прирастает. Ганс шагает по галерее, раздвинув ладони, намечает расположение для каждого короля: – Когда будете возвращаться домой, короли будут вас приветствовать. Они скажут: «Благослови тебя Бог, Томас», словно ваши дядья. Вы придумали это, потому что у вас не осталось родных. И снова он прав. – Жалко, что вы не написали мою жену. – Почему? Она была красавицей? – Нет. Если бы в те времена, когда его жена и дочери были живы, он мог позволить себе нанять Ганса, тот написал бы их как на портрете семьи Томаса Мора, вместе со спаниелями и другими питомцами. Он держал бы в руках книгу, Грегори забавлялся бы с игрушечным мечом, а дочери перебирали коралловые бусы. Он почти видит картину перед мысленным взором, взгляд следует за фигурами на холсте: вот Ричард Кромвель прислонился к спинке его стула, справа Рейф Сэдлер с пером и счетами, дверь открыта, готовая в любое время впустить Зовите-Меня. Он пытается воскресить в памяти лица дочерей, но ничего не выходит. Приемы запоминания не помогают. Дети растут быстро. Грейс менялась каждый день. Даже лицо Лиз теперь не более чем смутный овал под чепцом. Он воображает, как говорит ей: «Немец придет писать наш портрет, нас удвоят, словно в зеркале». Когда ты приходил в Челси, то отвешивал поклон хмурому и важному лорд-канцлеру на стене. Затем бочком выходил настоящий, в ветхом шерстяном шлафроке, с синеватыми небритыми щеками, потирая замерзшие пальцы и давая понять, что ты оторвал его от важных дел. Томас Мор глядел на тебя дважды – и оба раза с неодобрением. Он говорит: – Ганс, я не жду, что ты сам это напишешь. Пришли подмастерьев. Не важно, какие у королей будут лица, все равно никто не знает, как они выглядели. Они ударяют по рукам. Нет ничего предосудительного в воссоздании мертвых, если они выглядят благообразно. Он, лорд Кромвель, даст приют двум подмастерьям, пока короли не высохнут и не будут повешены на стену, а художник возьмет за материалы плюс символическую стоимость работы, «но с наценкой, как для богачей», добавляет Ганс. Художник тычет пальцем в плюшевый живот заказчика и, присвистывая, уходит. К нему обращается шут Антони: – Сэр, где это видано, чтобы у шута самого лорда – хранителя малой королевской печати не было серебряных колокольчиков? – Отличная идея, – откликается Ричард Кромвель. – Будешь звенеть всякий раз, когда решишь пошутить, чтобы мы понимали, когда смеяться. – Может быть, я и самый печальный шут на свете, – возражает Антони, – но я не разношу по тавернам ваши секреты и обхожусь вам дешевле, чем королевский шут Уилл Сомер, к которому приставлен слуга. За мной не нужно приглядывать, если только по весне, когда я пребываю в меланхолии и кто-то должен следить, чтобы я держался подальше от острых ножей, а также ручьев и прудов, где мне хочется утопиться. Горбун Уилл Сомер засыпает на ходу. Сидит за столом и внезапно с грохотом роняет голову в тарелку. На улице с ним и вовсе беда: если бы за ним не ходил специальный человек, он угодил бы под колеса первой же повозки. Он может шлепнуться на землю, перелезая через изгородь, ноги разъезжаются, волосы в грязи. Для него все едино, что день, что ночь, и, когда он укладывается на землю, королевские спаниели подбегают к нему, блестя глазками, машут хвостиками и лижут ему уши. Сомер безобиден, невинная душа. Но шут Секстон, или Заплатка, живет в доме Николаса Кэрью, где, как говорят, не перестает рассказывать басни про бывшую королеву, называя ее шлюхой и прирастая монетами за каждую грубую шутку. Этот бессовестный дурак порочит также кардинала, клевеща на бывшего хозяина. Он говорит Антони: – Скажи Томасу Авери, пусть выделит тебе деньги. Сам купишь себе колокольчики. Сообщают, что в речном порту Севильи пришвартовались три огромных корабля, выгрузив несметные богатства, привезенные из Перу, в сундуки императора, чьи войска продвигаются в Пикардию, на территорию короля Франции. Король Генрих предлагает себя в качестве посредника и заявляет, что намерен сохранить нейтралитет. – Это означает, – говорит Шапюи, – что он перейдет на сторону того, кто пообещает ему больше, запросив меньше. Вот что Генрих понимает под нейтралитетом. Он спрашивает: – Когда это правители поступали иначе? Они всегда ищут выгоду. – Но Генрих только и толкует что о своей чести. – Помилуйте, все они одинаковые. Венецианский посол синьор Дзуккато заглядывает к нему, сияя от удовольствия. Сенат выделил ему пятьдесят дукатов на покупку лошадей – привилегия, которой пользовались все предыдущие послы, но которой он был лишен по необъяснимому недоразумению. Теперь венецианец сможет скакать легким галопом вслед за королем и madamma Джейн в клочьях утреннего тумана. Годами было принято охотиться par force[138]: пока джентльмены нежатся в постелях, обкладчики ищут подходящего оленя-самца, который просыпается на опушке, потягивая ноздрями воздух нового дня. Когда зверь найден, по следу выпускают гончих: серых, палевых, желтых, рыжих, белых. Найдя покинутое место лежки, охотники ощупывают траву: теплая или успела остыть. На восходе охота начинается. Олень может вилять, лететь как стрела, бросаться в ледяной поток, но гончие не отстанут, пока не загонят его, лаем выкрикивая оскорбления на понятном зверю языке, называя его мошенником и супостатом, а охотники кричат: ату его, ату! хо-муа-си-ва! хо-сто-мон-ами! са-си-аван-со-хо! И когда меч входит в сердце, олень падает на спину, рога касаются земли, и охотничий рожок, который играл сбор и трубил, что след взят и зверь поднят, поет смерть. Когда олень разделан, гончим бросают хлеб, смоченный в его крови, а часть костей оставляют, называя их вороньей долей. Голову же, насадив на пику, несут домой, впереди, как если бы перед ними шествовал живой олень. Однако в этом году, чтобы не заставлять короля скакать по оврагам и позволить ему наслаждаться обществом нежных дам, оленей выгоняют прямо на охотников, которые стоят под деревьями, в шелковисто-зеленом, с луком в руках. Генрих, принужденный таскать свой новый вес, быстро устает, порой морщится от боли в ноге, которую слуги каждое утро бинтуют так плотно, как может выдержать король. Наматывают и наматывают бинты на участок поврежденной плоти, где рана добралась до кости. Королева стоит рядом, не сводя с оленя спокойных глаз. Если олень отклоняется вправо или влево, от охотников требуется сноровка, чтобы случайно не задеть друг друга. Если зверя нельзя пристрелить сразу,лучше позволить ему оторваться от загонщиков и выпустить стрелу перед ним. Если выстрел был неточен, охотник станет преследовать раненую добычу, понимая по густоте и цвету крови, как долго продлится погоня. Говорят, что охотники живут дольше прочих, потому что, трудясь до седьмого пота, остаются тощими и поджарыми. Когда вечером они падают в постель, то не чуют под собой ног, а когда умирают, отправляются прямиком в рай.
II Пять Ран
Лондон, осень 1536 г. Слухи о смерти Тиндейла просачиваются по Европе, словно дым сквозь солому. Джентльмены короля говорят, что Генрих запросил императора – как государь государя, – действительно ли этого англичанина казнили. Однако подтвердил ли император новость или опроверг, на стол лорду – хранителю малой печати не легло никаких бумаг. – Я думал, мы получаем все новости, – с обидой говорит Зовите-меня. Когда наши люди за границей пишут королю, они делают копию хранителю малой печати – зачастую с запиской, в которой дельного порой больше, чем в самом письме. Генриху нравится беседовать с иностранными монархами по-братски. «Сухарь, – говорит король, – дома я полностью на вас полагаюсь, но есть материи, которые способны обсудить между собой только государи, и я не могу просить моих венценосных друзей вести переговоры с вами, потому что… – Король смотрит вдаль, вероятно, пытается вообразить Патни. – Разумеется, это не ваша вина». Некоторые утверждают, что Тиндейл жив и тюремщики пытками вынуждают его к публичному покаянию. Однако наши антверпенские источники молчат. Возможно, мы что-то упустили и новость была зашифрована между цифрами счетов? Зовите-меня говорит: – В Венеции есть люди, которые с утра до ночи трудятся над шифрами. И чем дальше, тем больше набивают руку. – Можем устроить вам такое расписание, – говорит Ричард. – Лорд Кромвель заставит вас трудиться per diem, вы не сможете получать жалованье хранителя личной королевской печати, и что тогда скажет мистрис Зовите-меня? Она не станет выражаться шифром – будет браниться так, что ее услышат в Кале. Генриху не сидится на месте: он хочет продлить это лето, таская Джейн из поместья в поместье. Он старается, чтобы рядом с королем всегда был или он, или Рейф. Он говорит Шапюи: – Эти переговоры с шотландцами – до них дело не дойдет никогда. Генрих не решится забраться дальше Йорка. Он предвидит дурную еду, разбойников и отсутствие ванны. А шотландский король никогда не продвинется глубже на юг – по тем же причинам. Они в Уайтхолле. Шапюи присоединяется к нему в оконной нише. Свита посла держится поодаль, но он чувствует, что за ним наблюдают. – Это правда, что Тиндейла сожгли? – А разве Генрих вам не сказал? Ему известно, как вы преданы этому еретику. – Я терпеть не мог Тиндейла, – говорит он. – Его все терпеть не могли. Впрочем, мы не собираемся приглашать Тиндейла на ужин или играть с ним в шары. Он нужен нам ради благополучия наших душ. Тиндейлу ведомо слово Божие, и он освещает нам дорогу сквозь топи толкований, чтобы мы не сбились с пути – как выражается он сам, – словно странник, которого заманил в чащу, раздел и разул Робин Добрый Малый. Шапюи не сказал прямо, что Тиндейл мертв, – просто согласился с тем, что ты упомянул о нем в прошедшем времени.Он посещает монастырь в Шефтсбери как частное лицо в свите сэра Ричарда Рича, канцлера палаты приращений, Кристоф, в свою очередь, сопровождает его. Испросив аудиенцию у дамы Элизабет Зуш, он готовится ждать в приемной. Так и выходит. – Забавно, – мрачно заявляет Рич. – Вы второе лицо в церкви, да и я человек не последний. – Это аббатство основал король Альфред Великий, – говорит он Кристофу. – Они разбогатели, потому что у них хранятся мощи Эдуарда Мученика. – И какой трюк они с ними проделывают? – спрашивает Кристоф. – Самые обычные чудеса, – отвечает Рич. – Может быть, мы станем свидетелями одного из них. Обустроив лошадей, Кристоф юркает в кухню в поисках молоденькой сестры, которая накормит его хлебом и медом. Они с Ричем остаются в приемной, разглядывают полотно с изображением святой Екатерины, мучимой на колесе. Прислушиваются к звукам дома и города за стенами аббатства, пока сгустившаяся тревога в воздухе не выдает, что их замысел разгадан: раздаются быстрые шаги, дверь распахивается, кто-то зовет: «Дама Элизабет? Мадам?» В Шефтсбери двенадцать церквей, слишком много для его обитателей. Когда звонят колокола, улицы содрогаются.
– Итак, – говорит аббатиса, – вы явились лично, лорд Кромвель. – Вы знаете меня в лицо, мадам? – У одного из здешних джентльменов есть ваш портрет. Он выставляет его на всеобщее обозрение. – Надеюсь, что так. Не в подвале ж ему висеть. Вы посещаете многих джентльменов? Она бросает на него быстрый взгляд: – По делам аббатства. – Художник изобразил меня достоверно? Она разглядывает его: – Скорее, он вам польстил. – Это была копия с копии, и каждая следующая версия хуже предыдущей. Мой сын думает, на портрете я похож на убийцу. Аббатиса довольна: – Мы ведем тихую и праведную жизнь, и едва ли мне есть с кем сравнивать. – Она встает. – Полагаю, вы спешите. Вы приехали повидать сестру Доротею. Ведя его за собой, аббатиса спрашивает: – Почему с вами Ричард Рич? Хвала Господу, мы богаче любого аббатства в королевстве. Я думала, сэр Ричард занимается небогатыми монастырями. – Мы хотим проверить ваши расходы. – Я состою здесь аббатисой уже тридцать лет и готова ответить на любой вопрос. – Ричу нужны бумаги. – Я предупреждаю, – говорит дама Элизабет. – И можете передать это королю. Я не отдам вам монастырь. Ни в этом году, ни в следующем, покуда жива. Он поднимает руки: – У короля нет подобных намерений. – Сюда. – Она толкает дверь. – Дочь Вулси.
Доротея делает попытку встать, он жестом велит ей сидеть. – Как поживаете, мадам? Я привез вам подарки. Они одни в темной комнатке. Он позволяет себе единственный долгий взгляд. Доротея не похожа на кардинала. Вероятно, пошла в мать? Смотреть на нее приятно, но выдавить улыбку она не в состоянии. Наверняка думает, где ты был все эти годы? Он говорит: – Я видел вас однажды, когда вы были маленькой девочкой. Вы меня не помните. Доротея не берет подарки, поэтому он кладет их ей на колени. Она развязывает узел, смотрит на книги, откладывает в сторону, но платок превосходного льна подносит к свету. Платок вышит тремя яблоками святой Доротеи, венками, цветками, побегами, лилиями и розами. – Одна их моих родственниц вышила это для вас. Жена Рейфа Сэдлера, – возможно, ваш отец упоминал о молодом Сэдлере? – Нет. Кто это? Он вынимает из кармана письмо Джона Клэнси, джентльмена, состоявшего при кардинале, который сыграл роль отца Доротеи, когда ее помещали в монастырь. Письмо это у него давно, и он привык не то чтобы везде таскать его с собой, просто не забывать, где оно. – Клэнси пишет, что вы хотели бы остаться в монастыре. Однако, мне кажется, вы были слишком молоды, когда приносили обеты. Она склонила голову, изучает вышивку: – Значит, я могу быть свободна? – Вы вольны идти куда пожелаете. – Куда? – Вас с радостью примут в моем доме. – Жить вместе с вами? – Лед в ее голосе заставляет его отпрянуть, даже в такой крохотной комнате. Она складывает платок вышивкой внутрь. – А как поживает мой брат Томас Винтер? – Здоров и обеспечен. – Вами? – Это меньшее, что я могу сделать для кардинала. Когда ваш брат вернется в Англию, я устрою вам встречу. – Нам нечего сказать друг другу. Он ученый, я бедная монашка. – Я бы с радостью предложил ему кров, но его ученые штудии заставляют его жить за границей. – Сыну кардинала нет места в Англии. Говорят, в Италии его бы приняли с распростертыми объятиями. – В Италии он стал бы папой. Она пожимает плечом. Довольно шуток, думает он. – Когда Анне Болейн пришел конец, – говорит она, – мы решили, что истинная вера будет восстановлена, но прошло лето, и мы засомневались. – Никто не отказывался от истинной веры. У вас нет возможности наблюдать жизнь короля, оттого вы думаете, будто она состоит из танцев и маскарадов. Уверяю вас, это не так. Каждый день король слушает три мессы, блюдет все церковные праздники. Держит пост. Мы ничего не упускаем. – Говорят, церковные таинства упразднят, а всех монахов и монахинь распустят. Дама Элизабет уверена, что в конце концов король доберется и до нашего монастыря. Что с нами будет? – Таких намерений у короля нет, – говорит он. – Однако, случись подобное, вам выделят пенсию. Думаю, ваша аббатиса будет яростно торговаться. – Но что мы будем делать вдали от сестер во Христе? Мы не можем вернуться в семьи, если наши близкие умерли. – Она вспыхивает. – Или если не захотят нас принять. Придется быть терпеливым. – Доротея, не плачьте. Ваши страхи воображаемые, эти беды вас не коснутся. Он спрашивает себя, должен ли я обнять ее? Королевская дочь плакала на моем плече – или плакала бы, стой я смирно. – Я хочу заверить вас в моих добрых намерениях, – говорит он. – Это место – единственное, которое вы знали, но впереди у вас жизнь. – Клэнси привез меня сюда и оставил под своим именем. Я не хочу оказаться на улице и просить подаяние. О женщины, думает он, им обязательно разыгрывать сцены, чтобы выжать слезу. Я ведь уже предложил ей свой дом. – Я выделю вам ежегодную ренту. – Я отказываюсь. Вздор, все так говорят, думает он. – Или найду жениха, если вы не возражаете против замужества. – Замужества? – удивляется она. Он смеется: – Вы слыхали об этом блаженном состоянии? – Замужество для меня? Незаконнорожденной дочери? Дочери опозоренного священника? Невзрачной дурнушки? Хорошее приданое, думает он, сделает из вас красавицу. Впрочем, едва ли это те слова, которые она хочет услышать. – Поверьте мне, вы миловидная молодая женщина. До сих пор ни один мужчина не подносил зеркало, чтобы вы увидели себя его глазами. Если вас украсить и приодеть, вы будете желанной партией. Я знаком с лучшими торговцами, мне известны фасоны, которые носят при французском дворе и в Италии. Я одевал… – Он запинается. Я одевал двух королев. Она смотрит на него вопрошающе: – Уверена, вы знаете, о чем говорите. – А если вы не погнушаетесь мною, я мог бы, я готов… Он в ужасе замирает. Куда его занесло? Она смотрит на него в изумлении. Такие слова нельзя взять обратно. – Я женюсь на вас, мистрис, если вы того пожелаете. Да будет вам известно, я давно овдовел. И пусть я лишен внешней привлекательности, остального у меня в избытке. Я богат и буду еще богаче, поэтому мне не нужно ваше приданое. У меня много хороших домов. Я щедр и забочусь о моих близких. – Он слышит, как расписывает свои достоинства перед этой испуганной девушкой, словно рекомендует слугу. – У меня нет детей, которые стали бы вам обузой, за исключением Грегори, который давно вырос и скоро сам станет мужем. Я хотел бы еще детей. Впрочем, это зависит от вас. Если захотите носить мое имя формально, чтобы обрести статус и положение, ради вашего отца я готов… – Он запинается. Она подходит к оконцу, глаза мечут молнии. Снаружи нет ничего, кроме стены. – Формально? Я вас не понимаю. Вы зовете меня замуж или нет? – Вы одиноки в этом мире, как и я. Ради вашего отца обещаю холить вас и лелеять. Возможно, вы меня полюбите. Если нет, никто не отнимет у вас дом и защитника, но я не стану требовать большего. – Это потому, что у вас есть любовница? Он не отвечает. – И не одна, – говорит она про себя. – Да, у вас есть все желаемые достоинства, будь вы покупателем и будь я товаром. Благодаря моему отцу, который возвысил вас, вы можете купить что угодно. Вам не понять, мадам, думает он, откуда он меня возвысил. Он чувствует опустошение, обиду, холод. Почему она так ожесточена против него? Той долгой зимой в Ишере он улаживал кардинальские долги. За что-то можно заплатить из собственного кармана, но кого там только не было: мясники, лодочники, крысоловы, а еще те, кто ставит припарки лошадям, составляет гороскопы и солит рыбу. Не говоря о расходах, которых не найдешь в конторских книгах, например, чтобы перекупить шпионов, которых под видом слуг приставил к кардиналу Норфолк. – Ваш отец был великодушным господином, – говорит он. – То, чем я обязан ему, не измерить деньгами. Он научил меня служить королю. Объяснил, как делаются дела, не на словах, а в жизни. Не то, что принято, а что происходит на самом деле. – Он привлек к вам внимание короля. И вот результат. Ей не по душе мое предложение, думает он, явно не по душе. Мне не следовало ей этого говорить, я нутром чувствую, что был не прав. Я стар для нее, я был слишком близок ее отцу, и теперь она считает меня родственником, словно мы брат и сестра. Он говорит: – Доротея, скажите, что принесет вам покой и довольство? Забудьте о моем сватовстве. – Против воли он улыбается, все еще пытается ее очаровать. – Хотя мне хочется верить, что для меня не все потеряно, пусть мое лицо и кажется вам уродливым. – Ваше лицо не уродливо, – говорит она, – по крайне мере не так уродливо, как ваша душа и ваши дела. Он все еще улыбается: – Вам не нравится то, как я поступаю с монахами, и я могу это понять. – Многие из моих сестер готовы снять рясу. Если монастырь распустят, они уйдут на следующий день. Дама Элизабет никогда не отзывалась о вас дурно. Говорит, вы ведете дела честно. – Тогда… возможно, вас смущает моя вера. Я сторонник евангельского учения. Ваш отец меня понимал. – Он все понимал, – говорит она. – В том числе, что вы его предали. Он смотрит на нее, разинув рот. Он, лорд Кромвель. Которого ничем не удивишь. – Когда моего отца сослали на север, он в тщетной надежде обрести милость короля писал письма, в которых просил французского короля вмешаться. А еще обращался к королеве, тогдашней королеве, Екатерине, умоляя забыть разногласия и не лишать его своей дружбы. – Верно, однако… – Вы сделали так, чтобы эти письма попали к герцогу Норфолку. Вы раздули из этого зловещий заговор. Норфолк передал письма в руки короля, и судьба моего отца была решена. Некоторое время он не может вымолвить ни слова. – Вы не представляете, как вы ошибаетесь. Ее трясет от гнева. – Вы станете отрицать, что на севере вы окружили моего отца своими людьми? – Они служили ему, они ему помогали… Мадам… – Они шпионили за ним. Побуждали его к необдуманным поступкам и словам, которые ваш хозяин-герцог толковал как измену. – Господи Исусе. Вы считаете Норфолка моим хозяином? Моим хозяином был Вулси, и никто другой. Успокойся, говорит он себе. Не будь торопливым садовником, который выпалывает траву, оставляя корни в земле. Он спрашивает ее: – Кто вам это сказал и как давно вы в это верите? – Я всегда в это верила. И буду верить, что бы вы ни придумали в свое оправдание. – А если я представлю вам доказательства, что вы ошибаетесь? Письменные? – Я слышала, вы мастер создавать подделки. – Вы слишком много слышали. Вы говорили не с теми людьми. – Вы злитесь. Невиновный спокоен. Только не надо говорить мне о невиновности. Я погубил тех, кто оскорблял вашего отца, чтобы другим было неповадно. Можете назвать невиновными их. Я выдернул их из-за карточных столов, стащил с теннисных кортов и вытолкал из танцевальных зал. Я поженил каждого из них со злодеянием, о котором они едва ли задумывались, и отправил на утренний свадебный пир с палачом. Я слышал, как молодой Уэстон умолял сохранить ему жизнь. Обнимал Джорджа Болейна, когда тот рыдал и призывал Иисуса. Прислушивался к хныканью Марка за дверью. Я думал, Марк неразумное дитя, я должен спуститься и освободить его, а потом сказал себе, теперь его черед страдать. – Если вы убеждены в своей правоте, – говорит он, – я больше не стану вам досаждать. Если, вопреки логике и доказательствам, вы продолжаете упорствовать в своем заблуждении, что мне остается? Я мог бы поклясться и с радостью сделал бы это, но вы решите… – Я решу, что вы клятвопреступник. Те, кому я доверяю, сказали мне, что у Кромвеля нет ни чести, ни совести. Он говорит: – Когда те, кому вы доверяете, отступятся от вас, приходите ко мне, Доротея. Я никогда вас не прогоню. Для меня ваш отец стоял рядом с Господом, и любое дитя его плоти, любая душа, сохранившая ему верность, может на меня рассчитывать. Нет такой цены, опасности или усилия, которые покажутся мне чрезмерными. – Заберите это, – говорит она, протягивая ему платок. – И книги, мне все равно, о чем они. Он забирает подарки и оставляет ее в одиночестве. Стоит, прислонившись к двери, взглядом упершись в картину: страдалец припал к дереву, его голова, руки и сердце кровоточат. Подбегает Ричард Рич: – Сэр? На лице Кристофа беспокойство. – Хозяин, что она сказала? – Мне кажется, я не плакал с Ишера, – говорит он. – Со Дня Всех Душ. Рич говорит: – Неужели не плакали? Вы меня удивляете. Тяжкие злоключения короля не выжали из вас ни слезинки? – Нет. – Он пытается улыбнуться. – Когда король рассержен, он плачет за двоих, так что мои слезы без надобности. – Но что заставило вас плакать? – спрашивает Рич. – Если мне дозволено… – Лживое обвинение. – Обидно, – замечает Рич. – Ричард, вы же не думаете, что я предал кардинала? Рич моргает: – Мне это в голову не приходило. Вы же его не предавали, нет? Он думает, предай я Вулси, Рич не стал бы меня винить. Какая польза от падшего властелина? Он говорит: – Если бы не я, кардинала погубили бы еще в дни первой опалы или заставили бы его побираться, как нищего. Ради него я подверг опасности свою жизнь, свой дом и все, чем владел. И если я имел дело с Норфолком, то лишь ради моего господина. Я никогда не жаловал Томаса Говарда, не жалую и теперь, никогда не был его человеком и никогда им не стану. И я не взял бы его на службу, даже если бы он пришел наниматься ко мне на кухню чистить кастрюли. – И я, – говорит Кристоф. – Я вышвырнул бы его в канаву. – В тот день в Ишере я плакал – незадолго до того умерли моя жена и дочери, пепел застыл в очаге, ветер задувал во все щели, – и души умерших вышли из чистилища, летали по дворам, дергали ставни в попытке проникнуть в дом. В те дни мы верили в это. Многие верили. – Я и сейчас верю, – говорит Кристоф. – Я думал, что выплакал все слезы, – говорит он, слушая собственный голос. – Вы знаете, что, когда Вулси был на севере, ко мне пришел агент торговцев тканями: «Кардинал задолжал нам больше тысячи фунтов». Я велел ему быть точным. «Одну тысячу пятьдесят четыре фунта и несколько пенсов». Я спросил: «Ради любви к нему сбросите пенсы со счета?» А он ответил: «Мои хозяева все сбрасывают да сбрасывают, снабжая его святейшество тканями для облачений и не получая прибыли, а речь идет о золотой парче». Я всеми силами пытался спасти моего господина, думает он: увещевал, молился, а когда потерпел поражение, пустил в ход деньги. Рич смотрит с изумлением, но его уже не остановить. – Агент сказал мне: «Кардинал уже семь лет должен торговцу Кавальканти восемьдесят семь фунтов за самую дорогую золотую ткань по тридцать шиллингов за ярд, итого триста одиннадцать с половиной ярдов, и за ткань попроще, итого сто девяносто пять с половиной ярдов. Заказ доставили в Йоркский дворец, у меня есть накладная. Кардинал клянется, что король заплатит, но я полагаю, скорее наступит Судный день». – Сэр, – говорит Кристоф, – присядьте на сундук, вот платок. Он смотрит на зеленые листочки, с любовью вышитые Хелен для того, чтобы порадовать неизвестную ей девушку. – И я сказал ему: «Хорошо, я признаю долг за вычетом пятисот марок – торговцы клялись, что пожертвуют эту сумму кардиналу ради его дружбы, – и нет никаких сомнений, что на Страшном суде им это зачтется». А он ответил мне: «Эта сумма уже списана, вы не можете получить ее дважды». И мне пришлось уступить. Он садится на сундук. Кристоф говорит: – Сэр, не плачьте. Сами же сказали, что больше не станете. – После того как Гарри Перси прибыл в Кэвуд с ордером, у кардинала не было времени заплатить долги. Аптекарь пришел ко мне cо счетом за лекарства – бесполезные, больной умирал. – Аптекарям платят не за результат, – замечает Рич. – Когда он умер, налетели шакалы. Торговец рыбой Басден клялся, что ему должны три тысячи за вяленую рыбу. Это за сколько же лет, спросил я. – Сэр… – пытается перебить его Рич. – Тоже и соль. Где это видано, чтобы соль продавали по марке за бушель? – Он оглядывается. – Девица права, все было: и черная неблагодарность, и нечестные сделки, и ложные свидетельства, и клевета, и воровство. Но видит Бог, я не предавал Вулси. Звонит колокол. Слышно, как монашки зашевелились, собираясь на молитву. – Мне следовало быть в Йоркшире вместе с ним, сидеть у его смертного одра. Я не должен был позволять королю встать у меня на пути. – Милорд, – тихо замечает Рич, – король не может встать у нас на пути, он и есть наш путь. Он говорит: – Я вернусь к Доротее. Попробую объясниться. Кристоф возражает: – Вы не переубедите ее, она верила в это годами. Оступитесь. – Хороший совет, – замечает Рич. – Милорд, звонят к вечерне. Если мы не хотим здесь заночевать, пора в дорогу. Мы с аббатисой расстались друзьями – она показалась мне разумной женщиной, хорошо подкованной в вопросах права. Женщины не перестают меня удивлять. Мне показали все цифры. И если вы закончили, то я готов. – Я закончил, – говорит он. – Allons[139]. Он вспоминает лжепророчицу Элизу Бартон, которая уверяла, что за небольшое пожертвование отыщет ваших мертвых. Пророчица обыскала рай и ад, но нигде не было Вулси, пока наконец она не обнаружила его в месте, которому нет названия, среди нерожденных.
В Лондоне он вертит в руках вышитый платок. Входит Рейф. – Можешь отдать его Хелен. – Я слышал, – говорит Рейф, – вас плохо приняли. – Ты советовал мне, – говорит он, – ты вместе с моим племянником, вы мне советовали отступиться от кардинала. Не важно, последовал ли я вашему совету, моего хозяина у меня отняли. Но я не думал, что он уйдет от меня так далеко, как сейчас. – Он обводит рукой пространство комнаты. – Я привык к его визитам. Я вижу его мысленным взором. Я спрашиваю у него совета. Он умер, но я заставляю его трудиться. – Он вернется, сэр, когда будет вам нужен. Он качает головой. Доротея переписала его историю. Сделала его чужим себе самому. – Кто мог сказать ей, что я предал ее отца, если не он сам? Рейф говорит: – Столько времени, добрых дел, столько молитв… он должен знать, как вы ему преданы. Он надеется, что это так. Живых переубедить можно – с мертвыми не договоришься. – Я вижу, что должен был расспросить ее подробнее. Ваш хозяин – герцог, сказала она. Господи, я скорее бы нанялся в услужение к Заплатке! Рейф подносит палец к губам: – Не забывайте, что говорил кардинал. У стен есть глаза и уши. Можно подумать, что-то угрожает ему в собственном доме. Впрочем, Сэдлер всегда был гораздо осторожнее, чем он. А Рич? Рич разнес его историю по всему Линкольнз-инн, Вестминстеру и домам членов гильдий в Лондоне: ему передали, что Рич им гордится. «Все цифры лорд Кромвель держит в голове. Сколько стоит соль, вяленая рыба, да все, что угодно. Но даже он был поражен в самое сердце, когда дочка Вулси его оскорбила. Его опорочили самым возмутительным образом, и неизвестно, кто за этим стоит, ведь у лорда Кромвеля столько врагов! И все-таки он выдающийся человек, – в голосе Рича почтение, – выдающийся. Если стереть все документы, уничтожить все протоколы, он сохранит их в своей голове, все английские законы, статьи и прецеденты. Мне повезло быть ему другом и немного укрощать его нрав. Да, повезло. Хвала Господу, я каждый день у него учусь».
Вернувшись из Шефтсбери телом и душой, он распечатывает письмо Гардинера из Франции, в котором сообщается, что умер дофин: лихорадка свела его в могилу за три дня. Генрих, тоже недавно потерявший сына, желает проявить сочувствие, и двор облачается в черное. Никаких затруднений для лорда Кромвеля – он всегда в черном. Как придворному, ему приходится присутствовать на различных торжествах, но он не хочет, чтобы его братья в городе говорили: «Кромвель в эти дни весь в багряном» или «Облачился в пурпур, словно епископ». Вскоре новости уточняются: не то чтобы дофин воскрес, но его смерть не была естественной. Но ради чего, спрашивается, было травить мальчика? У Франциска есть и другие сыновья. Французское посольство хранит молчание. Антони расхаживает по Остин-фрайарз, звеня новыми серебряными колокольчиками, и выкрикивает: «Хвала Господу, на одного француза меньше!» Звук гаснет за закрытыми дверями, замирает наверху в дальних галереях. «Ух-ох, кабы сдох». Звук отдается эхом: ух-ух-ух, словно уханье совы, ох-ох-ох, будто лают гончие. Остин-фрайарз прирастает, становясь дворцом. Строители грохочут с самого рассвета. Ричард Кромвель входит с чертежами в руках: – Наш сосед Стоу позорит вас на весь Лондон. Вы знали, что у него был летний домик? Наши строители поставили его на бревна и откатили на двадцать футов назад. Стоу говорит, что мы украли его землю. Я послал мастеру Стоу письмо с вопросом, можем ли мы посмотреть его землемерные планы? Он поднимает глаза: – Я знаю свои границы. Он выдвигает серьезные обвинения, и мне это не по душе. – Пошлите его к черту, – предлагает Кристоф. Он не заметил, что Кристоф в комнате, сидит на корточках в углу, словно горгулья, упавшая с церковной стены. Он помнит, как юноша сказал ему на пути в Кимболтон: «Я убью для вас Поля. Убью его для вас, когда скажете». Он думает, если Кристоф сумел пробраться незамеченным в мой кабинет, то что ему стоит проникнуть в дом Реджинальда? Говорит Ричарду: – Пришло время с ним разобраться. Остановить его. – Стоу? – Ричард удивлен. – Хватит и сурового письма. – Поля. Рейнольда. Как ты и сказал, кинжал сгодится. Впрочем, он не желает, чтобы Кристоф окончил дни в какой-нибудь адской дыре, поджариваемый итальянскими палачами. Французы тоже любят выбивать признания через боль, говорят, без нее правды не вытянешь. Ходят слухи, что они схватили отравителя и пока уговаривают его по-хорошему выдать того, кто ему заплатил. Иногда полезно проявить мягкость. Однако любой расследователь только посмотрит на Кристофа и решит, что с таким бесполезно миндальничать. – Кристоф, – говорит он, – если когда-нибудь… – Он трясет головой. – Ничего, не важно. Если когда-нибудь я решусь поручить Кристофу убийство, дает он себе зарок, велю ему, пока его не начали поджаривать или растягивать на дыбе, орать во всю глотку, что я-де человек Кромвеля. Почему бы нет? Я готов принять вину. Список моих прегрешений так длинен, что у ангела, ведущего записи, кончились таблички, затупилось перо, так что он сидит в углу и с плачем рвет на себе кудри. – Идем, – говорит он. – Надевай джеркин. Мы отправляемся утаптывать нашу границу и выставлять метки для каменной стены высотой в два человеческих роста. А наш приятель Стоу пусть себе сидит за стеной и подвывает.
Вот уже три недели в Линкольншире, что на востоке Англии, ползут слухи, что король умер. Пьяницы в трактирах клянутся, что советники держат это в тайне, дабы именем короля взимать налоги и проворачивать темные делишки. Рейф спрашивает: – Кто-нибудь сказал Генриху, что он умер? Думаю, он должен знать, и пусть это исходит от кого-нибудь повыше меня. Рейф зевает. Он пробыл с королем в Виндзоре всю неделю и ни разу не ложился до полуночи. Генрих задерживает бумаги, которые получает из рук Рейфа с утра, а обсудить их зовет после ужина, заставляя Рейфа стоять рядом, пока он хмурится над депешами. Ходят слухи о волнениях в Вестморленде. Не сомневайтесь, говорит Генрих, все, что происходит на границе, шотландцы обернут в свою пользу. Шотландский король снарядил корабль во Францию за невестой, но ветер прибил корабль обратно к берегу. Тем временем император предлагает Генриху выступить совместно против короля Франции. Карл снаряжает флот. От Генриха требуется звонкая монета. Он говорит Шапюи: – Неудивительно, что ваш господин пришел с протянутой рукой. Почему у него никогда не бывает свободных денег? И он платит такие огромные проценты. – Ему следовало бы нанять вас – разобраться с его финансами, – отвечает Шапюи. – Ну же, Томас, постарайтесь. Мой господин платит вам пенсион. За свои деньги мы хотим результата. – То же самое говорят и французы. Как мне угодить и тем и этим? Шапюи машет рукой: – Я бы не отказывался от их щедрот. Теперь, когда вы стали лордом, ваши расходы многократно возросли. Но мы знаем, что в душе вы человек императора. Помните о привилегиях, которых лишатся ваши торговцы, если император против них ополчится. Не забывайте о потерях, которые вы понесете, если император закроет для англичан порты. Он улыбается. Шапюи вечно угрожает ему блокадами и разорением. – Беда в том, что мой господин больше не доверяет вашему. Некогда император пообещал моему господину свергнуть Франциска и отдать Англии половину его земель. И Генрих, наивная душа, поверил. И пока мы оттачивали наш французский, чтобы обратиться на нем к новым подданным, Карл за нашими спинами договорился с французами. Мы не позволим одурачить себя дважды. Теперь, прежде чем выложить на стол хотя бы пенни, мы потребуем серьезных гарантий. – Давайте заключим брачный союз, – убеждает его Шапюи. – Леди Мария говорит, что не стремится к браку, но, думаю, она будет рада воссоединиться с родственным семейством. Мой господин предлагает ей в жены собственного племянника, португальского принца. Дом Луиш – прекрасный юноша, лучше ей не найти. – У короля Франции есть сыновья. – Мария не пойдет за француза. – А мне она говорила другое. Король по-прежнему держит новообретенную дочь на расстоянии. Предполагается, что после коронации Джейн королевскую дочь с соответствующей торжественностью вернут ко двору. Тем временем сама она вроде бы вполне спокойна, заказывает новые платья, скачет по зеленым полям на Гранате и других лошадках, которых прислал ее друг лорд Кромвель. Ей хватает денег на личные расходы – и снова благодаря тому же другу, – и ее как будто устраивают встречи с отцом по предварительной договоренности, то здесь, то там, за ужином, во время короткой прогулки по саду, чтобы палящие лучи не повредили нежную девичью кожу. Генрих умоляет ее открыть ему свое сердце: «Скажи мне правду, дочь. Когда ты признала меня тем, кто я есть, – главой церкви, тебя кто-нибудь заставлял, подталкивал, убеждал сказать не то, что у тебя на уме? Или ты решила сама?» Лучше бы король не задавал дочери подобных вопросов, которые побуждают Марию увиливать и дальше. Шапюи посоветовал ей просить у папы прощения за декларацию, сделанную в угоду отцу. Я поступила так, не соглашается Мария, потому что меня заставили. Однако в Риме считают, и вполне обоснованно, что, поскольку заявление Марии было публичным, публичным должно быть и отречение. Она должна заявить в лицо Генриху, что отныне думает иначе. И что ее ждет тогда? Смерть. Мастер Ризли говорит, милорд, вы должны на нее надавить. Вам известно, кому она верна: Риму и покойной матери. Невежественные простолюдины хранят рабскую покорность итальянскому князьку, вообразившему себя наместником Божьим, но разве это простительно для королевской дочери? Теперь, когда мир разбил оковы ее воспитания и вывел ее на прямую дорогу к здравому смыслу? Однако он не спорит с Марией. Просто напоминает: мадам, ваше спасение в покорности. Будьте тверды в вашем решении, и эта твердость принесет вам желанный душевный мир. Аминь, отзывается она. Выглядит печальной. Просто дайте мне знать, лорд Кромвель, чего хочет мой отец, и я исполню его волю. – Мария утверждает, – говорит он Шапюи, – что выйдет за португальского, французского или любого другого принца, которого выберет отец. Но имейте в виду, Эсташ, она ни разу не сказала: «Если бы я могла выбирать, то вышла бы за лорда – хранителя королевской печати». Посол хихикает – ржавый сухой хруст, словно ключ поворачивают в замке, – и разводит руками: что поделаешь, виноват. К счастью для Шапюи, слухи – не преступление.
Когда приходят первые вести о волнениях, он с королем в Виндзоре. Дни стоят теплые, солнечные. Наступает Михайлов день, и по стране идут процессии с хоругвями Святой Девы, ангелов и святых. Все лето для усмирения горячих голов действовал запрет на проповеди. Ради праздника запрет отменили. Из Лута, что в Линкольншире – графстве, ничем не примечательном, – сообщают о толпах, которые собираются после мессы и не расходятся до темноты. Известное дело – эти вечера в ярмарочных городах. Мелочишка бренчит в карманах, и старые приятели в обнимку шатаются по улицам. Молодежь горланит под луной, подбивая друг друга перепрыгнуть через канаву или вломиться в пустой дом. Если идут дожди, все укрываются под крышей, но погода держится, и после наступления темноты на рыночной площади по-прежнему многолюдно. Кожаные фляжки идут по рукам. Застарелые обиды выплескиваются наружу. Кто-то утирает рот рукавом и плюет под ноги. Подмастерья задирают друг друга. В дело пускают дубинки и ножи. Девять вечера, в воздухе ощущается осенняя прохлада. Мастера, плечом к плечу, вооружившись палками, выступают навстречу драчунам: – Эй, ребята, завтра будете мучиться похмельем. Расходитесь по домам, пока вас носят ноги. Прочь с дороги, отвечают подмастерья, не ровен час, проломим башку. Мастера почти печально вопрошают, думаете, мы никогда не были молодыми? Ладно, мерзните, дело ваше. В темноте горожане слышат шум с рыночной площади: какие-то недоумки дуют в трубу и бьют в барабан. Солнце встает над заблеванной мостовой. Мародеры потягиваются, мочатся на стену, обчищают лавку булочника, а к десяти утра уже цедят вино из бочонка в сложенные ковшиком ладони. Прошлой ночью они украли трещотку ночного сторожа, самого сторожа избили и теперь разгуливают с трещоткой по улицам, распевая балладу о добрых старых временах. Когда жены были непорочны, а торговцы все честны, когда розы зацветали на Рождество, а в горшках томились жирные каплуны, от которых не убывало, сколько ни съешь. И если новые времена отличаются от старых, кто виноват? Уж наверное, лондонцы. Члены парламента. Епископы-реформаты. Люди, говорящие с Богом по-английски. Слухи разносятся по округе. Батракам с окрестных ферм по душе отлынивать от работы. Они чернят лица, некоторые натягивают женские юбки и устремляются в город, прихватив косы и другой острый инструмент. С рыночной площади видишь, как они идут, поднимая клубы пыли. Старики по всей Англии могут немало порассказать о пьяных подвигах после жатвы. Мятежные баллады наших дедов в больших изменениях не нуждаются. Пока не сдох – плати налог, плати налог – и все им мало, тебя надуют, обойдут, времен подлее не бывало. Фермеры запирают амбары. Магистраты начеку. Горожане, заперев склады, прячутся по домам. На площади, завидев надвигающиеся толпы селян, какой-нибудь негодяй влезает на трибуну: «Верьте мне – меня зовут Капитан Бедность!» Звонарей тычками и угрозами отправляют на колокольни бить в набат. И по этому знаку мир переворачивается вверх дном.
Утро приносит Ричарда Рича, который прискакал из Лондона в Виндзор с вестями, что на чиновников палаты приращений напали. – Наши люди были в Луте, сэр, оценивали сокровища церкви Святого Иакова, которая славится пышным убранством. Он мысленно видит трехсотфутовый шпиль, подпирающий небо Линкольншира, облака, словно развешенное белье. Отсюда до Лута два дня пути, если не жалеть ни лошадей, ни всадников. Пока Рич говорит, внизу слышны крики новых посланцев: деревенские остолопы, на башмаках налипла глина. Как они попали в замок? Раздаются крики: правда ли, что король помер? Он спускается по ступеням: – Кто вам сказал? – Так говорят на востоке. Преставился в день середины лета. А на кровати лежит кукла в короне. – А кто правит страной? – Кромвель, сэр. Он собирается снести приходские церкви, переплавить распятия на пушки, чтобы перебить всех бедняков в Англии. Налоги будут по десять пенсов с шиллинга, и любой, кто положит в котел курицу, заплатит налог. До следующей зимы народ будет питаться хлебом из бобов да гороха и скоро от такой еды весь перемрет. Люди будут валяться в полях, раздутые, как овцы, и не будет священников, чтобы их исповедовать. – Вытрите ноги, – советует он им, – и я отведу вас к мертвому королю, и вам придется на коленях вымаливать у него прощение. Посланец пугается: – Я повторяю то, что слышал. – Так и начинаются войны. Неподалеку кто-то затягивает песню, голос эхом отражается от камней:
Когда волнения распространяются от Лута по всему графству, король безуспешно требует к себе сэра Топотуна и лорда Потаскуна, а также лорда Бормотуна и шерифа Хлопотуна. Еще не кончился охотничий сезон, и они не доберутся до короля раньше чем за три-четыре дня. Сначала должен прибыть гонец и рассказать о беспорядках, а они удивятся: «Линкольншир бунтует? Что за черт?» После чего им предстоит раздать указания управляющим, расцеловать жен, распрощаться с родными и соседями… – Придется вам ехать, кузен Ричард, – говорит король. – Мне нужна поддержка семьи. Мне не на кого больше положиться. Он, Томас Кромвель, мог бы сказать: а я вам говорил. В прошлом году я говорил: если мы решили распустить монастыри, надо разбираться с каждым приходом в отдельности, а не пугать народ парламентским биллем. Но Рич настаивал, нет, нет и еще раз нет, закон необходимо принять. Лорд Одли сказал тогда: «Кромвель, прошли времена кардинала. Если делать, как вы предлагаете, нам до конца жизни с этим не разобраться». Он закрыл глаза: «Милорд, я предложил подходить к каждому монастырю со своей меркой, а не распускать их по одному. Это разные вещи». Однако его не послушались. Объявили о своих намерениях во всеуслышание – и вот результат. Королю в Виндзоре хочется видеть вокруг знакомые лица. Его мальчики теснятся на скамьях, где раньше сидели первые лица королевства. Когда в дорожной пыли прибывает Кранмер, долго не могут найти кресло, достойное архиепископа. – Зачем вы приехали? – спрашивает он, впрочем довольно вежливо. – Вас не звали. – Из-за песенки, – отвечает Кранмер. – «От Крома, Кранмеля и Крама». Они имеют в виду вас, милорд, меня или кого-то третьего, составленного из нас двоих? – Сие есть тайна. Как Троица. Судя по всему, волнения не только в дальнем графстве. Кранмер говорит: – По Ламбету развешены воззвания. Я не чувствую себя спокойно в собственном доме. Хью Латимер напуган. Я слышал, в Линкольншире напали на слуг епископа Лонгленда. Джон Лонгленд – осмотрительный, суровый, никогда не улыбающийся, помог королю с первым разводом. За это его не жалуют ни в собственной епархии, ни в королевстве. Все еще хуже, чем думает Кранмер. В Хорнкасле – и тому есть свидетели – одного из епископских слуг забили дубинкой до смерти, местное духовенство злорадствовало, когда он испускал дух, а некто, называющий себя Капитаном Сапожником, разгуливает теперь в одежде убитого. – Милорд архиепископ, вы должны знать, что обо мне тоже слагают песни, – говорит Ричард Рич. – Я слышал, как они трепали мое имя. – Очень может быть, – замечает Ричард Кромвель. – Ваше имя хорошо рифмуется. Сыч, кирпич, паралич. Он обращается к Кранмеру: – Может быть, стоит уехать на неделю-другую в деревню? – Едва ли там спокойнее, – бормочет Кранмер. – Боюсь, паписты есть среди моей челяди. Если они путешествуют вместе со мной, куда мне от них скрыться? Но за Лондон отвечаете вы, милорд. Если эта зараза распространится, вам придется ею заняться. – Тычь, хнычь, приспичь, – не унимается Ричард. – Тсс, – шикает на него Фицуильям. – Здесь король. За королем следует мастер Ризли, на нем новый атласный дублет цвета морской волны, в котором он сияет, как венецианец. Ризли деликатно отодвигает перья и перочинные ножики советников попроще, расчищая место для себя. Хмурый Рейф Сэдлер, в старом дорожном джеркине, сдвигается к краю скамьи. – Милорд архиепископ! – восклицает король. – Нет-нет, встаньте! Это я должен преклонить колени. – С чего бы? – шепчет Ричард Кромвель. – Когда это он успел нагрешить? Он подавляет улыбку. Король и прелат вступают в борьбу, Кранмера поднимают с пола. – Итак, джентльмены, – говорит король, – вести неутешительны. Однако, если оскорбления короне и порча собственности прекратятся, я склонен проявить милосердие. – Он вздыхает, Генрих Великодушный. – Бедняги, они боятся зимы. Убедите их, что всего в достатке и никто не собирается на них наживаться. Если придется, установите цены на зерно. Учредите комиссию отслеживать тех, кто вздумает его придержать. Лорд – хранитель печати знает, что делать, он помнит, как с подобными трудностями справлялся кардинал. Предложите мятежникам прощение, но только в том случае, если они разойдутся сейчас. – Я предостерег бы вас от излишней снисходительности, – говорит Фицуильям. – Если волнения достигнут Йоркшира и пограничных земель, нам всем угрожает опасность. Он подается вперед: – Могу я известить милорда Норфолка? Он соберет своих вассалов и успокоит восточные графства. – Пусть Томас Говард держится от меня подальше, – говорит король. – При всем уважении, ваше величество, – вступает Рич, – мы хотим послать его навстречу мятежникам, в противоположную отвашего величества сторону. Король раздражается: – Полагаю, я могу рассчитывать на тех, кто представляет там королевскую власть. Если потребуется, у милорда Суффолка есть все полномочия. Ризли поднимает со стола письмо: – Тут утверждается, что, где бы они ни собирались, они кричат: «Хлеба или крови». Приносят клятвы. Какие, – он сверяется с бумагой, – нам еще не сообщили. Фицуильям говорит: – Сожалею, что приходится об этом упоминать, ваше величество, но причина волнений не только в желании набить брюхо. Они хотят, чтобы им вернули монахов. – Монахи никуда не делись, – говорит Ричард Рич. – Хотя, видит Бог, лучше бы делись, а мы бы нашли применение доходам от крупных монастырей. Под столом он, лорд Кромвель, пихает Рича в лодыжку. Фицуильям продолжает: – Они просят вернуть старые праздники. И главенство папы. – Все, о чем они просят, осталось в прошлом, – замечает Ризли. – Господь свидетель, даже милорд кардинал не умел поворачивать время вспять. – Но их святые вне времени, – возражает Фицуильям, – по крайней мере, они так считают. И хотят их вернуть, хотят, чтобы мы отменили запреты. Просят обратно святого Вильфрида. Криспина и Криспиана, святую Агату, Эгидия и Свитина и всех святых времени жатвы. Для них праздник важнее зерна в амбарах, и они предпочтут шествовать с хоругвями, а не сажать озимые. Они верят, что если убрать пшеницу в дни почитания святых, то руки отсохнут. Возможно, когда-нибудь Англии предстоит наслаждаться плодами просвещения, но, позвольте заметить, до этого еще далеко. Кранмер говорит: – Я слышал, они жгут книги. – У бедняков должны быть главари, – вступает он. – Никогда не поверю, что их нет. На свет извлекаются письма. Печати сломаны. Король читает, перебирает листы, передает одно письмо дальше: – Вот здесь, Ризли. Милорд Кромвель должен знать. Зовите-меня читает из-за плеча короля: – Вы правы, лорд Кромвель, нашлись джентльмены, которые встали во главе этих каналий. У нас есть имена. – Небось клянутся, что их заставили? – Вытащили посреди ночи из постели, – отвечает Ризли. – В ночных колпаках. – Неудивительно, – замечает он. Жена плачет, крестьяне с факелами в руках угрожают поджечь амбары, если джентльмен не сядет в седло и не поведет их к королю. Все смуты во все века начинаются одинаково и заканчиваются тоже одинаково. Знать получает прощение, бедняки болтаются на суках. Вслух он говорит: – Я пошлю гонца к лорду Тэлботу. Пусть соберет как можно более сильное войско и выступит в Ноттингем. Будет удерживать замок и оттуда, при необходимости, через Мэнсфилд двинется в Линкольн или в Йоркшир, если… – Сэдлер, – велит король, – пошлите в Гринвич за моими доспехами. Поднимается шум: нет, сир, нельзя рисковать вашей священной особой. Ради Линкольншира? Не приведи господь. – Если народ считает, что я умер, у меня нет выбора. Кранмер говорит: – Мятежники метят в ваших советников, а не в вас. Они утверждают, что верны вашему величеству, впрочем, все мятежники так говорят. Я знаю, они хотят моей крови, и, если дойдут сюда, гореть мне на костре. – Их главное требование – голова лорда Кромвеля, – говорит Ризли. – Они считают, милорд обманул или околдовал короля. Как до него кардинал. Он говорит: – Я оскорблен за моего господина, которого они считают неразумным дитятей. – Клянусь Богом, я и сам оскорблен, – говорит Генрих. Он еще раньше прочел все новости, но только теперь до него начинает доходить. Король вспыхивает, ударяет кулаком по столу. – Мне не по душе, что мне смеют указывать жители Линкольншира, одного из самых диких и отвратительных графств. У них хватает наглости диктовать мне, кого к себе приближать. Я хочу, чтобы они усвоили раз и навсегда. Если я назначаю советником простолюдина, он больше не простолюдин. На кого мне опереться, если не на лорда Кромвеля? На этих мятежников? Колина Косолапого и Питера Ссыкуна? Вместе с папашей Чурбаном и его козой? – Конечно нет, – бормочет архиепископ. – А Робин Побирушка соберет налоги? – спрашивает король. – А Саймон Простак напишет закон? – не в силах сдержаться, восклицает Рич. Генрих одаривает выскочку суровым взглядом. Его голос обретает мощь: – Я создал моего министра, и, клянусь Богом, я от него не отрекусь. Если я говорю, что Кромвель – лорд, значит лорд. А если я скажу, что наследники Кромвеля будут править Англией после меня, Господь свидетель, так тому и быть, или я вылезу из могилы и разберусь с теми, кто посмеет ослушаться. Наступает молчание. Король встает: – Сообщайте мне обо всех новостях. Мастер Ризли отступает с пути короля, в глазах изумление. – Я буду стрелять из лука, – говорит Генрих и удаляется вместе со своими джентльменами на стрельбище под окнами королевских покоев. – Чтобы сохранить остроту зрения. – Его голос струится вслед за ним, замирая в полуденном мареве.
Совет расходится, остаются архиепископ, Фицуильям, Ричард Рич, который застрял за столом, хмурясь и листая бумаги, и Ризли, который навис над Ричем и что-то шепчет тому на ухо. Решено, что Чарльз Брэндон, бросив все дела, отправится восстанавливать порядок в Линкольншире. Чарльз скор на расправу, и мы надеемся, что он не проявит излишней суровости к беднякам. Лорд-канцлер Одли, который выехал в Виндзор, должен вернуться в свои земли на случай, если искра перекинется и пожар разгорится в Эссексе. – Каково это, Сухарь? – спрашивает Фицуильям. – Ощущать себя наследником престола? Он отмахивается от шутки. – Но король выбрал вас! – не унимается Фиц. – Сэр Ричард Рич, вы свидетель. Неуверенное бурчание со стороны Рича, который с головой зарылся в бумаги. Фиц говорит: – После принятия закона о престолонаследии король может выбрать наследником вас. Парламент может провозгласить вас королем, вы согласны, Рич? Предположим, парламент выпустит билль, провозглашающий меня, Ричарда Рича, королем? Если Рич и слышит дальнее эхо из дней Томаса Мора, то виду не подает. – Рич не поднимет головы, – замечает Фиц. – Вероятно, я ошибаюсь, но чего от меня ждать, я же не правовед. Впрочем, мои уши меня не обманывают. Он назвал вас следующим королем, Сухарь. И мне показалось, в последнее время юный Грегори смотрится юным принцем. – После того, как вернулся из Кеннингхолла, – отвечает он, – где провел лето с Норфолком. – Если мятежники не угомонятся, – говорит Фиц, – придется выпускать дядюшку Норфолка, хочет того Гарри или нет. У него есть силы на востоке, да и на севере его побаиваются. Рич замечает, продолжая скрипеть пером: – А никого нельзя отозвать из Ирландии? – Мы с трудом удерживаем Пейл, – отвечает он. – Я бы оставил это проклятое место, но наши враги в Европе немедленно разобьют лагерь у нас на пороге. Милорд архиепископ, – оборачивается он к Кранмеру, – вы должны вывезти жену из Лондона и спрятать в каком-нибудь скромном доме… Архиепископ издает вскрик – приглушенный, словно Иона из чрева кита. Рич решает не церемониться: – Перестаньте, милорд архиепископ. Мы знаем, что вы женаты. – Все до одного, – говорит Фиц. – Никто не собирается вас выдавать, – продолжает Рич. – Король вас глубоко почитает, и если он предпочитает не знать, и мы не станем вмешиваться. – Я молю Господа, – говорит архиепископ, – чтобы Он смягчил сердце короля, внушил тому, что супружеские узы – благо, которое никому нельзя запрещать. – Он ценит супружеские узы, – замечает Фицуильям. – Странно, что отказывает в них другим. – Дайте ему время, – говорит он. – Я знаю, Рич, вы и ваши клерки из палаты приращений рветесь в бой, и я сожалею, что пнул вас ногой под столом, но король не должен думать, будто мы подталкиваем его к решению, которое он не хочет принимать. – Но у нас же есть план распустить крупные монастыри? – спрашивает Рич. – У нас всегда есть план. Зовите-меня выпрямляется, отрывается от бумаг Рича: заметив в стекле свое отражение, изучает нечеткий силуэт, поправляет угол шляпы. – Милорд архиепископ, успокойте жену, все обойдется. Я слыхал, она не говорит на нашем языке. Должно быть, она вздрагивает от каждой тени. Мятежники сюда не доберутся. – Вы так думаете? – спрашивает Кранмер. – Легко вам говорить, Ризли. Нельзя недооценивать наше положение, мы не готовы отразить угрозу. Я не верю, что мы имеем дело с жалкими одиночками, и подозреваю происки императора. Среди окружения его величества есть те, кто видит будущее без него. Дай им волю, они сделают Марию своим знаменем, и тогда не миновать войны. Не нужно меня успокаивать, мастер Ризли. Мне доводилось видеть, на что способны люди по отношению к своим братьям и сестрам. В Германии я был на поле боя. Я не всю жизнь просидел в Кембридже. Он отворачивается от архиепископа и подходит к окну. Внизу, в лучах низкого солнца, король со своими джентльменами стоит у мишеней. На другом берегу реки, невидимые за деревьями, ученые мужи в Итоне зубрят свои книги и возносят молитвы в часовнях и молельнях во славу своего основателя, блаженной памяти Генриха Шестого. Рич присоединяется к нему, молча становится рядом. Внизу, в тающем свете полудня, мелькает серебристый, словно спинка лосося, проблеск: королева, в сером с серебром платье, вышла к лучникам. – Кажется, она… округлилась, – замечает Рич. – Любит поесть, ничего больше. Она еще не понесла. Леди Рочфорд докладывает мне, когда у нее начинается обычное женское. На свете не найдется мужа более внимательного, чем я. – Та, другая, в конце была кожа да кости. Тощая старуха. Король поднимает глаза, словно почувствовав, что за ним наблюдают. Машет рукой: лорд Кромвель, не хотите отвлечься? Он трясет только что пришедшим письмом, чешет голову, показывая, что занят. Солнечное сияние меркнет, от реки наползает зеленоватый свет. Купаясь в нем, король вытягивает губы, изображая капризного ребенка. Затем сдергивает шляпу и показывает в сторону Датчета: я постреляю до темноты. Как, уже октябрь? Как быстро пролетело лето! Хелен вышила другой платок, взамен того, что он возил в Шефтсбери. Изобразила лавр, что живет вечно, и плющ, что вечно зелен.
В лондонские гильдии приходит приказ: собрать и вооружить людей. За рекой Гумбер видны сигнальные огни мятежников. Определенно Йоркшир готов восстать. – Лорд Кромвель их утихомирит, – улыбается Фицуильям. – В Йоркшире ценят его доброе слово. Король поднимает бровь. Он вынужден объясниться, чего терпеть не может: – В прежние времена, ваше величество, там угрожали убить меня. Мастер Ризли добавляет: – Йоркширцы ненавидели милорда хранителя печати за его службу кардиналу. – Сэр, – спрашивает Рич, – не стоит ли прислушаться к словам архиепископа и спрятать леди Марию? – Что вы предлагаете? – спрашивает он. – Заковать ее в цепи? Король смущен: – Никогда не поверю, что мятежники используют против меня мою дочь. Присматривайте за ней. – За ней присматривают. В Лондоне запрещены все сборища, включая воскресные развлечения. Лошади реквизированы, гарнизон в Тауэре усилен. Пусть торговцы пополняют запасы шерсти и готовой материи, давая работу эссекским надомникам и своим подмастерьям: мы помним, на что способны праздные руки. Хозяевам надлежит присматривать за слугами. Всем священникам и монахам следует сдать любое оружие, которое у них имеется, за исключением ножичков для нарезки мяса за столом. К нему приходит Ризли: вам велено забрать в Тауэре королевские золотые блюда и переплавить их в монеты, после чего как можно скорее вернуться в Виндзор. Он отвечает, я собираюсь встретиться с Шапюи. Ходят слухи, что одного из его доверенных чиновников по имени Беллоу схватили и ослепили. Затем замотали в шкуру свежеубитого быка и спустили на него собак. Он вспоминает Беллоу, каким тот был. Вероятно, теперь его не признал бы собственный отец. Только Господь узнает Беллоу, восстановит его черты, когда будет воскрешать мертвых. Он думает, откуда они знали, что собаки достаточно голодны? Посадили их в загон и морили голодом? Даже его собственные сторожевые псы не стали бы есть живого человека.
Посол говорит: – Мне известно, что герцог Норферк в Лондоне и жаждет вас увидеть. «Ну где же, где же Кремюэль?» Можно подумать, герцог влюбился. – Он думает, я сумею вернуть ему доверие короля. – Генрих считает, что герцог оказал недостаточное уважение останкам бедного Фицроя, – говорит посол. – Король просил похоронить его тихо, а герцог погрузил умершего бастарда на телегу. – Должно быть, вы изрядно повеселили этой историей императора. В своих депешах. – Я полагаю, Норферк разозлился на юношу за то, что он умер. Как поживает мадам Джейн? Еще не наскучила Генриху? – Судите сами, как несправедливо судят о моем господине, – отвечает он. – Непостоянство ему несвойственно, даже вам придется это признать. Он прожил с Екатериной двадцать лет, семь лет ждал Болейн. – У него были конкубины. Впрочем, у кого из правителей их нет? Мать Ричмонда, сестра Болейна, с которой король делил ложе до Анны. При дворе гадают, кто следующая? Говорят, Норферк проталкивает свою дочь. Должен же бы от нее хоть какой-то прок, и кто знает, может быть, Генрих захочет позабавиться с вдовой сына? – Эсташ… – Я гляжу, вы не в настроении шутить. – В воздухе висит запах измены. От него у меня глаза слезятся, а зубы скрежещут. Шапюи бормочет что-то печальное. – Если ваш господин собирается послать помощь нашим мятежникам, пусть не спешит. – Вы называете их мятежниками? А я думал, это кучка подвыпивших болванов. Какое дело до них моему господину? – Никакого. Если он не прислушивается к дурным советам, которые получает из ваших всегдашних дурных источников. Он воображает, как переворачивает Монтегю и других Полей вверх тормашками и лупит по пяткам, пока тайны не изливаются у них изо рта. Воображает, как складным ножом вскрывает сердце Николаса Кэрью, точно устрицу. Как трясет Гертруду Куртенэ, пока измена не осыпается с нее, словно осенняя листва. Как рассекает череп ее мужа, маркиза Эксетерского, и тычет указательным пальцем во мрак его зловещих замыслов. – Я не стану жалеть об этих волнениях, если благодаря им изменников удастся вывести на чистую воду, – говорит он. Шапюи потрясен: – Вы же не принцессу имеете в виду? – Мария должна сообщать мне обо всех попытках на нее повлиять. Любое письмо она обязана передать мне прямо в руки. – Кстати, – замечает посол, – я слышал, Куртенэ пригрели любовницу Томаса Гуйетта. Это проявление милосердия. – Это долг. Бесс Даррелл была с Екатериной до конца. – Ангельское личико, – замечает посол, – и ангельский нрав. Ах, Томас, всегда находятся женщины, которым на роду написано страдать. Нежные создания, защищать которых Господь доверил нам. – Я сказал Марии, я сделал для нее все, что мог. Малейшее проявление сочувствия к бунтовщикам – и я снесу ее голову с плеч. – Неужели, Томас? – Посол улыбается. – Мы же давно играем в эту игру, не правда ли? Ваш долг приходить ко мне и похваляться могуществом вашего короля и тем, как обожают его подданные. А мой долг восклицать, Кремюэль, вы держите меня за дурака! Вы заранее знаете, что я вам скажу, а я знаю, что услышу от вас. Почему бы нам для разнообразия не перейти к сути? – Извольте, – говорит он. – Bы услышите нечто новое. Если ваш господин попытается свергнуть моего короля в его собственной стране, я найду способ отплатить, заключив союз между моим господином и немецкими правителями, которых император считает своими подданными. – Сомневаюсь, мон шер, – мягко замечает посол. – Все эти разговоры ни к чему не ведут. Хоть Генрих и ненавидит папу, но Лютера он ненавидит еще сильнее. Да вы и сами как-то признались мне, что терпеть его не можете. Я полагаю, вы склоняетесь к швейцарским еретикам, для которых облатка всего лишь кусок хлеба. – Вы решили меня исповедовать? – У вас слишком много тайн. У вас и у вашего архиепископа. Он думает: если Шапюи знает о жене Кранмера, он прибережет это знание про запас и пустит в ход, когда сможет принести наибольший вред. – Хлеб может быть не только чем-то одним, – говорит он. – Как и все остальное. – Если Генрих покарает вас за вашу ересь, это будет… – Шапюи задумывается, – это станет трагедией, Томас. – Придете в Смитфилд посмотреть, как меня сжигают. – Это будет тяжкая обязанность. – Черта с два. Купите себе новую шляпу. Шапюи смеется. – Простите меня, – говорит посол, – но я вам сочувствую. Сейчас вы наверняка острее чувствуете ваше низкое происхождение, о котором в иные времена, – вежливый кивок, – можно забыть. Ваши соперники при дворе могут собрать войско из арендаторов и вооружить его из арсеналов, которыми владеют с незапамятных времен. У вас арендаторов нет. Конечно, вы можете потратить часть своих богатств. Хотя содержание даже одного солдата, особенного конного, в это время года, при нынешних ценах на фураж… Я не решусь оценивать, но вы умеете это не хуже меня. Разумеется, вы можете сами взять в руки оружие… – Дни, когда я был солдатом на поле боя, миновали. – Но никто за вами не последует. Даже лондонцы. Они потребуют командиров из знатных господ. В Италии углежог или конюх может основать благородный дом и оставить потомкам славное имя. Но в Англии такое не пройдет. Ни молитва или библейский стих, ни ученость или острый ум, ни жалованная грамота с печатью или писаный закон не сделают из виллана знатного человека. Никакая ловкость или коварство не превратят его в Говарда, Чейни, Фицуильяма, Стенли или Сеймура. Даже в годину бедствий. Он говорит: – Посол, я должен вас оставить и переправиться через реку к Норфолку. Иначе его сердце будет разбито. Шапюи говорит: – Он рвется в гущу событий. Хочет стать героем, схватить славу за хвост. Перебить кого-нибудь, пусть даже простых дубильщиков или кровельщиков. Я слыхал, герцог воодушевлен. Надеется, что эта напасть вас погубит.
Отправляясь в цитадель Норфолка в Ламбете, он берет с собой Рейфа Сэдлера и Зовите-меня. Надеется, что присутствие Грегори сгладит углы. Большой зал во дворце герцога напоминает лавку оружейника, а Томас Говард, расхаживающий туда-сюда, выглядит более изнуренным и мосластым, чем обычно. Словно пережевывает и переваривает себя изнутри. – Кромвель! Нет времени на разговоры. Я здесь, чтобы отдать приказы лично и выдвигаться в путь. На север или восток, куда велит король. У меня шесть сотен вооруженных всадников и пять пушек. Пять, и все мои! У меня артиллерия… – Нет, милорд, – произносит он. – И я могу собрать еще полторы тысячи. – Герцог ударяет Грегори по плечу. – Отлично! Ты при оружии и в седле? Смышленый малый этот ваш Грегори, Кромвель. Какое лето мы провели! Он гонял лошадей в хвост и в гриву. Надеюсь, с женщинами будет помягче. А что до женщин… нет, про герцогиню скажу потом, решает он. Сначала развеять его иллюзии. – Грегори останется дома, – говорит он. – Однако король велел выступить моему племяннику Ричарду. Он возьмет пушку из Тауэра. Генрих объявил сбор в Бедфордшире, у Ампхилла. – Туда я и отправлюсь, – говорит герцог. – Гарри перебрался в Тауэр? – Нет, остался в Виндзоре. – Возможно, он прав. Мне рассказывали, что в старые времена чернь вытащила архиепископа Кентерберийского из Тауэра и снесла ему голову. А Виндзор выстоит против любой напасти, за исключением Божьего гнева. Выстоит против этих дурней, если каждый джентльмен исполнит свой долг. Скольких готовы выставить вы, Кромвель? – Сотню. Ему хочется провалиться сквозь землю. – Сотню, – повторяет герцог. – Небось все писари? Он посылает строителей из Остин-фрайарз и поваров. Повара славятся драчливостью и в бою стоят двух. Но для того чтобы их вооружить, ему придется обратиться к лондонским оружейникам и заплатить, сколько скажут. Он говорит: – Все, чем я владею, принадлежит королю. – Надеюсь, что так, – говорит Норфолк. – Учитывая, что вы обязаны ему всем. Не хочу вас обидеть, милорд, но все знают, что ваш отец был побирушкой. – Не побирушкой, милорд, а пьяницей и гулякой. Он нуждался не столько в деньгах, сколько в душевном спокойствии. Герцог фыркает: – Вы умеете обращаться с оружием. Я слыхал, вам случалось убивать. – Всем случалось. За его спиной Зовите-меня застыл в тревоге. – Полагаю, не без причины, – заключает герцог. – А поскольку Господь наградил вас не только талантом убивать, но и другими талантами, следует использовать их во благо государства. Норфолк изо всех сил старается быть вежливым. Напрягает каждую мышцу, расхаживая взад-вперед, дергаясь и замирая, чтобы проорать команду. Однако от него явственно веет враждебностью – и герцог ничего не может с этим поделать, как навозная куча не может не вонять. – Можете передать от меня королю, что, если он отведет войска слишком далеко на север, ему будет тяжело усмирять восточные графства. – Вот потому-то королю и угодно… – начинает Ризли. Герцог разворачивается к нему: – Я разговариваю с Кромвелем. Ему, в отличие от вас, сэр, доводилось бывать на поле боя. – Мы наслаждаемся сорокалетним миром, – говорит Ризли, – благодаря правлению мудрейшего из королей. Норфолк бросает на него яростный взгляд: – И чтобы и дальше им наслаждаться, каждый джентльмен должен служить примером для своих арендаторов, отстаивать свой титул и свои права, что мы и делаем, и да хранит Господь наше правое дело. Помяните мое слово, скоро мы узнаем, кто замышляет измену. Его глаза встречаются с глазами герцога: двумя безднами, извергающими пламя. – Я слыхал, эти дурни поминают Марию, – говорит герцог. – Одному Богу известно, кто подталкивает их к измене, хотя нетрудно догадаться. Если она проявит к мятежникам хотя бы малейшую благосклонность, я не скажу ей больше ни слова и не намерен ее защищать. – И я, – говорит он. – Если придут шотландцы… – герцог жует губу, – нам пригодится каждый здоровый мужчина, каждый мерзавец, умеющий держать дубинку в руках, каждый джентльмен, способный сидеть в седле. Генрих не намерен выпустить из Тауэра моего племянника? – Правдивого Тома? Нет. – Надеюсь, король знает, что я непричастен к его авантюре. Это еще вопрос, но он уходит от него и говорит герцогу: – Королю угодно – как уже пытался объяснить вам мастер Ризли, – чтобы вы не задерживались ни в Лондоне, ни в его окрестностях, но вернулись в ваши владения и обеспечили там мир и покой… Огненная бездна вспыхивает. – Что? В моих владениях нет мятежей! – Вот и проследите, чтобы их и дальше не было, – вступает Рейф Сэдлер. – А королевское войско возглавит милорд Суффолк. – Брэндон? Этот конюх? Клянусь святым Иудой, – произносит герцог. – А меня оттерли в сторону? Меня, обладателя самой древней крови в королевстве! – Какая разница, милорд, – говорит Рейф. – Я про кровь. У всех у нас одни прародители, если заглянуть вглубь. – Любой священник вам об этом расскажет, – торжественно произносит он. Герцог вскипает. Он знает, что они правы. Впрочем, он бы предпочел, чтобы Говарды вели род от собственных Адама и Евы. – А мой сын? – спрашивает он. – Как насчет Суррея? Допустим, я оскорбил его величество, но Генрих же не откажется от услуг моего сына? – Он сказал, что подумает, – говорит Зовите-меня. – Подумает? – Герцог еле сдерживается. – Мне следовало самому поехать в Виндзор и встретиться с моим сувереном лицом к лицу. Не сомневаюсь, что вы извращаете его речи. Зовите-меня открывает рот, но герцог его опережает: – Еще одно слово – и я выпотрошу вас, как оленя, Ризли. Король знает, что во всей Англии у него нет преданнее слуги, чем Томас Говард. – Милорд, я советую вам, если вы способны прислушаться к… Но герцог не способен: – Я всегда и во всем повиновался слову Тюдора и собираюсь поступать так и впредь, помоги мне Господь. Но что я получил взамен? Монастыри упразднены, и все мелкие проходимцы и жулики успели поживиться. А где моя награда? – Если вы хотите аббатство, – говорит Грегори, – вы должны обратиться к Ричарду Ричу, канцлеру палаты приращений. – Обратиться? – плюется герцог. – Почему я должен обращаться за тем, что полагается мне по праву? – Кстати, – говорит он, – я получил письмо от миледи герцогини. Она пишет, что прошло четыре года с тех пор, как вы живете раздельно. – Это были лучшие годы моей жизни. – Она жалуется на скудное содержание. – Никто ее не неволил. – Вы не хотите, чтобы она вернулась, но отказываетесь ее содержать? – Пусть ее семья о ней позаботится. – Сэр, как вам не стыдно! – вспыхивает Рейф. – Простите, но я не могу молчать, когда слышу, что c женщиной дурно обращаются. Герцог резко придвигает лицо к лицу Рейфа: – Все знают про вашу женщину, Сэдлер. Вы купили ее в борделе такой потасканной, что больше пенса ей никто не давал. Рейф говорит: – Не будь вы стариком, я бы вас ударил. Он, лорд Кромвель, встает между ними. Герцог произносит: – Я сам вас ударю, Сэдлер. Проткну, как курицу вертелом. – Милорд, – говорит он, – верьте мне, я всеми силами стараюсь вернуть вам расположение короля. Чертыхнувшись, герцог отступает: – А вы знаете, что на севере вами пугают детей? А ну не реви, а то позову Кромвеля. – Неужели? Лорда Кромвеля, если быть точнее. – Ваш титул для них в новинку, к тому же они тугодумы. Говорят, он помрет раньше, чем мы привыкнем.
Когда они плывут через реку на барке, дождь сыплет в лицо, а флаг с его гербом плещет о флагшток. Статуя Бекета на стене епископского дворца почти скрылась за струями дождя, но рулевой Бастингс все равно приветствует святого. – Когда-нибудь я сниму оттуда этого изменника, – говорит он. – Но, сэр, речной люд считает, он приносит удачу. – Лучше бы вам рассчитывать на себя. Они сидят под навесом. – Не нашел ничего умнее, – спрашивает он Рейфа, – чем сцепиться с герцогом? – В жизни я совершил лишь один глупый поступок, – отвечает Рейф. – В смысле, когда женился на Хелен. И поскольку с тех пор все, кто видит ее, понимают, что я оказался истинным мудрецом, даже этого я не могу записать на свой счет. Так что, пока я еще молод, я ищу опасности. Хочу узнать, каково это. – Поскольку мы люди мирные, – смеется Ризли, – мы должны использовать каждый случай испытать свое мужество. – В следующий раз предупреди меня заранее, – говорит он. – И держись подальше от дядюшки Норфолка. Он размышляет. Он готов выставить против людей Норфолка любого из своих: поваров, писарей, каменщиков. Он и сам готов сразиться с герцогом один на один. У Норфолка есть арендаторы, зато у него – полные карманы звонкой монеты. У герцога древняя кровь, у него – крепкий желудок. Если герцог – неприступная крепость, то он – осадный механизм, Божья катапульта, «Боевой Волк». Он требушет и мангонель, мечущий в стену огромные камни и швыряющей через нее изуродованные тела. Ему скажут, что в герцогских стенах невозможно пробить брешь, как в стенах Кайерфилли или Мейнута. Но он-то знает, что нет крепости, которую нельзя взять, подведя под нее сапу или подкупив кого-нибудь из защитников. Ему не нужен мертвый Норфолк. Герцог нужен ему живым, довольным. И вечно благодарным. Он говорит Ризли: – Скажите Ричу. Пусть обсудит с герцогом его требования. Выяснит, на какое аббатство он нацелился. – Я-то думал, он исповедует старую религию, – отвечает Ризли. – Слышал, герцог ненавидит евангельскую веру. А выходит, он не прочь нажиться на монашеских бедах. – Когда-то Говарды были торговцами, – замечает он. – Похоже, все мы когда-то были торговцами. – Я слышал, – говорит Рейф, – что в Линкольншире монахи с алебардами возглавили мятежников. Король сказал, обеты их не спасут и, когда беспорядки улягутся, он повесит их прямо в рясах. Они причаливают. Ступени до половины под водой, она норовит залиться в башмаки. Ричарду повезет, если он доберется до Энфилда и его пушка не увязнет в грязи. Мятежники уже идут на Линкольн. Ходят слухи о десяти тысячах вооруженных всадников и тридцати тысячах пехотинцев за их спинами. И каждый день число мятежников увеличивается на пять сотен. – Отпустите меня с Ричардом, – умоляет Грегори. – Сразиться за честь нашего дома. Или с Фицуильямом, он возьмет меня в свой обоз. Фицуильям рвется в бой, говорит, что съест мятежников с солью. – Твое дело, мастер Грегори, заниматься науками, – говорит Ричард. – Сначала доучись. И присматривай за отцом. Ему надо возвращаться в Виндзор к королю. Правительство не может бездействовать, даже если мы собираем армию. Генрих хочет лично ехать на место сбора в Ампхилле, и мы должны его отговорить. Следующие несколько недель – кто знает, возможно, вечность – он, Томас Кромвель, проведет на раскисших дорогах к западу от Лондона или на вздувшейся реке, пока его плотники, мальчишки, вращающие на кухне вертела, и стекольщики будут сражаться на севере и востоке в местных болотах. Он думает обо всех дорогах королевства, обратившихся в непроходимые топи и трясины. Он идет попрощаться с Терстоном. Повар исполнен решимости вместе с мастером Ричардом задать перцу изменникам, но, когда он полирует нож и свет играет на лезвии, в глазах у него стоят слезы. – Помню, как ваша маленькая Энн пришла ко мне за яйцом, чтобы его покрасить. Я и дал ей коричневое из-под бентамки. А она мне и говорит: «Терстон, нет, мастер Терстон, я хочу нарисовать кардинала в красной шапке, а вы даете мне коричневое яйцо. По-вашему, голова у него размером с ноготь большого пальца, а цвет лица как у мавра? Не скупитесь. Только крупное яйцо с молочно-белой скорлупой». Я и сам бы не сумел так выразиться. – Терстон вытирает нос фартуком. – Упокой ее Господь. С молочно-белой скорлупой. Теперь, когда он думает о дочерях, то видит их крохами, которые цепляются за материнскую юбку. Он отпускает их от себя – туда, где живут мертвые. Сидит в одиночестве, над головой недавно расписанный звездами синий потолок, в комнате, какая и приличествует главе дома, – величественной, просторной, не душной. Он опускает ставни, подсаживается к камину. Он знает эти города на востоке. Хорнкасл, Лут, Бостон, где в молодости часто бывал по торговым делам, однажды представлял в Риме их благочестивую гильдию. В Линкольне остались те, кто снабжает его новостями, и у него уже есть предварительный список требований из лагеря мятежников. Он вспоминает, как Норфолк сказал однажды: «Дайте недоумку копье, и он будет опаснее величайшего военачальника, потому что ему нечего терять». Если его осведомители не лгут, мятежники пишут список требований. Они хотят – кроме возврата к золотому веку – ни много ни мало поправок к некоторым законам о наследовании, касающимся завещаний. Такие заботы не тревожат простой люд. Что может оставить после себя Хоб или Хик, кроме безнадежных долгов и старых башмаков? Нет, это требования мелких землевладельцев и тех, кто не желает платить налоги. Тех, кто хочет быть царьками в своих угодьях, кто хочет, чтобы женщины приседали, когда они проходят по ярмарочной площади. Я знаю этих презренных божков. Насмотрелся на таких в Патни. Они есть везде. За стенкой скрежет и царапанье. Спаниелиха у его ног вскакивает и отряхивается, ее нос дергается, глазки загораются. Мартышка завозилась в своем ящике, и собака надеется, что она оттуда выберется. Он вспоминает серый ноябрьский вечер: Анну Болейн, ее недовольную гримаску, то, как она отдернула рукав от крошечной ищущей лапки. «Кто это прислал? Заберите сейчас же. Если Екатерина их обожает, это не значит, что мне они по нраву». Кто-то жалостливый сшил обезьянке крошечную шерстяную курточку, и, словно боязливый проситель, она теребит сукно, вздрагивая под недобрым взглядом Анны. «Я заберу ее себе, – сказал он. – Со мной ей будет хорошо. У меня в доме всегда тепло». – «Правда? Как вы этого добиваетесь?» Анна дрожала, даже закутавшись в горностаевый мех. «Маленькие комнаты, мадам, вам не понравится». Она поморщилась. Кранмер как-то обмолвился, что порой Анну пугает то, что она затеяла. «Возможно, мне придется сдаться. – Она оттянула мех на манжете, нежно, словно показывая, что потеряет. – Быть может, король никогда на мне не женится, и глупо с моей стороны на это рассчитывать. Быть может, Кремюэль, мне надо отказаться от этой мысли и поселиться вместе с вами в вашем теплом доме».
Беверли – первый город к северу от Гумбера, присоединяющийся к мятежникам. Томас Перси, брат графа Нортумберлендского, привел с северо-востока пять тысяч повстанцев. Одноглазый правовед по имени Аск возглавил простолюдинов Йоркшира. Поначалу он уверял, что его заставили, впрочем, так говорят все эти ловцы удачи. Именно Аск называет восстание паломничеством к королю, иногда Благодатным паломничеством. Он дает мятежникам их символ, поднимая знамя Пяти Ран. Так умер Христос: двумя гвоздями к кресту прибили его руки, двумя – ноги, сердце пронзили копьем. Паутина измены липнет к ладони, оставляя кровавые пятна: пьянчуги на мостовых Лута, их толстые пособники с севера, аббаты, промокающие салфетками жир и поднимающие кубки с кровью; шотландцы, французы, Шапюи мон шер, Гардинер, строящий козни в Париже, Поль, преклоняющий колени на пыльном prie-Dieu. Когда все закончится, кто будет хозяином, кто слугой? Он видит Норфолка, полирующего доспех: герцог усердно трет пластину, пока на ней не начинает проступать его отражение. Спутники короля готовы выступить. Такие надушенные и манерные: шелка шелестят, бесшумно ступают мягкие туфли. Но они знают одно ремесло – проливать кровь. Словно мясников на бойне, их для этого растили. Мир для них всего лишь промежуток между войнами. Никаких больше масок, никаких интерлюдий. Не время для танцев. Надушенная ручища подхватывает меч. Лютня умолкает, бьет барабан.
К середине октября королевская длань опускается на Линкольншир. Ричард Кромвель пишет из Стамфорда, куда прибыли Чарльз Брэндон со своим войском и Фрэнсис Брайан с тремя сотнями конных. Простолюдины умоляют о прощении и сдают своих главарей. С Капитана Сапожника сдергивают одежду убитого. Но следует ли нам послать Чарльза дальше на север, навстречу новым сражениям? Только если мы хотим, чтобы в его тылу вновь вспыхнули беспорядки. Тем временем потрепанный штормами шотландский король высадился на французский берег. В сумерках короля видели в Дьеппе в окружении его приближенных, но он держится так просто, что и не угадать, кто король, а кто подданный. – Вряд ли, – говорит Генрих, – у кого-нибудь возникли бы сомнения на мой счет, и, даже если бы мне пришлось скрываться, – король смеется, – я едва ли сошел бы за простолюдина, если бы только не переоделся, но и тогда… Шотландские корабли стоят на якоре в бухте, а Яков едет в Париж с намерением жениться на французской принцессе и тем досадить своему английскому соседу. Жаль, что Яков не задержался в Дьеппе. Это могло бы его убить. Горожане жалуются на чуму, завезенную из английского города Рай. Чиновники акцизного ведомства не в силах остановить заразу и ложные слухи. Ризли спрашивает: – Епископ Гардинер просит указаний: как ему держаться, если в качестве нашего посла он встретится с шотландским королем? – Он должен поздравить Якова с тем, что тот счастливо избег опасностей, которые сулит морская пучина, – замечает он. – Ему пришлось долго пробыть в море. Генрих говорит: – Передайте Гардинеру, пусть не оказывает Якову излишних знаков внимания. Как всем известно, законный правитель Шотландии – я. За спиной короля он делает знак Зовите-меня: этого можете Гардинеру не писать. – А если французы спросят о беспорядках в наших владениях, – говорит король, – пусть Гардинер заверит их, что моя армия способна разбить любого европейского правителя и у нее еще останутся силы на второе и на третье сражение. Он воображает, как пожмет плечами, сморщится и закатит глаза Франциск, услышав такой ответ. «Хотя Тюдор бахвалится, будто в его распоряжении сотни тысяч солдат, на самом деле их гораздо меньше. К тому же он не может доверять собственным военачальникам, а если доверяет, то не тем». И если подумать, скажет Франциск, много ли потребовалось пятьдесят лет назад, чтобы вторгнуться в Англию и свергнуть Горбуна? Хватило двух тысяч наемников под предводительством человека без имени. Генрих говорит: – Можете сказать Гардинеру и любому, кто спросит, что я обрушусь на мятежников всей мощью английского оружия и изничтожу любого. Наследникам придется ползать по земле с лупой, чтобы разглядеть их останки. А чем займется он? Будет договариваться.
В Виндзоре король листает итальянский песенник. Осенний дождь бьет в стекло, мертвые листья кружатся в воздухе. «A la Guerra, a la Guerra, Ch’ amor non vol pìu pace…» Король спрашивает: – Где Томас Уайетт? – В Кенте, сэр. Собирает своих арендаторов. – Скольких он может привести? – Сто пятьдесят. Возможно, двести. «A la Guerra…» Любовь больше не хочет мира. – А как поживает сэр Генри Уайетт? – Умирает, сэр. – Он оставит мне что-нибудь? – Своего сына, сэр. Его последнее желание, чтобы ваше величество не лишали его своего расположения. Тома Уайетта: его пылкость и верность, его стихи. Король спрашивает: – Лорд Монтегю приведет арендаторов? – Ему нужен день на сборы, сэр. Интересно, поедет ли Монтегю сражаться сам, думает он. – А где его братец Реджинальд? – Только что выехал из Венеции. – Куда? – Король завершает свою мысль: – Полагаю, в Рим. Там они торжествуют надо мною. «Questa Guerra è mortale», – поет король. – Кромвель, я забыл слова.
III Подлая кровь
Лондон, осень-зима 1536 г. Аск – мелкопоместный джентльмен, однако Генрих сразу его вспоминает: троюродный брат Гарри Перси, родня Клиффордам из Скиптонского замка. Мастер Ризли, которому в новинку обыкновения короля, дивится, что Генрих держит в голове родственные связи самых ничтожных семейств. Называя мятеж паломничеством, Аск придает ему оттенок святости. Цель Паломников, как провозглашалось ими неоднократно, – выкачать из королевского совета подлую кровь, место нынешних советников должна занять английская знать. Чтобы блюсти Божьи законы, исцелить раны (как именуют их Паломники), нанесенные церкви. Аск принуждает к присяге всех, кто встречается у него на пути. Он шапочно знаком с Робертом Аском. Аск состоит в Грейз-инн, бывает в Лондоне по делам семьи Перси. Будучи юристом, Аск должен сознавать, в какие игры играет. Требовать присягу именем короля – это слишком. И поскольку наверняка листал исторические хроники, знает, чем это заканчивается: какого рода лужа, в которой он плавает и в конце концов утонет. Мы все выросли на историях о Джеке-Соломинке и Джоне Всеисправителе – в те славные дни простолюдины захватывали Лондон, убивали судей и чужеземцев. Мочились в кровати богачей, раздирали сборники стихов, подтирались алтарным облачением. Их предводителями были мелкие писари и несостоявшиеся священники – Стро и Миллер, Картер и Тайлер; никто из них не звался своим настоящим именем. А Всеисправитель бессмертен и, как зеленый росток, выстреливает из братской могилы везде, где начинается смута. Мятежники громили дворцы и штурмовали Тауэр. Били все, что билось, – в те времена зеркала были диковинкой. В Чипсайде поставили плаху и потребовали головы пятнадцати королевских советников, включая лорда – хранителя малой королевской печати. Если им не удавалось схватить того, за кем охотились, они вывешивали его одежду и выпускали в нее стрелы. В те времена король Англии был ребенком. Страной правили из рук вон плохо. Законы были немилостивы к работникам и ремесленникам, каждый получал твердое жалованье, сколько бы ни стоило зерно. Они платили подушный налог – неудивительно, что им захотелось насадить на колья головы тех, кто это придумал. И все они, как и Роберт Аск, называли себя верноподданными и орали: «Боже, храни короля!» С тех пор прошло сто пятьдесят лет. И восемьдесят минуло с тех пор, как Джек Кэд назвался Капитаном Кента и повел чернь на Лондонский мост. Но для rustici[141] все едино: что прошлая Пасха, что времена до Нормандского завоевания. Они говорят, что не станут платить налоги, и выступают против податей, которых никто не вводил. Каксказал ему король: где вы видели налоги, столь необременительные и приятные, что каждый с радостью бросится их платить? В Англии простолюдины пробавляются сказками, песнями и прибаутками в тавернах. Потратив последний пенс на свечу перед образами святых, они живут и дрожат в темноте. Скажем, теленок уродился мертвым. И вот уже за полем пошли слухи, что теленок о двух головах. Вскоре за ручьем божатся, что теленок о двух головах читает латинские тексты задом наперед, а один монах берется за шиллинг дать защиту от этой напасти. За полдня выкидыш обратится Антихристом, и почему-то, за исключением священников, все становятся беднее. Попы грозят своей пастве: если не платить Риму подати, деревья начнут ходить, а урожай сгниет на корню. Пугают их огнем чистилища, жгущим до костей. Спрашивают, неужто вы способны смотреть, как горят ваши дорогие покойники, как ваша престарелая матушка или умершие дети корчатся в муках, умоляя за них помолиться? Людям тяжело смириться с евангельской вестью: нет чистилища, только суд Божий. Бог не ярмарочный торговец, продающий милости на вес. Нельзя купить спасение, нельзя поручить монаху отмолить вашу душу. – В Линкольншире верят, – говорит Ризли, – что папа собственной персоной идет к ним на помощь. Король фыркает: – Скорее на помощь к ним явится жираф. Они понятия не имеют, кто такой папа. Вероятно, они также понятия не имеют, кто такой король. Их предводители говорят им, что Генрих объявил себя Богом. Теперь от Труро до Ньюкасла, если ребенок захворает, винят короля. Если колодец высох, масло прогоркло, а ведро прохудилось – во всех бедах, будь то град или боль в шее, виноват двор и королевский совет. Их горести, словно ручейки, просачиваются из-под земли от шотландской границы до Дувра, пока бессмыслица не затопит всю землю. Как получается, что обличительные песенки про Кромвеля, которые распевают на улицах Фалмута, назавтра уже поют в Честере? Чем дальше от Лондона, тем Кромвель причудливей. В Эссексе он жулик, богохульник и выкрест. К востоку от Линкольна – отравитель. В долинах Йоркшира – чернокнижник в плаще со звездами и Луной, в Карлайле – упырь, крадущий детей и пожирающий их сердца. Он, лорд Кромвель, едет в Лондон, чтобы взять управление в свои руки. У мятежников нет пушек, однако нынешние городские стены одно название, их можно свалить злобным взглядом. Паломники бахвалятся, что обдерут Лондон до нитки и растащат всю его позолоту в свои пещеры. Лондон боится севера. Старики помнят, как узурпатор Ричард привел своих босоногих и востроглазых дикарей. Их речь была груба, а их поступки и того хуже: они разжигали костры приходно-расходными книгами и могли зарезать гуся прямо на хозяйском заднем дворе. В Доме архивов и в Остин-фрайарз он принимает именитых горожан, успокаивает их страхи и побуждает их к действиям. В Тауэре достает королевское оружие и переплавляет золотую посуду на монеты. Затем спешит обратно в Виндзор, разбирать правдивые и лживые новости и возглавлять совет. Кто бы ни председательствовал, повестку пишет он. Если новость свежа, то она лжива. Если нет, вероятно, правдива, но бесполезна. Каждый приказ короля сам себя отрицает: если это случится, делайте так, но, если промедлите или будете введены в заблуждение, поступайте эдак, однако в любом случае пишите и спрашивайте нас. Не мешкайте, но и не гоните. Будьте смелее, но не слишком разбрасывайтесь деньгами. Поступайте по своему разумению, но не принимайте решений без нашего согласия. Военачальники в Линкольне, Ампхилле и Йоркшире пытаются залезть в головы советникам, те же, в свою очередь, тянут шею, силясь разглядеть далекие ручьи и болота, лощины и скалы, широкие колеи и козлиные тропы – места, где им не доводилось бывать даже во сне. К счастью, лорд Кромвель был везде. Он знает восточные порты и замки на вересковых пустошах. По делам кардинала ему доводилось бывать в Дареме. Он мог бы сам отправиться на север, увидеть все своими глазами и сопроводить королевскую казну для выплаты войску. – Вообразите, что будет, если вас схватят? – спрашивает мастер Ризли. – Что, если они потребуют выкуп? – Интересно, сколько готов заплатить за меня Генрих? Ему придется взвесить мою ценность и то, сколько я приношу в казну. Ричард Рич хмурится: – Пусть не забудет посчитать то, что еще принесете, милорд, если Господь даст вам долгую жизнь. Зовите-меня подавляет улыбку. – Чему вы усмехаетесь, Ризли? – спрашивает Рич. – Не всякий мятежник способен оценить лорда Кромвеля. Рич разворачивается к нему: – Они не складывают про вас песен? В безвестности есть свои преимущества. – Они возненавидят вас, Зовите-меня, как только узнают, – ободряюще произносит Грегори. Он говорит: – Я уверен, вы заслужили их ненависть. Они просто не могут найти нужную рифму, потому что сочиняют стихи еще хуже, чем Правдивый Том. Армия нуждается в снабжении. Вместе с солдатами в поход идут кузнецы и шорники, оружейники и те, кто поставляет котлы для супа, тетивы, одеяла, ведра, треножники и заклепки. И чтобы им вовремя заплатили, нужны писари, вести учет, а писарям нужны чернильницы, пергамент и воск. И все, кто на поле боя, нуждаются в эле или пиве, свинине и говядине, соленой рыбе и сыре, не слишком старых сухарях, горохе или фасоли, чтобы варить их в соленой воде, и котле для варки. И чтобы заполучить все это, нужны деньги. На войне никто не верит обещаниям. К тому же жизнь королевства не останавливается, если какие-то бездельники из дальних графств решили помахать вилами. Браки заключаются, дети рождаются, растут и требуют новой одежки, вещей и воспитателей. Дочь Анны Болейн начинает учить первые буквы. За неимением собственных детей леди Мария пытается полюбить единокровную сестру. Дитя не отвечает за грехи матери, говорит она. Младенческие черты заостряются, и Элиза уже не поросеночек, а все больше напоминает короля. Никто больше не говорит, что она Норрисова приблуда. Ребенок не может вечно плавать между двумя отцами. Разумеется, Элиза считается незаконнорожденной, но даже незаконнорожденная королевская дочь имеет цену на брачном рынке, если отец ее признает. Поэтому и воспитать ее надлежит как принцессу. Он выбивает содержание молодой женщине Кэт Чемпернаун, известной добрым нравом, к тому же хорошей латинистке. Надеется, что когда-нибудь Элиза оценит его хлопоты. Важно, чтобы первая наставница была по-матерински ласковой, – тогда ребенок не будет бояться ошибок. Посмотрите на Грегори, который ныне подает большие надежды. Его первой учительницей была Маргарет Вернон, настоятельница Малого Марлоу – монастыря, который закрыли этим летом. Она посетила его в Лондоне, поохала над своим учеником, его ростом, пригожестью и манерами. – Куда ушли годы? Кажется, только вчера он учил Патерностер. Неправда, будто он ненавидит монахинь или монахов. Со многими он дружен. В прежние времена он ездил в Малый Марлоу по делам. Его теща Мерси спросила: – Какая она, эта Маргарет Вернон? Он понял, о чем она спрашивает: – Немолодая. Грегори было хорошо под ее присмотром. Теперь пришла ее очередь. Он делает пометку: перевести Маргарет Вернон в Моллинг, Кент. Моллинг – солидный монастырь, ей будет там неплохо, пока монастырь не распустят. Он думает о Доротее. Рисует чудище на полях черновика. Думает о докторе Агостино и его снадобьях. Если в смерти кардинала и была какая-то тайна, он не приблизился к ее разгадке. Вероятно, разгадка спрятана в королевском сердце. В личных покоях Джейн, куда они заходят с Рейфом и Зовите-меня, он находит королеву среди фрейлин. Сегодня все шьют, никто не поет. Шейку Джейн украшает золотое колье, с которого свисают крупные жемчужины в форме слезинок. – Ваше величество, – спрашивает он, – почему бы вам не попросить короля пригласить леди Марию сюда? – Это нас развеселит, – говорит Джейн Рочфорд. – Она славится своим остроумием. Женщины прячут улыбки. Он говорит: – Мне кажется, здоровье леди Марии улучшится в приятном обществе. – Вы так думаете? – откликается леди Рочфорд. – Жалко, если, молясь, она сотрет колени до крови. Сидя в деревне, все теряют привлекательность. – Леди Рочфорд рассуждает по собственному опыту, – замечает жена Эдварда Сеймура. Рочфорд говорит: – Если Мария будет с нами, мятежники ее не украдут. И она не сможет к ним убежать. – Ни о чем подобном она не помышляет, – говорит он. – Леди Мария присягнула. Рочфорд с улыбкой складывает руки на груди. Джейн-королева говорит: – Я буду рада ее компании. Я попрошу короля. Только он мной недоволен. Потому что я еще не… – Беременна, – уточняет Джейн Рочфорд. Королева говорит: – Я слышала, помогают агаты. Если носить их на коже. – Уверен, у смотрителей королевского гардероба они есть, – говорит Рейф. – А если нет, раздобудем. В Корнуолле агаты можно выковыривать из мощеных улиц. Королева выглядит удивленной: – В Корнуолле? У них есть улицы? Зовите-меня выступает вперед: – Вы позволите, милорд хранитель печати? Мы должны сочинить ее высочеству достойную речь. Прежде всего следует возблагодарить его величество. Разумно, думает он. Почему бы не попробовать. – «Сэр, – начинает он, – вы подняли меня в заоблачные выси». – Так и есть, – говорит Джейн. – И я от всей души рада за вас, лорд Кромвель. – Нет, ваше высочество, – объясняет Джейн Рочфорд. – Это говорите вы, а не Кромвель. «Сэр, вы в своей доброте возвысили меня над всеми женщинами Англии». – «Меня, недостойную», – предлагает Ризли. – «Меня, недостойную», – повторяет он, – отлично. «Вознесли меня, недостойную, в заоблачные выси. Кто может стать мне здесь утешением? Рядом со мной нет дамы моего положения, которой я могла бы довериться». – Затем продолжайте, – говорит Рейф. – «Сэр, ваша щедрость, великодушие и отеческое сердце не позволят вам отказать мне в нижайшей просьбе вернуть ко двору леди Марию, дабы я обрела в ее обществе радость и утешение». – Давайте я сама, – говорит Джейн и делает глубокий вдох. – «Cэр, ваша щедрость…» Это его щедрость или его что-то другое? – «Щедрость» красиво звучит, – убеждает ее Ризли. – Тогда попробуем со щедростью, – соглашается Джейн, – и посмотрим, что из этого выйдет. Лорд Кромвель, мне хотелось бы с вами переговорить… – Она кивает фрейлинам. Те, переглянувшись, уходят. Рейф и Ризли также отступают назад. Мгновение королева молча смотрит, как ее двор ретируется. Затем вынимает из кошелька на поясе флакон с розовой водой. – Он очень древний. Король дал мне его. Сказал, римский. Стекло, легкое как воздух, темнеет в ее руке. – Возможно. – Некогда в нем содержалась священная реликвия. Он не сказал, какого святого. – Словно предвидя его вопрос, она поясняет: – Я не спросила. Жду, когда сам скажет. – И я. – Король пересказывает мне свои сны, – говорит она с неожиданным страхом. – Вспоминает детство. – Женщины любят слушать рассказы о детстве мужчин. – Он не думал об этом раньше, но ни одна женщина на его памяти не отказалась выслушать старую историю, не важно, насколько правдивую. – Потому что женщины хотят их любить, – говорит Джейн. – Невозможно любить мужчину всегда, но женщины надеются полюбить в нем ребенка. Он смущен. Флакон всего лишь предлог. Чего она хочет? – Король был очень красивым ребенком, – говорит он. – Так говорят. – Леди Рочфорд, – обращается к фрейлине королева, – вы не могли бы отойти? Нет, еще дальше. Вместе с остальными дамами. Благодарю вас. – Ее лицо, повернутое к нему, распускается, как цветок. – Король говорит о своем брате Артуре. Он думает, что убил его. Он так потрясен, что может сказать только: – Король его не убивал. Артур умер сам. – Он убил его завистью – потому что хотел ему зла. Даже когда Генрих был молод, когда был герцогом Йоркским, он хотел стать королем, необязательно Англии. Говорит, что хотел завоевать Францию и чтобы потом Артур отдал ему эту страну в награду. – Ваше величество, желания не убивают. – А молитвы? – спрашивает Джейн. – Грех молиться о том, чтобы обрести выгоду в ущерб другому. Но мы не всегда властны над тем, что приходит нам в голову. Он говорит: – Должно быть орудие. Аркебуза, кинжал, болезнь. – Генрих говорит, что потом вообразил все беды, которые могут приключиться с ним на французской войне. Понос, распутица, голод. – Мудро для столь молодого человека. – Однако он не переставал надеяться, что станет королем. Господь прочел это в его сердце. И Артур умер, а Генрих унаследовал все его титулы и женился на его вдове Екатерине. – Хотел жениться, – говорит он, ощущая усталость. – Теперь доказано, что брак не имел силы. – И Артур не вернулся домой, – говорит Джейн, – а остался лежать в Вустерском соборе, где его похоронили среди зимы. И Генрих ни разу не навестил его могилу. Спустя мгновение она спрашивает: – Милорд? Вы так и будете стоять молча? Он спрашивает: – Почему сейчас? Мы с Кранмером считали, что победили его, – одна зимняя ночь убеждений и молитв развеяли Артура в воздухе. Кажется, Генрих что-то от нас утаил. Мы сочли его беспомощной жертвой внезапного явления призрака, не подозревая, что мертвеца из могилы поднял стыд. – Если король спросит, я скажу ему, что это детская фантазия и ему не стоит забивать этим голову. – Спасибо. Я рассказала об этом моему брату, лорду Хертфорду, но он сказал, фу, сестрица, что за суеверия. – Так и сказал? – смеется он. – Вы можете идти, – говорит королева. – Если вас спросят, о чем мы беседовали, скажите, что я показывала вам флакон и спрашивала про древних римлян. Я не верю всему, что говорит король. Рейф и Зовите-меня выходят вслед за ним, дрожа от любопытства. Зовите-меня спрашивает: – Думаете, она наберется смелости и попросит за Марию? Рейф говорит: – Надеюсь. Если Мария будет под присмотром, никто не станет спрашивать, с кем она встречается и кому пишет. – Вот видите? – Леди Рочфорд тут как тут. – Даже ваши люди не доверяют Марии. Ничего, скоро она себя покажет. Лорд Кромвель, говорят, она по вам сохнет. Он берет ее за руку, заставляя посторониться. Нравится ему или нет, она его союзница. – Вам следовало бы обращаться со мной повежливее, – резко бросает леди Рочфорд. – Впрочем, и королеве не помешало об этом бы помнить. Он уходит. Джейн Рочфорд потирает руку, словно ее ударили. Он думает, если бы желания вызывали смерть, мои услуги не понадобились бы. В разное время Генрих ненавидел обеих своих жен, что не мешало им жить ему назло, пока Господь не прибрал одну, а французский палач не позаботился о другой. Несмотря на все свое могущество, Генрих был не в силах от них избавиться. Только мне это удалось. Мне, который диктует ему, на ком жениться и с кем разводиться, кого взять в жены потом, а кого лишить жизни. Впрочем, какая разница? Скоро придут йоркширцы и поубивают нас всех.Королева решает обратиться к Генриху перед всем двором. На ее лице тревога, головка скромно опущена. – Сэр, – начинает она, – пусть я и недостойна, а вы славитесь – чем? – щедростью. Я нахожусь в высях. Пожалуйста, призовите леди Марию ко двору. Я обрету в ее обществе утешение. Генрих взирает на нее с нежностью и изумлением: – Ты одинока, милая? Разумеется, я ее призову, если это тебя обрадует. – Да, обрадует, забыла слово, – говорит Джейн без улыбки и оседает на пол, сгибаясь внутри жесткой парчи и атласа. – Выслушайте меня. Что еще она задумала? Он пытается поймать взгляд Рочфорд, но двор не сводит глаз с королевы. – Мое сердце, сэр, огорчено тем разладом между вашими подданными и вашей священной особой. Ропот ужаса среди придворных. И это Джейн? Ее ли это речи? Генрих пристально смотрит на жену: – Я воспринимаю ваши слова в их прямом значении. На королеву возложено двойное бремя. Как жена она должна быть чуткой к душевным заботам мужа. Как королева обязана хранить верность своему государю. – Я только женщина, – говорит Джейн, – и не смею притязать на мудрость, которой обладает ваша милость. Но мое сердце уязвлено тем, что почтенные и благочестивые обычаи, что соблюдались испокон веков, ныне забыты. Нам следует беречь их, как сын или дочь заботятся о престарелом отце. Генрих хмурится: – Какие обычаи? – Нэн! – обращается он к жене Эдварда. – Нэн, скорее! Леди Сеймур выступает вперед: – Мадам… Джейн продолжает: – Ваши подданные хотят римского папу. Хотят статуи, которые помнят всю свою жизнь, и освященные свечки, и праздники. Нэн Сеймур: – Мадам… – Пусть говорит, – произносит Генрих. – Ей следует преподать урок, и кому надлежит это сделать, если не мне? Как такое возможно, что среди всех священников, призванных разъяснять смысл королевской супрематии, после всего, что было сказано и написано, кто-то по-прежнему не понимает, что епископ Римский всего лишь чужеземный правитель, стремящийся подчинить себе другие земли? Мадам, я не позволю никому вмешиваться в мои дела, и предателю не укрыться за Христовым крестом. Джейн говорит: – Они думают, вы заберете их серебряные кресты и превратите в монеты. Генрих говорит: – Простые люди могут так думать, но кто их направляет? Что это за пастыри, что за священники и аббаты, которые нарушают присягу, данную своему королю, и с мечом в руках бросаются в гущу сражения? – Они молились бы за короля, – похоже, Джейн торгуется, – если бы могли молиться за папу. Он думает, придется вмешаться, если король не в состоянии ей ответить. – Мадам, не существуют двойной юрисдикции. Либо король, либо Рим. – И это не обсуждается, – отзывается Ризли. Генрих говорит: – Ее высочеству следует удалиться. Джейн начинает трясти: – Они задавлены налогами. Король подается вперед: – Бремя налогов никогда не лежало на плечах работников и землепашцев. Богач знает и всегда знал, как выдать свои интересы за интересы нищего Лазаря. Джейн пристально смотрит на короля: – Наверное, вы правы. Я ничего не смыслю в государственных доходах. Но, милорд, будьте осмотрительнее в мыслях, а равно в деяниях. То, что вы скажете ночью, не оставит вас днем, а то, от чего откажетесь днем, вернется ночью. Нэн Сеймур берет ее под одну руку, Джейн Рочфорд – под другую. Они поднимают королеву на ноги. Король говорит: – Джейн, ты должна понять: душой и телом я принадлежу моим подданным. Правитель отвечает за свои деяния перед суровым небесным судом, и, когда он покидает этот мир, его судят по другим меркам, чем простого человека. Господь наделяет его добродетелями, наделяет мудростью, дальновидностью и рассудительностью, но этими дарами ему приходится распоряжаться по собственному разумению. Я – земной пастырь Божьих овец. Правителю надлежит заботиться не только о знатных, но и о ничтожных, не только об ученых и магистратах, но и о необразованных и бедных, обо всех своих подданных – равно их телесных и духовных нуждах. – Генрих кротко добавляет: – Это мой долг, и мир увидит, как я его исполняю. – Аминь, – говорит мастер Ризли. Придворные складывают ладони, ожидая кивка короля, чтобы зааплодировать. – Какое красноречие, сэр, – бормочет лорд-канцлер. Сэмпсон, епископ Чичестерский, бурчит что-то одобрительное. Граф Оксфордский, лорд-казначей, вздыхает, словно деревенская девица на пуховой перине. Король говорит: – Мы рассмотрим любые законные петиции. Мы готовы сохранить любые обряды и образы, если они безвредны. Однако. – Взгляд короля устремлен выше головы Джейн. – Когда вы затяжелеете, тогда мы и выслушаем ваши просьбы. Женщины уводят Джейн, он резко велит Рейфу и Зовите-меня расступиться. Хочет, чтобы толпа рассеялась. Так бывает, когда телега опрокинется посреди улицы и констебль разгоняет толпу. Проходите, не на что тут глазеть. Ризли хватает его за руку: – Это Кэрью? Или Куртенэ ей нашептал? – Думаю, – отвечает он, – это идет от ее нежного, смятенного сердца. Ей некому довериться. Хорошо бы ее сестра Бесс Отред приехала с севера. Рейф предупреждающе хлопает его по руке – леди Рочфорд на расстоянии меча. – Надеюсь, вы не думаете, что это я. Он говорит: – Мне это в голову не приходило, но теперь, когда вы сами об этом упомянули… Почему нет? Погубила одну королеву, погубит и другую.
Ричард Кромвель пишет из Линкольна, который отбит королевскими войсками у мятежников. Джентльмены разочарованы, что враг рассеялся. Они прибыли проливать кровь, а не играть в кости. Ричард и сам разочарован. Роль привратника при дяде недостаточно воинственна для его натуры. Чарльзу Брэндону, чтобы не потерять Линкольншир, придется какое-то время держать войско на поле боя. – Что там устроил Чарльз? – спрашивает король. – Надеюсь, он не слишком мягок. Ему следует хорошенько проучить этих скотов. Их женщины будут на коленях молить его о пощаде. Чарльз не вынесет женских слез. – Никто из нас не вынесет, – говорит он. Король смотрит на него неодобрительно. Невозможно подсчитать точное число королевских подданных. Лишь ангелам ведомо, скольких крестили, а скольких похоронили. У нас есть старые списки: сколько лучников и пикейщиков, пеших и конных может предоставить каждая местность. Сколько шлемов, кольчуг, копий, боевых топоров, бердышей и мечей. Кто из джентльменов поведет войско, ветераны или зеленые новички. Однако мы не можем заглянуть внутрь сердец, чтобы понять, кто нам верен. Враг не один, не в одном месте. Стоит срубить ему голову, и он, как гидра, отращивает другую. Бунтуют в Камберленде и Уэстморленде, вплоть до Дербишира на юге. В городах на севере Йоркшира собралось десятитысячное войско. Из Дарема выходят со знаменем святого Катберта, размахивая алыми и белыми шелками. В Камберленде четыре капитана идут в процессии следом за святыми реликвиями. У них есть трубачи, глашатаи выкрикивают их прозвища: Капитаны Сострадание и Милосердие, Нужда и Вера. Ему известны их подлинные имена: Роб Маунси и Том Бербек, Гильберт Уэлпдейл и Джон Бек. Капитан Сапожник, знаменитый изменник из Лута, – и впрямь сапожник, но, когда придет время, ответит за свои деяния под настоящим именем Николас Мелтон. А пока, опираясь на надежные и ненадежные источники, мы можем оценить численность мятежников на севере в пятьдесят тысяч. У короля нет армии, способной разбить, перехитрить или остановить такое войско. А значит, пришло время договариваться. Но король не захочет иметь дела с мятежниками. Ему не важно, справедливы ли их требования. Он говорит: я их государь, они не вправе выдвигать условия. У себя в Кеннингхолле герцог Норфолк рвет и мечет, распаляя себя, как сигнальный костер. Он пишет по нескольку писем в день. Герцог рвется в бой: отпустите его на север, он выступит сей же день, бога ради, его никто не удержит! Он готов служить под началом Брэндона, только отпустите. В Виндзоре молодые люди с усмешками передают друг другу его письма: все они слуги лорда Кромвеля, его discepoli[142], прибывшие с ним из Лондона. Провожают с ним день, пьют, едят, говорят о божественном и человеческом, пока не догорят свечи. Встречают день тоже с ним, рьяные, словно собачонки, что скребутся в вашу дверь с первыми солнечными лучами. Погода не благоприятствует охоте, поэтому дворцовые слуги не вскакивают задолго до шести утра, а встают как обычно, в одно и то же время, ибо, если король не болен и не охотится, каждое его утро расписано по минутам. Слуги будят личных пажей короля, которые убирают свои тюфяки, умываются, одеваются и вносят королевское исподнее. Именно они слышат первые слова Генриха после пробуждения, его первые молитвы и передают его первые указания, чтобы лорд Кромвель не терял времени даром. Однажды Генрих просит сонным голосом: – Позовите Норриса. Слуги ошалело переглядываются. Все они утратили дар речи. Король нетерпеливо отпихивает одеяло. – Сэр, – решается один из слуг, – Норриса нет в живых. Король зевает: – Что? Ноги короля касаются пола, и он тут же забывает сказанное со сна. Однако слуги выбегают из королевских покоев, лепеча: – Милорд Кромвель… – Вероятно, король толком не проснулся. Впрочем, если он снова позовет Норриса, сообщите мне. Мастер Ризли смеется: – Вы собираетесь вернуть ему Норриса? – Вы не умеете воскрешать мертвых, – говорит Рич. – Не умею? Я просто не пробовал. Он кивает пажам, те кланяются и спешат к Генриху с духами и льняными тряпицами. Им выпала честь натирать королевскую персону, пока кожа не станет нежной и розовой, затем откинуть крышки кедровых сундуков и вытащить рубахи, мягкие, как апрельский ветерок. Давно уже нет тех одеяний, которые Екатерина вышивала по белому черными испанскими стежками, – над нынешними львами и лавровыми венками трудились искусные руки наемных швей. За дверью, со списком в руках, мнется хранитель королевского гардероба. Паж вносит шкатулку с драгоценностями, чтобы король мог выбрать. Однако прежде Генрих усаживается на бархатный табурет, отдавая себя в руки брадобрея. Когда борода и волосы приведены в надлежащий вид, заходят королевские лекари, сбиваясь в черный клубок со своими тазиками и склянками для мочи. Они принюхиваются к королевскому дыханию, как его величеству спалось, какие его посещали сны? Бедный работник владеет своим сном и своим стулом, а мочу может продать сукновалу, в то время как королевские стул и моча – собственность всей Англии. И любая фантазия, потревожившая его в ночные часы, хранится в книге снов, которая пишется в облаках, что плывут над полями и лесами его королевства. Каждая похотливая мысль, каждое пробуждение в страхе. Если у короля запор, ему дают микстуру, если понос, содержимое ночного горшка уносят в тазике, накрытом вышитой тканью. О том, что у короля внутри, можно лишь гадать по тому, что выходит наружу: жаль, что он не стеклянный. Затем из комнаты в комнату передается сигнал, приносят кувшин с горячей водой, саржу и мягчайшую корпию: клацают в тазу ножницы, и самый ловкий паж очищает и заново перевязывает больную ногу. На глазах короля выступают слезы. Отвернувшись, он изучает шпалеру или потолок. «Все-все-все, сэр», – успокаивают его, будто ребенка. Король нетерпеливо вскакивает: Кромвель здесь, есть новости? В гардеробной становится на prie-Dieu, его капеллан ждет за решеткой. Король молится на латыни, кулаком бьет себя в грудь: голова опущена, ибо все мы грешники, мы грешим каждый миг. Почему, когда глаза увлажняются от боли, рот наполняет вкус слизи и крови? Почему слезы, даже когда их сморгнешь, щиплют глаза? С деревянным скрипом король встает, оставляя священника в личном облаке ладана. Как только Генрих уходит из внутренних покоев, прачка забирает вчерашние рубахи и окровавленные бинты, королевскую постель перестилают, простыни бросают на пол, бархатное покрывало встряхивают и складывают. Теперь спальню будут чистить и драить, чтобы ни пылинка не попалась на глаза королю, притаившись в перышках резного ангела, в гипсовых локонах дикаря или между пальцами ног мраморного божества. Как только король покидает внутренние покои и входит в личные апартаменты, его тело соединяется с государством: здесь его одевают, чтобы предъявить миру дородного свежевыбритого мужчину, пахнущего розовой водой. Когда повстанцы бесчинствуют на севере, члены бунтуют против главы, мятеж или гражданская война разражается в королевском теле. Лекарь останавливает его: – Лорд Кромвель, вы не могли бы повлиять на нашего государя, убедить его пораньше вставать из-за стола? – Только не я, – отвечает он. Когда мужчина перестает проводить много времени в седле, он толстеет. Да хоть на него посмотрите. На кардинальской службе он мог проскакать сорок миль сегодня, сорок завтра и еще сорок послезавтра: много лошадей и всего один Кромвель. Сегодня он избалован челядью, которую гоняет куда захочет. Мне пятьдесят, говорит он, и даже в тридцать я не отличался стройностью. В отличие от короля, он не считает, что его брюхо оскорбляет Господний замысел, не горюет о тех днях, когда совершал подвиги в седле. После мессы король сидит с Грегори и разбирает судейские листы старых турниров. Голова к голове, они беседуют тихо и увлеченно, разбирая пометы: рыцарские поединки записывают как музыку, гимны удали и страсти. – Видишь, где он промахнулся. – Палец Генриха тычет в черточку. – И не потому, что не хватило опыта, а потому, что метил в голову. – Это рискованно, сэр, – говорит его сын. – А здесь взял ниже и начал отыгрываться. Два попадания, на третьем сломал копье. Atteint, atteint[143] – и преломлено о тело. Турнир не его способ вести государственные дела. Противник не должен видеть, что ты приближаешься. И меньше всего тебе нужен шатер и флаг. Мастер Ризли жалуется, что королевское время переводится впустую: – Я вижу, ему нравится производить впечатление на малыша Грегори. Но у короля есть дела поважнее. Король откладывает записи: – Я мог бы зарабатывать себе на пропитание, разъезжая по Европе с турнира на турнир, если бы меня не звали дела правления. – Рука Генриха мнет плечи его сына. – Только посмотрите, какие мышцы отрастил этот юноша. – Король ерошит волосы Грегори. – Ежедневные упражнения, вот мой совет. Если не выходишь на ристалище, все равно носи доспехи хотя бы час. И скоро они станут не тяжелее шелкового джеркина. – Даже по воскресеньям, сэр? – спрашивает Грегори. – Спроси у отца, – подмигивает король. – Он у нас стоит над церковью. Известный нечестивец, подбивает счета в день субботний да знай щелкает счетами в свое удовольствие. Так почему бы тебе не заняться упражнениями? Носить доспехи – лучший способ сохранить стройность и силу. Внутренний жар сгоняет излишки веса, как жир топится на вертеле. Некоторые верят – вероятно, король принадлежит к их числу, – что здоровье страны зависит от здоровья ее правителя и его красоты. О простом человеке скажут, что его лицо уже ничего не спасет, но королю придется спасать лицо. Если он уродлив, таким же будет и его королевство. Болен король – больно королевство. Старики расскажут вам, как дед нынешнего короля Эдуард в зрелые годы размяк и не пропускал ни одной юбки, оделяя своим вниманием всех женщин при дворе моложе тридцати, замужних и девиц. Пока он валялся в кровати, лаская податливую женскую плоть, его братья строили против него козни, а когда один из них умер, второй продолжил плести интриги. Так выдающегося правителя, удачливого на поле боя, благословенного Господом, испортили леность и пренебрежение своим долгом. Ты или держишь руку на пульсе государства, или теребишь киску. Даже его сыновей выдернули из земли, словно стебельки, и их тела выбросили бог весть куда. Он говорит врачам: – Вы забываете, что король недавно женился. Если мужчина хочет произвести на свет сильное потомство, овощная диета ему не подходит. Это так, соглашаются врачи, но и наедаться, как в былые дни, когда король каждый день упражнялся, негоже. Иначе не миновать дисбаланса гуморов, застоя в органах, вялости пищеварения и ожирения печени.
Вечер: он сидит с королем в библиотеке. Книги стоят в огромных шкафах, переплетенные в вышитый бархат и надушенную кожу, с позолоченными королевскими гербами или эмблемами бывших владельцев. Когда наши предки под началом Славного Гарри разбили французов, мы морем перевезли сюда их манускрипты. То были зерцала для государей, книги об искусстве правления – написанные для того, чтобы их читали короли. – Славный Гарри был не просто воином, – говорит король. – Он брал с собой в поход арфу. Сочинял песни, но ни одна из них не сохранилась. В королевском молитвеннике изображен царь Давид, играющий на арфе. Переверни страницу: Давид изучает псалтирь – это миниатюрное издание тома, которым владеет король. Рыжая борода курчавится, плащ распахнут, царь Израиля спокойно сидит, держа в руке ту самую книгу, в которой изображен. – Не стесняйся, Грегори, – говорит король. – Ты любишь истории про Мерлина. У моего отца было много книг о нем. Выбирай и читай. – Вы не боитесь? – спрашивает Грегори. – Его пророчеств? – Нисколько, – отвечает король. – Мерлин убивает меня уже десять лет. Мои кости давно сгнили, голова покрылась язвами. А что до Лондонского моста, то я и не упомню, сколько раз он рушился, и самый замок, в котором мы сидим, смывало в море рекой. Теперь, когда я слышу его пророчества, я склонен сомневаться. – Колдуны такие же, как все остальные люди, – говорит Грегори. – Предложите Мерлину аббатство. Это не повредит. – Передайте канцлеру палаты приращений, – смеется король. – Мне хотелось бы видеть лицо Рича. Странно, что король не сжигает подобные книги. У Мерлина есть поклонники, что неудивительно. Он предсказал, что придет день, когда церкви сровняют с землей, а монахов заставят жениться. Когда немецкие язычники сядут за стол с королем, а знатных вельмож прогонят умирать с голода. Впрочем, Мерлин также пророчествовал, что воды реки Аск вскипят, медведи вылупятся из яиц, а земля будет так плодородна, что люди забросят пашни и будут любиться с утра до вечера. Ученый Джон Лиланд, королевский антиквар, ездит по монастырям в поисках книг для королевской библиотеки. Он сам, путешествуя по делам Вулси, спрашивал монахов про книги, но чаще всего натыкался на каменный взгляд: «Сэр, сожалею, но этот текст утрачен много лет назад». Или: «Ах, мастер Кромвель, боюсь, его давно пожрали черви». Он говорит: – Монахи боялись, что я заберу их книги для кардинала. – Кардинал был известным стяжателем, – говорит король. Он отводит глаза. Иногда король хвалит Вулси. Иногда нет. Генрих спрашивает: – Что случилось с магическими книгами кардинала? – Я их не помню, сэр. – Вероятно, их забрал милорд Норфолк, – говорит Грегори. – Он много всего забрал. Король спрашивает: – Это правда, что Вулси несколько лет служил дух Оберона? – Я не доверяю подобным историям, ваше величество. Их сочиняют, чтобы выманить деньги из наших карманов. – Я сам доверяю им лишь отчасти, – говорит Генрих. – Но Оберон очень силен. – Король замолкает, чешет ногу, встает. – Гулять. Их сопровождают мастер Ризли и Ричард Рич. Король не может разгуливать по дворцу в одиночку. Дежурные стражники выстраиваются в шеренгу вдоль его пути. Где королева? В своих покоях в окружении фрейлин. Впрочем, обида, нанесенная королю, прощена. – Она жалеет бедняков, – говорит король. – Женщинам свойственна жалость. За это я ее и полюбил. И она ненавидит любые разговоры о войне. Боится за меня. По большей части это из-за нее я не поехал на север. Он видит, как Ризли и Рич переглядываются. Рич говорит: – Ваше величество ведь никогда не были на севере? Тем более незачем сейчас ехать к неблагодарным, которые почитают своих леших больше, чем Господа. Король говорит: – Я правлю страной двадцать восемь лет, не давая себе и дня отдыха, и, казалось бы, вправе полагаться на своих вассалов. Из северных лордов я не доверяю лорду Дакру, и не только ему. Я считал, что могу положиться на лорда Дарси, однако даже он, говоря о своей верности, жалуется на грыжу и больные суставы. – Король смотрит вниз из окна на новую террасу. – Будем надеяться, он натрется целебными мазями и все-таки выступит, но теперь он говорит, что в Понтефракте не хватает солдат, пушек нет, прокормить всех он не в силах, а стены осыпаются. Зачем говорить мне это, если не из желания ослабить мой боевой дух? – Дождь стучит в оконное стекло. – А граф Дерби? Всем известно, что в его свите есть недовольные и они ненавидят вас, Кромвель, а кроме того, все Стенли перебежчики, вечно ждут, чья возьмет, и только потом вступают в бой. Теперь Генри Клиффорд… – Наша опора на границе, – вставляет Рич. Король хмурится: – Его арендаторы ропщут даже в тучные годы, подчинятся ли они ему сейчас? – Клиффорд человек жестокий, – говорит он. – Даже Норфолк так считает, однако на Клиффорда можно положиться. А еще лорд Тэлбот с его огромным войском… – Наш главный оплот, – замечает Рич. Наш? Король говорит: – Тэлбот тоже дряхлый старик, впрочем, он всегда был мне верен. – Умолкает, морщится. – Я разрешаю Норфолку отправиться на север. В семьдесят отец Норфолка рубил шотландцев при Флоддене. Нашему герцогу осталось семь лет, чтобы сравниться в славе с отцом. – Норфолк не посрамит вас на поле боя, – говорит он. – Он упивается битвой, даже если враги – простые крестьяне. Считает, мы слишком долго жили в мире. – Я скажу вам, что значит верность Говардов. – Генрих хромает и, чтобы отдышаться, опирается на лорда – хранителя малой печати. – Джон Говард, дед нынешнего герцога, заявил как-то, что готов защищать вязанку дров или каменный валун, если парламент провозгласит его королем. – Что свидетельствует о его уважении к парламенту, – бормочет Ричард Рич. – Но он сражался против моего отца! – Король оборачивается к Ричу. – Вы этого не понимаете, болван? Признавал королем Ричарда Плантагенета! Рич сжимается, словно в объятиях Скевингтоновой дочки, бормочет извинения, но он, лорд Кромвель, обрывает их. Молодые, а Рич достаточно молод, не понимают, что по сей день ничто в королевстве не ценится так, как поведение ваших предков при Босворте. – Тогда Говарды допустили серьезную ошибку, и она стоила им герцогства. – Мастер Ризли так спешит отойти подальше от провинившегося Рича, что встает по другую сторону от короля и чуть ли не цепляется за его рукав. – Нынешний Говард об этом помнит, – говорит он, – и не станет идти вам наперекор. – Но он пошел мне наперекор, – говорит Генрих. – Я чувствую, Рич, вы не сознаете, что такое король. Королем делает Бог, а не парламент, который провозглашает его титул, утверждает, – но где в Писании упомянут парламент? Contra[144], там множество указаний на обязанность подданных повиноваться государю и на то, что нет власти аще не от Бога. Если бы Паломники и впрямь держались истинной веры, как уверяют, они бы это знали. И, на коленях вымолив прощение, разошлись по домам. – И вы бы простили их, сэр? – спрашивает мастер Ризли. – Отойдите подальше, Зовите-меня! – рявкает король. – Не люблю, когда на меня напирают. У Ризли отвисает челюсть. Зовите-меня? Неужели шутливое прозвище вышло за пределы домашнего круга? Генрих рассержен, знаком велит им оставаться на месте и в одиночку хромает в сгущающиеся сумерки. – Я чувствую, у вас чесались руки взять бумагу и перо, – говорит он Ричу. – Однако, сказав раз, он повторит еще. Кое-чего король не произнес вслух, но наверняка подозревает: за знаменами Пяти Ран полощутся другие, невидимые знамена, вышитые эмблемами Куртенэ и Полей. Джентльмены из древних родов встали на сторону Тюдора, но за их словами и делами нужен глаз да глаз. Некоторые пленные мятежники не скрывают надежд, что папа пришлет им другого короля по имени Реджинальд Поль, который женится на принцессе Марии и отправит ее отца побираться. Паломники утверждают, что затеяли крестовый поход ради чистой и непорочной Девы. Однако, умышленно или нет, они служат гордыне Гертруды Куртенэ и Маргарет Поль – молодой женщины, которая хочет стать английской королевой, и старухи, которая уже воображает себя королевой. – Сэр, – Ричард Рич тянет его за рукав, – мне дали понять… то есть мне нужно… мне посоветовали поехать в Йорк, где я буду полезен и смогу себя показать… – Так не медлите. В Йорке спокойнее, чем здесь.
Середина октября. В Линкольне Ричард Кромвель стоит лагерем вместе с Фицуильямом и Фрэнсисом Брайаном. Его зовут на все советы, и за это нам следует благодарить Фицуильяма. Другие лорды предпочли бы держаться от него подальше, но Фицуильям твердо стоит за нас, пишет Ричард: никто при нем не смеет дурно отзываться о Кромвелях. Он пишет также, что Брайан надеется встретить Аска в бою: двое одноглазых потягаются за славу, как в старых преданиях. Ричард скучает по дому: «Утешьте мою бедную жену». Он думает, должен ли взять под свою крышу Франсис? Крыш у него хватает: жену Ричарда можно поселить в Степни или в Мортлейке. Если мятежники ворвутся в Лондон, первым делом они нападут на Остин-фрайарз. Бог знает, что они рассчитывают там найти. Груды сокровищ – конфискованные потиры, подмигивающие самоцветами. Бесценные реликвии вроде веток неопалимой купины или сундука с манной, упавшей с неба на израильтян в пустыне. Он пишет Ричарду собственной рукой: дома все здоровы, хоть и невеселы, мистрис Ричард ждет не дождется твоего возвращения, как и я, но королевская служба требует терпения. В часы отдыха в ожидании битвы не позволяй товарищам втянуть себя в игру на деньги. Если откажешься, они станут насмехаться над тобой, посмотрите на Кромвелева племянничка, в карманах у него пусто. Если поддашься, найдут способ объявить тебя мошенником. Мы разрешили Норфолку с сыном присоединиться к кампании, но, если столкнешься с молодым Сурреем, отойди в сторонку, иначе он постарается тебе навредить. Не слушай, что говорят обо мне. Когда все вокруг ходят с оружием, недолго поддаться на провокацию. Он заканчивает день, погребенный под горой депеш. Чем больше новостей, тем меньше он понимает. Сражайся Аск на вашей стороне, вы называли бы его хорошим военачальником и достойным человеком, поскольку он велит платить крестьянам за то, что забирают у них солдаты. Однако исполняют ли солдаты его приказ или творят что хотят? Джентльмены, верные королю, бегут с севера в Лондон; они рассказывают, как обстоят дела. Если Аск говорит, подождем – его сержанты велят выступать. Аск не велит звонить в колокола – солдаты звонят. Не зажигайте сигнальных огней – зажигают. Родные братья его оставили, предпочтя отсидеться в укромном месте. И все равно говорят, что его приход был предсказан в пророчестве. Север долго ждал своего одноглазого мессию. Где он потерял глаз? Никто не ведает. Генрих спрашивает: – Почему эти мятежники кричат о подлой крови? Всегда были люди, вырастающие словно грибы после дождя. И мой отец, и мой дед говорили, что незнатный человек иногда полезнее герцога. У человека скромного рождения нет собственныхинтересов – только желание служить господину, которому он обязан всем. Он говорит: – Будь здесь милорд Норфолк, он сказал бы вашему величеству, что у людей без родословной нет и чести. Они без колебаний пойдут на все. – Однако они думают о спасении, – говорит король. – Так что не на все. Вы знали Реджинальда Брея? Он взялся из ниоткуда. Школа классической грамматики в Вустере, если я не путаю. Однако он был мудрым и опытным советником моего отца. Великие лорды добивались его расположения, потому что боялись тех слов, которые он мог нашептать в ухо королю. Брея нет в живых уже добрых лет тридцать, если не больше, как он может его знать? Но расчеты правителей выходят за положенный смертным срок. Он говорит: – Я знаю, где его могила, сэр. Брей похоронен в Виндзоре, в часовне Святого Георгия, построенной на его щедрые пожертвования. (Впрочем, там же похоронен и Джон Шорн, священник, загнавший дьявола в башмак.) Он видел эмблему Брея высоко на алтаре, его ребус в камне и стекле. Нужно найти эмблему на полу и преклонить на ней колени, думает он. Брей отвечал за королевскую казну и себя не забыл – сумел сколотить состояние. Генрих говорит: – Трудящийся достоин награды. Брей сражался с корнуольскими мятежниками и достойно себя показал. Для писаря, думает он. Предлагает ли ему король отложить перо и взяться за меч? Несмотря на все, что было сказано до того. – Вы помните корнуольцев, – говорит Генрих. Он кивает: – Я был ребенком. – Отец спрятал нас в Тауэре. Он был уверен, что крепость устоит, даже если город разграбят. Не только северяне ненавидят налоги. На окраинах Англию не воспринимают единой страной, за охрану границ которой мы все обязаны платить. Когда корнуольцы восстали, они говорили, что не будут платить за защиту севера от набегов шотландцев, которых в глаза не видели. Их предводителями были адвокат Томас Фламанк и кузнец Ан Гоф, что и означает «кузнец». Они прокатились по стране до самого Лондона, собирая союзников, а впереди шел великан по имени Болстер. А может, не впереди, а охранял тылы, ибо никто его не видел: он был либо дальше, либо где-то сзади. В доме Уильямсов в Мортлейке, где он за еду исполнял мелкие поручения, великанов презирали и с хохотом рассказывали про одного из корнуольских приятелей Болстера. Одинокий грустный великан по воскресеньям метал кольца на колышки вместе со своим единственным другом, шустрым малым по имени Джек. Как-то великан хлопнул Джека по макушке и проткнул тому череп, словно корочку от пирога. От плача великана содрогнулся небосвод, а мозги Джека тем временем стекали по щекам, как подливка. Он сказал сестре Бет: – Великаны происходят от Каина, который убил своего брата. До Потопа их было великое множество, но все утонули. Они были высокими, но не настолько, чтобы держать голову над водой. Бет промолчала. – Троянец Брут сразился с выжившими и всех их перебил. Это был могучий воин, который придумал Лондон. Бет снова промолчала. – Болстер? Неужели его и вправду так зовут? Смешное имя. – И ты готов повторить ему это в лицо? – спросила Бет. Чем дольше Болстер оставался невидимым, тем больше страху наводил. Ростом он был десяти или двенадцати футов, с ручищами словно крылья ветряной мельницы и ножищами в кованых башмаках, которыми мог расплющить голову, словно виноградину. Их дома в Патни стояли на пути мятежников, и он, мальчишка двенадцати-тринадцати лет, готовился поколотить колени великана. В это беспокойное время Уолтер неплохо заработал на починке и перепродаже приятелям видавших виды доспехов. Сам он говорил, что не боится корнуольцев, потому что знает, как они варят эль. Двадцать четыре часа кряду, на каждом привале. Потом хлещут его ведрами, шипящий, светло-коричневый, валящий с ног, как никакой другой напиток. А наутро не могут проблеваться. У Блэкхита армия короля разбила мятежников. В тот день многих посвятили в рыцари на поле боя. Ан Гофа и адвоката повесили и четвертовали, а окровавленные части тел выставили напоказ у них на родине. Однако Болстера не повесили. На свете не нашлось бы такой виселицы. Он затерялся в большом мире. Возможно, затаился на морском дне, дышит через жабры, словно рыба, пока не всплывет на поверхность и не начнет все сначала. Великан не привык бездействовать. Как и лорд – хранитель печати. В эту пору, когда облетают последние листья и ударяют первые морозы, постоянная тревога и невозможность самому ничего изменить заставляют его вспоминать раннее детство, когда никакого Болстера не было в помине. До того, как он поставил ногу на ступень лестницы, ведущей вверх, до того, как узнал, что есть такая лестница. Дни, когда другие распоряжались его судьбой, до того, как он узнал, что существует судьба. Когда он думал, что в мире есть только кузница, пивоварня, причалы, река, и даже Лондон казался ему далеким, хотя, честно говоря, тогда он еще понятия не имел о расстояниях. Когда ему еще не было семи и отец с дядей все за него решили, не дав ему вставить слова.
Дядя Джон сказал: – Вот что я тебе скажу, братец. Томас тебе пока без пользы, только под ногами вертится. Чего б тебе не отдать его мне в учение? Они на пороге пивоварни, окутанные запахами. Он подходит к Джону сбоку. Отец возится внутри, в полутьме, ворочает какие-то ящики. Что-то ищет. Интересно что? – Так и будешь торчать на пороге, братец? – спрашивает Уолтер. – Пока я тут спину надрываю. Джон говорит: – Сделай милость, выслушай меня. Уолтер опускает ящик на пол: – Чего надо? – Отпусти Тома со мной в Ламбет. Тамошний эконом мой старый приятель. – Хочешь сделать из него повара? В моем семействе не будет тупорылых и широкомордых. – Это его ни к чему не обязывает, – говорит Джон. – Вреда от этого никакого. – Надеюсь, он принесет мне кружку поссета в старости. Потушит курочку. Ладно. – Уолтер смеется, уверенный, что никогда не постареет. Думает, всегда будет зубатым. – Слушайся дядю, Том, иначе тебя запекут в пироге. – Но сначала покрошат, – добавляет Джон и, скрепляя сделку, хлопает его по затылку. Уже тогда в нем было что-то твердое – все так и норовили отвесить ему оплеуху или подзатыльник. Возможно, людям нравился звук. Впрочем, на пути от дома Джон говорит: – Тебе нужно ремесло, Том. Ты же не хочешь стать похожим на отца, который только и умеет, что наживать неприятности. Он говорит: – У него под кроватью сундук с тремя замками. – Не сомневаюсь, сундук набит золотом, – говорит Джон. – Знать не хочу, откуда он его взял. Да вот только за пределами прихода что с ним будет? В Патни все знают, что с ним лучше не связываться. А попробуй он выйти отсюда без своих закадычных дружков, никто его не испугается. Надо же. Впервые он видит Уолтера глазами равнодушного чужака: небритый приземистый крепыш. Похабник и буян, ищущий случая подраться. И долго искать не приходится. Потому что весь мир против Уолтера: всяк норовит сделать ему пакость, стянуть его добро. Опереди их, укради сам – вот его девиз, и вот как он преуспевает. Шлепает по жизни на звук чужих страданий: вынюхивает слабых и сбитых с толку, чтобы сделать им еще хуже. Он говорит Джону: – В Мортлейке все знают моего отца. В Уимблдоне. Когда он помрет, мне достанется кузница. – А с чего бы Уолтеру помирать? – спрашивает дядя. – Если только его не повесят. Будешь горбатиться на него до тридцати. Я не могу научить тебя его ремеслу, но могу научить своему. Ремесло за плечами не висит. Даже в заморских странах повар всегда пригодится. – Я не знаю заморских блюд. – Научишься смешивать соусы, тебе везде будут рады, – фыркает Джон. – Хотел бы я посмотреть, как Уолтер приготовит сливочный соус. Да тот свернется от одного его взгляда! Он думает, дядя завидует. Мой отец признанный боец, а он только и умеет, что возиться с мукой. Однако вслух говорит, дядюшка, я хочу обучиться твоему ремеслу, когда начнем?
Середина месяца: лорд Клиффорд осажден в Карлайле. Герцог Норфолк в Ампхилле, с ним Генри Куртенэ, маркиз Эксетерский. С маркизом (о чем тот не подозревает) человек, приставленный лордом Кромвелем. Норфолк получил что хотел – войско за спиной, королевский приказ в седельной суме – и все равно продолжает брюзжать в каждом письме. Письма открывает мастер Ризли и пересказывает их содержание королю. Мятежники движутся на Йорк, мэр считает, что город расколот и не выстоит. По слухам, архиепископ Йоркский уже сбежал. Роберт Аск призвал мятежников с севера Йоркшира. Они обещают восстановить монастыри там, куда доберутся. А я вам говорил, восклицает мастер Ризли. Я говорил, когда монахи уйдут, монастыри надо сровнять с землей. Он, Томас Кромвель, перемещается между Виндзором и Лондоном, туда-сюда, по реке или дороге, исполняя приказы короля. Плохо спит, мало ест – с тем же успехом он мог бы жить с войском в чистом поле. Даже в пути он ощущает себя в замке, запертым в королевских часах и днях. Король недоволен, когда его нет, – он все еще государственный секретарь, и все делается через него. Однако в первую очередь королю нужны монеты. Блюдами и потирами придется пожертвовать, тяжелые золотые цепи больше не вернутся в хранилище. Он, Кромвель, никогда не считал, что металл должен тускнеть или гнуть шеи вельмож, напротив, назначение золота – обращаться и приумножаться. Впрочем, говорит он Зовите-меня, этой осенью я бы не отказался от знакомства с толковым алхимиком или принцессой, умеющей прясть золотую нить из соломы. В Виндзоре город подступает к замковым стенам, и там, где при короле Эдуарде были торговые ряды, теперь теснятся к замковому рву убогие жилища, похожие на гномьи норы. Улицы кишат торговцами, ищущими, что продать двору, ибо в пределах замка нет ни огородов, ни домашней скотины, ни даже пруда с карпами. Повозки с грохотом вползают на холм по мощеной дороге и въезжают в громадные ворота, так что благородные господа должны прижиматься к домам, пропуская возчиков. Он слышал, что в городских церквях проповедники возносят Паломникам хвалу. Он платит мальчишкам, которых сам выбрал, чтобы слушали, о чем болтают в торговых рядах, просачивались в таверны, толкались среди клиентов портовых шлюх. А после шли к священнику, проверяли, какую исповедь тот хочет услышать, а после спрашивали напрямик: эти мятежники святые? Должны ли мы пополнить их ряды, святой отец? Намерзнув и вымокнув в пути, он просыпается разбитым. Сны его тягостны: он видит себя на пристани, другой берег реки теряется из виду. Река набухает, серая масса воды растекается вширь, полированное олово отражает серебро небес: берега не видать, потому что берега нет, потому что вода стала вечностью, потому что его плоть растворилась в ней, потому что все его истории смешались, все воспоминания стали одним.
Дядя Джон говорит, запомни, юный Томас, если задумал учиться, нечего шататься вверх и вниз по реке – ты должен всегда быть под рукой. Потому что, если к архиепископу Мортону – ныне кардиналу Мортону – прибудут гости из Рима, они не насытятся тарелкой дробленого гороха, им подавай язычки певчих птиц, сбрызнутые медом. И мы не можем сказать им, монсеньоры, к сожалению, мальчишка, который ловит жаворонков, сбежал домой в Патни, потому что его отец сегодня участвует в состязании, кто кого запинает, а сын держит его рубаху и принимает ставки. Оставить Патни нелегко. Его тянуло назад, ему свистнуть – и вот он, легок на помине. Шайка воров, задумав ограбление, позвала его влезть в дом через окно и открыть дверь изнутри. – Нет, – ответил он. – Почему? – удивился вор. – Боюсь Господней кары. – Боялся бы ты лучше моего кулака, – сказал предводитель шайки, предъявляя кулак. И потом, сказали они, с чего ты взял, что Господу есть до тебя дело? Не все ли Ему равно, если ты влезешь в окно Милдред Дайер, богатой вдовы, у которой всей защиты – комнатная собачка, и эту шавку мы запросто отпихнем или сломаем ей шею? Он подумал, Богу есть дело до малых птиц. Запомнил наизусть эту строчку из проповеди. Господу есть дело до Милдред Дайер. Господу есть дело до ее собачки Пиппина. Он сказал: – Я вас презираю. Вы даже лужу не перепрыгните, не надравшись для храбрости, и когда-нибудь вас повесят, а мои друзья будут смотреть и хохотать, глядя, как вы болтаете ногами. Тогда предводитель пустил в ход кулак: прижал его к стене и лупил по голове. – Угомонись, Эдвин, он того не стоит! Он не помнил боли, может, потому, что ее не чувствовал. Зато помнил, как воняло изо рта обидчика. – Кто это сделал? – спросил Уолтер, когда он пришел домой побитый, а выслушав его историю, заметил: – Силы небесные! В следующий раз, когда тебя позовут на дело, откажись как положено. Скажи, что занят, – это простая вежливость. Подрастая, он становился осмотрительнее. До определенной степени. Грешил, грешил тяжко, но знал, когда грешить. Он видел, как насиловали женщину, но не вмешался. Видел, как выдавили глаза одному малому, видевшему то, чего видеть не следовало: Исусе, не проще ли было отрезать ему язык? Однажды он спросил Уолтера по поводу особо мерзкой затеи, в которой не желал участвовать: – Отец, ты отличаешь добро от зла? Лицо Уолтера потемнело. Впрочем, ответил он довольно мягко, учитывая обстоятельства: – Сынок, вот что я отличаю: добро – это когда ты схватил свое и был таков, а зло, когда тебе успели навалять. Чему и тебя вскоре научит жизнь, если не желаешь учиться на примере отца. Покуда он посасывал костяшки пальцев, вор Эдвин сказал: – Это тебе подарочек от меня, малый. Можешь приходить за наукой: ради тебя дьявол не станет марать лапы.
Шестнадцатого октября мятежники берут Йорк – второй город в королевстве. Англия рушится, словно соломенная хижина. Когда доставляют новости, он в Лондоне, пытается наскрести десять тысяч фунтов для Норфолка – заплатить солдатам. От Ризли приходит весть: король хочет его видеть как можно скорее. Еще одна записка, и еще одна… Когда он прибывает в Виндзор, его обступают угрюмые советники. Король молится. У себя? Нет, сегодня он взывает к Господу из величественной часовни Святого Георгия. Епископ Сэмпсон говорит: – Кромвель, он ждет вас. – Но вы ему сказали? Что Йорк взят? – Только сейчас до него доходит, что они могли оставить эту новость ему. Но нет, королю сообщил Рейф, который сейчас с ним. Оксфорд говорит: – Вряд ли король очень сильно винит вас, милорд. За то, что Йорк пал? Он-то здесь при чем? Но кто-то же должен быть виноват… Лорд Одли говорит: – В последние недели даже Вулси едва ли сумел бы изменить направление ветра. Вы уверены? Вулси не сбежал бы из Йорка, как нынешний архиепископ. Он говорит: – Ни один мятежник не посмел бы высунуть носа на расстоянии в сто миль от милорда кардинала. А если бы посмел, получил бы достойный отпор. Теперь в часовню. Он проталкивается среди советников: – Идемте, Зовите-меня. Шагая за ним, Ризли спрашивает: – Смерть сделала кардинала неуязвимым, сэр? – Похоже на то. Впрочем, больше Вулси с ним не беседует. С самого возвращения из Шефтсбери он лишен компании и совета. Кардинал перепрыгивает с облачка на облачко, там, где мертвые праведники хихикают над нашими просчетами. Умершие увеличиваются в наших глазах, мы же, напротив, кажемся им муравьями. Они смотрят из тумана, словно мистические звери со шпилей, реют над нами, словно флаги.
Король в часовне, высоко над скамьями рыцарей Подвязки. Он поднимается по узкой винтовой лестнице, и его сердце сжимается. Он знает, что отсюда король смотрит на своих предшественников, на убитого короля Генриха – шестого из носивших это имя – в его гробнице. Он ныряет под низкую притолоку. Король стоит на коленях, спина прямая, и, очевидно, молится. Сзади, насколько возможно далеко, преклонил колени Рейф. На лице просительное выражение; когда он, лорд Кромвель, проходит мимо, Рейф надвигает шляпу на глаза. На полу подушка, все лучше, чем голые доски. Некоторое время он молча стоит на коленях за спиной своего монарха. Во Флоренции, вспоминает он, я играл в кальчо – многолюдную игру, больше похожую на рукопашную. Юноши из хороших семейств выставляли два-три десятка самых дюжих слуг. Его, бешеного англичанина, извиняло лишь то, что, плохо зная тосканский, он не понимал правил. Он слышит королевское дыхание, король вздыхает. Генрих знает, что он здесь, его выдает дрогнувшая мышца на загривке. Спустя десять минут ты в крови, мяч в соплях и песке, ты задыхаешься, ноги дрожат, ступни превратились в клей, кто-то выдрал из твоей головы клок волос, но, если ты схватил мяч, остальное не важно. Ты бросаешься вперед, прижимая мяч к себе, гул одобрения с крыш, но ты не успеваешь пробежать и десяти шагов, как тебя подрезает такой же вопящий безумец. Генрих кладет руку на темя, словно прихлопывает комара. Его священная голова полуоборачивается, взгляд настороженный. – Сухарь? Звучит как начало молитвы, хотя вряд ли из этой молитвы выйдет прок. Он ждет. Король глубоко вздыхает. Стонет. Матерь Божья, как все болит после игры, но на поле не чувствуешь ничего. Генрих крестится и пытается встать. Интересно, примет протянутую руку или укусит? – Йорк? Как Йорк мог пасть? – Когда король обращает к нему лицо, в глазах отчаяние. Словно кто-то разрубил его пополам и в расщелине обнажился мозг. Рейф в полумраке встает с колен. Он хватает подушку с пола, на ней золотом вышито на темно-красном: «ГА-ГА». Henricus Rex. Anna Regina[145]. Рейф выдергивает у него подушку, словно горячий пирожок. Будь мы во Флоренции, я пинком зашвырнул бы эту подушку выше Санта-Кроче, словно мяч. Вместе с памятью о ней. Король говорит: – Сегодня я обедаю в главной зале. – Ваше величество. – Я должен предстать во всей… – король запинается, – во всей красе, понимаете? Где «Зеркало Неаполя»? – В Уайтхолле, сэр. Он думает, Генрих скажет, вызовите стражников и доставьте сюда. Короля не волнует погода и расстояния. Он хочет блистать перед своими подданными в огромной жемчужине и алмазе из сокровищницы Франции. – В Уайтхолле? – переспрашивает Генрих. – Ладно, не важно. – Кажется, ему достаточно вспомнить об этой драгоценности, чтобы ощутить подъем. Когда французский король просит вернуть алмаз, Генрих всегда отвечает: «Передайте Франциску, что мои притязания на Францию сильнее его. Однажды я потребую больше, чем драгоценности». – Пусть играют трубы. – Голос Генриха теряется в пространстве часовни. – Рейф, где вы прячетесь? Мой долг и моя любовь отданы королеве. Если она наденет рукава с моей монограммой, которые Ибгрейв прислал в июне, я буду в парном дублете. Внизу под ними – в зеркале времени – рыцари ордена Подвязки рыдают на своих скамьях, их черепа громыхают в украшенных перьями шлемах. Однако король расправляет плечи, задирает подбородок. Позже Рейф скажет: «Достойно восхищения, как он принял весть о падении Йорка. Можно подумать, получил тысячу фунтов, а не зуботычину».
Его одолевают посланцы, и он вынужден просить Рейфа шепнуть королю на ухо, что обед он пропустит. Говорят, мэр Йорка вывез городскую казну, но сумеет ли он ее сохранить? Теперь Паломники станут грабить богатых горожан. В Йорке сорок приходских церквей и дюжина больших монастырей, не тронутых палатой приращений. Он давно знал, что это место кишит папистами, но где был бы ваш Йорк и другие большие города, чье богатство основано на торговле шерстью, если бы он не умасливал императора, уговаривая не закрывать порты, и не защищал вас перед Ганзейским союзом? Если он встретит Аска, обязательно спросит, неужто в интересах севера грозить тому, кто несет вам благосостояние? Он говорит Рейфу: – Хорошо, что шотландский король во Франции. Иначе он непременно вмешался бы. Из Парижа доносят, что Яков еще не женился, но делает много покупок. Рейф говорит: – Яков оставил вместо себя королевский совет. Наверняка они обдумывают такую возможность. Не знаю, отважатся ли объявить нам войну. Им не нужно ничего объявлять. В кальчо никто не объявляет войну. Однако потери неминуемы: поле, усеянное зубами и (он про такое слышал) глазами. Никто никого не хочет зарезать, но порой игрокам случается напороться на чужой нож.
Письма дописаны. Он присыпает бумагу песком. На сегодня довольно. – Я голоден, Зовите-меня. Возможно, еще не поздно присоединиться к нашему государю. В углу главной залы, где слуги бахвалятся друг перед другом, он видит Кристофа, который усердно мелет языком. Якобы его хозяин был в Константинополе, где давал советы султану. В его дворце, спрятанном в извилистых переулках столицы, надушенные опахала разгоняли воздух, а пышнотелые одалиски возлежали на оттоманках в чем мать родила, не утруждаясь никакой работой, а лишь наматывая локон на пальчик в ожидании, когда Мустафа Кромвель явится домой потребовать свой шербет и своих девственниц. В Виндзоре за окнами тусклый свет, а вокруг короля его ближайшие советники в мехах: лорд-канцлер Одли, Джон де Вер, граф Оксфордский, епископ-другой. По правую руку королевы леди Мария. На него не смотрит, только слегка поджала губы. По другую руку королевы сидит маркиза Эксетерская Гертруда Куртенэ. В ее обязанности входит подавать королеве чашу для омовения рук, буде таковая понадобится, а леди Мария должна держать салфетку. Оглядев залу в поисках свиты Гертруды, он ловит взгляд Бесс Даррелл. Он подходит к королю. Вместо «Зеркала Неаполя» на шее Генриха алмаз грубой огранки размером с крупный грецкий орех. На дублете темно-алого атласа – инициал королевы в золоте и жемчугах. Рукава Джейн, такого же цвета, сверху донизу расшиты инициалом Генриха: «Г. Г.», снова «Г». Не глядя на него, Генрих протягивает руку за депешами. Король поглощен невероятной историей, которую – кровь Христова, а этот откуда взялся? – с присущей ему развязностью излагает мастер Секстон, шут. – Я думал, вы запретили ему бывать при дворе. Генрих настороженно улыбается: – На самом деле я надрал ему уши. Но бедняге больше нечем зарабатывать на хлеб. Уилл Сомер болен, у него колика. Я посоветовал ему масло горького миндаля. Вроде бы итальянское снадобье? Секстон гарцует по полу, напевая:
При свечах Бесс Даррелл словно невесомый дух. Мысленно он расставляет ей платье, чтобы поместить в утробу ребенка, которого никогда не было. – Милорд хранитель печати, – приветствует она его. – Ночной порой крадется мимо дамских опочивален. – Смотрите на меня как на государственного секретаря. В этом качестве для меня нет запретных мест. Она смеется: – Итак, ваш друг при дворе. – Она говорит о Марии. – Опасно иметь таких друзей. – В каком смысле? Он притворяется недалеким, хочет услышать последние сплетни. – Она считает, что однажды вы сделаете ее королевой. Что вы заключили соглашение. Разумеется, не на бумаге. Едва ли это можно назвать соглашением, невозмутимо замечает он, но Бесс возражает: – Не отмахивайтесь от подобных слухов. Они принесут вам уважение в глазах Полей и Куртенэ, а оно вам когда-нибудь пригодится. – Они решили, что Тюдорам пришел конец? Говорили об этом? – При мне никогда. Однако моя хозяйка Гертруда надеется, что король уступит советам и передаст управление в руки честных людей. Если бы оскорбление лорда Кромвеля считалось изменой, вы могли бы повесить ее завтра. – Я мог бы перевешать половину знати. Хорошо, что ваша маркиза при дворе, под нашим присмотром. Хотя я предпочел бы кого-нибудь поприятнее. – Кого же? – поддразнивает она. – Мег Дуглас? – Разумеется. Мне так нравится Мег, что я предпочитаю держать ее под замком. Но скажите, Мария секретничает с вашей хозяйкой? – Мария ни с кем ни о чем не разговаривает. Выжидает. На очаровательном личике Бесс написан интерес, глаза горят. Ждет, что он заговорит о правах Марии и погубит себя? Он не исключает, что эта молодая женщина ведет двойную игру. Он отворачивается: – Куртенэ вас не обижают? Не попрекают Уайеттом? Она кладет ладонь на живот: – Нет никаких доказательств, что он здесь был. Куртенэ не упоминают его имени. Он думает, куда им, разве они могут вообразить себе Уайетта? Бесс говорит: – При дворе ходят стихи, способные его погубить. Потому что весной он был с вами, а не с Болейнами.
На Марии отороченный мехом халат из темно-красной парчи. – Надеюсь, вас держат в тепле, – говорит он. – И хорошо кормят. Он велел слугам искоренить сквозняки и не жалеть дров: хлеб, вино и вареное мясо приносят Марии каждый день на рассвете. Она говорит: – Теперь мне не нужен сытный завтрак. Если помните, я не могла обедать вместе со всеми в большой зале и сидеть ниже маленькой Элизы. В те дни, когда я была лишена титула, а Элизу называли принцессой. Она не предлагает ему сесть, да он и не собирался. Он говорит: – Мы так долго трудились вместе, что я успел забыть некоторые из наших проказ. Я должен спросить, миледи, никто не пытался склонить вас на сторону мятежников? – Мятежники могут выступать с моим именем на устах, но я им позволения не давала. Что означает, да, пытались. И когда он подается вперед – он, лорд Кромвель, – она не двигается с места, только рывком соединяет полы халата, пряча белизну ночной рубахи, и тут же убирает руку, словно поняв, как нелепо выглядит ее жест. Он так близко, что может коснуться ее халата, но, разумеется, этого не делает. – Вижу, вам с королевой пришелся по душе этот темно-красный. Он из Генуи? – Да. Королева послала своего брата Эдварда в Хансдон привезти мои платья. Я сказала, что благодаря щедрости моего отца у меня хватает платьев, но он умолял сказать, чего бы мне хотелось. Эдвард Сеймур – истинный джентльмен. Какая жалость, что он еретик. – Эдварда, как и всех нас, направляет король. Господи помилуй, думает он, она изнемогает. Жаждет прикосновения, но ее положение не позволяет ей поддаться слабости. Она говорит: – Я слышала, совет обсуждал мое замужество. C молодым герцогом Орлеанским. – Его обсуждают французы – вряд ли этим занят совет. Французы не примут Марию, если Генрих не сделает ее наследницей. Чего, разумеется, король делать не намерен. Однако, если компромисс будет достигнут, брак с французом навсегда отдалит ее от императора и испанцев. Поэтому мы договариваемся. Он говорит: – Полагаю, вам хотелось бы жениха-испанца. Она медлит с ответом. – Отец так добр, что никогда не выдаст меня замуж против моей воли. Отвечай на вопрос, думает он. Она, словно невзначай, оборачивается к нему спиной. – Ваша забота обо мне была поистине отеческой. Он видит ее лицо в зеркале, но она этого не замечает. Кто-то убедил ее, что мы связаны, пусть только молвой. Она меня предостерегает. Что ж, думает он, а я предостерегаю ее. – А вам не хотелось бы выйти за англичанина? – За кого? – выпаливает она. Она смотрит на него сквозь зеркало. У нее перехватило дыхание. Вот пусть и не дышит некоторое время.
Нет ничего хуже, чем беспокойный ужин. Он слышит, как дождь стучит по свинцу. «Другие ж вымокли насквозь…» Еда камнем лежит в желудке, он идет к письменному столу – прибыли свежие новости из Йоркшира, – но обнаруживает, что думает о своей роскошной кровати. Король пожаловал ему пурпурные покрывала и занавески с серебряным шитьем, украшенные королевским гербом. Словно любовник, Генрих говорит ему: ты мой, бодрствуешь ты или спишь. На эти деньги можно содержать кавалерийский отряд, но Генриху нравится думать, что он достоин королевского дара. Он зажигает вторую свечу и зовет Кристофа развести огонь в камине. Он уже использовал свою долю дров и угля, выделяемую всем придворным, но плевать на расход, скажи им, что это для меня, а кто будет против, можешь с ними не церемониться. Кристоф ухмыляется. Прислать Рейфа, чтобы с вами поговорил? Или хотите, чтобы вам спели? Он отвечает, нет, нет, нет, дела не ждут, но затем кладет голову на руки и, кажется, клюет носом. Он не здесь и не там: только что его освещал неверный отсвет камина, и вот солнечные лучи заливают Темзу у Ламбета, сорок лет назад, но что такое сорок лет в жизни реки?
Я отложил для тебя, говорит дядя Джон. Есть надо теплым. Слишком горячее или слишком холодное – и ты не почувствуешь истинного вкуса. Повар должен учиться. Нельзя вечно учиться на объедках. На белой тарелке ароматный заварной крем. Он уже видел крыжовник, маленькие пузырьки зеленого стекла, кислые, как монах в постный день. Нужны свежие яйца и кувшин сливок, и только князь церкви может позволить себе сахар. Дядя стоит над ним. Крем колышется, сладкий и пряный. – Мускатный орех, – говорит он. – Мускатный цвет. Душистый тмин. – А теперь попробуй. – И розовая вода. Улыбка Джона как благословение. – На свете нет ничего зеленее английского лета, Томас. О нем англичане тоскуют на чужбине. И видят такую миску во сне. На шелковом пути; в опаленных зноем степях, где за три дня не сыщешь ни источника, ни ручейка; в укрепленных городах варваров, где яичницу можно жарить на раскаленных солнцем камнях; во дворцах на краю карты, где линии расплываются, а бумага махрится. Клянусь Матерью Божьей, восклицает путешественник, клянусь девственностью святой Агаты, хотел бы я оказаться в Ламбете с тарелкой крыжовенного крема и ложкой! Он трясет головой. Крему кое-чего недостает… Он представляет себя спустя сорок лет на месте, где стоит Джон. Он главный повар, облачен в бархат и даже не подойдет к мешку с мукой или раскаленному маслу. В руке бумаги, он раздает указания, и под его присмотром мальчишка, очень похожий на него, стряхивает миндальные лепестки в латунную сковороду, чтобы затем посыпать ими крем. Потом можно сбрызнуть его парой капель ликера из цветов бузины. У мальчишки, как у него, кудрявая голова, ободранные костяшки, ноги мерзнут на каменных плитах пола. На нем залатанный джеркин невнятного цвета. Под джеркином отпечатки отцовских пальцев: синяки меняют цвет от темно-фиолетовых осенних ягод бузины до ее бледных желтоватых цветков. Все его тело пестрит синяками. Уолтер такой, говорит Джон, не может не драться. Весь в нашего папашу, упокой его Господи. Если встать утром в конце июня, когда солнце высушит росу, можно сорвать лучшие соцветия бузины с верхних веток, орудуя палкой с крючком, или позвать знакомого великана. Дома высыпаешь их горстями на выскобленный стол. Вдыхая медовый аромат, перебираешь кончиками пальцев, выискивая самые красивые кисти. Мажешь каждый лепесток яичным белком. Если затем обмакнуть цветки в сахар, который у слуги богатого господина всегда под рукой, можешь хранить их до следующего года. И тогда безрадостным ноябрьским днем, когда кажется, что лето не вернется никогда, укрась торт засахаренными лепестками, пятиконечными звездочками – верный способ заставить вспыхнуть глаза леди или возбудить пресыщенное королевское нёбо.
Девятнадцатого октября мятежникам сдается Гулль. В Донкастере мэра и видных горожан насильно приводят к присяге. В виндзорской часовне мертвые рыцари на скамьях ордена Подвязки съеживаются от стыда в приступе колики, которую не излечить никаким миндальным маслом: внутри шлемов стонут графы Ланкастерские и графы Марки, Богуны и Бошаны, Моубреи и де Веры, Невиллы и Перси, Клиффорды и Тэлботы, Фицаланы и Говарды, и сам великий слуга государства Реджинальд Брей. Мертвых больше, чем живых, почему они не могут сражаться? Когда опускается вечер, сизый свет растворяется в северных окнах, реку втягивает в темноту, словно во всемирный океан. Южные окна закрыты ставнями, дворы опустели, стража сменяется у подножия лестницы. Вносят свечи; отражаясь в зеркалах, канделябры дробят мерцающий свет. Внутренние покои короля сияют, словно шкатулка с драгоценностями. Король говорит: – Я помню, как умер мой отец… Епископ Фокс подошел ко мне на вечерней службе: «Король, ваш отец, скончался. Боже, храни ваше величество». Я спросил, когда отлетела его душа? Фокс не ответил. Я догадался, что отец лежит неприбранный, остывая в смертном поту, пока его советники беспрепятственно строят козни. Еще два дня министры делали вид, будто он жив. И были правы, думает он. Готовились к плавному вступлению на престол нового короля. – Подумайте, как им пришлось притворяться, – говорит король, – расхаживая по Гринвичу с каменными лицами. – Я бы так не смог, я человек прямой, чуждый притворства. Видите, милорд, даже готовясь передать мне власть, мои советники уже лгали мне. Как только вы становитесь королем, больше никто не говорит вам правды. – Я мог бы… – Вы могли бы смягчить правду. Сказать то, что, по вашему разумению, я способен вынести. Хотя я не скажу: «Милорд, я хочу знать неприкрытую правду». Такого я не потребую. Как любому человеку, мне свойственно тщеславие. Он боится, что Грегори прыснет со смеху. Генрих говорит: – Мне оставалось два месяца до восемнадцати, поэтому мою бабку назначили регентшей. Но уже в день середины лета нас с Екатериной короновали вместе. Сегодня в покоях короля поют по-испански: мальчишка завел песнь о войне с маврами, скорее меланхоличную, чем воинственную. Мавританскому королю доставляют послания: храни вас Господь, ваше величество, плохие вести. «Las nuevas que, rey, sabrás no son nuevas de alegría…» [146]Нотная запись непривычная, партия певца прописана алыми чернилами. Генрих говорит: – Когда ребенок сидит на стуле, его ножки болтаются в воздухе. Вы улыбаетесь и жалеете кроху. Вообразите, что вы юноша, севший на трон… вы чувствуете себя так, словно ваши ноги болтаются, как у того ребенка… Он видит, что Грегори улыбается. Думает о Хелен, тогда еще не жене Рейфа, как она привела своих деток и усадила на скамью в Остин-фрайарз и их ножки торчали вперед. Король говорит: – Мой отец говорил, самым явным знаком того, что Господь благословил его правление, было рождение принца вскоре после его женитьбы на моей праведной матушке. В январе они сочетались браком, в сентябре Артур уже лежал в колыбели. Вы же понимаете, не грех разделить ложе, если вы помолвлены, а если и грех, за него легко получить отпущение. Господь наградил их многочисленным потомством. Я помню нас всех в Элтеме в большой зале, когда нас посетил Эразм. – Упокой Господь его душу, – говорит Грегори. Он надеется, что Эразм не восстанет из мертвых, не напишет еще книг. Король осеняет себя крестным знамением, драгоценные камни ловят свет. – Я был тощим восьмилетним мальчишкой, склонным к наукам. Сидел под балдахином, справа сестра Маргарита, десяти лет, уже обрученная с шотландским королем. По другую сторону моя сестра Мария, белокурая, как ангел. Эдмунд был еще младенцем, – вероятно, его держала на руках какая-нибудь знатная дама. Была еще одна сестра, Элизабет, но она умерла в три года, я совсем ее не помню, но говорили, красотой она не уступала Марии. Очень жаль, ее брак мог принести выгоду королевству. Эдмунд ненамного ее пережил. И Мария умерла. И Артур. Остался только я. И Маргарита, далеко за границей. Трудно сказать, жалуется король или поздравляет себя. Его губы измазаны сладкой и крепкой мальвазией, король выпил не один кубок, он вытирает рот салфеткой, взгляд устремлен вдаль. – Никто не может представить, какая тяжесть лежит на плечах короля, – говорит Генрих. – Всю жизнь быть государем, знать, что на тебя смотрят как на государя, быть образцом добродетелей, сдержанности, усердия в науках. Иметь ум живой и в то же время обладать мудростью Соломона. Радоваться тому, чем другие стараются тебя радовать, иначе прослывешь неблагодарным. Смирять желания, забыть, что ты человек, и помнить лишь о том, что ты король. Ни минуты праздности, дабы меня не увидели праздным. Вечная готовность доказать, что я достоин, что я заслуживаю места, на которое поставил меня Господь… Однажды в юности я бахвалился перед послом своей ногой: «Разве у французского короля такие икры?» И мои слова ему передали, и вся Европа смеялась надо мной, тщеславным мальчишкой, и, несомненно, смеется до сих пор. Но в молодости я часто задавался вопросом: если Господь создавал Франциска с большим тщанием, чем меня, к кому из правителей Он более благосклонен? Томас Мор однажды спросил, можно ли быть другом королю? Он думает, когда я впервые увидел Генриха, это было как в басне «Лев и Лиса». Я затрепетал от одного его вида. Однако во второй раз я подобрался чуть ближе и присмотрелся. И что я увидел? Его одиночество. И, как Лиса, шагнул вперед, и вступил в разговор со Львом, и никогда больше не оглядывался. Король говорит: – Я не получил никакой выгоды от брака моей сестры Маргариты с шотландцем. Сплошные заботы и вечные расходы. И дочь выросла под стать матери, затеяв интрижку с Правдивым Томом. Он надеялся, что король смилостивится над Мег Дуглас и переведет ее из Тауэра в не столь строгое заточение, но, очевидно, сейчас не время поднимать эту тему. – На севере говорят, вы хотите на ней жениться. Грегори захвачен врасплох: – Что? – Нет надобности отпираться, – говорит король. – Я всем говорю, что Кромвель на такое не осмелится. Даже в мечтах. Он чувствует, что должен поддакнуть: – Я и впрямь не осмелюсь. Король спрашивает: – Знаете, говорят, будто прежний шотландский король не пал при Флоддене. Люди верят, что он покинул поле боя и уплыл паломником в Святую землю. Его видели в Иерусалиме. – Только в фантазиях, – отвечает он. – Разве лорд Дакр, знавший короля, не видел его обнаженных останков? Да и милорд Норфолк скажет вам, что в дыры плаща, куда короля поразили мечи, можно было просунуть кулак. Генрих говорит: – Тогда я побеждал во Франции, поэтому ничего сказать не могу. Однако я гадаю, умирают ли правители так же, как простые люди. Я чувствую, отец смотрит на меня. – В таком случае, сэр, он видит ваши трудности и восхищен вашей решительностью. – Откуда мне знать? Если мертвые могут нас видеть, их не радует, как изменился мир, который они знали. Как и то, что их власть больше не в почете. Отец Норфолка считал своей заслугой победу при Флоддене, но в Дареме за победу благодарят святого Катберта. А теперь идут за его знаменами. Король машет рукой лютнисту: – Спасибо, оставь нас. Мальчишка запихивает ноты в сумку и убирается восвояси. Король берет свою лютню. О сияющая луна, свети мне до утра… Ay luna tan bella, освети мне путь к сьерре. Генрих говорит: – Я любил Екатерину. Вы знали? Что бы ни случилось потом. Он думает, если Генрих забудет слова, здесь я ему непомощник. Хотя, скорее всего, луну скроют облака. Дамы смотрят с башен Альгамбры. Всадники гарцуют внизу на белых жеребцах с позолоченными копытами, на копьях плещут вымпелы. Вся труппа, мавры и христиане, вереницей исчезает в древней тьме золотым проблеском на фоне ночи: города подвергаются осаде и сдаются, воины вспыхивают и сгорают в любовных кострах. Генрих поет: «Я смуглянка молодая, роза без шипов». Говорит: – Екатерина клялась, что любит меня. Почему же она пыталась меня погубить? Он не отвечает. Он научился молчать, но с лучшим результатом, чем Мор. Король останавливает на нем взгляд: – Дети, умершие в ее утробе, думаю, они не хотели рождаться, приходить в этот недобрый мир. Но куда они ушли? Говорят, нет спасения для некрещеных. Некоторые считают, Господь не способен на такую жестокость. Бог не так жесток, как люди. Бог не зашьет человека в коровью шкуру и не спустит на него собак. Оказывается, Джон Беллоу выжил. Ричард Кромвель видел его, подлатал и снова приставил к службе. Он и вправду попал в плен, где с ним не церемонились, и в Луте был посажен в колодки. Но никто Беллоу не ослеплял и не травил собаками. Он надеется, никто не рассказал Беллоу, какой смертью тот якобы умер. Услышав такое, недолго утратить веру в ближнего. Советники прежнего короля, думает он, знали торговлю и закон. Брей умер в своей постели, но его протеже Эмпсона и Дадли схватили до того, как они узнали о смерти старого короля. В апреле, на рассвете выдернули из дома и протащили в тюрьму по Кэндлуик-стрит и Истчип. Якобы они стягивали в столицу войска, замышляя взять в плен молодого Генриха. Вздорное обвинение. Их сгубила человеческая ненависть. Эти двое были недобрыми ангелами короля, но, Бог свидетель, наполняли его казну. Порой, исполняя свои обязанности, он ощущает приступ острого ликования – он, Кромвель, лорд – хранитель малой печати. Однако никогда не признается в этом: ему непременно напомнят о переменчивости фортуны. Взять его собственную жизнь – разве нужны другие примеры? Он говорит Рейфу, из тщеславия мы делаем вид, будто можем предвидеть каждый наш шаг. Но когда кардинал пал, я стоял перед лордами Англии, как голенький младенец, ожидая, что меня выпорют. Я послал тебя подмазать Норфолка. «Если мастер Кромвель получит место в парламенте, он сможет сослужить вашей светлости хорошую службу». Господи, говорит Рейф, я думал, он даст мне пинка и я буду лететь до самого Ипсвича. Есть время для молчания. Есть время, когда надо выговориться. Он увидел, в чем нуждался Генрих, и удовлетворил его нужду, однако правитель не должен знать, что в тебе нуждается, – ему не понравится быть в долгу перед своим подданным. Подобно министрам прежнего короля, он денно и нощно трудится во благо своего господина. Итальянец Никколо говорит, что государь, имея такого слугу, должен относиться к нему с уважением и добротой, оказывать ему почести и осыпать его богатством. Возможно, когда книгу переведут на английский, наш король ее прочтет. В Сиене есть фреска: на стене изображена аллегория Доброго правления, и каждый может видеть, как выглядит Мир. Это женщина, светловолосая, с косами. Головой она оперлась на руку, повернутую так, что видна нежная кожа на внутренней стороне. Платье на ней из такой легкой ткани, что, соскользнув с груди, струится вдоль тела, собираясь в изящные складки там, где тайна скрыта между расслабленными, раздвинутыми ногами. Ее ступни босы – умные, словно руки. На противоположной стене Дурное правление схватило Мир за волосы, и та с криком упала на колени. Он вспоминает громадные кувшины во Флоренции, их прохладный изгиб под рукой. Они как будто переговаривались промеж себя, незаметно подвигаясь друг к другу и издавая звон. Масло и вино в гулких кувшинах; хлеб и вино, тело Господне; разломленные белые пшеничные буханки на столах богачей, в то время как бедняки едят ячмень и рожь. В Виндзоре джентльмен приносит еще свечей, их отблеск пробегает по потолку, словно вторжение херувимов. Король сверяется с песенником. Он поет, что сгорает непрестанно; он прекрасная горянка, мучимая неразделенной любовью, дева из Эстремадуры. Они с Рейфом переглядываются. Рейф, который хорошо знает испанский, озадачен, как и он. Генрих говорит: – Сухарь, вы беседовали с моей дочерью? Знаете, что французы ее сватают? – Их предложения неискренни и к тому же оскорбительны. Французы считают, что у вашего величества не будет сыновей, хотя они у вас наверняка будут. – Напишите Гардинеру, пусть скажет Франциску, что мы не заинтересованы. – Генрих вновь склоняет голову над лютней. – Хотя, возможно, нам стоило бы выдать ее замуж, пока она совсем не увяла. Мария пошла не в мать. В ее годы Екатерина была красавицей. Зовите-меня говорит: – Должно быть, у французов есть шпионка среди фрейлин королевы. Клянусь, они знают, когда у нее женские дела. – Джейн Рочфорд, – говорит он. – Вы это знаете, сэр? – Нет, – отвечает Рейф. – Но лорд Кромвель человек азартный. На ужин пироги с миногой, мерланг, суффолкский сыр и фазаны, добытые их соколами. Встаешь из-за стола, и тебе кажется, что ты пировал у сказочного волшебника. Думаешь, что пробыл в королевских покоях два часа, а выйдя, обнаруживаешь, что минуло семь столетий.
На третьей неделе октября лорд Дарси сдает мятежникам Понтефракт. Знатных вельмож, которые там укрывались – среди них сэр Уильям Гаскойн, сэр Роберт Констебль, а также Эдмунд Лир, архиепископ Йорка, – заставляют принести присягу Паломника. Ему поступают известия из Европы. Французские советники папы убеждают того воспользоваться ситуацией и обнародовать буллу об отлучении. И тогда любой подданный Генриха будет волен примкнуть к повстанцам. Он говорит Рейфу: – Скажи джентльменам короля, и пусть передадут друзьям: если я обнаружу, что кто-нибудь пишет в Рим, то буду считать это изменой, без дальнейших расследований. Остается надеяться, что епископ Римский не станет вмешиваться, потому что не понимает, что происходит на севере. Куда ему. Мы и сами понимаем мало. А если он слушает Поля, то едва ли отличит Понтефракт от страны Кокань. Король посылает ланкастерского герольда в Понтефракт с воззванием. Роберт Аск не дает тому зачитать послание короля, но вежливо предлагает убираться из замка и из города. Говорит, что его Паломники не намерены отступать и пойдут на Лондон. Норфолк перебирается из своего дома в Кеннингхолле в Кембридж, затем из Кембриджа на север. Утверждает, что от всего сердца скорбит о поступке лорда Дарси, который в родстве со знатнейшими семьями севера и вроде бы перешел на сторону мятежников. Наверняка какое-то недоразумение. Следует оставить этому вельможе путь к отступлению, дабы впоследствии он мог заявить, что его неправильно поняли. Дарси изображает прямодушного старого воина, но по натуре двуличен. Кардинал к нему благоволил – он предал кардинала, составив список обвинений, которые распалили королевский гнев. Он клянется в верности, но последние три года только и делал, что выспрашивал у Шапюи, можно ли надеяться на императорские войска. Престарелому лорду Тэлботу, увенчанному хвалами его верности, расточаемыми хранителем малой печати, велено отправляться в Донкастер. Пришло время дать мятежникам отпор, хотя прямых столкновений следует избегать, уклоняясь от битв доколе возможно. Важно удерживать мосты и дороги, не пропустить мятежников южнее Трента. В Виндзоре он вместе с Генрихом обдумывает, как улестить врага. Ему, злодею Кромвелю, предстоит смягчить слова короля. Обещайте что угодно, лишь бы мятежники разошлись. Посейте между ними разлад. Настройте джентльменов против слуг, крестьян против монахов. Их ничего не связывает, кроме знамени, а что такое знамя? Размалеванный кусок ткани. Норфолк пишет, что ест и спит только в седле. На час преклонил голову, так его трижды будили, и всякий раз это были болваны с противоречащими друг другу известиями. «Не судите меня за те обещания, которые я дам мятежникам… ибо я не буду их выполнять…» Я буду лгать, говорит герцог, ради Англии. Со следующим посыльным пришлите мне указания, как именно мне лгать. Снарядите самого быстрого гонца. Возле Донкастера Паломники делают остановку. Герцог со своим жалким войском следует их примеру. Он плачется, что его сердце разбито: ему бы хотелось сокрушить предателей, а приходится с ними договариваться. Герцог встречается с предводителями восставших, выслушивает их жалобы, выдает охранные грамоты двум Паломникам, джентльменам, чтобы те подали королю петицию. Итак, перемирие. Временное, непрочное… И все же я верю, говорит он своим мальчикам, что Аск дрогнет. Сердце в его груди – не сердце воина, и оно трепещет при мысли о кровопролитии. Стоит Паломникам согласиться на переговоры, и они утратят то, что толкало их вперед, – уверенность в своей грубой силе. Ноябрьские ветра продуют их шатры, местность вокруг будет все враждебнее, людям и лошадям перестанет хватать корма, за ночь вода в ведрах начнет покрываться льдом, башмаки прохудятся, порядка будет все меньше, а болезней все больше. В конце концов, наши карманы глубже, наши доводы убедительнее, наши пушки лучше. Мы станем тянуть время, придет зима, и все закончится.
За несколько часов до того, как король отправляется почивать, паж зовет четырех хранителей королевской спальни, и четыре хранителя королевского постельного белья приносят простыни. Прежде чем застелить чехол, соломенный матрац во всех местах протыкают кинжалом, не забывая молиться за короля, которому желают преодолеть все испытания предстоящей ночи. Когда ткань натянута, один из хранителей садится на кровать, со всевозможным почтением заваливается назад, подтягивает необутые ноги и прокатывает поперек кровати, а затем обратно. Если джентльмены не обнаруживают ничего колющего или торчащего, поверх чехла застилают перины и начинают колотить по ним что есть мочи – раздаются глухие удары кулака в пух. Все восемь хранителей, ступая в ногу, туго натягивают простыни и перины и, подворачивая их по углам, осеняют кровать крестом. Далее следуют меховые покрывала, мягкое шуршание и шорох, затем балдахин задергивают, и паж садится охранять постель. Долгий день завершается. Если Генрих решает посетить королеву, до ее двери короля в ночном одеянии сопровождает эскорт. Днем король так увешан драгоценностями, что на него, как на солнце, больно смотреть. Но когда он снимает вышитый жемчугами халат, то похож на призрака в белом, и под льняной рубахой только кожа. Чтобы плодить новых королей, он должен обнажиться и проделать то, что проделывает любой бедняк или кобель. За дверью джентльмены короля ждут, когда он справится. Они стараются не думать о юной неопытной королеве, о ее румянце и вздохах и о возбужденном короле, который кряхтит и потеет. Помолимся, чтобы у него получилось. Он должен оплодотворить целую нацию. Если король не способен зачать ребенка, беда грозит каждому англичанину, и вскоре чужеземцы явятся к нам посреди ночи и наставят нам рога. Когда король возвращается к себе, ему приносят кувшин с водой, зубной порошок, ночной колпак. В зеркале он в последний раз за день видит себя, его приветствуют смазанные черты молодого короля, которым он был когда-то, – король наших сердец, защитник веры. Теперь перед зеркалом стоит обрюзгший мужчина средних лет: «Господи, я работаю над этим и работаю над самим собой: я стал сам для себя землей, требующей тяжкого труда и обильного пота». Грегори говорит: – Отец, когда король разрешил мне поискать книги про Мерлина, я открыл сундук, и что же я там увидел? Три тома, на обложке соколы и буквы: «АБ». Я спрашиваю себя, знает ли об этом король? Он подносит палец к губам. Грегори говорит: – Это как с женой Кранмера. Он и знает, и не знает. Все мы можем так делать, но король делает это лучше всех. Им тоже пора в постель, но у него осталась еще одна забота. – На кухню, – говорит он. – Ты не наелся? – Грегори не верится. Наверху они встречают Рейфа с бумагами в руках и завтрашними заботами в глазах. – Я думал, ты давно дома с Хелен, – говорит он. Рейф трет переносицу, прогоняя сон: – А сами-то, хозяин, еще одно любовное свидание? – Нет, но у меня есть billet doux. Норфолк пишет каждый час. Рейф говорит: – Вечером король сказал, если это остановит мятежников, Норфолк может пообещать, что Джейн коронуют в Йорке. Это принесет городу выгоду, поэтому они согласятся. И в крайнем случае Норфолк может предложить им парламент на севере. – Они хотят выбить меня из колеи. Думают, за пределами Лондона Кромвель сразу ослабеет. Рейф говорит: – По-моему, королю не больше вашего хочется ехать в Йорк. Однако каждая неделя, которую Норфолк выигрывает обещаниями, приближает нас к зиме. Неужто мятежники клюнут на обещания? На их месте я бы подождал их исполнения. Рейф зевает: – Зовите-меня составил список джентльменов, которые присягнули Паломникам. Вы знаете, что среди них лорд Латимер? Возможно, король повесит его и вы женитесь на Кейт Парр. Как ей обещали. – Стыдись! – говорит он. – Ты же знаешь, я помолвлен с леди Марией и Маргарет Дуглас. Мне подавай невесту королевского рода. За дверями королевской спальни выставлена ночная стража, но перед уходом из спальни джентльмены кладут у королевского ложа меч и оставляют зажженную свечу. Если враги преодолеют и этот рубеж, королю придется защищать себя самому.
В Виндзоре никогда не хватало места для кухонь, поэтому дворы утыканы временными пристройками, которые ветшают и пропускают дым со времен, когда Адам был молод. Он хочет убедиться, потушен ли огонь, чисты ли кастрюли, хочет удостовериться собственными глазами. Что толку защищать короля от мятежников, если тот сгорит из-за нерадивого слуги, который ворочает вертел? Иногда по ночам он внезапно устраивает проверки – как днем нежданным является на монетный двор Тауэра и требует взвесить золотые монеты. Поднимается туман, он трет замерзшие руки. Ему знакомы все задние дворы, во всех королевских дворцах он знает все забытые и неохраняемые закоулки. В углу, в свете факела, он видит шута Заплатку, который кидает в стену замшевым мячом. – Секстон? Почему ты не у себя? Шут подхватывает мяч: – В Заплаточном городе нет комендантского часа. – Нечего шататься рядом с кухнями. Шут прижимает мяч к груди: – Никогда не знаешь, где найдешь новую шутку. Он выхватывает у шута мяч, подкидывает вверх, ловит: – Твоя голова, Заплатка. Перекидывает мяч через стену, не на шутку перепугав случайного прохожего, – из темноты доносится визг.
Вернувшись, он видит стражника под своей дверью. Доброй ночи и храни вас Господь, говорит тот. Силуэты остальных стражников виднеются во всех альковах и нишах. Кристоф ждет его возвращения. Его спаниель сопит, его мармозетка что-то лепечет, сгорбившись у очага. Когда он впервые ее принес, король сказал: «Осторожнее, лорд Кромвель, у моего отца была обезьянка, так она зубами и когтями разорвала в клочья одну из его памятных книжек. Обрывки склеили, но никто не мог понять, что там написано. Вот и вышло, что некоторые джентльмены живут в богатстве, вместо того чтобы попрошайничать на улицах, потому что отец не потребовал с них налогов, а те, кого следовало упрятать в тюрьму, сидят себе в тепле и уюте, потому что обезьянка изменила их судьбу». – Грегори уже улегся, – зевает Кристоф и рассеянно целует его в щеку. – Не засиживайтесь, сэр. Кристоф топает к своему тюфяку, почесываясь, стягивает джеркин. В одиночестве он – лорд Кромвель – вынимает из-под рубахи кинжал. Если какой-нибудь великан-людоед с севера влетит вверх по лестнице, защитит ли он своего сына, или сыну придется его защищать? Как говорит король, Грегори обещает стать жилистым и крепким, с острым глазом атлета и челюстью бойца, привыкшего к тяжести шлема. Но сейчас он по-детски шепчет в темноте: – Король увидел бы книги Анны, если бы захотел. Короли способны видеть сквозь каменные стены, способны слышать слова, сказанные во времена Утера Пендрагона. Они чувствуют острее, чем обычные люди, – как паук чувствует палец, прежде чем его коснешься. Король больше зверь, чем человек, но никому не передавай моих слов, иначе их могут неверно истолковать. Грегори падает головой на подушку. – Могут? – переспрашивает он. – Возможно, тебе следует осмотрительнее выбирать темы для беседы. Людям рубили головы и за меньшее. Думаешь, будто правитель живет в особых сферах, выше и чище прочих людей. Но возможно, прав Грегори и правитель вовсе не человек? Если подвести итог, получится ли человек в сумме? Правитель собран из осколков и фрагментов прошлого, пророчеств и снов его рода. Волны истории бьются внутри его, поток грозит унести его с собой. Его кровь не принадлежит ему одному – это древняя кровь. Его сны не его сны, это сны Англии: сумрачный лес, одинокая пустошь, шелест листьев, отпечаток драконьей лапы, над озерной водой появляется рука. Предки врываются в его сон, чтобы упрекнуть, предостеречь, разочарованно покачать головой. Во время коронации Бог преображает государя, его человеческие слабости исчезают, а достоинства растут; но этой вспышки света должно хватить на всю его жизнь. Мгновенное излияние благодати должно поддерживать его тридцать, сорок лет, до скончания смертных дней. Он лежит без сна: барон Кромвель, лорд – хранитель малой королевской печати. Разум несется через долины и реки, туда, где мятежники в своих походных шатрах ворочаются во сне и проклинают его имя. Все дальше, дальше на запад, через реку Теймар, туда, где сыны Корнуолла мерно дышат в холодном поту и эль бурлит в их жилах. Где Болстер в своей пещере пускает громадные пузыри в подводных глубинах и видит во сне, как всплывает на поверхность, как меряет громадными ступнями долины и горы, переходит вброд реки, пятой обрушивает мосты. Как входит в Лондон, чтобы набросить сеть на королевских министров, свернуть им шеи и перемолоть их, как специи, для своей овсянки. Великану не под силу вообразить, что значит быть обычного роста, не понять, каково это. Никогда не торговаться, не обманывать – зачем ему, если все расступаются, стоит хрустнуть пальцами? В детстве думаешь, что великана надо убить, но с возрастом умнеешь. Представь, что встретил его случайно: ты собираешь хворост или проверяешь кроличьи силки, а он гуляет у входа в пещеру или лезет в гору – вырывать с корнем громадные дубы. Великаны одиноки, они не знают других великанов. Иногда им нужен кто-то вроде Джека, чтобы развлекал их, был на побегушках и учил своим песням. Пересиль страх, не упусти удачу. Если знаешь, как разговаривать с великанами, ты можешь его околдовать. Чудовище станет твоим созданием. Он думает, ты служишь ему, а на деле ты служишь себе. Он вертится без сна – он, лорд Кромвель. Встает, открывает ставни. Дождь. Он заслоняет ладонью свечу. Поднимает голову к потолку. Он не великан – скорее развеселый Джек. Ты оставляешь дом и направляешься на восток, пересекаешь море и думаешь, что Болстер позади, а он впереди. Куда бы ты ни прибыл, он уже там. Здесь, в Виндзоре, где набухшая Темза вздымается под твоими стенами, дождевая вода журчит в трубах и водосточных канавах, здесь после всех лет сливаются реки и соединяются дороги. В свободные минуты он совершенствует свой греческий. Старый епископ Фишер начал изучать этот язык после семидесяти, и ему не хочется уступать мертвому прелату. Через пару лет он надеется обсуждать с богословами тончайшие оттенки смысла в переводах. На этой неделе он читает сборник писем древних философов и воинов, хотя странно, что у Александра хватало времени на письма. Наш король не любит писать сам; долгие мучения – и никакого результата. Вместо этого Генрих правит чужие рукописи и делает странные пометки на полях. Возможно, великий македонец поступал так же – отложив лиру, бормотал рабу суть послания, и раб, Томас Ризли тех дней, записывал, сидя в шатре жарким безветренным днем, и аромат ладана прогонял вонь боевых слонов. Давным-давно в Венеции он купил эту книгу, веря, что когда-нибудь у него найдется время для учебы. Она напечатана в типографии Альда Мануция, с маркой-дельфином: чистенькая, только на одной из страниц отпечаток пальца предыдущего владельца. Иногда он размышляет, кто был этот человек и почему расстался с таким сокровищем. Возможно, умер, и наследники продали книгу, отпечаток пальца и все остальное. Возможно, утратил интерес к Античности, занялся делами и завтра утром выйдет на пьяццу с корзиной и уличным мальчишкой-носильщиком и будет выбирать оливки и тыквы, кедровые орехи и чеснок. В детстве Томас боялся реки, высокого прилива, когда вода подкрадывалась к лодыжкам. Боялся, что река выйдет из берегов и расплещется, словно небеса над нами, – он никогда не видел моря, поэтому представлял себе это именно так. Он думал, реку следует огородить стенами или поднять берега, чтобы прохожие могли ходить по улицам, не замочив ног, и смотреть, как река поднимается. Вообразите, что он почувствовал, попав в Венецию. Внутри него встрепенулся и заплакал ребенок: «Глядите, глядите, что эта вода наделала! Я предупреждал!» В Венеции при свете факела он видел нарисованные небеса и высоко над каналом лицо женщины в пространстве между планетами. Он вернулся разглядеть фреску при свете дня и увидел на стене целый мир с чешуйчатыми континентами и синими морями, лесами, где олени выпрыгивают из укрытий, а нимфы с птичьими головами распевают на ветках. Он видел скачущего вдаль разодетого всадника, подковы его лошади были повернуты к смотрящему. Подковы задержались в памяти, а всадник растаял среди поваленных колонн, уменьшившись до точки и пропав из виду. Иногда Генрих спрашивает: – Все еще читаете письма древних, лорд Кромвель? Что выучили сегодня? Он отвечает: – Я выучил ars longa vita brevis[147]. Как это будет по-гречески. – Это Гиппократ, – говорит Генрих. – Жизнь коротка, а наша задача так велика, что мы умрем, прежде чем успеем… Король осекается. Для подданных считается изменой рассуждать о смерти короля или предрекать ее, но Генрих говорит сам о себе, хотя выглядит смущенным, словно и в его устах это преступление. – Жизнь коротка, искусство вечно, случай шаток и переменчив, опыт опасен, суждение затруднительно. Я думаю, суть в этом. Он кланяется: – Благодарю за науку, сэр. Каждый божий день ты должен упражняться в придворной науке, а каждую ночь – в искусстве правления и никогда не достигнешь совершенства. Как сказал на своем языке Чосер: «Столь мало жить, столь многому учиться»[148].
В понедельник, тринадцатого ноября, в начале шестого утра, купец и член парламента Роберт Пакингтон вышел из своего дома в Сити на раннюю мессу. Туман накрыл одеялом улицы вокруг Чипсайда, колокола звонили со всех окрестных церквей. Пакингтон направлялся к церкви Святого Фомы Аконского и внезапно упал на землю. Поденщики, которые собираются на Соупер-лейн в ожидании работы, впоследствии будут утверждать, что слышали грохот, треск или негромкий взрыв, словно кулак великана вонзился в подушку. Другие прихожане, шедшие сзади, бросились к упавшему, закричали, к ним присоединились поденщики, шум привлек местных жителей, которые, зевая, выскочили на улицу со светильниками в руках, в ночных чепцах и одеялах. Когда подошли к Пакингтону, тот был уже мертв. Тени в тумане, женский визг: «На помощь! Убили!» Мужчины побежали за стражей. Собралась толпа. Пакингтона опознали – не последний человек в ливрейной компании торговцев тканями, один из наших видных горожан. Прибыл лекарь, который установил огнестрельную рану. Стрелявшего никто не видел. На часах еще нет семи, а его, лорда Кромвеля, уже осаждают в Остин-фрайарз. Мне нечего вам сказать, повторяет он, пробираясь сквозь толпу членов гильдий, нужно выслушать свидетелей. Откуда пришел убийца? Куда направлялся? И как в таком тумане разглядел Пакингтона? Потому что именно Пакингтон был его целью – никто не станет стрелять в мирных прихожан, спешащих к мессе. – Позовите Стивена Воэна, – просит он. Он поручил старому другу приглядывать за монетным двором, работа как раз для него, как и любая другая, требующая твердости и острого глаза. К тому же Воэн – старый приятель Пакингтона. Является коронер со своими чиновниками. Новость сообщают братьям покойного. Лорд-мэр объявляет награду за сведения об убийце. Друзья Пакингтона увеличивают сумму. Тем временем работники заносят тело в дом, кто-то заплатил им, чтобы оттерли кровь. Пакингтон не понял, что в него выстрелили. Лекарь говорит, он ощутил только полет, когда Вестчип приподнялась и приняла его в свои объятья. Умер, не успев прочесть «Отче наш». Никто не видел на улице чужака. Ни вспышки в тумане – как бывает при выстреле из аркебузы. Ни свертка, в котором могла быть завернута аркебуза. Злоумышленник мог стрелять одной рукой из пистоля, который спрятал в плаще. И более того, из оружия с колесцовым замком, которому не нужен запал. Такого оружия в Лондоне немного. Оно запрещено в некоторых странах, но это не остановит злодея. Если пистоль еще при нем, он себя выдаст. Если он его спрятал, то скоро оружие найдут. Если бросил на дно реки, что вернее всего, то искать нечего – но в таком случае негодяй денег не считает. Пакингтон был евангельской веры и все эти годы перемещался между Англией и Фландрией не только по делам торговым, но и реформатским. Он нес домой слово Божие, когда за это полагалась смерть. – Он видел Тиндейла прямо перед… – начинает торговец тканями, но он поднимает руку: – Я не могу слушать то, что вы мне говорите. Если вы сами знакомы с Тиндейлом, я не должен этого знать. Я ваш брат во Христе, думает он, но я также слуга короля. К полудню он посещает вдову Пакингтона, она из гильдии скорняков. Они с Робом усыновили двоих детей, не считая его пятерых от первого брака, и теперь город хочет знать, что с ними будет. Главный судья Болдуин, отец первой жены Роберта, выражает желание стать их опекуном. – Берегите себя, Кромвель, – говорит ему судья. – Не сомневаюсь, что этот убийца выслеживал вас, а вы его не замечали. – И что мне делать? – Носите кольчугу. Он носил ее под придворной одеждой во время волнений в городе. В кольчуге было жарко, а к вечеру она обручем стягивала ребра, теснила грудь. Такое же чувство испытываешь, когда стоишь перед королем, в руках список дел, и все неотложные, а его величество решает поговорить о целебных свойствах лилий. Тебе кажется, ты сейчас задохнешься, тебе больно оттого, что ты привязан к письменному столу, когда твой племянник на востоке, Уайетт на севере, а Норфолк в далеком шатре решает судьбу государства. А теперь говорят, что отныне ему не видать покоя ни на собственных улицах, ни в собственном доме, ни в собственной постели, где у кроватного столбика стоит Уолтер, с ухмылкой тыча пальцем в пурпурные с серебром королевские занавески. От того места, где убили Пакингтона, до Остин-фрайарз рукой подать. Он сидит в гостиной женщины, которая первой позвала на помощь. Слушает, как она пересказывает все события того утра – с тех пор, как открыла глаза, до того, как выбежала на улицу. Впрочем, ясно, что она не видела ничего, за исключением сна две-три ночи назад, когда город предстал перед ней, объятый пламенем. Снаружи бурлит неспокойная толпа; если бы убийца заявился сейчас и выстрелил снова, они бы точно разглядели все. Поденщики с Соупер-лейн меняют показания. Теперь они вспомнили высокого мужчину, который что-то сжимал под плащом и бормотал себе под нос, когда переходил улицу. Судья Болдуин огорчен утренними событиями: – Высокий мужчина в плаще? Что нам это дает? Вы же не думали, что его застрелил голый карлик? – Но, лорд Кромвель, – умоляет поденщик, – он был похож на итальянца! – А как, по-твоему, выглядит итальянец в густом тумане? Поденщики мнутся, шаркают ногами. Он дает им несколько монет за старание. – Нечего их баловать, – замечает Болдуин, но он говорит, помилуйте, судья, они всего лишь мальчишки, они занесли тело в дом и, проявив себя неравнодушными горожанами, потеряли дневной заработок. – Послушайте, Кромвель, вы не завоюете любви низших, разделяя их заботы и раздавая монеты направо и налево. Хотите, чтобы вас уважали, ведите себя так, словно вам нет до них никакого дела и в животе у вас никогда не урчало от голода. – Такого я вообразить не могу. – Я не говорю вам, как поступать. Я говорю, как все устроено. Воэн замечает: – Милорд не нуждается в советах, как подобает вести себя человеку его положения. Великие люди щедры. Работники следуют за ними, продолжая развивать свои предположения: вероятно, злодей был из Йоркшира. – Мы придем на похороны, если нам выдадут черную одежду и четвертак. Какая жалость, что его пристрелили по пути в церковь, – куда лучше, если бы это случилось на обратном пути, мигом оказался бы в раю и сейчас поглядывал бы на нас сверху. Никакого чистилища для Пакингтона. Ему суждено покоиться с миром в ожидании конца времен, когда последняя лодка отнесет его к Создателю. Обидно, пережив столько морских путешествий, гонения Томаса Мора и еле сдерживаемую ярость лондонских попов, найти смерть на пороге собственного дома. Нет времени для слез, хотя убитый много лет был его другом. К десяти туман рассеивается, и бледное солнце проглядывает в чистом небе. Когда колокола призывают читать «Ангел Господень», снова наползают тучи, но целый час в воздухе мерцают золотистые пылинки, словно небеса славят мертвого Пакингтона. Похороны через два дня, говорят семье, в крайнем случае через три. Служить будет отец Роберт Барнс. Так хотел покойный.
Это ошибка. Проповедь Барнса так смела, что приходится упрятать его в тюрьму. Лучше под моим присмотром, чем в темнице епископа Лондонского, говорит он. Горожане не забыли историю Ричарда Ханна. Это случилось лет двадцать пять назад, но городу стыдно до сих пор. Благочестивого торговца, которого заперли в Лоллардской башне, нашли повешенным, вот только пол и стены были забрызганы кровью. Власти утверждали, что он повесился сам, в отчаянии перед собственной ересью. Табурет, на который он якобы влез, сильно не доставал до его ступней. В Виндзоре он стоит с Генрихом в оконной нише и смотрит на дождь. Ветер завывает в дымоходе. Кажется, что свет в комнатах истончается, словно каждое окно – это хитроумный механизм, который по капле выдавливает его наружу. Король говорит: – Вроде просвет? На западе? Вам не кажется? – Вроде бы не вижу. Генрих вздыхает: – Главное верить. Он ловит себя на том, что отвечает королю рассеянно, словно ребенку или домочадцу. Генрих раздражен, его разум неспокоен, а когда он в таком настроении, лучше пригнуть голову, как делают птицеловы. – Знаете, что этим летом мне запомнилось больше всего? – спрашивает король и тут же поправляется: – Нет, прошлым. Вулфхолл. Порой любому правителю хочется отложить заботы и пожить годик как простому джентльмену. Ибо тот живет в довольстве, танцует в громадном амбаре, украшенном гирляндами, наблюдает за сбором урожая и знает каждого жнеца по имени. Он молчит. В Уилтшире у него есть мальчишка по имени Роб, который докладывает ему о тамошних гостях. Не то чтобы он не доверял Сеймурам, но лишний источник не помешает. Король говорит: – В те дни я был наивен. Не понимал Болейнов и их злоумышлений. А когда понял, вышвырнул их прочь и думал, теперь все наладится. И вот я перед вами, еще одно лето прошло, скоро зима, мой сын Фицрой умер, я лишил права наследования обеих дочерей, наследника нет и, как я понимаю, не предвидится. Мои подданные взбунтовались, мои сундуки пусты, как и моя колыбель. Вот и скажите мне, Томас, стало ли лучше? Лучше, чем в прошлом году? Тогда моих подданых хотя бы не убивали на улицах. Он по-прежнему не отвечает. Ждет, когда приступ жалости к себе пройдет. Так и происходит. Генрих распрямляет спину: – В город прибывают тридцать тысяч верных мне людей. – Король имеет в виду Понтефракт. – Не бойтесь, милорд, скоро он снова будет в наших руках. Генрих кладет руку ему на плечо. В руке помазанного правителя содержится vertu[149]. Королевская длань исцеляет. Только почему он не чувствует себя исцеленным? Когда они откланиваются, мастер Ризли замечает: – Что-то вы на себя не похожи, сэр. Не промолвили ни слова. Он говорит: – Оставьте короля в покое, и он сам себя развеселит. Нельзя на него напирать, Зовите-меня. Он же вам об этом сказал.
Он идет к Барнсу в Тауэр без кольчуги: кинжал она остановит, но разве кольчуга спасла бы Пакингтона? А значит, и ему она без надобности. Никакой кирасы, кроме Христа, и Томас Авери в качестве писаря. Еще один туманный день, но к полудню туман не рассеивается – дождь прекратился, но воздух так влажен, словно полдень натерли улитками. Барнс читает, но, когда ключ поворачивается в замке, вскакивает в тревоге: книга соскальзывает с колен, он пытается ее поднять и выпрямляется с покрасневшим от натуги лицом. – За вами подглядывают? Барнс падает на табурет: – Всякий раз, когда я слышу шаги в коридоре, мое сердце… – Он выбивает по столу рваный ритм. Замечает, что лорд Кромвель не один. – Кто это? – Добрый христианин. Успокойтесь. – Успокоиться? – усмехается Барнс. Авери говорит: – Вас взяли под стражу ради вашей же безопасности. – Думаете, это меня надо оберегать? А как же Кромвель? Может быть, нам всем следует посадить друг друга в тюрьму? – Как только милорд успокоит город, вас освободят. Барнс вновь становится самим собой, раскладывает бумаги на столе: – Мало кто прислушался бы к вам, но ваш господин говорил то же самое, когда сажал в тюрьму Уайетта: скоро вас освободят. И сдержал слово. Хотя не понимаю, что заставляет его числить среди друзей таких наглецов. Уайетт не из тех, кому дорого слово Божие. – Но он и не папист, – говорит Авери. – Насмотрелся на них в Италии. – Теперь у папы развязаны руки, – говорит Барнс. – И это только начало. Где этот неблагодарный Поль? Или вы потеряли его из виду? – Он все еще в Риме. Говорят, Фарнезе поселил его над своими покоями и хочет сделать кардиналом. – Он должен отказаться, – говорит Барнс. – Кто-нибудь отказывался стать кардиналом? Барнс говорит: – Я думал, вы найдете способ разделаться с ним несколько недель назад, когда он был в Сиене. Если Томас Мор сумел дотянуться до Тиндейла из могилы, вам с вашей решительностью и быстротой не составит труда убить Реджинальда. Он говорит: – Мне есть чем заняться, отец Барнс, кроме того, как замышлять убийства. И сердце Реджинальда не всегда было изъязвлено. Стоит ему распутать заговор этих людей – привычной рукой, намеренно глядя в другую сторону, – как они снова все запутывают, свистом и криками привлекая его внимание. Маргарет Поль, мать изменника, сейчас в своем замке в Уорблингтоне – слишком близко к побережью, и его это тревожит. Он воображает ее в башне, она зеркалом сигналит кораблям, которые пристают и высаживают на берег вражеское войско. Если потребовался один убийца, чтобы застрелить члена парламента, то и для короля одного хватит. Его сердце разорвется так же, как сердце простого человека. Место, где убили Пакингтона, в пяти минутах от дома Маргарет Поль; вполне возможно, что там и спрятали убийцу. Барнс говорит: – Я слышал, на встрече с делегатами Паломников Генрих держался смело, но в глубине души до смерти перепуган. На самом деле он сделал все, чтобы Генрих не извинялся перед посланцами, которые прибыли в Виндзор и с охранными грамотами поедут назад. Король заявил, что, вопреки их утверждениям, ныне среди его советников столько же знатных вельмож, сколько было в начале правления, и предложил перечислить их – графа за графом, барона за бароном, северяне сами могли посчитать. Едва ли из этого выйдет толк, подумал он, однако по желанию короля удалился, оставив государя расточать обаяние. Он говорит Барнсу: – Король верит, что подданные его любят. Благородное сердце мешает ему вообразить, что они замышляют измену. – А вы пытаетесь его переубедить? – Только глупец видит заговоры там, где их нет. Любое преступление может быть непреднамеренным, совершенным под влиянием ярости или неумеренной выпивки. Но восстания так не делаются. Никто не станет замышлять мятеж в одиночку. Для этого нужен предварительный сговор. Сама природа мятежа требует тайного умысла. – В таком случае Генриху следует прислушаться к тому, что подсказывает ему сердце, – говорит Барнс. – Если, конечно, вы не подтолкнете его в объятия наших немецких друзей. Или швейцарских пасторов. Томас, все их усилия впустую. Они устали от бесконечных разговоров. Объединение возможно, если мы придем к согласию относительно доктрины. Но без протянутой руки помощи Англия обречена. Вообразите Альбион – одинокий корабль в океане, ноги его матросов вечно в воде. Ветер дует в лицо, бушует шторм, устья портов перегорожены цепями. Невежественные северяне называют Генриха Кротом, королем прошлого и грядущего. Ему тысяча лет, он грубый и чешуйчатый, холодный, как морское чудище. Подданные изгоняют его, и он тонет в своих приливных волнах. Когда думаешь о нем, страх отзывается в утробе, это старый страх, сродни боязни драконов, страх, идущий из детства. Он обращается к Авери: – Вы не могли бы нас оставить? Это ради… – Моей безопасности, я понимаю, – кивает Авери и закрывает за собой дверь. – Славный молодой человек, – говорит он Барнсу. – Я доверил бы ему жизнь, но некоторых вещей ему лучше не слышать. – О нашем внушающем трепет и ужас государе? – спрашивает Барнс. – Он внушает вам ужас? Мне внушает. Когда я думаю, сколь многого он не делает и сколь многое мог бы сделать. Когда думаю о его медлительности, которая нас губит. – А я думаю, что сумел продвинуться. Когда я только начинал служить ему, он называл наших друзей из Цюриха богохульниками, которые едят колбасы в пост. Лютера считал сыном демона, у которого изо рта идет пена, когда служат мессу. Но не следует забывать, что короля учили почитать священников и просить прощения за все. Вы можете прогнать духовников и сказать ему, что он оправдан, все равно он будет держать священника в голове. – Должно быть, он на вас злится, – говорит Барнс без обиняков. – Злится, хотя пытается это скрыть. Его раздражает, что ему приходится защищать меня за мою подлую кровь. Но он не отдаст меня им. Тогда получится, что мятежники диктуют ему, как поступать. – Слабая защита. Думать, что вы сохраняете положение благодаря им. – Другой у меня нет, Роб. – Он встает, потягивается. – А теперь я должен зайти к Правдивому Тому. – К этому блуднику, – говорит Барнс. – Я слышал, он предлагает непомерные суммы тюремщикам, чтобы отвели его к Маргарет Дуглас и оставили на час. Но те только смеются над ним. Они не доверяют его деньгам. – Мне следовало бы упрятать под замок себя, – говорит он. – Может быть, наберусь ума-разума. – Не говорите так. – Барнс касается своего распятия. – Благословить вас? – Стоит ли утруждаться? Он хохочет: ему легко без кольчуги, без железных ячеек, под рубахой только кинжал. Он поместил Маргарет Дуглас в Сионскую обитель под надзор аббатисы. Вероятно, ее любовник об этом не ведает.
Старый приятель Мартин ждет, чтобы отвести его к заключенному. – Лорд Томас считает себя поэтом, Мартин. Что скажешь? – У него нет и одной десятой Уайеттова остроумия. И усердия. – Ты заводишь знакомства среди знатнейших вельмож королевства. – Среди которых я числю и вас, – почтительно говорит Мартин. – Хотя надеюсь, пройдет много дней, прежде чем я увижу вас здесь. – Почему бы не надеяться, что этого не случится никогда? – спрашивает Авери. Мартин обескуражен: – Я не имел в виду ничего дурного. Я благодарен его милости. Томас Авери передает тюремщику монеты для крестной дочери лорда Кромвеля.
Правдивый Том, с трехдневной щетиной, не готов принимать гостей и не знает, плюнуть в него или облобызать ему колени. Ему доводилось смущать и более достойных людей. – Садитесь, – говорит он. Авери заглядывает в папку и передает ему листок бумаги. – От леди Маргарет. Прочесть?
К первой неделе декабря всякая жалость к мятежникам, жалость к их невежеству, которую он сохранял, улетучивается. Их заявления на мирных переговорах – сплошной поток тошнотворных оскорблений и угроз. Пришлось убрать с переговоров Ричарда Кромвеля, потому что мятежники не желают сидеть с ним за одним столом. Всех Кромвелей следует извести под корень. У парламента нет права распускать монастыри, и потом, что это за парламент? Королевские прихвостни и подлипалы. И они еще хотят, чтобы их простили! Разумеется, мятежников простят – их слишком много. И даже не посмотрят, что они не щадят самого короля, напоминая ему, что правитель, не приверженный добродетели, должен быть смещен, – а какой добродетели вы ждете от того, кто привечает Кромвеля? Мятежники напоминают о судьбе Эдуарда Второго и Ричарда Второго – королей, убитых своими подданными за излишнюю любовь к фаворитам – бесчестным властолюбцам, лишенным моральных устоев. Сравнить лорда Кромвеля с Пирсом Гавестоном… когда этот издевательский пассаж зачитывают вслух, некоторые советники прикусывают губы и отводят глаза. Ибо неразумно смеяться, когда у короля от гнева белеет лицо. Ричард Рич шепнул ему, что именно по этой причине королю стоит предстать перед своими подданными на севере. Они сразу поймут, что он не из тех, кто спит с мальчиками. А даже будь он таким, то не выбрал бы для этих целей лорда – хранителя печати. Он говорит, Гавестона ненавидели не за его противоестественные наклонности, а потому, что король сделал его, простолюдина, графом. А еще богачом, нарядил в шелка. Впрочем, королевский фаворит даже не был англичанином, что немаловажно для этих невежд. Не стоит смеяться над Рикардо Ричем. По крайней мере, в лицо. Он достойно держался перед той ненавистью, что обрушилась на него в последние недели. Он понимает, что есть грехи, которые правители могут, а возможно, и должны совершать. Заповеди, написанные для подданных, не для них. Государь должен лгать ради блага государства. Мы это понимаем и без перевода с итальянского. Мятежники называют его, лорда Кромвеля, лоллардом. Старое слово, хотя во времена его детства женщин и мужчин за такое сжигали. Он слышит в воздухе женский голос, словно ветерок из прошлого: «Это те, кто говорит, что Господь на алтаре – просто кусок хлеба». Он мал, его желудок пуст, он далеко от дома. Она по-матерински сжимает его руку, пока они пробираются сквозь толпу: «Держись со мной рядом, миленький». Женщина стучит по черной стене из спин, и она расступается перед ней. «Сестра, осторожнее, а то ненароком задавят мальчонку». «Пропустите нас, – говорит она, – он пришел издалека. Покажем ему, как подыхает богомерзкая тварь, враг Господень, чтобы вспоминал, когда вырастет». Некоторые детские воспоминания его забавляют. Джон на кухне, даже Уолтер в кузне, вечно в дыму. Но когда из глубин памяти всплывает это воспоминание – самое страшное из всех, – он прихлопывает его, словно крота лопатой.
Наслаждаясь моментом, король заявляет своим советникам: – Я намерен пригласить нашего главного Паломника провести со мной Рождество. Аска? Раздаются возгласы удивления – поддельные, ибо лорд Кромвель успел подготовить советников. Сказать по правде, это его замысел. – Аск пользуется наибольшим доверием мятежников, – рассуждает король. – Я испытаю его сердце и желудок. И он увидит, что я монарх одновременно щедрый и справедливый. Единственная опасность – но о ней мы не распространяемся, – что Аск увидит также, что Генрих уже не тот могучий воин, каким был десять лет назад, и отнесет эту весть в Йоркшир. Король хочет, чтобы его помнили как Генриха Зерцало Справедливости, но, возможно, ему суждено остаться в веках Генрихом Хромоногим. И все же игра стоит свеч, и мы ничего не теряем от встречи с предводителем Паломников. Во времена наших отцов мятежника Джека Кэда помиловали и дали ему погулять на воле, прежде чем четвертовать и отправить по частям в родное графство. Король будет нянчиться с Аском как с малым дитем. Солидные подарки, солидные обещания: золотая цепь и пунцовый дублет. Король внушит ему благоговейный страх – уж это он умеет. То, как вы держитесь рядом с королем, скажет нам, чего вы стоите, выставит напоказ все ваши слабости и ваше тщеславие. Вы думаете, вас ничем не смутить, вы заранее отрепетировали вашу речь, но появляется король, и вас охватывает священный трепет, и вы не в состоянии вымолвить ни слова. – А что делать мне, сэр? – спрашивает он. – Я не должен встречаться с Аском. – Отпразднуйте с вашими домочадцами. – Король добавляет: – Будьте у себя в Степни. Если вы мне понадобитесь, сможете добраться до Уайтхолла за час. Он, лорд – хранитель малой печати, дает указания епископу Гардинеру во Франции – опровергать слухи, которые ходят среди чужеземцев. Генрих не осажден в Уайтхолле. Ни его самого и никого из Кромвелей не закололи в Лондоне, на Чансери-лейн. Напротив, Кромвели готовятся к празднику. Ричард возвращается с севера, обласканный своими командирами Норфолком и Фицуильямом. К середине месяца армии повстанцев рассеиваются. Аск должен прибыть ко двору по охранной грамоте. Приходит известие, что шотландский король заключил брачный договор с дочерью французского короля. Они с Мадлен поженятся в соборе Парижской Богоматери в первый день нового года. Этот брак станет доказательством сердечного согласия между Шотландией и Францией, что для нас весьма огорчительно. – А что я могу? Только пожелать ему счастья, – говорит король. Он диктует письмо, отмахнувшись от предложения составить для него черновик: – «Будучи наслышан… о Вашем решительном и непреклонном желании вступить в брак… с дочерью нашего дражайшего брата и неизменного союзника короля Франции… и так далее, и так далее… поздравить Вас… пожелать, чтобы Всемилостивейший Господь наградил Вас многочисленным потомством, – голос короля сочится презрением, – что послужит Вам к радости, а равно процветанию, благополучию и спокойствию Вашего королевства». – Браво, сэр, – замечает Ризли. – Какие отточенные и решительные фразы! Король говорит: – У Якова уже девять бастардов, и это только те, о ком я знаю. Эдвард Сеймур: – Ваше величество, вряд ли он дождется наследников от Мадлен. Я слышал, она умирает. – Тогда зачем она Шотландии? Никто не отвечает. Возможно, чтобы заполучить дочь, любую дочь великого короля. И сотню тысяч крон в придачу – больше, чем Яков видел за всю жизнь. Король говорит: – Посмотрим, как ей понравится путешествие в Каледонию и тамошние грубые манеры. – Однако в голосе короля сочувствие. – Говорят, она очень хороша собой… – Должно быть, Яков пленил ее сердце драгоценностями, – говорит он, – ведь он не знает ни слова по-французски. Все эти покупки были неспроста. – Возможно, Мадлен говорит по-шотландски? – спрашивает Генрих. – Едва ли. Разве вам не захочется иногда поговорить с женой? Побеседовать по душам. Впрочем, хотя бы в постели ему ее наставления не нужны. Судя по всему, он и сам неплохо справляется.
В Степни ягоды боярышника и падуба, точно скромные самоцветы, – яркие, как капли крови. Стены украшены сосновым лапником, а венки такие большие, что их пришлось вешать двум работникам. Венки плетут осенью, когда ветки еще гнутся. Цветы из сушильни связывают в пучки, золотят и перевязывают лентами, и, когда наступают морозы, на рассвете и закате обшитые панелями комнаты млеют в сизом мареве. Он ждал, когда дела позволят ему проследить за обрезкой яблонь, и теперь выходит в сад вместе с садовниками. – Осторожнее с лестницей, сэр. Лучше отойдите и посмотрите со стороны, какую форму мы им придадим. Середину мы называем кроной. Мы убираем ветки, которые мешают друг другу или растут вбок и в стороны. Прореживаем новые побеги, придавая деревцу форму кубка. Затем прищипываем побеги выше почек, обращенных наружу. К трем пополудни пот льется градом внутри джеркинов, руки в перчатках застыли, словно мерзлые комья земли, а голоса в воздухе еле слышны, словно пение птиц из далекого райского сада. Мы говорим, дело сделано, ребята, и идем под крышу греть руки о кружки с горячим пряным элем. Мы прожили непростые дни, говорят садовники. Бог даст, наши строители и повара вернутся домой к празднику, а с ними и мастер Ричард, покрывший себя славой на поле боя. Мы поднимаем чаши за воинов, торящих путь на юг через перепуганные графства. Потом затягиваем песню, осеняем себя крестным знамением и молимся за яблони. Дома мы открываем рождественскую комнату с костюмами водяных, волхвов и говорящих зверей. Расправляем концы огромной звезды, которую вешают в зале. Что осталось от прошлого года? Сад Рейфа в середине лета, здоровый ор маленького Томаса из открытого окна, нежное личико Хелен. Посол в садовой башне в Кэнонбери, растворяющийся в сумерках. Ночь падает на камни Виндзорского замка, словно на горный склон. В боковых улочках, менее чем в ярде от того места, где умер мученик Пакингтон, матросы втридорога продают мускатные орехи, украденные из корабельных трюмов, по ценам в три раза выше ноябрьских, которые уже были непомерны. Демонстрируя праздничное рвение, шайка лондонских мерзавцев нападает на французов из посольства, которые бражничают в «Петухе и ключах» на Флит-стрит. Они гонятся за французами, выкрикивая: «Бей французских псов!» В итоге один из французов убит, второй выжил, но получил много колотых ран. Возы с подарками толпятся у его дверей: жирные лебеди, куропатки, фазаны. А еще посол Шапюи посмеивается над бедами французов. Он приглашает гостя на скромный ужин, избегая вопросов о положении дел на севере. На самом деле Эсташ, благодаря связям с Дарси и прочими скользкими личностями, знает об этом больше него. – Итак, – говорит посол, – составители альманахов утверждают, что следующий год будет годом великих тайн. Он хмыкает: – Великих трат. – Генрих ест свой рождественский ужин из оловянной посуды. Все его золотые блюда переплавлены в монеты. Он пожимает плечами: – Нам приходится содержать огромное войско. Мы за короткое время собрали пятьдесят тысяч бойцов. Шапюи не верит, что у короля пятьдесят тысяч солдат, но удержаться не может – начинает подсчитывать расходы. – Видите ли, Эсташ, – говорит он, – вас ввели в заблуждение относительно англичан и их нрава. Вы разговариваете не с теми людьми. Поли и Куртенэ понятия не имеют, что происходит. А я имею. Император Карл бахвалится, что приведет сюда свою армию. Но это пустые слова, потому что, если один правитель помогает подданным другого бунтовать, – это дурной прецедент, который внушает его собственным подданным мысль о бунте. – Если вам от этого спокойнее, продолжайте так думать, – говорит Шапюи. В тишине они задумчиво поглощают ужин: пряная оленина, чирок, куропатки, кружочки апельсина, тонко нарезанные, словно солнечные блики. Сноп света пробивается сквозь падающий снег, торя дорогу в грядущий год. Двор скачет через Вестминстер и дальше на восток, в Гринвич, движущийся темный отпечаток на белом. Темза – мерцание льда, дорога среди замерзшей пустыни, тропа к нашему будущему, большак, что ведет нас к нашему Господу. Когда посол уходит, на часах три пополудни, а кажется, что гораздо позже. Он сидит в сгущающихся сумерках, просматривает свои памятные книги, составляет повестку первого в новом году заседания королевского совета. Кристоф приносит ему вино в бокале венецианского стекла. Он говорит: – Это кардинальский. Я выкупил его у герцога Норфолка. Он покупает вещи кардинала, где только увидит: портьеры, тарелки и книги из кардинальской библиотеки. При виде него новые владельцы смущаются и не смеют отвергнуть его оскорбительно невыгодные предложения. Если вещи не продаются, он находит иной способ их раздобыть. Посмотрите на эту шпалеру, под которой он сидит нынче. Шпалера изображает царицу Савскую, вышитую разноцветными нитями и золотом. Ее нежное лицо напоминает ему лицо женщины, которую он некогда знал. Шпалера принадлежала Вулси. Когда кардинал пал, король забрал шпалеру себе, а однажды в приступе щедрости отдал ему. Или, как он считает, вернул законному владельцу. – Иногда, – говорит он Кристофу, – я, как ты, воображаю другие жизни, которые мог бы прожить. Если у Генриха есть царственный двойник, то, возможно, есть и у него, живет себе в Константинополе, где куда безопаснее. В сравнении с Генрихом султан – сущий агнец. – Я мог бы быть французом, как ты, – говорит он Кристофу. – Или голландцем. Кристоф смотрит на стену: – Если бы женились на этой шерстяной даме. Он имеет в виду не царицу Савскую (помышлять о браке с ней еще возмутительнее, чем о браке с принцессой Марией), а Ансельму, антверпенскую вдовушку, чьи черты вытканы на шпалере. Может, в этом нет ничего удивительного. У художника должны быть модели. Вероятно, тот, кто придумал узор, разминулся с ней на улице, когда она спешила на пристань или выходила после мессы из церкви Онзе-Ливе-Фрау. Разминулся и подумал, интересно, что это за пухленькая вдовушка вышагивает под руку с английским чурбаном? Он просит Кристофа: – Принеси «Книгу под названием Генрих». Мне хочется записать мои мысли. И будь добр, побольше света. – Не пропустите ужин, – говорит Кристоф. Он видит, как его домочадцы о нем заботятся. Носятся со мной, словно крестные. Он берет перо. Господи, благослови.
Ты не можешь предугадать или до конца понять короля. Томас Мор этого не понимал. Поэтому я жив, а он мертв.Такую книгу не отдашь в печать. Она для глаз немногих.
Твои враги будут непрестанно чернить тебя, обвиняя в чужих злодеяниях и неудачах. Не трать слов – оправдываться всегда поздно. Не ослабляй себя сожалениями и не позволяй им ослаблять короля. Порой королю приходится действовать, опираясь на ложные сведения, и впоследствии санкционировать свои порывы.Он думает, что, если я заболею и буду лежать при смерти? Что делать с книгой?
Не бойся просить о чем угодно. Просите, и дано будет вам; но прежде прикинь цену. Король хочет выглядеть великодушным и при этом не сильно потратиться. Разумная для правителя точка зрения.Я могу оставить книгу Грегори, моему племяннику или Рейфу Сэдлеру. Но я не оставлю ее Рикардо или Зовите-меня. Вряд ли я могу их чему-то научить. И вряд ли они способны научиться.
Король верит, что, не будь он королем, он все равно был бы велик. Потому что Господь его любит. Король хочет нравиться и быть правым. Но более всего он нуждается в том, чтобы его выслушали очень внимательно. Никогда не пытайся его переспорить. Не льсти ему, лучше похвали за его настоящие заслуги. Задавай только те вопросы, на которые знаешь ответы. Никогда не задавай иных.Этот год был похож на прочие – один длинный королевский день от пробуждения короля до того, как он уснет. Впрочем, весь год можно свести к единственному мигу, подобно тому как стекло фокусирует солнечные лучи. Время, сжатое до единственного биения сердца – секунды, которой хватило для удара: отточенным движением француз взмахивает мечом. Затем женщины протягивают руки, их пальцы скрючены от страха прикоснуться к мертвой плоти, они наклоняются над телом, уносят его, щеки залиты слезами. В старых сказках огромное зеркало ставят перед королевским дворцом. Оно широкое, как небо, и три тысячи воинов охраняют его. К зеркалу ведут двадцать пять ступеней из порфира и серпентина. Даже ночью стражники охраняют зеркало, в котором отражается лишь укутанное тьмой королевство и, возможно, бледный звездный след.
Держи глаза открытыми. Помни, прежде всего он король, а потом уже человек. В этом и была ошибка Анны. Она решила, что он всего лишь человек.Он поднимает голову. В комнате никого, кроме тех, кто не считается. В такие минуты обычно входил призрак Вулси, заглядывал ему через плечо, подсказывал, что писать, пухлые белые руки кардинала, унизанные сверкающими перстнями, давят ему на плечи. Иногда ему нужно представить себе, что было бы, ворвись корнуольцы в Патни с бессвязным ревом, расшвыривая все на своем пути. Отец Шона Мадока сказал ему: «Они забирают мальцов вроде тебя и поджаривают на вертеле». Он засмеялся и ответил: «Я сам поджарю им задницы». В своем черном сердце он жаждал их, хотел услышать их топот. Услышишь его и перестанешь воображать. Пусть над холмом покажется лицо их великана или хотя бы макушка, и больше не надо будет о нем думать, рисовать его мысленным взором, потому что ты знаешь худшее: пройди с ним одну алую милю, пока он рвет на части твоих соседей, швыряя их руки и ноги в канавы. А что потом? Либо он убьет тебя, либо ты в числе немногих будешь собирать в корзины остатки Патни.
Не поворачивайся спиной к королю. И этикет тут ни при чем.Он готов закрыть книгу, но обмакивает перо в чернильницу и дописывает последнюю фразу:
Постарайся не унывать.
Часть третья
I Белильные поля
Весна 1537 г. Когда вы становитесь влиятельным, у вас объявляется родня, о которой вы не догадывались. Незнакомцы толпятся у ваших дверей, утверждая, что знают о вас больше, чем вы сами о себе знаете. Говорят, что ваш батюшка однажды помог им в беде – ну, это вряд ли – или что ваша матушка, царство ей небесное, хорошо знала их матушку. Порой уверяют, что вы должны им деньги. Поэтому, увидев в толпе просителей смутно знакомую женщину, он решает, что она тоже из Кромвелей. На следующий день замечает, что она без провожатого, и велит впустить ее. Крепкая, серьезная девушка. Хорошее сукно, думает он, оценив платье. На нее он старается не смотреть – оттого, что он смотрит на женщин, обычно случаются неприятности. – Простите, что вам пришлось прийти дважды. Сами видите, у этих дверей половина Англии. – Мне пришлось ждать больше, чем вы думаете, сэр. – Она свободно говорит по-английски, с антверпенским акцентом. – Я прибыла из-за моря от мейстера Воэна. – Вам следовало сказать сразу, вас впустили бы немедленно. Вы привезли письмо? – Нет. Обычно бумаге не доверяют дурные вести. Однако она держится невозмутимо: глаза скользят по гербу на стене и картинам, написанным подмастерьями Ганса. – А это кто? – Правители Англии. – Вы помните всех? Он смеется: – Они давно умерли. Мы придумали их заново. – Зачем? – Как напоминание, что люди становятся прахом, а государство вечно. – Вам нравится размышлять о старых временах? – Нравится. – Я предпочитаю историю страны, думает он, в моем времени и моей истории некоторых тем приходится избегать. Она задает простые вопросы, манеры свободные, и, очевидно, ее новости не стоят выеденного яйца – мелкие антверпенские сплетни, ради которых не стоит отправлять гонца. И все же зачем-то она их привезла. – Кристоф, вина для юной дамы. Не хотите имбирных вафель, изюма? Яблоко? – Когда человек съел яблоко, он познал грех. Впрочем, говоря это, она улыбается, а сев, смотрит вверх, на царицу Савскую за его спиной, где та в скромной диадеме радушно подает чашу мудрейшему из царей. Незнакомка бросает на него быстрый взгляд, она явно потрясена: – Откуда у вас эта шпалера? – Наш король подарил ее мне. В благодарность за службу. Она снова переводит взгляд на шпалеру: – А он ее где взял? – У моего покровителя Вулси. – А он? – В Брюсселе. Она явно пытается прикинуть цену: – Стало быть, ее купили не вы? – Мне это было не по средствам. Я не всегда был богат. Это Соломон и царица Савская. Полагаю, вы знаете Священное Писание. – А еще я знаю мою мать. Кубок у него в руке замирает на полпути. Она говорит: – Я дочь Ансельмы. Не знаю, почему она выткана на этой шпалере, но когда-нибудь разберемся. Он встает: – Добро пожаловать. Я не знал, что у Ансельмы была дочь. Я тоже спрашивал себя, откуда она взялась на этой шпалере. Из-за Ансельмы я всегда хотел ее заполучить. Смотрел и смотрел на стену, пока король не сказал: «Томас, мне кажется, эта дама должна жить у вас». – Он улыбается. – Стало быть, ваш отец… Он знает, за кого вышла Ансельма, когда он оставил ее и вернулся в Лондон. Знает его банк и семью. Но его имя всегда застревало у него в глотке. Она говорит: – Я знаю, о ком вы говорите. Моя мать вышла за него после моего рождения. Он хмурит брови: – Выходит, он не ваш отец? – Нет, – отвечает она. – Вы мой отец. Он опускает кубок. – Посмотрите на меня, – говорит она. – Разве сами не видите? Ее разрезанное на дольки яблоко лежит на тарелке, он разглядывает зеленую кожуру, тарелку, сине-белую, итальянскую, рисунок наполовину скрыт. Мысленно он дорисовывает недостающее. Она говорит: – Я пришла, потому что узнала от мейстера Воэна, что у вас беспорядки и вам угрожают некие паломники. Я хотела с вами повидаться. Он думает о своей дочери Энн, которая поднимается за ним по ступенькам, ее крепенькая фигурка раскачивается, пухлые ручки протянуты к нему. Он говорит: – Мои дочери умерли. – Знаю. От Воэна, конечно. Что еще он ей рассказал? И что не рассказал? Он спрашивает: – Как так вышло? – Тайну можно сохранить. – Я вижу. Его опыт говорит, что нельзя. Возможно, та плоская водяная страна протекает меньше, чем эта. Она говорит: – Моя мать не хотела, чтобы вас тревожили после вашего отъезда из Антверпена. Когда я спрашивала, где мой отец, она отвечала, что он уплыл за море. В детстве я думала, вы из тех моряков, что открывают новые страны и привозят оттуда сокровища. Он отводит взгляд. Смотрит на шпалеру, словно видит впервые: как если бы ему поручили распороть ее и соткать заново. Обычно на картинах царица смотрит на Соломона. Ганс, к примеру, написал царя в платье нашего короля и с лицом Генриха, а царица обращена к зрителю затылком. Но Ансельма смотрит вам прямо в лицо, отвернувшись от израильтянина, скрывая скуку за улыбкой. Она говорит: – Вам кажется, что я не похожа на мать. Скорее ты похожа на меня, бедная девочка. – Поймите, до сегодняшнего дня я не подозревал о том, что вы есть. – Я потрясла вас, простите. – Вы должны дать мне время, чтобы осмыслить… Ваша мать понесла до того, как я уплыл за море, и не сказала мне ни слова? – Так она решила. – Но почему не написала, если уже знала? Чего ради воспитывать ребенка в одиночку? Разумеется, – вздыхает он, – вы не можете мне ответить. С детьми о таком не говорят. Но я бы мог вернуться, женился бы на ней. Скажите ей… – Моя мать умерла. Простудилась этой зимой. В тишине он прислушивается к собственному сердцу: ничего, только слабый скрип пера, которое пишет в Книге жизни судьбу. Судьбу женщины, которую он некогда знал в чужой стране. К тому же давно не юной. Ее дочь говорит: – Матушка всегда хорошо о вас отзывалась. Хотя вспоминала редко. Она говорила, Женнеке, я не хочу, чтобы он считал тебя ошибкой, за которую должен платить. Он был молод, далеко от дома, я овдовела, нам обоим была нужна компания. Но, как вы говорите, при детях такое не обсуждают, поэтому я решила прийти сама и увидеть, какой вы на самом деле. Вы мне не рады? – Я потрясен, – говорит он. – Как я мог не знать, что у меня есть дочь? Как вашей матери удалось скрыть свое положение? Она пожимает плечами: – Как делают женщины? Она уехала. Я родилась в другом городе. – А потом вышла за банкира. – Для нее это была хорошая партия. Он был добрым мужем, ни в чем ее не упрекал, но у него были сыновья от первой жены, и ему не нужна была английская дочка. Меня воспитывали монахини, и они были добры ко мне. Затем мать отвела меня к Стивену Воэну. Научи ее английскому, сказала она, на всякий случай. Вот случай и представился. – Как мог Стивен знать и ничего мне не сказать? С каждым ее словом его изумление растет. Хотя ему доводилось слышать о подобных случаях. С его братом такое случается: если ты много путешествуешь и не отличаешься святостью поведения, рано или поздно на твоем пороге возникает призрак: угадай, кто я. Кардинал любил шутить, что он наплодил бастардов повсюду. Стоило приземистому бродяге попасться Вулси на глаза, тот говорил: «Смотрите, Томас, один из ваших». Шутки кончились. Он спрашивает: – Вы знаете, что Стивен Воэн в Лондоне? – Он будет браниться, – говорит она. – Он сам хотел выбрать подходящее время, чтобы рассказать вам. Говорил, Кромвель теперь большой человек, пользуется доверием короля, он защитник истинной веры, оберегает наших братьев и сестер, и потому не стоит подкидывать дров в огонь. Враги чернят его как могут и, если узнают о тебе, Женнеке, назовут еще и распутником. – И назовут. – А потом он сказал, тебе не надо становиться монашкой, Женнеке, с монашками покончено, а значит, пора замуж. И твой муж должен знать, чья ты дочь, иначе мы не найдем тебе хорошую партию. Ты незаконнорожденная, но ты другим не чета. Мы должны подготовить милорда твоего отца. А затем начались эти беспорядки. И я не стала ждать. Когда он протягивает к ней руки, она остается сидеть все с тем же выражением на лице – и его это восхищает. Он ищет в ней Ансельму, а находит себя. Почему же ты не пришла раньше, думает он. Когда я был другим человеком. Когда был привязан к дому и взбегал по ступенькам с песней на устах. Даже в прошлом году я был другим – до того, как встретил дочь Вулси. Она задела меня за живое, и рана затянулась, но остался шрам. Он спрашивает: – У твоей матери были еще дети? От банкира? – Нет, но она ни в чем не знала нужды. Как и я. Монашки научили меня всему, что потребно женщине. Позднее многие из них – те, кто были умны, прочли книги Эразма, его Новый Завет и стали еще умнее. Вы знали его? – Нет, только его книги. Хотя он был в Лондоне и жил у Томаса Мора. Загостился, говорила леди Алиса. – У Мора была жена? – Она переваривает услышанное. – Я думала, он был вроде монаха. Она ставит на стол тарелку. Большую часть яблока она съела, и теперь на тарелке проступает синий на белом городской пейзаж: колокольни, башенки, мосты через бурные речки. Он упомянул Мора неосознанно – в эти дни его имя у всех на устах, словно он до сих пор жив. И, слушая эти пересуды, невольно ожидаешь встретить его, шагая вниз по Чип. – Ты евангельской веры? – Меня посвятили. – И тебе известно – прости, я не знаю, говорил ли тебе Стивен, – что мое дело, мое главное стремление… – Издать Евангелие на английском. Да, я знаю, – говорит она. – Мейстер Воэн рассказал мне, что ваш отец был пивоваром, торговал шерстью и состоял в родстве с добропорядочным семейством Виллемсов, которые занимались правоведением. – Уильямсы. Мы произносим это так. – Он задумывается. – Все это правда. И хватит об этом. Нечего ей знать про Уолтера. – Это они помогли вам сделать карьеру? Уильямсы? Она схватывает на лету. Уже сейчас она выглядит не такой чужестранкой, как в первое мгновение, когда вошла. Он говорит: – Мне помог Вулси. Вероятно, Стивен рассказывал тебе, кто такой Вулси? – Мудрый прелат. Он умер. – Видишь герб на стене? Эти черные птицы называются галки. Они были эмблемой кардинала. – И ваши враги не злятся, когда их видят? – Злятся. Конечно злятся. Но вынуждены сжать зубы и сдержать проклятия. Они склоняют головы и говорят: «Надеюсь, вы в добром здравии, лорд Кромвель». Им приходится выдавить улыбку и преклонить колено. – Вы гордый. – Она смотрит на него во все глаза. – Вы мне нравитесь, и мне по душе ваш дом. Мне говорили, твой отец первый человек в Лондоне. Я не верила, а теперь верю. Я побуду с вами рядом пару дней. Хочу присмотреться и вынести собственное суждение. Что ж, разумно. – Я рад, что ты решила зайти. – Кто бы не соблазнился заглянуть в такой роскошный дом? Особенно если там живет твой отец. Он чувствует, что должен что-то сказать, извиниться – изобрести длинное объяснение, почему все не так, как кажется, – но за дверью слышны шаги и голоса, его домочадцы решили, что эта юная особа и так уже отняла у него слишком много времени. Он говорит: – Когда служишь Генриху Тюдору, ты не выбираешь, как выглядеть. Приходится быть придворным, а не писарем. А простым людям за воротами ты должен показать, что такое королевская милость. Им недосуг разбираться. Если не задирать перед ними нос, они перестанут тебя уважать. Ему хочется сказать, я был счастлив в черном адвокатском платье. Но так ли это? Он думает, оно служило мне для маскировки. Это не значит, что я не желал ничего другого. Разве я не завел пурпурный дублет задолго до падения кардинала? Дверь открывается. На пороге Томас Авери, удивленно смотрит на гостью: – Силы небесные, Женнеке, что ты здесь делаешь? – Томас Авери, это моя дочь. Молодой человек стоит, прижав к груди ин-фолио и не сводя глаз с Женнеке: – Знаю. Когда Женнеке уходит, он зовет Авери, приглашает присесть. Если бы тот хотел, он предложил бы ему яблоки, хорошие, из Чартерхауза. – Я не сержусь, – говорит он. – Говори, Томас Авери, ты же из Патни, моя родня знала твою, нам незачем кривить душой. – Это не довод, – осторожно отзывается Томас Авери. – В Патни живут такие же негодяи, как везде. Даже хуже. – Я имел в виду, мы можем быть откровенны друг с другом. Во взгляде Авери читается: вы сами-то верите в то, что говорите? – Ты встретил ее в доме Стивена, когда я отослал тебя обучиться его ремеслу, не так ли? Ты вернулся и рассказывал мне о ней. Женнеке. Ее имя так часто слетало с твоих губ. Я решил, что ты влюбился. Авери молчит. Руки праздно лежат на столе. – Я подумал, поможем Авери, даже если она сирота и бесприданница, мы со Стивеном все устроим. Но ты больше о ней не упоминал, и я решил – Господи прости, – что она умерла, и не стал спрашивать. Я ждал, что скажешь ты. А теперь… Он чувствует, что близок к разгадке, но что-то мешает. Мертвое оказалось живым: словно Ансельма одна из тех статуй, что показывают монахи, – тех, что вращают глазами и протягивают деревянную руку, чтобы поправить лазурное облачение. Авери говорит: – Сэр, когда я вернулся из Антверпена, Женнеке стояла у меня перед глазами как живая, и в этой самой комнате я смотрел на вас, изучал ваше лицо, и снова пересек море, и снова смотрел на Женнеке. Вы же сами заметили сходство, и от меня оно не ускользнуло. Я спросил мастера Воэна. Он отвечал, ты прав, Авери, но сохрани это в тайне. Я понял, что случайно раскрыл чужой секрет. Воэн сказал, я не стану просить тебя принести клятву, ибо это можно делать лишь в самых серьезных случаях, и надеюсь, когда-нибудь правда выйдет наружу, но не через тебя. – И ты хранил мою тайну. О которой я не подозревал. – Он изучает Авери. – Что ж, сумел сохранить один секрет, сумеешь и другой. Юноша встает, тянется к бумаге, но он поднимает руку: – Сиди тихо и слушай. Я скажу тебе, где мои деньги. Авери удивлен: – Сэр, я веду дела с вашими сборщиками и землемерами. Ваши писари мне доверяют. Если они что-то утаили, я бы знал. – Я ценю твое усердие, но есть еще кое-что. – Вот как. – Авери задумывается. – За границей? Он кивает. – Зачем? – На всякий случай. – Но разве король не сказал – простите меня, сэр, но об этом толкует весь город: «Я не расстанусь с моим лордом – хранителем печати ни за что на свете». – Так он сказал. Авери опускает глаза: – Мы знаем, его величество любит вас. Плоды этой любви мы наблюдаем ежечасно. Но мы боимся, что страна снова поднимется, и кто знает, чем это обернется? Не то чтобы мы сомневались в нашем государе и его слове, но кто мог сравниться с милордом кардиналом во дни его славы? – Его пример всегда передо мною. – Но не его призрак, который с возвращения из Шефтсбери так и не появлялся. – Поэтому если герцог Суффолк или герцог Норфолк вломится в этот дом, срывая замки и круша мои сундуки, словно варвары на развалинах Рима, ты, Томас Авери, беги отсюда со всех ног, не потрудившись спросить, что происходит. Не останавливайся даже для того, чтобы проклясть их, просто беги. А как только сможешь отправить письмо за границу, напиши тем, чьи имена я тебе назову. Генрих наложит руку на мое имущество и решит, что забрал все, но на самом деле будет… не скажу «обманут», я не стал бы обманывать моего короля, – скажем так, он получит не полные сведения. – Он наблюдает за Авери. – Справишься? Или эта задача слишком тяжела? Юноша кивает. – Отлично. Потому что Ричард слишком горяч для подобного посмертного поручения. Рейф в курсе всех моих дел, но я не хотел бы испытывать его верность, ибо он слуга короля и отвечает перед Генрихом. Он говорит: – Грегори еще слишком юн. Ему нужна поддержка. А теперь мне придется заботиться еще об одной девушке. – Куда она пошла, сэр? – Искать Воэна. Интересно, что она ему скажет. Он был бы рад породниться с Авери, но тот несвободен, обручен с дочкой эконома Тэкера. Они стараются держаться вместе, мальчишки из Остин-фрайарз. Возможно, среди них найдется жених для его дочери. Однако что-то в поведении Женнеке говорит ему, что она здесь не останется. Она удовлетворила любопытство, своими глазами взглянув на знаменитого отца. Возможно, в детстве она высматривала в водах Шельды его корабль, но те дни миновали, ее детство давно позади.Охранная грамота Аску действует до Двенадцатой ночи. В Гринвиче на Рождество король просит главу мятежников составить отчет о беспорядках на севере: от первых признаков волнений осенью до зимнего похода под флагом перемирия. Отчет занимает у Аска два-три дня. Он трудится в натопленной комнате, подкрепляясь лучшей говядиной и кларетом. Готовый отчет доставляют лорду – хранителю печати, который проводит праздники, разбирая письма из Кале. Население города приросло за счет французов, которые перебираются на английскую территорию, стремясь стать англичанами. Этой зимой запасы зерна оскудели, четыре сельди стоят пенни, и нужно придумать, как прокормить город. На губернатора надежды никакой. Лайл не сумеет сварить яйцо. Милорд хранитель печати откладывает письма и читает повесть о Паломниках, написанную Аском. – Удивительная книжица, – говорит он наконец. – Странно, что адвокат так хорошо владеет пером. Аск пишет о себе как о персонаже: «вышеуказанный Аск». Он говорит, чем занимался среди восставших, но не говорит почему. – Аск повидался с королем, – замечает милорд хранитель печати. – Король повидался с Аском. Он сделал свое дело. Пусть возвращается в Йоркшир. Аск должен ехать немедленно вместе с обещанием королевского прощения, чтобы подавить слухи, будто его повесили или, того хуже, посулили ему высокий пост. Ни один подданный не откажется провести Рождество с королем. Однако этот визит подрывает доверие к Аску – йоркширцы скажут, что он продался. Так или иначе, не стоит думать, что Аск в одиночку может командовать городами и графствами. Знамя Пяти Ран видели даже в Корнуолле, куда его доставили Паломники, которые прошли через всю страну к Уолсингемской часовне, что в Норфолке. Разве не в этом суть паломничеств? Милорд хранитель печати считает, незачем идти для молитвы в другие графства. Что мешает делать это дома? Дешевле обойдется. Тебя не ограбят на большой дороге, ты не разнесешь заразу и не притащишь ее в дом. А кроме того, Уолсингемская часовня бесполезна, говорит король. «Я ездил туда молиться за нашего с Екатериной сына, но он прожил два месяца. Впрочем, Джейн все равно захотела поехать. У женщин свои капризы, и они доверяют святым местам. Она молилась, чтобы ее утроба понесла… И что? И ничего». Чтобы подкрепить свои мирные намерения, король задумал посетить север. В Йорке на Троицу он откроет парламент и коронует Джейн. В крайнем случае, на Михайлов день. В Йорке же будет заседать конвокация, дабы северные церковники высказались, как нам молиться Богу, а не внимали молча указаниям из Кентербери. Впереди короля поедет герцог Норфолк – наведет порядок и расправится с любыми нарушителями новообретенного мира. Норфолк получит титул королевского наместника и прибудет не во главе войска, а со свитой. Тем временем джентльменам, вставшим на сторону мятежников, добровольно или под принуждением, приказано одному за другим предстать пред королевские очи, дабы объясниться и получить прощение. Когда север лишается своих предводителей, вперед протискиваются кожевники и мясники, пишут воззвания и прибивают их к церковным дверям. Граф Камберлендский сообщает, что опасно отправлять гонца с письмом, адресованным Кромвелю, – его убьют, не разбираясь, что в письме. Война бушует на церковных кафедрах и в печати, в ратушах и на рыночных площадях: оскорбления, прокламации, драки. На королевских гонцов и даже герольдов нападают без всякого уважения к их званию. Поскольку король согласился исполнить насущные требования Паломников, перемирие сохраняется. Но всему есть предел – повернуть время вспять нельзя, не стоит и пытаться. Король тревожится о доходах казны в этом году, и он, лорд – хранитель малой печати, пытается оценить недобор на севере, где налоги не платили с прошлого сентября. В середине января Рейф Сэдлер отправляется в Шотландию – встретиться с королевской сестрой Маргаритой, которая жаждет аннулировать третий брак. В пути он видит, как непрочен порядок в стране. В Дарлингтоне сорок человек с дубинками выстраиваются вокруг постоялого двора с недобрыми намерениями. – Вот и Рейф нашел себе наконец опасности, – замечает милорд хранитель печати. – Не будет жаловаться, что его жизнь слишком спокойна. Рейф обращается к осаждающим из окна, дрожа на пронизывающем ветру: под окном он сжимает кинжал. К счастью, им невдомек, что Рейф – названый сын Кромвеля, иначе его вытащили бы на улицу и тут же прикончили. Он боится, что в Шотландии будет еще хуже. Впрочем, опыт учит: даже сорока вооруженным йоркширцам не сравниться с Генрихом, когда тот не в духе. – Посмотрим, что они запоют, когда к ним приедет король, – с облегчением вздыхает милорд хранитель печати, но в глубине души не уверен, что это случится. Нас беспокоит судьба друзей на севере. Когда лорд Латимер едет в Лондон дать отчет о своем участии в событиях последнего года, толпа мятежников захватывает замок Снейп и берет в заложники его жену Кейт. В Доме архивов и в Остин-фрайарз молодые писари округляют глаза и пихаются локтями: «Наш хозяин поскачет ей на помощь – ему придется, ведь она его нареченная». Впрочем, если верить северянам, его нареченная – королевская племянница Маргарет Дуглас и он ждет, что король объявит его своим наследником. Он спрашивает: – Интересно, женитьба на Маргарет Дуглас отменяет брак с принцессой Марией? Или мне придется жениться на обеих? Мятежники считают меня еретиком, но они же не думают, что я магометанин, чтобы иметь в каждом городе по жене? Грегори говорит: – Я не отказался бы выбрать себе мачеху, но кто меня спрашивает. Все эти дамы не намного меня старше. И кстати, – удивленно вопрошает Грегори, – почему эти люди считают, что милорд мой отец переживет Генриха и будет править после него? Они не слишком высокого мнения о докторе Беттсе и его врачебном искусстве. Новость о незаконной дочери отца Грегори принимает спокойно. Он рад, что у него снова есть сестра. – Когда мой отец станет королем, – говорит Грегори, – и женится на Кейт, жене Латимера, а также на Мег Дуглас и Марии Тюдор, ты станешь принцессой, Женнеке, и мы с тобой будем править золотой колесницей, запряженной белыми конями, и, подобно Фебу, проноситься по Уайтхоллу, разбрасывая народу булочки, а народ скажет, с виду они неказистые, но посмотрите, как сияют их лица! И будут жевать булочки и славить нас, пока мы будем проноситься мимо. Ты же останешься? Что может дать тебе Антверпен по сравнению с этим?
Когда ему удается выкроить вечер, он сидит с дочерью, а в окна кабинета сочится отраженный от снега свет. – Эти книги? – спрашивает она. – Книги по юриспруденции. Она кивает: – Это было вашим ремеслом. Он спрашивает: – Как Антверпен? Я пытаюсь представить его. Слышал, в Онзе-Ливе-Фрау был пожар, рухнула крыша. – Это была катастрофа, – отвечает она. Ему приятно, что она знает слово. – Началось с единственной свечи. Рухнули все балки трансепта, разрушили нижний ярус. Некоторые из нас говорили, это Господь сокрушает идолов. – Когда я вернулся сюда, то первое время скучал по Антверпену, – говорит он. – Я привык к тамошней жизни и остался бы без особых уговоров. Поверь – знай я, что твоя мать носит под сердцем дитя, я бы ее не бросил. Я бы не потащил ее в Англию, – понимаешь, я возвращался после многих лет на чужбине, у меня не было ни покровителя, ни надежных средств к существованию. Он видит себя: молодой холеный итальянец, лицо сосредоточенное, взгляд зоркий. Что осталось от того юноши? В любом помещении он по-прежнему отмечает про себя, где выход. Не любит, когда кто-то стоит за спиной. Сейчас, садясь в кресло, он откидывается на спинку. Руки – еще недавно занятые перочинным ножиком и пером, писанием писем чужим людям – расслаблены и сложены вместе: правый кулак в левой ладони.Можно подумать, он молится, но легкое движение плеч, подбородок опускается – и вот уже кажется, будто он готов броситься в драку. Он говорит дочери: – Я прощаю Стивена Воэна, делать нечего, он хотел как лучше, хотя для меня было бы утешением твое присутствие. Так бывает. Непонимание. Расставания. – Стивен Воэн рассказывал мне о вас, – отвечает она, – с тех пор, как я была неразумным дитем. Он не стал бы восхищаться человеком слабым и недалеким. Вы для него – второй после Господа. – В Антверпене знают, чья ты дочь? – Догадываются. Вас помнят в городе. Он сомневается. Английские торговцы говорили, иди, Томас, принеси нам последние сплетни. Расскажи, о чем говорят соседи. Когда собираются в кружок и толкуют на местном говорке, что они хотят от нас скрыть? В те времена с лица у него не сходило выражение дружелюбного изумления; молодой человек, жадный до новых знаний. «Что может дать тебе Антверпен?» – спросил Грегори Женнеке. Некогда он и сам задавался этим вопросом. В Италии думаешь, здесь есть все, что мне нужно: туманная даль, что открывается с бельведера или с башни, эта синева, это золото. Жара пробивается сквозь листву, свет скользит по мозаике, с которой на меня смотрят древние глаза. Да, кое-что, связанное с Италией, он предпочел бы забыть. Чему можно научиться у голода и боли, нужды и бегства? Он помнит дни, когда его единственной заботой было найти укрытие, чтобы не замерзнуть ночью на улице. Однако во Флоренции его судьба переменилась. Именно там – а еще в Венеции, в Риме – он научился коварству и уклончивости, научился всегда быть начеку, всегда быть готовым оскорбиться или сделать вид, что оскорблен. А еще отвечать мягко, если соотношение сил не в твою пользу. В Италии он научился красться ночами, шептать на ушко, кланяться знатным. Намекнуть или подать совет в нужное время – тихим голосом, чтобы вельможа мог приписать заслугу себе. Со временем его начало снедать беспокойство. Он думал, что дальше? И когда высадился в Антверпене, решил, что можно узнать больше. Небо такое широкое, земля такая ровная, и все дороги открыты. В Италии учишься хитрости, в Антверпене – гибкости. А какие там товары! Выходишь за дверь, и покупай себе алмаз или метлу, а хочешь ножи, подсвечники и ключи, скобяные изделия, что угодят самому придирчивому взгляду. Там делают мыло и стекло, коптят рыбу, торгуют квасцами и долговыми расписками. Можешь купить перец и имбирь, семена тмина и аниса, шафран и рис, миндаль и инжир. А еще бочки и горшки, гребни и зеркала, хлопок и шелк, алоэ и мирру. У него уже были друзья в городе. В тот день, когда он впервые отплыл из Англии, судьба свела его с суконщиками, которые заметили на его лице ссадины от отцовского башмака. Мы тебя не забудем, сказали они, и, когда бы ты ни оказался в нашем городе, тебя всегда будет ждать постель. Прошли годы. «О господи! – воскликнули братья, когда он постучался в их дверь. – Неужто Томас? Как он вырос! Теперь он итальянец!» В Антверпене ты тем успешней, чем больше языков знаешь. Если ему не хватало фраз на одном, он переключался на другой, и его рвение возмещало недостаток слов. Как и в Италии, он искал общества рассудительных и немолодых, чья застольная беседа отличалась изяществом. Тех, кто делился мудростью с молодым чужестранцем, который восхищался ими, засыпал их вопросами и почтительно выслушивал ответы. Таким солидным людям всегда нужны те, кто умеет хранить секреты, как и те, кто доставит тайное послание и вернется с ответом, не успеешь моргнуть глазом. Зато тебе придется довольствоваться их мирным укладом: никаких тебе кальчо, в лучшем случае добропорядочная стрельба из лука по воскресеньям. Сукно продают под открытым небом, но все равно в этих дворах никуда не деться от запахов жира, чернил и готовки, пропитавших темную зимнюю одежду; он выходил прогуляться и в тени замка Стен с его складами вдыхал речной воздух и воображал широкий мир. Несколько сотен его соотечественников (англичан то есть) жили внутри и вокруг Английского подворья бок о бок с кастильцами, португальцами и немцами, но поскольку они хорошо платили городу за свои привилегии, то были в почете. Когда прибывали корабли, англичан первыми обслуживал портовый кран, приводимый в движение человеком в ступальном колесе. Однажды он спросил у антверпенца: – У крана есть имя? Изумленный взгляд. – Мы зовем его краном. Он думал, если у пушки есть имя, если у колокола есть имя, почему бы не быть имени у крана? – Это не лишено смысла. Фламандец рассмеялся: – Можешь называть его Томасом, если хочешь. – Кстати, – заметил он, отходя, – колесо будет работать гораздо лучше, если крутить снаружи, а не изнутри. Нечего и думать поколебать предрассудки этого чужого города. Но он из тех, кто думает о подъеме тяжелых грузов, о балках и шкивах, о стыках и о том, как уменьшить трение. Конечно, они перемывали ему кости, когда он поселился у Ансельмы. Она показала ему страну, познакомила с теми, кто мог ему пригодиться, с родными. Однажды в Генте они зашли помолиться в церковь Иоанна Крестителя. Громадные алтарные створки, за которыми к Агнцу стекались толпы ангелов и пророков, открывали только по праздникам. Вместо этого они увидели только донаторов на внешней стороне створок. Оба в летах, она морщинистая, он лыс, но, несомненно, исполнены благодати. Он подумал тогда, лет через тридцать мы будем такими же. Я забуду английский и стану настоящим фламандцем, дородным бюргером, и буду гонять молодых и быстроногих на пристань вместо себя или забираться повыше – разглядеть в море свои корабли. В церкви было многолюдно и шумно, но они слышали шепот друг друга: их головы сблизились, ее пальцы скользнули в его ладонь. Их дыхание смешалось, она оперлась на него, мягкая и теплая. – Господи, сделай меня хорошим, но не сейчас. Она рассмеялась, и он сказал: – Это не я, а Блаженный Августин. Но придет день, и она скажет ему: «Время отправляться за море, Томас. Теперь ты мое прошлое, а я – твое».
Он идет в Тауэр допросить Роберта Кендалла, викария Лута, зачинщика волнений в Линкольншире: таким, как он, не видать королевского прощения. Тучи нависают над городом, словно синевато-серые воздушные крепости, ветер молотит их, будто канонада. С ним мастер Ризли. Ему не хватает Рейфа, но тот едет в Ньюкасл, где будет ждать охранной грамоты на пересечение границы. Реджинальд Поль уехал из Рима в новой кардинальской шапке. Теперь, когда заключили перемирие, Поль упустил шанс вторгнуться в Англию, хотя шотландцы и обещали ему помощь. Когда лорд Кромвель узнает, что Поль на пути в Париж, Фрэнсис Брайан пересекает пролив с требованием об экстрадиции. Реджинальд прибывает в столицу, но короля нет на месте. Разочарованный и обиженный неласковым приемом, загнанный в угол, он бежит на территорию императора, однако наш человек в Брюсселе уже убедил императорскую наместницу не принимать его. Родные нового кардинала – мать леди Солсбери, брат лорд Монтегю – по-прежнему утверждают, что не поддерживают его глупую выходку. Их единственное желание, чтобы Реджинальд был доволен и верен Тюдорам, как и все они. Послушать их, так, встретив Реджинальда в алой шапке, они немедленно сорвут ее у него с головы и оплюют. Господин Поло зовут его испанцы, что неизменно смешит лорда – хранителя малой королевской печати.
– Я слышал, у вас была гостья, Кромвель, – говорит императорский посол. – Правда? Почему бы вам не рассказать мне об этом, Эсташ? Посол машет рукой: – Неудивительно, что ваши соседи судачат. Не каждый день увидишь дочь царицы Савской с дорожным мешком. Приносят обед: по случаю холодов это густое рагу из барашка и пирог с говяжьими языками, щедро сдобренный мускатным цветом. – Ça va, Christophe?[150] – спрашивает посол, но Кристоф только ворчит, гадая, сколько пирога ему достанется. – Жалко, что сейчас не весна, – говорит Шапюи. – Я, словно еврей в пустыне, тоскую по египетским дыням и огурцам. – Он вздыхает. – Мон шер, не вините меня в том, что ваши любовные похождения волнуют всю Европу. До сей поры наблюдатели удивлялись вашему благоразумию. – Это старый грех, – говорит он. – Если его можно назвать грехом. Шапюи накладывает себе немного рагу. Аромат сушеного шалфея наполняет комнату. – Думаете, ваш лютеранский Бог поймет? – Я устал повторять вам, что я не лютеранин. – Не трудитесь, я все равно не поверю, – добродушно замечает посол. – Вы определенно принадлежите к какой-то секте. Может, к той, что против крещения младенцев? Не сводя глаз с посла, он некоторое время жует. Эти слухи распространяет молодой Суррей и другие недоброжелатели. Верный способ подорвать доверие короля к нему, и Шапюи об этом знает. – Кристоф, – спрашивает он, – где каплуны? – Откладывает салфетку. – А что, похоже? – спрашивает он посла. – Могу ли я исповедовать такую ересь и оставаться слугой христианского государя? Сектанты выступают против налогов, отказываются давать присягу. Не признают книг, грамоты, музыки. – Тем не менее ходят слухи, что секта окопалась где-то в Кале. И лорд Лайл бессилен с ней справиться. Кристоф несет каплунов. Мясо, нарезанное кубиками, томленное в красном вине, в соус для густоты добавлены хлебные крошки. – Сколько мяса! – замечает Шапюи. – Однако на вкус лучше, чем на вид. – Скоро пост, и вы еще поплачетесь о котлах египетских и даже не вспомните о дынях и огурцах. Посол шлепает себя по губам: – Что вы будете делать с новообретенной дочерью? Думаю, потихоньку выдадите замуж, дав богатое приданое. Вы собираетесь признать ее перед миром? – Будет тяжело скрыть правду, если вы кричите о ней на всех углах. – Это чудо, – говорит Шапюи. – Словно воскрешение Лазаря. Хотя кто знает, обрадовало ли это событие его родных? Он тоже об этом думал. Обрадовались ли они, когда его увидели, или решили, что он зазнался, нарушив всеобщий закон? – Что ей было нужно на самом деле? – спрашивает Шапюи. – Хотела меня увидеть. Говорит, что не останется. – Вернется в свое убежище еретиков? – Заботами вашего императора, это не про Антверпен. – Как я понимаю, этот город – настоящие катакомбы. Туннели и подвалы, целый подземный город, незаметный сверху. Впрочем, вы ведь бывали там в молодые годы? – Разумеется. Это просто склады. Ничего больше. Шапюи говорит: – Если хотите удержать дочь в Англии, соблазните ее дарами. Отоприте ваши сундуки и потратьтесь. Ни одна женщина на свете не устоит перед ниткой жемчуга или драгоценной каймой. В Антверпене вы открываете дверь, которая, как вам кажется, ведет в соседнюю комнату. Вместо этого у вас под ногами лестница, уходящая в глубину. Вы таращитесь в темноту, вы ползете, как улитка, задевая стены плечами, нащупывая край ступеней подошвами. Впрочем, спустя неделю вы резво носитесь вниз и вверх, а ноги сами находят дорогу. Но только в вашем собственном доме. В соседнем снова берегите шею.
Остин-фрайарз, январь. Его дочь в потоке расщепленного света листает часослов, принадлежавший Лиззи Уайкис: – Какой она была, ваша жена? Что ей ответить? Мы были людьми практичными и старались делать друг другу добро; она умерла, я по ней скучал. Ее любовь была глубокой и суровой, а когда она отчитывала детей за проступки, то могла сказать: «Я говорю это тебе ради твоего же блага». Выходя в люди, надевала модный гейбл, но дома носила простецкий чепец. Она вечно составляла списки, вела учет припасов; слуги так безалаберны, за всем нужен глаз да глаз. Она держала список его грехов в кармане фартука, а порой вынимала и сверялась с ним. Когда пошли дети, дом превратился в женское царство. У Элизабет хватало родственниц. Они знали его семью, его историю и, вероятно, никогда не думали, что он способен подняться выше. Они были очень добры к нему, очень мягки. Однажды он слышал, как двоюродная сестра сказала Лиз: «Твой муж правда старается». Он не расслышал тихого ответа жены. Вполне может быть, что она сказала: «Старается, да все без толку». Когда они поженились, он сказал, я могу обещать одно – ни одна моя женщина не будет бедствовать. Он надеялся стать хорошим мужем, бережливым, верным. Он был очень бережливым и по большей части верным. К тому времени, как родилась Грейс, он работал на Вулси не покладая рук. Родственницы Лиз смотрели на него настороженно: где ты пропадал? Словно он пропадал в каком-нибудь нечестивом месте. Они ждали, когда он проявит свою волчью сущность и папаша Уолтер вырвется наружу. К его возвращению из Антверпена Уолтер стал значительным человеком. Некогда он расширял свои угодья, выдергивая соседские межевые столбы, но теперь владел честно купленными акрами, вкладывался в пивоварню и даже переманил из-за моря голландца – обучиться его секретам пивоварения, в котором, как известно, голландцы большие доки. Его шурин Морган сказал ему: – Томас, сходи как-нибудь в Патни. К отцу. Увидишь, какой он живот отрастил, в какой шляпе ходит. Теперь он церковный староста. – Если ты советуешь, – ответил он, – пожалуй, взгляну. И этот день настал. Не успел он взглянуть на Уолтера, как его заметили соседи. Слух быстро облетел всю округу. Какой-то зевака сказал: – Да это ж чертов малец Ножи-Точу! Интересно, где его носило? Он не счел нужным отвечать. – И не стыдно ж сюда являться, – сказала женщина. – Думает, его тут забыли. Ему было нечего на это сказать. – А мы думали, ты помер! – воскликнул кто-то. Он не стал поправлять. Потом поднял глаза и увидел идущего навстречу Уолтера. Шляпы тот не прихватил, зато прихватил пузо. Оно его не смягчило. Уолтер был трезв и побрит, но по-прежнему выглядел так, словно готов сбить с ног первого встречного. Кузница никуда не делась, хотя Уолтер в ней больше не работал: когда он протянул руку, она была розовая и чистая, а ожоги почти сошли. Он, Томас, огляделся. Инструменты на подставке, кожаный фартук на крюке, до сих пор пахнущий дубильной мастерской. Впрочем, возможно, ему это все почудилось: пот, соль, дерьмо – ароматы его детства. Уолтер сказал: – Опись составляешь? Я еще не помер. Он не ответил. – Решил вернуться? – спросил Уолтер. – Нет. – Мы для тебя недостаточно хороши? – Да. Люди вечно внушают тебе: прости и забудь. Вечно убеждают себя, делай, как отец, – будь таким, как он. Молодые клянутся, что мечтают о переменах, о свободе, но на самом деле свобода смущает их, а перемены вгоняют в дрожь. Оставь их на большой дороге с котомкой и свежим ветром, дующим в спину, – не одолев и мили, они заплачут без хозяина: им нужен кто-то, кого они будут слушаться. Он предпочел стать исключением. Прошел не одну милю. Впрочем, возможно, он не так сильно отличается от других. Мальчишкой, до того как сбежать, он хотел быть Уолтером, только почище. Думал, придет день, старик откинется и его закопают, и тогда я, Томас, стану хозяином пивоварни и овцеводом, а в кузне будут работать подмастерья, которых я выучу, потому что везде не поспеешь. Чем-то (своим теплом) кузня зимним днем привлекает бездельников со всей округи, и они толпятся рядом, чешут языками, пока свет в небе не погаснет, оттенки от алого и вишнево-красного до бледно-соломенного не сменятся черным, не сменятся луной, истоптанной ногами припозднившихся гуляк. День прошел, и что он может ему предъявить? Гвозди и штифты, крючья, вертела, скобы, шкворни, прутья, засовы. Во Флоренции и позже в Антверпене Уолтер преследовал его во сне. Он просыпался, скрючившись от боли, пылая от ярости. И все же вернулся в Патни. Когда Уолтер преставился, соседи оплакали потерю: нового, исправившегося Уолтера. Тогда он еще верил в чистилище и, хотя заплатил священнику, чтоб молился за отцовскую душу, надеялся, что засовы там крепкие. Он не считает нужным, чтобы внуки Уолтера поминали того в молитвах. Энн из тех детей, что вечно капризничают и орут, не закрывая рта, сводя с ума няньку. Лиз зовет ее жадиной. Она вечно чего-то хочет, но никто не знает, чего именно. Все мы рождены во грехе, наши души уже запятнаны, и Энн тому доказательство. Невыносимый ребенок. Раскидывает и разбрасывает все, до чего дотянется. Будет сидеть на ступеньках под дверью его кабинета, пока он не сдастся и не посадит ее под стол к собаке, где она немедленно начнет крутить Белле уши и бубнить себе под нос. – Бога ради, дочка, ты бы лучше книжку почитала. – Рано еще, – говорит она. – Вот будет мне шесть. – А тебе сколько? (Он сбился со счета.) – Не знаю. Хороший ответ. Откуда ей знать, если он сам не знает? Он вынимает дочку из-под стола и обещает, что научит ее читать. – Только должна тебя предупредить, мне нельзя давать в руки книжки. – Продолжает маминым голосом: – Этой девчонке что ни дай, все испортит. Можно подумать, она выросла на помойке. Только посмотрите, что с собой сделала. Когда Энн берется за иголку, на ткани остаются кровавые пятнышки. Лиз говорит, ей больше подошло бы сапожное шило, вот только сапожники не болтают без умолку. Он не позволяет жене отшлепать Энн – усердия ей не занимать, а за остальное, он считает, наказывать не стоит. – Думаю, она это перерастет, – говорит Лиз. Как Грегори перерастет свои ночные кошмары, в которых демоны, живущие на южном берегу, подкупали стражников, чтобы их впустили на мост. Или переправлялись на лодках, оставляя от лодочников кровавые следы на причале. Или переходили темные воды вброд и крались по улицам на мягких перепончатых лапах, выглядывая Грегори Кромвеля, чтобы сжевать его и проглотить. Когда Грегори требует сказку, он просит рассказывать одну и ту же, пока не запомнит ее, не получит в собственность. Теперь ее можно тихонечко рассказывать себе самому: храбрые рыцари Гавейн и Галахад, великаны Грох и Вад. Однако Энн недовольна: «Мы убили чудище вчера, там нет никого пострашнее?» Что дальше, спрашивает она, что дальше? У нее в руках все горит. Она постоянно чего-то добивается, ее личико вечно сосредоточенно: женщины говорят ей, не морщись, Энн, а то такой и останешься и никто не возьмет тебя замуж. Перед Рождественским постом он смастерил для Грейс крылья из павлиньих перьев, орудуя перочинным ножиком и тонкой кисточкой, приклеивая перья к ткани с помощью клея из луковиц колокольчиков. «Тяжело мастерить такое при свече», – заметила Лиз. Но дни коротки, и у него не было выбора, если он хотел поспеть к рождественскому спектаклю. Он молился, чтобы его не вызвали по делу, пока не закончит работу; он был вечно в дороге, добывал деньги для кардинала. Он хотел бы объяснить Грейс, что обеспечивает ее будущее, но как ей понять, если его вечно нет дома, а если он и приходит, то в ту пору, когда огни погашены, а добрые люди видят десятый сон? Порой он стоял у двери в комнату, где его дочки спали вместе с молоденькой служанкой, сплетясь на кровати, словно щенята. Раз, только раз за все ночи Грейс подняла голову и посмотрела на него из темноты, а в ее широко открытых глазах отражалось пламя свечи. Возможно, она решила, что он ей снится, как она снилась ему. На ее лице не было выражения, ничего, что осталось бы в памяти, – он помнил только занавески, словно изгиб темноты, сияние белой простыни, бледное личико и пламя в ее зрачках. Женнеке говорит: – Вам тяжело пришлось, ваши дети умерли такими маленькими. Я спрашиваю себя, почему вы не завели новую семью? – У меня был Грегори. – Но вы могли жениться. Он и сам не знает почему. Возможно, не хотел ни перед кем отчитываться, признаваться, что у него на душе. Во времена Лиззи это не имело значения – в его мыслях не было ничего тайного. Иные могут завернуть прошлое в аккуратный сверток – и с глаз долой, но это не для него. Однако, глядя на Женнеке, он не в силах удержаться от фантазий. Поженись они с Ансельмой, были бы у них еще дети? Возможно, он оказался бы плодовитее банкира. Но тогда не родился бы Грегори. Его душа до сих пор скиталась бы неприкаянной в поисках тела. Энн и Грейс тоже не были бы зачаты. И этот дом не был бы его домом. В его памяти не было бы дня, когда ему сказали, что его жена умерла. И другого, когда его дочерей зашили в саваны и отнесли на кладбище: двух маленьких невесомых девочек, ничем не владеющих, почти не оставивших по себе воспоминаний. – И как вы обходились потом? – спрашивает дочь. – Без женщин? – Ты очень прямолинейна. – Англичанка бы не спросила? – В лицо – нет. Гадала бы про себя. Слушала сплетни, добавляла к ним свое. Придумывала бы что-нибудь. – Лучше говорить правду. Конечно, – добавляет она, – женщину можно купить. Уж наверняка ваши люди все вам устраивают. Они вас боятся. – Я и сам себя боюсь, – говорит он. – Никогда не знаю, что сделаю завтра.
Он идет ко двору: в его суме чертежи военных механизмов. В этом деле лучше вести дела с королем, чем с Норфолком, который живет прошлым. Однако его останавливают пажи: у короля шесть французских торговцев, чьи сундуки ломятся от материй и готовых платьев, – они угадали все королевские мерки. – Он примеряет весь их товар, – предупреждают пажи. Их лица явственного говорят: остановите его, лорд Кромвель, иначе он потратит цену замка или нескольких пушек. День сырой и холодный, из окон льется металлический свет, но в королевский покоях пылают громадные камины, аромат сосны и амбры плывет к нему теплым облаком. – Входите и согрейтесь, Томас. Взгляните-ка, что у них есть. – Лицо короля светится от невинного удовольствия. Торговцы бормочут и кланяются. Они откинули крышки дорожных сундуков и разложили товар: не только вышитые одежды, но также зеркала и драгоценные камни. Показывают королю кубок на ножке – обнаженный мальчик на крышке оседлал дельфина. Разворачивают вышивку длиной в четыре фута и выстраиваются в ряд, прижимая ее к себе. Глаза Генриха скользят слева направо, разглядывают Сусанну, которая собирается искупаться, и старцев, подглядывающих за ней из-за кустов. Торговцы предлагают детскую шапочку, украшенную золотыми пуговками в форме сияющих солнечных дисков. Король улыбается и расправляет ее на пальцах: – Будь у меня ребенок… Мастер Ризли глазами делает ему знак: пожалуйста, отвлеките короля. – Надо же, у вас есть ошейники! – восклицает он, словно у него нет иных забот. – Давайте посмотрим, – говорит король. – Ах, вот этот в самый раз для малютки Тыковки! Это собачка моей жены, почти стыдливо сообщает король французам, лорд Кромвель привез ее из Кале. Торговцы немедленно выписывают счет на бархатный ошейник, шесть шиллингов, и продолжают метать товары из мешков, извлекают распятия и часы, кукол и маски, перстни с топазами и чаши из черепахового панциря. Опускаются на колени, предлагают браслеты с эмалевыми знаками зодиака, картину, на которой Пресвятая Дева стоит на ковре из лилий, на одной руке бессмертный Младенец, в другой скипетр. Торговцы вынимают шахматные фигурки и ящички с ножами, и король тянется к ним – то ли расставить фигуры на доске, то ли проверить остроту лезвий. Из льняной ткани французы извлекают остроумную диковинку, jeu d’ esprit – изумрудно-зеленые рукава с вышитыми темно-красными земляничинами, на каждой ягоде капля росы, алмаз чистой воды. – Ах! – Король отводит взгляд, не в силах сдержать умиления. Даже порозовел от желания. – Но я для них слишком стар. – Что вы! – хором восклицают французы. К ним присоединяется Зовите-меня. Он молчит. Король прав: такие рукава впору нежным юношам вроде Грегори или покойного Фицроя. Но у короля текут слюнки. Внезапно французы замолкают. Он понимает, что это знак, – сейчас они предъявят свой лучший товар. Старший делает знак самому молодому. Тот склоняется над сундуком, ключ щелкает в замке, пауза – и француз подкидывает в воздух нечто, напоминающее дымку в вечернем небе, или тысячу павлинов, или облачение архангела. Мурлыча от удовольствия, они расправляют и гладят удивительную материю. – Специально для вас, ваше величество. Мы не знаем другого правителя в Европе, достойного такого одеяния. Король заворожен: – Я примерю, раз уж вы забрались так далеко от дома. – По его лицу пробегает рябь цвета морской волны. – Мы называем это pavonazzo[151], – говорит француз, встряхивает запястьем, и ткань влажно переливается, меняя цвета от зелени морских волн до небесной голубизны и от небесной голубизны до сапфира. Король сияет, как Левиафан, восставший из морских глубин. Разглядывает себя, затаив дыхание. Французы называют цену. Король смеется, не веря. Но он уже на крючке. Мастер Ризли, смелый человек, предостерегающе покашливает. Голубые глаза короля вспыхивают, затем он морщится, изворотливый, как все старые скряги: – Перед вами король-бедняк, господа. Я потратил все свои деньги на войну. – Не может быть, ваше величество. – Французы переглядываются. Наверняка среди них есть парочка шпионов. – Мы полагали, это всего лишь мелкие недоразумения, – говорит старший. – Эти волнения на дальних рубежах для вашего величества все равно что комариный укус. – По крайней мере, – добавляет другой, – так преподносит это всему свету мсье Кремюэль. Произнося его имя, хитрый француз продолжает вытаскивать товары из кожаной сумки, мягкой, словно вздох девственницы. У него мелькает мысль, что в дни Гарри Норриса французов не допустили бы до короля, не получи Норрис свой процент. Выглянуло солнце, осветив утро сквозь бледную дымку. Это вдохновляет торговцев; они вынимают зеркала и ходят с ними по комнате – и когда зеркала ловят отражение короля, тот всякий раз ослеплен собственным великолепием. И все же Генрих сомневается. – Смелее, ваше величество, – умоляют французы. – Мы даем вам право первого выбора. Что, если ткань купит кто-нибудь из придворных? Любой правитель счел бы себя униженным. Короля охватывает воодушевление. – Вы знаете, что мой флагман «Мэри Роуз» был перестроен? Я хочу, чтобы он нес больше пушек, хочу построить еще два или три корабля. Полагаю, в сумке, которую принес милорд хранитель печати, лежат чертежи. Мастер Ризли ухмыляется. Военные корабли: теперь весть о них точно дойдет до Франции. – Сами видите, я не могу позволить себе много тратить на украшение своей особы, – говорит король. – Дела королевства прежде всего. Торговцы начинают что-то лепетать. На лбах блестит пот. Он понимает, что старшему придется отвечать перед хозяином и он не может привезти товары обратно. Если король Англии не в состоянии приобрести их, кто следующий? Император, султан? Добавьте накладные расходы. И то, что товары утратят свежесть, поизносятся в дороге. В его сумке, кроме чертежей, лежит вдохновенное воззвание с севера, призывающее Паломников к новым подвигам: «Посему пришло время подняться, сейчас или никогда, и продолжить наше Благодатное паломничество…» Он выступает вперед. – Милорд Кромвель? – говорит король. Он шепчет Генриху в ухо: caveat emptor[152], сэр, и, кстати, предоставьте этих торговцев мне. – Понимаю, – произносит Генрих громко, – хорошо. Но, Томас, шепчет он ему на ухо, я хочу все. Сусанну со старцами, шахматы, кукол, земляничные рукава. И я никогда себе так не нравился, как в этом pavonazzo. – Смотрите и учитесь, – шепчет он Ризли и выходит вслед за французами. За закрытой дверью он позволяет себе не стесняться в выражениях: за кого они его держат? Решили обвести вокруг пальца одного из величайших христианских государей? Есть у них совесть подсовывать такой хлам? Господь наш Иисус Христос выгнал бы их взашей из храма, вышибив им зубы. А поскольку Его нет с нами, он с радостью пересчитает им зубы самолично. – Помилуйте, милорд Кремюэль, – стонут французы. – Ваше великолепие, одолжите королю денег! – умоляет один. От страха и усталости они снижают цену. – Я хочу полный расчет, – говорит он. – Пять экземпляров, пожалуйста. Французы белеют. Решают, что он хочет выписать им вексель, который они должны будут предъявить к оплате и ждать следующего дня квартальных платежей. – Мы не вернемся без наличных, – говорят торговцы. – С нас сдерут шкуру живьем. – Наличными, значит, – роняет он с безразличным видом. – Но сбросьте треть цены. Французы воодушевляются, благодарят. – Мы хотели бы преподнести это вам, милорд, – багряный атлас очень освежит ваш цвет лица. Он задумывается. Хорошо быть не красномордым, как старый Дарси, не желтушным и потасканным, как Фрэнсис Брайан. Да, соглашается он, пожалуй, цвет неплох. – Осторожнее сэр, – говорит Зовите-меня. Он думает, Ризли имеет в виду, осторожнее с красным. Ему хочется развернуть рулон, посмотреть, как свет играет на ткани, но здесь не место. – Можете прийти ко мне домой, – говорит он. – И показать те безделушки, которые не показали королю. Мастер Ризли, у вас мой листок с напоминаниями? Мы должны вернуться, у нас десяток вопросов, которые надо рассмотреть, прежде чем мы позволим его величеству наслаждаться утром. И разумеется, мы должны обсудить военные корабли. Когда после вечерни он возвращается к королю с бумагами на подпись, то признается, сколько денег ему сэкономил. – Неужели? – спрашивает Генрих. – Я думал, это я заключил сделку, а оказывается, вы. – Лоб короля разглаживается. Он выглядит лет на пять моложе, чем до визита французов, ради этого стоило потратить деньги. – Я хочу обновить гардероб, потому что думаю о новом портрете. Предупредите мастера Ганса. – С радостью, – говорит он и выходит с улыбкой на лице – наконец-то хорошая новость. Прежде чем покинуть двор после рождественских празднеств, мятежник Аск получает от короля пунцовый дублет, который ему не к лицу, особенно когда он вспыхивает от гордости. Отправляясь домой, Аск оставляет дублет в гостинице «Кардинальская шапка» вместе с остальными тяжелыми вещами. Возможно, не хочет, чтобы его грубые соратники в шкурах увидели его разряженным, словно танцующая обезьянка. Генрих знает, что ваша внешность показывает миру ваше нутро, и если это знает король, то насколько же лучше знает мастер Ганс. Он рисует оболочку и не лезет липкими пальцами в душу. Когда он делает набросок, то записывает цвет вашего платья крохотными буковками, напоминающими стежки. Ганс ждал большого заказа, а вот и он: как говорили Болейны, le temps viendra[153]. Мятежники пишут: «Посему пришло время подняться, или мы будем повержены. А значит, вперед, вперед, только вперед! Вперед вопреки смерти, сейчас или никогда».
Его дочь говорит: – Я хочу рассказать вам о Тиндейле. О том, как он умер. За окном вечереет. Они сумерничают вдвоем в нише окна. – Ты видела своими глазами? – Тиндейл хотел, чтобы были свидетели. Те, кто не отведет глаз. Вы когда-нибудь видели, как сжигают на костре? Он говорит: – На королевской службе, да, к сожалению. Генрих следит, куда ты смотришь, ты не смеешь менять угол зрения. – Я видел, как сжигали женщину. – Он чувствует стеснение в груди. – Это было очень давно. Она умерла за книгу Уиклифа. Старую Библию. Таких, как она, называли лоллардами, многие из них были бедны и не умели читать, поэтому заучивали Писание наизусть. Но та женщина – та еретичка, как ее называли, – не была бедной и одинокой. Просто она была босая, в одной рубахе, и я, ребенок, глядя, как с ней обращаются, решил, что она нищенка. Она перебивает: – Вы были ребенком? Кто вас туда отвел? – Сам пришел. Шлялся по городу, добрел до Смитфилда. Там пустошь, где людей мучают до сих пор. Моим родным было все равно, где я. Моя мать умерла. Ее английский хорош, но не безупречен, поэтому он старается изъясняться простыми фразами. Это урок для меня, урок для всех нас – разговаривать с Женнеке. Все начинает казаться простым и ясным, никаких полутонов, один чистый полуденный свет. Она говорит: – Стивен Воэн рассказал мне, как познакомился с Тиндейлом. Вы ему поручили. – В те времена я надеялся, что Тиндейл вернется в Англию. Помирится с королем. – Они не хотели встречаться в четырех стенах, – рассказывает Женнеке, – у стен есть глаза и уши. Поэтому уходили в поля – не schuttershoven, где стреляют из луков, а raamhoven… белильные поля? – Ах да, понимаю, – говорит он, – поля, где материю растягивают на колышках для просушки. Но ей хочется, чтобы он запомнил Тиндейла таким: шагающим в полях, где земля растворяется в бледном сиянии, а городские стены шепчутся, окутанные испарениями. Его неуступчивый соотечественник в истертом платье преображается, и мейстер Воэн рядом с ним, капюшон опущен на лицо, тайные инструкции прижаты к сердцу. – Тиндейл жил у торговца по имени Пойнц, – говорит она. – Жил тихо, как бедные апостолы, работал над своей Библией и не просил платы за свои великие труды. Купцы его кормили, давали ему немного денег, и из них он умудрялся подавать милостыню. Он не доставлял никому неприятностей, и городские власти были довольны. – Ваши правители, безусловно, знали о нем. Имперский двойной черный орел реет над городскими стенами, Антверпен не свободный город, хотя в нем живут свободные люди. Она говорит: – Он был осторожен, не привлекал внимания. По-английски в городе мало кто понимает, и его не знали в лицо. А потом явился этот человек, Филлипс, – тот, кто его предал. – Гарри Филлипс, – произносит он. – Вы его знаете? – Я знаю, кто ему заплатил. Все знают. – Мастеру Пойнцу он сразу не понравился. Он предупредил, осторожнее с ним, мы не знаем его намерений. Но Тиндейлу была чужда подозрительность. Он думал только о своей книге. Те, кто его знал, никогда бы его не предали. Только чужестранец, которому заплатили. Филлипс изучил его привычки, где он бывает, с кем он разговаривает. Спрашивал, далеко ли продвинулись его праведные труды? Затем донес на него в Брюссель. Советники поначалу не хотели его слушать, но у него были деньги для подкупа. Он принес им бумаги, которые выкрал у Тиндейла, его письма, которые перевел на латынь, чтобы советники могли прочесть. Убеждал, что император оценит и вознаградит их усердие. И тогда они решили схватить Тиндейла. Дождались дня, когда квартал опустеет и все торговцы отправятся на Пасхальную ярмарку в Берген. Не хотели поднимать шум и устраивать суматоху на улице. – Пойнц был в отъезде, – говорит он. – И все остальные. – Вам скажут, его взяли у Английского подворья. Не верьте. Его взяли у дома Пойнца. – Свежие новости всегда ложные, – замечает он. – Филлипс привел солдат, и они преградили ему путь. Филлипс показал на него: «Вот еретик, хватайте его». Достойный человек пошел с ними, как агнец. Даже солдаты его жалели. Узкая улочка, он легко может нарисовать ее перед мысленным взором. Он и сам некогда жил в лабиринте таких улочек. Он видит Тиндейла – маленького озлобленного человечка, – зажатого между воротами и стеной. – Вернувшись из Бергена, английские торговцы пытались протестовать, но ничего не могли сделать. – Томас Мор заплатил за смерть Тиндейла, – говорит он. – Поклялся, что найдет его хоть на краю света. Он задумал это, сидя в тюрьме, у него было много времени, король был терпелив с ним, как и я. Не думай, что Мора держали в черном теле. Друзья присылали ему обеды. У него было хорошее вино, хороший огонь в камине и хорошие книги. Его навещали. Он получал и отправлял письма. – Я бы содержала его в большой строгости. – Мы были беспечны, теперь я это вижу. Смерть Томаса Мора ничего не изменила, потому что деньги уже лежали в кармане мерзкого плута Филлипса. Быстро темнеет. Он встает, зажигает свечу, закрывает ставнями ночь и металлический блеск звезд. Глаза дочери следят за каждым его движением. Она будет хорошим свидетелем, думает он. – Томас Мор при жизни написал свою эпитафию, – говорит он. – Таким он был человеком. Слова, слова, просто слова. – Он хотел, чтобы на камне вырезали: «Был беспощаден к еретикам». Гордился тем, что делал. Считал, если позволить людям читать слово Божие, христианский мир рассыплется. Не станет правительств, кончится правосудие. – Он и вправду в это верил? – В то, что вредно просвещать невежественных? Да, верил. – Он был не слишком высокого мнения о людях. – Впоследствии – видишь ли, ты не знала его, тебе будет трудно понять – грехи придавили его тяжкой ношей. Думаю, в конце он утратил веру в собственные доводы. Эти люди – его последователи, но он не узнал бы себя в размалеванном паписте, в которого они его превратили. Я помню времена, когда он не жаловал пап. А знаешь, что чертов ищейка Стоксли по-прежнему на своем посту? Стоксли, епископ Лондонский. А его протеже был викарием Лута, это на востоке, где начались недавние волнения. И причиной всему Мор. Она хмурится. Слишком много имен, слишком много. Слишком много названий, топография чужой земли. – С его смертью ничего не закончилось, – говорит он. – Все только началось. Когда он был жив и назывался лорд-канцлером, Стоксли помогал ему, врывался в дома, уводил мужчин и женщин в тюрьмы. – Прогоните этого епископа. У вас есть власть. – Моей власти недостаточно. – Могу я его увидеть? – Стоксли? – Он удивлен. – Если хочешь. Он буйный. Нечего на него смотреть. Я покажу тебе епископов поприличнее. И благородных дам. И господ. – Могу я увидеть Генриха на троне? Он медлит с ответом. – Расскажи мне о Тиндейле. После ареста. – В тюрьме он не страдал, я уверена. Они уважают ученых мужей и пытались его увещевать. Обходились с ним как с христианином. Мор наверняка оскорблял бы его и стегал плетью, думает он. – Он много писал в свою защиту. Они выставили против него худших людей. – Она выплевывает имена: – Дуфиф, продажный адвокат. Таппер. Дуа. Жак Массон. Все видные паписты Лёвена. – Они хотели разбить его доводами, – говорит он. – Признаюсь, я и сам бы того же хотел. Если бы он уступил королю в главном вопросе – я разумею его женитьбу, – то был бы в безопасности и, возможно, сидел бы сейчас рядом с нами. Я пытался его спасти, но кто я такой? Я даже не был лордом Кромвелем. Император не внял бы моей просьбе. – Ваш король мог спасти его, – говорит она, – но не стал. Кое-кто спросил бы, если ваши уши открыты Евангелию, почему вы служите такому хозяину? – А кому еще мне служить? Человеку нельзя без господина. Дверь открывается. На пороге юный Мэтью. Письма. – Оставь здесь. – Они ждут ответа, сэр. – Оставь. Скажи, что я занят с дочерью. – Так и сказать? Как вам угодно, сэр. Мэтью удаляется. Она говорит: – Мой рассказ почти закончен. Тиндейл не отступился. Не дрогнул. Все эти долгие месяцы он молился за своих тюремщиков, и, я надеюсь, скоро мы услышим, что некоторые из них пришли к Христу. – Это будет благая весть. – Скорее всего, думает он, они обчистили камеру, едва его увели, не погнушавшись ветхой одеждой и огарками свечей. – Говорят, он пытался работать даже в тюрьме. Он воображает, как слово Божие, влажное и вязкое, соскальзывает со страницы и собирается лужицей на каменных плитах. – Не понимаю, как такое возможно. Она говорит: – Он оставил в тайниках в городской стене свои рукописи. – У кого они? Я бы их выкупил. – Не могу сказать. Король их у вас отберет. Верно, думает он. – Мы думали, его сожгут сразу после суда, но ему дали время, видимо, для того, чтобы он мог отречься. Потом мы думали, его сожгут в тюремном дворе, но это произошло на площади. Его приковали к столбу и надели ему на шею петлю. Они называли это милосердием – задушить приговоренного до того, как до него доберется огонь. В столбе делают отверстие – слыхали о таком? – и продевают веревку. Палач стоит сзади, а когда пламя займется, тянет за веревку – и добрая душа отлетает. Но разумеется, палач так делает далеко не всегда. – Я слышал, он был жив, когда до него добралось пламя. Что он сказал из пламени: «Господи, открой глаза королю Англии». – Он ничего не говорил. Да и как он мог говорить? Он задыхался. Он дергался и кричал от боли. – Она выпаливает со злостью: – Кто такой король Англии, чтобы занимать его последние мысли? И что такое Англия? Королевство, которое от него отвернулось? Они сидят в молчании. Тиндейл оставил после себя Новый Завет и немного Старого: Закон и Пророков, хронику страшных войн Израиля, бесконечных кампаний Создателя против избранного народа. – Король видит… – начинает он, но снова замолкает. Дым – вот что он видит сейчас, слышит далекий рокот толпы. – Он видит, что английской церкви нужна Библия. Мы долго трудились, чтобы его в этом убедить. Мы согласились, что перевод будет тиндейловский, раз он у нас есть, но под чужим именем. Хотим поместить на титульный лист портрет Генриха. Пусть увидит себя там. Пусть разрешит издание и отправит Библию во все церкви, чтобы ее читали все грамотные. Тираж должен быть таким, чтобы книгу нельзя было отозвать или уничтожить. Когда люди ее прочтут, больше не будет вооруженных убийц, зовущих себя Паломниками. Они своими глазами увидят, что в Библии нет ничего про епитимьи, пап, чистилище, монастыри, четки и освященные свечи, про ритуалы и реликвии… – И даже про священников, – говорит она. Даже про них. Хотя мы не заостряем на этом внимание Генриха. – Женнеке, – говорит он, – ты приехала в такую даль принести свидетельство. Твоя задача исполнена, но ты же меня не оставишь? Сейчас это место кажется тебе чужим, но ты привыкнешь. Мы найдем тебе мужа, если ты сможешь полюбить англичанина. Иногда должны пройти годы, прежде чем мы поймем, кто герой, а кто жертва. Мученики не просчитывают последствий. Да и как им просчитывать, если все их мысли о том, чтобы вытерпеть боль? Спустя месяц после ареста Тиндейда торговца Пойнца арестовали по слову Гарри Филлипса. Обвинили в том, что он лютеранин, и хотели сжечь, но он бежал и сейчас в Лондоне. Его жена Анна отказалась за ним последовать. Почему она должна оставить привычную жизнь и родной язык ради человека, чье имя опозорено, человека, который оставил ее с детьми без средств к существованию? Что до Филлипса, то после смерти Томаса Мора он искал другого хозяина. Был в Риме и, как передает наш человек Грегори Казале, пытался добиться расположения папы, выдавая себя за родственника Мора. Говорят, сейчас он в Париже, ищет следующую жертву. У него благообразная внешность, остроумный, беспринципный молодойчеловек, легко сходится с людьми. За плечами мешок неудач и сокровищница имен со времен Оксфорда, которыми он любит козырнуть. Легко представить, как он умеет втереться в доверие, всегда готовый помочь, свободно владеющий несколькими языками. Он говорит: – Не уезжай, дочь. Нас ждут тяжелые времена. Антверпен утратит свои свободы. Магистраты думают, что власть принадлежит им, но это не так. Аресты еще будут. Печатники должны быть осторожны. В Антверпене печатается больше книг на английском, чем в Лондоне, но тех, кто печатает незаконно, клеймят, им выкалывают глаза и отрубают руки. Шпионы везде. Даже среди наших торговцев. Он говорит: – Твоя мать… – Царица Савская? – улыбается она. – …она знает, что Остин-фрайарз ее дом. Я никуда ее не перевожу. А если закрываю дом на лето, скатываю шпалеру в рулон и убираю. Шерстяная Ансельма никогда не постареет. Однако он боится, что, если часто перевозить шпалеру, черты ее лица затрутся и станут нечеткими. Она появилась в его доме после смерти жены. Он не из тех, кто живет с несколькими женщинами или, как Томас Мор, женится, не дожидаясь, пока после старой жены остынут простыни. Камин догорает, он подбрасывает дрова. – Мать моей жены, Мерси, состарилась. В доме нужна хозяйка. Обо мне вечно толкуют, что я собираюсь жениться, но это не так. Он представляет, как Мег Дуглас стремительно перешагивает через порог его дома. Или Кейт Латимер, что больше похоже на правду, если старый Латимер умрет. Мария Тюдор спотыкается, взмахивает руками, как в Хансдоне, ее крошечные ножки крошат его венецианские кубки. – Ты могла бы жить в доме Грегори, – говорит он. – У Грегори есть дом? – Будет. Я собираюсь женить его в этом году. – Грегори знает? – Нет, – отвечает он коротко. – Я скажу ему, когда найду невесту. – А как быть со мной? Вы тоже найдете мне англичанина, за которого я должна буду выйти замуж? Он поднимает глаза: – Разумеется, ты выберешь сама. Грегори мой наследник, это другое. Я дам тебе приличное содержание. Она говорит: – Я как бедняжка Анна Кальва, жена Пойнца. Она не согласилась жить среди чужестранцев. – Вспомни библейскую Руфь. Она приспособилась. Его дочь смеется: – Вы путаете давние времена с нашими. Мы живем в последние дни, они жили на заре мира. Значит, она из тех, кто считает, нет смысла жениться и выходить замуж, поскольку настали последние времена. Он думает о дочери Вулси, о том, как она его подкосила. Он не уверен, что сумел встать на ноги. – Я вас оставлю, – говорит его дочь. – Но только до завтра. Я не уеду, не попрощавшись. Она пришла, чтобы рассказать историю; с этим покончено. Чтобы увидеться с отцом – теперь и эта задача исполнена. Большее ее ничто здесь не удерживает. Лазарь, разумеется, умер дважды. Второй раз навсегда. Путешествуя по банковским делам на востоке, он посетил его вторую, и последнюю гробницу. Ее охраняли свирепые монахи, которые тычут тебе под нос чашу для подаяний, заставляют вывернуть карманы, чтобы ты увидел всего лишь доказательство того, что чудеса не длятся вечно. Хромой встает, но, дважды обойдя церковный двор, падает, молотя руками и ногами по воздуху. Слепой прозревает, но лица, которые он знал в юности, изменились, и когда он просит зеркало, то не узнает в нем себя.
После ухода дочери заглядывает мастер Ризли: – Вы узнали от нее что-нибудь новое о Гарри Филлипсе? – Я вижу, он человек полезный. И легок на подъем. – Можно было бы натравить его на Поло. Вряд ли Филлипс папист, что бы он ни говорил. Такой будет работать на кого угодно. Он кивает: – Но, боюсь, Поло остановит только смерть, а люди вроде Филлипса не любят пачкать руки. – Он замолкает. – Впрочем, неплохо бы расспросить его, заинтересовать. Никогда не знаешь, когда пригодится такой человек. – Вы же пользуетесь услугами доктора Агостино, несмотря на… – Да, – перебивает он. Несмотря на то, что подозревает его в неверности кардиналу. Доктор Агостино путешествует по Европе и сообщает массу ценных сведений. Он думает о Тиндейле на белильных полях, его человеческие грехи смыты, его голос доносится из дымного марева. Думает о реке в Рождественский пост, скованной льдом. Есть поэт, который пишет о зимних войнах, где все звуки застыли. В почву под снегом вмерз топот ног, звон сбруи, мольбы пленников, стоны умирающих. Когда первые весенние лучи отогревают землю, страдания оттаивают. Стоны и крики вырываются наружу, и прошлогодняя кровь отравляет воды. Ныне Тиндейл облачен в доспехи из света. В последний день он воскреснет в серебристом тумане вместе с замученными и сожженными, мужчинами и женщинами, встающими из груды пепла. С Маленьким Билни, юным Джоном Фритом, законниками, учеными и теми, кто, не умея читать, только слушал. С Ричардом Ханном, которого повесили в Лоллардской башне, и теми мучениками, жившими до нашего рождения, кто распространял книгу Уиклифа. Он пожмет руку Джоанне Боутон, которую сожгли дотла на глазах у него, лорда – хранителя печати, когда он был ребенком. В эти благословенные дни просияет все мироздание, но до тех пор мы видим сквозь тусклое стекло, не лицом к лицу. Где-то (а возможно, это место – Нигде) обществом управляют философы. У них чистые руки и непорочные сердца. Но даже в метрополии света есть свалки мусора и навозные кучи, кишащие мухами. Даже в республике добродетели нужен кто-то, кто возьмет лопату, чтобы разгребать дерьмо, и где-то написано, что Кромвель его имя.
II Образ короля
Весна-лето 1537 г. Ганс не любит pavonazzo. Не дело, чтобы король был лиловый с одного ракурса, синий с другого и зеленый с третьего, чтобы он влажно мерцал и переливался, будто нарочно ускользая от художника. Держитесь пунцового цвета, сэр; это мой горячий верноподданический совет. Король еще не решил, какой именно хочет портрет. Может заказать что угодно, от картины во всю стену до миниатюры, которая поместится на ладони. Однако на пунцовый согласился. Каждый рубин – крохотный огонь. В кухне Дома архивов лорд – хранитель малой королевской печати держит в руке белую миску с лужицей зеленого масла, в которую окунает куски хлеба и раздает мальчишкам – попробовать. Мэтью, подбегая за своей порцией, оглушительно чихает. – Чума небось, – замечает Терстон. – Рановато для чумы. – Тогда я виню рацион. Англичане не созданы есть рыбу. От нее мозги просаливаются. Немец может питаться овощами и тем, что у них зовется «краут». Француз жрет коренья и листья, так что, когда оголодает, может обойтись травой. А вот англичане выросли на мясе и беконе. – И зачем англичанам Великий пост? – дивится Мэтью. – Папу мы прогнали, вроде бы можно теперь каждый день есть требуху. – В этом году поститься будет легче, – говорит он. – Король разрешил яйца. И сыр. – Все только желтое и белое, – замечает Терстон. Император и французы сражаются на суше и на море. Из-за войны рыбы стало мало – лишь поэтому король и ввел послабление. Кранмер жалуется, что при дворе даже незначительные церковные праздники отмечают с прежними суеверными церемониями. Как убедить простых людей работать в праздники, а не пить эль под забором, пахать и сеять, а не играть в кегли? – Сговорчивых мясников хватает, – говорит Терстон. – Можно купить мясо даже в Страстную пятницу, если есть деньги и немного ума. Он поднимает ладони: – Если бы я знал имена сговорчивых мясников, то мне бы пришлось закрыть их лавочки. – Наш хозяин – второй после Бога, – с набитым ртом говорит Мэтью. – Первый король, Божий наместник, затем наш хозяин, наместник короля. – Облизывает пальцы. – Сэр, говорят, французы сделали вам роскошный подарок. В смысле, не льва подарили или боевого скакуна, а деньги. Он благоговейно дожевывает последний кусочек хлеба: перец, пряные травы. Масло прислал Шапюи. – Король не против того, чтобы мы себя обеспечивали. Так повелось. Мы запугиваем французов, они платят нам деньги. Король и сам получает от них пенсион, еще со времен старого короля Эдуарда. Впрочем, платят они неаккуратно. Лоб Мэтью разглаживается. – А, ну тогда хорошо. Будь это клевета, нам бы пришлось их отлупить. – Мэтью ударяет себя кулаком по ладони и, шмыгнув носом, уходит. – У меня нет сил кого-нибудь побить, – говорит Терстон. – И от яиц силы не прибавится. Мне нужны говяжьи ребрышки. Я бы Христа убил за то, чтобы подержать во рту кусочек ветчины. Думаю, в этом и был Евин грех – не за яблоко она преступила заповедь, а за жирный ломоть бекона. – Прекрати, – говорит он, – не то я сейчас заплачу. И все-таки невольно задумываешься, кто это придумал: стремительный пробег от Христова дня рождения, через мокрый снег, до Сретенья, потом недели покаяния, тоскливые голодные дни до Пасхи. В середине марта деревья оденутся листвой и защебечут птицы, но красотой сыт не будешь. Терстон говорит: – Его святому величеству все нипочем, он обжирается сахаром. Хлещет мальвазию и заедает медом. В мгновение ока, быстрее, чем можно прочесть Аве Мария, он оказывается в другом месте: в аббатстве Лонд, по кардинальскому делу. День одуряюще жаркий, молодой человек хохочет с монахами в саду. Аббатство, где он ел мед, приправленный тимьяном, стоит в сердце Англии, далеко от опасных соленых вод. Оно утопает в лесах и полях, летом и зимой воздух напоен благоуханием. Он приезжал по делам кардинала и, разумеется, садился проверять счета, однако на здешнюю благодать невозможно было смотреть сквозь колонки и строки приходно-расходных книг. Сейчас он думает: когда монахи отдадут Лонд в казну, я заберу его себе. Построю дом, буду жить там в старости, вдали от двора и совета. Пора мне сделать что-нибудь и для себя. Надо бы снова поехать в Чартерхауз, лондонский картезианский монастырь, еще разок поспорить с монахами; они молчальники, непривычные к речам, но красноречивые в своем неприятии того, что называют посягательством короля на свою духовную жизнь. Генрих всего лишь человек, говорят они, а он отвечает: а кто такой епископ Римский, если не человек, да к тому же дурной? Он умолял короля не закрывать Чартерхауз. Там нет злоупотреблений и непотребств, монахи не едят мяса даже и раз в году, но питаются плодами и травами, которые выращивают сами. Я мало-помалу перетяну их на нашу сторону, убеждал он. Однако ничего не получается. Когда он думает о слепоте этих рьяных монахов, ему хочется плакать. Когда он думает о Фарнезе, нынешнем папе, – кардинал Мандюк, называли его римляне, – ему хочется пересечь море и схватить того за горло.На третьей неделе февраля двор присутствует на крестинах дочери Эдварда Сеймура. Это его первый ребенок от нынешней жены. В честь украшения семьи ее назовут Джейн. Королева приглашена крестной. По обычаю король не может участвовать в торжестве, и вид у него потерянный. – Верните мне мой алмаз в целости и сохранности, милорд. Удивительный обычай, запрещающий королю веселиться вместе со всеми. По какому закону на коронации королевы государь должен находиться в молельне, высоко-высоко над толпой? Подданные кричат gloria in excelsis[154], монарх наблюдает за ними в щелочку. Генрих звонко чмокает королеву, и та спускается по ступеням пристани – бледная кукла, закутанная в соболя. Вторая восприемница – леди Мария. Восприемник – хранитель королевской печати. Под навесом королевиной барки он светски беседует с дамами, оставляя без внимания попытки Одли устроить импровизированное заседание совета, – с лорд-канцлером можно поговорить и в другое время. Они не успевают устроиться в барке, как уже надо высаживаться на пристани у Честер-плейс. Лондонцев заранее не извещали, и все равно собралась толпа. Леди Марию приветствуют криками. На Джейн смотрят равнодушно, выкриков в ее адрес, одобрительных или осуждающих, не слышно. Народ знает, что она не Анна Болейн. Однако она и не покойница, которую они по-прежнему называют королевой Екатериной. Впрочем, он раздал деньги женщинам в толпе, и когда те кричат: «Боже, благослови королеву Джейн», остальные подхватывают. Люди будут орать что угодно, думает он, лишь бы кто-нибудь первый начал. Наверняка так было и в Линкольншире. Какой-нибудь олух выкрикивает: «Идите за крестами!» – и вот уже все графство охвачено беспорядками. В толпе его узнают. Кричат: «Холодно, Том?» Он солидный крестный, укутанный в черную овчину и рысий мех. Не сказать, что лондонцы его любят, однако они знают, что он много сделал для обороны города и поклялся на свои деньги купить оружие для их защиты. Уж конечно, в их глазах он лучше йоркширского грабителя. Одинокий голос в толпе выкрикивает: – Кромвель, король Лондона! У него обрывается сердце, голова идет кругом. – Друг, если любишь меня, спой что-нибудь другое. Музыканты с трубами встретили их у пристани и провожают до дверей. Гирлянды роз выводят к галерее. Гости разглядывают написанных на стенах предков Сеймура. Новорожденную тоже со временем сюда поместят – может быть, у ног родителей, где ее красное сморщенное личико будет словно цветок на лесной траве. Всю недолгую поездку на барке Мария молчала. Ее лицо под тяжелым гейблом выглядит осунувшимся. В доме она снимает плащ, и он видит сделанное Гансом украшение у нее на поясе – для перстня оно оказалось слишком тяжелым. У купели, когда они стоят бок о бок, она трогает украшение: – Как видите, я ношу ваши стихи во славу послушания. Хотя подарок вручил мне отец, я знаю, от кого это на самом деле. Он склоняет голову: – Мадам. – И спасибо вам за подарок на День святого Валентина. Вы чрезмерно ко мне добры. – Вы сегодня прекрасно выглядите, – врет он. – Полагаю, пунцовый цвет – ваш любимый? Она шепчет: – Не умаляйте значение того, что вы для меня сделали. Умалишь тут, думает он, ведь это чуть не стоило мне жизни. – Вы спасли меня, милорд, когда я утопала в безумии. Когда почти уже погибла безвозвратно. – Она старательно произносит заготовленную благодарность, однако глаза бегают, смотрят куда угодно, только не на него. Честер-плейс – древнее епископское владение, и Сеймур сейчас увяз в тяжбе из-за прав аренды. Будет жалко, если Эдварду придется отдать дом после того, как он расписал стены портретами предков и за свои деньги поставил в часовне новые витражи. Зимний свет сочится через оперение сеймуровского феникса; тлеющий под перьями огонь такой алый, что хочется погреть руки в его сиянии. Стеклянные ангелы воркуют и порхают, в руках у них тамбурины и гобои, бичи и терновые венцы. Некоторые держат гвозди и молоток – прибить Бога к кресту. Грядет Пасха, и Муж скорбей должен истечь кровью. Маленькая мистрис Джейн орет в купели как резаная. Дамы говорят, это знак, что дьявол изгнан. – Женщины чего только не удумают, – с нежностью произносит Эдвард Сеймур. Его жена принимает гостей в постели: те целуют ее, вручают подарки, дают деньги няньке и повитухе за то, что Нэн разрешилась благополучно, затем угощаются вафлями и вином. Все разговоры о наследниках и новорожденных. У сэра Ричарда Рича приращение – после множества дочерей наконец-то сын. В год, когда все мальчики Генрихи, Рич проявил независимость, назвав младенца Робертом, и говорит о нем взахлеб – малыш-де крепкий и, скорее всего, будет жить. То, насколько благодушно настроен Рич, касается всех. Из-за предательства некоторых северных аббатов их монастыри будут закрыты, и распределять изъятое предстоит сэру Ричарду. Тем временем из Кале сообщают, что леди Лайл беременна и родит в конце весны – начале лета. Лайлы так долго были бездетными, что это воспринимается как чудо. Лайл, конечно, старик, но у Хонор семеро детей от первого мужа, хотя, когда она вышла за того замуж, ему было уже пятьдесят. Сеймуры известию не радуются – у них с Лайлами давние судебные тяжбы. Однако благородные дамы пишут Хонор нежные письма о том, как будут счастливы рождению маленького Плантагенета. Пусть Артур Лайл и бастард, в его жилах течет кровь старого короля Эдуарда. Среди гостей мелькает порученец лорда Лайла. – Шпионите, Хуси? – Я привез крестильный подарок, сэр. От милорда и миледи из-за моря. Он немного сочувствует Джону Хуси. Леди Лайл гоняет его со списком покупок и ни за что не хочет платить, так что бедолага вечно выпрашивает товары в долг. Он вспоминает молодость, когда маркиза Дорсетская посылала его за восточным жемчугом, а денег давала, как на устриц. Появляется лорд-канцлер: – А, Хуси! Говорят, в Кале теперь веселье дни напролет, а Лайл отплясывает, будто и не знал никогда, что такое подагра. Хуси кланяется: – Я объясняю милорду хранителю печати, сэр… я должен узнать, что было для родов у леди Бошан, и добыть для миледи все то же самое. – А, ясно, – говорит Одли. – Она хочет не меньше шпалер, золотой посуды и прочего. – Миледи думает, не вернуться ли ей сюда, когда подойдет срок, дабы ребенок родился на английской земле, – говорит Хуси. Он, лорд Кромвель, возводит очи горе: – Кале – английская земля. И супруга наместника должна бы это понимать. Хуси поворачивается к нему: – Но если ей предстоит разрешиться там, она хотела бы получить серебряную купель из Кентербери. Не могли бы вы дать такое распоряжение, милорд? – Я отправлю архиепископа лично отвезти купель, если только Лайл немного пошевелится. Мне доносят, что два священника проповедуют на улице измену, а губернатор смотрит в другую сторону и бездействует. Скажите ему, пусть выловит их, погрузит на корабль и пришлет мне в Тауэр. Он думает: если приедет Кранмер, с купелью или без, Хонор запрет перед ним дверь. Окропит порог святой водой и бросит в глаза архиепископу освященную соль. – Я слышал, у леди Бошан есть горностаевый чепец, – говорит Хуси. – И если я раздобуду рисунок вышивки на ее ночной сорочке, миледи будет мне признательна. Очевидно, в этом году мы ничего в Кале не добьемся. Артур Лайл во всем подчиняется жене и уж тем более теперь, когда она брюхата. Он говорит: – Хуси, серьезно говорю, передайте своему господину – либо он отловит мне этих священников, либо сам приедет за них отвечать. Мое терпение не безгранично. Быть может, ваша госпожа подстрекает его не исполнять свои обязанности, но передайте, что я за ним слежу. Будет держать меня за дурака – выдерну из кресла на виселицу. Хуси закусывает губу: – Я передам. – Королева! – предостерегает Одли и отступает на шаг, прижимая шапку к груди, будто Джейн – сорвавшаяся с узды лошадь. – Мадам, мы говорили о леди Лайл. О ее великой надежде родить наследника. – Чудесно, не правда ли? – равнодушно произносит Джейн. – Бог даст, и вы во благовремении станете счастливой матерью. Ваша невестка подала замечательный пример. – Правда? – удивляется Джейн. – Едва ли я стану счастливой матерью, если рожу девочку. Думаю, меня отошлют в Вулфхолл в корзинке, словно курицу, не проданную в базарный день. А вы как думаете, лорд Одли? Она отворачивается. У Одли отвисает челюсть. Он оглядывается: – Миледи Рочфорд, уделите мне минуточку? Голос нарочито спокойный. Неужели он неправильно понял Джейн? Женщина, носящая под сердцем дитя, обычно не соглашается стать крестной чужого ребенка, слишком опасается за свое будущее. Он отводит леди Рочфорд в сторонку. – Да, обычное женское у нее не началось, – шепчет Джейн Рочфорд. Как и Мария, она избегает смотреть ему в лицо, следит взглядом за гостями. – Груди набухли. Говорить не станет, пока не будет уверена. Будем надеяться, она выносит. Он смотрит на королеву: – Предупредите меня, когда она соберется сказать Генриху. – Да, – говорит Джейн Рочфорд, – чтобы вы точно оказались рядом. Он будет в настроении оделять всех милостями. Может пожаловать вам… чего вам не хватает. Хотя такого не особо много, правда же, милорд хранитель печати? За пять минут слух разлетается по дому. Эдвард Сеймур берет сестру под локоток: – Как я понимаю, ты можешь надеяться. Ваше высочество. – Все мы можем надеяться, – вкрадчиво отвечает Джейн. У Эдварда такое лицо, будто сейчас он влепит ей оплеуху – шутки вздумала шутить в такую минуту! – Мы достаточно долго ждали, сестра. – Ох, Эдвард, – вздыхает она. – Ты так жаждешь повышения. – Когда ты сможешь сказать? Он, Кромвель, вмешивается: – Ваше высочество, зачем откладывать? – Потому что… – Королева задумывается, отчего так поступает. – Потому что как только у короля появится надежда на сына, какая у него останется причина молиться? Они с Эдвардом переглядываются. Джейн права. Всякий раз, как какая-нибудь королева беременела, король был твердо убежден, что она ждет мальчика. Если у него будет наследник в утробе, если он вновь сможет сказать: «Я угоден Богу», что остановит короля от следования любому своему капризу? Он может выпустить всех узников из Тауэра. Или отправиться на войну. Из Европы сообщают, что Франциск сам руководит сражениями: продумывает осаду, выдвигает орудия. Генрих, говоря об этом, сопит и краснеет. Нога у него болит, и Терстон прав: чем королю хуже, тем больше он ест сладкого. Он кладет руку Эдварду на плечо: – Послушайте свою сестру. Не говорите пока ничего. На досуге он продумывал пирог, который презентует королю на Пасху: огромный марципановый, украшенный золочеными шарами. Может, стоит отложить это до тех пор, как новость перестанет быть тайной. Глаза у Джейн – словно глубокие озера в безветренный день.
Ранними зимними сумерками он снова в Доме архивов, пишет письма во Фландрию. Говорят, Поль растратил все свои деньги и папа отказывается ему помогать, но Реджинальд все равно пыжится и в качестве папского легата убеждает европейских монархов напасть на Англию. Лорд Дарси да и, без сомнения, другие северные бунтовщики ему писали; даже не читая их писем, мы знаем, что мятежники считают Поля своим королем в изгнании. Теперь ему через тайные каналы сообщили, что Поль хочет с ним побеседовать. Реджинальд предлагает ему отправиться в Кале, затем встретиться на землях императора. Обоим выдадут охранные грамоты. Он, лорд Кромвель, счел за лучшее вытащить все на свет, а в итоге на совете вышел из себя и стал кричать, что если окажется в одном помещении с предателем Полем, то лишь один из них выйдет оттуда живым. Король наблюдал за ним, склонив голову набок, как будто не веря в искренность его бурного гнева. Чтобы подкрепить свои слова, лорд – хранитель печати погрозил кулаком в сторону Дувра. Ричард Рич ошалело раскрыл рот, а лорд-канцлер от неожиданности выронил перочинный нож. Он посыпает бумагу песком. Надежда на рождение наследника, думает он, станет для Поля ударом в сердце. Впрочем, если Джейн в счастливом ожидании, это меняет наши планы. Король захочет быть подле нее все лето. На север не поедет. Коронации в Йорке не будет. Заходит Кристоф, говорит: – Мэтью чихает. Если он заболел, вы не сможете являться ко двору. Король и в обычное время боится заразы, а теперь, конечно, надо быть стократ осторожнее. Кристоф говорит: – Зовите-меня явился ужинать. Он думает, Мария смотрела на меня так, будто не знает, кто я такой.
На ужин щука с розмарином и жареным луком. Зовите-меня говорит: – Я слышал, Рейф закончил дела в Шотландии и отправляется во Францию. – Я попытаюсь прежде залучить его сюда. Хелен говорит, что стосковалась. Ей осенью рожать. – Наверное, она уже знает по признакам, – говорит Зовите-меня. – Судя по всему, Рейф шотландцам полюбился? – Кому бы Рейф не полюбился? Теперь он едет во Францию с посланием к королю Якову. Яков что-то не спешит оттуда домой. – В Париже Рейфу не избежать встречи с епископом Гардинером. Тот просит, чтобы его отозвали. Он тычет вилкой в рыбу: – Да простит меня Бог, но хотелось бы знать, зачем Он сотворил щуку? Мастер Ризли вытаскивает из рыбы косточку: – Полагаю, возвращению епископа вы бы обрадовались примерно как цикуте в салате. Он вздыхает: – Эх, когда еще будет салат. Из Франции сообщают, что вишни созреют не раньше июля. Кристоф приносит миндаль и сушеные фрукты. – Я вижу, леди Мария постоянно обращается к вам за деньгами и услугами. Леди Рочфорд утверждает… – Ризли улыбается, – что Мария избегает смотреть вам в лицо от большой к вам любви. Вы ослепляете ее девичьи очи. – Мы должны быть признательны леди Рочфорд, – говорит он. – Без нее король с королевой могли бы не пожениться. Королевой по-прежнему была бы Анна Болейн. А наш наследник так и не был бы зачат. По всему, Ризли, несмотря на свой чуткий слух, еще не слышал главной сегодняшней новости, поскольку хочет говорить только про Кале. – Лайл беспечен. Вы правильно предостерегаете его, сэр. Он не только папистов привечает, но и сектантов, как говорят. Сакраментариев. – Я слышал это от Шапюи. – Он задумчиво жует инжир. – Я бы лучше лег в постель со скорпионом, чем с Хонор Лайл. – Я тоже, – поддакивает Кристоф, внося сыр. – Я бы ее башмаком раздавил. Опять будете всю ночь писать свою книгу про короля? Зовите-меня смотрит на него с любопытством, однако вопроса не задает.
Когда северные лорды принесли извинения за свои прошлогодние бесчинства, король отпустил их по домам. Каждый увозил на одежде эмблему святого Георгия: король постановил, что всякий, кому есть к чему приколоть алый крест, должен носить его в знак верности государю, а если не крест, то хотя бы алую ленту или алую нить. Ибо, хотя мятеж подавлен и оружие изъято, в войне слов перемирие не заключено. Юг называет север изменническим, север клеймит юг еретическим. Север говорит, вы угнетали нас тысячу лет, мы для вас лишь защита от шотландцев, стена трупов, которая их замедлит, чтобы вы успели спрятать под замок жен, дочерей и золото. Южане говорят, вы когда-нибудь бывали в Дувре? Смотрели с обрыва на огоньки французского побережья и думали, насколько узок пролив, как многим мы рискуем и как много мы платим, чтобы уберечь вас от работорговцев и пиратов, совершавших набеги на наши берега, сколько они существуют? Он говорит королю, северяне не чтут королевские законы, они хотят чинить убийства без помех. Если Норфолк не сумеет их подавить, они впадут в прежнюю дикость, при которой глаз, рука и сама жизнь оценивались выкупом за кровь. Во времена наших пращуров жизнь дворянина стоила в шесть раз больше, чем жизнь землепашца. Богатый мог убивать сколько хочет, пока у него есть деньги платить виру, а бедному и одно убийство за всю жизнь было не по карману. Мы отвергаем это варварское право, мы говорим, что убийца не может остаться безнаказанным из-за того, что судья его родич, ровно так же как богатый грешник не может искупить свои грехи, построив монастырь. Перед Богом и законом все равны. Нужно поколение, говорит он, чтобы замирить головы и сердца. В каждом графстве англичане привержены тому, чему учили их няньки. Они не хотят слишком напряженно думать, не хотят менять ту картину мира, что у них в голове, они не примут перемены, если те не облегчают им повседневную жизнь. Однако грядут новые времена. Дети Грегори – и, поспешно добавляет он, те дети, что родятся у вашего величества, – вырастут в стране, свободной от старого римского обманщика. Они не будут верить в кости и зубы мертвых, в святую воду, пепел и воск. А когда они смогут сами читать Библию, Бог станет для них близким и родным. Они будут говорить на Его языке, а Он – на их. Они увидят, что назначение государя не сидеть в шлеме с плюмажем на коне, а – как всегда говорит ваше величество – телом и душой печься о своих подданных. Писание учит покоряться земным властям, так что мы будем неколебимо преданы государю. Мы не станем отвергать часть его политики. Мы примем его целиком, будем считать, что он – помазанник Божий и Господь за ним присматривает. А до этих благословенных дней, говорит он, будем сохранять мир. Мир дешевле войны. Все согласны, что севером нужно управлять лучше, но кого туда назначить? Томас Кромвель считает, что нам нужны толковые люди, а герцог Норфолк – что родовитые. Когда вспыхивает новый мятеж, во главе восставших оказывается человек, который должен лорду – хранителю печати много денег. Зовут его Фрэнсис Бигод. Бывший паж Вулси, выпускник Оксфорда, до последнего времени ратовавший за Писание, приятельствовал с нашим архиепископом, Хью Латимером, Робертом Барнсом, был в наилучших отношениях с милордом Кромвелем. Что это значит, что это может значить, если такой человек разъезжает на коне, произносит дикие речи, размахивает мечом, клянется отбить Гулль, намерен захватить Беверли и порт Скарборо? Он устал от вопросов, что это значит и как могло случиться. Вы поссорились? Как будто это он виноват, что Бигоду пришла в голову кровавая блажь. Он может лишь отвечать, Бигод в последнее время задавал мне странные вопросы. Спросил, как король может отвечать за наши души. Как будто здесь, на земле, есть на это другие кандидаты, получше. Спросил, может ли он, Бигод, проповедовать с кафедры, как священник. Когда я ответил, нет, он спросил, можно ли ему принять сан? Хотя он женат? Наверное, Бигод повредился в уме. Однако его безумие погубит других, отправит их сражаться в то время года, когда лишь новичок затевает военную кампанию. А Бигод не настолько умопомешанный, чтобы не отвечать за свои поступки. Король помиловал бунтовщиков один, и только один раз. Дальше – суд без всякого снисхождения.
К нему приходит Ганс: – Он решил, что хочет фреску. – Это труднее? Ганс трет бороду. Хочет выговорить себе условия: жить и столоваться в Уайтхолле за королевский счет все время работы над портретом. Просит жалованье тридцать фунтов в год – тогда он откажется от всех других заказов и будет зваться живописцем английского короля. – Тридцать? – Он хмурится. Однако, как-никак, Гансу надо кормить любовницу и двух детей, не говоря уже о семье за морем. Ганс говорит: – Есть место на стене в личных покоях. Я измерил, там тридцать два фута. – В личных покоях? Он хочет, чтобы портрет был там? – Едва ли я самовольно решил бы его там разместить. – Я думал, он захочет портрет в зале для приемов. Чтобы повергать в священный трепет весь мир. – Нет. Он хочет повергать в священный трепет вас. И своих джентльменов. И, наверное, тех бедных иноземцев, которых приглашает в личные покои. Разумеется, личные покои вовсе не такие личные, как может показаться из названия. Король не рассчитывает оставаться там один. Чтобы уединиться с одним-двумя приближенными, у Генриха есть в каждом доме укромные уголки: боковая комнатка, где он настраивает лютню, тайная библиотека, куда ведет винтовая лесенка. – Меня не огорчит, что мало кто увидит портрет, лишь бы это были кто надо. Я собираюсь поместить его голову примерно сюда. – Ганс поднимает руку чуть выше собственной головы. – Не будет беды, если я добавлю ему дюйм-другой. – В высоту, – говорит он. – Не в ширину. Или вы имели в виду другое? Ганс хмыкает: – Я напишу его в распахнутой мантии, чтобы мир видел это диво. Щедро подложенный гульфик. – Какого он будет размера? Портрет, я хочу сказать. Ганс разводит руки, затем поворачивается, показывая в пространстве: – Он спрашивает, не могу ли я написать еще и его отца. – На той же картине? – Это осуществимо. И мать, почему бы нет. Череду королей и королев, уходящую в туманную даль. И нерожденное дитя, словно тень птицы на траве. – Мне нужно будет делать с него наброски. Подробные. Они займут много времени. После я займусь фигурой. Для этого он мне не нужен, только его наряд. – Когда вы писали меня, то не делали мне такой поблажки. – Но вы мне не удались, – отрезает Ганс. – Вас следовало писать другому художнику, покойному, ибо, видит Бог, лицо у вас было как у покойника. Знаете такого Антонелло из Мессины? Он бы вытянул из вас хоть какое-нибудь выражение. Он видел работы Антонелло. На портретах венецианских вельмож тот запечатлевал скептически поднятую бровь или недобрую усмешку. Однако венецианцам его работы не нравились – он слишком много про них знал. – Кстати, – спрашивает Ганс, – как ваша дочь? – Уехала на родину. – Ему не хочется говорить больше. – Ей не понравилась Англия? Или вы? Он думает: Ганс наверняка знал про Женнеке долгие годы. Это объясняет некоторые странные намеки, косые взгляды исподтишка. – Ганс, – говорит он, – не задавайте вопросов, если не знаете, что делать с ответами.
Март тысяча пятьсот тридцать седьмого года. День за днем в Тауэре и в Доме архивов лорд – хранитель малой королевской печати распутывает события прошлого года. Сидя перед свидетелями, перед допрошателями, вместе с писарями и мастером Ризли, он имя за именем обнажает механизм мятежа. – Так вы говорили, вас втянули насильно? Вы присягнули против воли? Пожалуйста, назовите мятежников, которые к вам обратились, и скажите, когда это произошло. Вам угрожали? Вы говорите, ваших лошадей свели, ваш дом подожгли, вашу жену оскорбили. У вас есть свидетели? Вы утверждаете, что бунтовщики спалили ваше имущество, в том числе движимое, общей стоимостью… У вас нет описи? Какие меры вы приняли в связи с угрозами? Послали за помощью к друзьям? А они вам не помогли? Почему? Чем вы их против себя настроили? Мастер Ризли в соболях, которые прислал ему в подарок наш человек в Брюсселе. Кристоф затапливает камин. Он, лорд – хранитель печати, теперь держит в Тауэре собственный запас вина. У него есть отдельная комната, где запирают на ночь протоколы допросов, чтобы в них ничего не вписали между строк. Приходят и уходят помощники – люди из палаты приращений, его родственник Джон ап Райс, священник по имени Эдмунд Боннер – суетливый коротышка, сплетник и дамский угодник, но все же очень полезный человек. Епископы по-прежнему готовят новое исповедание веры и каждый вечер шлют ему тяжелые кипы документов: от жалких узников Тауэра он ежевечерне возвращается домой к числу таинств. Расследование идет всю весну. На каждый ответ у него шесть новых вопросов. Он не прочь прибегнуть к пытке, если ничто другое не помогает, хотя угрозы действуют лучше, и он считает, что потерпел неудачу, если вынужден требовать цепи и каленое железо. У Ризли нет его терпения, но Ризли молод и желает хотя бы иногда видеться с женой. Трогает его за плечо: – Сэр, час поздний, а перед нами строптивый мятежник, такая слабая боль его не проймет. Думаю, он выдержит пытку посильнее. Однако он думает, нет, никто из нас ничего выдержать не может. Поскреби нас, найдешь все того же орущего младенца. Он говорит: – Старайтесь слушать. Только так можно что-нибудь узнать. – А если он молчит? – Тогда вслушивайтесь в его молчание. Думайте, что можете ему предложить, чтобы он заговорил, а не что можете отнять. Возможно, он знает, что умрет, однако казнь казни рознь. На что человек согласится, чтобы избежать холощения? Вы можете предложить ему быструю смерть от топора, лужу крови вместо долгого ужаса, когда осужденного вешают не до смерти, а затем потрошат заживо. Все дело в предвкушении, объясняет он Ризли. Дайте ему ради чего жить или предложите непостыдную смерть. Скажите, что независимо от того, ответит ли он на наши вопросы, король заплатит его долги и позаботится о сиротах, – от такой доброты арестант может разрыдаться, и это сломит его волю. Ни в какой другой стране такое невозможно. Во владениях Франциска и Карла не бывает перемирий, торга, допросов, которые тянутся от Рождественского поста до Троицы. Знатных людей возьмут под стражу и после пыток казнят, простых – перебьют и оставят лежать под открытым небом. Он говорит, если нельзя избежать суровых мер, надо смягчать правосудие милосердием. Тем, кто сохранил верность королю, возместить разграбленное имущество. Честно послуживших наградить. Смутьянов наказать быстро и публично. На севере Норфолк вешает нарушителей перемирия на деревьях. В цепях, когда может добыть цепи, однако железо дорого, так что, на худой конец, сойдет и веревка. Вдовы приходят ночью снимать повешенных мужей, однако король велел сурово за это наказывать – хочет, чтобы трупы висели до Пасхи и тепла, как кишащую червями ворону вешают на огороде в острастку другим птицам. В Лондоне головы казненных выставляют на мосту, руки изменников прибивают к воротам. Однако в холодную погоду они разлагаются медленно, и горожанам тошно на них смотреть. В середине февраля молодого Бигода взяли в плен и его сподвижников тоже. Их ждет Тайберн, но не сейчас. Спешить некуда. Лето расчистит скопившиеся за зиму трупы. Томас Кромвель не получит назад отданные в долг деньги. А Генрих не усвоит, что мертвых надо хоронить.
Он посылает за Томасом Уайеттом – просит того прийти в Дом архивов. Как все верные королю джентльмены, Уайетт сражался с мятежниками, однако теперь для него есть другая задача. Он давно просил отправить его за границу, и теперь его назначают послом при императоре. Это значит гоняться за Карлом по Европе летом и зимой – идеальная должность для непоседы. Для нее нужна честная сила, вкрадчивая речь и некоторая готовность напускать туман, сообщая о намерениях английского короля, а поскольку Уайетт сам говорит, что любая истина не абсолютна, место как раз для него. Император по-прежнему уговаривает выдать Марию за брата португальского короля и рекомендует дома Луиша как мудрого, сдержанного и заботливого. К тому же дом Луиш согласен жить в Англии, чтобы не увозить принцессу из ее родных краев. – Уайетт, – говорит он, – спросите императора, сколько он готов заплатить нам за Марию. Задайте вопрос мягко, но не обманывайтесь, если он назовет большую сумму, – выясните, каким будет обеспечение долга. Король не отдаст ее за одни лишь обещания. – Вы не хотите этого брака, – замечает Уайетт. – Важнее, что она его не хочет. – А чего хотите вы? – Всего лишь защитить ее. – Королю нужен друг в Европе, – говорит Уайетт. – А такого рода дружба достигается только браком. – Король может заполучить кучу друзей в Швейцарии, а также среди немецких князей. Всего-то и нужно, что согласиться по основам вероисповедания, и мы станем союзниками. – Он хмурится. – А если брак так уж необходим, то лучше выдать не Марию, а Элизу. – Вы смотрите далеко вперед, милорд. Юной даме в этом году исполнится четыре, если не ошибаюсь. – Значит, брак нельзя будет осуществить в ближайшие десять лет. Двенадцать, если мы сошлемся на ее хрупкое здоровье. То есть брак будет ненастоящий, и, если он окажется нам не на пользу, мы сможем его расторгнуть. – Вы охраняете девственность Марии, – говорит Уайетт. Он пожимает плечами. – Вы были ее Валентином. Ризли всем рассказывает, как доставил ей ваш подарок. На ежегодном придворном празднике – как Уайетту прекрасно известно – тянут жребий, чтобы ни одна дама, молодая или старая, не осталась без Валентина. – Про Кремуэлло никогда ничего не поймешь, – говорит Уайетт. – Помню слухи, что вы ухаживали за некой мистрис Сеймур, которая теперь стала нашей королевой. – С чего они это взяли? – ледяным голосом спрашивает он. – Она была бы счастливее. – У королевы все хорошо. – Вы бы лучше ее понимали, милорд. Вы знаете о женщинах много такого, что сокрыто от нас, остальных. Вы знаете, как подступиться к женщине. Как ее уничтожить. Значит, прошлое лето истрепало его душевный мир; Уайетт избег петли, но по-прежнему мусолит веревку, рвет пальцами волокна. – Уайетт, – говорит он, – такие разговоры меня погубят. Этого ли вы хотите? – Поставьте себя на мое место. В каждом нашем разговоре за последние двенадцать месяцев я вынужден был спрашивать себя, пытается он меня спасти или утопить? Я ценный груз или меня намерены выбросить за борт? – Что ж, чтобы оценить пудинг, надо его съесть, – говорит он. (И пусть поэт делает с этим образом что хочет.) – Вы до сих пор дышите. – И ваш до последнего вздоха. – Уайетт встает и потягивается. – Я последовал бы за вами до края христианского мира. Что и сделаю сейчас, гоняясь за Карлом. Уайетт находит себя в зеркале. Легким касанием неуловимо поправляет перо на шляпе. – Приглядывайте за Бесс Даррелл, пока я буду в отъезде.
Он устраивает себе день отдыха и гуляет по земле Остин-фрайарз под руку с Мерси Прайор в сопровождении садовников. Садовая беседка мокрая на ощупь, стены обросли толстыми подушками мха. Колья, подпирающие молодые деревца, словно трепещут от собственной, зеленой внутренней жизни. Он приглашает Ричарда Рича на ужин, спросить, что делать с другой Бесс – леди Отред. – Муж оставил ей скудные средства. Ей потребуется собственный дом. – Семейство Сеймуров заслужило королевскую щедрость, – говорит Зовите-меня. – Рич, найдете для нее какое-нибудь аббатство? Рич говорит: – Она рассчитывает на новый брак. Я удивлен, сэр, что ваши знакомые дамы вам еще не насплетничали. Она будет метить высоко и правильно сделает. Упоминают графа Оксфорда. Джон де Вер – старый вдовец, двух жен уже уморил. Пятнадцатый граф. Вообразите, говорит он, каково быть пятнадцатым кем-то. Терстон приготовил новое блюдо из трески – с шафраном, чесноком, фенхелем. Все только белое и желтое, как он говорил; выглядит блевотиной. – Я слышал, вы получите аббатство Кворр, – говорит он Зовите-меня. – Усадьбы дадут вам хорошую ренту. И лес стоит не меньше ста фунтов, верно? В Кворре десять монахов, все хотят сохранить обеты. В услужении у них тридцать восемь человек. Белый камень, вид на море, пятьдесят пять фунтов долга; монастырь небольшой, но в течение полугода, после погашения обязательств, к Ризли перейдут земли в Девоне. – Сам я подумываю о Лонде, – говорит он. Рич говорит: – До Лонда очередь еще не дошла. Его доход четыреста фунтов в год. – Я готов подождать. Он смотрит, как уносят блюдо с рыбой. Ему пришла в голову удачная мысль, и она не имеет никакого отношения к аббатствам.
Он просит встречи с королевой. – Когда ваша сестра Бесс вернется ко двору? В следующие месяцы она вам будет нужна. – Да, наверное. – Джейн считает на пальцах. – До октября вроде еще так далеко. Легкий шелест распространяется от того места, где она сидит, через комнату, по всему двору, по всей Англии, за море. Новостьнаконец перестала быть тайной. – Милорд Бошан, поздравляю все ваше семейство, – говорит двор. Красивое лицо Эдварда расплывается в улыбке; он кланяется и проходит дальше, словно в сияющем облаке, шлет письма в Вулфхолл и брату Тому, который сейчас с королевским флотом. Теперь пространство вокруг королевы священно. Любые неприятные звуки и запахи надлежит изгнать. Студенистое существо в ней вздрагивает от резких слов или яркого света, так что Джейн следует от них беречь, как от палящего солнца и сквозняков. Кожи ее должны касаться лишь тончайшие ткани, обоняния – лишь нежные ароматы летней травы и легкое пряное благоухание лепестков. Комнатным собачкам моют лапы, прежде чем они запрыгнут ей на колени. Придворным, которые чихают или кашляют либо знают кого-нибудь, кто чихает или кашляет, запрещено приближаться к ее особе. Взору королевы должно представать только прекрасное, хотя, как говорит он ей: «Со мной, мадам, ничего поделать нельзя». Когда король приходит в совет, джентльмены ликующе молотят по столу кулаками. – Великий день для Англии! – кричат они. И: – То-то император опешит! – И: – Король Франции вывихнет свой длинный нос! – Нет надобности сообщать простонародью, – сдавленно произносит Генрих. – По крайней мере, прямо сейчас. – Думаю, все уже знают, – отвечает Фицуильям. – Каждый англичанин и англичанка желают вашему величеству здоровья и всякий вечер на коленях молятся, чтобы королева подарила вам крепкого мальчика. Генрих говорит: – Будь с нами кардинал… – И прикусывает язык. Он, Томас Кромвель, не поднимает глаз от документов. Совет встает. Воздух по-прежнему гудит от поздравлений. – Фиц, останьтесь, – говорит Генрих. – Кромвель? Гул затихает. Снизу и сверху доносится смех, – возможно, кардинал аплодирует откуда-то из-за примум мобиле. Мертвые смотрят на нас, болеют сердцем за то, чем занимались при жизни. Король говорит: – Джейн хочет совершить паломничество к гробнице Бекета. Хмурится. Кентербери напоминает о неприятном: именно там пророчица Элиза Бартон схватила короля за руку и предрекла тому скорую смерть. Однако Бартон повесили. А Генрих процветает. Бог опровергает лжепророков! – Конечно, мы поедем, – говорит Генрих. – Королева должна ехать куда пожелает, пока еще может путешествовать. Даже в Вулфхолл, если у нее будет такая прихоть. Но, милорд… милорд хранитель печати? Ему хочется положить руку королю на плечо. Он обливается потом в холодной комнате – советники унесли с собой тепло и веселье, а редкие лучи весеннего солнца, дрожащие на стене, не согревают. Король говорит: – Я… мои надежды… после стольких лет… я хочу быть уверен… Фиц поднимает брови. – Когда я женился на королеве… то есть до того, как я на ней женился… нет надобности напоминать вам обстоятельства, но не сомневайтесь, что я, хоть и спешил, постоянен в моих привязанностях… – Говорите, сэр, – просит Фицуильям. – Правда ли мы женаты? – спрашивает Генрих. – Когда я вступил в этот брак, для него не было никаких помех? – Вы имеете в виду, – говорит он, – ничего такого, связанного с королевой, что вам следовало бы знать? – Я убежден, у вас не было причин сомневаться в ее девственности, – растерянно произносит Фицуильям. Генрих слегка краснеет: – Ни малейших. Но точно ли вы, как мои советники, сделали все, что требовалось? Навели самые подробные справки? Вы убедились, что она абсолютно свободна? – Никаких помолвок не было, – говорит Фицуильям, – если это то, что тревожит ваше величество. – Но ведь к ней когда-то сватался Уильям Дормер? – Это было пустое, – говорит Фицуильям. – Ничего не было, – добавляет он. Фиц говорит: – Попросту говоря, сэр, семейство Дормеров сочло Сеймуров недостаточно… – …богатыми, – заканчивает он. – Так вы думаете, между ними ничего не было? – Король встает. – Если вы уверены. Потому что я должен быть уверен. Потому что я не могу снова начать надеяться, меня это убьет. Я потерял Ричмонда. У меня никогда не было законных сыновей. Я должен знать наверняка, что на сей раз все правильно. Что никто не усомнится в его законности. Я был терпелив. Воистину Господь теперь меня вознаградит. В глазах блещут слезы. Он, Кромвель, отворачивается, и Фицуильям отворачивается, чтобы не видеть, как они прольются. Однако король говорит: – Мне бы уже следовало вас знать, да, Сухарь? Уж если кто проверяет все досконально, то это вы. Генрих стискивает его плечо. В королевском прикосновении появилась новая магия. Через него передается видение Англии, какой она могла бы быть. Перед тобой Лондон, где по улицам разгуливают пророки, а на крышах теснятся ангелы; выходя из дома, смотришь вверх и слышишь в воздухе биение их крыл.
На первом сеансе король едва может ступать под весом драгоценностей. – Как это лучше сделать, мастер Гольбейн? – Лицо серьезное, внимательное. Ганс машет рукой в сторону джентльменов, пажей, прихлебателей: стирает их с полотна. Комната пустеет. Место вокруг короля расчистилось. – Можно мне остаться? – спрашивает он. Генрих говорит: – Можете посидеть со мной, милорд Кромвель, но в разговоре я не нуждаюсь. Он улыбается: – Я останусь, если ваше величество уделит мне пять минут после того, как Ганс закончит. Генрих не отвечает: смотрит в пустоту с таким видом, будто размышляет о Боге. Он, государственный секретарь, уходит к окну, садится на табурет и углубляется в бумаги. Его спаниель плюхается у ног. В комнате ни звука, кроме тихого собачьего сопения, кроме каждого вдоха и выдоха короля, кроме шуршания одежды, словно она дышит вместе с королем, запаздывая на долю мгновения. За тишиной проступают другие звуки: шаги наверху, шарканье за дверью, ветерок, трогающий стекла в оконном переплете. То и дело он поглядывает на короля – не нужно ли чего. Через некоторое время король устает от Бога и начинает смотреть на своего министра: – Удивительно, что вы можете читать при таком свете. – Мне повезло. – Мм, – говорит король. – Вам нужно промывать глаза отваром руты. Ганс, рисуя, оттопыривает губы и цыкает зубом. Закусывает губу. Гудит себе под нос. Когда отходит от работы и выдыхает, то слышен присвист. Король говорит: – Может быть, стоит пригласить музыкантов. – Мастер Ганс вполне их заменяет, – отвечает он. – О чем вы хотели со мной поговорить, милорд хранитель печати? – О шотландском короле, с вашего дозволения. Как вам известно, он по-прежнему во Франции, никак не отплывет на родину с молодой супругой. Отец боится отпускать ее в морское путешествие. Говорят, она совсем хрупкая и прозрачная. Генрих фыркает: – Это шотландец боится. Весь дрожит. Хвастал, что Франциск вышибет из-под меня трон, а теперь должен считаться с последствиями. Ему страшно, что мои корабли захватят его, как только он выйдет из порта. – Да, но теперь он обращается к вашему величеству как джентльмен – хочет сократить путешествие по морю, высадиться в Дувре и просит охранную грамоту на проезд через ваши владения. Генрих говорит: – Чтобы его свита съедала все на своем пути и сеяла крамолу? Чтобы они проехали через северные графства под своими флагами? Он меня дураком считает? Ганс перестает гудеть себе под нос. Кашляет. Что ж. Была возможность примирить двух монархов, дядю и племянника. Теперь она упущена. Король кладет руку на рукоять кинжала. Спрашивает Ганса: – Так? – Идеально, – отвечает Ганс. Генрих чуть опускает плечи и сгибает колени. Когда позируешь, мышцы деревенеют, ноги перестают слушаться, локти кажутся чьими-то чужими. Чем сильнее король старается стоять неподвижно, тем больше переминается. Говорит: – Мне написали из Ирландии. Хотят, чтобы вы туда поехали, лорд Кромвель. Думают, вы сумеете навести там порядок. И наверное, вы сумели бы. – Так мне туда ехать? – Нет, там вас могут убить. Ганс начинает гудеть себе под нос. Король переступает с ноги на ногу: – Так когда епископы что-нибудь наконец скажут? С начала года епископы трудятся над новым исповеданием веры. Лишь в прошлом июле приняли Десять статей, и те породили многомесячные споры. Король надеется, что новое исповедание всех объединит. Однако всякий раз, как епископы присылают Генриху текст, тот пишет поверх, превращая документ в бессмыслицу. Потом все возвращается к Томасу Кранмеру, и тот правит королевские правки, а заодно и королевский синтаксис. Ганс говорит: – Не соблаговолит ли ваше величество повернуться лицом? Не к лорду Кромвелю, а ко мне. Генрих подчиняется. Смотрит на художника и говорит министру: – А человек Лайла ведь здесь был? Я хотел бы знать, родила ли леди Лайл. Вроде у нее уже срок подходит. – Ваше величество узнает первым. Ганс говорит: – Если она родит мальчика, лорд Лайл прикажет палить из пушек, так что в ясную погоду в Дувре услышат и тут же отрядят гонца. Надеюсь, стены Кале не рухнут. – Сударь, – шепчет он, – вы забываетесь. Занимайтесь своим делом. Иногда, сидя рядом с королем – время позднее, они устали, он работал с первого света, – он позволяет своему телу слиться с телом Генриха, чтобы их руки утратили форму и затуманились, будто талая вода. Он воображает, что их пальцы соприкасаются, его разум проницает королевскую волю, чернила текут на бумагу. Иногда король задремывает. Он сидит, почти не смея дышать, чуткий, словно нянька над капризным младенцем. Потом Генрих вздрагивает, просыпается, зевает, говорит, словно обвиняет его: «Уже полночь, сударь!» Прошлое отсохло, отвалилось; король забыл, что он «милорд», забыл, кем его сделал. На заре и в сумерках, когда свет перламутров, а затем еще раз в полночь тела меняют форму и размер, словно кошки, что выскальзывают через окно на крышу и пропадают во тьме. Однако сейчас нет и десяти; утро ранней весны, свет нежный, как лепестки примулы. – Обедать еще не пора? – спрашивает король. И сразу: – Какие известия от Норфолка? – Он простужен. Страдает желудком. Каждый день понос. Король смеется: – До чего хрупкая натура. Прямо как принцесса Мадлен. Ганс цокает языком: – Серьезное выражение, если ваше величество не затруднит? И глаза на меня? Если милорд Кромвель сделает что-нибудь, на что стоит посмотреть, я скажу вашему величеству. Вновь тишина. Во Флоренции, думает он, художник отлил бы всего человека в форму. Раздеваешь его донага, натираешь жиром и ставишь в ящик высотой до подбородка. Заливаешь гипсом, а когда тот схватится, долотом вскрываешь ящик, как орех. Достаешь человека, красного с ног до головы, моешь и обещаешь снять слепок головы в другой раз. Однако у тебя есть его форма, можешь отливать в ней сатиров, святых или греческих богов. Внизу, в королевской кухне, жарят на обед ржанок. Спаниель просыпается и начинает возбужденно бегать кругами, принюхиваясь к дивному запаху. Король смотрит на собаку. Ганс хватает ее в охапку и отдает слуге со словами: – Заберете ее позже, милорд. За следующий час в комнату врывается все больше звуков: стук подков по мостовой, выкрики из далеких дворов, звяканье труб – это музыканты идут упражняться, – так что наконец кажется, что здесь с ними весь двор. Между тем выражение королевского лица мало-помалу меняется, как будто луна прибывает; к тому времени, как Ганс заканчивает, Генрих как будто светится изнутри. Встряхивается, поправляет одежду. Говорит: – Думаю, со мной на портрете должна быть королева. Ганс стонет. Король говорит: – Кромвель, зайдите ко мне попозже. – Насколько попозже, сэр? Ответа нет – Генрих уже вышел стремительным шагом. Подмастерье Ганса собирает наброски. Голова короля повернута так и эдак, лоб нахмурен и разглажен, глаза пустые или враждебные, но рот всегда одинаковый: маленький, плотно сжатый. – Хватило времени, Ганс? – Да вроде. Мне была нужна только его голова. – Надо будет в следующий раз позвать лютниста. – В одну комнату с вами? Вы дня них опасны. Марк Смитон отказывается уходить в забвение. Впрочем, еще и года не прошло. Он говорит: – Еще раз повторяю, я не трогал Марка. – Мне говорили, когда он вышел из вашего дома, глазные яблоки висели у него на щеках. Ганс говорит без возмущения, скорее с любопытством, как будто воображает, что делает анатомический рисунок. – Свидетели видели, как он поднимался на эшафот. Живой и здоровый. Не испытывайте мое терпение. И не испытывайте терпение короля. Ганс отвечает: – С Генрихом просто. Он не смотрит так, будто хочет оказаться в другом месте. Считает, что позировать для портрета – его долг. Разве вы не видите? Его лицо сияет от восхищения самим собой.
К концу мая ребенок в животе у королевы начинает шевелиться. Te Deum[155] Троицына дня восхваляет не только надежду в ее утробе, но и закрытие военного сезона. Приходские церкви звонят в колокола, в Тауэре палят пушки, на мостовые выкатывают столько бочонков дармового эля, что даже нищие подхватывают: «Бог да благословит нашу добрую королеву Джейн!» В окнах вывешены флаги, на крышах плещут вымпелы, дрозды заливаются, форель выпрыгивает из ручьев, а покойники на лондонских кладбищах дребезжат костями. Джейн отказывалась позировать для портрета, говоря: – Мастер Ганс будет на меня смотреть. Однако она все же уступила королю, оговорив только, что на сеансах будет присутствовать лорд Кромвель; она как будто боится, что художник станет кричать на нее на чужом языке. Он представляет Ганса королеве и отходит, чтобы не закрывать ее. – Сюда? – спрашивает Джейн. Она встает на указанное место. Леди Отред, теперь фрейлина своей сестры, наклоняется расправить ей юбки. Джейн окаменела, словно тело на катафалке. Стоит, сцепив руки поверх ребенка, будто просит его не шалить. – Дышать можно, – напоминает Ганс. – И безусловно, ваше высочество может сесть, если пожелает. Джейн устремляет взгляд в пустоту. Выражение отрешенное и чистое. Ганс говорит: – Не может ли ваше высочество поднять подбородок? Вздыхает, переминается с ноги на ногу, обходит королеву, гудит себе под нос. Ганс недоволен: лицо у нее пухлое, он не видит костей. Джейн заговаривает лишь раз: – Леди Лайл еще не родила? – Это должно быть уже скоро, – отвечает он со своего места у окна. – Все будет в Божье время, – говорит леди Отред. Мысли отвлекаются, утекают. Он вынимает из кармана молитвенник и перелистывает страницы, однако образ воды, дневного света на воде мерцает и струится между глазами и книгой. Он видит женщину, сидящую в скомканных льняных простынях, ее голую грудь, руки, по которым скользит солнечный луч. Вспоминает себя ночью, на скользкой мостовой у Немецкого подворья в Венеции; они выходят из лодки, и его друг Хайнц спрашивает: «Хотите посмотреть нашу богиню на стене? Эй, сторож, подними факел». Джейн еле заметно вновь опускает подбородок. Ганс подходит к нему, шепчет, не важно, будет она стоять, сидеть, встанет на колени, все, что ей угодно; руки, позу, все это я могу изменить потом, мы сможем нарядить ее в другое платье, если захочет, или написать другие рукава, можем немного сдвинуть чепец назад, а что до драгоценностей, они будут моего изобретения, это ведь послужит к моей славе, вы согласны, Томас? Однако мне нужно ее лицо, вот только на один этот час. Так уж уговорите ее – пусть уделит мне взгляд. – Король захочет увидеть ее такой, какая есть, – предупреждает он. – Без лести. – У меня нет привычки льстить. – Я уверена, когда он на ней женился, она не так сильно походила на гриб, – говорит ее сестра.
Теперь уже вся Европа знает, что королева в счастливом ожидании. Сеймуры на седьмом небе. Пришло время ему, Кромвелю, напрямую поговорить с Эдвардом. – Госпожа ваша сестра, – говорит он. – Вдова Отреда. – Да? – Ее следующее замужество. – Да? – Полагаю, вы ведете переговоры с графом Оксфордом? Вам известно, что он старше меня? – Правда? – Эдвард хмурится. – Да, наверное. – Разве Бесс не предпочла бы молодого? Эдвард смотрит так, будто он намекает на что-то непристойное. – Она знает свой долг. – Вы считаете честью породниться с де Верами. Однако Сеймуры – не менее древний род. На мой взгляд, такой же древний и такой же хороший, хотя до последнего времени и не так взысканный королевскими милостями. У Веров больше власти, но уважаемы они не больше. – Так что вы хотите сказать? – настораживается Эдвард. – Вам не нужен Оксфорд, чтобы добиться возвышения. Вы уже возвысились. И я уверен, что невеста будет счастливее за другим. – Как неожиданно. Так вы… – Эдвард закрывает глаза, как будто молится. – То есть вы желаете… – Мы желаем, – отвечает он. – И готовы? Разговаривать о деньгах? – Это моя любимая тема для разговора, – отвечает он. Мы, грубые Кромвели, да? Эдвард выдавливает улыбку. – Право, Эдвард, это было бы великолепно, – говорит он. – Мы скрепили бы наше единство в совете узами крови. Пусть вас ничто не смущает. С вашей стороны – любезное согласие, с моей – все грубое и материальное. Я построю Бесс новый дом. До тех пор она тоже не останется без крыши над головой. Мортлейк значительно расширен, а есть еще Степни с домом, который хорош в любое время года, и, разумеется, Остин-фрайарз – вся моя собственность будет в ее распоряжении, а если ей приглянется какой-нибудь из королевских домов, я уверен, его величество в своей доброте позволит нам его арендовать. У нее будет все, что я смогу дать для ее счастья. Эдвард говорит: – Я слышал, некоторые джентльмены говорят, что Томас Кромвель вовсе не низкого рождения. Что вы побочный сын некоего знатного человека. Ему смешно. – А говорят какого? – Они считают, иначе ваш талант к управлению не объяснить. Уолтер управлял кулаками, думает он. – Что ж, как бы то ни было, – говорит Эдвард, – я побеседую с сестрой и узнаю ее мнение. И мнение королевы, разумеется. Не знаю, что я скажу графу Оксфорду… – Я с ним поговорю. – Да? – радуется Эдвард и, обнимая его, говорит: – Мы с вами прошли долгий путь, милорд, с того дня, как впервые приветствовали вас в Вулфхолле. Он возвращается домой и говорит Грегори: – Я нашел тебе невесту. – Замечательно, – отвечает Грегори. – Буду терпеливо ждать, когда вы назовете мне ее имя. Он спешит прочь. Его ждут шесть епископов и делегация из французского посольства. Однако в эту ночь милорд хранитель королевской печати спит крепко, под балдахином лилово-серебряной ткани, под потолком, усыпанным золочеными звездами.
В День святого Георгия в часовне ордена Подвязки король выбирает на освободившееся место графа Камберлендского в обмен на его пост по охране шотландской границы. Это, как надеется милорд хранитель печати, первая из негласных сделок, которые освободят должности на севере для людей помоложе, верных не знатным родам, а ему и королю. И этих людей выберет он сам. Деда графа Камберлендского прозвали Мясником, и семейство с тех пор отнюдь не смягчилось. Жестокость из поколения в поколение обозлила арендаторов, и не диво, что они во время последнего мятежа поднялись против хозяина. Однако таких владетелей, как граф, даже в наши дни лучше задабривать наградами. А Подвязка – древнейший рыцарский орден Европы, величайшая честь, какую может пожаловать король. К нему бочком подбирается мастер Ризли: – Сказать ли вашей милости, о чем говорят герольды? Он ждет. – Они говорят, король огорчен, что вынужден отдать Подвязку Камберленду. Он предпочел бы наградить того, кто ближе его сердцу. Тому, кто близок королевскому сердцу, недолго томиться. Гарри Перси попросил на время свой старый дом в Хакни, хочет умереть там. Врачи говорят, до конца лета он не протянет, а со смертью Гарри Перси освободится еще одно место в часовне ордена. А когда казнят лорда Дарси, освободится и второе. Мастер Ризли застенчиво поднимает взгляд: – Вам стоит заказать себе мантию, сэр. Мантию лазурного бархата; небесно-голубую, отороченную белым дамастом. Ганс уже рисует эскиз нового, улучшенного орденского знака – никогда не упустит случая продать свой талант. – Я вам не враг, вы знаете, – говорит Ганс, – хоть и написал когда-то ваш портрет.
Джейн распускает шнуровку. Ей хочется вишен и зеленого горошка, но они еще не поспели. Она просит перепелов, и Лайл шлет их из Кале, в ящиках. На корабле птиц кормят, а в Дувре забивают, чтобы сохранить как можно более жирными, но все равно в дороге они тощают, и Джейн жалуется, что хочет еще и пожирнее. Она ест их натертыми пряностями и запеченными в меду, разгрызает и высасывает тоненькие косточки. – Она набрасывается на них, будто они ее обидели, – говорит Грегори, – хотя с виду такая, будто может есть лишь простоквашу и творог. Король говорит: – Мне нравится, когда у женщины аппетит. Покойная Екатерина, когда мы поженились… когда мы думали, что поженились, – поправляется он, – могла умять уточку. А потом… – он отводит взгляд, – она начала соблюдать особые посты. Более строгие, чем предписано. Это все ее испанская кровь. Он думает, она молилась за нас. Приносила свои голодные боли как жертву за Англию. Джон Хуси доставляет перепелок в семь утра. Джейн из своих покоев распоряжается: половину изжарить на обед, остальных мы съедим за ужином. Он спрашивает у Хуси: – Ребенок еще не родился? Королю не терпится узнать. Он обрадуется, если у Лайла будет сын и наследник. Хуси мотает головой. Вид смущенный, впрочем у Хуси он всегда смущенный. – Быть может, Хонор ошиблась в подсчетах, – говорит Фицуильям. – Что советуют врачи? – Они советуют хранить терпение. Фицуильям говорит: – К рождению он будет знать грамоту, сумеет разгрызть мозговую кость и потребует деревянный меч. За перепелов и вишни, когда те наконец поспевают, Джейн соглашается взять фрейлиной одну из дочерей леди Лайл. Джейн просит прислать двух, а ту, которую не возьмет, обещает пристроить в свиту какой-нибудь другой знатной дамы. Она любезно говорит, что девушки могут носить свои французские платья, хотя английская мода за этот год изменилась. Однако, когда девицы прибывают, Джейн смотрит на них и говорит: «Ой, нет, нет, нет. Я возьму эту, только уведите ее и переоденьте поскромнее». Энн Бассет нужны льняные сорочки, такие тонкие, что сквозь них просвечивает кожа. Нужен чепец-гейбл и пояс, плотно расшитый жемчугом. Когда она вновь предстает перед королевой, на ней платье миледи Сассекс, волосы упрятаны, а голова плотно стянута чепцом. Когда он в следующий раз видит Хуси и окликает, тот поспешно направляется в другую сторону.
Уайтхолл. Он вместе с Грегори является к покоям леди Марии. Ожидается приход кого-то чрезвычайно важного. Приближенные обступают его, спрашивают: «Кто это будет, лорд Кромвель?» Белошвейка Марии принесла корзину. Пришел музыкант настроить ее верджинел. Карлица по имени Джейн семенит по комнате: «Добро пожаловать, все и каждый». – Додд! – приветствует он церемониймейстера Марии. – Сегодня к вам большая особа. – Он говорит громко, чтобы все слышали. – Испанский джентльмен, присланный императором в подмогу Шапюи – ухаживать за леди Марией. У одной из королевиных дам, Мэри Маунтигл, в руках кошелек с деньгами – королева вчера проиграла в карты и теперь прислала долг. Мэри сопровождает другая фрейлина, Нэн Зуш, как будто ее могут ограбить по дороге. Обе повисают у него на локтях. – Испанский джентльмен? Разве дом Луиш не португалец? – Хотя это одно и тоже, – замечает Нэн Зуш. – Все они кузены императору. Маунтигл спрашивает: – А дом Луиш говорит по-английски? Если нет, лорду Кромвелю придется стоять на коленях рядом с брачным ложем и переводить. – Я не знаю португальского, так что придется им обойтись, – говорит он. – А леди Мария всегда забирает свой выигрыш? – Всегда, – говорит Нэн. – И она такая азартная! Как-то в игре в шары поставила на кон свой завтрак. Маленькая женщина говорит: – Надеюсь, посол не привез ей засахаренные фрукты. У нее зубы болят. – Показывает свои. – А я так орехи могу разгрызать. Великие люди входят под звук хихиканья. За новым послом, доном Диего де Мендосой, идет Шапюи, за Шапюи – его фламандский телохранитель. Дон Диего из тех, кому нужно много свободного места. Шапюи суетится, отступает в сторону, чтобы новый посол мог покрасоваться плюмажем и черным бархатом. Мендоса почтительно несет в руках письмо, перевязанное черной лентой. На письме – печать с двуглавым орлом. – Лорд Кремюэль, – говорит посол, – я о вас наслышан. – А у меня, – любезно отвечает он, – такое чувство, будто я с вами знаком. Вы ведь, наверное, родственник тому Мендосе, что был послом во времена кардинала. – Имею честь. – Кардинал его запер. – Нарушение всех принятых законов дипломатии, – говорит Мендоса. В голосе такой холод, что мог бы выморозить виноградник. – Я не знал, что вы были тогда при дворе. – Я и не был. Поскольку я был кардинальским слугой, я унаследовал его заботы. – Но не его методы, – поспешно добавляет Шапюи. Заметно, что Эсташ стремится к успеху этой встречи. – У вас много общего, господа. Дон Диего бывал в Италии. В университетах Падуи и Болоньи. – Вы там бывали, Кремюэль? – спрашивает Мендоса. – Да, но не в университете. – Дон Диего знает арабский, – сообщает Шапюи. Он сразу навостряет уши: – Много ли надо времени, чтобы его выучить? – Да, – отвечает дон Диего. – Годы и годы. Он спрашивает: – Привезли ли вы миледи портрет дома Луиша? – Только это. – Посол демонстрирует письмо. – Я думал, возможно, у вас с собой его миниатюрный портрет, который вы носите у сердца. Что-то у дона Диего с собой точно есть, о чем он и на миг не забывает, как невозможно забыть о каленом железе под рубашкой. Без сомнения, это второе письмо, возможно шифрованное. – Разумеется, есть подарки. Их везут на муле, – говорит Мендоса. – Потому что они большие, – добавляет Шапюи. – Это хорошо. Леди Мария любит все дорогое. Потому-то отец и взял ее ко двору. Слишком накладно было содержать ее отдельно. Каждую неделю она снова просит денег. – Она щедра при своих скудных средствах, – говорит Шапюи. – Творит дела милосердия. – Полагаю, она живет, как пристало принцессе? – спрашивает дон Диего. – Вы же не ждете от нее иного? – Обычно, – замечает Шапюи, – если вы именуете ее правильным титулом, лорд Кремюэль наступает вам на ногу. Ее называют просто именем, Мария. Но смотрите-ка, когда ее предлагают как невесту, мы называем ее принцессой, и внезапно… – он ухмыляется, – Кремюэль совершенно не против. Открывается дверь, выходит капеллан Марии, беседуя с ее врачом, испанцем. Капеллану он говорит: – Добрый день, отец Болдуин. Как миледи? С доктором здоровается на лучшем своем кастильском – утритесь, Мендоса. – Я дам вам четверть часа, посол, затем, к сожалению, вынужден буду вас прервать. Шапюи возмущен: – Они не успеют даже помолиться вместе. – О, они будут молиться? – Он улыбается. Церемониймейстер Додд проводит Мендосу в комнату приемов. – При ней есть ее фрейлины? – спрашивает Нэн Зуш, и обе дамы, обменявшись взглядами, проскальзывают вслед за послом. Дверь закрывается. Шапюи что-то бормочет себе под нос. Кажется: «Безнадежно». – Что вы сказали, посол? – спрашивает он. – Думаю, эти дамы, что сейчас ворвались к леди Марии, ваши приятельницы. Мэри Маунтигл – дочь Брэндона от одного из его многочисленных прежних браков, и да, насчет приятельниц Шапюи не очень отклонился от истины. Нэн Зуш – в ту пору Нэн Гейнсфорд – сообщила ему сведения, пригодившиеся против Анны Болейн. – Как королева? – любопытствует Шапюи. – Король, наверное, очень тревожится. – Она не дает оснований для тревоги. – И тем не менее. Учитывая его прошлые утраты. Говорят, Эдвард Сеймур уверен, что родится принц, и его всего распирает, словно дрожжевой хлеб. Конечно, если будет мальчик, братья Сеймуры возвысятся и могут потеснить вас. Он не может представить Томаса Сеймура в должности хранителя малой королевской печати. – Мне следует этого опасаться, да? – Однако я уверен, они будут осторожны, памятуя, как вы поступили с братом другой королевы. Я бы на их месте сбежал в Вулфхолл и затаился, чтобы про меня забыли. – Шапюи хихикает. – Им надо податься в пастухи или что-нибудь в таком роде. Он говорит: – Дон Диего не слишком любезен. Мне казалось, это обязанность посла? – Он брезглив, – признает Шапюи. Он смеется. Молчание. Голоса из-за закрытой двери такие тихие, что ничего не разобрать. Шапюи говорит: – Вы очень полагаетесь на мастера Зовите-меня. – Да, он становится значительным. – Он вскрывает ваши письма. – Кто-то должен их вскрывать. В одиночку со всеми не справиться. – Он был человеком Гардинера, – говорит Шапюи. – Гардинер остается во Франции. – А служат тому, кто ближе, – говорит Шапюи. – Понятно. Он оглядывается через плечо: – Хотите полслова? Умному достаточно. Посол подходит ближе. – Аск вас изобличил. – Что? – На допросе. И у нас есть ваши письма лорду Дарси. За три года. – Протестую, – быстро говорит Шапюи. – Вы утверждаете, что они поддельные? – Я ничего не утверждаю. Я вообще о них не говорю. – Я знаю, что происходит, Эсташ. Вы приходите ко мне, ужинаете, говорите мне, мир. Идете домой, зажигаете свечу и пишете своему государю, война. – Пауза. – Ваше счастье, что я добрее кардинала и не стану вас запирать. – Он указывает на закрытую дверь. – По-моему, десять минут прошло. Сказано – сделано: он открывает дверь ногой, словно пьяный конюх. Грегори и посол входят следом за ним. Входя, они слышат вопль. Большой зеленый попугай раскачивается на жердочке. Когда они резко поворачиваются к птице, та разражается хохотом. – Это подарок, – говорит Мария. – Приношу извинения. – Он говорящий? – Боюсь, что да. Он отметил, что Мария не предложила дону Диего сесть. Посол выпячивает грудь: – Милорд, выйдите, мы не закончили. Попугай раскачивается и кричит – звук словно скрип несмазанного колеса. Он говорит: – Я пришел напомнить, что у вас срочные дела. Испанец уже почти открыл рот, но тут Шапюи прочищает горло. Момент уходит. Дон Диего говорит: – Мадам, мы вынуждены расстаться до другого раза. – Нет, не преклоняйте колени, – говорит Мария послу. – Поспешите, лорд – хранитель печати держит для вас дверь. – Она протягивает руку для поцелуя. – Благодарю вас за добрый совет. Он уступает Грегори обязанность держать дверь и делает шаг в комнату. Посол выходит с недовольной миной, Шапюи, выскакивая следом, корчит смешную рожу. Он закрывает дверь. Попугай по-прежнему верещит. – Не любит испанцев, – говорит он. – Вы тоже, – отвечает Мария. Он подходит к птице и видит, что та прикована к жердочке золотой цепочкой. Попугай переступает лапками и угрожающе вскидывает крылья. – У меня в детстве была сорока. Я сам ее поймал. Мария говорит: – Не могу вообразить вас ребенком. Он думает, я тоже не могу. Не могу себя вообразить. – Я думал, научу ее говорить. Но она улетела при первой возможности. Правда, прежде сказала: «Уолтер – подлец». Он поворачивается к Марии: – Так что тут было? Ей не хочется рассказывать. – Он спросил, была ли я искренна. – Вообще? Или в чем-то конкретном? – Вы прекрасно знаете. – Мария вспыхивает, будто кто-то поддувает ее мехами. Однако в следующий миг она покорно опускает глаза, сникает, голос вновь становится монотонным. – Он спросил, была ли я искренна, когда признала, что мой отец – глава церкви и они с моей матушкой не были по-настоящему женаты. Я сказала, да. Я сказала, что последовала совету моего дяди-императора, переданному мне послом Шапюи. Я сказала ему, что вы, Кромвель, действовали как мой друг. И если он не поверил, я не виновата. Он говорит: – А вы упомянули, что писали папе, взяли свои слова назад и просили об отпущении грехов? Она испуганно поднимает глаза. – Не важно, – говорит он. – Это еще один случай, когда я оставил ваш проступок без последствий. Я упоминаю о нем лишь в качестве предостережения. Ее голос дрожит от испуга. – Чего вы хотите? – Хочу? Миледи, я хочу одного: чтобы вы обо мне молились. – Я молюсь, – говорит Мария. – Но знаете, что я обнаружила? Власть короля огромна, однако у него нет власти узнать меня, только то, что я говорю и делаю. Попугай склоняет голову набок, как будто прислушивается. Он говорит: – Прежнему Мендосе не позволяли оставаться наедине с госпожой вашей матушкой. Ради ее безопасности. – Полагаю, скорее для безопасности страны. – Все наши усилия только для этого. Без королевских законов мы были бы в лесу с дикими зверями. Или в океане с Левиафаном. Он отходит чуть подальше. Зуш и Маунтигл скользят к стене; могли бы вплестись в шпалеры – вплелись бы. Попугай поворачивает голову и следит за ним взглядом. – Полагаю, посол обещал вывезти вас отсюда. Мария смотрит на свои ноги, как будто они куда-то собрались без ее ведома. – Если не обещал, то пообещает. Он думает, мы насильно выдадим вас замуж во Францию. – Я надеюсь, господин мой отец так со мной не поступит. – У меня самого такого намерения нет. Я не могу дать гарантий, воля короля превыше всего, но вам лучше положиться на мои усилия, чем лезть в ночи по веревочной лестнице и пускаться по морю в решете. Она отворачивается. – Дайте мне письмо, – говорит он. – Письмо посла. Она берет со стола пухлый пакет с лентой и протягивает ему. Печать сломана. – Быть может, вы желаете его прочесть и затем передать королю? – Другое письмо, – говорит он. Мария колеблется, но лишь мгновение. Молча, не глядя ему в лицо, вынимает письмо из книги и протягивает. Оно без печати. Но прочитать его она не успела. – Что у вас за книга? Он переворачивает и смотрит. Это Травник. На фронтисписе дикарь и дикарка, оба покрытые густой шерстью, держат щит с инициалами печатника. – У меня такой есть. Книга издана десять лет назад, ей не помешали бы поправки. – Он листает страницы, смотрит гравюры. – Но скоро у нас будет другое чтение. Архиепископ Кранмер отправляет мне новый перевод Писания. – Еще один? – вяло спрашивает она. – Это, должно быть, третий за нынешний год. – Кранмер говорит, он правильнее предыдущих, и уверен, что господин ваш отец разрешит его печатать. – Я не против Писания. Не думайте так. – Я велю прислать вам книгу из первого тиража. Вам стоит изучить заповеди. Чти отца. Поскольку мать скончалась. Екатерина, прости ее Господи. Екатерина, которую Бог упокоил. Екатерина, которая не могла доносить детей до срока, однако выродила это жалкое существо, что сидит, опустив распухшее от зубной боли лицо, не поднимая на него тусклых глаз. Он думает про ее испанскую бабку в сверкающей кирасе, зерцало участи неверных. Изабелла выезжает на поле; Андалузия трепещет.
В канун Троицына дня, после так долго откладываемого плавания, шотландский король сходит на родной берег. У молодой жены-француженки лицо такое, будто ее всю дорогу выворачивало наизнанку. Свидетели рассказали, что она упала на колени, нагребла в ладони литской земли и поцеловала. В Тауэр заключили некоего Уильяма Даливела, последователя Мерлина и короля Якова. Он распространял пророчество, что шотландский король придет, изгонит Тюдоров и будет править двумя королевствами. Еще он утверждал, что видел ангела. В прежние времена его бы сочли счастливцем, но в наши дни Даливела вздернули на дыбу. Корнуольцы просят вернуть им святых, разжалованных по недавним постановлениям. Без праздников верующие оторваны от календаря, дрейфуют в океане одинаковых дней. Он думает, что просьбу можно удовлетворить: это древние, малопочитаемые святые, деревяшки с облупившейся краской и бесформенные каменные столбы, не досадившие королю ни словом, ни делом. Не то что всякие Бекеты, чьи гробницы распирает от рубинов, гранатов и карбункулов, словно их кровь пузырится из-под земли.
Июнь, второй сеанс. – Король будет стоять на этом ковре, – постановляет Ганс. Слуги раскатывают ковер перед их ногами – его башмаками кордовской кожи, изящными красными башмаками мастера Ризли, почтенной обувью лорда Одли и сэра Уильяма Фицуильяма. Ковер из числа кардинальских; он, лорд Кромвель, наклоняется развернуть угол. – Что, все они? – спрашивает лорд-канцлер. – Вместе на этом ковре? Король, королева и его августейшие родители? Ганс награждает его убийственным взглядом: – Отца я помещу за ним. Августейшую матушку – за нынешней королевой. Он спрашивает: – Какими вы напишете старых короля и королеву? В каком возрасте? – В вечности у них нет возраста. – Полагаю, есть другие портреты, которыми вы сможете руководствоваться. – Разве мы не создали вам галерею? – спрашивает Ганс. – Целую комнату утраченного. Да, но это больше похоже на игру, думает он, игру в королей, их лица – подсказки. Никто не может сказать, что они выглядели так или не так. Слишком давно они жили и умерли. Ганс начинает шагами размечать сцену. Отец здесь, ближе к центру, но на переднем плане Генрих. Между двумя родителями я помещу колонну, говорит мастер Гольбейн, либо мраморный постамент… – Вроде алтаря? – предлагает лорд Одли. – Он захочет, чтобы там были слова, Ганс. Восхваляющие его. – Слова пусть придумает лорд Кромвель. – Мастер Ризли, – говорит он, – запишете для памяти? Однако Зовите-меня уже набрасывает варианты. Входит король, и все поворачиваются в его сторону. Ему надо пройти через всю галерею, и его словно немного шатает, как будто пол под ногами мягкий. Фиц что-то шепчет. Он на него шикает. – А, Кромвель, – говорит Генрих. – Лорд-канцлер. До меня дошел слух, что Франциск умер. – Боюсь, слух неверный, – говорит он. Лицо у короля бледное, одутловатое. Он не решается спросить, мучает ли того нога. Генриху не понравится, что низшие, такие как Ганс, услышат вопрос, а тем более ответ. – Сегодня тут света побольше, – говорит король. – Норфолк мне написал, что в Йоркшире каждое утро заморозки. А у нас розы цветут! Зовите-меня говорит: – Где Норфолк, там всегда заморозки. Генрих улыбается: – Зефиры его не овевают. А молодой Суррей, он пишет, страдает от упадка духа. Сам я всегда считал, что действия прогоняют меланхолию, и уж вроде бы Говардам есть чем себя занять… – Герцогу лучше остаться в Йоркшире, – говорит Фицуильям. – Северяне принимают его лучше, чем кого-либо другого. Томас Говард говорит, что еще одна зима его убьет. Однако до сентября ему придется потерпеть. Не хочет же он оказаться в Лондоне в разгар чумы? На прошлой неделе похоронили сто двадцать человек. – А что слышно про Гарри Перси? – Король задумчиво чешет нос; он ждет, когда графский титул Перси вернется короне. – Пошлите молодого Сэдлера глянуть, как он там умирает. Ризли всем видом беззвучно возмущается: не его, ваше величество, отправьте меня! – Если только вы сами не хотите его навестить, милорд хранитель печати? Впрочем, граф боится вас с давних времен, не хочу обвинений, будто вы напугали его до смерти. – Я не делал графу ничего дурного, – говорит он. Перед глазами возникает картинка: Зовите-меня у смертного одра, снимает верхнее платье, засучивает рукава, берет подушку… Король зовет: – Ганс, где вы? Мы готовы. Сегодня надо закончить наброски, иначе вам придется за мной гоняться. Я не стану мешкать в Уайтхолле, когда могу быть на охоте… Король говорит весело, будто старается подбодрить себя и художника. Ганс насвистывает сквозь зубы и перебирает листы. Собранные вместе, они покроют всю стену. Советники отступают, освобождая место. Фиц бормочет: – Что с ним сегодня? Что-то случилось. Он думает: это началось в прошлом октябре, просто накапливалось, так что мы заметили только сейчас. Мятежники подкосили Генриха, и он уже никогда не будет прежним. Король стоит один на турецком ковре, попирая ногами синие звезды. Говорит громко, словно хочет втянуть их в свои планы: – Этим летом вы будете охотиться со мной, милорд Кромвель. – И вдруг начинает заваливаться. Он успевает метнуться вперед и ухватить короля за плечи. Фиц в полушаге от него. «Стул королю!» – кричит Одли. Далекие взволнованные возгласы – как быстро разлетаются новости! – затем топот ног, вбегают слуги и придворные. «Прочь!» – Фиц размахивает руками и орет, словно на поле боя. Ризли аккуратно вдвигает табурет монарху под колени. Они бережно усаживают болящего. Тот сидит, раскрыв рот, лицо кривится, будто вот-вот заплачет. Они с Одли поддерживают короля с двух сторон. Лицо у Генриха блестит от пота. Он вынимает носовой платок. Они обступают короля, загораживая его от остальных. – Вам больно, сэр? – спрашивает Одли. – Где болит? – Дайте мне дышать, – говорит король. Они пятятся. Генрих хватает его за рукав. Вытирает платком лицо. – Милорд, это не первый раз, когда нас шатает. Нам в ноги попал гумор. Слабость. Нет, доктора знают не больше нашего. Но это обязательно пройдет. Короля трясет от тихой ярости на себя. – Отошлите всех. Скажите Гансу, пусть придет завтра. Скажите всем, это просто… нет, не говорите ничего. Пусть уйдут. Он думает, король совсем плох. Выпрямляется, однако Генрих по-прежнему держит его за рукав. – Кромвель, что, если это девочка? У него падает сердце. – Тогда следом родятся мальчики. Король отпускает его рукав. Жалобно спрашивает: – Где Фиц? Мне нужен Фиц, отошлите всех остальных прочь. Он оборачивается. Никто не смеет подойти. – Идемте, – говорит он. Одли пристраивается рядом, Ризли наступает им на пятки. До самого конца галереи все молчат. Одли бросает взгляд через плечо: – Надо сохранить это в тайне. Мастер Ризли говорит: – Конечно, милорд. – Не удастся, –говорит он. Художник отошел вместе с ними. – Мастер Гольбейн? Дайте ваши рисунки. Лицо короля. Покажите мне. Ганс свистит подмастерью, тот перебирает листы с королевским лицом, находит вариант, который художник готов показать. Он, Кромвель, прикладывает большой палец к королевскому лбу, словно совершает миропомазание: – Поверните голову. К нам. Пусть он на нас смотрит. – Боже Всемогущий, – говорит Ганс, – это будет жутко. Развернуть торс и все остальное? Мрачное лицо и мощные плечи. Жирные бока, подложенный гульфик. Ноги точно столпы, удерживающие земной шар. Эти колени не подогнутся, эти стопы не уклонятся с верного пути.
В июле с севера приезжает лорд Латимер и бесконечно изводит всех жалобами на то, как пострадал от Паломников; он предпочел бы вовсе не видеть Йоркшира, но знает, что должен будет вернуться туда по королевским делам, однако в остальное время предпочтет жить в своем Першорском имении; и то же самое говорит его жена Кейт. Лорд Латимер не может понять, отчего молодые люди прячут ухмылки. Что смешного в его жене Кейт? Из Шотландии сообщают, что принцесса Мадлен умерла. Ее торжественный въезд в Эдинбург так и не состоялся. Знамена сворачивают, украшения улиц разбирают, серебряные трубы прячут в футляры. Генрих говорит: – Наверняка Яков снова будет сватать француженку, но вряд ли Франциск отдаст ему младшую дочь, везти в холодную Шотландию. Есть герцогиня Вандомская. Правда, Яков ее однажды отверг, так что ее родные, наверное, оскорбились. – Умер герцог де Лонгвиль, – говорит он. – Говорят, его вдова очень красивая, замужем была всего три года, тем не менее у нее уже сын и еще один младенец под сердцем. Яков будет свататься к ней. Однако неизвестно, думает он, удастся ли сватовство. Родня Марии де Гиз настолько высокомерна, что, возможно, и не знает, где эта Шотландия. Так или иначе, Яков будет какое-то время соблюдать траур. К принцессе Мадлен прилагался пенсион, тридцать тысяч франков в год. За покойницу их платить не будут. Мадлен не дожила месяца до семнадцати лет. Надо отдать французам справедливость, они советовали Якову выбрать невесту покрепче.
Погожим вечером он гуляет с леди Отред по личному саду королевы. Бесс идет с ним под руку. – Так когда свадьба? – спрашивает она. – Как только пожелаете. Но, – он поворачивается и смотрит ей в лицо, – вы этого хотите? – О да. – Она поднимает на него ласковый взор. – Понимаю, некоторые подумали бы… – Конечно, брак будет не совсем равный, я обсуждал это с вашими братьями, ничего не утаивая. – Что ж, меня тоже нельзя назвать неопытной девицей. Я вдова. Он не совсем понимает, к чему она это говорит, но с какой стати ему понимать молодых женщин? – Миледи, позвольте спросить… дело, быть может, слишком личное… – Каким бы оно ни было, послушание велит мне вам ответить. – В таком случае… я хотел бы знать, вы до сих пор оплакиваете мужа? Она говорит: – Я не жаловалась на Отреда. Он был добрым мужем, я сожалею о его кончине. Однако вы не сочтете меня бессердечной, если я скажу, что могла бы быть счастливой с непохожим на него человеком. – Леди Отред с жаром поднимает к нему лицо; он чувствует, что она изо всех сил старается ему угодить. – И я вполне готова проверить. – Когда умерла моя жена, – говорит он, – я о ней тосковал безмерно. При том, какой была моя тогдашняя жизнь… вечные разъезды по стране, в Антверпен несколько раз за год, вечерами допоздна у кардинала, на обедах в гильдиях, на заседаниях в Грейз-инн… иногда я возвращался домой, а она говорила: «Я Лиззи Кромвель, вы не видали моего мужа?» – Лиззи, – повторяет она. – Хорошо, что я теперь Бесс. Со всеми Элизабет так: как ни назови, мы отзываемся. Он улыбается: – Я вас не спутаю. – Мы с Джейн догадывались, что вы очень любили свою жену, поскольку так и не женились снова. Джейн говорит, вы были дружны с Марией Болейн и она бы за вас пошла, если бы вы позвали. – О, это была просто ее причуда, – говорит он. – Она хотела досадить родным. Позлить дядю Норфолка. И сочла, что я для этого гожусь. У Марии доброе сердце, и, говорят, она стала хорошей женой Стаффорду. Но мне она казалась… прости господи, потасканной. Бесс встревожена: – Но вы же не против вдовы? – Моя первая жена была вдовой. – Если бы вы женились на Марии Болейн, то породнились бы с королем. – В некотором смысле. – Теперь вы тоже с ним породнитесь. Просто большее время спустя. Он думает, какая она заботливая, какая деликатная. Упомянула старый слух про Марию Болейн, но обошла молчанием более свежий про Марию – дочь короля. Он останавливается, берет ее руки в свои. Вокруг благоухает сад. – Давайте не будем говорить о покойниках. Я предпочел бы говорить о вас. Нам надо вас одеть. Заказать шелк и бархат. И, наверное, изумруды? – Когда Джейн так внезапно возвысилась, я на время уступила ей мою шкатулку с драгоценностями. Теперь, когда я выхожу замуж, она их, наверное, вернет. – Я поговорю с людьми в Антверпене. Можно действовать через королевского человека, Корнелиуса, но я знаю замечательных ювелиров, и вам будет приятнее носить свое, а не то, что носила ваша сестра. Она опускает глаза: – Джейн сказала, что вы умеете быть очень щедры. – Позвольте мне вам угождать. У меня нет дочерей. Впрочем, это неправда. У меня есть дочь, вы о ней узнаете. – Ваша антверпенская дочь. – Но она не носит драгоценностей. Бесс улыбается, потупившись; сейчас она робеет совсем как ее сестра. – Милорд, вы можете угождать мне, а я буду угождать вам, однако я едва ли буду вам дочерью. Он отвечает мягко: – Я очень надеюсь, что мы с вами будем как отец и дочь. – Ой, но… – Она кладет руку ему на локоть. – Это будет так? Я не знала. Конечно, как вам угодно, но вы еще не такой уж старик, и я надеялась родить вам детей. – Мне? Он потрясен, шокирован. Он, побывавший в Риме! Побывавший, честно говоря, везде. – Бесс, – говорит он, – нам надо вернуться в дом. – Зачем? Эти Сеймуры, думает он, они словно герои древнегреческих легенд. На них падет проклятие. Мы знаем, что старый Джон Сеймур спал с невесткой, но не думает же Бесс, что во всех семьях так? – Поздно, вы устали, и уже холодно, – говорит он. – И нам не следует оставаться наедине. – Почему? – Это может привести к… – Он проводит рукой по лицу. К чему это может привести? – К недоразумениям. Люди могут неправильно понять. Она говорит: – Времени всего девятый час, вечер теплый, а я полна сил, как молочница поутру. – Идемте, – повторяет он. – В остальном я согласна. – Голос у нее ледяной. – Думаю, произошло недоразумение. Я обещала себя лишь одному Кромвелю, тому, за которого выйду замуж. Но за которого из Кромвелей я выхожу? Его мысль устремляется к разговору с Эдвардом, опускается легко, как муха, и начинает ползать по каждой сказанной фразе, по каждому умолчанию. Назывались ли имена? Вероятно, нет. Мог ли Эдвард предположить… мог ли Эдвард ошибиться… да, вероятно, мог. Он шумно выдыхает: – Что ж. Я польщен, Бесс. Что вы готовы были об этом хотя бы задуматься. Она отвечает твердо: – Моей вины тут нет. – Ни малейшей. – Виноваты вы. Я выслушала брата. Ни словом не возразила. Не стала спрашивать, сколько лет Кромвелю и не сын ли он ремесленника. Я просто сказала, да, Эдвард. Ради семьи, Эдвард. За кого велишь, Эдвард. – Понимаю, – говорит он. – Начинаю понимать. – Знаю, вы человек занятой. Но вы могли бы найти минутку, чтобы объяснить толком, и Эдвард объяснил бы мне. А без истолкования я заключила… – Но почему? Притом что Грегори – молодой человек, которому пора жениться? – Наверное, милорд, вы не знаете, как много говорят о вашем холостяцком состоянии. Как весь двор ждет, что вы женитесь. Как все, мужчины и женщины, строят догадки о великой и опасной чести, которая вас ожидает. – Это всего лишь сплетни, – говорит он. – И вы правы, они опасны. Опасны для меня, оскорбительны для леди Марии. – Тогда вам стоит определиться самому. На ком вы женитесь. На ком не женитесь. – Не говорите Грегори. Он думает, вы добровольно согласились за него выйти. – Внезапно он пугается. – Вы же согласны выйти за него? Поскольку, Бесс… миледи… вы ведь рады, что все оказалось не так, как вы думали? Молчание, потом: – Милорд, я не отвечу, рада я или нет. Гадайте сами. Впрочем, полагаю, вам недосуг гадать. – Грегори будет куда лучшим мужем, – жалобно оправдывается он, – и вы сможете им гордиться. Он добрый, ласковый, прекрасно танцует, на турнирах выступает не хуже джентльменов, на чьем щите соединены шестнадцать древних гербов, король его любит и скоро сделает бароном, так что вы вновь получите титул. Он во всем лучше меня… Меня, думает он, так замаранного в житейских боях, покрытого шрамами, никому не нужного и холодного. – Замолчите, – говорит она. – Сперва слишком мало слов. Теперь слишком много. – Но вы согласны? Вы пойдете за Грегори? – Скажите мне когда и где. Я приду в подвенечном наряде и выйду за того Кромвеля, который там будет. Я покладистая женщина. Хотя и не такая покладистая, как вы подумали. Она уходит прочь по зеленой тропинке. Впрочем, идет неспеша. Голова опущена, как будто в молитве. Он думает, она будет простой мистрис Кромвель, чего не ожидала. Огорчилась ли она? Не пустяк узнать, что ты не только выходишь за младшего, а не за старшего, но и лишаешься титула. Однако, уж конечно, она предпочтет сына, у которого впереди блестящее будущее, отцу, у которого… что ж, думает он, у меня тоже кое-что впереди. Без сомнения, Ризли прав насчет ордена Подвязки. Кажется, что с сыном Уолтера такого просто не может быть. Однако уже столько всего произошло, во что не поверил бы и самый доверчивый ребенок. В детстве он ходил от двери к двери, предлагал наточить ножницы и залатать котелки. Он мог почистить курятник, отдраить оловянную посуду или разрубить мясо, если хозяйке вдруг досталась половина свиной туши. Ко всем этим женщинам он обращался «миледи», и они расцветали на глазах. Иногда одно это слово приносило ему яблоко или полпенса, а раз даже поцелуй – и все это сверх платы за работу. Отцовские друзья работали на реке лоцманами и перевозчиками. Так что он тоже работал на реке. Голодный неграмотный мальчишка. Чего ради ему была нужна дощечка с азбукой? Как только ему понадобилось разбирать слова, он стал читать. Когда требовалось записывать, кое-как записывал. Он искал в прибрежном иле сокровища и часто находил. Шляпа, которую ветер сорвал с джентльмена, может кормить семью целую неделю; продаешь не вымокший бархат, а пряжку. Это мог быть золотой Бекет или Христофор, цветок с эмалевыми лепестками, драгоценный крест с гранатом на месте Божьей головы. Он научился прятать находки от Уолтера и оставлять деньги себе. Как-то вечером пьяный Уолтер, хлопнув себя по груди, сказал ему: «Эта лодка все идет и идет, Томас. Я гребу, чтобы не помереть».
В конце июня Кромвели посещают Сеймуров в Твикенхеме. Обмениваются подарками, катаются на лодке, допоздна слушают музыкантов; затем при свете и запахе восковых свечей он обсуждает условия с Эдвардом Сеймуром, главой семьи. Эдвард согласен, что молодым надо будет побыть вместе без надзора старших. Свадьбу назначили на первые числа августа, когда у него, лорда – хранителя печати, ожидаются два свободных дня в расписании; два дня, когда, мы надеемся, европейские государи будут не воевать, а сидеть в тени и слушать дремотное журчание воды в мраморных фонтанах. Если Эдвард Сеймур и заблуждался так же, как его сестра, то сейчас об этом не упоминает. Сыплются поздравительные письма, в том числе даже несколько искренних. Зовите-меня говорит, кто бы подумал, что Грегори окажется вам так полезен – свяжет вас с семьей короля. Я всегда предсказывал, от него будет толк. После того как документы подписаны, брак все равно что заключен, а ночи впереди короткие, напоенные летними ароматами, так что не будет беды, если молодые разделят ложе прямо сейчас. Постарайся сделать ее счастливой, наставляет он сына, такой счастливой, какой не сделал бы ее старик, будь он хоть сто раз граф, чтобы она никогда не пожалела о своем замужестве, не сказала, а я ведь могла стать графиней Оксфордской. Для первого дома Грегори он заказал майоликовую посуду в Венеции, у мастеров, украшавших церковь Святого Варнавы, и теперь мечтает, как будет вскрывать ящики, гладить рукой глазурь. Он велел изобразить богов и богинь: Данаю и Зевса, посетившего ее в образе дождя. Дождь не простой: молодая блаженствует под изливаемым на нее золотом, слитки катятся по ее голым рукам и бедрам, громоздятся у ног. Ни одна девица так не прирастала богатством, да к тому же золотой ливень не оставляет синяков. Бесс Сеймур узнáет Данаю и, без сомнения, дружески ей кивнет. Его неловкая оплошность, судя по всему, забыта. Бесс незачем о ней рассказывать, это значило бы выставить себя дурой. Ему хочется зазвать Женнеке из Антверпена; он напишет, и Грегори напишет, но неизвестно, захочет ли она приехать. Весь дом готовится к свадьбе. Наконец-то испекут большой пирог с шарами из золоченого марципана, тот самый, который он намечал на Пасху. Они будут есть венецианские пирожные с новых тарелок; одни с кедровыми орешками и миндалем, другие с фиалковым сиропом.
К середине лета все Паломники повешены или обезглавлены, а с ними и все те, кто помогал им, оправдывал их либо поддерживал словом или деньгами. Бигод, лорд Дарси и сам Капитан Сапожник, главарь бунтарей из Лута, приор аббатства Джерво и бывший приор Фаунтинского аббатства. Кого-то казнили на Тайберне, кого-то в Тауэре, кого-то в Йорке и Гулле. Говорят, старый Дарси все последние дни, вместо того чтобы молиться, проклинал Томаса Кромвеля. Непокорных монахов из лондонского Чартерхауза заковали в цепи и бросили в Ньюгейт; меньше чем за неделю пятерых забрала чума, остальные при смерти, как будто Господь сам их поразил. Гарри Перси не дожил до конца июня. Рейф был у его смертного одра; Перси лежал без движения, желтый, как шафран, со вздувшимся брюхом. Вы бы его пожалели, сэр, говорит Рейф, а он отвечает, да уж конечно. Вспоминал ли он свою жену Мэри Тэлбот? В некотором роде, отвечает Рейф. Когда ему напомнили, что он не позаботился о ее содержании, он кивнул, мол, знаю, но она мне не жена, никогда не была моей женой, я был женат на Анне Болейн. Все это Перси показал, объясняет Рейф, отталкивая все бумаги, какие ему протягивали, и отрицательно водя рукой по расшитому покрывалу; ладонь, мокрая от смертного пота, скользила по геральдическим знакам Перси, синему льву и золотым ромбам. Он говорит: – Раз он помнит Анну Болейн, значит болезнь не отбила ему память. Интересно, помнит ли он, как пришел арестовать кардинала? Благородный род Перси пресекся. У Гарри детей нет, ему наследует король. Брат Гарри, Томас, умер раньше него, обезглавлен за измену во время недавних беспорядков, другой брат, Ингрем, в Тауэре, ждет казни. И Роберт Аск на том свете. Казнью руководил Норфолк. Аска повесили на стене Клиффордского замка в Йорке. Где теперь его платье желтовато-коричневого шелка с бархатной опушкой, где пунцовый атласный дублет? По-прежнему в Лондоне, в «Шляпе кардинала». Аск молил, чтобы его потрошили уже полностью мертвым, и король даровал осужденному эту милость. На этом королевское милосердие исчерпалось. Среди привезенных в Лондон мятежников есть некая Маргарет Чейн, известная как жена сэра Джона Балмера, но на самом деле его любовница. Неприлично прилюдно раздевать женщину догола, чтобы вытащить ей внутренности, поэтому за государственную измену их сжигают на костре. Он идет к Генриху. Обязанность просить о быстрой смерти для осужденных перешла к нему от кардинала. Для Анны Болейн он вымолил не только быструю смерть, но и умелого палача из Кале; ее тоже должны были сжечь. Он говорит: – Сэр, женщину Балмера казнят в Смитфилде. Знаю, род казни определен, но его обычно смягчают… Генрих сопит. – Учитывая, сэр, что она признала свою вину. – Ей ничего другого не оставалось, – говорит король. – Нет, милорд, тут ничего изменить нельзя, пусть помучается – будет пример другим женщинам, если те склоняются к папизму и мятежу. Маргарет Чейн красавица. Он ее видел. Молодая и нежная. Он говорит: – Ваше величество, дозвольте привезти ее сюда, чтобы вы на нее поглядели. Ее красота может растрогать короля. Генриха возможно смягчить. Мы такое видели. – Я не желаю видеть мятежников. За исключением Поля. Вот на Поля мне хотелось бы взглянуть, но вы его никак не поймаете. Он кланяется и выходит. Поражение, двойное поражение. Он думает, возможно, мы с Кранмером, если бы мы вдвоем на коленях молили отменить сожжение… Да только Кранмер в отъезде. В прошлом о милости к женщине могли бы просить ближайшие родственницы короля. Однако он сам строго наказал леди Марии не заступаться ни за кого из бунтовщиков, а королеве, вероятно, то же самое посоветовал брат. Он прислоняется к стене личных королевских покоев. Думает, крепитесь, господин секретарь. Поборите свою слабость, милорд хранитель печати. Барон Кромвель, будьте тверды. Сейчас не время размякать. Подходит юноша: – Дозвольте предложить вам помощь, милорд. – Том Калпепер, – говорит он. Дублет шелковый, речь елейная; какой-то Говард. Неужто им нет переводу? Юноша отвечает вкрадчиво: – Известия из Кале, милорд. – Леди Лайл наконец-то разрешилась? – О нет, ее срок еще не пришел. – Тогда не беспокойте короля. Он ждет не дождется известия, что у Лайла сын. Он протискивается мимо Калпепера, прижимая к груди ин-фолио с бумагами. Нельзя проявлять слабость, думает он. Врагов надо давить без жалости. Нельзя сплоховать еще раз. Нужно принести королю хорошие новости, выловить их откуда угодно. Генрих внешне спокоен, но не спокоен внутренне, когда просыпается ночами от боли в ноге. Король отозвал Фрэнсиса Брайана из Франции, сказав: «Что проку? Неблагодарный Поль все время от нас ускользает». Трудность не в том, как захватить этого человека, а в том, где это сделать. В Нидерландах земли разных государей так близко, что можно за день несколько раз перейти из Франции в Империю и обратно, а территории такие спорные, что граница может сдвинуться, пока путешественник слушает мессу или дремлет после обеда. Поль не висит в воздухе; он все время в чьей-либо юрисдикции. Любая стычка при его задержании будет считаться враждебными действиями на чужой земле: предлог для войны. Но куда Поль отправится дальше? Франция и Нидерланды его не примут, но и не выдадут. Он говорит Ризли, Поль сбежит в Италию; с нашими бунтовщиками у него не вышло, он переберется в теплые края, где восторгаются его родословной и где он будет разъезжать с другими прелатами в алой одежде, а бедные крестьяне станут бросать деньги под копыта его белому мулу. И это наш случай его убить. Ибо в Италии ночь не принадлежит никому. Он говорит: – Вот бы найти человека, который застрелил Пакингтона. Будь он самый отъявленный папист, я бы его перекупил и отправил убить Реджинальда.
В Чартерхаузе, теперь пустом и разоренном, ночами появляются огни. Паписты сеют слух, будто там разгуливают привидения. – Скорее всего, воры, – говорит он Ризли. – Велите поставить надежную стражу. Все монастырское имущество принадлежит королю. Однако дозорные видят, кто держит факелы: это умершие от чумы монахи бродят по клуатрам в зловонных саванах. Судя по всему, призраки доставляют депеши с того света; они видели умученного епископа Фишера, восседающего одесную Господа. – А как насчет Томаса Мора? – спрашивает он. – Его кто-нибудь видел? Доход лондонского Чартерхауза составлял 642 фунта, 0 шиллингов и 4 пенса. У Рича есть все цифры. Взять все картезианские монастыри вместе, и можно ожидать годового дохода примерно в 2947 фунтов. – И пятнадцать шиллингов четыре пенса и фартинг, – добавляет Ричард Рич. Он говорит: – Мне думается, сэр Ричард, вы много потрудились для страны. Можете взять фартинг себе и прокутить.
Порученец Лайла, Джон Хуси, вечно толчется у дверей с другими просителями, просит уделить ему десять минут. Когда Ричард Кромвель его наконец впускает, Хуси входит с кипой землемерных карт и приходно-расходных книг, однако лицо у него – как у побитого спаниеля. – Сэр, – говорит Хуси, – лорду Лайлу обещали аббатство, и он с нетерпением ждет подписания бумаг. – Я сказал, что займусь этим, и я займусь. Отдайте бумаги мастеру Ричарду. – Прошу прощения, милорд, но вы обещаете этим заняться с прошлого ноября. Кредиторы осаждают милорда со всех сторон, и вы не поверите, насколько он в отчаянном положении. А сэр Ричард Рич чинит препоны на каждом шагу. Бесплатно Рич ничего не делает, а милорду его ставки не по карману. – Сядьте, Хуси, – говорит он. – Хотите вина, подкрепить силы? Хуси садится, но ерзает на табурете: – Аббатство… милорд надеется, что получит ренту за все время ожидания… Он вздыхает: – Я поговорю с Ричем. Обещаю, проволочек больше не будет. Но вот что, Хуси. Я всегда знал вас как честного человека, так дайте мне честный ответ. Не далее как сегодня утром за ранней мессой королева спросила меня, как миледи в Кале, стала ли она матерью? По моим подсчетам, сказала она, у младенца уже должны прорезаться зубы. К его изумлению, глаза Хуси наполняются слезами. Тот говорит: – Милорд, я не смею вам сказать. – Ребенок умер в родах? – Нет. – Хуси затравленно озирается. – Исчез. Он говорит: – Знаю, за этот год в Кале видели много чудес. Однако такого, чтобы ребенок исчез до рождения, еще не бывало. Ричард спрашивает: – Живот у нее втянулся? – Нет. – Хуси трет глаза. – Вид у нее как на сносях. Но ребенок не выходит и не выходит, и теперь повитухи говорят, что ошиблись. – Мы думали, она носит какое-то сказочное чудище, – говорит Ричард. – А она и не зачинала, да? Слеза падает на карту новых владений Лайла. Он подается вперед: – Скажите лорду Лайлу, мы будем молиться о выздоровлении его супруги. – Надеюсь, она выздоровеет, – говорит Хуси, – потому что если она умрет, как нам уладить ее долги? Она пролила океан слез. Милорд так рассчитывал получить наследника. Однако он добрый джентльмен и меньше любить ее не станет, только просит, чтобы она перестала горевать. Если я сообщу, что аббатство передано лорду Лайлу, это ее подбодрит. – Хуси, ступайте прочь, – устало говорит Ричард. – Я уйду, мастер Ричард. Но ради всего святого, не забудьте про аббатство. Дверь закрывается. – Господи, – говорит Ричард. – Кто скажет королю? – Этот счастливец сидит неподалеку от тебя. – Он берет верхний лист из кипы, которую оставил Хуси. – Если Лайл хочет получить аббатство, то должен найти деньги на оплату клерков, они не станут работать в долг. – Чешет подбородок. – Хотел бы я заполучить Хуси к себе на службу. В гарнизоне Кале он получает всего восемь пенсов за день, и я уверен, Лайл ни разу его не вознаградил. На редкость упорный малый. Ричард говорит: – Известие сразит Генриха наповал. Он тяжело встает. Ноги как будто не хотят идти. – Я заранее попрошу его сесть и проверю, чтобы рядом было кому помочь.
У Генриха не подкашиваются ноги, он просто медленно багровеет и наконец спрашивает: – Исчез? Куда исчез? Святой Гавриил, направь и вразуми нас. – Я никогда о таком не слыхал, – говорит он, – и врачи, наверное, тоже. – Не слыхали? – Голос короля звенит от ярости. – Не будь у вас коротая память, вы бы знали, что Екатерина так же меня обманула. Да покарает Господь женщин, этих змей! – Я не знал, – говорит он. – Меня здесь не было. Он чувствует себя мальчиком с пальчик, в дюйм высотой. – Мы тогда только что поженились, – говорит король. – Что я знал о женщинах и женской хитрости? Она выкинула ребенка, но говорила, что носит его близнеца. Пока ее обман не вскрылся. – Ваше величество, разве это не была честная ошибка? – Женщины – начало всех ошибок. Почитайте богословов, у них все сказано. – Генрих поворачивается к нему. – Вечно вы, Кромвель, с дурными вестями. Мальчик с пальчик угодил в мышеловку. Его запекли в пудинг. Его проглотил какой угодно зверь, и теперь жди, когда выйдешь наружу с пометом. – Но зато никто другой правды не скажет, – говорит король. – Так как теперь леди Лайл? – Плачет. – Есть о чем. Бедный мой дядюшка. – Пауза. – Отправьте туда моих врачей. Он с облегчением кланяется: – Лорд Лайл будет перед вами в долгу. Генрих говорит: – Я хочу знать, что у нее внутри. Некоторые женщины носят в себе мертвую плоть, это называется крот, он не живой и не может родиться. Но иногда он вываливается, и видно, что у него черты ребенка-уродца, волосы там или зубы.
Король смотрит на фреску, написанную Гансом, и ничего не говорит. Не дело монарху благодарить простого живописца. Однако он расцветает – раздается вширь и ввысь. Королева стоит рядом, и король кладет руку ей на живот, будто проверяя, что там. За последние дни он делал это снова и снова; она всякий раз замирает, гадая, в чем дело. По совету брата, фрейлин и врачей новости из Кале от нее скрыли. Джейн научилась не пятиться, а стоять ровно, с безмятежным лицом, словно мраморная Мадонна. Если сейчас она немного сжимается и отводит глаза, то не от мужа, а от короля на стене, от его упертого в бок кулака, от руки на рукояти кинжала, от грозного взгляда, от расставленных ног и мускулистых икр, от его усыпанного самоцветами гульфика с бантом наверху. Джейн видит себя в алом и светло-коричневом, ее нарисованные глаза смотрят за пределы рамы. За ней королевская матушка в старомодном чепце с длинными полосами ткани по бокам. А на алтарь с хвалами его сыну опирается бледный захватчик, пронесший свои знамена от моря к алтарю Святого Павла, узколицый, узкоплечий, теребящий одежду; его рука полускрыта горностаевой опушкой широкого рукава. Сын, стоящий перед ним, кажется в четыре раза шире; он мог бы затолкать себе под дублет и отца, и мать, мог бы заглотить их целиком. – Клянусь всеми святыми, вы были правы, – шепчет Ганс, – когда сказали развернуть его лицом к нам. – Собственное творение как будто приводит художника в трепет. – Матерь Божия. Такое чувство, будто он сейчас выпрыгнет из рамы и растопчет тебя. – Жаль, Франциск этого не видит, – говорит король собравшимся. – Или император. Или шотландский король. – Можно сделать копии, ваше величество, – смиренно произносит Ганс. Зеркала его живого образа: еще больше, еще выразительнее. – Идем, Джейн. – Генрих отрывает взгляд от фрески. – Здесь наши дела закончены. Пора уезжать из города. Словно простой крестьянин, король берет жену под руку и целует в губы. Моя разлюбезная, я в Ишер, ты в Хэмптон-корт. Мне забавы, тебе мученья, но еще не сейчас.
Август. Леди Мария попросила себе борзую – хочет охотиться вместе с королем и его спутниками. Так что он приводит ей собаку: чисто белую, стройноногую, с маленькой гордой головкой, в ошейнике из сплетенной зеленой и белой кожи. Он сам, его племянник Ричард, его сын Грегори – будущий счастливый муж, и Эдвард Сеймур, лорд Бошан, будущий счастливый шурин. Их сопровождают Дик Персер, псарь, молодой Мэтью в кромвелевской ливрее и еще десятка два слуг. Лорд Бошан смотрит на Мэтью и хмурится: – Ты же вроде служил у меня в Вулфхолле? – Да, сэр. Но я отправился искать счастья и нашел его. – Моя вина, – говорит он. – Я вытащил мальчика из его сельской простоты. – Сельская мышь в гостях у городской крысы. – Дик Персер толкает Мэтью в спину. – Прекратите дурачиться, – одергивает он. – Сделайте серьезные лица. Сюда идет сын Норфолка. Яркий солнечный день, молодой лорд в оранжевом атласе. Суррей идет к ним, длинные ноги вихляют, глаза скошены, руки рассекают воздух, будто он отмахивается от облака комаров; при дворе роятся слухи про его отца, и все они жалят. – Сеймур! – кричит молодой лорд. Я заговорю первым, думает он, образец учтивости: – Милорд, вижу, вы покинули Кеннингхолл… – Вы не ошиблись, – говорит Суррей. – …и осчастливили своим присутствием двор. Суррей наступает на них. Норфолк прав, думает он, молодой человек выглядит нездоровым: лицо осунулось, щеки запали. – У меня дело к лорду Бошану. С вами мне обсуждать нечего. Эдвард Сеймур говорит: – Суррей, стойте, где стоите. – Либо сделайте шаг назад, – добавляет Ричард Кромвель. – Искренне вам советую. – Я остановлюсь где захочу, – говорит Суррей. – Не указывайте, где мне останавливаться. – Вооружен, как мужчина, – замечает Ричард, – а говорит, как трехлетний ребенок. Суррей все же делает шаг назад, как будто хочет лучше их видеть: слуг в серых ливреях, Грегори, Ричарда и Сеймура в павлиньих шелках и лорда Кромвеля, его дородное тело под мягкими складками темно-синего платья. Борзая отступает бочком, ворчит и скалится; Дик Персер тянет ее за поводок из опасений, что цапнет; наверное, ляжка Суррея очень аппетитна, молодое мясцо под пламенеющим шелком. Суррей указывает пальцем на него, хранителя малой королевской печати: – Сеймур, вы так влюблены в деньги этого мужлана, что готовы вывалять семейное имя в грязи? Когда мне рассказали, кто женится, я не поверил своим ушам. Такого я не ждал даже от вас. – Он про меня, – говорит Грегори. – Это я женюсь. – Про вас, про вас, недомерок подзаборный. – Суррей дергается, длинное тело блестит, словно гадючье. – Какой бес дернул вас отдать сестру этим стригалям, этим овцепасам… я вас спрашиваю, что за поношение вашему фамильному гербу, имени покойного Отреда, столь достойного мужа… – Отред умер, – говорит Грегори. – Умер и похоронен со всеми своими достоинствами. – Он вас видит! – визжит Суррей. – А я вижу вас, выродок несчастный. – Ричард Кромвель делает шаг вперед. Суррея не трогает, но пригвождает взглядом. Он, лорд Кромвель, хлопает себя по груди; там кинжал, однако здесь нельзя обнажать оружие. Лицо Суррея перекошено злобой. – Суррей, вы не в себе, – говорит он и за локоть тянет Ричарда назад. – Ваш батюшка сказал мне, вы до сих пор оплакиваете молодого Ричмонда, упокой Господи его душу. – Уже год, – говорит Суррей, – как мой друг гниет в могиле в Тетфорде, а мерзавцы вроде вас по-прежнему ходят по земле. Я приехал сюда, а весь двор гудит, как мухи над навозной кучей. Два десятка мерзавцев задумали уничтожить Говардов. Их так гложет зависть, что они готовы переломать себе обе ноги, чтобы сгубить нас. – Вы сами себя погубите, если не сдадите назад, – говорит Ричард. – Мой отец мог бы стать королем севера. Все великие семейства его поддерживают. Однако он засвидетельствовал свою верность. Он отказался от всех предложений переметнуться… – Правда? – спрашивает Эдвард. – И кто же ему это предлагал? – И какова награда? Разве он не заслужил больше наград, чем все остальные подданные? А вместо этого мы, люди благородного рождения, должны стоять и смотреть, как подлецы отнимают имения у тех, кто владел ими спокон веков, и намерены смешать свое семя с лучшей кровью этой земли. Как король терпит подле себя воров и мошенников? Вышвыривает из совета родовитых людей… Он берет Суррея за плечо, но тот отбрасывает его руку: – Кромвель, вы задумали извести всех дворян. Вы будете рубить нам головы, пока в Англии не останется только подлая кровь, и тогда вы станете править единовластно. – Это моя ссора. – Эдвард Сеймур делает шаг вперед и кладет руку воина на оранжевый атлас и серебряную бахрому. Суррей, рванувшись вперед, хватается за кинжал. Собака испуганно лает. Мэтью кричит: – Спрячь оружие, Оглобля! Лорд – хранитель печати рычит: – Живо все опустили руки! Они испуганно подчиняются, однако Суррей замахивается, Мэтью выставляет ладонь и в следующий миг приваливается к хозяину. На плиты брызжет алая кровь. Суррей смотрит в ужасе. На лице пот мешается со слезами. Ричард выдергивает кинжал у него из руки: это было все равно что ребенка обезоружить, скажет он позже. Ему запомнится, какие были у Суррея пальцы: холодные, синие, безвольные. Мэтью уже выпрямился и яростно сосет рану на ладони. Борзая облизывает плиты: подлая кровь. – Царапина, – говорит Мэтью, но по подбородку у него течет алая струйка. Грегори достает носовой платок: – Держи. Появился встревоженный Калпепер, по галерее и со стороны кордегардии бегут другие джентльмены. – Сухожилие цело? – спрашивает Ричард. – Калпепер, бегите за врачом, – распоряжается Грегори. Среди гвалта он отмечает, как спокоен его сын. Эдвард говорит: – Еще дюйм, Суррей, и вы рассекли бы ему вену. Юноше, не сделавшему вам никакого зла. – Ну, Мэтью назвал его Оглоблей, – вставляет Грегори. – И я тоже называю. Суррей трет лицо и в ярости смотрит на Грегори: – Встретимся с вами в полях, Кромвель… хотя нет, я не стану с вами драться, вы мне не ровня. Найдите дворянина, который выступит за вас, если сумеете, и я его проткну, а вы приходите забирайте труп. – Никого вы не проткнете, – говорит Ричард. – Даже собственный обед. Вы и в носу поковырять не сможете, ведь у вас не будет правой руки. – Что? – спрашивает Суррей. Эдвард говорит: – При дворе запрещено проливать кровь. Любое такое действие – угроза королю. – Его здесь нет, – отвечает Суррей, как дурак. – Однако здесь королева, – говорит Ричард, – с ребенком в утробе. И королевская дочь-девица. Он произносит спокойно и строго: – Милорды, джентльмены, вы все свидетели. Был нанесен один удар, и нанес его милорд Суррей. – Суррей, вы знаете, какова кара, – говорит Эдвард. Собака усердно вылизывает плиты у их ног. Суррей разглядывает свою правую руку, держа ее перед лицом; она безвольно поникла, как будто уже ему не принадлежит. – Я не хотел его ранить, только напугать. И он ведь не сильно пострадал? Мэтью начинает соглашаться, однако Суррей поворачивается к нему: – Мэтью… тебя так зовут? Я уверен, что знаю тебя под другим именем. Без сомнения, думает он. Вы видели его в каком-то неблагонадежном доме, где Мэтью подавал на стол или таскал уголь, выполнял белую работу или черную ради безопасности королевства. Ричард говорит: – Даже будь у него столько имен, сколько у евреев для Бога, это бы ничего не изменило. Вы причинили ущерб не слуге, а королевской законности. Суррей тянется к кошельку: – Я заплачу слуге возмещение. – Предложите это возмещение королю. – Эдвард так суров, будто уже председательствует в суде. – Ваш отец придет в ужас, когда услышит о случившемся. Он знает, какое положено наказание, а вы, Говарды, всегда говорите, что старые обычаи следует блюсти. Для наказания требуется десять человек. Старший костоправ со своими инструментами, старший по дровяному двору с плахой и деревянным молотом. Главный повар – он приносит мясницкий нож; старший кладовщик, знающий, как разделывать мясо, старший коваль с железом, чтобы прижечь рану, йомен из свечного хранилища с вощеной тканью, йомен из буфетной с миской углей – калить железо, и миской воды – охлаждать, старший виночерпий с вином и элем, старший хранитель столового белья с тазом и полотенцами. И главный птичник с петухом. Ноги у птицы связаны, она бьется и кричит, когда ее кладут на плаху и отсекают ей голову. После жертвоприношения птицы виновному приказывают оголить и опустить на плаху правую руку. Мясник приставляет нож к суставу. Читают молитву. Затем кисть, способную держать меч, отсекают, рану прижигают, а бесчувственного преступника заматывают в ткань и уносят прочь.
Он, как и обещал, на два дня освобождает себя от дел: первого августа оставляет короля в саннихиллском охотничьем доме и приезжает в Мортлейк второго, накануне свадьбы, чтобы пятого вновь быть с королем в Виндзоре. Церемония скромная, они не гонятся за знатью, но на жениха и невесту светит солнце, и гости веселятся от души. – Где Зовите-меня? – спрашивает Грегори. Ему приходится отвести сына в сторону. – Дома. Малютка его умер. – Господи помилуй. Король знает? Он думает: Грегори придворный, таким я его сделал. При самом грустном известии первая мысль – о короле. Он говорит: – Незачем сообщать королю. Монарх обычно не спрашивает о наших сыновьях и дочерях. – (Например, не упоминал Женнеке, хотя наверняка от кого-нибудь о ней слышал.) – Вряд ли он знает, сколько у Ризли детей, и не дело, если про Уильяма он услышит первый раз в связи с его смертью. Они в Мортлейке; Кромвели празднуют в своих родных краях. Что сказал бы Уолтер, узнай он, что его внук стал свояком королю? Хотя именно Уолтер всегда утверждал, будто Кромвели не простого рода. Обещал документы показать, потом сказал, их крысы съели. Уолтер говорил, твоя мать из хорошей семьи, стратфордширской, дербиширской, откуда-то с севера; они не нищие. Это, может, и правда. Однако те незнакомые люди, что пишут ему, набиваются в родню – что бы они сказали, приди он к ним в детстве? Небось спустили бы его с лестницы. Оторвали бы его пальцы от железной решетки своих ворот. Грегори говорит: – Суррей арестован по тяжкому обвинению. Может быть, король его освободит в качестве свадебного подарка мне? – Три возражения, – говорит он. – Во-первых, я надеюсь, король подарит тебе аббатство. Во-вторых, оскорбленная сторона не ты, а корона, это дело не личное. И в-третьих, мне казалось, ты ненавидишь Суррея. – Нет, это он меня ненавидит, – отвечает Грегори. – Хотя ведь я не недомерок, верно? – Ни в коей мере, – говорит он. – Ты счастлив? Вы с Бесс вроде ничуть друг друга не робеете. – Да, я счастлив, – отвечает сын. – Мы оба счастливы. Так что, пожалуйста, не глядите на нее. Разговаривайте с ней в присутствии других и не пишите ей. Я об этом прошу. Я никогда не просил многого. У него падает сердце. Значит, Бесс ему рассказала. – Грегори, я себя не оправдываю. Мне следовало выражаться яснее. – Он смотрит на сына и видит, что этих слов недостаточно. – Когда она думала, что жених я, то согласилась только из чувства долга, потому что уж точно не предпочла бы меня молодому красавцу, а что до путаницы, так ты сам знаешь, какой Сеймур торопыга. Один джентльмен недослушал другого, такое бывает. – Бывает и не такое. Но я этого не допущу. У него вспыхивают щеки. – Я человек чести. Грегори может сказать: какой чести? Той, что в Патни? – Я хочу сказать, – добавляет он, – я человек слова. – Столько слов, – говорит Грегори. – Столько слов, клятв и дел. Когда в грядущем люди станут об этом читать, они усомнятся, что такой человек, как лорд Кромвель, и впрямь ходил по земле. Вы все делаете. Всем владеете. Вы вообще всё. Так что прошу вас, уступите мне дюйм вашей земли, отец, и оставьте мою жену мне. Грегори уходит, но потом оборачивается: – Бесс говорит, что не могла съесть завтрак. – Для нее это большой день, много волнений. – Она говорит, это значит, она понесла. Так у нее было раньше, с обоими детьми. – Поздравляю, Грегори. Ты времени даром не терял. Ему хочется встать и обнять сына, но, возможно, не стоит. До сегодняшнего дня они не сказали друг другу ни одного резкого слова, а сказанное сейчас не столько резко, сколько печально. Печально, что сын дурно думает об отце, будто тот – чужой, от которого неизвестно чего ждать, прохожий, который может ободрить тебя приветливым словом, а может ограбить, убить и бросить в канаву. – Грегори, я рад от всего сердца. Не говори Бесс, что я знаю, она может обидеться. – Еще что-нибудь? – спрашивает Грегори. – Да. До зимы никому знать не обязательно. А пока это еще одно, чего не следует говорить королю. Генрих подумает, почему для некоторых все так просто? Почему дети настолько дешевы, что младенцев подбрасывают к порогу, откуда их потом собирают и растят на приходские средства, а король Англии вымаливает у Бога одного-единственного сына? Почему другим все настолько легко, что жаркий поцелуй в садовой беседке ведет к купели и крестильной рубашечке, а наше законное супружество еще не принесло желанного плода? – И еще, – говорит он, – нам не нужны разговоры, что сын Кромвеля не дотерпел до церковного благословения брака. – Так и есть, – отвечает Грегори. – Я в нем не нуждался. В гробу я видел церковное благословение. Что священники знают о браке? Король запрещает им жениться, вот пусть и не лезут в нашу семейную жизнь. Они тут все равно что безногие на состязании по бегу. – Не спорю. Хотя предпочел бы, чтобы у них было по две ноги. – Ах да, вы дружите с архиепископом, – говорит Грегори. – Любопытно, что будет Кранмер делать в раю, где ни женятся, ни выходят замуж. Ему нечем будет себя занять. – Не говори про жену Кранмера. – Знаю, – отвечает Грегори. – Это отправляется в огромный сундук тайн, на крышке которого сидит великан-людоед. Ребенок родится в конце весны, думает он. Я стану дедом. Если мы протянем эту зиму. – Иди к молодой жене, – говорит он. – Ты слишком надолго ее оставил. – И тут же добавляет: – Грегори, ты хозяин своего дома, глава семьи, и никто в этом не усомнится. А я – скиталец Одиссей, просоленный, обветренный, ищу в тумане дорогу к своему дому, полному крикливыми чужаками. Когда я вижу впереди простое человеческое счастье, горизонт кренится, и мне предстает что-то иное. А теперь я, как дряхлый старикашка, бурчу: «Если мы протянем эту зиму». Как будто я дядя Норфолк и ною, что сырость меня доконает.
Для следующего дела он берет с собой Фицуильяма; они скачут вдогонку Генриху и застают того скучающим под крышей в дождливый день. Даже сидя, король выглядит почти точь-в-точь как на фреске в Уайтхолле – не так богато разодет, но взгляд такой же грозный. И все равно он им рад: – Томас! Я думал, вы будете охотиться со мной. Ждал вас. А теперь вот погода испортилась. Он открывает рот, чтобы сказать королю о кипе бумаг у себя дома. Генрих говорит: – Что такое мы слышим, будто император и Франциск перестали воевать? Неужели это правда? – На следующей неделе снова начнут, будьте покойны, – заверяет Фицуильям. – Однако, ваше величество, мы здесь по поводумолодого Суррея. Вы же не можете отрубить ему руку, сами понимаете. Король говорит: – Полагаю, Томас Говард вам написал? Молил о снисхождении? Так и есть. Можно было видеть пятна, проступающие сквозь бумагу: пот, слезы, желчь. Добрый лорд Кромвель, удружите мне, потрудитесь для Томаса Говарда, вашего пожизненного должника, ежедневно возносящего за вас молитвы. Пусть моего дурака-сына накажут как угодно, только не увечат, Говарду невозможно жить без руки, держащей меч… – Норфолк думает, вы мной вертите, – говорит король. – Что вы скажете, то и сделаю. Думает, я у вас на побегушках, милорд хранитель печати. Он не может придумать ответа. По крайней мере, безопасного. Генрих говорит: – Почему мне нельзя наказать Суррея по обычаю? Послушаем ваши доводы. Потому что, отвечает Фицуильям. Потому что изувечить дворянина почти что хуже, чем убить. Это попахивает варварством или, в лучшем случае, чужими обычаями. Он, Томас Кромвель, подхватывает: потому что Суррей молод и опыт умерит его гордыню. Потому что ваше величество мудры, дальновидны и милосердны. – Милосерден, а не мягкосердечен. – Генрих сердито ерзает в кресле. – Я знаю Говардов. Они ждут наград, когда должны ждать взысканий. Я сохранил Правдивому Тому жизнь, хотя мог отрубить ему голову за вероломное поведение с моей племянницей. Он говорит: – Мой совет, сэр, подержите Суррея в страхе. Такой урок он не забудет. И останется у вас в долгу. – Да, но вы всегда так говорите, Кромвель. Мол, пощадите их, они станут лучше. Три года назад жена Эдварда Куртенэ поддержала лжепророчицу Бартон, и вы сказали, простите ее, она всего лишь слабая женщина. А теперь она наверняка вновь строит козни. Фицуильям говорит: – Я уверен, что жена Куртенэ не замешана в нынешних беспорядках. А если замешана, Кромвель это скоро выяснит, у него в ее доме осведомительница. – А семейство Полей, которое я поднял из нищеты и бесчестья? Чем они мне отплатили? Реджинальд разъезжает по Европе, называя меня Антихристом. Он говорит: – Возможно, нужна другая политика. Однако умоляю ваше величество, не надо для начала отрубать руку Суррею. Фиц добавляет: – Прошу, не проливайте без надобности древнюю кровь. – Древнюю кровь? – смеется король. – Разве первый Говард не был стряпчим в Линне? – Да, ваше величество, был. Два с половиной века назад – и что это, если не мгновение в стране, где над деревьями торчат головы великанов? Он вспоминает их: Болстера, Вада, Гроха. Смотрит на Генриха. Тот готов сдаться и пощадить мальчишку, но Суррей должен об этом знать. Король как хищный сорокопут, что подманивает безобидных птах, подражая их пению, а затем насаживает жертву на шип и съедает на досуге. Он говорит: – Если исключить ваше величество, все мы, копни глубже в прошлое, были стряпчими. В Линне или где-нибудь еще. – А еще раньше мы все были дикими зверями. – Генрих улыбается, но улыбка быстро меркнет. – Отправьте мальчишку в Виндзор. Скажите, ему запрещено покидать пределы замка. Может гулять в парке, но предупредите, что за ним будут следить. Когда мы приедем туда, он не должен к нам приближаться, пока мы сами не разрешим. – Он смотрит в пространство. – Милорд Кромвель, доброе дело примирить великие семейства. Но вы же не думаете, что Норфолк когда-нибудь станет вашим другом? – Не думаю, – отвечает он. – И о милосердии прошу не для того, чтобы ему угодить. – Ясно. Не для того, чтобы ему угодить. Однако, мне сказали, вы говорили с ним о большом приорате в Льюисе? Говардовские края и ваши, если не ошибаюсь? Король совещался с Ричардом Ричем, спрашивал, какой джентльмен хочет какое аббатство и почему. Лайл, например, пытался заполучить Болье, Саутуик и Уэверли, прежде чем согласился на более скромный монастырь в Девоне. Он, Кромвель, покупает земли в Сассексе, где намерен теснить Говардов, подбираться к их границам. – Я подумал, когда аббатство Льюис будут сносить, если ваше величество не возражает, дом приора можно будет перестроить для моего сына. Королевский гнев улегся. Он вспомнил, что должен быть Генрихом Великодушным. – Грегори и его жена могут ждать от меня всех возможных милостей. Только, милорд, в Льюисе ведь очень большая церковь, на ее снос уйдет несколько месяцев? – Я не буду ее сносить, я ее взорву. – Правда? – Король смотрит уважительно. – Я знаю одного итальянца, он считает, это возможно. – Приходите ко мне после ужина, принесите планы. – Генрих оживился, как ребенок.
Капитул ордена Подвязки собирается у короля в Виндзоре. Генрих проглядывает список и объявляет: – Одно место мы оставляем для принца, который, Божьей милостью, скоро у нас родится. Второе мы отдаем лорду – хранителю печати. Приглушенный то ли ропот, то ли гул. Джентльмены гудят, но не находят в себе сил сразу зааплодировать. Они знали, что так будет, и все равно в ужасе. Сын пивовара. Такое надо переварить. Он преклоняет колено перед королем и рассыпается в красноречивых благодарностях. Генрих надевает на него цепь, тридцать унций золотых звеньев-узлов и эмалевых роз. На цепи висит знак ордена Подвязки, изображение святого Георгия, золотой всадник на золотом коне. – Встаньте, милорд, – шепчет король. Недостает лишь дракона; тот не убит, думает он, а лежит, свернувшись, на припеке. Сестра Кэт рассказывала ему про дракона, который съедал по семь женщин каждую субботу, даже Великим постом. Генрих говорит: – Вы вступили в священное братство. Все, что нужно знать о предстоящих ритуалах, вам расскажет милорд Эксетер. Либо Николас Кэрью или кто-нибудь еще из моих достославнейших собратьев. Все они любезны моему сердцу, как и вы, дорогой Томас. Желаю вам прожить долгие годы в вашем новом рыцарском достоинстве. Рыцари выражают одобрение ревом и грохотом. Генри Куртенэ, маркиз Эксетерский, присоединяется к остальным с опозданием. Церемония состоится в конце августа. В Европе по-прежнему мир. Король говорит, Писание можно дать народу, новый перевод годится; епископы ставят подписи на разрешениях и отправляют их печатнику.
Накануне церемонии он едет в Виндзор, где каноники встречают его приветливо, однако он видит, что они смущаются, боятся его обидеть. Милорд, мягко советует один, сегодня вечером вам нужно подумать о своих грехах и, если захотите, исповедаться. Завтра вы должны быть безупречны, ибо завтра вы вступите в орден, в котором, соберись всего его члены, вы бы оказались в одной процессии с королями Франции и Шотландии и даже с самим императором Священной Римской империи Карлом. Знаете ли вы, говорит ему служитель гардеробной, что король по-прежнему хранит здесь орденские одежды юного Ричмонда? Они висят на прежнем месте. Если бы тот спустился с небес, то мог бы шагнуть прямиком в них. В доме одного из каноников стену завивает написанная листва с тюдоровскими розами и огромными гранатами. Это единственное дозволенное изображение этих плодов, объясняет каноник, а почему дозволенное? Потому что, видите, здесь над дверью нарисован Артур, принц Уэльский, когда тот женился на испанской принцессе, а вот и она сама, на нее указывает колесо, символ мученичества ее святой покровительницы Екатерины. И мы, каноники, всегда говорили, что это прекрасная живопись, и мы можем ее сохранять без страха, ведь наш король, хоть и отрицает, что был женат на принцессе Арагонской, никогда не отрицал, что она была женой его брата. – Но все это было очень давно, – замечает он. – Вы так думаете? – удивляется каноник. – А мне кажется, не так уж и давно. Здесь с незапамятных времен располагалась певческая школа. Высматривая изображение старой королевы, он слышит, как дети разучивают мотет, и звук выводит его на яркое солнце под древними стенами. Он видел их в классе, гнездо певчих птичек, тесно прижатых тельцами, их пение взмывало над обстоятельствами их жизни; что с ними будет, когда голоса начнут ломаться, придется ли им жить в бедности? Они станут учителями музыки, будут учить игре на верджинеле балбесов с толстыми пальцами и девчонок-ломак, тянущих шею и ловящих свое отражение в стекле. Они будут петь в воскресенье в церкви, быть может, стихи из новой Библии. У него такие же дети в собственном доме, хоть не столь вымуштрованные, как у короля. В певческой школе ноты нарисованы на стене, чтобы весь класс зубрил их одновременно. Когда дети выучатся, ноты замажут побелкой. Однако песни не исчезнут. Они уйдут глубоко в штукатурку, навсегда поселятся в стене.
Завтра все должно пройти без заминки, поэтому лорд Эксетер и Кэрью проводят с ним репетицию; Фицуильям тоже здесь, ободряет его своим присутствием. Все лежит под рукой: его лазурная мантия, шляпа с белым плюмажем. Он выставил королю счет на восемнадцать ярдов темно-красного бархата и девять ярдов белой тафты. Все готово и для украшения его почетного места: шлем, подушка, знамя, как предписано уставом. Рыцари прошествуют в часовню Святого Георгия, где в зале Ордена с него снимут плащ, облачат его в сюрко и вручат меч. В сопровождении двух рыцарей он с непокрытой головой пройдет к хору, положит руку на Библию и принесет клятву. Дальше, объясняют ему, вы подниметесь на почетное место, и герольд Подвязки – он будет стоять вот здесь, запомните, пожалуйста, – передаст мантию сопровождающим рыцарям, и те опустят ее вам на плечи. Затем они возьмут цепь и – приготовьтесь – наденут ее на вас. После этого будет прочитано благословение, молитва святому Георгию, дабы тот направлял вас в бедах и благополучии сего мира. Вот что нам нужно, думает он: помощь в благополучии. Мы можем собраться с силами, чтобы преодолеть семь лет тощих, но, когда придут тучные годы, будем ли мы готовы? Мы не умеем жить хорошо. Я упустил Женнеке, думает он. Получил ее и не удержал. Мне вручили драгоценный сосуд, а я от неожиданности выронил его из рук. Прошлое не подготовило меня к такому дивному дару, я был целиком занят тем, что белил мою стену для грядущего. Маркиз Эксетер спрашивает резко: – Вы меня слушаете, милорд? Когда читают благословение, вы берете в руку книгу устава. Потом надеваете шапку. Кланяетесь алтарю. Кланяетесь королевскому трону. После чего занимаете свое место среди достославных рыцарей. Присутствующих и отсутствующих. Живых и мертвых. Эксетеру трудно называть его «милорд», слово застревает в аристократическом зобу. Четыре года назад, думает он, я спас тебя и твою жену Гертруду, а теперь король подозревает меня в попустительстве, считает, я ищу вашей дружбы. Вы с лордом Монтегю зашли слишком далеко. Еще шаг – и вы увидите, правда ли я к вам благоволю. В ту ночь он пораньше читает молитвы и укладывается спать. Я не болен, говорит он Кристофу, не пугайся. Ему нужно пространство – наблюдать, как будущее принимает очертания, пока туман стелется по реке и парку, скрадывая древние деревья; там есть соловьи, но больше мы их в этом году не услышим. Завтра все глаза будут устремлены не на то рыцарское место, которое займет он, а на пустое, где еще нерожденный принц потянется к книге устава и склонит незрячую головку в плодной оболочке. Почему будущее ощущается так похоже на прошлое, его склизкое и холодное касание, шорох брачных простыней или савана, потрескивание огня в запертой комнате? Как туман от дыхания на стекле, как отзвук соловьиной песни, как еле ощутимый аромат ладана, как пар, как вода, как топоток ног и смех в темноте… он со злостью убеждает себя спать. Однако он устал от попыток проснуться в другом настроении. В сказках некоторые люди, если увидеть их на рассвете либо закате на влажной открытой местности, колеблются в воздухе, словно духи, или выпускают кожистые крылья. Он не из этих волшебников. Не змея, способная сменить кожу. Он – то, что отражает зеркало, заново собирая его каждый день: славный Том-весельчак из Патни. Или вы можете предложить что-нибудь получше? Наутро перед церемонией он просыпается рано. Думает, надо лежать недвижно, как надгробное изваяние, и ждать ритуала. Вместо этого он встает. Зажигает свечу, потом она становится не нужна; он открывает ставни и впускает бледный рассвет. Рыцарь ордена Подвязки начинает день, как любой другой человек: мочится, потягивается, трет щетину на подбородке. Если слышишь суету слуг, трудно спать после восхода. Звуки умолкают лишь в самые темные часы; замок высится над городом, и телеги, доставляющие провиант, постоянно грохочут по булыжнику. Когда идешь по Виндзору, эпохи сталкиваются, как будто монархи в доспехах налетают друг на друга; стена, выстроенная одним из Генрихов, утыкается в стену, которую воздвиг один из Эдуардов. Все эти святые короли давно обратились в прах; время рушит их труды, словно осадные машины, и, спустившись на ступеньку, идешь по другому уровню прошлого. Ему хочется пройтись, быть может, обменяться пожеланием доброго утра с живым человеком, который рассеет его сны. Кухни и кладовые просыпаются, готовясь принять доставленный провиант. Люди трут заспанные глаза, движутся вслепую, будто плывут по серому морю; никто не говорит, все только моргают и сторонятся его, словно он скользит через их сны или наоборот. Наконец он слышит на лестнице решительные шаги и устремляется за ними, вниз, вниз, до помещения с мощеным полом, через которое идет глубокая сточная канава. Вода в канаве бурая и журчит, как ручей. Ребенком в Ламбете он видел, как рубят привезенные туши, говяжьи, свиные и бараньи. Он научился не вздрагивать, когда рядом свистит острая сталь. Научился ценить людей, уверенно держащих мясницкий нож, вонзающих вертел в податливое мясо, раздирающих крюками суставы. Он видел, как туши расчленяются и становятся едой, как кухонное начальство сгребает положенные ему части, шею и корейку, подбедерки и голяшки, свиные ножки и требуху, говяжью голову, баранье сердце. Он научился выметать кровавые опилки, отмывать от плит ошметки легких и печенки, сгустки запекшейся крови. Научился делать это, не чувствуя рвотных позывов, спокойно, отрешенно. Рубят туши на рассвете или на закате, свет один и тот же, сумеречно-серый; мясники проходят мимо него, не видя, смотрят прямо перед собой, взгромоздив свою ношу на плечи. Он отступает к стене, чтобы не мешаться под ногами. Мясники не обращают на него внимания – видимо, приняли в полутьме за учетчика. Они идут и идут, волоча на себе туши размером с человеческие; идут, опустив голову, глядя в пол из-под капюшона, безмолвные, неостановимые, давят башмаками кровавые ошметки, вниз по винтовой лестнице и, на звук журчащей воды, во тьму.
III Преломлено о тело
Лондон, осень 1537 г. Что есть жизнь женщины? Не думайте, будто слабый пол не сражается. Спальня – ристалище, где женщина показывает свою доблесть, комната, где она рожает, – ее поле брани. Она знает, что может не выйти живой из этой кровавой битвы. Перед родами разумная женщина улаживает свои дела. Если она умрет, ее оплачут и забудут. Если она выживет, то должна будет прятать свои раны. Это тайна, которую ее сестры обсуждают вполголоса. Это Евин грех рвет ее изнутри. Мы благословляем старого солдата и даем ему милостыню, жалеем его, слепого или безногого, но не славим женщин, изувеченных в родовых схватках. Если она искалечена настолько, что не может больше рожать, мы жалеем ее мужа. Долгими летними днями, до того как придет ее срок, Джейн прохаживается по личному саду королевы. Все следы Анны Болейн, занимавшей прежде эти покои, уничтожены. Новая галерея с видом на реку соединила комнаты Джейн с королевской детской. Ее беременность совсем не такая, как у леди Лайл. Ребенок в ней пинается и ворочается, почти слышно, как он сетует: я здесь зажат у матери под юбкой, когда снаружи деревья стоят зеленые и живые гуляют по траве. Когда приходит ее время, женщина отдаст состояние за нитку из пояса Богородицы. В схватках она прикалывает к рубахе молитвы, испытанные ее бабками и прабабками. Когда рубаха замарается кровью, повитуха приложит пергамент к животу роженицы или привяжет ей на запястье. Роженица будет пить воду из кружки, над которой ее друзья прочли литанию святым. Матерь Божия поможет ей, если не поможет повитуха. Ева нас погубила, но Мария своими радостями и скорбями ведет нас к спасению; жемчужина бесценная, роза без шипов. Когда Мария родила своего и нашего Спасителя, страдала ли она, как другие матери? Богословы расходятся во мнениях, но женщины считают, что страдала. Они думают, и она тоже переживала эти мучительные часы. В рождестве и по рождестве дева, она стала источником, из которого пьет весь мир. Богородица защищает от чумы, учит жестокосердых плакать и сострадать, жалеет моряка, смытого соленой волной, спасает от наказания даже воров и блудников. Она является нам за час до смерти и предупреждает, чтобы мы успели помолиться. Однако по всей Англии мадоннам приходит конец. Богородицу Ипсвичскую надо сбросить на землю. Богородицу Уолсингемскую надо увезти на телеге. С Богородицы Вустерской сняли мантию и серебряные туфельки. Фиалы с ее молоком разбили – в них оказался мел. И теперь мы знаем, что когда она двигала глазами и проливала кровавые слезы, то была кровь животных, а глаза двигались на веревочках. Есть большая книга, в которой изложено, что делать, когда рожает королева. Книга эта написана рукою писца, но пометы на полях оставила Маргарита Бофорт, матушка старого короля. Она была при дворе короля Эдуарда, присутствовала при рождении его десятерых детей и твердо считала, что Тюдоры должны блюсти тот же порядок. – Ох уж эта святая карга, – говорит Генрих. – В детстве я боялся ее до дрожи. – И все же, сэр, мы должны выполнить ее предписания. Дамы не любят перемен. Его новая дочь Бесс рассказывает ему обо всем, что происходит в покоях королевы. Грегори не хотелось расставаться с молодой женой, однако это время особенное, к тому же он уже осуществил мечту каждого молодожена – заделал ей ребенка. У Эдварда Сеймура лицо заостряется с каждым днем – сказывается напряжение. Он уезжает охотиться в Вулфхолл и пишет оттуда: дичи в этот год на удивление много, жаль, вы не со мной, дорогой Кромвель. Лето выдалось тревожное. Из страха перед чумой двор королевы сократили. Король живет отдельно в Ишере, тоже с уменьшенной свитой. Гонец по имени Болд, ежедневно сновавший между Рейфом и Кромвелями, слег с неизвестной болезнью и должен оставаться в карантине, пока не поправится или не умрет. Рейф давал указания Болду лицом к лицу, так что король велел и ему удалиться от двора, но скоро об этом забывает и спрашивает раздраженно: «Где молодой Сэдлер?» Бога ради, пишет Сэдлер, не дайте королю меня забыть, а не то на мое место проберется какой-нибудь соперник. Вы растили и ободряли меня с младых ногтей, не допустите, чтобы я сейчас потерял все. В эту пору, когда по утрам стелется холодный туман, король не желает обходиться без Кромвеля. Приезжайте и будьте подле меня, говорит Генрих. Проводите со мной дни. Может быть, только, ради приличия, ночуйте под другой крышей. Он подчиняется. Не забывает каждый день упоминать молодого Сэдлера, как тот горюет без света королевского лица. Пишет Эдварду, что визит в Вулфхолл придется отложить. Король зовет его Томом Кромвелем. Зовет Сухарем. Он идет по Ишерскому саду, обнимая советника за плечи, и говорит: – Я надеюсь на этого ребенка. Будь у меня, как в сказке, три желания, я бы пожелал принца, милого и славного, и пожелал бы себе дожить до того, чтобы направлять его в пору возмужания. Вы думаете дожить до старости, Кромвель? – Не знаю, – искренне отвечает он. – В Италии я подцепил лихорадку, и, говорят, она ослабляет сердце. – И вы слишком много работаете, – говорит Генрих, будто не сам задает ему работу. – Если я умру прежде срока, Сухарь, вы должны… Давайте же, думает он. Составьте документ. Назначьте меня регентом. – Вы должны… – Генрих осекается, выдыхает в зеленый воздух. Говорит: – Такой чудесный вечер. Как бы я хотел, что бы всегда было лето! Он думает, напишите прямо сейчас. Я схожу домой за бумагой. Приложим ее к стволу и набросаем черновик. – Сэр? Я должен… – напоминает он. Печатью можно будет скрепить позже. Генрих поворачивается и смотрит на него: – Вы должны за меня молиться.Они ездят верхом и охотятся: Саннихилл, Истхэмпстед, Гилдфорд. Нога у короля получше, он может проехать пятнадцать миль в день. Утром до охоты Генрих слушает мессу. Вечерами настраивает лютню и поет. Шлет жене подарки в знак своей любви. Иногда вспоминает детство, умерших братьев. Потом снова веселеет, смеется и шутит, как добрый малый в кругу друзей. Поет застольную песню, которую когда-то горланил Уолтер: «Ах-ах, я даже эль пролил…» Где Генрих мог ее слышать? В королевской версии девицу не насилуют и слова не похабные.
Шестнадцатого сентября Джейн удаляется в свои покои отдыхать и ждать. Доктор Беттс тоже ждет, однако врачей позовут, лишь когда начнутся схватки. Чем там женщины занимаются между собой, мы спрашивать не смеем. Как разъяснили наши богословы, мы не запрещаем статуи матери нашего Господа, как и направляемые через нее молитвы. Она наша посредница при небесном дворе. Только помните, что она не богиня, а человек, женщина, которая драит кастрюли, чистит овощи и загоняет скот. Застигнутая ангельской вестью, она тяжело несет непорожний живот; она измучена предстоящей дорогой, ночами, когда не знаешь, будет ли где остановиться на ночлег. Из-за папистской девы в серебряных туфельках выступает другая, бедная, с босыми мозолистыми ногами, с запыленным смуглым лицом. В животе ее – наше спасение, и от его тяжести у нее ноет спина. Ее согревают не соболиный и горностаевый мех, а теплые бока домашнего скота, среди которого она сидит на соломе; схватки у нее начинаются в лютый ночной мороз, под небом, истыканным белыми звездами.
Двое его лучших людей, доктор Уилсон и мастер Хит, отправляются в Брюссель к предателю Полю; опытные переговорщики, они должны растолковать тому предложение короля: если он вернется в Англию и будет жить как честный подданный, его еще могут помиловать. Он, лорд – хранитель печати, не знает, долго ли будет действовать предложение и что это такое – приступ великодушия или беззастенчивый обман. Однако он передает послам наставление, которое получил сам: не называть предателя титулом и обращаться к тому просто «мастер Поль». Он спрашивает Вулси: «Как вам это нравится? Выскочка зовет себя кардиналом Англии?» Однако покойнику нечего ответить.
Королева рожает два дня и три ночи. На второй день торжественная процессия именитых горожан направляется в собор Святого Павла вознести за нее молитвы. Народ стоит на улице с четками. Кто-то молится на коленях, кто-то просит Бога простить короля за то, что он отрекся от нашего святейшего отца в Риме; некоторые говорят, он – Крот и детей у него не будет, а некоторые – что леди Мария законная наследница трона, потому что рождена настоящей принцессой. Самых ярых крикунов забирают дозорные. Впрочем, почти всех их выпустят еще до ночной стражи. На этой неделе не будут ни бить кнутом, ни отрезать уши. Не все верят, что в таких случаях помогает молитва. Почему Господь пощадит одну женщину, а не другую? Однако, когда идут третьи сутки родов, что остается, кроме молитвы? Если ребенок умрет, никто не убедит короля, что это случайность. Короли подвластны судьбе, не случаю. С ними не приключаются несчастья, их настигает рок. Грегори говорит, если король останется недоволен исходом, он может снова поссориться с Богом. Может порвать собственные указы, и Библия, которая сейчас в типографии, не увидит свет. Будь лорд – хранитель печати подле королевиной спальни, он бы расспрашивал входящих и выходящих врачей. Однако гонец Болд умер, и он не смеет являться ко двору, чтобы не занести заразу. Он занимается монашескими пенсионами, а также пишет Уайетту, который сейчас с императором. Уайетта уличили в промахе. Он не вручил императору письма от леди Марии, в которых та расписывала свое безграничное счастье и подчеркивала, что всегда будет верной слугой отца. Странное дело, говорит Ризли, ведь Уайетт же не допускает промахов? Во всяком случае, простых. Непонятно, как такое произошло. Однако они с Ризли прикрыли Уайетта, и Генрих ничего не знает. Нам важно, чтобы Уайетта не отозвали. Уайетт лучше любого другого разгадает намерения императора. Карл и Франциск вроде бы собрались заключить мир – нужен ли им посредник? Лучше обратиться к английскому королю, чем к папе. Нам как-то нужно в это влезть. Вне зависимости от того, подпишут ли мирный договор, император и Франциск в этом году больше воевать не будут – скоро зима. Не будет и восстания на севере. Хотя гидра никогда не воюет честно. Она прячется в пещерах, и убить ее можно только при свете дня.
Джейн разрешается двенадцатого октября в два часа ночи. Гонец прискакал во весь опор, и его будят известием. «Мальчик или девочка?» – спрашивает он. Ему говорят. К восьми знает уже весь Лондон. В девять в соборе Святого Павла поют Te Deum. Сегодня канун святого Эдуарда, в его честь и назовут младенца. Он составляет официальное письмо королевы, написанное так, будто она сама взяла перо и вывела: «…милостью Всевышнего… принц, зачатый в наизаконнейшем браке… радостная весть… процветание, мир и покой всего королевства…» Покой? В Тауэре весь день палят из пушек, будто хотят продырявить облака. В каждом закоулке пиршество. Щедрые купцы из Стил-ярда допьяна поят нищих пивом. Рожки, волынки и барабаны не смолкают и после наступления темноты. Он думает, надо сказать Рейфу, пусть напечатает слова «наизаконнейший брак» большими красными буквами, особенно в тех экземплярах, которые, обмотанные шелковыми шнурами с тяжелыми печатями, отправятся к папскому двору, во Францию и к императору. «Прочесть вслух, милорд кардинал?» – спрашивает он в воздух, поскольку неизвестно, умеют ли призраки читать. Кардинал молчит, даже не хмыкнет. В пустом воздухе не ощущается никакого движения. Все лорды королевства скачут разделить торжество. Они направляются на крестины в Хэмптон-корт, однако свиту вынуждены оставить дома. В Кингстоне и Виндзоре чума. Проезд ограничен. Даже герцог должен обходиться шестью спутниками, в число которых входят телохранители и слуги. Чужих не пускают. Возчиков разворачивают назад, едва они доставят груз, и королевскую детскую предписано мыть дважды в день. Женщины говорят, королева уже сидит в постели. Она потеряла много крови, но глаза у нее сверкают. Она спрашивает: «Есть перепелки? Я очень проголодалась». Только легкая пища, уговаривают ее. Джейн пытается встать с кровати, нащупывает белыми ногами ковер. Нет, нет, нет, говорят женщины, укладывая ее обратно, вам надо лежать еще много дней. Поговаривают, что король раздаст графские титулы. Что он сам станет графом Кентским либо Хэмптонским: для Честного Томаса возродят старый титул или создадут новый. В день крестин королеву выносят из личных покоев в кресле. Сами крестины по традиции еще одна церемония, в которых нельзя участвовать королю и королеве, – они поблизости, но не у купели. Я устал от этих традиций, думает он. Пора выставить их за дверь. На спуске с Шутерс-хилла традиционно грабят путников – это тоже считать похвальным обычаем? Вечером Генрих на троне, Джейн рядом, принимают поздравления, дары и молитвы вассалов. Он, Кромвель, заносит подарки в опись и передает хранителю гардероба либо в сокровищницу либо отмечает, что такую-то золотую чашу или цепь надо отправить на монетный двор, взвесить и определить пробу. Английская знать с молитвами и свечами идет в королевскую часовню. Джейн закутали в меха и бархат; уходя с процессией, он видит, как королева отдергивает одежду от горла, будто та ее душит. Ей положили на колени молитвенник, но она в него не смотрит. Время от времени она что-нибудь говорит королю, и Генрих наклоняется, чтобы расслышать. Она переводит взгляд от блеска свечей на окно, как будто предпочла бы оказаться снаружи в осенней ночи. Он в процессии, в жарком дыхании и аромате трав. Гертруде Куртенэ доверили честь держать младенца у купели. Ее муж, маркиз Эксетер, стоит рядом, и герцог Суффолк тоже. «Отлично, Сухарь», – говорит герцог. Он повторяет это каждому, словно вся Англия участвовала в зачатии. «Отлично, Сеймур». Маленькая леди Элизабет едет у Эдварда Сеймура на руках, держа драгоценный сосуд с миром; она оглядывается по сторонам и, когда ей что-нибудь интересно, силится привстать и пинает Сеймура в ребра. Николас Кэрью и Фрэнсис Брайан стоят у купели с церемониальными полотенцами; одноглазый Брайан подмигивает развратным зеленым глазом. Том Сеймур держит над младенцем парчовый покров, расшитый геральдическими знаками принца Уэльского. Сам принц – орешек в скорлупе, надо принять на веру, что он здесь, среди ярдов оборок и мехов. Наверное, он тяжелый, потому что Гертруда в какой-то миг чуть не падает, – Норфолк подхватывает ее под локоть и придерживает головку младенца. В движении чувствуется разом опыт и нежность. Затем Норфолк глядит на остальных, скаля в улыбке желтые зубы: господа, видите, мое изгнание позади? Рождение наследника примирило все ссоры. Купель установлена на пьедестале. Великие мужи королевства со своими дамами почти ничего не видят; младенца заслоняет от них балдахин и спины еще более великих. Он в числе этих избранных; леди Мария, восприемница, стоит подле него. Она шепчет: – Я всем сердцем радуюсь за отца. У меня словно гора с плеч упала. Никогда мне не было так легко. Без сомнения, она думает, я никогда не стану королевой. Принц крепенький и, скорее всего, будет жить, а Джейн наверняка родит нам и принца Йоркского, и еще множество принцев. Мария говорит елейным голосом, и непонятно, насколько она искренна. Он наклоняется, чтобы она расслышала его за музыкой, и говорит: – Вы знаете, что у нас новый французский посол? Звук труб оглушает. Мария что-то говорит, слов не слышно, мотает головой. – Луи де Перро, сеньор де Кастильон. Как только прибудет, явится засвидетельствовать вам почтение. Он намерен снова сватать вас за герцога Орлеанского. – Но Мендоса по-прежнему здесь! – говорит она. – Сватает меня за дома Луиша. – Мендоса не вправе ничего решать. Ваш отец сказал ему, что он даром теряет время. Мария отводит взгляд. Процессия перестраивается. Уже почти полночь. Следуя за свечами, они совершают обратный путь по двору и расходятся, возвращаются на свои орбиты, графы и графы, герцоги и герцоги, по комнатам, где собственные слуги уложат их в постель. Через два дня становится известно, кого король наградил. Его обошли. Эдвард Сеймур станет графом Хертфордским. Тома Сеймура возведут в рыцарское достоинство и включат в число королевских джентльменов. Фицуильям станет графом Саутгемптоном. Кромвель останется Кромвелем. Почему Фицуильям, в обход его? По старой дружбе, без сомнения. Фицуильям умен и рассудителен, говорит просто и по делу. Однако без писаря он все равно что Брэндон, не может дни недели написать без ошибки. Как таким тягаться с людьми вроде Гардинера, вроде Поля, наторевшими в софистике? А вот он, лорд – хранитель печати, хоть и не учился в университете, может прочитать любой текст и сделать выжимку. Вели ему сказать речь – произнесет ее экспромтом. Поручи ему составить закон, и он не оставит ни единой лазейки. Мастер Ризли говорит: – Вы огорчены, сэр? Если бы вас ценили по заслугам, вы были бы герцогом. – И в конце концов, – подхватывает Ричард Рич, – доходы у вас вполне герцогские. – Вы получили орден Подвязки, сэр, – говорит Рейф. – Разумному человеку этого должно быть довольно. Он припоминает все последние разговоры с королем и приходит к выводу: дело в Поле. Я не убил его, как обещался, и не приволок, связанного и скулящего, к ногам Генриха. Король видит все, что делает и чего не делает министр; как судья или рьяный зритель на турнире, отмечает, когда удар пришелся мимо противника и когда копье преломлено о тело. Король наблюдает за советом, точно со сторожевой башни за началом кровавой битвы. Он дает министрам свободу, но ставит вокруг них незримую ограду своих ожиданий, колючую, как терновник. Ее не заметишь, пока не наткнешься на шипы.
Через два дня после крестин сообщают, что у королевы жар и тошнота. Доктора снуют туда-сюда, а когда они уходят, их сменяют священники. Мы думали, когда младенец родился, ожидание кончилось, но оно наступает сейчас. Генрих собирался вернуться в Ишер, теперь не знает, ехать или оставаться. Королева ослабела, и ее соборуют. Генрих говорит, это не значит, что она умрет; таинство совершают, дабы укрепить ее силы. Вне себя от волнения, он меряет шагами комнату, молится и говорит. Да, его мать, родив последнюю дочь, проболела неделю и скончалась. Однако его сестра Маргарита после родов девять дней лежала при смерти, но оправилась и еще нас всех переживет. Суеверные говорят, это потому, что ее муж, шотландский король, совершил паломничество к мощам святого Ниниана на Галлоуэйском побережье; якобы он прошел пешком сто двадцать миль. Я пошел бы пешком в Иерусалим, говорит Генрих, однако паломничества бесполезны; Господь убережет Джейн, если я не уберег. Некоторые духовные лица в окружении короля записывают его слова с датой и временем: король собственными устами сказал, что, хотя паломничества бесполезны, соборование – таинство. В прошлом году число таинств сократили с семи до трех, теперь их снова семь, – похоже, четыре потерянных нашлись. Так написали епископы в своей книге. Или не написали? Трудно сказать. Ее постоянно возвращают в типографию с поправками и дополнениями. В народе ее называют «Книгой епископов», но скоро, ворчат миряне, у каждого епископа будет своя книга. Прежде ты знал, что делать и сколько платить, чтобы обеспечить себе вечное блаженство. А сегодня пост от праздника толком не отличить. Ему, лорду – хранителю печати, нечего делать на королевиной половине, и даже найди он предлог туда пойти, никто бы не сказал ему, что происходит. Так что он возвращается в Сент-Джеймс, в дом, который сдал ему в аренду король, подальше от заразных толп. Позже невестка ему скажет, в последние дни Джейн не всегда нас узнавала. По временам она не понимала, что мы говорим, пыталась сесть; мы давали ей вина для поддержания сил, но она больше проливала, чем выпивала. Больной говорят, что малыш хорошо сосет кормилицыну грудь. Он теперь не только принц Уэльский, но и граф Корнуольский. Она кивком показывает, что рада. Когда он жил во Флоренции, Портинари показывали ему Рождество, написанное для них в Брюгге лет за двадцать до того. Это картина с дверцами, которые открываются в зиму. В ней время исчезает и одновременно происходит много такого, чего не бывает в обычной человеческой жизни. На картине присутствует прошлое и будущее происходит сейчас. Мария не знала мужа, но однажды, и сейчас, и всегда над ней стоит ангел, святой дух касается ее сердца и утробы. А в центре лежит на голой земле новорожденный младенец, белый и беззащитный, и пастухи с ангелами расступаются перед молодой матерью, в то время как на холме все еще беременная Мария здоровается со своей родственницей, святой Елизаветой, а на другой возвышенности, далеко в будущем, Мария, Иосиф и ослик бредут в Египет. Кто, поглядев на эту картину, поверит, что Пресвятая Дева мучилась родами? Она благоговейно смотрит на младенца, которого произвела на свет. Перед ней, в красном, Маргарита Антиохийская, покровительница рожениц, а у ног Маргариты дракон, который во время оно ее проглотил. Здесь же Магдалина с сосудом благовоний и святой Антоний с колокольчиком. На крестьянских лицах пастухов – умиленное изумление. Все наше будущее заключено между их сжатыми ладонями. Ангелы немолоды. Вид у них умудренный, крылья переливаются павлиньими глазками. Три волхва переваливают через холм. Их путь почти закончен, но они еще этого не знают. Все это ложь, думает он: безболезненные роды, мирная жизнь в Египте, благочестие коленопреклоненных донаторов, врисовавших себя в историю. Король наверняка мечтает вскочить на быстрого скакуна, унестись по тем же горам туда, где незримо занимается новый день, где прошлое не повторяется вновь и вновь, свиваясь петлей, удавкой. Он бросил Екатерину в Виндзоре, уехал на охоту и не вернулся. В Гринвиче с Анной он встал с турнирной скамьи, сел на коня и ускакал в Лондон, прихватив Генри Норриса, – ни разу не глянул в сторону жены, никогда ее больше не видел. Он оставляет королев, пока они его не оставили. Небольшая охотничья свита Генриха готова к отъезду, однако он остается. Надежды уже нет. В восемь часов двадцать четвертого октября он идет в спальню королевы и смотрит на нее в последний раз. Она дышит с трудом. Врачи уходят, их искусство бессильно. Что есть жизнь женщины? Апрельская роса на траве. В Сент-Джеймсе, очень поздно, ему приносят письмо. – Это от Норферка, – говорит Кристоф. – Написано сегодня вечером, сказал гонец. Кристоф роняет письмо на стол, словно оно испачкано. Потом ломает печать. «Молю вас приехать как можно раньше, дабы утешить нашего доброго государя, ибо как в жизни нашей госпоже не было равных, тем горестнее…» Он тоже роняет письмо. Потом снова берет в руки и отдает Мэтью – убрать к другим документам. Мысли переносятся к дороге, к реке. Раскисшая грязь, снег на земле, Темза, взбухшая от воды, вышла из берегов; кардинал в Ишере, парламент готовится его уничтожить, а он, никто в шерстяном платье, силится удержать шапку на склоненной голове, в то время как черный северный ветер рвет его и лупит, как разбойник, каждую ночь норовя скинуть в канаву. – Который час? Кристоф смотрит на него с жалостью: – Вы не слышали полуночного звона? Он думает, если бы Джейн вышла за меня, она была бы сейчас жива; я бы управился лучше.
Вернувшись ко двору, он проходит в свой кабинет и молча садится за стол. Мастер Ризли говорит: – Вы как будто злитесь, сэр? Зовите-меня вошел бесцеремонно, бросил шляпу на табурет и принялся искать в сундуке какие-то бумаги. Рейф говорит: – Кто бы не злился, что умерло такое чудесное создание? Милорд считает, виновато окружение королевы. Ее не уберегли от сквозняков и позволяли ей есть все, что захочет. – Я жалею, что меня не было в Хэмптон-корте, – говорит он. – Надо мне было никого не слушать и остаться там. Ризли говорит: – Возможно, сэр, вы жалеете, что женили Грегори, а не дождались более выгодного случая. Как дядя принца, он будет иметь некоторое влияние, но если бы королева осталась жива и родила королю еще сыновей, то вы и ваше семейство возвысились бы на веки вечные. Зовите-меня складывает документы в стопку и выходит, кивнув на прощанье. В дверях оборачивается и говорит: – Я напишу Тому Уайетту. Пусть исполняет свои обязанности, потому что я не могу исполнять свои, если буду его все время покрывать. И я скажу, что от его депеш у меня голова раскалывается, – не обязательно каждый пустяк писать шифром. – Верно, – говорит Рейф. – Оставить шифры для большой лжи? Ризли отвечает: – Уайетт создает себе сложности на ровном месте. Для него все интрига. Рейф говорит: – Закройте дверь. Они молчат, пока шаги Ризли удаляются по лестнице. – Мы должны его простить. Воображаю, как бы ему было, если бы умерла его жена, а не сын. – Он как будто состарился на несколько лет. Или мне кажется? – Мне очень его жаль. Я помню, как умер мой первый Томас. И все равно… Ризли на государственной службе, где нельзя выплескивать личное горе раздражением, даже с просителями, женщинами и подчиненными, а уж тем более с лордом – хранителем печати. Он пожимает плечами и говорит: – Я благодарю Бога, что Хелен разрешилась благополучно. И надеюсь, твой новый сын будет служить принцу, как ты служишь королю, так же хорошо и счастливо. Рейф вновь занял место подле короля, который лишь кивнул и спросил: «Дома все хорошо, Сэдлер?» А ведь Генрих сам, беспокоясь за будущую мать, присоветовал Рейфу отправить Хелен в Кент, подальше от заразы, теперь же забыл о ней осведомиться. У Рейфа родился сын, которого назвали Эдвардом, но король так радуется наследнику, что не ставит всех прочих Эдвардов ни во что. Он стоит над колыбелью и дивится Божьему дару. Потом вспоминает королеву – пустую оболочку, выпотрошенную бальзамировщиками. Вокруг ее гроба день и ночь горят свечи, немолчно звучат молитвы, заунывная скороговорка, печали и радости Пресвятой Девы, ее восхваление и прославление. Двор Джейн уже распущен. Броши и браслеты, драгоценные пуговицы, пояса, золотые шарики для благовоний, оправленные миниатюры забирают обратно в королевский гардероб или раздаривают ее друзьям. Усадьбы и дома, леса, охотничьи угодья и парки вернутся к королю, ее ими одарившему, а тело после торжественного прощания – к Богу, ее творцу. Много времени прошло с тех пор, как я впервые ее увидел, лилию среди роз, говорит король, и считаю потраченным впустую все время до того, как она стала моей женой. Лишь два лета минуло с тех пор, как король держал ее за руку в саду Вулфхолла и ее крошечная лапка тонула в его ручище; два лета назад он, лорд – хранитель печати, встретил ее в зыбком утреннем свете, скованную и робкую в новом платье с гвозди`ками. Нынешней зимой он вновь увидит ту же ткань на жене Грегори, когда та распустит шнуровку на растущем животе. Бесс говорит, что не боится. Она говорит, Джейн была счастливица и несчастливица. Счастливица, потому что стала королевой Англии, несчастливица, потому что из-за этого умерла. Про нее всегда будут слагать баллады, говорит Бесс. И король выстроит Джейн великолепную гробницу, чтобы со временем лечь рядом с ней. Однако, я считаю, лучше быть живой, говорит Бесс, чем прославленной, а вы как думаете, лорд Кромвель? Грегори спрашивает: – Милорд отец, на ком вы позволите королю жениться теперь?
Часть четвертая
I Нонсач
Зима 1537 г. – весна 1538 г. Милорд! – говорит мальчик-слуга. – Могильщик пришел. Он поднимает глаза от бумаг: – Скажи ему, пусть вернется за мной через десять лет. Мальчик растерян: – Сэр, он мешок принес. Я его к вам провожу. Соседи по Остин-фрайарз уверены, что он отвечает за все, будь то законы, просевшая крыша в погребе или засор в сточной канаве. Идите к городским землемерам, говорит он, а они в ответ: Да, сэр, только, может, глянете сами? Это тут близко,за углом. Потому что, Богом клянусь, мой межевой камень передвинули, фундамент дома треснул, солнце мне заслоняют. Сегодня будут жаловаться, что много покойников скопилось, земля как камень. Лучше не умирать в середине зимы. Продержись сезон марципана и подогретого вина с пряностями – а там, глядишь, и до весны доживешь.Посетитель снимает шляпу, оглядывается. Видит огромный, тускло освещенный кабинет, пустой, если не считать небритого лорда Кромвеля за столом и царицы Савской у него за спиной. Потолок расписан орбитами звезд, на столе зимним солнцем пламенеет сушеный апельсин. Могильщик не закрыл за собой дверь, слышен гул голосов внизу. – Ты, что ли, всю улицу с собой привел? Что у тебя в мешке? Могильщик прижимает мешок к груди. Хочет изложить всю историю, от начала до конца. – Милорд, я проснулся в четыре утра. В животе так бурчало… Лорд Кромвель, сопя, как жирный котище, устраивается поудобнее, кутается в меха. Мысленно разворачивает в голове утро могильщика. Как тот просыпается на соломенном тюфяке и нехотя сбрасывает одеяло. Острый запах утренней мочи. Пригоршня ледяной воды в лицо. Бормотание молитв себе под нос. Salve, Regina[156], и Боже, храни нашего короля. Рубаха, джеркин, латаный плащ. Глоток разведенного эля. И вот он выходит, с лопатой в руках, долбить землю в морозные предрассветные часы. На кладбище собрались соседи, человек десять. «Давай сюда!» – кричат они. В дрожащем свете единственного факела пономарь силится вытащить сверток, до половины присыпанный мерзлой землей. Могильщик торопливо подходит и в два движения лопатой откапывает что-то, завернутое в грязную рваную простыню. – Мы думали, это новорожденный, милорд, – говорит посетитель. – Зарытый кое-как. – Это ж не младенец у тебя в мешке? Посетитель кладет мешок на стол, на пол сыплются комья земли. Развязывает веревку и, словно ведьма-повитуха, извлекает младенца, голого и холодного на ощупь. Младенец в натуральную величину и сделан из воска. Лорд Кромвель встает: – Дай-ка глянуть. Он ведет ладонью по округлости младенческой головки. Лицо – гладкая поверхность, будто все черты срезаны. Трогает беспалые ладони, стопы, похожие на копытца. Пониже живота грубо вылеплены пипка и яйца. Там, где были бы сердце и легкие, вбиты железные гвозди – глубоко, так что вокруг шляпок остался крошащийся ободок. Могильщик напуган: – Переверните, сэр. На спине куклы тот, кто ее сделал, выдавил розу Тюдоров. – Это принц, – страшным голосом произносит могильщик. – Его изображение. Сделано, чтобы его извести. – Так ты знаешь колдунов? – Нет, сэр. Я человек честный. Он идет к двери: – Кристоф! Мастер Ризли уже встал? Передай, что я прошу его пойти с этим малым на кладбище и разобраться, кто сделал и закопал куклу. Он прикрывает младенческую головку краем мешка. Говорит могильщику: – И никому больше ни слова. Входит Кристоф: – Пол-Лондона уже знает. Слышите этих каналий внизу, они воют, будто у них мамаши померли. – Угости их хлебом и элем, потом скажи, пусть возвращаются к своим делам. – А мне можно на чудище глянуть? – Кристоф заглядывает в мешок, корчит гримасу. Он, лорд Кромвель, подходит к окну, открывает ставни. За стеклом чуть другая серость; светом ее не назовешь. – Кристоф? – зовет он. – Скажи мастеру Ризли, пусть оденется потеплее.
Меньше чем за два года Англия похоронила двух королев, однако при обстоятельствах, исключающих обычные церемонии. Придворного погребения не было с тех пор, как скончалась королевская матушка, то есть уже лет тридцать пять. По счастью, его бабка Маргарита Бофорт оставила нам подробнейшие указания на все случаи жизни: свадьбы, крестины, похороны. Надзирать за траурными обрядами поручено герцогу Норфолку, ему помогает герольдмейстер ордена Подвязки. Король облачается в белое, придворные – в черное. Накануне Дня Всех Душ, когда королева Джейн еще лежит в гробу посреди церкви, из Тауэра приходит известие о смерти лорда Томаса Говарда. Тюремщики говорят, лорд Томас отчаялся и оттого подхватывал любую хворь. Леди Мег Дуглас, его возлюбленной, король разрешил на время траура вернуться ко двору. Если всю первую неделю ноября она будет ходить опухшей от слез, нам необязательно думать, что она по-прежнему любит покойного лорда Томаса; мы можем считать, что она скорбит о нашей доброй госпоже. Для бдения у гроба, в черном, со склоненными головами, нужны все придворные дамы, сколько их есть. Они преклоняют колени на шелковых подушечках, опущенные ресницы трепещут, вокруг струится благовонный дым. Изредка они прикладывают два пальчика к груди или осеняют крестным знамением лоб и губы; в остальное время их ладони сложены. Какими словами они молятся об усопшей королеве, никто не спросит. Покойница никогда не остается одна. Днем молитвы возглавляет леди Мария. Ночью дам сменяют священники. К тому времени, как Джейн увозят в Виндзор для погребения, по Англии уже гуляют слухи, будто король велел разрезать ее, еще живую. Она не могла разродиться, и король приказал: «Спасайте моего сына!» От Дарема до Корнуолла о ней поют баллады. Как малютка и его отец здравствуют, а мать лежит в сырой земле.
В первый день траура король, как и положено королю, затворился и не принимает никого, кроме духовников и архиепископа, который приходит молиться вместе с ним. Совет заседает без короля. Всем хочется задать один вопрос, задать срочно, поэтому на всех лицах – благородное напряжение, как будто они изо всех сил стараются не пернуть. Наконец один не выдерживает: – Милорд Кромвель, когда наш государь, учитывая опасное состояние вопроса о престолонаследии… – Отлично, – говорит он. – Мне пойти и спросить, да? Он тяжело встает. Просит Эдварда Сеймура присмотреть за его бумагами. Берет Зовите-меня в качестве телохранителя и отправляется в личные покои короля. Рядом вышагивает герцог Норфолк, сзади – герцогский сын Суррей, еще более долговязый из-за черной одежды; ноги как будто умножились, словно у огромного паука. – Итак, Кромвель, – говорит Норфолк, – ваше дело его через это протащить. Протащить и вытащить снова женатым. Со всем уважением к нашему господину принцу, все мы знаем, как легко мрут младенцы. – Герцог хмурится. – У вас есть список? – Конечно есть, – говорит Зовите-меня. – Однако лорд Кромвель не так непочтителен, чтобы этот список доставать. Суррей наступает отцу на пятки. Его, как и Мег, вернули ко двору с началом траура. – Не говори с лордом – хранителем малой печати, – приказывает Норфолк сыну. – Даже не смотри в его сторону, не то я рассержусь. Суррей возводит глаза к золоченым розам на потолке. Вздыхает, переминается с ноги на ногу, теребит кинжал в ножнах. Всеми способами демонстрирует свое присутствие, только что срамной уд не вытаскивает и не поводит им из стороны в сторону. – Нам представляется, – говорит мастер Ризли, – что король не готов обсуждать новую женитьбу. Как заметила ваша светлость, дело это ложится на лорда Кромвеля, так что пусть он сам выберет время. – Главное, чтобы поскорее, – буркает молодой Суррей. – Не то мой отец сам все скажет. – Я что тебе говорил? Молчать! – Норфолк грозно зыркает на сына. – Король скорбит. Прелестная молодая дама, кто бы из нас не скорбел? Однако император и Франция вот-вот заключат нежелательный для нас договор, а что их рассорит верней, чем женитьба? Пусть Генрих возьмет невесту из Франции. Мы можем поставить условием не только большое приданое, но и военную помощь против Карла, если он на нас нападет. – Герцог теребит кончик носа. – Конечно, нам всем очень жаль королеву. Но оно, может, и к лучшему. Все само идет в руки, Кромвель. – Но не в ваши, – замечает Суррей. – Молчать! – ревет Норфолк. – Лорд – хранитель малой печати предпочел бы… – начинает Ризли. Норфолк перебивает: – Мы знаем, что он предпочел бы. Женить короля на дочери какого-нибудь евангелиста. Но этому не бывать, и знаете почему? Потому что умалило бы нашего государя. Генрих – самодержец. Над ним никого нет. А лучшие из немок – княжеские дочери, и, что бы из себя ни строили, у них есть сюзерен – император. – Король волен выбрать даму любого звания, – говорит мастер Ризли. – В том числе из своих подданных. Такое уже бывало. Он говорит: – Я не стану ничего предлагать, если меня не поддержат совет и парламент. – О, еще бы, – говорит Норфолк. – Я уверен, что вы не станете предлагать от собственного имени, лорд – хранитель малой печати. – Или ваша голова слетит с плеч, – вставляет Суррей. – Милорд… – он топчется на месте, – мне надо идти к королю. – Возьмите меня с собой, – говорит герцог. – Представить вас внезапно? – спрашивает он. – В качестве приятной неожиданности? – Скажите, я прямо за дверью. Скажите, я готов предложить отеческое утешение и совет. – Батюшка, – говорит Суррей, – не давайте этим людям вставать у вас на пути… Он досадливо упирается ладонью Суррею в грудь: – Как видите, я могу и без клинка. Они уходят. Он пожимает плечами: – Я человек. – Конечно. – Ризли произносит это как похвалу. – Что сообщают из Клеве? – Восторгов по поводу дамы и ее внешности не высказывают. Но я не отчаиваюсь. Никто ее толком не видел, там женщин держат почти что взаперти. Говорят, она добрая. Возраст подходящий. И клевские советники, как я слышал, заинтересованы. Настолько заинтересованы, что подождут сватать ее за другого. Анна. Двадцать два года. Замужем не была.
Король ждет: лицо опухшее, глаза красные, голову поворачивает так, будто это тяжелое усилие. – А, вот и вы, Сухарь. – Норфолк желает аудиенции. Грозится поговорить с вами по-отечески. – Да? – Генрих выдавливает улыбку. – Будем надеяться, я окажусь лучше молодого Суррея. Постараюсь его не позорить. – Он говорит, что ваш долг – жениться снова. Король смотрит в стену: – Я бы хотел провести остаток дней в целомудрии. – Парламент тоже обратится к вашему величеству с такой просьбой. – Что ж, тогда мне следует поступиться собственными желаниями. Наверное. – Король вздыхает. – Как там вдова, мадам де Лонгвиль? Я чувствую, что если и могу заинтересоваться женщиной, то только ею. Благородному дому Гизов польстит такое сватовство. Ему описывали Марию де Гиз: рыженькая, живая, веселая, двое маленьких сыновей, полгода как вдовеет. – Говорят, она очень высокая. – Я и сам очень высокий. Он думает: отправим Ганса написать ее портрет, а заодно и рост измерить. – Есть затруднение, ваше величество. К ней сватается король Шотландский. Генрих, ледяным тоном: – Я не назвал бы это затруднением. – Семья может упереться насчет приданого. – Что, торговаться со мной? – Король раздосадован. – Есть и другие француженки. И вообще, я еще не сказал, что снова женюсь. Такого сокровища, как Джейн, мне больше не сыскать. – Трет глаза. – Вернитесь к этому разговору через неделю, милорд. Возможно, я сумею дать вам более удовлетворительный ответ.
Дорогу ему заступает Джейн Рочфорд, только что от бдения у гроба, на негнущихся ногах, усталая и злая. – Мне нужны указания. Он останавливается. Медленно улыбается: – А вы их исполните? – Мы, дамы, не знаем, как нам быть без госпожи. Нам уезжать или оставаться? Двор королевы распущен, леди Мария намерена уехать в Хансдон или куда-нибудь еще. Если не будет новой королевы, то фрейлины не нужны. – Но если нас всех отошлют, – продолжает леди Рочфорд, – то что нам делать, если внезапно появится новая королева? – Смотрите на старших, – отвечает он. – Леди Сассекс, леди Рэтленд. – Когда я стану настолько старшей, чтобы со мной считались? – язвительно спрашивает она. – Я служила уже трем королевам и надеюсь послужить четвертой. – Дядя Норфолк хочет женить короля на француженке. Она смеется: – Не иначе как французы его подкупили. Я думала, он предложит очередную Говард. У вдовствующей герцогини в Ламбете полный дом девиц. – Может, ни одна еще не достигла брачного возраста? – Король наверняка женился бы на Бесс Сеймур, не выйди она за вашего сына. Он никогда не останавливался на одной женщине в семье. У Джейн нет других сестер? Знаю, Библия не разрешает. Но король теперь – глава церкви. И мы знаем, как он относится к Писанию. «Читайте дальше, господа, где-нибудь точно написано наоборот!» – У вас чересчур острый язык, – говорит он. – Я не всегда смогу вас спасать. – Спасать меня? Вы этим занимаетесь? – Джейн Рочфорд встряхивает черными юбками, трет ноющую спину. Иногда он видит в ее глазах сосредоточенность, будто она силится понять, где ошиблась поворотом. Оставляешь за собой след из хлебных крошек, их съедают вороны. Бросаешь вишневые косточки, из них вырастают деревья. – А как ваши молодожены? Счастливы? Бесс ходит с загадочным видом. И у нее наметился второй подбородок. Если я не ошибаюсь, вы скоро станете дедом.
Он в тех летах, когда теряешь старых друзей. В ноябре проводили Хемфри Монмаута. Он хотел пройти с погребальной процессией, но Рейф сказал: – Поберегитесь, сэр. Монмаут когда-то покровительствовал Тиндейлу. Не сердите короля, не рискуйте ради покойника. Те, кто был на кладбище, рассказали, что хоронили рано утром, еще до рассвета, очень просто. Согласно воле покойного не было ни свеч, ни других папистских атрибутов. Хемфри просил обойтись без колокольного звона, но звонарям все равно заплатить. Очень в духе Монмаута с его всегдашней заботой о бедных. Он, лорд – хранитель малой королевской печати, убрал серебряный кубок, завещанный ему Монмаутом, и поехал в Мортлейк к Грегори и невестке, заранее известив, что в следующие две недели не принимает ни по какому делу, кроме королевского. До сих пор Кромвель на любую работу бросался, как собака на мясо, но сейчас он удручен, и не только смертью королевы, но и тем, что не может добраться до Рейнольда. Генрих говорит: – Вы обещали мне покончить с Полем. Вы сказали: «Когда он доберется до Италии, мои люди подкараулят его на выходе из дома или на дороге». – Ваше величество, я не знаю, как подкараулить человека, который никогда не добирается туда, куда едет. Мои люди его ждут, а он падает с лошади, и его уносят в гостиницу, и там он три дня лечит ушибы. Мы подстерегаем его в следующем городе, потом узнаем, что он сбился с пути, дал кругаля и вернулся туда, откуда выехал. Он так глуп, что его не убить. Генрих говорит: – Вам придется самому научиться быть глупым, а, Сухарь?
На Рождество, даже если ему не полегчало, надо быть в Гринвиче. Придворных немного, все по-прежнему в черном. Акробат, мастер Джон, пытается их веселить. Вместо музыки и танцев – пьесы, призванные возбудить у короля интерес: маски с фантастическими замками, в которых томятся принцессы. Король следит взглядом за Маргарет Скипуит, бойкой молоденькой фрейлиной. «Он же такого не сделает? – спрашивает лорд-канцлер. – Не подарит леди Марии мачеху младше ее самой?» Лорд-канцлер щебечет: – Энн Бассет просто загляденье. Дочка леди Лайл. – Она получила французское воспитание, – отвечает он. – Как Анна Болейн. Одли хмурится: – Зато вроде не строптивая. Я видел, как он на нее смотрит. И на английском она неплохо говорит. – Но не умеет на нем писать, да и на французском пишет с грехом пополам. – Что? – Одли таращит на него глаза. – Вы читаете ее письма? Маленькой Энн Бассет? Конечно, он читает ее письма. Ему надо знать все, что пишут в Кале или из Кале. В надежде, что они что-нибудь неосторожно сболтнут, он готов читать, о каких кружевах и пуговицах мечтает мистрис Бассет и какие ленты или целебные кольца отправляет ей леди Лайл. Он говорит: – Что бы король ни думал, он не будет счастлив с шестнадцатилетней. Ему нужна постарше, потолковее, такая, что энергично возьмется за деторождение и сумеет его расшевелить. Он вновь обращает взгляд на актеров. Играют молодые люди из Итона, а также труппы Чарльза Брэндона и лорда Эксетера. Иногда Гордость и Безумие говорят, будто они люди; Смирение и Благоразумие отвечают им в стихах. У простонародья, что собирается во дворах и амбарах, есть свои пьесы. Любая деревня может похвалиться своим королем Артуром на деревянной лошадке или Робин Гудом. «О смелом парне будет речь, он звался Робин Гуд»[157]. Он носит платье цвета листвы и умеет красться по лесу бесшумно, как дух. Он женится на деве Мэрион; они дают друг другу слово под сенью дерев. Он подстерегает свернувших с большой дороги монахов, чует их по запаху дешевого вина и непотребных женщин, которым от них разит за милю; у монахов полные сумы денег, вытянутых у бедняков якобы за прощение грехов. Робин Гуд, совершая подвиги, распевает баллады о себе. Сотни раз он избегает петли и меча. Наконец он умирает от потери крови, обманутый вероломной аббатисой. Его кровь впитывается в землю, алая в зеленое, и новый Робин занимает его место, надевает его куртку, забрасывает за спину колчан со стрелами. Тот, кто играет Робина, должен быть широк в плечах. Должен говорить грамотно, не бормотать, как Артур-Сапожник. Если он хорошо играет в родной деревне, его позовут в соседнюю, а там и в город, где можно прославиться. Есть и другие разбойники, чьи деяния хранит молва: Клим из Клу, Адам Белл, Вилл Скарлет, Рейнольд Гринлиф и Малютка Джон. Старые истории можно переписать. Хорошо бы поставить этих молодцов на службу королю. Кроме людей в зеленом, мы завербуем рыцарей древности, таких как Бэв из Амптона и Гай из Уорика, – они разъезжают по равнинам на разумных конях, которые иногда говорят человеческим языком. У каждого из них была причина оставить родимый дом. Иногда их выгоняют оттуда враги или злая мачеха-ведьма; иногда их облыжно обвиняют в преступлении. Оклеветанные, они стремятся очистить свое имя, преданные, не останавливаются, пока не отомстят. В своих странствиях они сражаются с великанами. Их продают в рабство пиратам. Сажают под замок, но они выбираются из темницы. Прячутся в пещерах с отшельниками. Ведут армии против Рима. Иногда сходят с ума, что немудрено. Они завоевывают возлюбленных и вновь их теряют, либо на брачном ложе девушка оборачивается зверем или рассыпается пеплом. Однако в историях всегда торжествует справедливость. Если дьявол сбивает нашего героя с ног, тот встает. Изгоя восстанавливают в законных правах. Младший брат, которого зовут дурачком, становится самым богатым. Вилланы пируют нежным оленьим мясом, свинопас возводит хрустальный дворец. Он зовет Джона Бойла, язвительно-красноречивого кармелита, который сбросил клобук и женился. Спрашивает, не мог бы тот написать пьесу про гнусного архиепископа Томаса Бекета? Как тот пошел против короля и понес заслуженную кару: три доблестных рыцаря пристукнули его, точно телкá. – Пьесу на английском? – От латыни нам проку мало. Бойл просит время подумать. При дворе труппа королевы Джейн дает последнее представление перед роспуском.
На Сретенье двор снимает траур. Говорят об имперской невесте: Кристине, герцогине Миланской, племяннице императора. «Очаровательная юная вдова», называет ее Шапюи. В двенадцать она вышла за Франческо Сфорцу, сейчас, в свои шестнадцать, вдова и, как полагают, все еще девственница. Отец Кристины был прежде королем Дании, но сейчас он низложен. Нынче в Дании король-лютеранин, который уже озаботился переводом Библии и связан династическими союзами с немецкими князьями. Император пытается его свергнуть и, возможно, посадить на престол Кристину. Хотя жаль терять союзника в борьбе с папой, через Кристину Англия получит не только Данию, но и Швецию с Норвегией – заснеженные поля, ледяные берега с множеством гаваней, воды, где тысячи китов могут пировать треской и угощать тысячу друзей, и все равно назавтра рыбы станет больше, чем было вчера. И леса, которые, мы слышали, тянутся меж голых гор: леса, богатые корабельными соснами и другим деревом для строительства судов. К тому же, говорят, она приятна в обхождении, и король с ней поладит. – Я бы налегал на приятность в обхождении. Остальное – домыслы, – говорит Фицуильям и щиплет себя за переносицу. – Прощупайте почву, Сухарь. Иногда король, играя в шахматы, замирает с фигурой в руке и прокручивает в голове череду фантастических ходов, которые никогда не осуществит в жизни. Играя против него, надо всего лишь ждать – Генрих куда менее склонен к риску, чем хочет казаться. После долгих раздумий он разве что сдвинет слона-епископа или бросит в бой пешку. Теперь королевские переговорщики готовы, знатоки канонического права и языков, богословы и счетоводы. В десятках городов Нидерландов и Франции они встретятся с такими уже учеными мужами, чье черное платье украшено единственной тяжелой золотой цепью. Каждого будут сопровождать писари с картами и хартиями, генеалогическими деревьями и схемами очередности наследования. Если переговоры застопорятся, из Англии отправят посланников с новостями о крепком здоровье короля и его расположении к обсуждаемому браку. Он, министр, должен действовать на всех фронтах – перебегать от доски к доске, двигать шесть королев разом. За два часа фигуры могут смахнуть на пол – в иностранном канцлерстве сменятся люди, и договоренности пойдут прахом. Или девица помрет, как раз когда ты подписываешь денежные соглашения. Иногда посланец возвращается и говорит: «Езжайте сами, лорд Кромвель, вы сумеете ускорить дело». Но он решительно против. Его появление в любом иностранном городе наделает слишком много шума и приведет к завышенным ожиданиям, придаст одним переговорам больше веса за счет других. В феврале король отправляет во Францию Филипа Хоуби. Хоуби – один из королевских джентльменов, евангелист, умный и пригожий, получивший самые подробные указания от самого лорда – хранителя малой королевской печати. Генрих все еще надеется заполучить мадам де Лонгвиль, хотя шотландский король и утверждает, что они помолвлены. Впрочем, невредно будет взглянуть и на ее сестру, Луизу. Есть третья сестра, Рене; по слухам, ее отдают в монастырь. Быть может, она согласится оторваться от четок ради английского престола? И раз уж Хоуби за морем, пусть заодно нанесет визит дочери герцога Лотарингского. Не волнуйтесь, говорит он своим помощникам, вам не обязательно помнить каждую из дам по отдельности, во всяком случае, пока король какую-нибудь не выберет. Они все между собой в родстве, в основном папистки и зовутся по большей части Мариями или Аннами. Герцогиня Кристина в Брюсселе у тетки, наместницы своего брата-императора. В начале марта он, лорд Кромвель, поручает Гансу отправиться вместе с Хоуби и написать ее портрет. Двенадцатого марта она три часа позирует Гансу. – Думаю, – говорит Генрих, увидев рисунок, – сегодня вечером мы можем немного помузицировать. Кристина высокая, статная, ясноглазая. Когда я закончу портрет, пишет Ганс, вы увидите, какая она юная, словно цветок в росе. Она серьезная, сосредоточенная, но в лице угадывается улыбка. Легко вообразить, как она откладывает перчатки, которые теребит в руках, и вкладывает теплую ладошку в вашу ладонь. По словам нашего посланника Хаттона, она знает еще три языка, кроме латыни. На всех говорит мягко, приятно, чуть-чуть пришепетывая. Джентльмены короля не сомневаются, что Генрих ее вожделеет. Говорит, мы должны молиться о ней, как если бы она уже была нашей королевой. Впрочем, Генрих говорит и другое: – У мадам де Лонгвиль рыжие волосы. От этого у меня чувство, будто мы уже знакомы, будто мы члены одной семьи. И она уже доказала свою плодовитость. – Король снова смотрит на рисунок Кристины. – Даже и не знаю, какую из дам полюбить. – Эта Кристина похожа на мою племянницу Мэри Шелтон, – говорит Норфолк. – Думаю, с него хватит ваших племянниц, – замечает Чарльз Брэндон. Однако Шелтон все еще не замужем. Генриху она всегда нравилась. Он мог бы жениться на ней прямо сейчас. Томас Болейн возвращается ко двору, быть может, как раз с целью склонить короля к этому браку: обе семьи очень близки между собой, очень алчны. Болейн, несмотря ни на что, остался графом Уилтширским. Он сильно поседел, исхудал настолько, что это тревожит врачей. Носит орден Подвязки и золотую цепь, но поверх скромного платья джентльмена, не занимающего придворных должностей. Ни он сам, ни кто-либо из его скромной свиты не бахвалится, не задирает нос, не затевает ссор с челядинцами Сеймуров. С хранителем малой королевской печати Болейн говорит тихо, доверительно, точно со старым другом: – Мы видели такие времена, лорд Кромвель, памятуя, сколько всего произошло в Англии с восшествия моей покойной дочери на престол, видели столько событий за одну неделю, что в обычное время их хватило бы на хронику десяти лет. Чтобы не терять времени, он, лорд Кромвель, берет быка за рога: – Ваше величество, вы подумываете о мистрис Шелтон? Генрих улыбается: – Быть может, ей пора замуж. Хотя не обязательно за меня. Он откланивается. Король не в настроении подтверждать или отрицать. Он думает, у покойного Гарри Норриса вроде была дочь? Она, должно быть, в том возрасте, когда девиц представляют ко двору. Бесполезно писать ей: оставайтесь дома, храните себя в чистоте. Девицы бегут, как глупые овцы на заклание, как мученики на арену, едва заслышат рычание львов.
Ко двору является новый французский посол, Кастильон, честный малый из тех, кто вечно показывает открытые ладони: смотрите, мол, на мою честность. Он оглядывает посла с головы до ног: – Мсье, полагаю, ваш союз с императором не более чем перемирие на зиму? Мсье Кастильон вздыхает: – Надо стремиться к постоянному миру, когда представляется возможность. Мой господин хочет показать всему свету, что он – христианский король. – Мой тоже, – говорит он. – Однако Франциск мог бы проявить больше заинтересованности в нашем браке с француженкой. – Вы сами не против этого? Лично. – Я хочу одного: чтобы мой король был счастлив. Кастильон говорит: – Вашему королю следует очень четко изложить свои предложения. – Можете поговорить со мной. Деньгами заведую я. – Но я о пакте, о военном союзе… – Поговорите с Норфолком. Армией заведует он. – Норферк к нам куда дружественнее вас. – Может быть, потому, что вы платите ему больше. В торгах с французами ему всегда не хватает совета Вулси. Французы страшились кардинала. Называли его le cardinal pacifique [158]в надежде, что он их не уничтожит.
С нового года по богатым и плодородным землям Кента гуляют слухи о смерти короля. Ими обмениваются за столами в кентерберийском «Чекерсе», их разносят от двери к двери торговки рыбой. Говорят, король умер от поноса, от лихорадки, от кашля, и жаль, что не умер семью годами раньше. Еще говорят, что введут налог на рогатую скотину и подушную подать на ее владельцев – высокую, чтобы обогатить Томаса Кромвеля и поставить честных фермеров на колени. Тех, кто сеет лживые слухи, прибивают за ухо к столбу на базарной площади, но узнать, кто их пустил, обычно не удается. Не нашли и того, кто изготовил воскового младенца. Мастер Ризли прошел по цепочке имен, но она вела либо в пустые разрушенные дома, либо к людям, которые в ответ на вопросы несут такую белиберду, что от них вылетаешь с головной болью от бессмысленно-мудреных слов и ртутных паров. Лондонские колдуны в обиде на лорда Кромвеля, и немудрено. Он приглядывает за ними со смерти кардинала. Он конфисковывает их перегонные кубы и реторты, змеиную кожу и тайные колбы с гомункулами, мантии, хрустальные шары и волшебные палочки. Он изымает их Clavicula Salomonis[159] для вызывания мертвых и читает их тексты в зеркальном отражении; он отдает дешифровщикам их альманахи на неведомых языках. Любой желающий может открыть его сундуки и осмотреть плащи-невидимки, которые он, по словам колдунов, забрал для собственного употребления. В конце зимы на севере тихо, но затем приходит отчет о некой Мейбл Бригг, наводящей на короля порчу. Она вдова тридцати двух лет, такая крепкая, что каждый Великий пост соседи ей платят, чтобы за них постилась. Она может поститься за благое дело, например за выздоровление ребенка. Однако Бригг умеет держать и черный пост, изводящий жертву. Сейчас она постится против короля и герцога Норфолка. Каждый час, который Бригг проводит без еды, король и герцог спадают с тела. – Против меня она не постится? – спрашивает лорд – хранитель малой печати. Он удивлен. Однако его доносчики объясняют: – Герцога она видела лицом к лицу. Считает, он ей знаком. Она говорит, что он обманщик. Что он разграбил север. Узнав об этом, герцог скачет на север – лично повесить Бригг. Король дороден, ему никакие вдовы не страшны, а у Норфолка каждая унция на счету. Вы же знаете мое завещание, пишет Норфолк, то, что я передал вам в шкатулке? Пришлите его мне, Сухарь, я должен его переделать. У меня так мало денег, что придется продавать свои кровные земли. Бога ради, запишите на меня какой-нибудь монастырь. Он, лорд Кромвель, от злости чуть не рвет письмо. Разве он не уговорился с герцогом на аббатство Касл-Акр? Что за ненасытная утроба?
Февраль приносит шторма, в Дувре рушится западный пирс. В дальних краях готовятся к войне: император и венецианцы под громкое одобрение папы снаряжают поход против турок. Однако, когда в воздухе Англии начинает пахнуть весной, к лорду Кромвелю возвращаются былые силы. В совете он излучает спокойствие, хотя король по-прежнему все делает наперекор. Генрих говорит: «Я открою вам свои мысли» – и тут же убирает свои мысли в окованные сундуки, словно прячет имущество от воров. Говорит: «Не бойтесь высказываться начистоту», а на самом деле заносит ваши слова в список обид, который когда-нибудь предъявит. Грегори замечает: «Он как-никак король, думает не как мы, не знает того, что мы знаем. Вот вы, отец, с ним спорите, а я бы поостерегся, чтобы Господь меня не убил». Я спорю, говорит он, чтобы Генрих спорил в ответ, чтобы высказал свои мысли и желания. Семь лет я стою рядом, когда король прокладывает курс. Я видел его на мели, когда не стало кормчего, кардинала. Тогда король остался без доброго наставления, изводился похотью, досадовал на советников, бился в путах собственных законов. Я наполнил его казну, укрепил его монету, избавил его от старой жены, чтобы он женился на своей избраннице; и все это время я умасливал его и забавлял шутками. Если бы я, подобно сказочной принцессе, мог сплести младенца из соломы, я бы год трудился ночами. Теперь он получил своего принца. Да, дорогой ценой, но за все приходится платить. Пора ему это понять; пора ему повзрослеть. К тому же есть повод радоваться. Даже если король выразил желание побыть в одиночестве, он зовет к себе лорда Кромвеля обсудить библейский текст или покидать кости. Королю сейчас неугодны советники, которые улюлюкают, словно на охоте, или говорят со скорбящим одиноким вдовцом, будто обращаются к войску; ему нужен тихий собеседник, внимательный слушатель. Король хочет рассказывать, какие страдания причинили ему женщины, и ждет сочувствия. Если вы гадаете, успешлив ли лорд Кромвель, смотрите, как прирастает он сам и его люди. Мастер Ричард конфискует аббатства в графстве Хантингдон. Он намерен обосноваться в Хинчингбрукском приорате, разумеется, когда все там перестроит, и утвердиться в графстве, дабы подавать там пример верности королю, а мастер Грегори тем временем поселится в восточном Сассексе. Аббатство Льюис – это множество зданий и земельных участков. Грегори станет мировым судьей и получит всякую помощь и поддержку на время, пока будет осваиваться в роли одного из первых джентльменов графства. Цель – принять летом короля, так что с перестройкой надо торопиться. Джованни Портинари собирает помощников – будут взрывать церковь. Он, лорд Кромвель, мысленно видит, как осыпаются лепестки с яблонь и голуби взлетают с голубятен; каменные головы ангелов и демонов отскакивают, словно сбитые пушечным ядром, их осколки сыплются под ноги. Один только металл от колоколов потянет на семьсот фунтов. В марте рождается его внук Генри. Младенца крестят в старинной купели в Мортлейке. Что ж, мастер Грегори, говорит король, быстро же вы стали отцом! Младенец здоровенький, мать бодра и весела, крестная – леди Мария. Она не приехала в Мортлейк лично, но прислала золотой кубок и подарки повитухе и нянькам. Леди Брайан окружила нашего принца всей возможной заботой, он спеленат парчой так плотно, что никаким гвоздям их не пробить, никакой булавке не войти между его ребрами. Мы надеемся, что когда Эдуард станет королем Англии, с ним рядом будет двоюродный брат, Генри Кромвель.
В марте император соглашается начать переговоры насчет Кристины. Два императорских посла, Шапюи и Мендоса, приглашены в Хэмптон-корт. Они навещают принца, свидетельствуют почтение леди Марии и леди Элизе. Леди Мария играет на лютне, на просьбу о личной беседе отвечает вежливым отказом. Леди Элиза пискляво декламирует латинский стишок, которому ее научила Кэт Чемпернаун, его ставленница. На следующий день Шапюи шлет ему в подарок две сотни сладких апельсинов. Он отправляет половину в Сассекс внуку и сыну, остальные раздает в Уайтхолле. С епископом Тарбским, только что прибывшим во французское посольство, они встречаются в благоухании апельсиновой кожуры. – Не притворяйтесь, будто рады мне, Кромвель, – говорит епископ. – Я знаю, что имперцы шлют вам дорогие подарки… – Они прислали мне апельсины. – Я слышал, что за прошлый год вы значительно обогатились отнятым у монахов – вы, ваш сын и ваш племянник мастер Ричард. Вы в Англии пишете законы для грабителей. Посол Кастильон кладет ладонь на руку епископа – помягче, мол. Затем оборачивается, радуясь предлогу сменить тему: – Милорд Норферк! Норфолк кивает на дверь в королевские покои: – Он там, Кромвель? Впустите меня к нему. Он говорит французам: – Милорд сейчас как бедный найденыш. Вечно канючит: «Впустите меня, впустите меня». Норфолк подпрыгивает, будто его укололи булавкой: – Вы так забавляетесь, Кромвель? Чините мне препятствия, чтобы довести меня до разлития желчи? – Вы сами себя доводите до разлития желчи, – холодно отвечает он. – Кто вы такой, чтобы советовать королю невесту? Всего лишь старый вдовец, не можете найти себе женщину, потому что вам принцессу подавай, никак не меньше. Он уголком глаза видит, как переглядываются французы. – Король должен выслушивать брачные советы от человека, который бьет жену? На лбу у Норфолка выступает пот. Вот до чего они дошли после всех заверений в дружбе прошлой осенью – обмениваются оскорблениями перед дверью в королевские покои. – С дороги, с дороги! – кричат привратники. Выходит Генрих. Смотрит на герцога. Тот опускается на одно колено. Король не обращает на герцога внимания: – Мсье, милорд Кромвель, входите.
Начинается все неплохо. Кастильон намекает, что у него неожиданная новость: – Предложение касательно леди Марии, которое, полагаю, будет очень приятно вашему величеству. – Я весь внимание, – отвечает Генрих. – Лорд Кромвель тоже весь внимание. – Ваше величество, – говорит Кастильон, – наш дофин уже женат, однако не могла бы леди Мария выйти за второго сына моего господина? Генрих стонет: – Ваш господин хотел гарантий, что леди Мария унаследует престол. Кастильон кланяется: – Теперь у вас есть сын и наследник. Однако добродетели леди Марии известны всему христианскому миру. Что может быть лучше двойной свадьбы, отца и дочери? Король почтет за честь выдать за вас любую французскую даму по вашему выбору. – Не исключая его дочь Маргариту? – спрашивает король. Посол готов к вопросу: – Если подождать год или два до ее шестнадцатилетия, то, возможно… – Мне сорок шесть, – говорит Генрих. – Я не ищу спутницу для моей старости. Если я женюсь, то должен жениться скоро. Мадам де Лонгвиль меня устраивает. Я не верю, что она и впрямь собирается замуж за шотландского короля. Он тупой, нищий прощелыга… Кастильон даже опешил: – Яков женится на ней еще до начала лета. Обещание крепко. – Но добровольное ли оно? – спрашивает Генрих. – Сердце нельзя неволить. Милорд Кремюэль вам скажет. Он всегда ратует за браки по любви. Епископ Тарбский говорит: – Постарайтесь понять. Мой король смотрит на Якова как на родного сына. Он не нарушит обещания, скрепляющего старинную дружбу двух государств. – Почему бы вам не подумать о герцогине Вандомской? – предлагает Кастильон. Он, не дожидаясь королевского ответа, вмешивается в разговор: – Яков ее видел, и она ему не понравилась. С какой стати она понравится нам? – Я не хочу жениться на даме, которую не видел. Это слишком важное и личное дело. – Генрих поднимает палец и кладет точно под ключицей, там, где белая рубаха выступает над краем желтого камзола. – Быть может, она и некоторые другие дамы приедут в Кале? Тогда я переправился бы через пролив и поглядел на них сам. – Что? – Кастильон уже не в силах сдерживаться. – По-вашему, это конская ярмарка? Мы должны провести перед вами благороднейших дам Франции, как кобыл? Может, ваше величество и прокатиться на них хочет, прежде чем сделать выбор? Он торжественно произносит: – Если они приедут в Кале девственницами, то девственницами и уедут. Клянусь. – Извините, – говорит епископ. Послы отходят переговорить между собой. Лица у обоих красные. Теперь он жалеет, что Норфолк не здесь и не видит спектакля. Послы возвращаются. – Нет, – говорит епископ. – Встречи не будет. – Жаль, – отвечает он, – поскольку мы с королем так и так едем в Кале. Оттуда мы отправимся в земли императора, встречаться с Кристиной и ее советниками. Мы намерены взять с собой леди Марию. И леди Элизу, если воспитательницы сочтут, что путешествие ей не повредит. Он ловит на себе взгляд Генриха: что, правда? – Тогда я желаю вам счастья с герцогиней Миланской, – говорит Кастильон. – Я слышал, она очень боится того, что ее ждет, и молит императора выдать ее куда угодно, только не в Англию. Ваше величество не задумывались, что вам будет вообще трудно сыскать невесту? – Почему? – спрашивает король. – Потому что вы убиваете жен. – Возьмите свои слова назад, – говорит он. Он, как и послы, стоит. Думает: вас двое, но я убиваю великанов. Кастильон поворачивается к Генриху, его голос дрожит: – Вы говорите, ваша первая жена умерла от естественных причин, но многие считают, вы ее отравили. О вашем втором браке все сожалели, но никто не думал, что он закончится отсечением головы. Теперь говорят – даже Кремюэль, и особенно он, – что ваша третья жена скончалась из-за плохого ухода после родов. – Мне не следовало так говорить, – возражает он. – Да, не следовало, – кротко произносит Генрих. – Мои дорогие послы, вам не понять, вы не знакомы с нашим двором и с нашими обычаями. Кремюэль очень много сделал для моего брака с Джейн. Все королевство у него в долгу. Сын Кремюэля женат на сестре королевы. Она для него была как родственница. От горя и потрясения у него вырвались неподобающие слова. За королевой ухаживали как нельзя лучше. – Мы стоим на… – начинает епископ. – Вы будете стоять на корабле, если немедленно не принесете извинения, – говорит он. Генрих поднимает руку: – Не будем ссориться. Послы в чем-то правы. Меня преследуют несчастья. – Король склоняет голову, смотрит из-под бровей. – Однако в невестах у меня недостатка нет. Он говорит: – Заверяю вас, господа, с герцогиней Миланской почти все слажено. – Все слажено? – Кастильон в ярости. – Кремюэль, почему вы не соберете вещи и не явитесь к императору как его верный слуга? Вы служите ему лучше, чем королю Англии. Генрих произносит сухо: – Меня все устраивает. Он говорит: – Если мой король не женится на Кристине, он возьмет жену из Португалии. А мужем леди Марии станет принц дом Луиш. Что может быть лучше двойной свадьбы? Трудно понять, указали послам на дверь или они удаляются сами. Однако на пороге Кастильон произносит с вызовом: – Император и мой господин намерены продлить перемирие до середины лета. Мария потеряет свой шанс. Дом Луиш женится на дочери моего господина – от которой, уверяю вас, он будет в восторге. Послы уходят. Дверь за ними закрывается. Король говорит: – Им не следовало меня запугивать. Я на троне почти тридцать лет – они могли бы усвоить, что угрозы на меня не действуют. Они беседовали по-французски и продолжают на том же языке. Шаги за дверью затихают. – Итак, Кремюэль, – говорит Генрих, – надеюсь, вы не сбежите к Карлу, а останетесь со мной. Генрих смотрит на собственный портрет. Он, лорд Кромвель, советуется глазами с изображением своего господина. – Что мне в императоре, будь он хоть императором всего мира? Ваше величество – единственный государь. Зерцало и свет других королей. Генри повторяет фразу, как будто смакует ее: зерцало и свет. Говорит: – Знаете, Сухарь, я могу время от времени вас укорять. Принижать. Даже говорить с вами грубо. Он кланяется. – Это все для видимости, – продолжает Генрих. – Пусть думают, будто между нами разлад. Но вы знайте, что это не так. Что бы вы ни услышали здесь или за границей, я по-прежнему всецело на вас полагаюсь. – Король улыбается. – Когда говоришь по-французски, невольно произносишь «Кремюэль». Трудно удержаться. – И Норферк, – говорит он. – И Гийом Фицгийом. Мертвые королевы подмигивают ему из-за своих разбитых зеркал.
Слышали когда-нибудь о святом Дерфеле? Если не слышали, стыдиться нечего. Он звался «могучим» или «доблестным», был в числе рыцарей короля Артура, построил в Уэльсе множество церквей, потом ушел в монастырь и умер в своей постели. В одной из церквей епархии Святого Асафа стоит его статуя: крашеный деревянный великан верхом на огромном олене. Дерфель – сборная статуя, ее деревянные глаза подвижны и могут моргать. Валлийцы верят, что он способен возвращать души из ада, и в апреле на его праздник народстекается толпами со скотом, лошадьми, женщинами и детьми, чтобы все они получили благословение. Монахи гребут деньги лопатой. Хью Латимер предложил жечь статуи перед собором Святого Павла, или на Тайберне, или в Смитфилде. Однако с Дерфелем случай особый: легенда гласит, что, если его поджечь, сгорит лес. Ради спокойствия лучше просто его порубить, но не на глазах у местных жителей. Он отправляет с этим поручением своего человека, Элиса Прайса. Элис знатного валлийского рода; во времена кардинала он, Кромвель, работал с отцом Элиса. Просто привезите мне Дерфеля, говорит он, олень пусть останется там. Монастыри в этом году закрываются один за другим. Болье. Бэттл. Робертсбридж. Уоберн и Чертси. Лентон, где приора казнили за измену. Монахи клянутся, что бедствуют, ходят в латаной одежде, сидят без еды и дров. Дрова они, разумеется, продали, как и зерно, и, если недосмотреть, заложат или закопают свои сокровища. Изъятые ценности шлют ему: печати с лицами аббатис и бородатых полководцев, жезл с навершием слоновой кости, изображающим лик Христа, требники и травники, монеты с портретами удельных королей, невесть сколько лежавшие под спудом. Он оставляет себе карту мира с четырьмя львами по углам – на память о Земле, какой она была раньше. Ему привозят компендиумы суеверий, книги о привидениях, составленные монахами. Их читают вслух после ужина в Остин-фрайарз (или где еще он оказывается нынешней весной); вечера светлые, так что даже самые боязливые не пугаются слишком уж сильно. Его эти истории смешат. Привидение в виде копны сена? Привидение помогло бедняку донести мешок бобов? Цель историй, по большей части, запугать простой люд, чтобы платил за молитвы и обереги. Он читает о человеке, который в паломничестве по Испании встретил сына – мертвого недосформированного младенца, шестимесячный выкидыш. Паломник своего ребенка не узнал, а ребенок – нечто бледное в саване – не только признал отца, но и мог с ним беседовать. Он скатывает пергамент и говорит, уничтожьте этот рассказ. И давайте возблагодарим Бога, что у нас наконец-то есть живой принц. Думает о Дерфеле, его способностях. Зачем вытаскивать проклятых из ада? У Бога были причины их туда отправить.
В конце апреля лейб-медики просят беседы с некоторыми королевскими советниками: двумя графами и лордом – хранителем малой печати. – Это насчет его увечной ноги? – спрашивает Фицуильям. – Насчет раны его величества, – поправляет доктор Беттс. – Мы стараемся держать ее открытой, чтобы не скапливался гной. Но она все время затягивается. – Это в ее природе, – поясняет доктор Кромер. – Мы тревожимся. У нее внутри омертвение. – Что вы советуете? – спрашивает Эдвард Сеймур. Врачи переглядываются. – То же, что всегда. Надо разжижать его кровь. Ему следует быть умеренным в еде. Разбавлять вино водой. Не утомлять себя излишними движениями. – Безнадежно, – отвечает Фицуильям. – Сейчас охотничий сезон. Король собирается разъезжать по стране. Эссекс, затем на север до Хансдона, повидать принца. – Ему нужно лежать с поднятой ногой, – говорит доктор Кромер. – Лорд Кромвель, не могли бы его убедить? Все говорят, вы имеете на него влияние. – Говорят. – Правда ли в голосе Фицуильяма звучит обида, или ему померещилось? Он произносит: – Один профессор в Падуе разработал рецепт долголетия. – Полагаю, рецепт не включает скачки по Эссексу, – замечает Кромер. – Надо есть мясо гадюки, легкое и питательное. И пить кровь. – Кровь животных? – брезгливо кривится Эдвард Сеймур. – Нет, человеческую. И пенный кубок крови посыпать молотыми драгоценными камнями, как молоко посыпают мускатным орехом. Профессора выписали в Константинополь, и там… – Он дожил до ста двадцати и стал султаном? – предполагает Фицуильям. – Увы, нет. Одно из его лекарств не помогло от болезни, и турки распилили его пополам. – Святой Лука, защити нас! – восклицает доктор Кромер. Он думает: я должен быть готов к смерти Генриха. Как быть к ней готовым? Ума не приложу. В отсутствие короля он занимается новыми обязанностями. По всему королевству за`мки обследуют и чинят. Король проезжает по десять миль, а мысль его министра пролетает в тридцать раз больше. На ремонт укреплений нужны деньги, и он должен их найти. К нему приходит Томас Кранмер: – Два дела, Томас. – Как вы? – спрашивает он. Вид у архиепископа по-прежнему такой, будто его терзает головная боль. Кранмер кладет ин-фолио на стол: никакой вступительной болтовни. – Во-первых, Мэри Фицрой. Ее супруг Ричмонд умер год назад, а она так и не получила вдовью долю. Король сказал мне: «Послушайте, милорд архиепископ, вы же знаете, что брак не был осуществлен. Так что они с моим сыном не были по-настоящему женаты и я не должен ей платить». – А вы что сказали? – Я сказал: «Конечно, они были женаты – перед Богом и людьми. Вам следует выплатить ей вдовью долю, и побыстрее». Ну и он сразу надулся. – Кранмер открывает ин-фолио. – Говорят, его батюшка под старость думал только о деньгах. Генрих тоже становится скупым. Даже кардинал кое в чем обольщался касательно Генриха. Кранмер, похоже, не обольщается совсем и все же способен нести на себе груз Генриховой совести – бремя, которого хватило бы на целую коллегию епископов. – Дело второе. Отец Форрест, – говорит Кранмер. – Духовник Екатерины, когда она была королевой. Восхваляет папистские обряды, в проповедях прямо противоречит Писанию. Испытывает королевское терпение уже больше пяти лет. Боюсь, придется его сжечь. Я велю доставить его к собору Святого Павла. Хью Латимер просит разрешения прочесть Форресту проповедь. Надеется обратить грешника ко Христу. И если мы увидим признаки исправления, мы его отпустим. – Кранмер говорит четко, сухо, но руки дрожат. – Надеюсь, он отречется от своих заблуждений. Ему почти семьдесят. Он наблюдает за Форрестом многие годы. – Король не поверит в его раскаяние. Если вы его не сожжете, я его повешу. Кранмер говорит: – Совет должен будет присутствовать на его казни. Чтобы послы обратили внимание и в Риме почувствовали запах дыма. Вам придется там быть. И епископу Стоксли. – О, епископ Лондонский будет, – говорит он. – Не сомневайтесь. Закроет глаза и будет вдыхать дым, воображая, что на костре я, вы или Роберт Барнс. Я доверяю ему не больше, чем Стивену Гардинеру. Гардинер возвращается в Англию – он так оскорбляет французов, что мы не смеем оставлять его своим послом. Свары великих людей подхватывает парижская улица. Слуг Гардинера дразнят, стоит им выйти за порог: «Зовете себя бойцами? Да вы трусливей мышей! Пришли к нам с армией, и вас девчонка вышвырнула». – Да, – кричат англичане, – а мы захватили вашу ведьму Жанну и сожгли, и все ваши победы не спасли ее от костра. Деву Жанну сожгли в тысяча четыреста тридцать первом. Казалось бы, можно вспомнить что-нибудь посвежее. Однако даже на рынке женщины честят наших послов и швыряют навоз в их лучшие одежды. Стивену надо учиться не замечать оскорблений, говорит он. Я вот считаю их комплиментами. Норфолк зовет меня подлой кровью. Северяне – вором и еретиком. Мальчишка-рыбник в Патни обзывал меня: «Ах ты жалкий висельник, ах ты баранья голова, ах ты объедок, ах ты сухарь; твоя мать померла, лишь бы на тебя не смотреть». Как сказал бы герцог Норфолк, старые оскорбления самые лучшие. «Ах ты ирландец, – визжал мальчишка-рыбник, – ах ты сажа из чертовой печки, я тебе яйца отрежу, я тебя выпотрошу и на филе разделаю, я тебе волосы подпалю!» А он молчал. Ни разу в жизни не крикнул: «Я тебя на вертел насажу, я тебя ножом пырну, я твое поганое сердце из груди вырежу!» Он просто это делал. Рано или поздно.
Король еще на севере, когда приходит известие, что с ним беда. Он, Кромвель, берет сопровождающих и выезжает без промедления. Разумеется, мелькает мысль: ехать к побережью, пока порты не закрыли. Если Генрих умер, на кого надеяться? Куда ни поверни, тебя могут остановить на дороге. Куртенэ, собирающие войска для Марии, если будут достаточно проворны. Маргарет Поль, ее сын Монтегю. Норфолк, чьи люди уже скачут во весь опор. Мы через это проходили: король умер или при смерти – турнирное поле в Гринвиче, январь тысяча пятьсот тридцать шестого, с Генриха снимают доспехи, раненая лошадь ржет, крики и молитвы, поток обвинений и кляуз. Он вновь чувствует под грудиной булавочный укол паники. Однако на месте к нему выходит лишь один человек: Беттс, полуживой от усталости. – Еще жив, – говорит врач. – Господи Исусе. – Он выпадает из седла. Беттс вытирает руки льняным полотенцем, расшитым по краю орнаментом из барвинков. – Его величество встал из-за обеда и рухнул под стол. Мы его вытащили. Лицо черное, дыхание слабое, учащенное. Он стал кашлять кровью, и я думаю, это его спасло, потому что он задышал глубже. Вам к нему нельзя. Он слишком слаб. – Пустите меня, – говорит он.
Над королем склонился лощеный бездельник Калпепер, рядом теснятся врачи и капелланы. Он помнит, как Генрих однажды спросил: «Почему как беда, так рядом всегда кто-нибудь из Говардов?» Юнец произносит лукаво: – Вы нужны были здесь раньше, лорд Кромвель. Я слышал, что в Гринвиче два года назад вы воскресили короля из мертвых. – Имел честь, – коротко отвечает он. Рядом с королем пахнет мазями и ладаном. Генрих полулежит на груде подушек, перевязанная нога выпирает под дамастовым покрывалом. Щеки запали, лицо землистое. Он моргает: – Кромвель, вот и вы. – Голос слабый. – В ваше отсутствие мы, боюсь, не устояли на ногах. Королевское «мы». Больше никто в этом не участвовал. – Уайетт вам что-нибудь пишет? – Король сбрасывает одеяла. Нога замотана толстым слоем бинтов. – Я на этой неделе ничего не получал. И от Хаттона в Брюсселе тоже. Кто-то перехватывает наших гонцов или теперь они едут прямиком к вам? Кто из нас король, вы или я? Наш монарх вновь стал собой, думает он. Час давился и задыхался, теперь грозен; зерцало государей, еле-еле мерцающее в свете майского утра. Генрих говорит: – Кромвель, я помню Гринвич. Когда я… Когда вы… – Королю трудно говорить о своей смерти. – Не помню падения. Только черноту. Думал, я скончался. Чувства исчезли. Кажется, я видел ангелов. Он думает: а тогда говорили, что не видели. Король лежал в шатре, вытянувшись во весь рост, бледный как полотно. Генри Норрис читал заупокойные молитвы. Герцог Суффолкский выл, как младенец, у которого режутся зубы. Снаружи Болейны выкрикивали свои имена, а дядя Норфолк рычал, что он теперь главный: «Я, я, я». – Вчера, – говорит король, – вы были далеко, и я думал, что умру в одиночестве. Ему вспоминаются вопли слуг и придворных, собственный окрик: «Тихо!» – его ладонь на груди короля, стук своего сердца. Затем под стеганой курткой из конского волоса – легкая дрожь, мышиный топоток. Через мгновение Генрих охнул, застонал, зашелся в кашле и наконец выговорил: «Томас Кромвель». Потрясенные лорды завыли: «Лежите, лежите!» – но Генрих сел и обвел взглядом все вокруг. Оживший король глядел на Англию. Видел ее темные долины и зеленые поля, ее широкие серебристые реки, ее соловьиные леса. Видел ее справедливые законы, ее свободных жителей, слышал их молитвы. Вернулся доктор Беттс со склянкой мочи: – Ваше величество, вам сегодня нельзя думать о делах. – Нельзя? – спрашивает король. – А кто будет править? Вроде бы просто вежливый вопрос, но врач пятится. – Мы говорили о моем падении в Гринвиче. Предавались воспоминаниям, – буркает король. Беттс говорит: – Господь да хранит ваше величество. – Он и сохранил, – отвечал Генрих. – Мне сказали, что все в шатре поверили в мою смерть, кроме одного лишь Кромвеля. Он склонился надо мной и ощутил биение моего сердца, когда остальные считали меня мертвым. Он думает: я не мог допустить вашей смерти. Кто бы стал нами править? Мария, папистка, которая отправила бы всех министров на плаху? Элиза, в колыбели? Нерожденное дитя у Анны в утробе? И в лучшем ли мы положении сейчас? У меня по-прежнему нет плана, нет выхода, нет тех, кто меня поддержит. Нет войск, нет прав, нет полномочий. Он думает: Генриху следует назначить меня регентом. Прямо сейчас. Подписать и скрепить печатью; снять многочисленные копии. Король говорит: – Полагаю, посольства уже трезвонят на весь мир, что я снова умер. – Если здесь без меня можно обойтись, я готов ехать в Вестминстер. Лично обойду послов и заверю, что своими глазами видел ваше величество живым. – О да, вам они поверят. – Король снова заходится в кашле. Беттс говорит: – Милорд хранитель малой печати, на сегодня довольно. – Ядовитые испарения от раны ударили мне в голову, – говорит король. – Но им скажите… не знаю… скажите, у меня была мигрень. Что я через несколько дней снова буду в седле. Генрих отпускает его взмахом руки. Версии множатся при каждом пересказе. Ему ли не знать, как все было: в Гринвиче королевское сердце трепетало, слабое, как дыхание бога на хрустальном шаре. Он помнит, что молился, но другие помнят, что он молотил короля по груди, кулаком с размаху, чуть ребра тому не сломал. А Кристоф, бывший рядом с ним в те роковые минуты, говорит, он вздернул короля на ноги, ухватил за уши и заорал тому в лицо: «Дыши, сволочь, дыши!»
Приходит май. Король думает о династии: – Если я заполучу мадам де Лонгвиль, уверен, она наплодит мне сыновей, что станет большим подспорьем для Англии, если с Эдуардом, не дай бог, что-нибудь случится. Наш первый с ней сын будет герцогом Йоркским. Следующий – герцогом Глостерским. Третий, думаю, герцогом Сомерсетским. Фицуильям говорит: – Вы забыли, что она просватана в Шотландию? Генрих ничего не забывает. Но иногда думает, что королевская прихоть может изменить реальность. Французский король, по слухам, едет в Ниццу на встречу с императором. Есть лишь один способ их рассорить – породниться с одним и тем оскорбить другого. Советники предостерегают: – Не спешите, ваше величество. Сделав выбор, вы теряете преимущество. Вы можете жениться лишь на одной. – Правда? – тихонько произносит Фицуильям. – Речь как-никак о Генрихе. Генрих говорит: – Кромвель, примите у себя посла Кастильона. Вы угрожали сбить его с ног. Пришло время загладить урон. Угостите его на славу, умаслите. Если нужно что из моих погребов, только скажите. Последнее время он изводит Терстона проектом механического вертела, приводимого в движение системой блоков за счет тяги от огня. «Вуаля!» – говорит он, насаживая на вертел курицу. Однако Терстон упрямится: в доме полно мальчишек, зачем какой-то механизм? У мальчишек что-то подгорает, что-то недожарено, говорит он. Здесь можно регулировать скорость: чем жарче огонь, тем быстрее вращается вертел. Притушите огонь, и… Не годится, хозяин, возражает Терстон. Для этого куренка механизм чересчур велик.
Кастильону и королевским советникам подают тюрбо, печеную цесарку, кресс-салат в масляно-уксусной заливке. Семгу зажарили с апельсиновой цедрой, из молодой птицы вытащили кости и запекли ее в том, что англичане зовут ломбардскими пирогами, хотя в Ломбардии о таких не слыхивали. Как только они остаются наедине, посол бросает на стол салфетку, словно отшвыривает белый флаг: – Его нога никогда не исцелится. В другой раз ему так не повезет. И вам. Он не отвечает. По всему, Кастильон принимает его молчание за знак согласия и в следующий раз держится с королем словно собутыльник в таверне, предлагает мадам Луизу, сестру мадам де Лонгвиль. – Возьмите ее, ваше величество, она красивее сестры. К тому же старшая – вдова, а младшая – девица. Вы первый в нее войдете и проложите ход по вашей мерке. Генрих фыркает. Хлопает посла по плечу. Отворачивается от француза, стирает улыбку с лица. – Не выношу скабрезностей, – шепчет король. Бросает через плечо: – Извините, посол, я вас оставлю. Капелланы зовут меня на мессу.
Через день-два король вновь уезжает охотиться. Рейф с Генрихом, Ричард Кромвель ездит с письмами и сообщениями, которые нельзя доверить бумаге. В Уолтеме Ричарду говорят, что у короля французский посол и придется подождать; затем к Генриху вызывают различных советников. Наконец сообщают, что король примет его только назавтра. Рейф с извинениями забирает у Ричарда письма, обещает сам вручить их королю. Ричард говорит: – Не извиняйся за него, Рейф. Твой вины тут нет. Какая муха его укусила? Прежде не было случая, чтобы кромвелевским делам чинили препоны. Наутро Ричард скачет назад с ответами на письма. – Но мне очень все не понравилось, сэр, – рассказывает он. – Норфолк был с Генрихом, важный, словно актеришка, играющий короля. И Суррей с ним, хер собачий. Оба говорили, как король вами недоволен, тем, что вы за императора. Норфолк ходит под ручку с французами. Им бы скрипача, они бы пустились в пляс. Что задумал Генрих? Я могу время от времени вас укорять, сказал он. Принижать. Это все для видимости. Я по-прежнему всецело на вас полагаюсь. Он берет «Книгу под названием Генрих». (Которую держит под замком.) Думает сыскать там какой-нибудь совет. Но увы, там все больше пустые страницы.
На сожжении отца Форреста, помимо него и Томаса Кранмера, присутствуют лорд-мэр Лондона, лорд-канцлер Одли, Чарльз Брэндон, герцог Суффолкский, Томас Говард, герцог Норфолкский, Эдвард Сеймур, граф Хертфордский, и, разумеется, епископ Стоксли. Форреста привозят из Ньюгейта на волокуше из связанных кольев. На нем францисканская ряса. Его ставят на помост, и Хью Латимер обращается к нему с проповедью. Хью говорит час, но с тем же успехом мог бы мочиться против ветра. Форрест находит силы отвечать, говорит, я монах с семнадцати лет и католик с крещения, а Латимер не католик, ибо лишь те, кто покорен папе, входят в Божью вселенскую семью; толпа ревет. Дальнейших слов Форреста не разобрать, по сигналу приставы стаскивают его с платформы и волокут к столбу. Он обвис мешком, шепчет молитвы. Под фанфары и барабанный бой на арену вступает валлийский идол Дерфель. Его несут восемь человек – больше, чем нужно, но так впечатление сильнее. В насмешку над якобы силой идола его связали веревками. Толпа смеется и поет. Говорят, Дерфель может сжечь лес[160]; посмотрим, сожжет ли. По команде идола ставят стоймя. По другой команде его глаза моргают, деревянные руки молитвенно вздымаются к небесам. «К черту его!» – орет толпа. Приставы разбирают Дерфеля на части, берут топоры и рубят его на дрова. Отец Форрест утратил все шансы на снисхождение, предложенные ему королем, Кранмером и Хью Латимером. Томас Мор говорил, невелика храбрость сгореть, когда тебя привязали к столбу. Он, лорд Кромвель, кричит: «Форрест! Проси королевской милости!» Ибо Форрест так этого и не сделал. Всякий осужденный просит королевской милости, даже если считает себя неповинным. Так он облегчает участь родных, дабы король пощадил их, не лишал имущества. Однако Форрест монах. У него нет сыновей и дочерей либо есть, но о них никто не знает. Всего имущества – ряса, сейчас изодранная, кожа, мясо, кости и жир. – Проси короля о помиловании! – кричит он; он, Кромвель. Неизвестно, слышит ли его Форрест. Он думает, теперь уже ничего не изменить. Мученик может гореть на сильном огне или на слабом. Дрова могут быть сухие и сложены высоко, так что осужденный скрыт от толпы и умирает в реве окутавшего его пламени. Однако, поскольку Форрест не произнес и слова покаяния, жечь будут медленно. Монаха вздергивают на обвязанной вокруг пояса цепи, костер разводят под его ногами. Он смотрит бесстрастно от начала до конца, не позволяя себе коситься на других советников. Думает, наверняка мы могли в чем-то с Форрестом сторговаться, что-то предложить в обмен, чтобы тот в чем-то уступил и таким образом избавил себя от мучений. Ему не хочется верить, что сделка была невозможна. Всякий чего-нибудь хочет, хотя бы прекращения боли. Жар подбирается к Форресту, и тот поджимает босые ноги. Извивается, кричит, однако вынужден опустить ноги в огонь. Снова подтягивает их, крючится в цепях, истошно орет; Дерфель весело потрескивает, и все продолжается бесконечно долго, языки пламени тянутся вверх, человек в цепях бьется все слабее и наконец обвисает. Тело охватывает огонь. Монах воздевает руки (они не связаны), как будто карабкается на небо. Мышцы сокращаются, скукоживаются, руки скрючивается помимо воли. Значит, то, что выглядит молитвой папистскому Богу, на самом деле знак скорой смерти: по команде палачи подходят, длинными шестами сдергивают горящее тело с цепи и бросают в огонь. Зрители вопят, пламя взвивается. Конец отцу Форресту, конец валлийскому идолищу Дерфелю – он обратился в золу. Кранмер шепчет в ухо: – Кажется, всё. У Эдварда Сеймура лицо такое, словно он сейчас сблюет. – Не видели прежде? – спрашивает он, Кромвель. – Я вот насмотрелся. Официальные лица расходятся. Чем занять себя до конца дня? Работой, конечно. – Жестокая смерть, – замечает член гильдии. А он отвечает: – Жестокая жизнь, брат.
Когда он смотрел, как жгли старуху, ему было… сколько? восемь? Он убежал из дому или, по крайней мере, так себе говорил; добирался из Патни пешком и на телеге, один раз ночевал под изгородью. На следующий день выпросил у черной двери хлеба и молока, уговорил лодочника подвезти его до верфей под Тауэром. Хотел наняться на корабль и стать моряком, но, увидев празднично разодетые толпы, забыл, чего хотел. – Это Варфоломеевская ярмарка? – спросил он. Мужчина расхохотался, но женщина сказала: – Он еще маленький, Уилл. – Глянула на него. – Пресвятая Дева, какой же ты чумазый! Он не стал говорить, что спал под изгородью. Уилл спросил: – Как тебя звать? – Гарри. – Он протянул руку. – Я кузнец. А ты, Уилл? Мужчина стиснул ему руку. Он запоздало понял, что Уилл хочет его помучить, просто для смеха. Думал, кости треснут, но в лице не изменился. Уилл брезгливо отбросил его руку, сказал, крепкий малый. Женщина продолжала: – Пошли с нами, юный мастер Гарри. Держись со мной. Цепляясь за ее фартук, он стоял в толпе. Женщина похлопала его по плечу и не убрала руку – как будто она его крестная и заботится о нем. «Идут!» – заорал кто-то. Запела труба, появилась процессия: важные люди с жезлами, у каждого на груди золотая цепь. Он никогда таких не видел, кроме как во сне. Перед ним плыли хорошая шерсть и бархат. Пронесли золотой крест; за крестом шел епископ, сияя, как солнце. – Видел когда-нибудь повешенье? – спросил Уилл. – Сто раз, – соврал он. Уилл сказал: – Так вот, это не повешенье. Когда притащили старуху, избитую и связанную, он поглядел крестной в лицо и спросил: – Что она сделала? – Гарри, ты должен увидеть, как она горит, – сказала его крестная. – Она лоллерка. Уилл резко поправил: – Лоллардка. Говори правильно. Крестная, не слушая, продолжала: – Она служит дьяволу. Восемьдесят лет старухе, вся погрязла в грехе. И закричала, перекрикивая рев толпы: – Пустите мальчика поближе! Некоторые расступились: благое дело – показать ребенку сожжение. Толпа все густела. Кто-то молился, кто-то ел. От доброй женщины у него за спиной пахло уже не глаженым льном, а волнением и жаром. Он протиснулся обратно к ней. Хотелось зарыться головой ей в живот, обнять ее руками. Он знал, что придется терпеть, иначе Уилл сожмет ему шею, как сжимал руку. Увидев, что он повернулся, и решив, будто мальчишка задумал сбежать, Уилл толкнул его вперед: – Да этот малый – язычник! Ты из какого прихода? Из осторожности он соврал: – У меня нет прихода. – У всех есть приходы, – фыркнул Уилл. Но тут толпа начала громко молиться. А громче всех кричал проповедник. Он кричал, что земной огонь – лишь касание перышка, майский день, материнская ласка по сравнению с муками в адском пламени. Когда костер вспыхнул, толпа понесла его вперед. Он звал свою крестную, но голос тонул в общем реве. Он видел чужие спины, но чувствовал запах горящего человеческого мяса. Приходилось им дышать, пока ветер не переменился. Некоторые слабые люди выли, кто-то блевал себе под ноги. Когда волнение улеглось, когда лоллерка превратилась в кости и сажу, важные люди ушли, и обычные зрители начали расходиться по своим делам. Пьяные держались за руки и пошатывались, размахивали руками и орали, как на бое быков. Другие, трезвые, переговаривались, сбившись в кучки. У всех у них был дом, куда идти. У него не было. Патни казался далеким, как в сказке. «В городе у реки жил-был мальчик Томас Кромвель с отцом Уолтером и собакой. Однажды он ушел искать счастья в чужие края…» Он гадал, сколько времени займет дорога назад. Патни на другом конце Лондона. Не всегда можно надеяться на удачу, не всегда тебя подвезут; а если станет известно, где он был и что видел, то, уж конечно, каждый мужчина и каждая женщина будут его ругать. Ему подумалось, что под помостом для важных людей можно устроиться и жить там, как в доме. Никто его не прогнал. Никто его не увидел. Под дощатым потолком он сел, скрестив ноги, на сырой земле. Шло время. Он заметил людей, которые стояли в сторонке, как будто ждали, когда все уйдут. У одного была миска, у другого – корзина. Они не подходили, как будто чего-то боялись. Вернулись приставы, насвистывая, и разбили ломами оставшиеся кости. Из своего убежища он наблюдал за ними, как будто издалека. Он замерз и задубел. Рука, которую Уилл чуть не раздавил, пульсировала. Пошел дождь, приставы бросили свои ломы и укрылись где придется. Вода капала между досками над головой. Он считал капли. Ловил их в сложенные ладони и пил. Чувствовал, как они текут внутри его и замерзают в лед. Раздробив кости, приставы вытерли ломы о траву, надели капюшоны и ушли. На ждавших с корзиной и миской они не смотрели, но один бросил через плечо: – Всё ваше, братья. Те, кого назвали братьями, принялись шарить в золе. Он выбрался из-под помоста, назвал им свое имя – мастер Гарри, кузнец – и рассказал, что тут произошло. Мы знаем, сказали они, мы видели. Они сказали, эта женщина умерла за слово Божие, Гарри, а мы пришли собрать ее останки. Они провели на его руке длинную черту жирной золой. Сказали, помни этот день, сколько Бог даст тебе прожить. Он изложил им полученные от священника сведения, что земной огонь – лишь приятный ветерок по сравнению с бушующим внизу пламенем. Закатал рукав и показал ожог, который получил в кузнице. Тебе, наверное, было очень больно, миленький, сказала женщина. Он ответил, мужчине шрамы не страшны. У моего отца их много. – Иди домой, сынок, – сказал один. Он ответил: – Я не знаю, как туда добраться. Они ушли. Он вернулся в свое убежище под помостом. Дурнота отпустила, захотелось есть. Он знал, что когда-нибудь придется сделать вылазку и что-нибудь украсть, но сейчас надо сидеть тихо, потому что вдруг придут разбирать его дом? Его могут вытащить и сказать: «Это мальчишка-лоллер». Разведут новый костер и бросят его туда, как бросают последний тюк на телегу. Никто не пришел. Темнело. Он не боялся призрака старухи, но ощущал, что рядом кто-то есть. В так и не рассеявшемся до конца дыму различались приникшие к земле тени. Лондонские псы подбирались ближе. Нетрудно было угадать по виду их историю. Наверняка ни у одного нет клички, конуры и хозяина. Они были шелудивые, хромые и скрюченные. Небось много часов ждали в сторонке, положив морду на лапы, и пускали слюну. Пока приставы занимались работой, псы не смели приблизиться, боясь что в них швырнут камнем и выбьют глаз. Они тряслись от страха, но голод и запах жареного мяса придали им храбрости. Они ползли сперва на брюхе, затем – на полусогнутых лапах. Они поднимали морды и нюхали воздух. Облизывались. Они были все ближе. Псы боялись важных людей и приставов, но не боялись его, мальчишку-оборванца. Круг сужался. При каждом звуке они припадали к земле и замирали. Но с каждым мгновением они приближались. Лоллардка была тощая, жиру, как в иголке. Когда псы сообразят, что от нее не осталось ничего, кроме запаха, набросятся ли они на него? Кусище патнемского мяса; можно перегрызть ему горло и лизать кровь. При его росте под досками можно было выпрямиться. Он набрал в грудь воздуха и бросился вперед с криком: – Пшливонпадлычтобвамсдохнуть! Псы вздрогнули. Попятились. Но не убежали. Сели и стали на него смотреть. Затем вновь поползли к нему, приникая к земле, вытянув морды к столбу. Уилл спросил его: «Как тебя занесло так далеко от дома, малец?» Священник сказал: «Господь видит сердце праведного; Он приведет нас в Сион». Он раскинул руки, заорал. Выбрался из-под помоста, размахивая руками, потом выставил правую вперед, словно благословлял собак, и пальцами сложил дулю. Он повернулся и пошел прочь от прошедшего дня, на запад, потому что знал: вчера солнце было у него за спиной, пока мир не качнулся, толпа не понесла его впереди, а крестная не взяла его за руку и не сказала: «Пропустите мальчика вперед, пусть видит, как она мучается, и вырастет святым». То было не первое преступление, которое он видел, но первое наказание. Много позже он узнал, как звали старуху: Джоанна Боутон. Она была вовсе не нищенка, как ему тогда показалось, а женщина образованная, родственница лорд-мэра. Ничто не защитит тебя в последний час, ни звание, ни родство. Ничто не оградит от огня. До Патни он шел дня два и в первый (но не в последний) раз ночевал под открытым небом. Дома о нем не соскучились. Отец побил его, но это было не в новинку. Про ту провинность, из-за которой он сбежал, забыли; добавили к следующей, которую он вскоре совершил, потому что не умел не грешить; по словам отца, свет еще не видывал такого негодника. Он не дожидался, когда священник добавит что-нибудь еще: в ушах стояли крики Уолтера. Прошли годы, прежде чем он понял: из Смитфилда вернулся не тот мальчик, что уходил из дому. Маленький Томас по-прежнему сидел под помостом, настороженный, как псы, ловил в ладони холодные дождевые капли. Он так и не сходил забрать себя оттуда. Он видит скрюченную фигурку на другом конце времени, чувствует, как вздымаются ребра от беззвучного плача. Видит и чувствует, но жалости к ребенку не испытывает, только подозревает, что ради чистоты улиц надо бы его забрать и отослать домой.
Близится лето. Французский посол говорит ему: – Хромаете, лорд Кремюэль? – Старая рана, полученная давно в вашей стране. Нога меня иногда подводит. Кастильон замечает: – Интересно, не думает ли ваш король, что вы его передразниваете. Смеетесь над ним. Предоставьте это шотландскому королю. Во вторую неделю июня мадам де Лонгвиль сходит с корабля в Файфе, где ее встречают Яков и его придворные. Она мила и свежа; путешествие далось ей легче, чем принцессе Мадлен. Под благословения и приветственные крики шотландцев и французов они с Яковом едут венчаться. Император тем временем охладел к проекту нашего брака с Кристиной. Король велит нашим людям в Брюсселе не жалеть денег. Однако англичанам говорят, король был женат на Екатерине Арагонской, близкой родственнице Кристины, а значит, нужна диспенсация от папы. В таких вопросах, замечает посол Мендоса, легко обнаружить, что устроил себе неприятности. Архиепископ Кранмер говорит, хватит заниматься дипломатией, гонять Ганса по четырем ветрам, трепать почем зря имена порядочных женщин и девиц. Королю нужно жениться на той, кого он знает и сумеет полюбить. Потому что Генрих считает, нельзя вступать в брак без любви. Во времена Екатерины он распевал: «Я законы храню, обид не чиню, верен супруге своей одной». Однако советники говорят, если король женился по любви раз в жизни, можно считать, ему повезло. Нельзя рассчитывать, что так будет снова и снова. За неимением жены король занялся строительством. Новый дворец будет в Суррее, неподалеку от Хэмптон-корта. Задумано создать охотничьи угодья протяженностью во много миль. Поначалу казалось, что хватит и обычного охотничьего домика, но король вознамерился сотворить чудо света. Нанял итальянских зодчих, забрал весь строительный камень из взорванного аббатства Мертон. Сносит усадьбы с амбарами и конюшнями, древние приходские церкви. Скупает соседние поместья. Заказывает тысячи подвод с лесом, строит печи для обжига кирпича. Томас, лорд Кромвель, викарий короля по делам церкви и хранитель малой печати, уже не надзирает над королевским строительством. Он присоветовал, кого из итальянцев выбрать, но во главе работ король поставил Рейфа Сэдлера. Со всем, что делает для короля Кромвель, справятся Сэдлер и Томас Ризли. Он их обучил, вдохновил, написал их как версии себя; Рейфа – открытым текстом, Ризли – шифрованным. Чудо строят летом тысяча пятьсот тридцать восьмого. Когда король женится, он поместит королеву туда, как алмаз в оправу. Тем временем европейские дамы, отделенные от нас Ла-Маншем, смотрят на мглистые земли через хрустальные зеркала; по вьющимся меж цветов дорогам скачут королевские гонцы на белых конях. В сказках принцессы не бывают чересчур старыми, или чересчур молодыми, или папистками. Они терпеливо дожидаются принца семь и более лет, покуда он совершает подвиги, и прядут свои судьбы в единую нить, отращивая той порой длинные золотые волосы. Иногда король плачет о покойной жене. Где мы сыщем даму столь кроткую, смиренную и пригожую, как Джейн? Поскольку найти такую нельзя, Генрих забавляется строительством нового дворца, какого еще не видел свет; дворец зовется Нонсач, то есть Несравненный.
II Corpus Christi[161]
Июнь – декабрь 1538 г. Уайетт последовал за императором с берегов Испании в Ниццу, где Карл встретился с папой и французским королем. Эта встреча подобна зловещему сочетанию светил, которое мы можем предсказать, но не в силах предотвратить. Начало июня, Уайетт в Англии, расхаживает по комнате в Сент-Джеймсском дворце. Лорд – хранитель малой королевской печати, сидя в квадрате слабого света из окна, следит за ним взглядом. – Я видел Фарнезе, – говорит Уайетт. – Так близко, что мог бы в него плюнуть. Кардинал Поло опирался папе на плечо и шептал тому на ухо. Я мог бы ткнуть его кинжалом и привезти домой ломоть его жира. Куда бы ни ехал император, Уайетт следует за ним со свитой из двух десятков молодых придворных; все они при оружии, все сочиняют стихи, все повесы, все игроки. Из Ниццы император отправил его на родину с заманчивым предложением: если леди Мария выйдет за дома Луиша, то им достанется Милан – Милан, за который Карл и Франциск сражались много лет. – Но Милан он не отдаст до Страшного суда, – говорит Уайетт. – И они требуют за Марией несусветного приданого. Королю следует предложить две трети. Разумное правило на все случаи жизни: сбрось треть и посмотри, что тебе ответят. Уайетт говорит: – Впрочем, я не знаю, намерен ли король вообще отдавать Марию замуж. И хочет ли жениться сам или просто ведет со всеми игру да обеспечивает Ганса заказами. Он пожимает плечами, я, мол, ничего не знаю. – Ненавижу Испанию, – говорит Уайетт. – Худшая камера в Ньюгейте и то лучше. И я не понимаю императора. Не могу прочесть его ни на каком языке. Слышу слова, которые он произносит, но ничего за ними. Его лицо никогда не меняется. Иногда он принимает меня каждый день. Иногда я приезжаю, а его слуги гонят меня прочь. Я думаю, нарушил ли я чем-нибудь этикет? Прилично ли ждать за порогом аудиенц-залы два дня или три или пока меня не выметут с мусором? Если мне велят убираться из страны, надо ли заплатить долги и нанести прощальные визиты или надо запрыгивать на лошадь в чем есть? – Это хитрости правителей, – говорит он. – Генрих три дня кряду дает французскому послу личную аудиенцию. Потом неделю не допускает его до своей особы. – Когда он меня к себе не допускает, я пишу депеши. Перевожу Сенеку. Коротаю время не с женщинами, что бы вам ни рассказывали, а с бурдюком плохого вина и Евангелием. В Испании женщин держат взаперти. Мужья убивают вас по малейшему подозрению. Будь граф Вустер испанцем, вы с его женой гнили бы в могилах. – Я никогда не волочился за женой Вустера, – устало произносит он. – Но это как говорить, что я не лютеранин. Никто не верит. – Инквизиторы в Толедо считают всех англичан лютеранами. Пытались внедрить в мой дом шпионов. Предлагали деньги моим слугам. Крали мои письма. – Я вас предупреждал: запирайте на ключ все, что пишете. В стихах или в прозе. Уайетт немного смущен: – Поначалу я думал, это вы. Он не отрицает: у него есть человек в доме Уайетта, как есть люди в доме Гардинера. Он вздыхает: – Это в не меньшей мере для вашей же защиты. Мои агенты не станут красть ваши письма, только прочтут их у вас на столе. Я удивлен, что император позволяет инквизиторам творить что пожелают. Не давайте им повода. Вам надо ходить к мессе. – О, я бью лбом перед алтарем не хуже самых ревностных католиков, – говорит Уайетт. Инквизиция утверждает, что ересь не знает границ; мы можем допрашивать любого путешественника из любой страны. И что делать королю Англии, если его посла бросят в застенок? Генрих может заявлять протесты, но за это время нашему послу проткнут иголкой язык или вырвут ногти. Входит писарь со стопкой бумаг: – От сэра Ричарда Рича, милорд. Он сказал, не бойся, входи сразу, лорда Кромвеля обрадуют эти бумаги. Он говорит Уайетту: – Я прирастаю землями. Мне обещано аббатство в Мичелеме. Мы с Грегори пишем свои имена на меловых холмах Сассекса. Вы тоже получите награду. Пусть даже посмертно, думает он. Уайетт провожает взглядом выходящего писца. Садится: – В прошлом году во Франции – Генрих этого не знает – ко мне обратился Поль. Прислал подарки. И письмо, обернутое вокруг бутыли доброго вина. – И? – Я прочел письмо. Вино выпил Фрэнсис Брайан. – А, Фрэнсис. Как ему Ницца? – Он играет, – говорит Уайетт. – Как всегда. Город воняет адски и до отказа набит папистами, но Фрэнсису это все не помеха. Он играет на большие ставки с советниками важных людей, с их креатурами, спит с их женщинами. Без него я бы не преуспел. Ничего бы не выяснил. – Уайетт не знает, продолжать ли. – Мне думается, что я мог бы подобраться к Полю. Условиться о встрече. Он кивает: – Но помните, никто не давал вам на это полномочий. Я не давал. Король не давал. Уайетт чертыхается: – Когда я лицом к лицу с возможностью, должен ли я от нее отворачиваться? Что мне делать – посылать в Вестминстер за указаниями? Неужто Генрих не полагается на мои суждения? Если ему нужен посол, пусть отправляет того, кому доверяет, и доверяет тому, кого отправил. А если ему нужны слова, а не дела, пусть выберет кого-нибудь другого. Я убью Поля, как только увижу. – Что ж, на этом ваше посольство, безусловно, закончится. – Он отводит взгляд. – А так Генрих отправит вас назад, как бы вы ни упирались. – Тогда сделайте мне одно одолжение, – говорит Уайетт. – Отзовите этого недомерка Эдмунда Боннера. Он потащился за мной из Испании во Францию, и клянусь, в следующий раз, как мы окажемся на корабле, я вышвырну его за борт. Толстый коротышка-священник – новый любимец короля. – Мы отправили Боннера помогать вам в спорах с богословами. Думали, он усилит ваше посольство. Мы хотели как лучше, клянусь. – Я бы лучше жил с крысами в подполе, чем с ним. Ни разу не видел человека, который так легко оскорбляется и оскорбляет. Я вечно за него краснею. Не понимаю, что вы с королем нашли в этом свечном огарке. Он оставляет вопрос без ответа. – Не хотите вместо Испании поехать во Францию? Сменить Гардинера. Я желал бы отправить туда послом кого-нибудь из друзей. Уайетт улыбается как будто растерянно: – Я ваш друг? В дверь стучат. Это Дик Персер. Снимает шляпу: – Хозяин, привезли подарок из Данцига. Он хлопает ладонью по столу: – Живой? – Три живых. Надо надеяться, не все одного пола. Никто из нас не захотел брать их в руки и разглядывать срамные части. – Я иду, – говорит он. Затем Уайетту: – Мы все обсудили? – Знали бы вы, сколько долгих пустых дней я разговаривал с вами мысленно… – Тогда оставайтесь ужинать. – И долгих пустых ночей, – говорит Уайетт.Подарки из Данцига – жалкие меховые комки и трясутся как в лихорадке, глазки сверкают злобой. – Выпустите их в пруд, – в отчаянии говорит он. Уайетт всматривается внимательно: – Кто это? Бобры? – Их не видели со времен наших дедов. Хочу их здесь развести. Рыбаки будут против. Он пожимает плечами. Люди вечно хотят вернуть прошлое, да только не то, что нужно. Бобровые плотины замедляют реки, склонные к разливу. Человеку не угнаться за бобрами в инженерном искусстве; жаль, что на них вообще охотились. Уайетт спрашивает: – Кого еще вы хотите завезти обратно? Волков? Нам не нужно больше хищников. Не нужны дикие кабаны, хотя охотиться на них увлекательно. Однако нам надо удерживать реки в руслах, надо сажать деревья, если мы намерены рубить их с теперешней скоростью: на купеческие дома, на дворцы знати, на корабли, что дадут отпор папе, императору и всему миру, объединившемуся против нас.
Долгие сумерки. Уайетт говорит: – В Испании я кое-что узнал. У них есть яд такой сильный, что одна капля делает наконечник стрелы смертельным. Возможно, я сумею добыть его для наших целей. – Я предпочел бы честное убийство, – говорит он. Ему видится Поль, зарубленный на большой дороге, спутники удирают, как поросята от мясника. – Я думаю рассечь кардинальскую шапку пополам. Раскроить ему башку, как Бекету. За окном встает английская луна, желтая, словно ломоть банберийского сыра. Уайетт говорит: – Я должен поехать в Аллингтон и заняться моими делами. У меня нет вашего умения выбирать себе помощников. Моему сыну пятнадцать, и, случись худшее, что я ему оставлю? – На бумаге вы богаты. – А, на бумаге… Думаю, не через змея зло вошло в мир, а через бумагу и чернила. На меня так клевещут, шифром и без шифра, что я жду, на этот раз Томас Кромвель выставит меня за дверь. А вы не выставляете. Он молчит. Уайетт произносит резко: – Я хочу увидеться с Бесс Даррелл. – Если Куртенэ у себя в Хорсли, вы можете оказаться там покоролевским делам. Она умна и придумает, как вам увидеться днем или ночью. Уайетт ни разу не упомянул фантомное дитя, спасшее ему жизнь. Но оно ощущается легкой дымкой за плечом Уайетта, там, где прячется ангел-хранитель. Он встает: – До вашего отплытия мы больше не увидимся. Желаю вам быстрого плавания. Поминаю вас в своих молитвах. Они вместе выходят в теплый туманный вечер. У ворот с привратниками сидит Антони. Вид у шута невеселый: грудь впалая, голова опущена, тощие ноги торчат вперед. – Антони, я думал, ты в Степни. – Потом Уайетту, без всякой надобности: – Это мой дурак. На Антони профессиональный полосатый наряд с заплатками. Уайетт скользит по нему взглядом. Шут приветственно вскидывает руку, звенят серебряные бубенчики.
Уайетт пускается в обратный путь вскоре после праздника Тела Христова. Двадцать первого июня он пишет из Хита: ветра такие, что ни одни корабль не может покинуть порт. Дуло весь день, и явно будет дуть всю ночь, но назавтра, говорят моряки, ветер уляжется. Надеюсь, рано утром отплывем. Он, лорд Кромвель, вспоминает их расставание. Глаза Уайетта молили, скажите, что мне не надо возвращаться в Испанию, что вы убедите короля, я сделал все, что мог. Однако Генрих ответил бы: «Это мне судить». Король знает способности Уайетта, умение читать знаки, угадывать противоположное сказанному. Его слово такое, каким и должно быть слово дипломата: прозрачное, как стекло, и зыбкое, как вода. Уайетт мнит себя искушенным в людских делах, но не понимает, что такое дружба в нынешнем значении слова. Дружба клянется в своей нерушимости, но при смене погоды люди меняют платье. Не каждый продается за деньги; кто-то предаст тебя за ласковое слово большого человека, другие отвернутся от тебя потому, что ты захромал, или оступился, или разок замялся. Он говорит Рейфу и Зовите-меня: обдумывайте каждый шаг, но обдумывайте его быстро. Император и Франциск в отсутствие английского посла заключили то, что зовут Десятилетним перемирием. Он, Кромвель, добывает копию документа только в июле, и тогда они с другими советниками видят: Англию не ставят ни во что. Уайетт пишет: «Нашего короля оставили позади тележного зада». Он хохочет, воображая Генриха снопом, который забыли на поле. Мы делаем вид, будто не поверили в перемирие. Зовем его «Десятиминутным перемирием», не десятилетним. Генрих говорит: – С чего Карл взял, будто Франциск не обманет его, как обманул меня? Он нарушил все древние договоры между нашими королевствами. Французский и английский короли всегда выдавали друг другу мятежников. Почему он не выдает нам Поля? Он, лорд Кромвель, вздыхает: – Гардинер плохо защищает наши интересы в этом вопросе. Пора его отозвать. – Когда вернется, отправьте его в епархию, – говорит король. – Мы не хотим его видеть рядом со своей особой. Все мои послы меня подвели, сетует Генрих. Знают же, что перемирие угрожает нашим интересам, но не сумели его предотвратить. – Фрэнсис Брайан обещался убрать Поля. Но он нас разочаровал. И вы тоже, Кромвель. Если перемирие сохранится, мы в опасности. Карл всегда видел себя завоевателем Константинополя. Однако куда проще завоевать Англию, а с поддержкой Франции это будет быстро и дешево. Только вспомнить, сколько друзей лишь и ждут высадки императора: древние роды, Плантагенеты с их армиями вооруженных вассалов, Поли, Куртенэ. Император обвел вокруг пальца Уайетта. Император и Франция обвели вокруг пальца Англию. Генрих в ярости. Утешить его может лишь богословие.
Приезжает делегация от немецких князей в надежде на дружбу и компромисс, который объединит наши церкви против дьявола и папы. Среди королевских переговорщиков Роберт Барнс. Барнс знает немцев; они частенько угощаются вместе. Однако среди переговорщиков и Катберт Тунстолл, епископ Даремский; его вытащили из северной епархии, дабы усилить тех, кто говорит: «Помедленнее, помедленнее, иногда лучше ничего не менять». Тунстолл – ушлый малый. Больно видеть, как король к нему благоволит, советуется с ним, переезжая из поместья в поместье; немцы немцами, но охота важнее. Беттс говорит, мы позволим королю ездить верхом, пока может. Однако Беттс отправляет врача в каждый дом, где король намерен остановиться. Лютеране говорят Генриху, ваше величество знает, что мы объединились в лигу. Это не для того, чтобы на кого-нибудь напасть, только для защиты от императора. Если вы в нее вступите, то станете нашим главой, мы объявим вас протектором конфедерации. Все лето идут переговоры, Рейф Сэдлер ведет протоколы и показывает их королю. Он сам, Томас Кромвель, держится в стороне от неуспешной затеи. Король никогда не согласится, что священникам можно жениться или что миряне должны причащаться и хлебом, и вином. Мы не можем прийти к согласию о природе Христова Тела, что факт, а что аллегория, что человеческое, а что божественное. Можно ли запечь Бога в хлеб? Почему мы не слышим хруста Его костей, когда едим облатку? По-прежнему ли он Бог, когда переваривается в наших кишках? А если его съест собака, будет ли он по-прежнему Богом? Тело Христово – чудо. Таинство. Освященная облатка содержит твоего Бога, живого, вино – его кровь. Не надейся понять, но ты должен в это верить. А если не веришь, молчи, иначе заплатишь жизнью. Немцы недовольны, жалуются, что в доме бегают крысы, а спальня рядом с кухней, так что одежда пропахла дымом и паленым жиром. Он мог бы поселить их у себя, но не станет этого делать, потому что с братом Мартином далеко не уедешь. Он посылает молодых людей учиться в Цюрих, к тамошним ученым богословам. Хью Латимер говорит, английский Бог совершает все, а Томас Кромвель – Его орудие. Однако он думает о главном – об английской Библии. Через нее Бог говорит с тобой, как говорили отец, мать и нянька, а если не умеешь читать, тебе ее прочтут на том же родном и близком языке. Король дал разрешение; осталось только напечатать и распространить. Библия должна быть в каждом приходе, там, где всякий сможет ее прочесть. Нужны не десятки, нужны тысячи экземпляров. Его друг Майлс Ковердейл взялся вносить поправки, думая печатать Библию в Париже. Французские печатники самые быстрые. Однако инквизиция действует и там. В прежние времена он напечатал бы тираж в Антверпене, но это земли Карла, а у Карла приступ кровожадности. Сидишь с его послами, Мендосой и Шапюи, за вкусным ужином, за музыкой и разговорами о книгах. Однако не забывай: в Империи закапывают женщин живьем. Когда в сентябре уезжают немецкие богословы, король на прощанье всячески восхваляет их ученость и благочестие. Ждем вас снова, говорит Генрих, двери открыты. В этом месяце он, королевский викарий, вводит новый церковный устав. Запрещает паломничества. Запрещает звон «Ангел Господень», под который люди преклоняли колени в полях. Запрещает жечь свечи перед статуями и живописными изображениями. Сами изображения остаются, кроме идолов, которым крестьяне подносят ячменные лепешки и эль, и размалеванных красногубых Богородиц, которые носят серебряные туфельки, когда простые женщины ходят босиком. Той же осенью он вводит счет людей. В каждом приходе должны появиться книги для записи крещений, свадеб и похорон. Отныне его соотечественники будут знать, кто они и где родились, кто их двоюродные братья и как звались их деды. У дядюшки Норфолка и других пэров есть геральдисты, которые расскажут им родословную. У Полей, Куртенэ и Веров есть гербы и девизы. Их предки похоронены под собственными изваяниями, и даже до того, как дворяне научились читать, прикормленные священники записывали историю их жизни. Однако мясник и пахарь, пастух и подмастерье башмачника знают о предках не больше, чем если бы выросли в лесу, как поганки. Друзья спрашивают, есть ли новости из Антверпена, от вашей дочери? Он меняет разговор, не хочет говорить о Женнеке. Думает, я, может, и не ахти какой отец, но Женнеке знает, как меня найти. И если она мне напишет, письмо до меня доберется – люди Воэна отправят его кратчайшей дорогой. Однако имя Кромвеля ей не защита, скорее наоборот, а ее вера – если она верит, что близок конец света, – опасна и для него, и для всей его родни. В разгар лета он сопровождает короля в поездке по Кенту. В Дувре они встречаются с лордом Лайлом – тот приехал выпрашивать у Генриха аббатства. – Поговорите с Ричем, – устало говорит король. – С Ричем?! – восклицает лорд Лайл. – В жизни не встречал человека с такими бездонными карманами! Он хочет шиллинг за то, чтобы сказать тебе «доброе утро»! – Он юрист, – отвечает король, – а как им иначе заработать свои шиллинги? Король накоротке с Лайлом, которого помнит добрым дядюшкой времен своей юности. Однако годы выбелили плантагенетовскую рыжину Лайла, и сам он потускнел от времени. – Ну, Кромвель, – Лайл охлопывает себя, будто ищет для него шиллинг, – я получаю ваши письма каждый день, а видимся мы нечасто, да? – Увы, – отвечает он. – Надеюсь, здоровье ее милости восстановилось? Лайл выдавливает скорбную улыбку: – Живот наконец втянулся. Бедняжка, она так убивалась. – Я хочу купить ее земли в Пейнсуике, – говорит он. – Предложу хорошую цену. Лайлу забавно это слышать. – Вы решили прихватить и кусок Глостершира, да? Сассекса вам мало. Ваше величество, неужто этих выскочек ничто не остановит? – Надеюсь, – отвечает король. – Я на них рассчитываю. Лайл покачивается на каблуках: – Я не знал, что мы продаем те земли. Король по-мальчишески хохочет: – Вы много чего не знаете, дядюшка! Генрих настроен миролюбиво, хоть и собирается строить форты. Говорит, я готов беседовать с кем угодно, разговоры ничего не стоят, если только это не встреча королей, и даже в таком случае, предлагает Генрих Франциску, можно устроить все скромно: почему бы нам не встретиться неподалеку от Кале? Король по-прежнему рвется смотреть французских невест. Может, Франциск привезет с собой нескольких на выбор? Франциск сухо отвечает, что не видит смысла во встрече. Генрих говорит: – Кромвель, Франциск нарушает договор. Он задолжал мне пенсион за четыре года. Скажите французам, если они не заплатят, я к ним вторгнусь. Встревоженные советники бегут за ним: – Кромвель, не говорите им ничего подобного! На следующий день король требует к себе Шапюи. Обсуждаются многочисленные браки: если Мария выйдет за дома Луиша, мы не только дадим в придачу Элизу, но и согласимся выдать леди Маргарет Дуглас за кого-нибудь из союзников императора – может быть, в Италию. Еще король предлагает Мэри Фицрой, вдову своего покойного сына. Шапюи и Мендоса приглашены в Ричмондский дворец провести день с леди Марией. Мария вновь играет на лютне. Шапюи докладывает: «Она тепло отзывается о своем друге Кремюэле» – и шепотом, с улыбкой добавляет: «Она убеждена, что вы спасете ее от любого нежеланного жениха». С этим визитом дела Мендосы в Англии закончены. Король дает для посла прощальный обед. – Император оплатил ему лондонские издержки, – ворчит Шапюи. – И, без сомнения, щедро его вознаградил. А я месяцами не получаю ни пенса и вынужден влезать в долги. Однако теперь имперские и французские послы встречаются и сравнивают наблюдения. И не только о скупости своих владык, но и об играх английского короля и его министров. Они говорят, наши государи теперь союзники, так почему же нам не объединиться? – Нам сообщили новости о принце Эдуарде, – говорит Кастильон. – Сказали, у него четыре зуба. Кремюэль, мы напуганы. Король говорит, скажите послам, что я начинаю переговоры с герцогом Клевским по поводу его сестры. Давайте немного расшевелим их, напугаем. Путь видят, Кромвель, что брак с Клеве сулит мне большие выгоды. Нашему принцу скоро год, пора назначить ему воспитательницу. Покончив с этим, он садится с мастером Ризли распределять королевские доходы. Ему нужно двадцать тысяч марок на ремонт портов и укреплений. Ради бедных и больных Генрих должен взять на себя попечение о бывших монастырских больницах – это еще десять тысяч марок. И он хочет попросить пять тысяч марок на починку дорог – дать подкормиться тем, кто без работы. – Вы от этой мысли не отказываетесь, – замечает Ризли. Он уже предлагал это парламенту и не получил поддержки. Король настроен более благожелательно. Государю пристало заботиться о бедняках, о том, чтобы те могли жить честно. Хотя, возможно, говорит он мастеру Ризли, король Артур себя таким не утруждал. В те дни замки ремонтировались сами, а каждый нищий был переодетым Христом. Наш человек в Брюсселе, Хаттон, скончался. Король говорит, пусть мастер Ризли поедет туда, поможет вдове уладить дела и вернуться в Англию, а сам постарается войти в доверие к императорской наместнице, королеве Венгрии. Наместница любит пригожих мужчин, а мастер Ризли и пригож, и красноречив. И Гансу пора вновь собираться в дорогу. С ним отправляется Филип Хоуби, один из королевских джентльменов, изображать влюбленного от имени своего монарха. Он должен расписать достоинства Генриха: щедрость, милосердие, миролюбивый нрав. Достаточно ли Хоуби подготовлен? Он, Кромвель, отводит его в сторонку: – Филип, когда будете беседовать с дамами – французскими, имперскими, не важно, – делайте вид, будто от первого взгляда на их красоту утратили дар речи. Отводите глаза, будто ошеломлены, растеряны, затем медленно, медленно, точно скованы робостью, поднимайте взор. – Ясно, – говорит Филип Хоуби. – И тут же снова отводите взгляд. Но на сей раз с великой неохотой. Опустите глаза, Филип, гляньте на свои башмаки и глубоко вздохните. Филип невольно вздыхает. – Затем вы, запинаясь, произносите положенные учтивости. И снова теряетесь. Охлопываете себя – «Ах, вот оно!» – и трепещете всем телом. Достаете письмо. Пальцы у вас не гнутся. Вы читаете: «Мой господин говорит…» – и так далее, «Наш совет полагает…». – Все время теряю нужную строчку, да? – Затем отбрасываете презренную бумагу. Выпаливаете: «Мадам, я должен сказать. Люди говорят о блеске ваших глаз, о прелести ваших губ, о безупречности вашего юного лица. Однако их слова и в малой степени не передают того очарования, которое я сейчас имею честь лицезреть». И тут вы прикладываете руку к груди. Она должна почувствовать: «Ах, посол в меня влюблен!» Она улыбнется вам. Пожалеет вас. Смущайтесь, но говорите со всей искренностью: «Увы, мэм, мне, смиренному, нельзя о вас даже мечтать, однако я утешусь, если увижу вас королевой Англии – супругой столь благородного, столь могущественного, столь кроткого государя». Покуда она очарована, действуйте быстро. Пусть согласится позировать для портрета. – И зову Ганса, – говорит Филип. – Понятно. Он хлопает Филипа по плечу: – Я в вас верю. Рейф говорит: – Теперь, когда я знаю, как обстряпываются такие дела, мне удивительно, что у вас самого жены нет. Что у вас нет тысячи жен.
Под конец лета он едет в Льюис навестить Грегори и внука. Из-за чумы король не смог погостить у Грегори, да и сам Грегори с домочадцами вынужден переселиться из аббатства. Впрочем, в округе хватает просторных и тихих усадеб. Малыш здоров. Брак, насколько можно судить, счастливый. Бедняжки Джейн нет, однако ее сестра сохраняет свое значение. Юному принцу нужны хорошие дядья и защитники: Эдвард Сеймур по-прежнему советник, его брат Том состоит при короле. Если Грегори и думает про недоразумение из-за молодой жены, то никак этого не выказывает. Отец и сын по вечерам катаются верхом, солнце висит над холмами идеально круглым малиновым шаром. Небо – зеркало, по которому скользит солнце, свет без теней, как на заре мира. Болтовня Грегори затихает; скрип седел и дыхание лошадей как будто приглушены, так что они едут в тишине, четкие на фоне серебра, высокие на фоне неба; холмы тают в дымке; он едет в никуда, в пустоту, где нет ничего, кроме воспоминаний. Он думает о знакомых, умерших на костре, как об упавших в солнце. Маленький Билни, упрямый и угрюмый Тиндейл, молодой и нежный Джон Фрит. Когда они возвращаются ужинать, сумерки уже сизые, как голубиное крыло. Он оставляет лошадь слуге и делает лицо для посторонних. Надо принимать эссекскую знать и утром, и вечером. Бесс – опытная хозяйка, она исполняла эту роль еще при первом муже. Грегори оживлен, разговорчив, но по-прежнему хочет слушать и учиться, часто задерживает взгляд на отцовском лице. – Жаль, Ричарда здесь нет, – говорит Грегори. Однако Ричард, приросший несколькими аббатствами, занят обустройством дома в Хантингдоншире. Ближе к ноябрю, думает он, Ричард понадобится мне самому, помогать в Тауэре.
В конце августа он берет под стражу Джеффри Поля, младшего в роду. От Джеффри ждут неприятностей все – семья, государь, он сам. Он не торопится допрашивать Джеффри. Того разместили в Тауэре со всей роскошью, приличествующей королевскому родственнику. Уж наверное, Реджинальд Поль угадает, что говорит ему этим Кромвель. У Реджинальда еще есть время спасти близких – вернуться в Англию и предстать перед Генрихом лицом к лицу. Он тем временем сверяется с бумагами и с памятью. Читает донесения близких к Полям людей – капелланов, слуг, гонцов. Перебирает документы тех времен, когда в Кенте объявилась лжепророчица и Куртенэ ее привечали. Прочесывает записи своих разговоров с Фрэнсисом Брайаном, сделанные два года назад, когда Брайан сидел в Тауэре. Брайан – сокровищница намеков, малейшее его слово – кладезь подсказок для подозрительного ума. Он задумал уничтожить два древнейших и знатнейших английских рода. У них земли по всем южным и западным графствам. Если император вторгнется, то посадит на трон кого-нибудь из них: либо Монтегю, брата Поля, либо Генри Куртенэ, маркиза Эксетерского. Если они решат сделать королевой Марию, то ради ее матери; выдадут ее за кого-нибудь из членов семьи, превратят в марионетку, танцующую между ними. Английские вельможи возводят свой род к императорам и ангелам. Для них Генрих Тюдор – сын валлийского конокрада, выскочка и самозванец. Присягу, данную такому человеку, нарушить не грех.
В начале июля в Кентербери они с королем смотрели новую пьесу о Бекете, написанную его человеком, Джоном Бойлом, и поставленную труппой лорда Кромвеля. Некоторые актеры в ней из бывшей труппы Болейна. Есть и молодые актеры, которые не боятся новых сюжетов; они неподвластны суевериям, им не страшно вложить новые слова в уста мертвых. Бекет – английский святой, более родной и близкий, чем святой Георгий. В отличие от некоторых уничтоженных этим летом святых он жил на самом деле, был лондонцем, уроженцем Чипсайда. Накануне его рождения матери приснилось, что сквозь ее тело протекает Темза. Во сне она видела, что младенец уже родился и лежит на пурпурном одеяле, смотрит в потолок; одеяло развернулось само собой, заполнило всю кровать, заполнило всю комнату; мать пятилась, держа его за край, пока не оказалась на краю вселенной, среди луны и звезд. Некоторые говорят, мать Бекета была сарацинская царевна, но, скорее всего, она была дочерью суконщика. Ее сын, никто по рождению, милостью короля стал лорд-канцлером, а затем и архиепископом. Однако, возвысившись, он запрезирал государей, веря в старую ложь, будто папы выше мирских владык, а священники выше закона. Когда король возмутился, четыре верных рыцаря отправились в Кентербери указать Бекету на его ошибки. Эти рыцари оставили оружие под смоковницей и вошли к архиепископу с пустыми руками. Однако тот принял их заносчиво и не внял убеждениям. Рыцари ушли и вернулись с оружием, гремя латными башмаками по каменным плитам. Бекет мог бы укрыться на колокольне или в крипте, но остался стоять у алтаря святого Бенедикта, ожидая смерти. Один из рыцарей ударил его мечом плашмя и велел убираться с освященной земли. Однако Бекет, воздев руки и возведя очи к небесам, поклялся, что умрет на этом месте. От первого удара потекла кровь, и архиепископ вытер ее рукавом. Второй удар рассек голову. Архиепископ рухнул на колени и упал лицом вниз. Ричард де Бретон мечом снес ему верхнюю часть черепа, а сэр Хью де Морвиль, поставив ногу на шею умирающему, выгреб его мозги и размазал по плитам с разумными словами: «Теперь-то он больше не встанет». Как только горожане узнали про убийство, они сбежались в собор, голося и осыпая рыцарей проклятьями. Монахи уложили тело в каменный гроб и спешно похоронили, однако отметили место, где умер Бекет. Чудеса начались через два дня. Сухие руки задвигались, калеки пускались в пляс. Жаркое, словно дьяволов пердеж, слово понеслось по Европе, будто негодяй – мученик за на нашу святую матерь церковь, хотя на самом деле он был мучеником собственной гордости. Через два года папа объявил его святым. Начался спрос на реликвии. Кровь Бекета, разбавленную так, что от нее остались одни воспоминания, продавали по всему известному миру. Место, отмеченное монахами, стало святилищем. Даже вши из его власяницы считались чудотворными. Через пятьдесят лет после убийства мощи Бекета поместили в новый роскошный реликварий за высоким алтарем. Вскоре верующие оковали ящик золотом и украсили драгоценными каменьями. Французский король пожертвовал рубин размером с куриное яйцо. Королева Екатерина часто совершала паломничество в Кентербери. Император Карл молился перед этими костями. Что до рыцарей, они явились в Рим с покаянием. Папа отправил их в Святую землю, зная, что живыми они оттуда не вернутся. Бекет был мстительным при жизни и остался таким после смерти. В кентском городке, где над ним смеялись, целое поколение детей родилось с хвостами. В другом месте, где о нем отозвались уничижительно, исчезли соловьи, и по сей день никто там не слышит их пения, ни влюбленные, ни поэты. Каждый год кентерберийцы разыгрывают смерть Бекета в монашеской версии, поскольку другой до сих пор не было. На улицах собираются толпы, взволнованные, как будто на сей раз события будут развиваться иначе. Торговцы продают горячие пирожки. Идет процессия с дудками и барабанами, затем начинается действо. Актеры, играющие рыцарей, получают два пенса и пиво, а тот, что играет святого, – целый шиллинг, поскольку ему приходится туго: рыцари швыряют его на каменные плиты, как швырнули старика-архиепископа. Когда Бекет взывает к Богу, спрятанный за алтарем мальчишка брызгает на сцену свиной кровью. Актера уносят. Потом все напиваются.
Сентябрь. Он сам, лорд Кромвель, приезжает в Кентербери и собирает наиболее влиятельных горожан. Времена для вас непростые, джентльмены, однако вы должны понимать, что король ненавидит вашего святого. И если вы хотите сохранить привилегии, то в доказательство своей верности не допустите беспорядков. Да, вы потеряете доходы, потому что паломничества прекратятся. Но, джентльмены, развивайте торговлю; нечего рыдать у меня на плече, ваши края дают прекрасную шерсть, и у вас близко порты. Вы не можете сохранять этот возмутительный позор только из-за того, что тысячи заморских паломников являются на него глазеть. Город полон. Он остановился у приора, однако все гостиницы – «Морская свинья», «Дельфин и митра», «Солнце», «Корона» и «Чекерс» – забиты до отказа. В «Быке» заняты даже самые плохие задние комнаты, выходящие на убожество Батчери-лейн. Монахи вняли предостережениям и не противятся. Они рады и тому, что приорат не закроют, вернее, король учредит его заново. Гробница Бекета – не первая вскрытая рака. Процедура уже отработана: ободрать драгоценные металлы и камни, оценить, организовать их доставку в королевскую казну. Затем перезахоронить якобы святого в приличном, но неприметном месте. Погожая осенняя ночь. Приор Голдуэлл попросил избавить его от участия в эксгумации и ушел спать. Викарий короля по делам церкви и его спутники сидят у камина до раннего утра. Когда заканчивается всенощная и должны начаться часы перед обедней, он кивает своему порученцу, доктору Лейтону. Молодой монашек ведет их короткой дорогой к месту погребения. За ними запирают замки, опускают засовы. Впереди огромный неф, черное гулкое пространство, где он поставил людей с собаками. Слышно, как те часто дышат и скребут когтями, натягивая поводки. Это мастифы, их челюсти внушают ужас. Если кто-нибудь сюда проникнет, псы сразу повалят его на пол. «Махач! – кричат псари. – Крепыш! Алмаз! Джек!» Монахи, вошедшие первыми, зажгли у гробницы факелы. Он идет на свет. Пересчитывает свидетелей: писари Лейтона, избранные горожане. Важно, чтобы все были на виду, не жались по темным углам. – Спустите собак. В мгновение ока темнота наполняется рычанием. – Господи Исусе, – говорит Кристоф, – они как неприкаянные демоны. Он в темноте берет мальчишку за плечо: – Держись ближе ко мне. Даже француз знает легенду об этом святилище. А теснящиеся рядом горожане – представители гильдий, олдермены – и вовсе с детства слышали истории о тех, кто проявил неуважение к мощам святого и был поражен чумой или проказой, а то и умер в муках на полу, удавленный незримой веревкой. – Мы готовы, – говорит он. Подходит монах, и он замечает отблеск металла. Рука тянется за пазуху, к кинжалу. Однако, когда монах выходит на свет, становится видно, что это не оружие, а череп Бекета. Монах кутает его в свою одежду, словно мерзнущего щенка. – Давай сюда, – говорит он. Раздробленные кости черепа соединены серебряной шапочкой. Губы тысяч паломников лобызали эту реликвию, однако он – клиент проститутки, которому некогда целоваться. Он подносит Бекета к лицу, заглядывает в пустые глазницы. Поворачивает в руке, смотрит на то место, где череп отрублен от хребта. Нигде не записано, что рыцари отрубили Бекету голову. Это сделали позже его почитатели. – Поглядим на остальное? – спрашивает доктор Лейтон. Теперь, когда золото и драгоценные камни сняты, на плитах стоит железный сундук, какими наши предки пользовались спокон веков. Он проводит рукой по крышке – обычная ржавчина. – Господи, Лейтон, – говорит он, – монахи упустили такую возможность. Могли каждый год соскребать ржавчину и продавать ее дороже порошка из единорога. – Подержите фонарь, – говорит Лейтон. Сундук запечатали свинцом. – Проверим, цела ли пломба. Работник наклоняется и проводит пальцем по запечатанному шву. Доктор Лейтон садится рядом на корточки: – Могу поклясться, что его не открывали много лет, милорд. Они боялись, что какой-нибудь непокорный монах украл кости, что их отправили с гонцом в Рим или упрятали в чью-нибудь частную мощницу до возвращения старых времен. Но если сундук не вскрывали… – Я мог бы остаться на своей пуховой постели. – Я бы ни за что не упустил возможность увидеть все самому, – говорит доктор Лейтон. Работник выпрямляется: – Снимать крышку, господа? Монах шепчет: – Господи, спаси и помилуй. Часть зрителей пятится. – Далеко не уходите, не то собаки вас разорвут, – предупреждает он. Работник – каменщик и принес свои инструменты. Он думает: их изготовил кузнец. Какой-то безымянный кузнец три века назад расплавил свинец и сделал пломбу, которую мы сейчас сломаем. Он говорит, дай нам долото. Берет инструмент, пробует пальцем острый конец, возвращает. Некоторые кузнецы не умеют делать долота и резцы – их приходится править после каждой работы. Уолтер говорил, жди, жди, жди, пока цвет из вишневого не станет пепельным. Все решают последние три удара молотом. Каждый удар отдается звоном. Раз, два, три. Он бы сам вскрыл сундук, но должен хранить достоинство королевского викария по делам церкви, Кромвеля Уимблдонского, лорда – хранителя малой королевской печати. Рыцаря ордена Подвязки. Каменщик выдыхает и встает. Он обходит сундук и опускается на колени, командует: – Еще факел. Пламя колышется, за спиной кто-то кричит: «Наверху!» Он разворачивается черным вихрем мехов и бархата. Псы оглушительно лают. Высоко над головой в воздухе колышется тень. Виден край крыла – очертания огромной птицы или летучей мыши. Монахи в капюшонах бросаются на колени. Кто-то падает и грохается головой о плиты. Он требует еще света. В нефе мечутся фонари. Псари плетками отгоняют собак. Кристоф чертыхается. Высоко под куполом, на лесах, каменщик забыл куртку. Она плещет рукавами, будто плывет в черном воздухе. Упавшего хлопают по щекам и ставят на ноги. Он трясется. Его уводят двое других свидетелей, которые теперь много лет будут развлекать знакомых этой историей. Кто-то неуверенно смеется. – Надеюсь, это не твоя куртка? – спрашивает Лейтон у каменщика. Тот мотает головой. Не будь в руке долото, перекрестился бы. – Клянусь святой Варварой, оно двигалось, – восклицает монах. Он мягко произносит: – Господа, как вы видите, там всего лишь одежда. И это англичане? Победители при Азенкуре? Страх блохами скачет по коже. Кто-то приносит лестницу и тычет в куртку длинным шестом, словно в повешенного. Он говорит каменщику: – Продолжай, любезный. Еще три удара. Каждый отдается во всем теле, так что екает сердце. Сдвигают крышку. Из-под нее бьет вонь, смрад, точно из чумной ямы. Это как удар дубиной по голове. Все пятятся. У него в кармане фляжка аквавита. Он делает глоток и передает фляжку Кристофу. Мальчишка отпивает, давится кашлем. – Обжигает, – с благодарностью говорит Кристоф. – Почему вы не давали мне этого раньше? – Я готов, – произносит каменщик. – Поможете мне, господа? Раз-два-три: они с каменщиком сдвигают крышку и кладут на пол. Доктор Лейтон заглядывает ему через плечо. В темноте монахи топчутся, шмыгают носом и молятся вслух. В сундуке человек бы не поместился. Ребер нет – если только ребра не тот прах, что сыплется сейчас между его пальцами. Длинные кости – берцовые, бедренные, локтевые и плечевые – сложены квадратом. А в центре квадрата – череп. Каменщик восклицает: – Боже милостивый! Я, сэр? Или вы? – Ты, – говорит он. – Подними так, чтобы все видели. Если это сделаю я, мне не поверят. Скажут, это ярмарочный фокус. Каменщик поднимает череп над головой. Свидетели ахают. Собаки рычат. Их силуэты мелькают в темноте. «Лежать, лежать!» – кричат псари. И только курточный человек парит с прежней невозмутимостью. Что ж, говорит Лейтон, либо оправленный в серебро череп Бекета, либо этот. Не бывает двухголовых святых. Смрад понемногу рассеивается, а может, растворяется в общей вони: холодного пота, кислого утреннего дыхания. Он готов поклясться, что кто-то из монахов обмочился – или, скажем, кто-нибудь из псов в нефе. Он уже различает их упругие мускулистые тела, открытые пасти и вываленные языки. Вертит череп в руках, ощупывает макушку, продевает пальцы в раздробленные глазницы. – Так откуда эта вторая реликвия? Если это череп Бекета, то кто безымянный бедолага в серебряной шапочке, целованный после смерти больше, чем в жизни? К чьей голове прикладывались губами принцессы? Умер ли он от лихорадки? Подавился сливовой косточкой? Как все было? Монахи сказали: «Он ничей, сделаем из него Бекета»? Потом вытащили труп во двор и порубили топором? Он кладет череп в сундук между скрещенными костями и замечает вслух: все здесь сплошной обман. Мы даже не знаем, Бекета ли эти кости. Может, тут смешаны несколько скелетов. Как же похолодало: будто год перемахнул разом от листопада к Рождественскому посту. Лейтон трет замерзшие руки: – Мы закончили, милорд? Я опишу все, что мы обнаружили. Я видел это собственными глазами. Колокол звонит к ранней обедне. Когда они выходят наружу, видны морозные облачка дыхания. В небе бледнеют звезды. – Милорд Кромвель, – говорит один из монахов, – мы приготовили… – Другая могила не понадобится. Король велел отвезти кости ему. Монах вытаращивает глаза, и только монастырская выучка не дает ему разрыдаться от отчаяния. – Его не перезахоронят здесь? – Снимите серебро с черепа, – говорит он. – Взвесьте и внесите в опись. Остальное положите в сундук вместе с другим черепом и прочими черепами, какие тут объявятся; я не удивлюсь, если у подлого изменника было шесть голов. Сундук я сегодня заберу с собой. Отдайте его мсье Кристофу. Запечатывать не надо. Собак уводят – они скулят и ворчат, но все-таки виляют обрубками хвостов. После ночи они ждут не дождутся завтрака. Мы тоже, если сумеем откашлять ядовитую вонь. – А дайте мне еще хлебнуть? – просит Кристоф. Он протягивает фляжку, говорит: «Можешь не возвращать». Затем тянет Кристофа к себе и шепчет ему в ухо: – Кости отвезешь в Остин-фрайарз. Если кто-нибудь спросит, где они, скажи, их погрузили на телегу и больше ты их не видел. Он думает, кости надо держать под рукой, чтобы вытащить сразу, как потребуют. Сейчас король ненавидит и презирает Бекета, однако может передумать и вновь объявить злодея святым. Печально, но в такое время мы живем. В этом месяце король одобрил новые постановления. Надо читать Библию, люди должны учить заповеди и Символ веры, священник должен мало-помалу наставлять их каждую неделю. – Но, милорд Кромвель, – говорит король, – не лишайте моих людей привычной церкви. Оставьте те образы, что достойны почитания. Сохраните все достойные обряды. Не пугайте моих подданных новыми чуждыми порядками. Немцы говорят: «Кромвель, мы знаем, что вы на нашей стороне, пусть даже вы осторожничаете». Хью Латимер говорит: «При вас за пять лет назначили на важные должности больше честных людей, чем за предыдущие сто». Томас Кранмер говорит: «Вы отдали ради Евангелия все, рисковали всем, что у вас есть». Роберт Барнс говорит: «Что, если король испугался?» Их голоса эхом отдаются в голове. Он уходит, чувствуя себя бесконечно усталым и разбитым. Где-то сегодня моя дочь Женнеке? Ощущение, будто он сам осушил фляжку. Вспоминается давний-предавний день: он на заре идет в Патни. Видит себя будто с качающихся древесных крон, маленькую фигурку в бледном свете, с привкусом рвоты на языке.
Октябрь приносит Стивена Гардинера; тот прикатил из Дувра со всеми пожитками и знает, что король на него гневается. Бесс Даррелл по разговорам, подслушанным в папистских домах, доносит, что кто-то в нашем французском посольстве весь прошлый год извещал Реджинальда Поля, где того подстерегают. Хорошо бы оказалось, что предатель сам Стивен. Епископ неизменно отстаивал верховенство короля в церкви. Однако все, знающие Гардинера, убеждены, что тот говорит одно, а думает другое. Хорошо, что удалось три года удерживать Стивена Гардинера вдали от Англии. Теперь он поручает Боннеру, нашему новому послу, перебрать бумаги Стивена на предмет измены. Боннер рьяно берется за дело. Чтобы придать ему веса, его сделали епископом Херефордским, и он едва верит своему счастью. Шлет из Франции ликующие письма, пересыпанные тем не менее обидами и жалобами в таких цветистых выражениях, что лорда – хранителя малой королевской печати разбирает смех. Мой предшественник, пишет Боннер, затягивал передачу дел и оставил после себя список посольских гостей, из которого видно, что он привечал папистов. А за обедами часто говорил, как король примирится с Римом, не теряя лица, и как он, Стивен Гардинер, епископ Винчестерский, этому поспособствует. – Смотри! – Он протягивает Рейфу письмо от Боннера. Какие же эти люди гусеницы, сжирающие все на своем пути, жиреющие на королевских милостях, прогрызающие дыры в общественном благе! Они закукливаются в пыльных углах и когда-нибудь выберутся из коконов во всей кричащей пестроте католических облачений. Боннер жалуется и на Уайетта. Уайетт был груб с ним в Испании, невыносим в Ницце. Держался скрытно. Проявлял беспечность в опасности. Уайетт ведет расточительный образ жизни, к нему постоянно шастают шлюхи. И еще, утверждает Боннер, Уайетт не простил королю своего заточения в Тауэре два года назад и часто высказывает свою обиду вслух. Он склонен этому верить. Он находит это естественным. Чернильной крысе Боннеру не понять такого, как Уайетт, свободного в делах и поступках. Ричард Рич говорит, я всегда удивлялся, что Уайетта назначили послом; он как будто из былых времен, когда кавалеры напропалую сорили королевскими деньгами и никто не требовал с них отчета. Фрэнсис Брайан вернулся в Англию при последнем издыхании. Король вычеркнул его из числа своих джентльменов, хотя Брайан и клянется, что предавался излишествам исключительно по долгу службы. Родственники увезли его в провинцию, откуда он пишет лорду Кромвелю слезные просьбы о заступничестве. – А ведь вам будет его не хватать, – замечает Ричард Кромвель. – Всякий раз, как вы не знаете, что делать, вы говорите: «Взять под стражу сэра Фрэнсиса Брайана!» Он ничего против самого Фрэнсиса не имеет и Наместником Сатаны называет его любя. Гадко, что люди просят места Брайана, хотя тот еще не умер. Он пишет Брайану письмо с пожеланиями выздороветь и просит доктора Лейтона отправить тому превосходных груш, которые доктор Лейтон выращивает в своем ректорате в Хэрроу-на-Холме. Мастер Ризли по пути через Антверпен отвез Женнеке его письмо. Ответа нет, чему он нисколько не удивлен: если она видит опасность, то не станет рисковать. Он думает о ней, видит ее сидящей под шпалерой, на которой выткана ее мать; яркая картинка на странице, в то время как Ансельма – выцветший текст. Ее приезд отмечает место в книге его жизни – книге, рассыпающейся на листочки. Печатники умеют читать в зеркальном отражении. Это их работа. У них ловкие пальцы и острое зрение. Однако открой любую книгу, и увидишь, что некоторые буквы перевернуты, некоторые перепутаны местами.
Ноябрь. Праздники Всех Душ и Всех Святых. За последние три дня Уильям Фицуильям шесть раз посещал Джеффри Поля в Тауэре. Фицуильям не пытал Джеффри, однако намекнул на такую возможность. После первого допроса арестант как-то раздобыл нож и пырнул себя в грудь. Племянник Ричард едет к арестанту. Присоединяет свои уговоры к уговорам Фицуильяма. Просто расскажите нам все, облегчите душу и молите короля о милости. Не ждите, когда сюда приедет мой дядя. Наконец приезжает он сам, лорд Кромвель: – Как сегодня Джеффри? Тюремщик Мартин отвечает: – Для человека с раной в груди вполне сносно. Врача пригласили сразу, тот сказал, рана пустяковая, через неделю и следа не останется. Вызвали жену Джеффри, леди Констанцию. На обратном пути в лодке она рыдала и твердила, что Джеффри погубит всю семью. Фицуильям сказал: «Надо допросить Констанцию в совете, она определенно много знает. Но пусть с ней прежде побеседует лорд – хранитель малой печати, он знает подход к женщинам». Все эти недели никто Джеффри не оскорблял, все обращались к нему почтительно. Однако с началом допросов его привилегии урезали. В камере чувствуется запашок. Джеффри не ест, щеки запали. При виде посетителя он кое-как поднимается с постели. Вежливость или испуг? – Кромвель, – говорит Джеффри. – Я слышал, вы себя порезали. – Он качает головой. – Господи, Джеффри, о чем вы думали? Вам надо снова лечь, или можете сидеть? Джеффри с сомнением глядит на табурет, словно подозревая подвох. Мартин помогает ему сесть. – Приходил Фицуильям, – говорит Джеффри. – С пятьюдесятью девятью вопросами. Кто составляет пятьдесят девять вопросов? Почему не шестьдесят? У него был заранее подготовленный лист, на котором надо писать между строк. Я сказал себе, это какая-то хитрость Кромвеля. Надо же, разграфленной бумаги испугался. Для Джеффри это такая же загадка, как гептаграмма или другая магическая фигура. – Так делают просто для удобства писарей, – объясняет он и садится напротив Джеффри, подбирая полы одежды. – Помогает вписывать дату и место, имена тех, кто присутствовал при изменнических разговорах или совершал изменнические действия. Для нас это удобно, если речь идет о крупном заговоре. Особенно если злоумышленники между собой в родстве и носят одну фамилию. Помните святую девственницу? Мы записывали ее допросы на таких же листах. – Бартон? Вы до сих пор мусолите ту историю? Бартон повесили. Наконец-то Джеффри вышел из оцепенения. Руки на столе дрожат. – Да, она благополучно в могиле, – говорит он. – Бедная деревенская простушка, которая и не думала бы об измене, не соблазни ее кентерберийские монахи. Она пророчила смерть королю и тогдашней королеве. Мне тоже пророчила. Мы все прокляты и умрем, говорила она, – я, мои племянницы, девушка, приносившая ей обед, когда она жила у меня, даже спаниель, который ночами согревал ей ноги, лежа на одеяле. – Она жила у вас? – Джеффри потрясен. – Не знал. Что вы с ней сделали? Он подается вперед: – Вам и вашим родственникам повезло, что вас не повесили вместе с ней. Вы увязли в кознях Бартон по самую маковку, вы и Куртенэ. Король пощадил вас из уважения к древности вашей крови. Но вы знаете, что я об этом думаю. Я уважаю вашу кровь не больше, чем ваше дерьмо. – Он поднимает голову. – Мартин, принеси, пожалуйста, две свечи. Вечер ранний, ясный, и, хотя окошко маленькое, снаружи еще довольно светло. Джеффри вздрагивает: – Не жгите меня! – Восковые, Мартин, – говорит он. – Маленькие. Чтобы жечь человека, сгодились бы сальные. Джеффри, сжавшийся было в комок, немного распрямляет плечи. Он говорит: – Я думал, мы с вами друг друга понимаем. – Кто вас поймет, Кромвель? – Я много лет платил вам денежное содержание и теперь вижу, что пустил деньги на ветер. Я платил вам, чтобы вы следили за родственниками, а теперь выясняется, что вы ничего не знаете. Это нерадение или глупость или вы меня нарочно водили за нос? – Когда Джеффри не отвечает, он добавляет: – Считайте это шестидесятым вопросом. Мартин вносит две свечи и подсвечник. – Джеффри, – говорит он, – у французских купцов есть обычай, который они называют vente à la bougie[162]. Допустим, у вас есть что-то на продажу. Может, тюки с шерстью, может, книга, а может, зáмок. Собираются заинтересованные стороны, пьют вино, обсуждают условия, а затем начинают предлагать ставки… и предлагают, пока горит первая свеча. Мартин, зажги свечу, пожалуйста. – Я ничего не знаю об этом обычае, – говорит Джеффри. – Никогда о нем не слышал. – Потому-то я вам его и объясняю. Когда свеча догорела, ставки прекращаются. Однако кто захочет заключать поспешную сделку? И продавцу, и покупателю нужно время подумать. Зажигают вторую свечу. Ставки могут повыситься. Когда догорает вторая свеча, сделка заключена. Хриплый смех. – Они так нерешительны, ваши друзья-купцы? – О, они мне не друзья, – отвечает он самым невинным тоном. – Просто какие-то французы. Я с ними лично не знаком. Однако знаю, как это бывает. При второй свече ставки растут сильнее. Каждый за столом думает: я предложил больше всех… и тут же видит, что покупка от него уплывает. Он шарит по карманам, просит у друзей взаймы – и обнаруживает, что заплатил намного больше, чем собирался. Так вот, вы предложили нам несколько жалких пенсов. Я думаю, с вас можно получить добрую тысячу фунтов. Покопайтесь в своих закромах и найдите, чем сможете меня убедить. – И что я получу? – спрашивает Джеффри. – Caveat emptor, – отвечает он. – Это-то самое увлекательное. Вам придется делать ставки вслепую. Он принес бумаги. Пока свеча горит зазря и Джеффри обливается пóтом, он выкладывает на стол стопку документов. Мартин приносит чернила, затем песок, и всякий раз, как тюремщик уходит за дверь, Джеффри провожает того глазами, как будто присутствие Мартина дает какую-то защиту. – Извините, – говорит он, – я воспользуюсь свободным временем. Мне надо ответить на письмо епископа Латимера. Он в Хэйлском аббатстве, разбирается с их мошенничеством. С тем, что зовется Святой Кровью. У Джеффри Поля дергается рука – при упоминании столь чтимой реликвии ему хочется осенить себя крестом, но осторожность берет верх. – Латимер говорит, это какая-то смола, но, когда ей показывают монеты простых людей, она становится жидкой. – Он возвращается к письму Хью. – Не бойтесь меня отвлечь, как будете готовы сделать ставку. Следующая бумага в стопке должна была бы отправиться Ричарду Ричу в палату приращений – речь идет о роспуске женского монастыря в Моллинге. Однако к листу приколота адресованная ему собственноручная записка аббатисы. Это Маргарет Вернон, наставница Грегори, заботливо учившая его писать свое имя и читать «Аве Мария». Я буду у вас, пишет она. Буду в пятницу. За один день мне из Кента и обратно не доехать. Я старею. Мне придется остановиться у вас на ночь. – Мартин, – говорит он, – я нутром чую, что мой друг скоро захочет мне что-нибудь рассказать. Принеси записи милорда Саутгемптона, чтобы они были у меня под рукой. – Саутгемптон, – кривится Джеффри. – Он разозлился, когда я назвал его просто Фицуильямом. – Понимаю. Если меня сделают графом, я буду ожидать от вас обращения соответственно моему титулу. – Вас? – хмыкает Джеффри. – Сказочка про края, где рыбы посуху гуляют. – А деревья распевают, – соглашается он. – Теперь я начну задавать вопросы. Вы будете отвечать. А я решу, могу ли принять ваши ответы. – У вас нет доказательств! – взрывается Поль. – Вы вменяете мне слова, слова, слова. Однако вы не можете подтвердить, что они вообще были произнесены. – У меня есть письма. – Мой брат жжет свои письма. – Ваш брат Монтегю? Почему, интересно? Кучка пепла может быть красноречивой. За окном темнеет. Он проглядывает заметки Фицуильяма, дает тишине время созреть. Чувствует на себе взгляд Поля. Первая свеча догорела, и Мартин, взглядом испросив у него дозволения, зажигает вторую от огарка. – Это то, что называется le dernier feu[163]. Пока свеча горит, я принимаю ставки. – Я не играю в ваши игры. – Уверяю вас, это серьезная сделка. Я по-прежнему предлагаю торг. Помогите мне заполнить графы. Часть уже заполнена, но, как видите… – он поднимает бумагу, – есть еще пробелы. Я предлагаю вам жизнь. Вы будете жить на моих условиях, не на ваших, тем не менее это будет ваша жизнь. Тихая жизнь. Вдали от двора. Я не жесток. Вы будете получать содержание. Достаточное для джентльмена. Пусть Поль это обдумает. Он возвращается к письму Маргарет Вернон. Она хочет заключить сделку. Давайте я продам одну из монастырских усадеб. Из этих денег я выплачу пенсион сестрам и рассчитаюсь со слугами. Оставшееся будет моей долей. Одинокой женщине хватит. Я знаю людей, у которых смогу поселиться. Он думает, у меня не выходит помогать женщинам. Доротее. Моей дочери. Леди Рочфорд. Они приносят мне свою боль и терзания. Говорят, что растеряны, сиротливы, утратили надежду. Я даю им деньги. Либо, в случае королевской дочери, лошадь, драгоценный камень, совет. Солнце зашло. Le dernier feu горит оранжевым светом. – Говорите, Джеффри. Когда последний огонь догорит, станет темно. Тогда я переломаю вам ноги. И это будет только начало. Поль вскакивает с табурета. От резкого движения пламя пригибается. Он, лорд – хранитель малой королевской печати, хватает подсвечник – дешевый, оловянный: – Не дергайтесь! Не сокращайте свое время. Вы еще можете поторговаться. Нет? В таком случае, Мартин, неси станок. – Станок? – спрашивает Джеффри. – Что это? – Нечто вроде тисков, куда мы зажимаем руку или ногу, чтобы сломать. Мартин не трогается с места. – Я уверен, – говорит тюремщик Полю, – что вы не хотите утруждать милорда. – Смотрите на свечу, – советует он. – Матерь Божия, спаси меня. – Не спасет, – устало говорит он. Снаружи всходит луна. Его мысли постоянно возвращаются к Маргарет и ее письму. – Знаете, – говорит он Джеффри, – мне все это надоело. Мартин, принеси заодно молоты. Он возвращается к бумагам. Просьба Маргарет Вернон необычна, однако вполне разумна. Условия указаны точно – эта женщина кое-что смыслит в законах, – цифры на первый взгляд выглядят достоверными. Джеффри на табурете пытается сжаться в струнку. Голова втянута в плечи, глаза закрыты. Если тронуть, почувствуешь, что каждая жилка в теле дрожит. Входит Мартин: – Это то, что вы просили, сэр? Станок скоро принесут. Он представлял себе деревянный молоток на короткой ручке, чтобы забивать клинья, фиксируя руку или ногу в станке. Мартин принес боевой молот с трехфутовой рукоятью. – Этим можно шотландцу башку раскроить, – любовно говорит он. Встает, забирает молот у Мартина. – Больше не нашлось? Ладно, пока сгодится. Боек тяжелый и холодит ладонь. Он взвешивает в руке молот целиком, держа боек под прямым углом к плитам, затем на пробу делает замах. Ощущение славное. Приятно развернуться всем телом, почувствовать миг равновесия, когда орудие тебе послушно, затем нарастающий рывок. В этом есть что-то пьянящее, как с женщиной, когда достигаешь точки невозврата. Звук, с которым молот ударяет в стену, мог бы разбудить мертвого. Джеффри вскакивает, роняет табурет: – Господи! Пламя свечи подрагивает, в ушах еще стоит звон. Он говорит: – Можем начать без станка. Вероятно, он сейчас нужен в другой камере. Мартин, тебя не затруднит забрать бумаги? Это королевские документы, я не хочу забрызгать их кровью. Правой рукой он сжимает молот, левой гасит фитиль.
Позже, за дверью, Мартин обессиленно прислоняется к стене: – Вы сказали, принеси станок. Матерь Божия, подумал я, что ему нужно, я не знаю никакого станка. – Такие бывают. Я их видел. Не здесь. В других тюрьмах. – Могу представить, какие они, – говорит Мартин. – Вот и Джеффри представил. В камере рыдает арестант; руки-ноги у него целы, даже не поцарапаны. – Но вы бы это сделали? – спрашивает Мартин. Единственный факел на стене почти не рассеивает тьму. Где-то капает вода, точа камень. В таких местах хуже всего запахи – затхлый воздух, металлический душок свежей крови, резкая вонь мочи. – Я хочу сказать, – говорит Мартин, – вы могли бы переломать человеку ноги, а затем вернуться домой, к ужину и семье? – У меня нет семьи. – Извините. Знаю, что нет. – Хотя, – вспоминает он, – я теперь дед. – Я видел, как арестантов подвешивали, – говорит Мартин. – Рано или поздно все случается увидеть. Он ощущает в груди тупую тяжесть, будто от головки молота. Ему хочется вернуться в прошлое, в мгновение до того, как Джеффри заговорил. Хочется снова размахнуться молотом. Рукоять была большая и гасила удар, так что тот почти не отдавался в руке. – Когда человека вешают за запястья, его тянет вниз собственный вес, – говорит Мартин. – Можно сказать, он сам себя истязает. Кандалы дают нужный результат за двадцать минут. Холодный пот хлещет у подвешенного изо лба, как из крана. Если время поджимает, можно привесить к ногам гири. Вы сидите в другом конце комнаты, держа перо над бумагой, – незачем нюхать чужую вонь. Когда вы запишете первые слова признания, свежие, как молодая весенняя листва, тюремщики подойдут и сотрут слезы, сопли, дерьмо, сползающее по ногам. – У нас есть дыба. – Мартин указывает движением головы. – Мне случалось проходить коридором, когда ее пускали в ход, так что я слышал, как это бывает. Хороший вопрос. Позволять ли арестанту вопить? Некоторые палачи говорят, от собственных криков узник пугается еще больше и быстрее ломается. Другие считают, что крики неприятны остальным присутствующим – писарям, судейским. На этот случай есть способы заглушить звуки так, чтобы допрашиваемый не задохнулся. Он говорит: – В Испании, когда жгут тех, кого там называют еретиками, их ведут по улицам. Одевают в белое, выбривают им головы, а иногда и брови, чтобы походили больше на кукол, чем на людей. Заставляют каждого нести свечу, будто он сам зажжет свой костер. Тащат босым по мостовой, так что остается кровавый след. И у каждого к одежде приколота бумага с перечислением его ереси, а сзади идут монахи с серебряными крестами и распевают псалмы. И народ выстраивается на улицах, на ярмарочных площадях, чтобы на это поглазеть. Но когда весь город насмотрелся на осужденных, их жгут в тюремном дворе, без свидетелей, с кляпом во рту. – Вы бывали в Испании, сэр? – Нет, но Томас Уайетт мне рассказывал, а когда Уайетт рассказывает, это все равно что увидеть своими глазами. – Если ваша милость помнит, я имел честь служить мастеру Уайетту, когда он был под стражей последний раз. Добрый и щедрый джентльмен, – уважительно произносит Мартин. – Чересчур щедрый, – замечает он. – Вот что, Мартин. Не давай Джеффри больше себя увечить. Выверни его одежду наизнанку, убедись, что у него даже булавки не осталось. Больше с ним затруднений не будет. Король не станет истязать представителя древнего рода. Насколько я помню, в его правление такого не бывало. Однако могут ли они на это рассчитывать? Король делает много такого, чего прежде в заводе не было. – Он не допрашивал узников, – говорит Мартин. И не подтирал затем полы. И не отчищал прижаренное мясо от цепей на месте казни. – Что понудило тебя стать тюремщиком? – Надо чем-то кормиться. – Ты мог стать честным фермером. – И резать свиней? Он имел в виду: сеять. Жать. В невинном и чистом мире люди питаются яблоками, молоком и хлебом, таким белым и мягким, точно ешь свет. Он говорит: – Сюда направляется Уильям Фицуильям. И Ричард Рич, и мой племянник Ричард. Теперь, когда Джеффри заговорил, они смогут заполнить графы. И тогда мы возьмемся за его родичей. Удачный день. И всего-то делов – грохнуть молотком по стене. – Когда они закончат, отведи Джеффри наверх, – продолжает он. – Принеси ему ужин, если сможет есть. Мясо ему нарежь сам. Вид у Мартина пристыженный. – Когда мы забрали у него нож, он угрожал повеситься на потолочной балке. Вряд ли у Джеффри хватит на такое решимости. – Этого я бы не опасался. А если и повесится, ничего страшного. Лишь бы не оставалось сомнений, что он сделал это сам. – Вы хотите, чтобы я дал ему веревку? – Так далеко я бы не заходил. Вскоре прибывает подмога в сопровождении своры писарей с чернильницами и бумагой. – Оставайтесь на свежем воздухе, ребята, – советует он писарям. – Или идите с Мартином, он угостит вас элем. Ричард Рич все для нас запишет, ведь так, Ричард? У меня к Джеффри еще шестьдесят два вопроса. Если мы устанем, мы вам свистнем. Писари радостно уходят. Он провожает их взглядом, пока они идут по коридору и поднимаются по винтовой лестнице. Он говорит: – Джеффри будет вас путать. «Клянусь, это было в октябре, хотя, возможно, в марте» и «Полагаю, это было в Сассексе, хотя, может, и в Йоркшире», «То ли это была моя матушка, то ли Батская Ткачиха». Заставьте его говорить об угрозах самому королю – угрозы королевским советникам не новость, мы знаем, что Монтегю нас ненавидит. Шапюи один из главных заговорщиков, это тоже не новость. Однако я предполагаю, что Франциск вовлечен глубже, чем пристало монарху. – Если французы к нам вторгнутся, – говорит Ричард Кромвель, – думаю, он посадит на трон короля Шотландского. – Да. Но люди Эксетера этого не знают. И Поли тоже. Они так гордятся своими особами. Считают, что все станут королями. – Боюсь, у нас слишком мало свидетельств против Эксетера, – говорит Фицуильям. – Он осторожен и заметает следы. Джеффри расскажет нам довольно о своих родных, но… – И тем замарает Эксетера, – говорит Ричард Рич. – Все знают, что эти два рода заодно. – Не забывайте, у меня есть женщина в доме Куртенэ, – говорит он. – Какая-нибудь прачка? – спрашивает Рич. Фицуильям смеется: – Пусть Кромвель действует своими методами. Рич говорит: – Не представляю, как на сей раз выгородить леди Марию. Уж если они собирались посадить ее на трон, то, уж наверное, не без ее ведома? – Какая жалость, – замечает Фицуильям. – Погубить принцессу из-за одного лишь подозрения. Он говорит: – Они злоупотребили ее доверием. Она не пошла бы против родного отца. – Мы это уже проходили, – говорит Рич. – Вы чересчур мягки. Не видите ее истинную натуру, сэр. – Что вы сделали с Джеффри? – спрашивает Фицуильям. Он сует бумаги под мышку. Они перевязаны бечевкой, записка Маргарет Вернон вместе со всем остальным. Он перебирал в голове ее выкладки, покуда Поль давал признания. – Пошумел немного, – говорил он. А про себя думает: страх поселился у него под ложечкой. Когда я делал что-либо еще? Через неделю ему расскажут, что лондонцы говорят: Джеффри Поля пытали в Тауэре. Привязали к решетке и поджаривали, как святого Лаврентия. И сделал это Томас Кромвель.
При виде Маргарет Вернон он только что не вздрагивает. Непривычно видеть ее в наряде обычной горожанки, хотя он сам рекомендовал монахиням отказаться от черных одежд. Мода меняется. Женщины снова не прячут волосы. У Маргарет они седые. Он спрашивает: – Какого цвета они были раньше? – Неопределенного. Псивые. Он в гостиной Остин-фрайарз. Она его ждала. Он чувствует, что следовало бы сменить платье, как будто на нем кровь, хотя в Тауэре не пролилось и капли крови. Джеффри сознался, что хотел бежать за границу к брату Реджинальду с отрядом воинов. Рассказал о сговорах в закрытых комнатах и садовых беседках, интригах за ужином и после мессы. Передал подслушанные сомнительные разговоры: родных Томаса Мора, епископа Стоксли. С каждой произнесенной шепотом фразой круги расходятся все шире. Подписывая сегодняшние показания, Джеффри молит короля о милости. Выводит под страницей: «Ваш смиренный раб, Джеффри Поль». Маргарет говорит: – Вы располнели, Томас. У вас такой вид, будто вы совсем не бываете на воздухе. – Иногда я пытаюсь поохотиться с соколами, – говорит он. – Однако король может потребовать меня в любую минуту. Знаете, венецианцы рисуют на кораблях линию, чтобы их не перегрузить. У меня нет такой линии. Или есть, но король ее не видит. – Вам не хватает помощников? Все эти молодые люди… Он думает: никто мне не поможет. Есть только Генрих и Кромвель, Кромвель и Генрих. – Как-то я хотел отдохнуть в Михайлов день, потому что он у юристов выходной, однако король не разрешил – у него, мол, выходных нет, он правит каждый день. Я отвечаю, но, ваше величество, вы – помазанник Божий, вам дана особая благодать, и потому вы никогда не устаете. Он говорит, меня короновали тридцать лет назад, благодать, видимо, исчерпалась. – Вам следует жениться. – Что ж, найдите мне жену. Если знаете хорошую женщину, отправьте ее ко мне. Ей необязательно быть очень умной, не обязательно быть молодой, я не ищу приданого, так что она может быть без гроша. Лишь бы она не была паписткой и не внесла разлада в мой дом. Маргарет смеется: – Жаль, потому что скоро из нашего монастыря выгонят много девиц, но, боюсь, некоторые из них держатся римской веры. Я – нет. Я присягнула королю, и присягнула искренне. Он говорит: – Думаю, король не позволит женщине выйти замуж, если та была монахиней. Если она приняла постриг. – Так где мои сестры будут жить? В Саутуорке, в домах терпимости? Ему хочется сказать, не сердитесь. Вокруг меня столько сердитых людей. – Вам надо повидаться с Грегори. Если вам негде жить, он возьмет вас к себе. Я уверен, он будет рад, если вы станете учить его сына, как учили его. Она мотает головой: – Я поселюсь с несколькими сестрами. Мы будем необузданные женщины, без господина. – Пойдут сплетни. – Мы для этого слишком старые. Люди будут жалеть нас, оставлять яблоки перед дверью. Будут приходить к нам за снадобьями и амулетами. И все же, – ее лицо мягчеет, – мне бы хотелось увидеть моего мальчика. – Моя жена Элизабет к вам ревновала. – В этом не было нужды, – спокойно отвечает Маргарет. Он думает: если можно постановить, что Екатерина Арагонская была не жена, если можно постановить, что Анна Болейн была не жена, нельзя ли постановить, что Маргарет Вернон не монахиня? Не сыщется ли в бумагах какая-нибудь ошибка? Тогда она будет свободна. Но что толку? Она умрет и оставит меня одного. Или я умру и оставлю ее одну. Не стоит оно того. Никто такого не стоит.
В первую неделю октября он берет под стражу лорда Монтегю и маркиза Эксетерского. А также Констанцию, жену Джеффри, и маркизу Гертруду. И еще нескольких старых друзей короля. Он отправляет Фицуильяма в сассекский замок Маргарет Поль с наставлением, если потребуется, допрашивать ее день и ночь. Однако Фиц не может ничего от графини добиться. Она отвечает охотно, пылко и четко. Отрицает какие-либо дурные поползновения или намерения. Когда Фицуильям называет ее сына Реджинальда неблагодарным ублюдком, она говорит: нет, он не ублюдок; я всегда была верна господину моему супругу, всегда была безупречной женой. Она признает, что выражала радость, когда Реджинальд избежал ареста; как-никак, она его мать. Да, ей известно, что он презирает ее за верность Тюдорам. Известно ли ей, что Реджинальд обещал ее растоптать? Она поджимает губы. «Знаю и должна с этим смириться». Фицуильям велит Маргарет Поль собирать вещи – хочет перевезти ее на носилках к себе. Ваше имущество будет описано, говорит Фиц, и она понимает: судьба от нее отвернулась. По словам Фица, в этот миг на лице Маргарет Поль впервые проступило отчаяние. Но куда сильнее отчаяние леди Фицуильям, когда та узнает, что графиня Солсбери переезжает к ним на неопределенный срок. Сам он допрашивает в Тауэре старшего сына Маргарет. Монтегю держится надменно, часто отказывается отвечать. – Милорд, свидетели показали, что вы с детства не любили короля. Монтегю пожимает плечами: мол, это моя привилегия. – Из вашего дома исходили лживые слухи, будто приказано снести приходские церкви. Вам известно, что именно такие слухи побудят простой люд взяться за оружие. Почему вы не вмешались? – Трудно остановить слухи, – говорит Монтегю. – Если вы умеете это делать, научите меня. Заверяю вас, не я их распускал. – Говорили ли вы… – он сверяется с бумагами, – что король убил первую жену недобрым обращением. Что затем он женился на шлюхе и родил незаконную дочь? – Бабьи разговоры. – Говорили ли вы, что турецкий султан – лучший христианин, чем наш король? – Это вам Джеффри сказал? – Монтегю смеется. Он продолжает: обсуждал ли Монтегю с лордом Эксетером, какое войско вы сможете собрать вдвоем? Говорил ли тот, что мало убить королевских советников, надо добраться и до их главы? Разве это не прямая измена? – Полагаю, такие слова и впрямь были бы изменой, – отвечает Монтегю. Он идет к маркизу Эксетерскому. Тут у него козырей куда меньше, и Эксетер это знает. Однако и Поли, и Куртенэ в последние годы увольняли любого слугу, заподозренного в приверженности новому учению или в чтении Библии, и тем вырыли глубокий колодец недовольства, откуда он может теперь черпать. Нужно только не полениться и раздобыть ведро. Он говорит: – Лорд Эксетер, вы присутствовали при разговоре, когда короля назвали скотом. Эксетер закатывает глаза: – Это все, что бедняжка Джеффри смог вам сказать? – Вы говорили, что король и Кромвель друг друга стоят, оба губят страну ради собственных вожделений. Эксетер возводит очи горе. – Разве вы не говорили: «Все притязания короля на божественную власть бессильны исцелить его раненую ногу»? Разве вы не сказали: «Рана в ноге когда-нибудь его убьет»? И разве вы не сказали: «Когда Генрих умрет, то прощай, господин Кромвель»? Эксетер не отвечает. – Разве вы не сказали: «Да, у нас есть принц, но он скоро умрет, весь тюдоровский род проклят». Эксетер вскидывается: – Я не призываю проклятья ни на чью голову. – Да, – говорит он. – Бабьи разговоры. Может, ваша жена призывает? В разговор вступает Ричард Кромвель. Принимал ли лорд Эксетер монастырские земли? Да. Принимал ли он их по доброй воле? Да. Оправдывал себя, говорил, Господь его простит, потому что со временем это все вернется монахам? Молчание. – Как такое может случиться? – спрашивает Ричард. – Если король покается и решит их вернуть, – говорит Эксетер. – Или вновь подчинится Риму? – Вы не можете этого исключить. Он бьет кулаком по столу: – Могу, поверьте. Он говорит с Гертрудой, женой Эксетера. Она по-мужски энергична и предприимчива, делает все для блага семьи, в которую вышла замуж. Ее мачеха была испанка, одна из фрейлин Екатерины. Немудрено, что ее тянуло к обществу императорского посла Шапюи. Немудрено, что они делились друг с другом сокровенными мыслями. Гертруду смутить непросто. До сих пор он ее не трогал, так что она считает его мягкосердечным. – Я молю короля смилостивиться. Видит Бог, миледи, в вашем случае он явил большое снисхождение. Сам я всегда верю, что люди исправятся. – Он печально смотрит на Гертруду. – И часто бываю разочарован. Выйдя от нее, он говорит своим людям: – Надо взять под стражу мальчика. Сына Эксетера. Все смотрят на него ошарашенно. Он говорит: – Король никогда не причинит вреда ребенку. Но все равно привезите его. Ричард Кромвель поясняет: – Мы не можем допустить, чтобы сына Эксетера вывезли за границу и собрали вокруг него сторонников. – И сына Монтегю тоже привезите, – добавляет он. – Генри Поль примерно того же возраста. Это катастрофа. Все древние семейства падают, словно кегли в игре великанов; летят с полок, как горшки во время землетрясения. Бесс Даррелл привозят в Тауэр. Никто не удивлен, поскольку допрашивают всех дам Гертруды. Бесс, как всегда, выглядит ангелом: золотые волосы, глаза-васильки. Она передает ему все записанные факты и скопированные письма. Рисунки изменнической вышивки: фиалку Поля, календулу Марии. Однако в конце разговора она спрашивает: – И что дальше? Мне вернуться и жить с этими людьми? Как отвечать на вопрос, что я сказала Кромвелю? – Ответьте, что рассказали мне свои сны. В этом семействе придают огромное значение снам. Постоянно записывают их, запечатывают и шлют друг другу с курьером. Судя по всему, им часто снится, что король умер. Иногда – что Джейн Сеймур является в саване, говорит королю, что ненавидит его и он проклят. – Вы не можете вернуться к Куртенэ, потому что их больше нет. Отсюда вы поедете в Аллингтон, – говорит он. Бесс поднимает голову: – И что я буду там делать? – Жить тихо. – Вы вернете Уайетта в Англию? Он кивает: – Хотя не могу сказать когда. – Говорят, король им недоволен. – Он всеми нами недоволен. Он думает: мы даже не знаем, жив ли еще Уайетт. Но я верю в его умение чуять опасность и уходить от нее. Или замирать, если так лучше: Уайетт стоял неподвижно, пока львица к нему подкрадывалась. Бесс Даррелл говорит: – Лорд Монтегю называет Англию тюрьмой. Твердит, что последние шесть лет был за решеткой. – Но так и не попытался сбежать, – говорит он. – Как же они мне противны. Жалкие трусы. Сбеги он за море к Реджинальду, я мог бы его хотя бы уважать. Он бы показал себя мужчиной, с которым не стыдно сразиться. – Это упростило бы вам задачу, поскольку было бы явной изменой. Но помимо того, что вы получили от меня, у вас есть только лепет Джеффри и пересуды кухонных мальчишек. Монтегю и Эксетер не скажут того, что вам нужно, если вы не вырвете из них измену силой, а этого вы не можете. – Я весьма изобретателен, – тихо произносит он. – И ваши показания мне очень помогли. – Но подумайте, милорд. Если считать изменой любые неодобрительные слова о короле или его делах, кто останется в живых? – Я, – отвечает он. Генрих и Кромвель. Кромвель и Генрих. – Эксетер думает, все переменится. Он знает, что Генрих боится отлучения. Думает, угроза заставит короля вернуться под власть Рима. – Этого не будет, – говорит он. – Слишком много сказано и сделано в Англии. Король не сможет противостоять переменам, даже если захочет. Если я проживу еще год-два, то сделаю так, что никакая земная сила не обратит наши свершения вспять. И даже если Генрих отступится, я не отступлюсь. Я сам выйду сражаться за правое дело. Даже в мои годы я еще в силах держать меч. – Вы поднимете оружие на Генриха? – Она не в ужасе, ей скорее забавно. – Я этого не говорил. Бесс смотрит на свои руки, на кольцо Уайетта у себя на пальце. – А мне думается, сказали.
Середина ноября. С наступлением серых слякотных дней можно наблюдать, как кембриджец, священник, совершает медленное прилюдное самоубийство. Один человек бросил вызов королю: один боец, ростом с хлебную крошку, вооружен соломинкой, вышел против исполина. Его зовут Джон Ламберт, хотя от рождения он был Николсоном. Ламберт – рукоположенный священник; Маленький Билни обратил его в евангельскую веру. Он отправился в Антверпен, был капелланом у английских купцов, встречался с теми, с кем встречаться опасно, в том числе с Тиндейлом. Говорит, Томас Мор обманом заманил его обратно в Англию. Старый архиепископ Кентерберийский, Уорхем, привлек Ламберта к суду за ересь, предъявил ему сорок два обвинения. Ламберт все их отверг. Да, он читал книги Лютера и убежден, что стал от этого лучше. Да, он согласен с утверждением Лютера, что священникам можно жениться. Вопрос свободы воли, по его мнению, для простого человека слишком сложен. Однако он верит, что только Христос, а не священники может отпускать грехи. Нам довольно одного Писания; правила, выдуманные Римом, не нужны. В середине слушаний Уорхем умер. Дело заглохло. Но за пять лет Ламберт осторожнее не стал. В Остин-фрайарз – без писарей, без записи – Томас Кранмер пытался его урезонить. Он, Томас Кромвель, яростно с ним спорил. Роберт Барнс стоял рядом с перекошенным от страха и ненависти лицом и наконец заорал: – Вы, как бы вы там себя ни называли, Ламберт, Николсон, вы нас всех погубите! Кранмер сказал: – Мы не спорим с вашими взглядами… – Нет, спорим, – возразил Барнс. – Хорошо, спорим… но, главное, будьте осмотрительны. Наберитесь терпения. – Что, ждать, пока вы до меня доползете? Будьте мужчиной, Кранмер, встаньте за правду. Вы ее знаете, в душе. Барнс говорит: – Ламберт, вы ставите под сомнение само крещение. – Крещение есть в Евангелии. Но не крещение младенцев. – …и ставите под сомнение таинство евхаристии. И если вы так говорите, если вы говорите так открыто, я не могу и не буду вас защищать, и он, – Барнс указывает на архиепископа, – тоже не будет, и он, – Барнс указывает на хранителя малой печати, – тоже. – Я скажу вам, что я сделаю, – отвечает Ламберт, – я избавлю вас от терзаний. Обращусь через вашу голову к самому королю. Он – глава церкви. Пусть Генрих меня судит.
Король – пусть никто не удивляется – принял вызов. Он будет публично дискутировать с Ламбертом в Уайтхолле. «Кромвель, придут ли послы?» Европа называет Генриха еретиком – так пусть Европа увидит и услышит, как он защищает нашу общую веру. Поль утверждает, будто король уступает в учености блаженной памяти Мору и Фишеру. Генрих докажет обратное. Для зрителей расставлены ряды скамей. – Дай Бог, чтобы король не опозорился, – говорит Рейф Сэдлер. – Ламберт знаток языков. Может цитировать Писание на древних языках и на новых. – Я всегда говорил королю, что довольно английского, – скорбно произносит он, а про себя думает: за каждое очко, которое выиграет Ламберт, достанется мне. Он всячески отговаривал короля от публичного диспута. Вам незачем отвечать Ламберту, у вас есть для этого епископы. Однако Генрих не слушает. Лишь за день до дебатов король замечает беспокойство своих советников: – Что, вы за меня боитесь? Я в силах дать отпор любому еретику. И я должен нести факел веры высоко, чтобы видели и друзья, и враги. Он спрашивает, а когда ваше величество начнет его нести? – Около полудня, – отвечает Генрих. – И к полуночи мы управимся. Рано утром перед дебатами он принимает жену Лайла, приехавшую из Кале. Меньше ее он хотел бы видеть до завтрака только Стивена Гардинера. Леди Лайл его не любит и дает понять, что речь и манеры выдают в нем лакея. И тем не менее она весело щебечет об условиях, на которых продаст свое глостерское имение. Можно подумать, в Кале все замечательно; как будто нет доносчиков, которые являются в его дома, иногда прямо с корабля, зеленые от морской болезни. Леди Лайл не упоминает тех, кто сейчас в Тауэре, хотя наверняка состоит с ними в родстве, – все эти семейства между собой связаны. Только говорит: – Слышала, вы очень заняты, лорд Кромвель. Впрочем, занятость не мешает вам находить время для покупки земли? Я сказала мужу, не сомневайся, Кромвель меня примет. У меня есть то, что ему нужно. – Как поживает милорд Лайл? Джон Хуси говорит, он в меланхолии. – Его ободрила бы награда за долгую службу. – Король предложил ему двести фунтов в год. – Меня бы устроило четыреста. Он прячет улыбку: – Я спрошу. Ничего не обещаю. – Если король преуспеет в споре с еретиком, то будет сегодня вечером в хорошем расположении духа. Что ж, – она встает, – мне пора. Чем скорее я вернусь в Кале, тем больше обрадуется мой муж. Он говорит, что охотнее расстался бы со ста фунтами, чем со мной на неделю. – Будь у него сто фунтов, – брякает он, не подумав. – Это от вас зависит. Вы же постараетесь, господин Кромвель? – Она смеется. – Я должна была сказать «милорд». – Да, – говорит он. – Пора бы уже запомнить. – Я не хотела вас унизить. Кем вас король сделал, тот вы и есть. Но мудрено ли, что мой супруг несчастен? Он говорит, ничтожества богатеют, а мы еле сводим концы с концами. Леди Лайл не может найти себе прислугу, настолько она требовательна. Однако старый Лайл ее любит – свою самовлюбленную и властную молодую жену.
Одиннадцатый час. В Вестминстере ждут епископы, члены королевского совета, приближенные джентльмены, мэр, олдермены, старшие члены гильдий. Кристоф, подавая ему джеркин, напоминает: – Там с вами будет епископ Гардинер. Уж сегодня он потешит душу, ведь бедного Ламберта же точно сожгут? Как можно отрицать крещение? До того как святого Христофора крестили, он был людоедом с песьей головой и звался Страхолюд. После крещения он стал человеком и смог молиться, а до того умел только лаять. Он говорит: – Знаю, что Кристоф не настоящее твое имя. У тебя было другое. Фабрис, да? – Кристоф было мое имя в Кале. На Кокуэлл-стрит. До Фабриса, еще совсем маленьким, я был Бенуа. Но не важно, как меня крестили. Я забыл. Он думает, Ламберта погубит не крещение, а corpus Christi, Тело Христово.
Стивен Гардинер входит стремительно; он замедляет шаг, оба останавливаются, разворачиваются грудью, одновременно снимают шляпы – безукоризненная учтивость. Однако Стивену учтивости хватает лишь на миг. – Не знаю, что вы тут творили в мое отсутствие, – говорит Стивен. – Не понимаю, почему вы терпели анабаптиста. Если вы не сам такой. В воображении он сбрасывает джеркин, закатывает рукава и бьет Стивена в нос. Какая досада! Стивена не было три года, а желание двинуть ему в морду ничуть не ослабело. – Да неужто похож? – говорит он. – Те, кого вы называете анабаптистами, не присягают. Не служат королям. Не трудятся на общее благо, не подчиняются магистратам, а главное, не дают детям книг. Они любят невежество. Считают, что мы живем в последние времена, так зачем чему-нибудь учиться? Зачем сеять и жать? Урожай не понадобится. – Что же, – замечает Гардинер, – разумно, если верить, что Христос придет скоро. Я в это не верю, но полагал, что, возможно, верите вы. – Вам известно, что я не имею ничего общего с этой сектой. – Быть может, и не имеете. – Стивен улыбается. – Во всяком случае, вы, очевидно, думаете о завтрашнем дне. Собираете себе сокровище на земле, не так ли? Собственно, вы почти ничем больше не занимаетесь. – Теперь вы вернулись в Англию и увидите, чем я занимаюсь.
В полдень под звуки труб выходит король. День пасмурный, но Генрих в белом с головы до ног, похож на сказочную ледяную гору. Король садится на помосте под балдахином. Ярусы скамей заполнены зрителями. Духовенство сидит по правую руку от короля, дворянство – по левую. Залу богато украсили флагами и штандартами, принесли из гардеробной шпалеры, так что теперь на собравшихся смотрят библейские фигуры: Даниил, Иов, Соломон без царицы Савской. Он, викарий короля по делам церкви, садится. Епископ Тунстолл вежливо ему кивает. Епископ Стоксли обжигает его взглядом. Барнс сидит как истукан. Кранмер как будто съежился. Хью Латимер то вскакивает, то садится, подбегает к одному, к другому, хлопает по плечу, шепчет на ухо, передает записочки. Он говорит Кранмеру: – Хью Латимер дал королю наставления? – Мы все дали ему наставления. – Кранмер удивлен. – А вы разве нет? – Я не посмел бы. Он ближе к Богу, чем я. Вводят Джона Ламберта. Тот ступает твердо, лицо решительное. Однако, когда он озирается по сторонам, видно, что величие зала его ошеломило. Он смотрит на короля, на сияющую ледяную гору, и не знает, преклонить колено или отвесить поклон. Он, Томас Кромвель, видит, что доктор Барнс улыбается. Слышит, как Стоксли поудобнее устраивается на скамье. Оборачивается в негодовании: – Чуточку милосердия? – Тсс, – говорит Кранмер. Для Ламберта воздвигли помост, чтобы его было видно всей зале. При виде помоста он замирает, будто конь, заметивший между деревьями тень. Ему говорят подняться, и он вползает по ступеням, будто на эшафот. Поворачивается к королю. Косится на залу, ищет в тусклом полуденном свете знакомые лица, но, разыскав их, натыкается на каменные выражения. Генрих подается вперед. У диспута нет прецедентов, а значит, нет и правил, но король решил вести себя как в суде: – Ваше имя? Джон Ламберт привык защищать свои взгляды в тесных комнатушках; он смел, но ему не по себе на этих высотах, где король чувствует себя господином. Голос звучит слабо, будто долетает из другой эры: – Я родился Джоном Николсоном, однако известен под именем Джон Ламберт. – Что? – изумляется король. – У вас две фамилии? Ламберт пятится. Встает на одно колено. Гардинер шепчет: – Умно, приятель. Король говорит: – Я не доверял бы человеку с двумя фамилиями, будь он хоть мой брат. Ламберт оторопел от того, как просто говорит король. Чего он ждал – высокоученой речи? Это еще впереди, но Генрих безошибочно движется к предмету их разногласий: – Тело Христово. Присутствует ли оно в таинстве? Говоря «corpus Christi», король благочестиво касается рукой края шляпы. Ламберт примечает этот жест, и его плечи опускаются. – Ваше величество столь учены, столь мудры… – Ламберт, Николсон, – перебивает король, – я пришел сюда не выслушивать лесть. Просто отвечайте. – Святой Августин говорит… – Я знаю, что говорит Августин. Я хочу услышать ваш ответ. Ламберт морщится. Он стоит на одном колене и не знает, когда можно встать. Такую пытку он устроил себе сам. Король смотрит на него в упор: – Ну? Что вы скажете? Это Тело Христово, Его кровь? – Нет, – говорит Ламберт. Стивен Гардинер легонько хлопает себя по колену. Епископ Стоксли говорит: – Можно складывать под ним костер. Чего тянуть? У короля вспыхивают щеки. – А как насчет женщин, Ламберт? Позволено ли женщине учить? – В случае нужды, – отвечает Ламберт. Епископы стонут. А слово «пастор», спрашивает король, как Ламберт его понимает? Слово «церковь»? Слово «покаяние»? Нужна ли верным устная исповедь священнику? Считает ли он, что духовным лицам можно вступать в брак? – Да, – говорит Ламберт. – Каждый человек должен жениться, если он не чувствует призвания к безбрачию. Апостол Павел ясно об этом говорит. Роберт Барнс тихонько просит его извинить. Встает, идет по ногам ученых богословов. – Милорд архиепископ, – говорит король, – докажете ли вы Ламберту, или Николсону, его неправоту? Кранмер встает. Катберт Тунстолл подается вперед: – Милорд Кромвель, почему у Ламберта две фамилии? Кажется, это смутило короля не меньше еретических взгля-дов. – Полагаю, он сменил фамилию, дабы избежать преследования. – Хм… – Тунстолл вновь опускается на скамью. – Лучше бы он сменил взгляды. Кранмер на ногах, растерянный: – Брат Ламберт… В задних рядах кричат, что его не слышно. Возвращается Роберт Барнс. Снова идет по ногам. Извините меня, милорды, извините. Лицо зеленое, как будто его вывернуло. Может, и правда вывернуло. Кранмер говорит: – Брат Ламберт, я приведу некоторые цитаты из Писания, которые, я полагаю, доказывают вашу неправоту, и если вы признаете, что тексты эти убедительны, то, полагаю, должны будете согласиться с мнением короля и моим. Если же нет… Стивен Гардинер ерзает, комментирует себе под нос каждое слово Кранмера. Епископ Шакстон на него шикает. Хью Латимер мечет в него гневные взгляды. Стивену нет дела ни до кого; он вскакивает еще до того, как закончил Кранмер. Катберт Тунстолл говорит: – Милорд Винчестер, следующим, кажется, выступаю я? Гардинер скалится. Тунстолл взглядом ищет помощи: – Джентльмены? Кранмер оседает в кресло. Хью Латимер говорит: – Быть может, следующим выступит викарий по делам церкви? Он, Кромвель, поднимает ладонь: не я. Епископ Шакстон размахивает списком: – Гардинер, вы шестой. Сядьте! Епископ Винчестерский не слушает никого. Говорит и говорит, задает вопросы, заманивает Ламберта в ловушку, в пламя, где тот будет вопить, обливаясь кровью.
Два часа. Король поучает; его слова искусны, порой убийственно метки, порой смиренны. Он не хочет убивать Ламберта, ему это неинтересно. Он хочет победить в споре, чтобы в конце Ламберт уничиженно признал: «Сир, вы лучший богослов, чем я; вы меня наставили, просветили и спасли». Франциск не дискутирует с подданными лицом к лицу, да ему это и не по силам. Император не бьется за спасение одного жалкого подданного. Они бы вызвали инквизиторов и пытками вырвали у Ламберта покаяние. Он, Кромвель, думает о турнире, о счете, о записях: «…преломлено о тело». Каждый раз король придерживает коня и опускает копье, предлагая Ламберту пощаду. Я дарую тебе жизнь – если отступишь, покоришься и будешь молить. На вопрос, верит ли он в чистилище, Ламберт отвечает: – Я верю в воздаяние. Через чистилище можно пройти в земной жизни. – Это хитрость, – бормочет Латимер. – Король и сам не верит в чистилище. – Ну, сегодня не верит, – говорит Гардинер.
Три часа. Перерыв справить нужду. Цитировали Оригена, святого Иеронима, Златоуста, пророка Исаию. За дверью Гардинер говорит: – Не понимаю, отчего прежние обвинения против Ламберта сняты. Смена архиепископа не оправдание. Вы должны были за этим проследить, Кромвель. Стоксли говорит: – Вы как будто бы не слишком заинтересованы делом, лорд – хранитель малой печати. – Любопытствую почему, – говорит Гардинер. Замечает Латимера. – А вы? Пошли вам на пользу королевские доводы? Хью рычит, как терьер на быка. Участники долго рассаживаются, кашляют, устраиваются поудобнее. Затем все взгляды обращаются на него, королевского викария по делам церкви. Он встает: – Ваше величество, выслушав ваши доводы и доводы епископов, я не имею ничего добавить и полагаю, что все нужное уже сказано. – Вот как? – произносит за его спиной Гардинер. – Не имеете ничего добавить? Давайте, Кромвель, изложите свои доводы. Нам всем хочется вас послушать. Король смотрит недовольно. Гардинер вскидывает руки, словно прося прощения. Теперь черед Ламберта говорить. Все соблюдали очередность – кроме Стивена Гардинера. Ламберт поднялся с колен, однако прошло уже четыре часа, а стула ему не предложили. Сумерки; плечи Ламберта опущены. Вносят факелы, отблески дрожат на лицах епископов. Король говорит: – Итак, Ламберт, вы слышали доводы всех этих ученых мужей. Что вы теперь думаете? Сумели мы вас убедить? Избираете вы жизнь или смерть? Ламберт говорит: – Я предаю мою душу в руки Божьи. Тело – в руки вашего величества. Я покоряюсь вашему суду и уповаю на вашу милость. Нет, думает он. Милости не будет. Генрих говорит: – Вы считаете евхаристию кукольным балаганом. – Нет, – отвечает Ламберт. Король поднимает руку: – Вы говорите, это видимость. Лишь образ или фигура речи. Вас опровергает единственный священный текст, слова Христа: «Hoc est corpus meum». Самый простой и понятный текст. Я не буду покровительствовать еретикам. Милорд Кромвель, зачитайте приговор. Он берет документы – в таких случаях их готовят заранее. Стоксли говорит, что единолично сжег пятьдесят еретиков, и даже если просто бахвалится, процедура вполне отработана. Он встает. – Читайте громко и четко, – говорит Стоксли. – Дайте намнаконец вас услышать, милорд Кромвель. Пусть у несчастного не останется сомнений касательно его участи. Эдикт зачитан, стража уводит Ламберта. Король склоняет голову; смиренное благочестие доброго прихожанина, каким он сегодня был. А когда поднимает, на лице – торжество. По сигналу в зал входят трубачи. Король выходит под фанфары. Шесть трубачей. По шестнадцать пенсов каждому. Восемнадцать шиллингов из казны. Король хочет создать новую церемониальную гвардию, отряд благородных копейщиков, с новой ливреей. Если так пойдет дальше, трубачи ему будут нужны каждый час.
Еще только шесть, но снаружи темная ночь. Зима держит город железной хваткой. – Грустно, – говорит Рейф. – Бедняга, – соглашается он. Рейф говорит: – Я не о Ламберте. Он сам себя погубил. – Думаю, его погубил Гардинер, – со злостью возражает он. – Гардинер вернулся в Англию, и это случилось. Подозреваю, он говорил с королем у меня за спиной. Мол, французы в ужасе от нашей реформации, император негодует, докажите им, что в душе вы добрый католик. Как будто это детская ссора, которую можно уладить за две недели и пустить работу семи лет псу под хвост… – Поздно уже заводить такие речи, – говорит Рейф. Его телохранители ждут, готовые вести его домой. Толпа рассеивается. Фанфары умолкли, трубачи идут прочь. Он окликает их, лезет в карман, дает им на выпивку. Они благодарно козыряют. Он снова поворачивается к Рейфу: – Надеюсь, это не выглядело так, будто я презираю королевские доводы, что неправда. Он рассуждал очень хорошо. Рейф отвечал: – Это выглядело так, будто вы не знаете, что делать. Он думает, я знал. Знал, но не сделал. Я мог бы вступиться за Ламберта. Или, по крайней мере, уйти. – Барнс тот еще лицемер, – говорит он. – Если бы не милость Божья, он сам стоял бы на месте осужденного. Рейф говорит: – Роб был сегодня донельзя осторожен. Остальное Рейф недоговаривает. Они выходят на холод. Он думает, я мог бы привести тот текст, привести этот. Иначе зачем все мое чтение? Он обнимает Рейфа за плечи. Рейф так и не нарастил мясца – не охотится, не играет в теннис, хрупкий и щуплый, как мальчишка. – Не бойся, – говорит он. – У нас все будет хорошо, сынок. Мороз щиплет кожу.
До сожжения не так уж много времени. Он шлет Ламберту еду и вино, слова утешения и сочувствия, но спрашивает себя: как-то Ламберт их примет? Он знает, что я за него не вступился. Я сидел рядом с хищниками, жаждущими крови, и не шевельнул пальцем. Не возвысил голос, кроме как когда читал приговор. Но если король не пожелал меня слушать, что я мог сделать? Во всей «Книге под названием Генрих» нет такого прецедента. Ламберта казнят торжественно. В Смитфилде поставлены трибуны для официальных лиц, украшенные государственными эмблемами. Присутствуют все советники, за исключением тех, кто действительно прикован к постели болезнью; у каждого на шее золотая цепь, у высших – лента ордена Подвязки. Места, откуда вид лучше всего, отведены для главных послов – Кастильона и Шапюи. Весь день – фиеста боли. Он никогда не видел таких страданий. Зритель не может сделать себя незрячим. Может лишь изредка закрывать глаза. Он думает, слава богу, что Грегори в Сассексе. Грегори не мог смотреть, как казнят Анну Болейн, а ведь это длилось мгновение, даже меньше. Ламберт умирает час. Рядом с лордом – хранителем малой печати стоит мальчик, Томас Кромвель, он же Гарри, сын кузнеца. У него на руке нарисованная пеплом полоса, тело под джеркином сплошь в синяках.
В час, когда на небе загораются звезды, к нему приходит Кранмер. Пасторский визит. – Вам худо? В этом он не сознается: – Сижу с бумагами допоздна. Все наш архипредатель Поль, из-за его интриг столько писанины. Архиепископ и сам выглядит затравленным, изможденным. Он, лорд Кромвель, требует вина и еды для гостя – крылышко каплуна, сливы. Кранмер ерзает в кресле. Сморкается. Говорит: – То, что мы насадили, не принесет плода за одно поколение. Вам за пятьдесят. Мне немногим меньше. – Гардинер спросил, считаю ли я, что мы живем в последние времена. Кранмер быстро поднимает на него взгляд: – Но вы же так не думаете. Разумеется. – Архиепископ прикусывает губу, будто иголкой вынимает себе занозу. – Я понимаю, почему добрые люди верят в скорое пришествие Христа. Мы хотим Его правосудия, когда людское правосудие чересчур запаздывает. – Вы считаете, Ламберта осудили несправедливо? Он внимательно смотрит на Кранмера. Это не ловушка. Он говорит: – Когда служишь государю, нельзя быть разборчивым. Иногда можно смягчить ущерб. Но здесь нам это не удалось. Кранмер говорит: – Нам не следует повторять ошибку Мора. Он думал, что может указывать совести Генриха. Открывается дверь. Кранмер вздрагивает: – А, Кристоф… Кристоф ставит на стол поднос: – Хозяину нужно отдохнуть. – Это не в моей власти, – слабым голосом произносит Кранмер. – В детстве я думал, архиепископ может все, что захочет. Думал, он может творить чудеса. – Я никогда о таком не задумывался, – говорит он. – Кристоф, принеси фрукты. Архиепископ смотрит на жареного каплуна. Говорит: – Не могу есть мясо. Сегодня не могу. Он говорит: – Вы когда-нибудь видели, как сокол продолжает убивать, хотя жертва уже мертва? Кранмер ежится: – Нет. Думаю, король… он меня удивил… он был рассудителен почти… по-отечески. Рвет когтями и клювом, в глазу ярость. Пьет кровь из тельца и вновь принимается рвать. – По-отечески, – говорит он. – Да, именно так. Он думал, после казни Джоанны Боутон я вернулся домой к своей маленькой жизни и не знал, правда ли это было или мне приснилось. Я гадал, не видел ли ее на улице, старушку, идущую на рынок с корзинкой – купить яблок и гвоздики для пирога. Кранмер говорит: – Но что нам оставалось? Ламберт сам выбирал ответы. Он мог сказать иначе. – Сомневаюсь. Кранмер обдумывает его слова. Чтобы заполнить паузу, он задает вопрос: – Как ваша жена? – Грета? – переспрашивает Кранмер, как будто у него не одна жена. – Грете страшно. И она устала таиться. Когда я вез ее в Англию, то обещал, что короля удастся убедить и мы будем жить открыто, как обычная супружеская чета. Но… Кранмер не договаривает. Мы живем в заемное время, в маленьких комнатах, наши вещи всегда сложены для побега, мы чутко вслушиваемся даже во сне, а в иные ночи и вовсе не можем уснуть. Он говорит Кранмеру: – И что теперь? После этого? Если король может сжечь его, то может сжечь и нас. Что мне делать? – Оставайтесь у власти сколько сможете. Ради Евангелия я буду делать то же самое. – Что пользы в нашей власти, если мы не можем спасти Джона Ламберта? – Мы не могли спасти Джона Фрита. Однако вспомните, сколько мы сделали с тех пор, как сгорел Фрит. Мы не сумели спасти Тиндейла, но спасли его книгу. Верно. Мертвые трудятся. Их дело не проиграно. Они прилежно работают, скрытые от нас завесой дыма. После ухода Кранмера домашние приносят ему свечи и вино, плотно затворяют дверь. Говорят приглушенными голосами, ходят так, будто на ногах войлочные туфли. Он берет чистый лист и выводит: «Любезнейшему другу сэру Томасу Уайетту, рыцарю, королевскому послу при дворе императора». Он пишет: «Его величество король, его высочество принц, госпожи королевские дочери и весь его совет веселы и в добром здравии». В молодости, думает он, мне требовались все мои силы. Жалость была роскошью, которую я смогу однажды себе позволить, как мягкий белый хлеб или книгу, надежный кров над головой, свет янтарного или голубого стекла, перстень на палец, вышивку жемчугом, лютню, березовые дрова и верного слугу, который затопит камин… «XVI дня сего месяца…» Ориген говорит, для каждого человека Господь составляет свиток, который скатывает и прячет в его сердце. Господь пишет пером, тростинкой, костью… «…его королевское величество из благоговения перед таинством евхаристии…» Он думает добавить, наш государь был в белом. Сиял с головы до ног. Как зеркало. Как свет. Он пишет: «Желал бы я, чтобы европейские государи видели и слышали, как упорно он старался обратить этого несчастного…» Рука скользит по листу, чернила соединяются с бумагой. Дрожит огонь в камине, пламя свечи клонится и трещит. Он вспоминает, как ехал с Грегори по меловым холмам под серебристым небом; свет без тени, как при Сотворении мира. Будь эти государи сегодня со мной, пишет он, они бы подивились учености Генриха. Они бы видели его правосудие, его мудрость; они бы узрели в нем… он на мгновение отрывает перо от листа… «зерцало и свет всех прочих королей и государей христианского мира». В бумагах у него по-прежнему лежит строфа, написанная рукой Правдивого Тома. Она выпала из поэмы, но он помнит ее наизусть.
III Наследие
Декабрь 1538 г. Народ недоволен введением приходской регистрации. Записи крещений, говорят люди, позволят королю облагать нас налогами с младенчества. Записи венчаний позволят ему получать сбор с каждого жениха и невесты. Узнав о похоронах, агенты Кромвеля явятся забрать медяки с век усопшего. Кромвель, говорят они, замышляет украсть у нас наши дрова, наши ложки и наших кур. Он хочет обложить налогом наши жернова, наши котлы и горшки, испортить пекарские весы, изменить меры жидкости в свою пользу. Он – хорек, съедающий в день, сколько весит сам. Не увидишь, как подкрадется, – он умеет уменьшиться так, что пролезет в обручальное кольцо. Глаза у него открыты всю ночь. Он танцует, чтобы задурить жертву, а потом высасывает ее мозг. Он устраивает себе нору в логове побежденных и устилает ее мехом. Посол Шапюи просит встречи. – Томас, вы знаете, что говорят в Риме? Будто, вскрыв гробницу Бекета, вы достали кости и выстрелили ими из пушки. Ведь это же неправда? – Посол, если бы я только додумался… Шапюи говорит: – Вам повезло, что вы не служите тому Генриху, при котором убили Бекета. В хрониках пишут, что он катался по полу от ярости и пускал пену, как бешеный пес. В Ламбетском дворце была статуя Бекета на внешней стене со стороны реки. Кранмер велел ее убрать, и теперь там пустое место. Кормчий его барки говорит: – Я кланялся этому негодяю с раннего детства. – Вот и хорошо, что больше не будешь, Бастингс. – И мой отец. И дед. Привычка. Бастингс сплевывает за борт. Мальчишкой в Патни он думал, лодочники плюются на удачу. Однако дядя Джон объяснил: так они напоминают о себе богам, которые смотрят из воды на днища лодок и видят еще не возникшие течи. В четырнадцать все его мысли были о реке. Когда с неба лило, он думал, хорошо, больше воды, чтобы унести меня в море. Темза вздулась; в такую погоду река размывает кладбище Святого Олафа и уносит трупы. Дома, в тепле и сухости, он отпирает ящик, где держит молитвенник покойной жены. Находит изображение Бекета и вырезает страницу – аккуратно, ножичком с тонким лезвием. Листает молитвенник, разглядывает все картинки. Видит мертвую Марию, погребальную процессию, евреев, норовящих толкнуть носилки и растоптать розовые гирлянды плакальщиков. Видит бичуемого Христа, его белое, рыбье тело извивается под ударами. Подвалы Остин-фрайарз полны реликвиями. Здесь есть стопка платков, аккуратно подрубленных Пресвятой Девой, и кусок веревки, которой удавился Иуда. Мадонн приносили дюжинами, некоторых потом жгли, других рубили топором. Богородица Кавершемская толкает в бок святую Анну Бакстонскую, у них за спиной хихикает святая Модвенна. Ему это напоминает дни до падения Анны Болейн, когда дамы сбивались в кучки, шептали накрашенными губами опасные мысли и закатывали накрашенные глаза. Есть шкатулка с двухдюймовым куском хряща – ухом первосвященникова раба Малха, которое Петр отсек мечом при аресте Спасителя. Кости Бекета лежат в простом сундуке. Лишь знающий врач сумеет сказать, кости это мученика или животного, да и то не наверняка.Маргарет Поль, чьих родственников допрашивают в Тауэре, по-прежнему живет под надзором Фицуильяма. Когда Фиц уезжает из дома, его жена Мейбл требует брать ее с собой – не хочет оставаться одна под холодным взглядом старухи из рода Плантагенетов. При тщательном обыске в Уорблингтонском дворце Маргарет находятся бумаги, которые она, вероятно, предпочла бы сжечь. – Не сомневаюсь, что найдутся и другие, когда у вас возникнет нужда, – игриво замечает Кастильон. Шапюи говорит: – Кремюэль будет рад, если к суду подоспеют доказательства. – Маргарет Поль не под судом, – сухо отвечает он. Она – глава рода. На свободу ее больше не отпустят, но от этой обузы нас избавит время; ему вовсе не улыбается объяснять послам, зачем король отправил на эшафот старуху. Констанции, жене Джеффри, обвинения предъявлены не будут. Он не включил в обвинительное заключение епископа Стоксли и семью Томаса Мора, по крайней мере сейчас. Сеть раскинулась широко, но по краям тонка, как паутина. Рич говорит: – У нас против них ничего нет. Никаких действий. Только слова. Но мы это уже проворачивали. По статуту. Наш закон об измене обширен, включает слова и дурные умыслы. Мы дали Томасу Мору себя погубить, и Болейнам тоже. Жертва ли тот, кто сам идет на нож? Неповинен ли тот, кто себе навредил? – Спасибо, Рич, за вашу уверенность, – говорит он. Однако, как всегда, его дело – проследить, чтобы король не совершил того, в чем потом раскается. Генрих говорит: – Лорд Монтегю и лорд Эксетер семь лет плели против меня интриги. Привлекли на свою сторону мою дочь Марию. Лишь ваши усилия, лорд Кромвель, – король наклоняет голову, – уберегли ее от беды. Он ждет, давая королю время провести судебное разбирательство в голове. Наконец спрашивает: – Джеффри Поль, сэр? Без помощи Джеффри мы бы не довели дело до суда. – Думаю, что помилую его. Пока пусть остается в Тауэре. Он делает пометку. В исходе суда сомнений нет. – Проявит ли ваше величество милосердие в выборе казни? – Благородная кровь, – говорит Генрих. – Я не могу отправить их на Тайберн, хотя, бог весть, проявил бы Франциск столько же милосердия. Позволил бы император смеяться над собой так, как позволял я. Они ведь смеялись надо мной, над раной в моей ноге. Говорили, она меня убьет. А если бы не убила, они бы поторопили природу. Я спрашиваю себя, как бы они поступили с моим сыном Эдуардом? На крестинах Гертруда Куртенэ держала его на руках. Прижимала к своему сердцу. Как она могла, если в ее сердце столько злобы? Видит Бог, она достойна смерти. – Нет, сэр, – твердо отвечает он. – Женщин мы пощадим. Сами по себе они ничего не могут. Гертруду можно поселить в Тауэре рядом с комнатой ее сына. Он еще в нежных летах. А Генри Полю нет и десяти. – Им будет веселее вместе, – говорит Генрих. – Пусть гуляют в саду. Пусть у них будет мишень для стрельбы из лука. Возможно, когда-нибудь их можно будет освободить. Впрочем, надеюсь, мой сын не будет настолько мягкосердечен, не станет десятилетиями кормить злодеев. Надеюсь, никто из моих наследников не будет таким жалостливым, как я. Когда держишь в заточении детей, их надо иногда показывать свидетелям, чтобы не говорили, будто они сгинули, как дети короля Эдуарда. Впрочем, тех принцев сгубило наследие. Хотя он, Томас Кромвель, ничего против наследия не имеет. Имя его внука Генри уже появляется в бумагах на владение землей и домами, а ведь у мальчика еще не прорезался первый зуб.
В начале декабря в Тауэр летит приказ: доставить обвиняемых. Генри Куртенэ, маркиза Эксетерского, и лорда Монтегю приговаривают к смерти. Их выводят на эшафот под проливным дождем. Джеффри Поля выпустят еще до весны. Король его простил, сам он себя – нет. На четвертый день Рождества он пытается покончить с собой, съев подушку. Однако перья его не задушили. Праздники король, как всегда, проводит в Гринвиче. Реджинальд Поль возит по Европе буллу об отлучении от церкви; для человека, обреченного аду, Генрих проводит время на удивление весело. Из Брюсселя наш посол мастер Ризли пишет, что видел Кристину, – он не думал, что может быть женщина с него ростом, но ей это к лицу, и он слышал, что король не против высокой жены. Когда Кристина улыбается, на щеках и на подбородке у нее появляются ямочки. Мастер Ризли думает, она станет улыбаться чаще, когда для этого появятся причины. На вопрос, хочется ли ей стать королевой Англии, Кристина ответила, что, увы, это решает не она. Генриху показывают портрет. Все, кто его видит, улыбаются. – С виду вроде добрая, – мечтательно произносит король. – Что, если кожа у нее не такая белая, как у Джейн? Джейн была бела, как стаффордширский алебастр. Все души должны совершить эту переправу, говорит нам Данте. Они толпятся на берегу, ожидая, когда наступит их черед; смиренные, беззащитные, переправляются в бледном свете.
В последний день тысяча пятьсот тридцать восьмого года берут под стражу сэра Николаса Кэрью, королевского шталмейстера, Кару Господню, старого героя турниров. Письма, найденные у Гертруды Куртенэ, позволили установить, что он не только поддерживал заговорщиков, но и много лет нарушал доверие короля, пересказывая слышанное в монарших покоях. Генрих произносит печально: – Кардинал всегда предостерегал меня насчет Кэрью. Я не слушал. Надо мне было слышать моих советников, да? Не ему на это отвечать. – Кэрью всегда был на стороне моей жены. Я хочу сказать, Екатерины. Потом на стороне Марии, отстаивал ее права. – Генрих задумывается. – Жена Кэрью все еще хороша собой. Он чуть не роняет бумаги. Воображает, как из него вытягивают слова: ваше величество, да, в молодые годы у вас были амуры с Элизой Брайан, но вы не можете казнить человека, а потом жениться на его вдове. Царь Давид отправил Урию в бой, где того убили, взял в жены Вирсавию, и первый их ребенок прожил всего несколько дней. Он думает, пусть кто-нибудь другой это скажет. Лорд Одли. Фиц. Я довольно предостерегал его от бед, хлопал по рукам, как нянька. Король говорит: – Я дарил леди Кэрью алмазы и жемчуга, но никогда их на ней не видел. Наверное, Николас прятал их в свои сундуки. Он говорит: – Теперь его сундуки опустеют. Все вернется к вам. С дозволения вашего величества я отправлю мастера Корнелиуса сделать отдельную опись. – Да, отправьте. – Генрих смотрит вдаль. – Они ведь были друзьями моей юности. Кэрью, лорд Эксетер. Он кланяется, ждет, затем начинает отступать к дверям. Нет больше Круглого стола, думает он. Генрих говорит: – Реджинальд называет меня врагом рода человеческого. К нему приходит юный Мэтью: – Милорд, старуха принесла соловья в клетке. Я дал ей марку. Кристоф говорит: – Марку за певчую птичку? Олух деревенский. Милорду надо отослать тебя обратно в Уилтшир. У вас там в Вулфхолле небось других забав не было. Николас Кэрью под стражей, приговор отложен до Валентинова дня. Король больше не упоминает его имени.
Тюремщик Мартин говорит, Кэрью начал читать Евангелие. Раскаивается в той жизни, которую вел, хочет стать новым человеком. – Вы что-нибудь для него сделаете, сэр? Теперь, когда он с нами? До сожжения Ламберта он бы постарался спасти брата-евангелиста, зная, что совесть не успокоится, пока не сделаешь все возможное. Но теперь это в прошлом. Говорят, у кардинала в пору его власти была восковая фигурка короля, с которой тот разговаривал и которую подчинял своей воле. Он держит воскового Генриха в уголке воображения, ярко раскрашенного, в золоченых башмаках, однако не разговаривает с ним – боится, что тот ответит.
Часть пятая
I Вознесение
Весна-лето 1539 г. Зовите-меня просит отправить ему с ближайшим кораблем портрет короля, – говорит Рейф. – Показать Кристине. Знает ли Зовите-меня свое дело? Опасно создавать зазор между девичьими грезами и мужчиной не первой молодости. А с другой стороны, те, кто хочет избавить Кристину от иллюзий, наверняка уже описали ей Генриха на словах. Он сидит с Рейфом и перебирает стопку рисунков. Иногда в королевских глазах проглядывает ребенок – мальчик, ждущий от мира подарков. У Генриха больше ста зеркал. Будь у них память, мы отправили бы Кристине отражение принца, когда тот был одних с ней лет: густые кудри, широкие плечи, атласная кожа. Генрих едет в Уолтем повидать сына. Ручки и ножки у Эдуарда пухлые и крепенькие. Никакие чародейские заклятья ему не повредили. Цвет лица от матери, робкие голубые глаза и острый подбородок – тоже. Курточки у него алые и коричневые, зимнее платье оторочено горностаем. Принц вовсю забавляется рождественским подарком старого графа Эссекса – трещоткой с колокольчиком. Граф Эссекс глух как пробка.Каждая депеша от Ризли уверяет нас, что да, тот знает свое дело. Зовите-меня посещает Кристину в ее покоях, завешенных дамастом и черным бархатом. Там, в тишине, наш посол нашептывает ей, что нрав у короля от природы добрый. За все годы царствования почти никто не слышал от него резкого слова. Кристина заливается краской, пишет Ризли. Лицо такое, будто ее щекочут. Ваше величество, советует он, берите ее на любых условиях: лучше вам не найти. Однако Зовите-меня досадует, что придворные в Брюсселе не верят в его знатность, – дескать, всякий, кто служит Кромвелю, сам низкого рода. Ризли заверяет, что горд ходить за лордом – хранителем малой печати, носить его перья, чернильницу и бумагу. Пишет, меня не задевают их уничижительные намеки. Рейф говорит: «Это неправда». Зовите-меня обидчив и гордится знатностью рода. Впрочем, новый год начался для него удачно: он заполучил драгоценного шпиона, Гарри Филлипса. Как так вышло? Филлипс сам явился в посольство с повинной. Умолял Генриха простить его за все преступления против Англии и англичан. Теперь он готов рассказать про себя всю правду и вывести нас прямиком к архипредателю Полю. После допроса, полагает Ризли, Филлипса можно отправить обратно в Европу исполнять нашу волю – входить в доверие к врагам короля, затем предавать их в руки палача. Не успели в Вестминстере прочесть депешу Ризли, как тот вынужден писать новую. Гарри Филлипс бежал из-под стражи, прихватив с собой мешок посольских денег. Зовите-меня четыре месяца отирался в прихожих и глотал оскорбления, а теперь плут обвел его вокруг пальца. Он будет умирать от тревоги и стыда, пока не узнает, как отнеслись к случившемуся король и совет. Конечно, он виноват. Однако другие участники посольства просят за него в письмах: Бога ради, лорд Кромвель, утешьте его, он заболеет, если вы не напишете ему доброе слово. Никогда сын не хотел так угодить отцу, как мистер Ризли стремится угодить вам. Может быть, это послужит ему уроком, говорит Рейф. Пусть не воображает себя самым проницательным умом Европы, пусть видит, что может быть таким же дураком, как любой из нас. Зима выдалась холодная. Только закончились наводнения, как нас засыпало первым снегом. В теплом Толедо император и французский король ратифицируют свой договор. Они утверждают, что это союз до конца их дней, и клянутся не заключать с Англией соглашений – брачных или военных – без одобрения другой стороны. Которая, разумеется, своего одобрения не даст. Кто станет вести дела с королем, отлученным от церкви? Ни один христианин не подаст ему хлеба, если он будет умирать с голоду, а уж тем более не захочет с ним породниться. Подданные Генриха теперь не должны ему подчиняться. Папа напоминает, что по отношению к сектантам и раскольникам обычные правила отменяются. Можно нарушить заключенный с ними уговор, захватить их товары. Все англичане за границей, будь то студенты, купцы или послы, живут под угрозой ареста. Война не объявлена, но ощущение такое, будто она уже началась. Король Шотландии охорашивается, думает, если Франция захватит Англию, то страну разделят и ему отдадут север, а то и всё. Окружение короля живет ради того, что эти люди называют честью: воинской доблести, ратного искусства. Им мало подавить восстание на севере, положить конец приграничным распрям. Норфолк называет войну «делом». «Если у нас будет дело с французами…» или «Если случится дело с Карлом…». Теперь церковные колокола переливают на пушки, орала перековывают на мечи, Крест Христов становится палицей – разбивать вражеские головы. Чернила в Уайтхолле обращаются кровью на границе, судебные закорючки – убийствами на улице. Монашеские благословения сменились проклятьями, за смехом придворных наступает тревожная тишина. Каждый следит за соседом, высматривая измену, высматривая слабость. Если с утра ты недостаточно свиреп, к вечеру тебя уничтожат. Не в нашем английском обычае держать постоянную армию. На бывшие церковные доходы мы можем ее создать. Но тогда Генрих захочет пустить ее в дело, пожелает воевать за морем, как другие монархи, а этого, говорит государственный секретарь, я никогда не позволю. Если придется оборонять страну, мы сумеем быстро собрать войско; деньги – лучшая смазка. В каждую область назначены отборные люди, они составляют списки, строят маяки, вербуют пушкарей, командуют артиллерией. Могут ваши друзья в Клеве, спрашивает король, прислать сотню опытных канониров? На Темзе стоят королевские корабли: «Иисус» и «Иоанн Креститель», «Петр», «Миньон», «Примроуз», «Свипстейк», «Лев», «Троица», «Валентин», «Мэри Роуз» и «Мария Болейн». Королевский стол завален планами и чертежами. Генрих рисует форты и блокгаузы, а он, Кромвель, посылает землемеров составлять карту побережья. Все карты отправят королю. Он мечтает разложить их в Вестминстер-холле, образ наших островов. Послание миру таково: мы устоим перед внезапным нападением, мы выдержим долгую войну. Он, Кромвель, пишет письма в Европу, объясняет недавние казни. Каждый государь поймет, что покойники были претендентами на престол; Генрих стремится обезопасить свою линию наследования. Через год Англия станет огромной крепостью, наставившей пушки на морские пути; больше зáмком, чем страной. Замок – это мир в миниатюре. Все внутри должны трудиться сообща. Если замок падет, то из-за измены внутри стен. Герцог Норфолк скачет на север, давить крамолу там, где королевская власть слабее всего; ворчливый старик пускается в путь по зимним дорогам. «Не спешите», – советует он; он, лорд Кромвель. – А что мне еще остается? – буркает Норфолк, затем, смилостивившись, добавляет: – Послушайте. Когда будете писать на мое имя, не обязательно обращаться «ваша светлость». Как-то это неуместно. При том, кто вы теперь. Он кланяется. Уж не король ли Норфолку намекнул? – Смиренно благодарю вашу милость за снисхождение. Однако, думает он, я не стану называть вас «Том». При виде герцога с мечом на боку он всякий раз представляет, как тот пропарывает его насквозь. «Извините, лорд Кромвель, я, кажется, задел ваше сердце». Король говорит: – Спросите немецких князей, чем они смогут нам помочь в случае войны. Попросите их прислать саперов. Если они непременно хотят отправлять к нам богословов, мы их примем, однако нам нужны бойцы. Солдат, разумеется, можно нанять. Отец короля нанял армию, и та выбила трон из-под Горбуна. Наемники будут сражаться, пока им платят или дают грабить, но не сдвинутся с места, пока не услышат звона монет. Он, Кромвель, шлет вербовщиков в Италию и Германию. Ему не нужны вшивые ирландцы или шотландцы, только опытные вояки из народов, для которых война – это наука.
Зимой совет заседает каждый день. Председательствует король, если только не уезжает лично инспектировать порты. В опасный для страны час в Генрихе пробудились новые силы, новая резвость. «Милорды, мне надоело читать длинные письма. Делайте мне из них выжимки. Если только они не от моих собратьев-монархов – эти я буду читать целиком». Король Шотландии шлет свои приветствия и просит льва. Льва! – Вот наглец! – восклицают советники. – Какая самонадеянность! – У меня в тауэрском зверинце, должно быть, много львов, – кротко произносит король. – Я не откажу ему в просьбе. Милорд Кромвель, займетесь этим? Кто-то смеется и сразу подавляет смех. Про необычные поручения король всегда говорит: это дело для Кромвеля. Так оно и есть. Королевский совет уменьшился. Только нужные люди, никаких довесков. Однако все они упрямы, и у каждого свои интересы. Король хочет от советников единства, но и сам не может идти прямо – кренится то в одну сторону, то в другую – и нуждается в крепкой руке, которая его будет направлять. Советнику необходима сдержанность; все мы видели, как Гардинер вылетел от короля с перекошенным лицом, рот съехал набок, нижняя губа оттопырена – ну точно камбала. Не секрет, отчего король так раздражителен. Астрологи говорят, на расположение его духа влияет Луна в созвездии Овен, однако истинная причина – его нога. Иногда она болит больше, иногда меньше, но нет дня, когда она бы не болела совсем. Как замечают врачи, монархи живут на виду и оттого их хвори кажутся незначительными. Они наследуют трон, но не только трон. Когда император говорит, слова камешками громыхают в чрезмерно выступающей челюсти. Франциск платит за собственные грехи: из-за лечения ртутью он утратил столько зубов, что не говорит, а плюется, а срам у него изъязвлен так, что последняя шлюха отшатнется в ужасе. Он сам в ужасе от Франциска. В Париже его новые Библии конфисковали, а печатников припугнули. Он-то думал, что подмазал всех, кого нужно, и может не опасаться инквизиции. Может, теперь они ждут выкупа за тираж? Не исключено, что он и правда заплатит, как уже столько платил. Он заглядывает в гости к послу Кастильону и спрашивает, не согласится ли Франциск в качестве услуги выпустить из-под ареста непереплетенные листы? Возможно, придет день, когда Франциску потребуется ответная услуга. В письмах на родину Кастильон просит его отозвать. Посол боится, что в случае военных действий Генрих и Кромвель его убьют. Он пишет «король и его милорд», как будто в Англии всего один милорд. Тем временем он, викарий короля по делам церкви, учреждает типографию в Грейфрайарз, куда сам сможет заглядывать хоть каждый день. Это будет надежнее, хотя и медленнее. За одну неудачную неделю, говорит он Рейфу, труд твоей жизни может погибнуть. Незадолго до Сретенья, заходя к королю, он застает того сидящим в сумерках за книгами. Генрих поднимает голову и смотрит на него растерянно, как будто впервые видит. Затем, словно очнувшись, говорит: – Томас, у вас замерзший вид, идите к огню. Я тут раздумывал, что иногда нам следовало бы молиться вместе. Как вы молитесь, милорд? Начинает ли вы с Патерностер, или читаете псалом, или обращаетесь к Богу своими словами? Он пристально смотрит на короля и видит, что вопрос не ловушка. Говорит: – Я благодарю Бога как кормчего нашего корабля. Никакая буря нас не потопит. Король разрешил некоему алхимику, Джону Мисслдону, вернуться в Англию из-за моря. Тому дозволено практиковать свое искусство при условии, что он не будет прибегать к черной магии. «Рано или поздно, – предупреждает он короля, – такие люди отчаиваются и обращаются к некромантии». И я тоже, думает он. Сижу каждый день за столом и жду, что кардинал шепнет мне на ухо совет.
Еще до конца февраля наше положение становится критическим. Это видят все, кроме лорда Лайла. Джон Хуси является прямо с корабля, весь в соленых брызгах. – Хуси, – говорит он, – с тех пор как Эдвард Сеймур побывал в Кале, я понимаю, насколько ваш господин не справляется со своими обязанностями. – Он нездоров, – мямлит Хуси. – Настолько нездоров, что его пора отстранить? – Нет-нет, пожалуйста… – говорит Хуси. Он, сжалившись, говорит: – Я пришлю моего племянника Ричарда ему в помощь. – Если позволите, – возражает Хуси, – и лорда Эдварда, и мастера Ричарда можно назвать евангелистами… – Лорду Лайлу это не по душе? Если случится война, первый удар противник нанесет по Кале. Мне надо отправиться туда самому и взять дело в свои руки, думает он. Только если уехать, король может с перепугу отозвать Норфолка с границы или посадить на мое место камбалу.
Император и Франциск сообщают, что отзывают своих послов. Шапюи приходит к нему частным порядком, весь как на иголках. «Бога ради, не считайте это враждебными действиями. Император отзывает меня лишь потому, что я знаю ваши английские обычаи и смогу посоветовать герцогине Кристине, как ей себя вести, когда она прибудет в Англию на коронацию». Когда он, лорд Кромвель, пересказывает это советникам, все взрываются хохотом. Только Зовите-меня да, может, еще король верят, что Кристина за него выйдет. Официально переговоры продолжаются. Однако император ставит условия, исключающие этот брак. Слуги Кристины теперь посещают Ризли только в сумерках. Он говорит: – Император хочет вернуть Шапюи, чтобы тот рассказал о наших военных приготовлениях. Но прежде чем отпускать посла, мы должны вернуть Ризли. – Заложники! – говорит лорд-канцлер. – О Матерь Божья! А что насчет Уайетта в Испании? Я слышал, к нему подбирается инквизиция. Письмо Уайетта у него в кармане. Наш посол пишет: «Я прижат к стене. До марта не продержусь». Он отправляется домой. Нога болит, и ему сделали особую скамеечку, на которую ее класть. – Развалина, – говорит он племяннику Ричарду. Видит себя со стороны. Миниатюра на пергаменте: лорд Кромвель в преклонных летах. Пол из фламандской плитки, сине-белая шахматная клетка, красная бархатная мантия, а внутри – сгорбленный калека. Ричард наклоняется, кладет руку ему на плечо: – И что, если вы уже не юноша? Хотел бы я в ваши годы быть таким же крепким! Кристоф говорит: – Посмотрите на короля! На милорда адмирала, он болеет с Рождества. На Норферка, он скукожился, как сухой стручок. – Кристоф, имей уважение к первым людям страны! – одергивает того Ричард. Кристоф говорит: – Страшно за нашего Зовите-меня. Что, если его убьют? Или бросят в подземелье? Ему приходила в голову такая мысль. Ризли могут запереть в Вилворде, где держали Тиндейла. Ричард Кромвель говорит: – У вас были планы того замка. Отправим ли мы войско его освободить? Они переглядываются и отводят взгляд. Вряд ли.
Он, хромая, отправляется в Тауэр, где в большой удобной комнате, у горящего бледным пламенем камина беседует с Гертрудой, вдовой Куртенэ. Для женщины, у которой только что казнили мужа, она на удивление хорошо держится: не плачет, ест миндаль с блюда. – Без сомнения, вы укрепляете себя молитвой? – спрашивает он. – Это не могло стать для вас неожиданностью. Вы знали всё, что милорд Эксетер говорил и делал против короля. Вы были его ближайшей советчицей. – Женщина должна сама заботиться о своей душе, – говорит Гертруда. – Муж этого за нее не сделает. – Вы знаете, что предатель Поль сейчас в Испании? Она предлагает ему миндаль. – Откуда мне знать? – Он с императором, убеждает того пойти крестовым походом на Англию, на свою родину. Затем отправится во Францию, призывать к тому же. Он вертится ужом, запутавшись в измене. Она переводит взгляд за его плечо, будто стена интереснее. – Наш посол в Испании умоляет его отозвать, но ему говорят: «Повремените, мастер Уайетт». Инквизиция начала против него процесс. Вы бы не пожелали оказаться на месте Уайетта. – Почему бы я оказалась на его месте? Я не еретичка. – Тот, кого задержала инквизиция, не может ответить на обвинения, поскольку ему не сообщают, в чем они состоят. Не сообщают ему и имени доносчика. Его пытают… не буду рассказывать как. В Кастилии сейчас каждый живет в страхе. – Им нечего страшиться Святой палаты, – отвечает Гертруда, – во всяком случае если они честные люди и ходят к мессе. – Они боятся соседей. Старые враги сводят счеты. Она переводит взгляд на него. Видит королевского советника, доброжелательного, уверенного в себе. Она не видит другого, которого он держит прикованным к стене: того, для кого забывать – изнурительная работа, кому снятся застенки, казематы и ублиетты. Такие люди подвержены приступам ночных страхов; когда они напуганы, то смеются. – Милорд, – спрашивает она, – где Бесс Даррелл? Судя по тону, Гертруда не знает, что показания Бесс сгубили ее семью. Он говорит: – Она в более счастливом месте. Гертруда хватается за горло: – Да простит вас Бог… вы же ее не убили? – Вы считаете меня чудовищем? Ему интересно услышать ее ответ. Она говорит: – Я гадаю, почему до сих пор жива. Мне твердят, что вы не убиваете женщин, но вы убили Анну Болейн. – За это же вы на меня не в обиде? – Если вы думаете обменять меня на мастера Уайетта, то, боюсь, император не… – Быть может, вас и Маргарет Поль? – говорит он. – Ваша правда, вы не много потянете на весах. Ваш сын стоит куда дороже. Гертруда поднимает голову: – Умоляю, не разлучайте меня с ним. – Мы надеемся, что император, определяя свою политику в отношении Англии, будет учитывать благополучие вас и вашего сына. Он говорит, что всегда печется о древних английских семействах. Она говорит: – Пророчица… вы ее помните? Вы по-прежнему меня вините за то, что я к ней ездила. Я клялась и клянусь снова, что не желала дурного. Она начинает плакать. Он подает ей платок. – У меня умирали маленькие дети. Милорд супруг винил меня: «Такие хилые наследники в такие трудные времена, одного сына мало». Пророчица обещала передать мою просьбу Пресвятой Богородице. Она уверяла, что ее молитвы исполняются. Он вспоминает Бартон у позорного столба, ее широкое деревенское лицо, красное от ветра, толпу лондонских зевак. Вспоминает Мора подле себя, как тот кутался в плащ и тер заледеневшие руки; зима, наверное, была как в этом году. Говорит мягко: – Они же не исполнились, да? Но спасибо, что сказали. Король может изменить свое к вам отношение. Материнское сердце. Он поймет. Она сморкается. Он говорит: – Если вам есть что мне сказать еще, советую облегчить душу покаянием. Про Томаса Мора, например. Про епископа Фишера. – Зачем? Их нет в живых. – В Риме о них говорят так, будто они только что вышли из комнаты. Им приносят вино в серебряных кубках, как пристало их рангу. Он вежливо откланивается. Тюремщик берет его под локоток и ведет по винтовой лестнице туда, где сидит на соломе монах-ирландец. Его перехватили в море с письмами к императору, и теперь узник ждет, когда начнутся муки чистилища. Если придут захватчики, ирландские подданные короля впустят их с черного хода. Он спрашивает тюремщика: – Узник говорит? – Уверяет, что знает только ирландский. – Отправьте его в Остин-фрайарз. У нас есть переводчики. Он набирает в грудь воздуха и идет к узнику, держа в руке изъятые у того письма. По счастью, монах не успел выбросить их в море. Ризли бы взломал шифр за десять минут. Уайетт – еще быстрее. Но пока те в руках императора, проще ломать людей.
По приказу из Брюсселя в нидерландских портах задержаны английские суда. Однако испанские купцы покидают Лондон, а он знает, как быстро среди торговцев распространяется паника. Они говорят на разных наречиях, но язык денег понятен им всем. Король говорит, если они конфискуют мои суда, я конфискую их; я задержу все испанские корабли в наших водах. Есть другой способ, говорит он, не лучше того, что предлагает ваше величество, просто в дополнение. Издать указ, по которому спроживающих здесь иностранцев снимаются дополнительные налоги и пошлины, – теперь они будут платить не больше англичан. Это, надеется он, убедит их пересидеть нынешнюю бурю в гавани, а не грузить жен и пожитки на ближайший корабль. Зовите-меня передает слух: будто бы агенты Рима отравили молодого герцога Клевского. Бога ради, пишет мастер Ризли, уговорите нашего государя быть внимательнее к своему окружению. И вы, сэр, тоже будьте осторожны.
Посол Шапюи сильно хромает. – Я. Вы. Ваш король, – говорит он. – Можно подумать, это нация калек, Томас. Все дело в климате. – В Брюсселе такие же дожди. Эсташ соглашается: – Я не смогу доехать до Дувра верхом. Мне придется нанять конный паланкин. – Давайте я этим займусь. И вашим багажом тоже. Посол кланяется. Они садятся за великопостную трапезу. Шапюи еле притрагивается к еде. Быть послом в Англии не великая радость – варварский язык и, как сказал Шапюи, погода, но, по крайней мере, он рассчитывал по окончании срока отбыть торжественно, с королевскими дарами. – Что слышно про молодого Ризли? – спрашивает Шапюи. – Я пишу слезные письма… и, Томас, сейчас я говорю правду, я убеждал Брюссель: «Бога ради, не обижайте этого молодого человека, он в большом фаворе у английского короля и милорда Кремюэля». Надеюсь, там вняли моим словам и мы с вашим молодым другом скоро будем в пути. Зовите-меня должен въехать в ворота Кале, когда корабль Шапюи войдет в порт. В какой-то миг эти двое, невидимо друг для друга, разминутся, направляясь в противоположные стороны. – Лишь бы вы не ускользнули под покровом ночи, – говорит он. – Мне бы не хотелось ставить перед вашим домом стражу. Шапюи вскидывает ладони: – Я не сидел бы здесь, если бы задумал подобное. И я не хочу уезжать, пока мой преемник не вступил в должность. Это чревато всевозможными недопониманиями. Шапюи должен сменить епископ Камбре, славный малый, грубоватый и бесхитростный. Он наверняка ничего не поймет и уж точно не будет понимать короля. – Я часто жалел вас, Кремюэль, – говорит Шапюи. – Генрих – великий человек, ему недостает лишь последовательности, благоразумия и здравого смысла. Но вы хотя бы встречаетесь с ним лицом к лицу. Видите, как он воспринимает ваши слова. Я, вдали от моего повелителя, всегда боюсь, что меня превратно поймут. Или что те, кто приближен к императорской особе, извратят мои слова. У вас нет старых друзей. Я хочу сказать, из старинных фамилий. Я не так низок по рождению, но знаете, как это бывает, – я всегда должен был слать деньги домой. В чем-то мне везло, и я трудился не покладая рук. Однако я невольно чувствую, что пробился в жизни примерно как вы, Томас. – Он складывает салфетку. – Случайно. Кристоф и Мэтью приходят забрать тарелки. Шапюи удивленно смотрит на Мэтью: – Не мог ли я видеть тебя в Хорсли? – В Хорсли? – В доме Куртенэ, в Суррее. Я хорошо тебя помню. – Я взял Мэтью из Вулфхолла, – говорит он. – Меня больше занимает, где он побывал с тех пор. И почему обычный слуга говорит по-французски, пусть и с таким деревенским акцентом, что я еле его понимаю. – Мэтью быстро учится, – небрежно отвечает он. – Скоро я отправлю его в Кале, там он немного подшлифует произношение. Мэтью так потрясен, что наступает Кристофу на ногу. – Мужлан, – бормочет Кристоф. – Скатертью дорожка. – Вы хотите сказать, что отправляете его в Кале шпионить за лордом Лайлом, – вздыхает Шапюи. – Что ж, мне пора… Посол крестится, шепчет латинскую молитву. Встает, морщась от боли, кутается в мантию, словно от сквозняка. Он, лорд Кромвель, протягивает руку: – Надеюсь, на другой стороне пролива вы не будете жаловаться на то, как с вами обходились? Он вспоминает Эсташа в садовой башне Кэнонбери, ненастный вечер, когда они мало-помалу, шажок за шажком, отвратили леди Марию от погибели к спасению. Кристоф сидел тогда на корточках у основания башни с ножом в руке. Входит Ричард Кромвель: – Посол, пришли ваши слуги. Шапюи замирает в нерешительности: – Мон шер, не знаю, когда я вернусь. На случай, если мы больше не увидимся… – Не надо так говорить. Мы оба крепки духом, Эсташ, даже если слабы ногами. Они обнимаются. Посол уходит, по пути одаривая домашних деньгами. Он садится за стол, берется за письма. Элиза, вдова Кэрью, просит помочь ей разобраться в делах. Он перед ней в долгу: смерть Кэрью открыла вакансии для его людей. Надо будет спросить Ричарда: «Хочешь место при короле, племянник? Король снова посылает Рейфа в Шотландию, а мне нужны люди подле него». В дверь заглядывает писарь: – От Ризли никаких вестей. – Сегодня их и не будет. Такую ненастную ночь гонец будет пережидать в тепле. Мы надеемся, что Зовите-меня в дороге. Сидит в гостинце: сальные свечи, холодная постель, незнакомые лица. У дверей – императорские стражники. – Мне жаль Шапюи, – говорит он Ричарду. – Ушел под такой дождь. К сердцу как будто привесили гирю. Не большую, просто свинцовый грузик, и она тянет. Он возвращается к бумагам. Надо учредить новый совет, Совет Запада, для управления областями за Бристолем. Он говорит Вулси – le cardinal pacifique – положитесь на меня, ваше преосвященство, я буду всячески стремиться к миру. Выторгую для короля союз с немцами и жену. Уж конечно, старый призрак отзовется? Но кардинал будто и не слышал. Даже не спрашивает, что с герцогом Вильгельмом Клевским? Умер ли тот от папского яда, как писал нам Ризли? Не умер. Жив и готов к переговорам.
Герцогство Клеве-Марк-Юлих-Берг лежит на обоих берегах Рейна. Его правитель, двадцатидвухлетний Вильгельм, претендует также на земли и побережье Гельдерна; император эти претензии не признает. Герцог Вильгельм – человек независимых взглядов, реформат, но не лютеранин. Он сам возглавляет свою церковь. Через его владения проходят важные торговые пути. Он, Кромвель, излагает королевским советникам некоторые факты. Знакомит их с веществом под названием квасцы, без которых мы не сможем красить ткани. В дедовские времена мы покупали квасцы у султана, который никогда не довольствовался одними деньгами – требовал еще и оружие: готовился к войне с христианами на их же средства. Шестьдесят лет назад нашли залежь в Тольфе, неподалеку от Рима, такую богатую, что ее хватит до Судного дня. Ватикан передал ее Медичи и ввел новый тяжкий грех: торговля квасцами без лицензии. Позже монополия перешла к Агостино Киджи, этому князю банкиров, и вы бы видели, какую виллу он построил на берегу Тибра. Теперь папа отлучил нас от церкви. Нам нужен источник квасцов. Они требуются для крашения, и в изготовлении стекла, и для лечения ран. У испанцев есть небольшие залежи, но там квасцы плохие, да к тому же испанцы не станут продавать их еретикам. Однако правитель Клеве, у которого две сестры на выданье, владеет, кроме прочего, залежами лучших квасцов, таких чистых, что их огромные прозрачные кристаллы подобны исполинским алмазам. Квасцы, быть может, и не залог супружеской любви, но члены королевского совета согласны: разум на вашей стороне, лорд Кромвель. А что насчет самих юных дам? Они ведут род от королевского дома Франции и от нашего Эдуарда II. Они хорошие девицы, которых матери жаль будет отпускать. Да, наши послы не видели их лиц. Обычаи Клеве требуют скромности; на встречах с послами сестры сидели молча, под густыми вуалями.
На входе в королевские покои он сталкивается с врачами. Первый несет склянку с мочой – торжественно, точно святой Грааль. – Заходите, – говорит король. – Я устал с дороги, милорд. Поверх вышитой ночной сорочки на короле подбитый овчиной джеркин. Ночной колпак заколот большой шпинелью, красным камнем с мягким бархатистым блеском. Подле локтя стоит таз с его кровью. Король косится на таз, затем виновато на советника. Генрих, вероятно, предпочел бы не видеть кровь, но он, Кромвель, спокоен, как мясник. – Объявлены выборы в парламент, сэр. Я прослежу, чтобы он был покладистым. Он достает бумаги и пакет. У Генриха вспыхивают глаза. – Что вы мне принесли? – Это труд под названием «Утешение государей», написанный советником одного из саксонских князей. Генрих вертит книгу в руках: – Жена стала бы утешением. – Если она принесет нам надежных союзников, сэр. Король углубляется в книгу, но он говорит: – Мои друзья из банка Фуггера говорят, Карл собирает деньги. – На солдат? – Да. Но пошлет их на Берберийское побережье. Говорят, сам он останется в Испании. Императрица ждет ребенка, и он о ней тревожится. Как известно вашему величеству, она подвержена лихорадкам. Король молчит. Без сомнения, мыслями он в прошлом, с роженицами: Екатериной, Анной, Джейн. Наконец произносит: – Вы слышали, что умер граф Уилтширский? Томас Болейн. – Упокой Господь его душу. Говорят, он умер как добрый христианин. – Пауза. – Ваше величество передаст его титул кому-нибудь другому? – Что ж, сыновей у него не осталось. – Король, хохотнув, закрывает книгу. – Джордж Болейн забыт. Только не мной, думает он. Иногда Джордж снится мне таким, каким я последний раз видел его в Мартиновой башне: по щекам текут слезы, руки, такие голые без колец, дрожат. Он говорит: – Герцог Клеве согласен прислать вам портреты молодых дам. Однако их придворный живописец болен, так что возможна задержка. Насколько я слышал, немудрено, что леди Анна прячет лицо под вуалью. Говорят, красотой она затмевает герцогиню Кристину, как золотое солнце – серебристую луну. – Не увлекайтесь, – со смехом говорит король. – Думаю, если мы отправим туда новых послов, дамы покажут лица. – Я отправляю доктора Карна. И Николаса Уоттона. Он удивлен – не знал, что король уже все продумал. Никто не может считать себя королевским другом. Генрих наблюдает за ним. – Я очень рад, сэр. Они будут беспристрастны. На их мнение мы можем положиться. Он умолкает, потому что входит молодой Калпепер, навострив говардовские уши. – С позволения вашего величества, меня прислали врачи, – говорит Калпепер. – Можно мне забрать таз с вашей кровью?
Снаружи его ждет Джейн Рочфорд: – Скоро ли у нас будет королева? – Она держит в руках пакет. – Это вам. От милорда моего отца. – Книга? – Конечно книга. Что мой отец когда-либо дарил, кроме книг? – Мог бы прислать мне пирог с дичью. Чем старше я становлюсь, тем больше ненавижу Великий пост. Принимая подарок, он смотрит ей в лицо, на ее недовольно поджатые губы. Она говорит: – Мы хотим знать, которую из сестер он выберет. Если только он не намерен жениться на обеих. Джейн Рочфорд ждет. Он листает страницы. Это книга Никколо Макиавелли, а внутри записка от лорда Морли с предложением показать ее королю; лорд Морли пишет, что отметил самые интересные места. – Итак? – спрашивает она. – Я читал ее много лет назад, еще в рукописи. Разумеется, я напишу вашему отцу и поблагодарю его. – «Итак?» было не про книгу, а про принцессу. Которую он выберет? Говорят, одна с каштановыми волосами, другая белокурая. – Надеюсь, от меня не потребуют вынести суд Париса. – Я советую выбрать белокурую. Он отдает книгу Кристофу. – Его вкусы могли измениться. Она смотрит на него как на дурачка: – Не думаю, что белокурые вышли из моды. Кстати, Говарды прислали молоденькую девицу Кэтрин, спрашивают, не возьмем ли мы ее в свиту новой королевы. Пухленькая, налитая, и, я думаю, ей нет еще и пятнадцати. – Отошлите ее обратно. – Как пожелаете. Хотя, думаю, вам легко будет переманить ее от дядюшки Норфолка – довольно будет подмигнуть и подарить яблоко. В жизни не видела такой простушки. Ротик – приоткрытый розовый бутон, как у младенца, сосущего грудь. Что передать Говардам? – Передайте отказ. Пусть не суется ко двору, пока я не получу подписи на брачном контракте. – Я слышала, герцог Клевский попросил портрет леди Марии. Пора ей принести какую-нибудь пользу. А насколько я понимаю, самое полезное, что она может сделать, – это выйти замуж за немца. – Мы не отправляем за границу портреты наших принцесс. Это не в нашем обычае. Джейн Рочфорд склоняет голову набок: – Вы очень легко изобретаете обычаи. Он кланяется, как будто она ему польстила. А что еще остается – не может же он влепить ей пощечину. Он говорит: – Послам герцога Вильгельма известны добродетели леди Марии. Они ее видели. – Но не когда она мается зубной болью, – весело отвечает Рочфорд. Он сует подарок лорда Морли под мышку. Король ничего не узнает из книги Никколо. Однако она поможет скоротать время, когда король будет мучиться болью в ноге. На вопрос, хочет ли она выйти за герцога Клевского, Мария отвечает, что поступит, как велит отец, но предпочла бы остаться в родной стране и не выходить замуж. Безупречно скромный ответ.
Дома его ждет Ричард Рич. – Рикардо, – говорит он, – мне нужна ваша помощь в подготовке к выборам. Будем каждый день работать допоздна. – А когда мы работали меньше? – отвечает Рич так, будто ему не терпится приступить к делу. – Я слышал, Ризли будет представлять Гемпшир? – Думаю, он это заслужил своими трудами за границей. Я каждый день жду его приезда. – Жаль, что он не преуспел и не привез королю жены. А в Гемпшире у короля епископ Гардинер. Появление соперника его обозлит. Он кивает: этого мы и добиваемся. – А молодой Грегори… вы считаете, он справится? Извините, но ваши недоброжелатели обязательно укажут, что он чересчур молод. – Трудное дело. Долгие заседания. Я не считаю это занятием для стариков. Рич протягивает бумаги: – Глянете? Это пенсионный список для Шефтсбери. Вы всегда говорили, что аббатиса будет биться до последнего. Однако мы нашли деньги, чтобы ее подкупить. Нам нечего обижаться. Монастырь богатый. Он проводит сухим пером по списку. Вот имя, которое он ищет: Доротея Клэнси. – Вам известно, что дамы решили по поводу своего будущего? – Не наше дело, сэр, – отвечает Рич и тут же с чувством добавляет: – Я очень тепло вспоминаю нашу поездку в Шефтсбери. Пробыть день в вашем обществе, милорд, величайшее удовольствие и величайшая привилегия. Очень поучительно видеть, как ваша милость ведет дела с людьми самого разного звания. Мне это всегда на пользу. Удовольствие и польза. Что еще нужно Ричарду Ричу? Тут распахивается дверь и влетает Кристоф с криком: – Смотрите кто! – Зовите-меня! – Он раскрывает объятия. Путник, в грязи Дуврской дороги, падает ему на грудь. – Мы потеряли вас из виду. – Он крепко обнимает Ризли. – Шапюи написал мне из Кале – вероятно, хотел сообщить, что вы в море, однако соленая вода смыла его слова. – Как и мои. – Красной сафьяновой перчаткой Зовите-меня смахивает слезу, срывает шляпу со страусовым пером и бросает на стол. – Сэр, я не в силах выразить, как счастлив видеть ваше лицо. Дважды или трижды я считал себя покойником. Не знал, чего и желать: чтобы король влюбился в Шапюи и задержал его до моего приезда или чтобы выпнул его из страны и я смог двинуться в Англию. – Страшнее всего промежуточное время. – Рейф стоит на пороге. – Когда ты ни здесь, ни там, ни на небе, ни на земле. – Он идет через комнату и целует героя в щеку. – Добро пожаловать домой, Зовите-меня. Рич смотрит оторопело, будто они индейцы на своем дикарском празднике. – О, и еще мерзавец Филлипс! – восклицает Зовите-меня, как будто сразу должен это сказать. – Сэр, вы не можете корить меня сильнее, чем я корю себя. – Успокойтесь, – говорит он. – Такие, как Филлипс, оскорбляют Бога и разум. Будь я в ваши лета главой посольства, я бы тоже поддался на обман из ревностного желания послужить своей стране. Рич ворчливо замечает: – Милорд больше порадовался бы возвращению Уайетта. Тому есть что рассказать. – Да? – спрашивает Ризли. – Планы, как всколыхнуть всю Италию, – говорит Рич. – В Толедо у него нет отбоя от послов, и он крутит их, как волчок. Венецианский посол выходит с черного крыльца, феррарский входит с парадного, мантуанский тем временем прячется под столом, а флорентийский – в каминной трубе. Пишет, что у него уже раскалывается голова от интриг. Но он ничего не расскажет, кроме как лично милорду. – Ой, – говорит Ризли. Вбегает Ричард Кромвель, улюлюкая, как псарь. Двигает Ризли кулаком в плечо. Зовите-меня отвечает тем же, пока Рейф не говорит: – Ризли, идите домой к жене. – Да, вы правы. – Зовите-меня заливается краской. Сияет. Берет со стола шляпу, взмахивает ею в воздухе, отвешивая поклон, и задевает свечу страусовым пером. Ричард Рич делает шаг вперед, гасит вспыхнувшее перо и смущенно бормочет: – Железные пальцы. Бумаги из Шефтсбери лежат на столе. Когда мальчишки уходят, он склоняется над списком, ведет указательным пальцем до имени кардинальской дочери. В воздухе пахнет жженым пером. Он ставит подпись под документом.
Через неделю он узнает, что мастер Ризли подкупил или запугал кого-то из младших шифровальщиков и добыл ключ к письмам Уайетта. Ему об этом рассказывает Рейф, вполголоса, стыдясь того, что сделал Зовите-меня. Он сам почти не злится; ему скорее смешно. Пусть попытается распутать клубок итальянских политических интриг. Уайетт говорит, запалите пожар у папы на заднем дворе. С помощью ваших денег и опыта раздуйте искры раздора между государствами, и пусть Рим тушит огонь. Он думает: замысел может сработать. А может ударить по нам. Он говорит Рейфу: – Во времена кардинала, когда я был его порученцем, а Стивен Гардинер – его секретарем, я бы вскрывал письма Стивена, если бы мог. А когда мог, то и вскрывал, думает он. И по-прежнему вскрываю. Он заходит к Гансу: – Напишите леди Марию. Мне надо отправить ее портрет герцогу Клевскому. – Вы хотите этого брака? – спрашивает Ганс. – Безусловно. – Послушайте, я не льщу. – В моем случае так точно. Однако Томас Мор у вас вышел приятным человеком. – Я не льщу, потому что не смею. Король мне доверяет. Но если я напишу нашу мышку честно, Вильгельм испугается. Посему я не вижу для себя выгоды в этом заказе. – Вы же не откажетесь написать королевскую дочь? Вы что-нибудь придумаете. – Люди говорят, когда никто не возьмет леди Марию в жены, она выйдет за Кромвеля. – Чепуха. – Он думает: она меня ненавидит, неужто Ганс этого не видит? – Вы говорите так, будто она старуха. Сколько ей? Двадцать два, двадцать три? – С лица больше. Ее гнетет собственное будущее. – Ганс смеется. И впрямь, постороннему будет нелегко угадать, сколько Марии лет. Иногда она выглядит хилым ребенком, иногда старухой. И лишь изредка, в какие-нибудь полчаса обычным вечером, она выглядит собой. На Пасху в Гринвиче он наблюдает за Марией; знает, что весь двор смотрит, как он смотрит на нее. Она недавно купила сто жемчужин и потратила триста фунтов на праздничный наряд. В желтом дамасте и лиловой тафте, она забавляет маленького принца. Играет в карты, играет на верджинеле, судачит со своими дамами, а с наступлением тепла начинает выезжать верхом. После ареста Полей и Куртенэ король велел допросить ее слуг. От нее потребовали письма Шапюи, и она через некоторое время отдала целую стопку; там не оказалось ничего существенного. Посол написал их специально, по его совету, и проставил разные даты. Скажи Мария, что ничего от посла не получала, король заподозрил бы, что она эти письма сожгла. Как, он уверен, оно и было. Такая игра Марии по силам. Однако в неделю казни король отправил к ней доктора Беттса, и тот нашел у нее сильнейшую слабость. Без сомнения, она будет скучать по Шапюи. Впрочем, сейчас весна, и король окружил Марию заботой. Он, лорд Кромвель, ведет ее смотреть игру в теннис и мимоходом замечает: – Я слышал, герцог Вильгельм очень красив. – Для меня это ничего не значит. – Да, но лучше красавец, чем урод. К слову, не позволяйте людям внушать вам, будто он лютеранин. Мячи летают через двор. – Милорд Кромвель, – отвечает она, – я никому ничего не позволяю мне внушать.
Пасхальное благочестие короля удовлетворило бы любого паписта. В Страстную пятницу Генрих полз к Распятию на коленях. Немецкие послы в ужасе. Если король так ведет себя на Пасху, то что будет на Вознесение? Когда Христос плотью возносится на Небеса, велит ли ваш король поднимать его на веревке с блоком? Будет ли он нежиться на потолке с богинями, чтобы на Троицу сойти в виде голубя? Он, лорд Кромвель, готовит собственное Вознесение. Он изобрел новое местничество, которое парламенту предстоит утвердить. Отныне ваше место определяется не знатностью и не древностью рода, а тем, какую должность вы занимаете при короле. Королевский викарий по делам церкви – то есть он – стоит выше коллегии епископов. Королевский викарий, возведенный в баронское достоинство, превосходит всех других баронов. Если лорд – хранитель малой печати родился простолюдином, он все равно сидит выше герцога. Кристоф говорит: «Если счесть все ваши чины, надо поставить на кресло лестницу, а на нее еще лестницу, а на нее трон, чтобы вам оттуда плевать на Норферка и других врагов». Томас Говард ничего не теряет при новом порядке, но все равно будет недоволен возвышением других. «А что до Гардинера, – говорит Кристоф, – который всего-то епископишка, он просто захлебнется желчью». Под расписным потолком, под жестким мраморным небом, он составляет повестку для парламента. Мы распустим последние монастыри, король начнет учреждать на их месте школы и кафедральные соборы. Нужны меры для помощи бедным, для защиты границ и для единства веры – он не особо понимает, каким будет это единство, но такова воля короля. Дочь наконец-то написала. В Антверпене дела все хуже, примете ли вы меня в Англии, если я должна буду бежать? Он пишет, обратись к Стивену Воэну, он поможет. Хотя наши послы вернулись домой, Воэн по-прежнему в Антверпене как старшина английских купцов. Он переправит тебя в Англию. Здесь она не будет в безопасности и может навлечь беду на него. Король дал понять, что некоторых сектантов в своей стране не потерпит. Можно призвать ее к осторожности. А сказать ей: «Затаись»? Другим он так говорит. Если Кранмер прячет жену, уж конечно, я сумею спрятать дочь, думает он. У него много домов, и число их все время растет. Глядя на него в эти дни, думаешь о Юпитере, планете расширения.
Как-то утром после Пасхи он просыпается с тяжелой головой, шея как деревянная. Не может есть, идет в совет на пустой желудок. Короля сегодня не будет – он уехал в свое поместье в Оутлендсе, которое намерен перестроить. Оттуда, наверное, поскачет в Нонсач глянуть, как движутся дела у Рейфа. Советники ждут. Он бросает бумаги на стол: – Без меня начать не могли? Фицуильям говорит: – Мы не смеем. – Вы не в духе, милорд Саутгемптон. Ваша гостья вас извела? Верю, что с леди Солсбери непросто. Обещаю забрать ее от вас в Тауэр. – Я об этом прошу с Рождества. И вам нечего гадать, отчего я не в духе. Я не женщина, можно просто спросить. Может, Фиц завидует его новой должности? Губернатор острова Уайт. Коннетабль Лидского замка. А может, кто-нибудь льет ему в уши отраву: лорд Кромвель-де сомневается в вашей приверженности Евангелию. Лорд Одли говорит: – Перейдем к повестке дня? Доставили письма от милорда Норфолка… Покуда Одли перечисляет очередные жалобы герцога, он пристально смотрит на Фицуильяма. Вроде бы тот не обойден почестями: граф и лорд-адмирал. Может, думает он, Фиц завидует, что у меня есть сын, которого я могу отправить в парламент, а у него нет. Под его взглядом Фиц нервничает и роняет бумаги. Мальчишке-писарю приходится встать на колени и по-кошачьи ползать у них между ногами. Гардинер хохочет. Он цедит: – Рад, что вам весело, милорд Винчестер. В голове стучит. Когда все встают, Одли говорит: – Не опаздывайте больше, милорд. Вы же знаете, что все мы рыцари Круглого стола, а ваше кресло – Гибельное Сиденье. Оно стояло пустым десять тысяч лет, пока не пришел лорд Кромвель. На следующее утро он не может встать с кровати. Пытается прочесть молитвы, но может вспомнить лишь проповедь Хью Латимера жарким июльским днем, должно быть в лето казни Анны Болейн. Но Бог придет, Бог придет, Он не станет долго медлить. Он придет в день, которого не ждем, в час, которого не ведаем. Он придет и рассечет нас на куски.
К тому времени как приходит Беттс, он уже способен говорить связно. Он был у Сэдлера, а там дети заболели корью, неужели это она?.. Старухи говорят, ею второй раз не болеют. Беттс хмурится: – Если у вас корь, мы скоро узнаем, но до тех пор ко двору не приезжайте. Эта зараза убивает детей, но он не думает, что она убьет его. Велит принести бумаги. К полудню уже сидит за столом. На следующее утро готов выйти, сопровождающие ждут, бумаги в руках. Потом садится и чувствует, что больше не встанет. Зачарованно смотрит, как из тумана выступает старинный недруг. Казалось бы, можно было уже узнать итальянскую лихорадку. – Парламент соберется на заседание, – говорит он, – и я должен… Сил закончить фразу нет. Слабость тепловатой водой разливается по жилам. Он протягивает бумаги Ричарду: – Отправишь послание королю? Нет, поезжай лично. Скачи туда, где король сейчас. Скажи, я скоро у него буду. Начинается озноб. Он в постели, диктует писарю. Озноб такой, что приходится сжимать зубы, и тем не менее между приступами он все равно диктует. Анна Болейн говорила ему: вы болеете только по собственному желанию. Как же она ошибалась!
Во время первого приступа лихорадки за дверью прячется Джордж Болейн. Слышен тихий разговор насекомых, – быть может, муха не может вылететь и бьется головой об оконное стекло: ж-ж-ж, ж-ж-ж. Он видит, что дверь приоткрыта. Джордж может в нее проскользнуть; проскользнет и уткнется незрячим заплаканным лицом в мокрую от пота подушку. Врачи говорят: – Вы знаете, как лечиться, милорд. Лежать в постели и пить слабое пиво. И горькие микстуры, от которых нет никакого прока, но их глотаешь, чтобы успокоить домашних. – Мне нужен Ризли. Где он? – Уехал в Гемпшир, сэр, готовиться к выборам. – Норфолк вернется к открытию парламента. Будет произносить речи. Что мне делать? – Сэр, эта лихорадка существовала задолго до того, как появились парламенты. Эта лихорадка существовала до того, как написали Библию по-английски, по-латыни или по-гречески. До того, как стол стал Круглым, до пожара Трои. Она губила людей до Потопа, напала на первых людей, когда тех изгнали из рая. Авель был слаб после приступа, потому-то Каин его и одолел. Все тело ломит. Перед глазами плывет. Вокруг скрипят доски, словно на корабле под парусом. Он думает, что лежит в Остин-фрайарз и его жена жива. Кажется, будто он часами летит сквозь тьму и собирает себя на кровати, как, говорят, дом Пресвятой Девы перелетел в Италию и заново отстроился среди тех, кто будет его чтить. Однако приходит утро, слуги открывают ставни – свет режет глаза, как нож, – и говорят, нет, сэр, вы по-прежнему в Сент-Джеймсском дворце. Но если вам что-нибудь нужно из Остин-фрайарз, мы принесем. Он думает: где я был? Я путешествовал всю ночь. Садится: – Я буду работать. Сегодня лихорадка трясет его, назавтра ослабевает, послезавтра возвращается с новой силой. Скоро он пройдет весь цикл. Он может сидеть за столом, но не тешит себя иллюзиями – худшее еще впереди. Надо бы уничтожить бумаги на случай моей смерти, думает он, однако, если я выживу, они мне понадобятся. Уж конечно, смерть предупредит меня заранее. По старой дружбе. Врачи спрашивают: – В случае крайности кого бы вы предпочли? Он смотрит непонимающе, переспрашивает. – Епископа Вустерского? Архиепископа Кентерберийского? – А, понимаю. Духовника. Только не Гардинера. Если он увидит меня на смертном одре, то спихнет оттуда, и мне придется умирать на полу. Он работает с удвоенной скоростью. Указания мастеру Сэдлеру, которого скоро отправляют в Шотландию. Письмо Уайетту – сообщить, что король назначил ему преемника. Зовет к себе своего французского секретаря. – Не было ли сегодня писем из Парижа? От Эдмунда Боннера? Просит таз, аккуратно блюет. Смотрит на то, что изверглось из его тела. – Какие известия от венецианцев? По последним сообщениям, флот вышел в море: готовился напасть на турок. Немецкие князья собрались во Франкфурте – есть ли депеши оттуда? Сэр, говорят они, мы принесем вам все письма, как только их доставят, только ложитесь сейчас в постель. Мальчиком в Патни он собирал в прибрежной глине монетки. Они были тонкие, сточенные, с полустертыми лицами монархов. Их нельзя было потратить как деньги – они даже в руке не звякали, – только сложить в коробку и раздумывать о них. Если столько монет выносит на берег, сколько же река таит в своей глубине? Сокровищница государей, каждый щурится в полутьме единственным глазом, как Фрэнсис Брайан. Он поднимает голову: – Как Фрэнсис? Жив еще? Я забыл. – О да, милорд, – отвечают ему. – Сэр Фрэнсис по-прежнему с нами, он оправился и от болезни, и от королевской немилости. И мы надеемся, вы тоже оправитесь. Немилости! Я уверен, что король мною недоволен, думает он. Как злился в тот день, когда я попросил об отдыхе. Как бил ногой землю и закатывал глаза. Так Генрих поступает с людьми. Берет от них все, что они могут дать, и больше. Сам раздается вширь, а они хиреют и умирают. Он не знает, вслух это сказал или про себя. Но знает, что он на барке, под своим флагом. Барка качается; Бастингс куда-то его везет. В бреду ему кажется, что в нише Ламбетского дворца вновь стоит Бекет. Бастингс говорит, я предупреждал вас, он вернется. С детства я кланялся ему, проходя, как и мой отец до меня. Чепуха, говорит он, Бекет в подвале, в сундуке. Если я умру, выстрелите моими костями из пушки. Хотел бы я видеть физиономию Гардинера!
На следующий день он шлет учтивое послание новому французскому послу, Марильяку. Кастильон вернулся во Францию, а новый посол уже посетил короля в Гринвиче. Он беспокоится, что произошло за время его болезни, а к тому же хочет узнать новости из Персии и с Востока; французы всегда получают их раньше нас. В дни, когда лихорадка ослабевает, считаешь часы и живешь в ужасе: она вернется, она возвращается, неумолимая, как ночь. Обессиленного, в ознобе, его укладывают на кровать, и тут как раз приносят известие, что прибыли послы из Клеве; они в Лондоне, просят принять их прямо сейчас. Он горит в жару, словно в оружейной мастерской; он в горне, он – зола. Его отец Уолтер заходит и кричит, ах ты безмозглый мальчишка, отчего не починил мехи, как я буду раздувать огонь? Безмозглый отец, кричит он, по-твоему, такого жара мало? Но после Италии никогда по-настоящему не согреться. Английское солнце светит вполсилы, прячется, когда меньше всего этого ждешь, а там уже и осень с теплыми дымными дождями. Как-то он был по кардинальским делам в аббатстве Лонд. Оно стоит среди зеленых лугов, тишина, слышно лишь жужжание пчел над грядками пряных трав да гул молитвы. Лето, он сидит в беседке, разговаривает с братией. Брат Урбан держит в руке левкой, рассуждает о Святом Духе. В небе плывут курчавые облачка. Теперь он в Лонде зимой. С ясного неба светит холодное солнце, деревья стоят в серебре. Он идет к аббатству, с ним брат Томас Фрисби, снег хрустит под ногами, кровь поет в жилах. Птицы и мелкие зверюшки оставили вокруг россыпь следов, будто некий шифр или утраченный алфавит. Бог видит их, две черные фигуры под эмалевым небом. И тут Фрисби с воплем исчезает. Барахтается в яме, и он, кардинальский порученец, бросается на помощь. Кричит, тянет, земля уходит из-под ног, снег летит пухом из перины. Фрисби проваливается все глубже, сутана распростерлась на снегу, руки раскинуты, ноги сучат, ища опору, пыхтит, ругается; наконец он, Томас, ставит монаха на ноги, тот щурится на солнце, нос красный, смех звенит в воздухе. Они обнимаются, стряхивают с плащей снег, радость течет по жилам, как аквавит, покуда они тащат друг дружку к аббатству на звон колоколов. Перед ним приор Лонда с лицом доктора Беттса: «Клянусь мессой, да он холодный, как покойник». Еще минута, и он будет в глыбе льда. Он думает: меня можно убрать в подвал и все лето откалывать по кусочку. Добавлять меня в мятую клубнику с ежевичным вином. Он приходит в себя. Осторожно проводит рукой по одеялу. Здесь вовсе не Лонд. На него навалили столько одеял, что он стал похож на блокгауз или фортецию. Я могу остановить турок, бормочет он. Он садится. Знаком просит пить. В комнате горят свечи. Он думает: интересно, что сталось с Фрисби? Тому ведь не так уж много лет. Я заберу Лонд себе, как только аббат передаст монастырь королю. Поселюсь там, когда все кончится. Буду лордом Кромвелем у себя дома. Летом буду сидеть в беседке, зимой гулять по льду.
Приносят письмо от Меланхтона, затем еще одно, от герцога Саксонского. Потом приходят и говорят: – Милорд, мастер Грегори здесь, прискакал во весь опор из Сассекса. Грегори входит, встает в изножье кровати, смотрит на отца. – Господи! – вырывается у него. Он говорит: – Господи помилуй, Грегори, не говори, что я исхудал и осунулся. Уж не приступу малярии свести меня в могилу. Тебя зря побеспокоили. Грегори отвечает: – Я бы все равно приехал. На заседание парламента. Он говорит: – Ричард Рич был прав. Ты слишком молод. – Он так сказал? – удивляется Грегори. Он говорит: – Грегори, после смерти Джейн ты спросил меня, на ком я разрешу королю жениться. Наша милая Джейн. Слеза катится по его щеке. Слуги разбегаются в панике. «Милорд плачет!» Ну да, прежде они такого не видели. Он утирает слезу. – Мне пришли письма из Германии. Мои писари сейчас их переводят. Князья выражают одобрение нашему браку с Клеве, королю. Принеси мне перо и бумагу. – Вы не сможете писать, отец. Он говорит: – Грегори, я должен пользоваться временем. У меня меньше двадцати четырех часов. Пока за мной не приплыл мой кормчий и не окунул меня в реку Стикс.
Однако проходят еще ночь, день и ночь, прежде чем он находит в себе силы вернуться к делам. За это время он успевает побывать в Патни. Ему лет четырнадцать-пятнадцать. Тогда он какое-то время болтался в доме Уильямсов в Мортлейке. Сестра Кэт вышла замуж в уважаемую семью, и ее новые родственники говорят: – Юный Томас – толковый мальчуган, аккуратно пишет, хорошо считает, знает подход к лошадям, да и не гордый – может и дров наколоть, и двор подмести. Кто угодно возьмет его в подмастерья и не прогадает. Они говорят так, будто он – товар. – Бедняжка, – замечает одна из женщин. – Уолтер его лупит. Ну да вы все знаете Уолтера. Уильямсы ничего не смыслят в правилах его здешней жизни, им неведомы хитросплетения кровной мести в Патни. Они не знают про долг драться и побеждать, которым он опутан с тех пор, как научился ходить. У тебя есть честь не хуже, чем у любого герцога, и ее надо защищать. Уильямсы – хорошие люди, и это оберегает их от потребности, которая гложет тебя: получить все, чего у тебя нет и в чем они никогда не нуждались. Уильямсы говорят: – Мы пристроим Томаса. Есть такой Артур Как-его-бишь в Ишере. Ему нужен мальчик. Только не это! Он не хочет быть мальчишкой Артура в Ишере. Он хочет быть другим мальчишкой, перед которым весь Ишер будет дрожать. Пока он у сестры, отец не может его лупить, но за это время мальчишка-рыбник вооружил свою шайку. Они враги с семи лет. Он не помнит, с чего началась вражда, но помнит, как окунул мальчишку-рыбника головой в бочку и держал, так что гаденыш чуть не захлебнулся. Теперь он вразвалочку идет домой, а мальчишка-рыбник с дружками уже дожидаются. – А! – кричат они. – Ножи-Точу! Они так его дразнят, потому что Уолтер точит ножи. Завидев его, они поют:
В субботу вечером ты гонишься за ним вверх по дороге. Но к этому времени ты успел запугать его угрозами, переданными через приятелей. Если мальчишка-рыбник задумался (а у него было на раздумья несколько дней), то вспомнит, что во всех ваших драках побеждал ты. С прошлым не поспоришь, поэтому он бежит. А что еще ему делать? Он может встать на дороге, протянуть руку, но тогда Томас Обалдуй отрежет ему пальцы. Мальчишка-рыбник думал спрятаться от тебя у своего дяди на складах. Думал, юркнет мимо сторожа в ворота, а тот преградит тебе путь: «Эй, Кроммель, куда намылился?» Но сегодня сторожа там нет, как тебе прекрасно известно. Когда ты уходил, Уолтер с друзьями уже час заливали глаза крепким элем. Уолтер варит мерзкое пойло, но для приятелей у него всегда лучшее. И сторож Уилкин как раз высунул в дверь пьяную рожу: – Выпьешь с нами, Томас? Он ответил: – Я иду в церковь. Уилкин отступил. Из-за двери донеслось разухабистое пение: «Вот сука, я аж эль пролил…» Ты идешь под ущербной луной и только при виде мальчишки-рыбника переходишь на легкий бег – так можно бежать сколько угодно и не запыхаться. В складском дворе его не видно, однако ничто не мешает тебе спуститься за ним во тьму, в погреб, где под низкими сводами, среди сундуков и ящиков с гербами чужих городов и торговых гильдий схоронился мальчишка-рыбник. Ты думаешь про свой дом. Уолтер и его приятели умеют растягивать эту песню с ее припевом на час с лишним – интересно, на каком куплете они сейчас? Уолтер любит петь за девицу, взвизгивая, когда ее припирают к стене: «А ну сейчас же отпусти!» И тогда хор подхватывает: «Не уходи! Куда спешить?» – и показывают руками, будто спускают штаны. По счастью, при женщинах они такого не поют. В подвале твои глаза привыкли к темноте. Тебя разбирает смех. Ты слышишь, как хрипло дышит мальчишка-рыбник. Идешь к нему, давая понять, что знаешь, где он спрятался. Кричишь: – Ты б еще флагом мне помахал! Останавливаешься. Если постоять дольше (и если тебе хватит терпения), он начнет плакать. Умолять. «А ну сейчас же отпусти!» А если простоять еще дольше, он может умереть со страху, и тогда никому потом не придется мыть пол. Ты достаешь нож. Видит ли он тебя? В подвале одно зарешеченное окошко, и света оттуда почти нет. Что проку его дяде от решетки на окне, если Уилкин уходит и оставляет дверь нараспашку? Ты говоришь это вслух. – Ну же, – кричишь ты, – согласись со мной! Он дышит так, будто там три кота в мешке. Мальчишка-рыбник храбрый, только когда с ним братья, родные и двоюродные. – А теперь обосрись, – говоришь ты, его спокойный наставник. Когда ты отодвигаешь ящик (ты сильный, вот и Уильямсы так говорят), то видишь его лицо, белое, как натянутое полотно. Оно, видать, светится собственным бледным светом, потому что ты видишь его глаза. Ты удивлен их выражением. «Рад мне, что ли?» – спрашиваешь ты. Он делает шаг вперед, словно для приветствия, и насаживается мягким животом на нож. Ты поражен, во-первых, внезапным жаром, во-вторых, хлынувшей на пол кровью. Ты выдергиваешь нож. Вместе с лезвием вытаскивается что-то еще: кишки. Твоя первая мысль о лезвии. Ты вытираешь его о джеркин умелым движением: раз-два. Вниз не смотришь, но чувствуешь его у своих ног, мокрую груду. И произносишь короткую молитву. Ты нагибаешься с усилием, как старик. Возможно, ты слишком легко принял мысль, что он мертв, но ты зажмуриваешься и тянешь руку в темноту – мягко, как девушка трогает спелый плод. Если лужа крови кажется маленькой, то лишь оттого, что она в основном под телом. Но когда ты переворачиваешь его, видно, как аккуратно сделан надрез. Позже ты не сможешь себе объяснить, почему решил его вытащить. Может, думал, он не умер, а дурит тебя? Хотя как надо притворяться, чтобы держать глаза так плотно закрытыми? Позже ты вообще ничего не можешь объяснить. Руки и ноги Томаса Обалдуя действовали независимо от души. Так что ты волочешь мальчишку-рыбника, его рыжая голова бьется о ступени. Ты ступаешь медленно-медленно. «Не уходи! Куда спешить?» Снаружи теплее, чем в погребе. Улица пуста, потом ты видишь сторожа. Он идет как пьяный, который изо всех сил старается казаться трезвым; спроси его, он скажет, что качается шутки ради. – Тверезый, как… – кричит старый пьяница и тут же умолкает, не может вспомнить, как что. – Ножи-Точу! Поздновато ты гуляешь. Он забыл, что видел тебя раньше. Что звал присоединиться к его хоровой школе. Уилкин моргает: – Кто там у тебя? – Мальчишка-рыбник, – отвечаешь ты. Без толку врать. – Ну и набрался! Домой его несешь? О друзьях надо заботиться. Помочь? Уилкин наклоняется и блюет себе под ноги. – Убери, – говоришь ты. – Давай, Уилкин, убери, не то я ткну тебя туда харей. Внезапно тебя разбирается злость, как будто нет ничего важнее чистоты улиц. – Проваливай, – говорит Уилкин и, глядя перед собой стеклянными глазами, идет прочь. Ты смотришь ему вслед. Он идет примерно к складу. Ты, не удержавшись, кричишь ему в спину: – Дверь не забудь запереть! Ты можешь с помощью приятеля бросить мальчишку в реку. Если мертвый, то утонет, если живой… то утонет. Все еще темно, от реки не доносится ни звука, ты чувствуешь, он соскользнет с берега легко, как по маслу, и бесшумно уйдет в Темзу. Ты видишь, как это будет; волна скользнет по нему, словно скучающий взгляд. Но ты не можешь этого сделать. Дело не в совести, просто силы тебя оставили. Ты достаешь нож. Еще раз вытираешь о рукав. По лезвию и не сказать, что оно было в деле. Убираешь обратно в ножны. Больше всего хочется лечь рядом с мальчишкой-рыбником и заснуть. Когда ты возвращаешься, Уолтер и его дружки все ещераспевают. Ты изумлен. Ты думал, уже три утра. Думал, будет темно, ставни закрыты, двери на замке. Но они по-прежнему тут, по-прежнему горланят: «Целуй меня! Нет-нет! Пусти!» Дверь открывается. – Томас? Где ты был? Ты не отвечаешь. В голосе Уолтера столько же злости, сколько было в твоем, когда Уилкин заблевал улицу. – Не смей поворачиваться ко мне спиной! – Да я и не думал, – говоришь ты. – Тот, кто повернулся бы к тебе спиной, был бы дурак и недолго прожил. Уолтер замахивается, но тут же отступает. Может, потому, что нетверд на ногах, а может – увидел что-то в твоих глазах. Кричит: – Сейчас вернусь, ребята! Они дошли до той части песни, в которой насилуют девицу. Им нужен Уолтер – изображать ее вопли. «Меня ты к полу придавил…» Глаза Уолтера налиты кровью. – Ну, погоди до утра, Томас. – Как скажешь. Нож подле твоего сердца; можно пустить в ход. А можно лечь и уснуть. Или упасть к его ногам: «Отче, я согрешил…» – Уолт! – кричат пьяницы. – Вернись! Косоглазый прощелыга выкатывается из двери, тянет отца за шиворот. Дверь хлопает. Он смотрит на место, где нет отца. Из-за двери несутся вопли – девица зовет мать. Однажды он станет неодолимым. Однажды он вытащит Уолтера на дневной свет и бросит на всеобщее обозрение, пусть добрые жители Патни смотрят, а если из Мортлейка и Уимблдона тоже придут, то не пожалеют. «Я готов, отец, – говорит Ноев сын в пьесе. – Видишь, вот он, мой топор, пуще всякого остер. Я топорик навострил, рубанул – как откусил». Потом Ной и его сыновья строят корабль. И уплывают по Божьим волнам.
В бреду ему кажется, будто пришел архиепископ Кентерберийский. Кранмер, не Бекет: и все равно, ему, наверное, приснилось. Когда он садится на постели, ему говорят: «Джон Хуси ждет в прихожей». Он стонет. Покупкой собственности Лайла в Пейнсуике занимаются его люди. Лайл блеет, что у них нет ни стыда ни совести, но чего он ждал? Они же юристы. Лайл ждет особого обхождения и от знатных, и от простых. Он задолжал королю за десять лет. Он должен своему бакалейщику Блэггу. Мануфактурщики Джаспер и Тонг тоже больше не отпускают ему в долг. Жители Кале жалуются ему, Кромвелю, на долги лорда Лайла, будто это он должен их платить. Помогите мне встать, говорит он. Садится в кресло, кутается от апрельского холода. – Сообщите всем, что мне лучше. Вернулся ли Норфолк к открытию парламента? А Суффолк? Заходил ли мастер Ризли? Здесь ли Грегори? – Мастер Грегори заходил и снова ушел. Он пропустил День святого Георгия, когда собираются рыцари ордена Подвязки. После недавних казней в ордене освободились места. Ему сообщают, что новым рыцарем стал Уильям Кингстон, давно заслуживший эту честь. Он спрашивает, как там епископ Гардинер? Рассорился с королем или сблизился за те несколько дней, что я болел? – Что знает епископ Гардинер, сэр? – любопытствует Кристоф. – Меньше, чем думает. – Сегодня вы в разуме, – говорит Кристоф, – а в жару стонали и говорили: «Стивен Гардинер знает». Стивен Гардинер ездил в Патни. Ковырялся в грязи. Сказал: «Кромвель, я знаю о вас больше, чем ваша мать. Знаю про ваше прошлое больше, чем вы сами». – А Томас Болейн правда умер? – спрашивает он. – Или мне это приснилось? – Умер и теперь такой же мертвый, как его дочь. В жару он видел Анну-королеву, идущую на эшафот под пронизывающим ветром. Слышал ее последнюю молитву. Видел, как женщины помогают ей встать на колени перед палачом, а затем отступают, подбирая подолы. Грегори приходит сразу, как узнает, что он очнулся. Грегори Кромвель, член парламента: зеленый бархат и закрученное черное перо на шляпе. Говорит: – Отец, новый французский посол и новый имперский посол видятся через день. Ходят под ручку, воркуют, как голубки. Однако, насколько нам известно, предатель Поль встретил у императора холодный прием. Реджинальд Поль не может взять в толк, отчего Карл не считает завоевание Англии первостепенной задачей. Карл устало говорит ему, я всего лишь человек. Я всего лишь один. И не могу вести больше одной армии одновременно. Мне постоянно надо быть готовым к войне с турками. Но турки – внешний враг, Англия – внутренний, убеждает Поль. Разве не следует прежде уничтожить внутреннего врага? Карл отвечает: – Бог с вами, мсье Поло. Если мы завтра проснемся, а турки у ворот Вены, скажете вы, что враг внутри или снаружи? На этом заседании парламента мы примем билль о лишении прав Гертруды Куртенэ и матери Поля. Их без суда объявят виновными в государственной измене. Он, лорд – хранитель малой печати, идет, хромая, в здание парламента и предъявляет расшитое облачение, найденное среди вещей Маргарет, герцогини Солсбери. На нем герб Англии с фиалкой Поля и календулой леди Марии, означающими их союз; между ними растет Древо Жизни. Это, заявляет он, нашли при обыске в сундуках Маргарет. Он говорит, я всегда знал, что вышивка доведет ее до беды. Маргарет Поль переводят в Тауэр. Королю угодно пощадить ее жизнь – до поры до времени. Он вспоминает, сколько раз Маргарет отказывалась называть его полным титулом, обращалась к нему просто «господин Кромвель». Пусть знает, кто тут господин. Ему снится, что он бестелесно бродит в густом лесу. Между деревьями расставлены зеркала.
Когда он с бумагами в руках доползает до короля, то обнаруживает, что Гардинер его опередил. Тот говорит: – У вас очень нездоровый вид, Кромвель. Прошел слух, что вы умерли. – Что ж, – смиренно отвечает он. – Как видите, Стивен. Король говорит: – Мне самому гораздо лучше. Как вы думаете, ваше недомогание уже позади? Лихорадка, он хочет сказать: приступы тошноты, ломота во всем теле, нестерпимая головная боль. – Ваше величество, у меня новости из Клеве. Он ждет, что король велит Стивену удалиться. Однако Генрих лишь спрашивает: – Да? – Епископ Винчестерский, без сомнения, очень занят. Может быть, ему пора вернуться к делам? Однако Генрих не дает знака. Стивен раздувается, как жаба. Он демонстративно отворачивается от Гардинера и обращается к королю: – Герцог Вильгельм хотел бы знать размер вдовьей доли для своей сестры… того, что ей достанется, если она переживет ваше величество. – Почему он думает, что это случится? – спрашивает Гардинер. Он смотрит только на короля: – Такое прописывается в любом брачном договоре. Как ни мало вы знаете о браке, про это наверняка слышали. Стивен говорит: – Полагаю, если такое случится, дама будет вне себя от горя и скорбь об утрате короля вытеснит у нее всякую мысль о земных благах. Он косится на Генриха: король зачарованно слушает Стивена. – Потому-то родня невесты и уславливается об этом заранее, чтобы вдова за слезами не лишилась своих прав. Генрих говорит: – Я известен своей щедростью. Герцогу Вильгельму не на что будет жаловаться. – Есть еще один вопрос, – нехотя говорит он. – Наш человек Уоттон пишет вашему величеству. Чуть более десяти лет предполагалось заключить брак между леди Анной и наследником герцога Лотарингского. Сейчас… – В прошлом году это уже обсуждали, – говорит Генрих. – При помолвке сторонам было десять и двенадцать лет. Ни один договор не имеет силы, пока стороны его не подтвердят, достигнув брачного возраста. Посему я не вижу тут помехи для нашего союза. Зачем было вытаскивать старую историю? Я вижу за этим происки императора. Он не хочет, чтобы я женился. – И все равно нам лучше посмотреть документы, – замечает Гардинер. – Мне думается, – говорит он, – что Вильгельм не предложил бы нам сестру, не будь она совершенно свободна. Гардинер стоит на своем: – Я хотел бы посмотреть пункт об аннуляции. – Насколько я понимаю, договор о помолвке входил в более общий документ, который не аннулирован, поскольку составляет часть договора о дружбе и взаимопомощи… – Он закрывает глаза. – Я попрошу кого-нибудь записать это для вас, Гардинер. – И покажете всему совету. Без этого опасно переходить к следующим шагам. – Опасно? – Генрих пристально сморит на Стивена, будто оспаривает выбор слова. – Неразумно, – сдается Гардинер. – Так или иначе, – говорит он, – хотя король предпочитает леди Анну, как старшую и более приличествующего возраста, в случае затруднений остается леди Амалия. И – хорошая новость – они могут прислать портреты. Гардинер говорит: – Интересно, откуда они их взяли, ни с того ни с сего. Вроде говорили, Кранах болен. – Может быть, он умеет выздоравливать, – говорит он, – как и я. – Сколько им лет? – Принцессам? – Портретам, – говорит Гардинер. – Меня заверили, что они свежие. – Но если наши послы не видели дам, как они могут поклясться, что портреты не лгут? – Они их видели, – говорит он. – Только под вуалями. – Почему, хотел бы я знать? Генрих восклицает: – Вот видите? Разве это не обрадовало бы императора? Несогласие между моими советниками? Разлад и вражда? Они с Гардинером смотрят друг на друга. Епископ здесь не для того, чтобы обсуждать королевский брак, а по Божьим делам, во всяком случае, так он сам уверяет. Король желает парламентским актом искоренить разномыслие, то есть запретить людям выражать свои мнения. Гардинер приехал навязать королю шесть статей вероисповедания, которые будут представлены коллегии епископов и ученых, – утянуть того на сторону Рима окончательно и бесповоротно. Без сомнения, его болезнь сильно повредила евангельскому делу – собратья по вере напуганы и разобщены, без него они не смогли дать дружный отпор. Норфолк протащил на спикерское место своего ставленника. В палате лордов герцог сражается за шесть статей и вещает о них с апломбом, хотя в богословии смыслит не больше воротного столба. Гардинер собрал епископов, верных древней доктрине, и они сговариваются с завтрака до ужина, вещают как отпетые паписты и поднимают тосты за возвращение старых времен. Покуда лорд – хранитель малой печати обливается потом на одре болезни, покуда он пишет письма по всей Европе, выискивая нам друзей и союзников, покуда он занят тем, как найти почти полторы тысячи фунтов в день на плату и провиант морякам для наших кораблей в Портсмуте – враги его обошли и к концу парламентской сессии получат свой Шестистатейный статут. Король говорит: – Милорд Кромвель, у вас всё? Он откланивается. Калпепер выскальзывает вслед за ним: – Вам нужно сесть, милорд? Вина? Ему нужно кого-нибудь ударить. Он отмахивается – ничего, мол, не надо. Когда добирается до дома, его трясет от усталости. Надо же, он забыл, сколько же сил уходит на стычку со Стивеном Гардинером! Бросает бумаги на стол: – Попросите немецких гостей зайти ко мне. Я задам пир. Позовите сюда Терстона. Он говорит так, будто недуг уже позади, но знает, что лихорадка еще вернется. Лишь бы она слабела с каждым приступом! Этим летом ему важно быть рядом с королем, значит нужны силы для долгих дней на охоте. За каждый день вдали от Генриха он теряет преимущества. Если государь тебя не видит, он тебя забывает. Даже если ничто в королевстве не делается без тебя, король думает, будто все делает сам. И все же, говорит он себе, я викарий по делам церкви. Я, а не Стивен, государственный секретарь и хранитель малой печати. Я ближайший советник короля, меня Генрих ценит больше всех, я пущу папистские корабли ко дну. Сегодня каждый день – Вознесение. Пусть Томас Говард ненавидит Писание, скоро Библии будут в каждом приходе, и я стану их раздавать, стоя подле короля. А что до Гардинера, разве тот понимает мысли и настроения государя? Что ему известно о доходах? О защите страны? Погожим майским днем, собравшись на заре, мощь Лондона проходит перед королем в Уайтхолле. Шестнадцать тысяч человек в полном вооружении, каждый десятый снаряжен за его счет. Он собирался ехать впереди всех, но слабость задержала его в Сент-Джеймсском дворце, так что он наблюдает за процессией из задних ворот; впрочем, король прислал ему в компанию Джона де Вера, графа Оксфордского, лорда – великого камергера. Грегори и Ричард едут рядом на белых конях; лица строги, доспехи блистают, флаг Кромвеля плещется на ветру. Он думает: в Италии, в бытность солдатом, я на спор взял в руки змею. Мои товарищи медленно считали от одного до двадцати. Змея извернулась у меня в руке и вонзила жало глубоко в запястье. Однако я сжимал ядовитую гадину, пока сам не пожелал ее отпустить. Яд меня не убил. Свидетели набили мне карманы деньгами. И будь проклят тот, кто скажет, будто я получил их незаслуженно.
Когда дни ясные и воздух после вечерни приятно свеж, король катается по реке на барке, показывается народу: на шее золотой лоцманский свисток, лицо сияет улыбкой; следом на второй барке его музыканты, звучат флейты и барабаны. Люди выстраиваются по берегам и приветствуют монарха криками. Троицу в этом году справляют пышно, как при папистах. Ричард Рич проводит праздничный день за составлением длинного списка королевских долгов. Из Испании приходит известие, что императрица умерла и ее новорожденный ребенок тоже. Король объявляет полный придворный траур. Собор Святого Павла завешен черными полотнищами и флагами Священной Римской империи. Герцоги Норфолк и Суффолк возглавляют церемонию. Он держится настолько далеко от Норфолка, насколько может это делать, не упуская того из виду и не теряя места по старшинству. Служат десять епископов во главе со Стоксли. Тот выглядит больным, а ведь должен бы, как старый приспешник Мора, взбодриться и помолодеть от шести тлетворных статей. Все лондонские церкви звонят по императрице, чужой женщине, которая здесь в жизни не бывала. Трезвон не умолкает до полуночи. Летучие мыши и демоны кружат в воздухе. Уайетт пишет из Толедо, что его вещи уложены, а инквизиторы, пусть неохотно, согласились с ним расстаться. Однако император затворился в монастыре и оплакивает жену, так что придется ждать, – он хочет уехать официально, а не сбежать, как невежа, по уши увязший в долгах. «Хотя такой он небось и есть, – замечает Рейф. – В смысле, по уши в долгах». Бесс Даррелл пишет из Аллингтона: Кромвель, где Уайетт? Каждый час кажется мне годом. Из Италии сообщают, что в одну ночь видели две кометы. Допустим, одна означает кончину императрицы; что еще припрятал для нас в рукаве Создатель луны и звезд?
Приходит Кранмер. Говорит: – Я потрясен, что парламент обратил вспять дело истинной религии. И впрямь пути Господни неисповедимы, коли Он попустил вам заболеть именно тогда. – Что ж, Гардинер удачно подгадал время, – говорит он. – И Томас Говард… – Не знаю… – мнется Кранмер. – Нельзя целиком винить… – Вы не хотите винить короля, да? Лучше винить Норфолка, епископа Гардинера, Стоксли и Сэмпсона, чем гадать вслух, малодушен Генрих, лицемерен или просто не способен понять собственной выгоды. – Наши немецкие друзья в ужасе, – говорит Кранмер. – Мне пришлось защищать перед ними моего господина. – И как вам это удалось? – любопытствует он. – Как лорд Одли такое допустил? Открывал и закрывал рот, точно деревянный идол на веревочках. И Фицуильям – я числил его вашим другом. Он больше не доверяет лорд-канцлеру Одли. Не доверяет лорд-адмиралу Фицуильяму. Пересчитать епископов, и едва ли десять окажутся надежными. Так король смог провести билль, который, помимо прочего, под угрозой виселицы требует от женатых священников расстаться с женами. Закон вступает в силу через две недели, чтобы дать время для прощаний. – Что будете делать вы с Гретой? – спрашивает он. – Расстанемся. Что нам еще остается? – А ваша дочь? – Грета заберет ее с собой в Германию. В других обстоятельствах это сочли бы грехом – разве можно разлучать семьи? Кранмер говорит: – Мы умоляли короля задать вопрос университетам, умоляли почитать Писание и найти, где мужчине запрещается имеет спутницу жизни. Я не понимаю его. Он сам говорит, брак – величайшее таинство, существующее от начала мира. Тогда почему он стольким из нас в нем отказывает? И еще, когда билль будет принят, никто из нас не посмеет проповедовать о таинстве евхаристии, о его природе. Мы не отважимся. Не будем знать, что безопасно говорить, чтобы не подпасть под обвинение в ереси. И это король называет согласием: вынужденное молчание. Епископы Латимер и Шакстон прямо выступили против короля; им придется уйти с кафедр. Кранмер говорит: – Я тоже думал подать в отставку. Какой от меня прок? Возможно, мне надо сложить вещи и отправиться вместе с Гретой. – В подобном же случае вы сказали мне мужаться и смотреть далеко вперед. – Насколько далеко? – Кранмер от горя не выбирает слов. – До его смерти? Поскольку если после всех десятилетних трудов Генрих от нас отвернется, то уже навсегда. – Он непоследователен в своих ошибках. То, что написано на пергаменте, может и не воплотиться в жизнь. Любой указ, любое постановление я могу придержать, могу… – он умолкает, не сказав «похоронить», – могу с этим работать. Вокруг новых статей вероисповедания есть много обходных путей, и можно протоптать их в одном или другом направлении… – За исключением одного, – говорит Кранмер. – Мои жена и дочь не поддаются двоякому истолкованию. Они либо здесь, либо в Нюрнберге. Они не могут зависнуть посередине. – Возможно, вы снова увидитесь с Гретой. Если я женю короля, наши позиции в Европе укрепятся. – Я сомневаюсь, что этот брак состоится. Мы отталкиваем наших друзей. Он пожимает плечами: – У меня закончились невесты. А герцог Клевский не лютеранин. Возможно, он смирится с новым порядком вещей. – А как насчет вашей дочери? – спрашивает Кранмер. – Она ведь теперь не может сюда приехать? Если сохранит свою веру? Архиепископ Кентерберийский не ждет ответа, но на глазах у королевского викария по делам церкви начинает себя переубеждать. Сейчас Кранмер будто человек, отступающий от обрыва: в отчаянии он хотел броситься на острые камни, потом ощутил ветер, толкающий его к гибели, ощутил воздух в легких, увидел внизу чаек, и его отбросило от края, словно перышко; он цепляется за чахлые кустики и, зажмурив глаза, держится изо всех сил. – Я не скажу ни слова против короля. – Никто вас и не просит. – Его знобит. Хочется уронить голову на стол. – Я не верю, что он руководствуется дурными намерениями или желает зла своим подданным. Наверняка его сомнения искренни, и они мучают его сильнее, чем нам кажется. – Возможно, – отвечает он. – На совести короля лежало бремя. Он отводил глаза. Щадил меня, например. – Наши правители ведут счет нашим оплошностям, – говорит он. – Они могут промолчать, но записывают все в тайную книгу. – Мы знаем, чего требует от нас Христос, – продолжает Кранмер. – Мы знаем, что такое милость, что такое послушание, мы знаем Его заповедь: блаженны миротворцы. Как меня ни печалят последние события, я вижу, что король стремится к миру. И добрые подданные должны идти за ним. – Конечно, – отвечает он. – Либо понести наказание. Его недоброжелатели говорят, что Хью Латимера повесят еще до Рождества. Он намерен этого не допустить. Однако жена Кранмера сядет на корабль в ближайшие дни, и ему нечем ее обнадежить.
Чтобы исключить недопонимание – на случай, если какой-нибудь дурак сочтет короля папистом, – мы устраиваем Речной триумф. Жарким июньским днем, тепло закутавшись, он стоит рядом с новым французским послом и объясняет спектакль. На глазах у короля и двора английские моряки берут на абордаж набитые папистами галеры. Кардиналов бросают в Темзу, они бултыхаются и вопят, барабанщики выбивают победную дробь. Солнце пляшет на воде, трубы заливаются, на волнах подпрыгивает папская тиара. – Клянусь святым Иудой! – восклицает Марильяк. – Надеюсь, они умеют плавать? – Их специально отбирали, – говорит он, – по моей просьбе. – Вздыхает. – В каждую мелочь приходится вникать самому. Король из-под балдахина кричит «ура». Герцоги рукоплещут и топают ногами. Придворные бросают в Темзу монеты. – И все же хорошее представление, – великодушно произносит посол. С барки выуживают из воды участников битвы. – Костюмы, боюсь, испорчены безнадежно. – Смешок. – Впрочем, Генриха такое не заботит. Вы ведь его обогатили, да? – Вы увидите, как строится наш флот, – говорит он. – Погода сейчас получше, так что, если пожелаете, я сочту за честь провезти вас по южным портам. Дипломатическая пауза. Он искоса разглядывает нового посла. Тот еще не разменял четвертый десяток, но, как утверждают, умен и дальновиден – несколько лет назад, когда пошел слух о его приверженности лютеранству, догадался уехать из Франции. Отправился на Восток с братом, послом при дворе султана, а теперь и сам назначен посланником в Англию… Считает ли он свои реформаторские взгляды юношеской блажью? Или Франциск выбрал его именно за них, полагая, что так послу будет легче поладить с Кремюэлем? Он говорит: – Нам, англичанам, пришлось устроить для вас пышное представление. Мы не хотим выглядеть бледно по сравнению с местом вашего прежнего посольства. Придворные кавалеры уходят вслед за королем. Они собираются на другой берег, в Саутуорк, смотреть медвежью травлю. – Вас в Константинополе помнят, – замечает Марильяк. – Говорят о вас. Он прячет изумление. Это был какой-то другой английский бродяга, тоже Томас. – Кстати, – говорит Марильяк, – официально меня здесь нет. Я не пришел в знак протеста. – Понимаю. Я и сам частенько бываю в двух местах сразу или нигде. И я согласен, зрелище малопристойное, хоть и забавное. Знаете, я скучаю по вашему соотечественнику Дентвилю, он часто бывал так мрачен, что меня разбирал смех. Думал, ваш король снова пришлет его. – Он торопливо добавляет: – Разумеется, мы очень рады, что прислали вас. Марильяк изумленно оборачивается к нему: – Вы не слышали? О великом позоре? Он вспоминает, как отравили покойного дофина. – Насколько я понимаю, распространялась некая клевета – но семья ведь полностью от нее очистилась? – О да, насколько такое возможно. Но с тех пор был новый скандал. Весь род погублен. Содомия, боюсь. У него падает сердце. – И где теперь Дентвиль? Марильяк пожимает плечами: не все ли равно? – В Италии, кажется. Сперва убийство, затем содомия. Похоже на то, что мог бы измыслить Гардинер, дабы уничтожить врага. Он вспоминает посла в мехах, каким написал его Ганс: порванная струна на лютне, булавка с черепом на шляпе Дентвиля. – Будь он с нами сейчас, ежился бы от холода и сразу поспешил домой к жаркому камину и вину с пряностями. Марильяк смеется: – Нас погода не страшит. Итак, переправимся через реку глянуть на медведя?
После закрытия парламента и до того, как двор разъедется, король велит устроить обед. Кранмер соберет гостей в Ламбетском дворце. Будут Норфолк и Стивен Гардинер. Кранмер в своей роли архиепископа должен всех помирить, усадить за стол и накормить вкусностями. Лето обещает быть жарким и куда более сухим, чем в прошлые годы, – не будем говорить засушливым, дабы не искушать небеса и они нас не затопили. Порою кажется, дожди шли беспрерывно с тех пор, как кардинал впал в немилость. Не успели они просидеть за столом и часа, как Гардинер обвиняет его в убийстве. Разговор зашел о Риме, об увядающей славе города, памятниках и площадях. – Вы были там, когда умер кардинал Бейнбридж, – объявляет Гардинер, вытирая рот. – Занятно. – И добавляет, обращаясь к гостям в целом: – Считается, что кардинала отравил кто-то из слуг. Он подается вперед: – А у вас другие сведения? Вдоль всего стола гости кладут ножи, перестают жевать и прислушиваются. Гардинер поворачивается к Ризли – тот молод, не слышал этой истории. – Арестовали священника, некоего Ринальдо. Сжимали ему ноги, пока не выступил костный мозг, что бросает некоторую тень на достоверность его признания. Он – хранитель малой печати – откидывается на стуле и разглядывает Гардинера. Знает, что тот хочет его поймать, и потому не заглатывает наживку. – Стивен, это было двадцать пять лет назад. Большинство тех, кто что-нибудь помнил, умерли. – Бейнбриджу стало плохо за обеденным столом, – говорит Гардинер. – Ему подсыпали порошка в суп. – Да, – поддерживает Норфолк. – Так и епископа Фишера отравили. Его повара сварили живьем. По столу пробегает недовольный ропот. – Вы нам аппетит отобьете, – возмущается лорд-канцлер. – Порошок был куплен в Сполето, – продолжает Стивен. – Я знаю эту лавку. Он смеется: – А лавка вас знает? Норфолк говорит: – Интересно, сколько тогда в Риме платили за убийство? Ведь этот священник, Ринальдо… его же кто-то подкупил? – Естественно, – отвечает Гардинер. – Епископ Джильи. Видно, как герцог с натугой вспоминает. Жует имя, будто пережаренное мясо: Джильи. Сильвестро Джильи. – Епископ Вустерский, – выпаливает наконец Норфолк. – Ставленник Вулси. – Вот именно, – говорит Стивен. – Человек Вулси в Риме. После устранения Бейнбриджа Вулси открылась дорога к тому, чтобы стать следующим английским кардиналом. Тишина. Он нарушает ее, прося слугу подлить ему вина. – Половина города желала Бейнбриджу смерти. Французы его ненавидели. Флорентийцы его ненавидели. И он был в долгах. – Вы видели долговые записи? – спрашивает Гардинер. – Кто вас к ним допустил? Приносят каплунов, слуги принимаются их резать. В Риме, за папским столом, особый слуга держит мясо на вертеле и отсекает от него ломти на весу – это придает драматизма даже самой мирной трапезе. Он, лорд Кромвель, ставит кубок и, повернувшись к гостям, с улыбкой разводит руки: – Я всегда считал, что Бейнбриджа убил папский церемониймейстер. Он ненавидел кардинала за то, что тот англичанин, вечно преклонял колени не в том месте или являлся не с тем жезлом. Курия считала его варваром. Кранмер, во главе стола, беспокойно ерзает: – Как вы оказались в Риме, милорд Кромвель? – По личному делу. Тогда я еще Вулси не знал. – Вы всегда знали Вулси, – злобно произносит Гардинер. Был праздник Тела Господня, пятнадцатое июня, когда Бейнбридж съел свой суп и у него начались рези в животе. Доктора поставили ему клизму и дали рвотное, так что он оправился и к вечеру смог сесть за ужин. Уж конечно, ему не хотелось пропустить критское вино и черную икру в доме кардинала Карретто. На следующий день Бейнбридж, как обычно, бушевал и раздавал пинки слугам. Только четырнадцатого июля он слег и умер. Священника Ринальдо арестовали, потому что Бейнбридж прилюдно его ударил и все знали, что он затаил злобу. После трех дней пыток в папских застенках Ринальдо как-то раздобыл нож и пырнул себя в живот – неумело, но все же не так неумело, как Джеффри Поль. Он умирал день или два, потом римляне вывесили труп на общее обозрение. До того как тело четвертовали, он видел, как оно болтается, – он, Кремуэлло, oltramarino, giovane inglese[165]. К ногам Ринальдо были привязаны таблички с указанием его вины. Он сознался, что Джильи заплатил ему за убийство хозяина пятнадцать дукатов, но эта подробность на табличках не упоминалась – она пробила бы брешь в стене, ограждающей ватиканские тайны. Епископы и кардиналы убивают друг друга, а за их преступления карают простолюдинов. То лето было жарким даже по римским меркам. По ночам сами камни будто исходили потом, выдыхая в воздух накопленную за день ложь. Сам он бродил по раскаленным улицам спокойный, молчаливый, уверенный. После укуса змеи что-то от ее природы вошло в его кровь, и он научился свиваться кольцами и ждать своего часа. Норфолк говорит: – Я никогда в Риме не был. Бейнбриджа, конечно, знал. Желчный был тип. – Да и немолодой, на шестом десятке, – добавляет Кранмер. – А к тому же вечно сам распалял свой гнев. Для таких людей жара губительна. И я слышал, что священник перед смертью отказался от сделанного под пыткой признания. – Так кто убийца? – спрашивает Стивен. – Вы всерьез обвиняете милорда Кромвеля? – уточняет Зовите-меня. – Он тогда не был милордом, – говорит Норфолк. Да, не был. Сейчас он видит себя в сумерках на Пьяцца Навона. Заполучив красную шапку, Бейнбридж всерьез возомнил себя будущим папой и дом себе завел соответствующий: арендовал дворец Франческо Орсини, откуда близко и до Ватикана, и до Английского странноприимного дома, где живут его соотечественники. Величественный фасад, лоджии, террасы – Бейнбридж занял деньги на убранство дворца у банкиров Саули, а еще он в долгу у Гримальди. Многие могли бы нанять Кремуэлло следить за черным входом Бейнбриджа, а некоторые и наняли; он распределял добытые сведения между заказчиками, упирая на то, что они хотят услышать. Стоя здесь, он разговорился с уличной девицей. Она высветлила волосы, но они уже отрасли на ладонь. Твои смоляные локоны ничуть не хуже, сказал он. Для англичан это в новинку, девиц с копной сена на голове у нас своих хватает. Ты англичанин? – спросила она. Господи, а и не скажешь. Так вот почему ты следишь за домом кардинала. Соскучился по пьяным крикам земляков? Подожди, скоро кто-нибудь из них выйдет и сблюет на улицу. В ту ночь она ему сказала: послушай, римляне, тосканцы, французы, англичане, немцы – все любят блондинок. Для меня и моих сестер по ремеслу беда родиться с волосами не того цвета. Я бы их снова высветлила, да если это делать часто, они выпадут, а ни один мужчина, какого бы он ни был роду-племени, не захочет лысую. Она зевнула. Было хорошо, сказала она, а хочешь теперь в другой позе? Кстати, если тебе нужна работа во дворце среди земляков, могу тебя устроить. У меня двоюродный брат там на кухне. По одежде она приняла его за нищего писаря. Он повернулся к ней, обсудил новую позу и сколько та будет стоить. И откуда у него брались силы, в такую-то жару? Впрочем, когда молод, от нее страдаешь куда меньше. – Милорд? – спрашивает Ризли. – Извините. Милорд епископ, я забыл, что вы сказали? – Вулси, – медленно произносит Гардинер, – почти не потрудился скрыть свое участие в убийстве. Они с епископом Джильи были в тесной дружбе, пока не разругались из-за облачений покойного Бейнбриджа. Вулси хотел, чтобы их упаковали и отправили ему в Лондон. В бытность его секретарем я видел переписку в архиве. – Знаете, что я думаю? – говорит Норфолк. – Нам куда лучше вообще без кардиналов и прежних гордых прелатов. Вот наш архиепископ… – герцог показывает большим пальцем на Кранмера, – по крайней мере держится смиренно. По нему видно, что он проводит время в молитве, а не строит козни против дворян, не придумывает, как их извести и погубить, чем постоянно занимался Томас Вулси. – Милорд Норфолк, – говорит он. – Да, и еще назначал проходимцев на ответственные посты, выманивал взятки, подделывал купчие, запугивал знать, якшался с чернокнижниками и вообще крал, лгал и хитрил… Он встает. – …на погибель страны и на позор королю. Он хватает герцога за плечи. Держит на вытянутых руках, так что может дернуть к себе и подножкой сбить с ног. Кранмер вскакивает с места: – Как вам не стыдно, Томас, он же старик. Архиепископ тянет Норфолка за одежду, будто тот щука на остроге, а он хочет выпустить ее в реку. Лишь когда по лицу архиепископа начинает катиться пот – а может, слезы, – он, Кромвель, разжимает хватку. Томас Говард ругается на него страшными словами, как пушкарь. Входят слуги и уносят мясо. Все садятся и злобно смотрят друг на друга поверх имбирных цукатов. – Что ж, – говорит Стивен, – ни одними мирными переговорами я не наслаждался так, как нынешними.
Пришло время королю уезжать из Лондона на лето – он отправится сразу после закрытия парламента. Сперва свита остановится в Беддингтоне, в уютном доме, которым прежде владел Николас Кэрью. Затем седьмого июля переберется в Оутлендс, оттуда в Уокинг. Месяцами, годами лорд Кромвель не вспоминал юность; он затолкал прошлое во двор и запер ворота. Сейчас его тревожит не вопрос Гардинера об Италии; Италия умеет хранить секреты. Его преследует Патни, далекое, но близкое. За время лихорадки он ослабел, прошлое вырвалось на свободу, и теперь он беззащитен перед воспоминаниями. Они являются когда вздумают: в зале совета слова пробиваются сквозь сырой туман его детства. Он – монах, сошедший с ночной звезды, по-прежнему окутанный снами, так что шарканье других советников звучит шорохом листьев в лесу его младенческих лет, и, подобно чудищу в куче листьев, его разум ворочается, не находя покоя. Он пытается удержать мысли (здесь, сейчас, на этом месте), но они убредают к запахам прелой соломы и затхлой воды, горячей копоти в кузне, конского пота, кожи, травы, браги, свечного сала, меда, мокрой псины, пролитого пива, к улицам и пристаням его детства. Он берет перо. Король проведет в Уокинге дней шесть; возможно, там он, лорд Кромвель, и присоединится к Генриху. Затем в Гилдфорд… Луна на ущербе. Он чувствует запах реки и вонь обосравшегося мальчишки-рыбника. Мальчишка лежит у его ног, сил тащить эту тушу дальше уже нет. Томас Обалдуй не знает, что делать. На него накатила смертельная слабость, апатия растекается от головы к ногам. Так что Обалдуй в растерянности приплелся домой. Уолтер пил с дружками, пока не захрапел под козлами, но отчего-то проснулся ни свет ни заря и протопал на второй этаж. А ведь должен был прохрапеть, обливаясь потом, до полудня. Может, Томас Обалдуй на это рассчитывал и намеревался, пока добрые люди спят, пойти к реке и проверить, живой там мальчишка-рыбник или мертвый. Глянуть, лежит он, где я его бросил, или кто-нибудь нашел его и скормил свиньям. А впрочем, бог весть что он тогда думал. Проснулся он потерянный, без единой мысли и плана. При дневном свете еще раз протер нож, но оставил наверху, когда пошел во двор пивоварни. Надо ж было так просчитаться, недооценить злобу и хитрость Уолтера. Первый удар пришелся по голове и оглушил. Кровь залила глаза, дальше Уолтер мог бить его как захочет. Уолтер бил ногами и кулаками, пока он, Томас, не превратился в кровавый студень на булыжниках, а отец стоял за ним и орал: «А ну вставай!» Какое-то движение воздуха. Лорд – хранитель малой печати поднимает голову от плана королевских разъездов. Зовите-меня впорхнул в комнату, а теперь падает в кресло и требует эля. Обмахивается шляпой. – Гардинер, – говорит Зовите-меня. – Боже правый! Обвинить вас в убийстве! Хотя, если вы и впрямь избавили мир от одного кардинала, что с того? Это было в другой юрисдикции и давным-давно. Он говорит: – Я устраню Стивена. Смотрите – и увидите. Зовите-меня смотрит ему в лицо: – Верю. – Я этим занимаюсь. Извините, мне надо закончить. – Он возвращается к бумагам. После Гилдфорда Фарнхем. Прежде чем король въедет в тот или иной город, нужно точно убедиться, что там нет чумы. При малейшем подозрении маршрут придется менять, так что нужны дома про запас, чтобы там заранее начистили серебро и проветрили перины. – Сколько от Фарнхема до Петуорта? – Напрямик миль двадцать, – отвечает Зовите-меня. – Но больше, если пойдут дожди и придется ехать в объезд. Двадцать миль король сейчас в силах проехать верхом. – Не знаете, намерен ли король посетить Вулфхолл? Зовите-меня задумывается: – Дом маловат для его свиты. – Сеймуры съедут. Эдвард это предусмотрел. – Ему видится, как тень Джейн гуляет по саду молодой госпожи; она жива там под зелеными деревьями, в своем новом, расшитом гвозди`ками платье. Он хмурит брови над бумагами: – Допустим, он поедет из Петуорта в Каудрей, к Уильяму Фицуильяму? Затем в Эссекс… А, вот и Мэтью. Мэтью вносит миску со сливами и почтительно ставит ее на стол. – Плоды успеха, – с улыбкой замечает Ризли. – Поздравляю вас, сэр. Он считал, что сливы в этой стране недостаточно хороши, поэтому улучшил их, привил черенки на подвой. Теперь в его садах сливы зреют с июля до конца октября, размером с грецкий орех или младенческое сердце, пятнистые и полосатые, мраморные и крапчатые, кожица у них от лимонной до горчичной, от розовой до пунцовой, от лазурной до черной; есть гладкие, а есть опушенные, словно зверьки, лиловым или белым пушком; есть круглые янтарные плоды с серыми пятнышками цвета его ливреи, а есть тонкокожие багряные в серебряной сетке; мякоть у одних твердая, у других тающая во рту, сахарная или пьяная, а любимый его сорт – пердригон; у самых светлых кожица желтая с белым бочком и алым румянцем, они поспевают к концу августа, а следом и упругие сентябрьские плоды, темно-синий пердригон и его черный собрат, любящий восточную сторону сада, – их мясистая желтовато-зеленая мякоть легко отходит от косточки. Они хранятся всю зиму – можно есть на десерт, а можно просто любоваться в свободную минуту: золотые плоды в оловянной миске, или черные, как тень, или алые, как кардинальская мантия. Он говорит Мэтью: – Помнишь, как мы охотились в доме твоего прежнего хозяина? В тот день, когда король потерял шляпу? Мэтью ухмыляется. Разве можно забыть тот день, когда охотники вернулись красные, словно поджаренная ветчина? Если ветер срывает с джентльмена шляпу, его спутники тотчас снимают свои. Учтивый человек говорит, наденьте шляпы, не страдайте из-за меня. Однако король, хоть и не пожелал принять чужую шляпу, не сказал им покрыть голову, так что они вернулись с охоты обгорелые до волдырей. Он говорит: – Надо было видеть Рейфа Сэдлера. У него глаза сварились. Мэтью говорит: – Мой друг Роб повел нас на поиски шляпы, но мы так ее и не нашли. Он сказал, на шляпе пряжка со святым Губертом, глаза – настоящие сапфиры, уж точно бы мы получили награду, если бы ее принесли. Он берет перо. Возвращается к королевскому лету. Король поедет в Сэнстед, оттуда в Бишопс-Уолтем, дальше в Трекстон; затем оставит Гемпшир позади и поскачет на запад. В Севернейке щурится на землю Губерт, запутанный в ветвях. В разгар лета мы будем проезжать по тем же тропинкам, и он увидит, какими мы стали: талия шире, грехов больше. «Середина августа, – пишет он. – Пять дней. Вулфхолл».
II Двенадцатая ночь
Осень 1539 г. Ганс сворачивает невесту, везет ее в Англию и ставит к стене. – Я спешил, – говорит Ганс. – Как высохла, так сразу и поехал. Амалию я тоже привез, младшую. Но честно сказать, Амалия не особо. – Покажите мне прежде Анну, – говорит он. Отступает на шаг – полюбоваться сияющей принцессой, в которой металла больше, чем плоти. Одежда – словно латы античной богини и, судя по виду, могла бы стоять сама по себе. От блестящей кирасы переводишь взгляд на лицо. Это мягкий овал, голый, беззащитный. Оно не такое юное и свежее, как у Кристины, но в нем есть смиренное очарование. Нежные глаза, затуманенные – Пресвятая Дева, размышляющая о нежданно выпавшей ей судьбе. – Генриху понравится, – говорит художник. – Мне нравится. Вам нравится. Хорошая картина. Не угадать, сколько я над ней потел. – Покажите мне Амалию, – говорит он. Если герцог Вильгельм умрет, не оставив потомства, Анна, старшая, унаследует больше. Амалии надо быть исключительной красавицей, чтобы восполнить этот изъян. Он разглядывает ее. Смуглее. Лицо более длинное. Брови четче. – Она напоминает мне другую. Болейн. Ганс поворачивает Амалию к стене.Генрих стоит перед портретом невесты, и его взгляд, как и взгляды советников, движется от середины вверх. Время течет: песок сыплется в часах, река бежит в море. Генрих кивает: – Прекрасно. Я смогу больше услышать про нее от посла доктора Уоттона, не так ли? – Умолкает, губы трогает чуть заметная улыбка. – Скажите мастеру Гансу, все хорошо. Из Вулфхолла написал Эдвард Сеймур. Он счастлив, что король его посетил, – это знак, что семья не утратит влияния при новой королеве. Пишет, что королю следует жениться на принцессе Клевской, нам нужны союзники, а она, судя по всему, приятная дама и подарит ему еще детей; думаю, лучше ему не найти. Герцог Суффолк возвышает голос в совете: хорошо и правильно нашему государю взять жену из королевского дома. Сеймуры, без сомнения, древний род, говорит Чарльз, но этот брак не принес королю уважения за границей. Что до правящего дома Клеве – они ведь плавают по Рейну в лодках, запряженных серебряными лебедями? Он улыбается: – Быть может, так было в прежние времена, милорд Суффолк. Доносят, что императору чрезвычайно не по душе этот брак. Франциск недоволен, шотландцы рычат. Наш король охотится. По большей части он держится молодцом. Врачи сообщают о лихорадочном ознобе, о запоре, но на следующий день Генрих снова в седле, с Фицуильямом и дамами, и они привозят десяток оленей. Едут из Графтона в Ампхилл, оттуда в Данстейбл и дальше через Бедфордшир, король впервые за много лет весел и приятен в обхождении. Генрих Возлюбленный, жених с пером в шляпе. Он, Кромвель, ведет учет королевской дичи, поскольку он главный судья и смотритель лесов и охотничьих угодий к северу от Трента. Учет начался в первых числах июня в Шервудском лесу, и к сентябрю его люди насчитали 2067 благородных оленей и 6352 лани; клерки записывают их в пергаменную книгу о шестидесяти восьми страницах. Они прочесали чащи и знают тайны подлеска, но не нашли Робин Гуда и молодцов в зеленом, которые стреляют из лука и пируют с предводителем у костра. За неделю-две Ганс написал невесту еще раз, по памяти и с большого портрета; чтобы король мог возить Анну с собой, Ганс заключил ее в миниатюру на слоновой кости. «Смотрите, милорд Норфолк, – говорит король, – ведь правда мила и пригожа?» Норфолк сопит и косится, ожидая, что он, Кромвель, заговорит. От примирительного обеда они оправились, но искусство быть вместе в одном помещении пришлось осваивать заново. Он уничиженно извинялся, Норфолк сопел, Фицуильям хлопал их по спине: «Пожмите друг другу руки, как добрые христиане». Он тронул костлявую мозолистую ладонь герцога: выказал добрую волю. Хотя у него нет уверенности, что Норфолк вообще христианин. Молится на предков. До монашеских земель охоч не меньше кого другого, но говорит, что не позволит закрыть Тетфордский приорат: там родовая усыпальница Норфолков. Вернее, намерен преобразовать монастырь в коллегию священников, дабы те молились за души его пращуров.Герцог объясняет, идя рядом с ним: – Будут молиться за них, Кромвель, до конца света. – Это очень много молитв, – вежливо отвечает он. Уоттон прислал отчет. Как посланник короля, он посетил Анну дома в присутствии ее матери. Вдовствующая герцогиня Мария – суровая католичка и дочерей воспитала в благочестии и простоте. В Клеве не считают нужным обременять девиц книгами и учителями. Соответственно, Анна не знает ни одного языка, кроме родного. – Кромвель сумеет с ней объясниться, – говорит король. – Он знает все современные языки. – Боюсь, что нет, – отвечает он. – По-немецки лучше объясняется мастер Сэдлер. Я научился этому языку в Венеции, по большей части от нюрнбергских купцов. Это не тот язык, на котором говорит леди Анна. Да я и не сумею вести разговор, интересный даме, поскольку знаю лишь слова, нужные при покупке и продаже. – Честно скажу, – говорит Норфолк, – я вообще не понимаю, о чем можно беседовать с женщинами. Они не любят ничего из того, что любят мужчины. Он говорит: – Моя жена не знала иностранных языков, зато знала всех в суконной торговле. Могла вести счета не хуже любого писаря, а когда я возвращался из путешествий, посылала на Ломбард-стрит и записывала в столбик все обменные курсы. Она всегда могла сказать, монета какой страны дорожает. Они проходят мимо королевской стражи. – Сдается мне, вам нравится ваше низкое рождение, – говорит Норфолк. – Вы им бахвалитесь, Кромвель. Тем, что были торговцем. Их встречают королевские слуги, кланяются. Где бы король ни остановился, в охотничьем домике или во дворце, его окружают знакомые лица и опытные руки; стульчак с монограммой и лайковым сиденьем, стопка белых льняных подтирок для многострадального королевского зада, чаша со святой водой, большие восковые свечи, яркие, как свет дня, бархатный балдахин над кроватью. Но сейчас Генрих улыбается и моргает на солнце – летний король. Герцог бросается в бой: – Ваше величество! Вы могли бы отправить в Клеве моего сына Суррея. Посол благородного рода добавит нам уважения, не правда ли? Он, Кромвель, хмурится: – Не думаю, что нам надо завоевывать уважение. Это пройденный этап. – Верно, – весело говорит Генрих. – И все советники Вильгельма согласны. Нам незачем утруждать вашего сына. Я знаю, он занят строительством наших укреплений на ваших землях. Не хотелось бы его отвлекать. Норфолк сводит брови: – А что с деньгами? Какое приданое? Он отвечает: – Вильгельм даст за сестрой сто тысяч крон. Однако они останутся на бумаге. – Что, он их не выплатит? – Норфолк возмущен. – Они нищие? Генрих говорит: – Мы согласны отказаться от того, что нам причитается. Герцог молод, и у него много забот. Как вы знаете, он вошел в Гельдерн, на который имеет все права. Однако император грозит ему войной. Он, лорд – хранитель малой печати, сказал Клевским посланцам: «Мой король ценит добродетель и дружбу выше звонкой монеты». Немцы с облегчением воскликнули, Боже, какой благородный джентльмен! Но мы меньшего и не ждали. – Договоренность должна оставаться в тайне, – говорит Генрих. – Если о ней прознают, это будет позор для Вильгельма. Скоро я назову герцога братом, так что желаю уберечь его от неловкости. – А как насчет путешествия? – спрашивает Норфолк. – Переезд принцессы стоит дорого. – У нас есть корабли, – отвечает Генрих. Герцог ощетинивается: – Есть препятствия? Кровная близость? Они родственники? – Анна – восьмиюродная сестра короля. – Ну, это вроде не страшно, – говорит Норфолк. – Значит, разрешения от папы, слава богу, не требуется. Король говорит: – Сознаюсь, для меня новость, что у нас нет общего языка. Впрочем, послы говорят, что она умна и наверняка выучит наш язык, как только за это возьмется. К тому же все немножко говорят по-французски, даже те, кто уверяет, будто не говорит. Не правда ли, милорд Кромвель? – Советники Вильгельма говорят по-французски, – отвечает он. – А вот дама… Король его перебивает: – Когда Екатерина приехала из Испании, чтобы выйти за милорда моего брата, она не знала ни английского, ни французского, а он не говорил по-испански. Мой отец-король подумал, не важно, она, как говорят, хорошая латинистка, сумеют объясниться так. Только выяснилось, что он не понимает ее латынь, а она – его. – Король смеется. – Однако у них было стремление поладить, которое вскоре перешло в чувство. И конечно, мы сможем вместе музицировать. Пусть она не знает английских песен, она наверняка поймет их на других языках. Он говорит: – Насколько мне известно, в Германии знатные дамы не учатся музыке. Там считают, что петь и танцевать неприлично. У короля вытягивается лицо. – Чем же мы будем заниматься после ужина? – Пить? – предполагает Норфолк. – Немцы – известные пьяницы. – Про англичан тоже так говорят. – Он бросает на герцога яростный взгляд. – Леди Анна пьет только сильно разбавленное вино. И музыка у них вовсе не запрещена. Герцогиня Мария слушает арфу. Герцог Вильгельм путешествует в сопровождении музыкантов. Все это правда. Однако наши люди в Клеве писали ему, что при дворе герцога царит скука. К девяти вечера все расходятся по своим комнатам и не выходят до рассвета. Кубок вина не нальют, пока не побеспокоишь какого-нибудь высокопоставленного сановника с ключами. – Мы с женой будем охотиться, – говорит король. – Услаждаться радостью ловитвы. – Она вроде бы умеет ездить верхом, ваше величество. – Еще бы не уметь. Не пешком же она ходит, – говорит Норфолк. – Но я не знаю, стреляет ли она из лука. Впрочем, если нет, то научится. Король озадачен: – У них дамы не охотятся? Целый день вышивают? – И молятся, – отвечает он. – Богом клянусь, – говорит Норфолк, – она будет благодарна вам, что вы ее оттуда забрали. – Да. – Генрих видит все в новом свете. – Да, несладко ей жилось. И своих денег у нее, полагаю, не было. Она увидит, что у нас другие порядки. Однако я надеюсь… – Он осекается. – Кромвель, вы уверены, что она умеет читать? – И писать, ваше величество. – Что ж, хорошо. В качестве нашей супруги она найдет себе достойные развлечения по вкусу. В конце концов, нам нужна жена, а не ученый доктор для нашего наставления. Генрих отводит его в сторонку и, обернувшись, убеждается, что Норфолк далеко. – Что ж, милорд, – неуверенно говорит король, – мы проделали большой путь. Я думал, ни одна не согласится за меня выйти. – Он смеется, показывая, что пошутил. Не согласится выйти за короля Англии? – Я только грущу о герцогине Миланской и буду зол, если узнаю, что ее просватали за другого. И мне огорчительно, что я не увидел ее своими глазами. Мое сердце склонялось к ней. – Сожалею, что с ней ничего не вышло. Зато так вы ничем не обязаны императору. – Короли не вправе выбирать, кому отдать свое сердце, – говорит Генрих. – Я вижу, что мне придется полюбить другую. Но можете сказать мастеру Гольбейну, что он угодил мне портретом герцогини Кристины. Мне кажется, она стоит в комнате и вот-вот со мной заговорит. Передайте Гансу, что я не расстанусь с этим портретом. Оставлю у себя и буду на него смотреть. – Конечно, – говорит он. – Хотя, возможно, не на виду у новой королевы, сэр. Король говорит: – Плохо же вы обо мне думаете, милорд. Я не варвар.
Он отправляется в Тауэр. Проходит через апартаменты, где английские королевы проводят ночь перед коронацией, где провела свои последние дни Анна Болейн. Джейн до коронации не дожила – мы собирались короновать ее в Йорке, но опасались бунтовщиков, а в итоге так и не успели. Эссекский лудильщик, напившись в «Колоколе» неподалеку от места, где он сейчас стоит, смущал добрый народ на Тауэрском холме, крича, что Джейн убил собственный сын. Эдуард будет губителем людей, орал бродяга, таким же как его отец. Конец истории предсказуем. Пришла стража и забрала лудильщика. Что с таким делать, кроме как высечь его у тележного задка или повесить? Лорд Кромвель стоит перед портретом покойной королевы, нетвердой рукой намалеванным на стене. Видит круглое бледное лицо, волну белокурых волос. Думает, сойдет ли за Анну? Или придется писать поверх новый? Жаль закрашивать такую добрую госпожу. Под слоем штукатурки, прожигая ее насквозь, горят черные глаза Анны Болейн. Он думает, вот бы двор называл Анну Клевскую Анной, не произносил ее имя на английский манер. Однако женщины получают новое имя, таков их удел, у них нет родины – они едут к мужу, туда, куда их отправят отец и братья. Путь через улицу порой так же далек, как путешествие через море. Джейн Рочфорд как-то об этом говорила. Меня сбыли с рук, точно борзого щенка, сказала она, только раздумывали еще меньше; сгубили мое будущее. (А ведь ее отец, лорд Морли, такой серьезный и кропотливый ученый.) В Тауэре он заодно навещает Маргарет Поль. Без молитвенника, без рукоделия, она сидит в прямоугольнике света, озаряющего длинное плантагенетовское лицо. Похожа на какую-нибудь из своих прародительниц на витраже. – Миледи? – говорит он. – Надеюсь, вас хорошо устроили? Вам предстоит тут жить долго. – Это лучше, чем умереть, – отвечает она. – Или король надеется, что нынешняя зима меня убьет? Я понимаю, для вас это стало бы облегчением. – Если у вас есть жалобы, изложите их в письменном виде. – Я знаю, почему вы сохраняете мне жизнь. По-прежнему верите, что мой сын Рейнольд явится меня спасать. Думаете, он предаст себя в руки короля из любви ко мне. – Она задумчиво смотрит на него. – Вы бы так поступили из любви к матери, господин Кромвель? Он, с каменным лицом: – Если вам что-нибудь нужно, изложите это в письменном виде. – Скоро вы поймете, что слишком хорошо думали о Рейнольде. Он улицу не перейдет, чтобы спасти женщину, пусть даже она его выносила. – Гипсовая статуя ему и то дороже, – подсказывает он. – На самом деле он мне завидует. Считает, у меня есть шанс снискать мученический венец. – Тем, что грубите мне? Можете говорить что угодно, мадам. Я все это слышал прежде. Можете обращаться ко мне «Кромвель» или называть меня мужланом. Это не изменит моего поведения. – Я заметила, – говорит она, – что простые люди часто любят своих матерей. Некоторые даже и жен любят.
В первую неделю сентября в Дюссельдорфе подписывают брачный договор. В тот же день послы Вильгельма выезжают с документами в Англию. Все радуются, кроме архиепископа Кранмера, который говорит: – Мне страшно, милорд. Ему хочется ответить: «Разве вам не всегда страшно?» – Когда нет общего языка, это не пустяк. Поверьте, я знаю. – Мне казалось, вы были счастливы с Гретой. – Был. Но я сам ее выбрал. Нас связывало знакомство. Мы не могли говорить, кроме как через других, но мы чувствовали, что нам вместе хорошо, а это залог счастливой семейной жизни. Он озорно замечает: – Милорд Норфолк говорит, незачем беседовать с женщинами, супружеский долг можно исполнять и без того. – Норфолк? – (К ним подходит Фицуильям с другими советниками.) – Он умеет только завалить девку и взгромоздиться на нее. – Да уж, – говорит Чарльз Брэндон. – Не знает правильного обращения с дамами. Кранмер говорит: – Очень хорошо, вам угодно надо мной смеяться. Но я не считаю, что король должен оставлять выбор своей невесты другим. Разве он не говорил французам: привезите ваших дам в Кале, чтобы мне с ними поговорить? Разве он не сказал: не хочу полагаться на чужой выбор, это слишком близко меня касается? – Он хотел жениться на Кристине, не видев ее, – резонно возражает Чарльз Брэндон. – Поверил портрету и словам Ризли, что у нее ямочки на щеках. Фицуильям говорит: – Он уже выбирал сам. Выбрал Болейн. Исключительно по собственной воле. Его прискорбная ошибка, которую нам пришлось исправлять. Кранмер открывает рот, но он, Кромвель, говорит: – Полагаю, вам не следует высказываться по вопросам брака. Какое до них дело епископам? Кранмер поднимает затравленный взгляд. Он делает знак рукой, молчите, мол.
Все лето совет гоняется за королем по кровавому следу убитых оленей. Епископ Гардинер довольно скоро ухитрился поставить себе подножку. После того как парламент принял Шестистатейный статут, Стивен возомнил себя всемогущим. Когда в совете упоминают Роберта Барнса, Гардинер фыркает, начинает недовольно шуршать бумагами, потом грохает ин-фолио по столу – раз за разом, пока он, лорд Кромвель, не спрашивает: «В чем дело?» – а король не добавляет: «Говорите уже, Винчестер». – Еретик, – объявляет Гардинер. Он говорит: – Доктор Барнс – королевский капеллан и последние месяцы завоевывает нам друзей в Дании и среди немцев. – Знаю, – отвечает Гардинер. Епископский нос – клюв, глаза под нависшими веками блестят, страдалец угрюмо смотрит с наперсного креста. – О человеке можно судить по его друзьям. Если Барнс и не еретик, он очернился еретической смолой. – Однако он мой посол, – отвечает Генрих. – Если я в нем уверен, то и вы не сомневайтесь. Я не позволю указывать мне, как и в чем я отошел от католической доктрины или где в этой стране практикуют ересь. – Я вам скажу где, – отвечает епископ. – В домах лорда – хранителя вашей печати. За его столом. Одли говорит: – Но я слышал, как лорд Кромвель желал Лютеру смерти. Гардинер багровеет: – Однако с тех пор Лютер его хвалил! – Я не просил его похвал. Гардинер поворачивается к королю, ведет лапищей по столу, будто сбрасывает на пол игральные кости: – Я не утверждаю, что он лютеранин. Мои претензии не в этом. – А кто он в таком случае? – спрашивает Брэндон. Гардинер поворачивается к герцогу: – Вы спрашиваете, милорд Суффолк, какие еще ереси доступны для подобного человека? У лорда Кромвеля есть друзья в Швейцарии – станет ли он отрицать? – и, подобно Лютеру, они все восхваляют его как свою великую надежду. Мы знаем, во что они верят. Святое причастие не свято. Тело Христово – кусок хлеба и продается в любой лавчонке. – Я не сектант, – говорит он. – Да? – Я не сакраментарий. Гардинер подается к нему: – Может, вы соблаговолите сказать, кто вы такой, а не только, что про себя отрицаете? Лорд Одли говорит: – У этих сектантов, Стивен, у них же общее имущество? – Ухмыляется. – Не хотел бы я быть болваном, что попробует обобществить имущество лорда Кромвеля! Богом клянусь, он получит трепку! Король подается вперед, голос его дрожит: – Винчестер, покиньте нас. – Покинуть вас? Почему? У короля ощетинивается борода. Генрих сейчас похож на свиную колбасу, на которой вот-вот лопнет шкурка. Он, Кромвель, советует: – Милорд епископ, уходите, пока не пришла стража. Гардинер встает, но не может преодолеть искушение пнуть табурет. Позже он говорит Ризли: только Стивен мог так выйти от короля, грубо, вызывающе, возможно, бесповоротно? – Однако теперь он будет плести интриги невидимо для нас, – отвечает Зовите-меня. – Не знаю, что лучше. Зовите-меня стоял у дверей, слышал, как король кричал на епископа. Гардинер, выходя, оттолкнул его и бросил: – Прочь с дороги, Ризли, гнусный предатель! Выходит Одли: – Клянусь мессой, джентльмены, после очередной такой вспышки Гардинер окажется в Тауэре. Он совсем не умеет читать короля. Ризли оправляет шляпу и плащ: – Милорд, вам сообщили про епископа Стоксли? Он очень болен. Все взгляды обращаются к нему. – Вряд ли доживет до утра, – добавляет Ризли. – Господи помилуй, – набожно и серьезно произносит он. Все лучше и лучше. Стивена выгнали из совета, Стоксли при последнем издыхании. Небо прояснивается. Он едет в Кент. В Лидском замке, под стеной у рва, разговаривает с сыном Грегори, вода и воздух окутывают их, бегущие облака отражаются в синеве, весь мир течет и мерцает. – Я жду гонцов из Клеве. Как только здесь подпишут договор, Анна может выезжать. Мне бы не хотелось, чтобы Анна в это время года совершала долгое путешествие по морю. Если Вильгельм получит для нее охранную грамоту, я отправлю ее в Кале сушей. В тот миг, как она ступит на английскую почву, ты должен засвидетельствовать ей почтение от моего имени. – В Кале? Мне туда плыть? – Глаза у Грегори расширяются, как будто он смотрит на море. – А твоя Бесс сразу войдет в число ее фрейлин. Пусть Анна привыкает обращаться к нам за всем, что ей потребуется, – за обществом, за советами… – За переводчиками, – говорит Грегори. – Надеюсь, в Кале моего французского хватит. – Ты скажешь мне спасибо и за латынь. За то, что я заставлял тебя сидеть над книгами. – Ох, книги, – говорит Грегори. – Они меня пугали. Мне казалось, вы хотите отпечатать все на свете и затолкать мне в голову. Он смотрит на сына. Ветер ерошит Грегори волосы, морщит воду, плавучий мусор – ветки, мертвые листья – длинной змеей бьется о каменную стену. – Знания лишними не бывают. Я делал это для твоего блага. – Я вас боялся. Ну разумеется, думает он, сыновьям положено бояться отцов, так заведено спокон веку. – Я старался быть мягким отцом. Ни разу тебя не ударил. – Вам некогда было. – Я мог бы кому-нибудь это поручить, – говорит он. – Ладно, пошли, а то ветер усиливается. Слева, за двумя высокими стрельчатыми арками, ива и небо с бегущими облаками. Они с Грегори ныряют в арку, поворачивают вправо и поднимаются по лестнице в большой зал. Из часовни можно глядеть, как вода меняет оттенок: вот она голубая, вот серая, вот снова голубая. Это зеркало всех изменений погоды. Верхние этажи с широкими окнами и большими каминами надстроил сэр Генри Гилдфорд, земля ему пухом, до того как Анна Болейн лишила его всех постов и выгнала домой – чахнуть и умирать. От старых дней остались несколько гранатов – Грегори ему показывает – и барельефы башенок, которые, как объясняет он сыну, символизируют Кастилию. Шесть королев жили в Лидсе, а теперь тут растут правнуки кузнеца: маленький Генри в платьицах топочет по дому, маленький Эдвард лежит спеленатый в колыбели. – Тут есть требник, – говорит Бесс, – он, говорят, принадлежал королеве Екатерине. Она приносит требник из запертого сундука. Он листает страницы, проверяет, нет ли надписей. Из Лидса едет в Хантингдоншир навестить племянника Ричарда. В конце концов, следующий отдых у него будет только в эти же дни следующего года. Все лето лорд Лайл присылал из Кале евангелистов с просьбой допросить их в Лондоне, поскольку самому ему с ними не разобраться. Гардинер тут же рьяно принимался за арестантов, заставлял их поклясться в верности каждой статье нового статута. Стивен не в совете, однако власти у него не убавилось. Где он черпает столько безграничной злобы? Его шпионы в доме Гардинера доносят: «Винчестер старается вытянуть у людей из Кале что-нибудь против вас, лорд Кромвель. Запугивает, требует назвать ваше имя, признаться, что вы им покровительствуете. Даже если они просто были в одной с вами церкви, слушали одну проповедь, Гардинер что-нибудь из этого раздует». И что делать? Половина его работы – защищать друзей-евангелистов от самих себя. У рьяных братьев будут нелады с новым парламентским статутом. И тогда начнутся вопли: «Добрый лорд Кромвель, выручи нас из тюрьмы!» Что, если он не сможет их выручить? Если он смело вступится за евангелистов из Кале, то повредит себе и не поможет им; значит, надо по возможности исподволь исправлять ущерб от того, что творят Гардинер и его присные. Он рад уехать из Вестминстера, где каждый пристально наблюдает за каждым. Ричард строит себе новый дом в Хинчингбруке. Здесь с незапамятных времен был маленький женский монастырь, теперь закрытый. Работники, вскрывавшие старые полы, в отчаянии прибежали с кирками в руках: «Мастер Ричард, смотрите, что там…» Он идет смотреть. Работники на коленях молятся, пока из-под пола поднимают кости. Скелета два, полагает Ричард, но это не монахини, как можно было бы ожидать: у одного массивная нижняя челюсть и плечи победителя великанов. Работники уже рассказывают про них истории: это-де влюбленные лорд и леди, бежавшие вместе. Ревнивый граф, или эрл, или удельный король догнал беглецов. Стоя рука в руке, они пали под ударами меча и навеки соединились в смерти. – Работники считают, они очень древние, – говорит Ричард. – Мы, скорее всего, никогда не узнаем их имен. Но я подумал, нехорошо закапывать их на кладбище монахинь. Он представляет, как маленькие девственные скелеты шарахаются от мужа героического телосложения. – И что? – Я положил их на прежнее место, – говорит Ричард. – Мне они под полом не мешают и вряд ли будут выходить и гулять по ночам. Я разрешил молиться за их души, потому что иначе работники побросали бы инструменты. Однако я не позволю им нарушать мои планы строительства. В округе уже и без того верят, что утопившаяся в реке монахиня стенает в доме, оплакивая свои грехи, и ищет дитя, прижитое в постыдной связи. Кап-кап, является она в сумерках, волоча мокрый подол рясы по каменному полу. Он говорит Ричарду, может, она вовсе и не утопилась, а оставила записку и убежала к новой жизни, как Роберт Барнс. Прибывают немцы – люди герцога Вильгельма и саксонские послы, – а король все еще на охоте. Он, лорд Кромвель, пишет, что оставит все другие дела и будет в их распоряжении. Однако к третьей неделе сентября Генрих уже в Виндзоре и сам их принимает. Королевские представители готовы поставить свою подпись на договоре: герцог Суффолк, Кранмер, Одли, Фицуильям и Катберт Тунстолл, епископ Даремский. Такой выбор должен удовлетворить всех, кроме Норфолка и епископа Винчестерского, уверенных, что они везде должны быть главными. Курфюрст Саксонский, зять Вильгельма, непреклонен: он не заключит дипломатического союза с Англией, пока действуют шесть статей, идущих вразрез с Писанием. – Но мы уверены, лорд Кромвель, – говорит посол, – что теперь, когда вы здоровы, вам удастся образумить Генриха. В конце концов, будь вы на ногах и в парламенте, статьи бы не прошли. С приездом леди Анны жених станет мягче, податливее, и вы его убедите. Говорят, сам Меланхтон написал королю письмо с просьбой отозвать новый закон. Государю незазорно менять решения. На вопрос королевских юристов о старом договоре Клеве с сыном герцога Лотарингского – том самом, который заключили, когда жених и невеста были еще детьми, – послы отвечают, что документов при них нет. Он, лорд Кромвель, думает, что бумаги, скорее всего, затерялись; такое случается. «Моя невеста может привезти их с собой», – говорит король; не хочет откладывать свадьбу. Император во Франции, бывший враг принял его на своей земле. Карл едет в Нидерланды карать: жители Гента подняли мятеж, и он намерен лично подавить восстание. Проще было бы добраться морем, но Карл боится английских вод. Наши корабли могут атаковать его флот. Шторм может прибить его к нашим берегам. «Плох был бы тот ветер», – говорит имперский посол; ему нечего предложить, кроме поговорок. От Марильяка ничего не добьешься: «Ничего не знаю, милорд. Постараюсь выяснить». Или: «Это не в моей компетенции, прошу правильно меня понять». Если бы Марильяк нашел способ расстроить свадьбу, он бы уж расстарался, но сейчас только обедает с испанцами и хвастается: «Вся Европа ликует, видя согласие наших государей». – Надо бы снова впрячь Уайетта в работу, – говорит он королю. – Отправьте его к императору, пока тот едет через Францию. Если кто-нибудь и может посеять между ними раздор, то это Уайетт. Уайетт провел лето в Аллингтоне с возлюбленной, так что наверняка вполне отдохнул. Его итальянские интриги закончились ничем – король не желает отправлять английские войска в чужие земли. Уайетт огорчен, но король говорит: – Ваш друг, я имею в виду лорда Кромвеля, всегда убеждал меня, что такие затеи обходятся слишком дорого и никто не знает, каким будет окончательный счет.
Пятого октября, рано утром, в Хэмптон-корте подписывают договор. Кранмер разрешил обойтись без оглашения, так что теперь дело только за первой брачной ночью. Король вручает кольцо представителям Клеве, хотя с улыбкой отказывается надеть его на палец кому-нибудь из послов, как делалось в прежние времена. Он говорит: – Когда моя сестра Мария выходила за короля Людовика, упокой Господи их души, его представлял герцог де Лонгвиль, а мы все были свидетелями в большом зале Гринвича. Они принесли обеты, Лонгвиль надел Марии на палец кольцо и поцеловал ее, они расписались в книге, а потом ее отправили переодеваться в ночное платье… – тут король немного краснеет, – и они вместе легли на кровать. Лонгвиль раздвинул верхнее платье, высунул волосатую ногу, голую, и тронул ее. Позже я думал об этом – а ведь там присутствовали юные девицы – и считаю, что такое противно и разуму, и приличиям. Однако так пожелали французы. Французы – грубый народ, говорят немцы. Вечно хотят настоять на своем. Король пошлет невесте подарки и письмо. Смотрит робко, как будто хочет попросить: напишите за меня, Сухарь. – На каком языке мне писать? – На французском или на латыни, ваше величество, все равно. Герцог Вильгельм изложит ей содержание. – Да, но я не знаю, что писать. Обычные комплименты, наверное. В конце концов, – он слегка приободряется, – ей прежде не писали любовных писем. Мне радостно сознавать, что она до сих пор не смотрела на мужчин. Как Джейн. Джейн никого не любила, пока не узнала о моем честном чувстве. Но даже и тогда ее было непросто завоевать. Таких безупречных дам в наше время не бывает. Но сдается, вы сумели разыскать еще одну.
К двадцатому октября клевские послы возвращаются в Дюссельдорф. Император выписал Анне охранную грамоту для проезда через его земли. Как ни мало Карлу нравится этот брак, он не может препятствовать даме, едущей к жениху; его сестра, наместница Нидерландов, требует принимать принцессу Клевскую со всеми почестями и даже снабжает ее эскортом. Терстон говорит ему: – Помните кота? Вы его привезли в кармане из Ишера, в кардинальские времена, а мастер Грегори невзлюбил и назвал Марлинспайком? Так вот, я его третьего дня вроде бы видел на стене, с куском кролика под лапой. Но я сказал себе, коты же столько не живут? Он отвечает: – Кардинальский кот вполне может быть чудом природы. Наверное. Какой он был с виду? – Ободранный, – говорит Терстон. – Но мы ведь все не молодеем. Этой зимой король принимает передачу больших аббатств с их усадьбами и обширными акрами, с их реками, прудами, пастбищами, скотиной и зерном в амбарах; каждое зернышко взвешивают, каждую овчину заносят в опись. Если сколько-то гусей улетело на рынок, бычки забрели на бойню, деревья сами себя повалили, а монеты прыгнули мимо кармана… это прискорбно, но королевские комиссионеры вынуждены заранее извещать о своем приезде, и монахи успевают прибрать кое-что к рукам. Будь с королем честен, и он тебя не обидит. Когда в казну передают аббатство Святого Варфоломея и тамошние колокола увозят в Ньюгейт, приор Фуллер получает земли и пенсион. В освобожденные здания переезжают чиновники палаты приращений; дом аббата станет городским особняком Ричарда Рича. На севере аббат Брэдли из Фаунтинс будет получать годовой пенсион в сто фунтов. Сговорчивый аббат Уинчкома получит сто сорок. В казну переходит Хэйлс, где показывали кровь Господню в стеклянном сосуде. Намечено закрыть большую Сионскую обитель, и он напоминает себе про Лонд, где приор Ланкастер сидел на своем месте тридцать лет – чересчур долго. На любые вопросы приор отвечал omnia bene, все хорошо, но то была неправда: церковная крыша текла и к монахам вечно шлялись женщины. Теперь эти безобразия позади. Он заново отстроит дом, по собственному вкусу в тихом зеленом сердце Англии. В ненастье он мечтает о садовой беседке, о летящих по воздуху лепестках роз, перламутрово-белых и румяно-палевых. Мечтает об анютиных глазках и о синих звездочках барвинков, из которых наши девушки вяжут «узелки влюбленных»; в Италии из них плетут венки для осужденных. В ноябре он записывает в список дел: «Редингского аббата судить и казнить». Обвинение известно, в вердикте сомнений нет – так зачем притворяться, будто исход не предрешен? Время великих аббатов умерло с мятежом на севере. Король больше не станет мириться с недовольными, с людьми, которые в своих уютных домах мечтают о Риме. Тысячи акров Англии переходят в казну, а тех, кто с них кормился, перераспределяют по приходам либо по университетам, если они люди ученые; а если нет, пусть ищут себе ремесло. Аббаты и приоры по большей части получат ренту, но если потребуется, то веревку. Он арестовал Ричарда Уайтинга, аббата Гластонбери, и того после суда протащили на волокуше по городу и повесили вместе с казначеем и ризничим на холме Святого Михаила. Уайтинг был старый глупец, изменник и к тому же плут – спрятал свои сокровища в стене. По крайней мере, так сказали комиссионеры. Такие проступки можно простить, если за ними нет злого умысла, отрицания, что король – глава церкви, а значит, хозяин всех потиров, дарохранительниц, распятий, облачений, подсвечников, хрустальных реликвариев, расписных алтарных преград, витражей и золоченых образов. Ни один правитель не избежал смерти, кроме короля Артура. Некоторые говорят, он уснул и восстанет в час нашей беды, например, если император пойдет на нас войной. Однако в Гластонбери давно утверждали, что Артур – смертный, как вы и я, и у них хранятся его кости. Когда-то, если аббатству не хватало денег, монахи отправлялись в путь с заплесневелой головой Иоанна Крестителя и щепками от вифлеемских яслей. Однако, когда и это не наполнило сундуки, что монахи разыскали под полами? Останки короля Артура, а рядом с ним скелет золотоволосой королевы! Кости оказались долговечными. Они пережили пожар, уничтоживший бóльшую часть аббатства. За годы они привлекли столько паломников, что Кентербери оставалось только исходить завистью. Свинцовый крест, хрустальный крест, остров Авалон – они выманивают денежки у благочестивых и доверчивых. Некоторые говорят, будто сам Господь ступал по здешней земле, и горожане этот слух поддерживают; в таверне «Святой Георгий» показывают след Христовой ноги, за деньги его можно обвести и забрать бумагу с собой. Утверждают, что в Гластонбери побывал Иосиф Аримафейский со святым Граалем. Он привез обломок Голгофы, часть ямы, в которой стояло основание креста. Он воткнул в землю свой посох, на котором расцвел боярышник и продолжает цвести, в тучные года и в тощие, покуда Эдуарды и Генрихи правят, умирают и рассыпаются в прах. Теперь в прах отправятся все гластонберийские реликвии, два святых по имени Венигн и два короля по имени Эдмунд, королева по имени Батильда, полукороль Ательстан. Бригита и Крисанта и рассыпавшийся череп Беды Достопочтенного. Прощайте, Гутлак и Гертруда, Хильда и Губерт, два аббата по имени Сеифрид и папа по имени Урбан. Адье, Одилия, Айдан и Альфедж, Вента, Вальбурга и Цезарий-мученик вместе с вашими невнятицами и перевранным написанием, стуком ваших костей и громыханием черепов. Давайте раз и навсегда зароем их с глаз долой, мышиные скелеты вперемешку со святым прахом, обрывки ваших одеяний, ваши власяницы с запекшейся кровью, обрывки и обрезки, три обгорелых хитона трех отроков, вышедших невредимыми из пещи огненной. Увяла лилия, которую Дева держала в руке, когда ей явился ангел. Погасла свеча, озарявшая гроб Спасителя. Холм Святого Михаила вознесся над Гластонбери больше чем на пятьсот футов. Оттуда видно на много миль. Если поглядеть с вершины, увидишь новую страну, где все новехонькое, свежепокрашенное, выбелено и оттерто дочиста. Король выбирает драгоценности для невесты. Они хранятся в шкатулках из перламутра и слоновой кости. Странно видеть сплетенные буквы «Г» и «А» после того, как их так старательно уничтожали. Король говорит, выпишите мне к приезду королевы музыкантов из Венеции. А если те привезут новые инструменты, то тем лучше. Принцесса Клевская приедет в боголюбивую страну. Его Библии печатают все быстрее. Мастер Ризли спрашивает его: «Сэр, а что, французы прислали вам изъятые листы? Как вы их убедили?» Он не отвечает. Мастер Ризли делает обиженное лицо: ему не доверяют. – Боннер помог, – говорит он. – Нашел подходы к нужным людям. Он не такой растяпа, как вы полагаете. Когда Эдмунд Боннер вернется из Франции, его назначат епископом Лондонским. Это облегчит положение наших проповедников. Да, епископ Стоксли теперь кормит червей, но ведь и Мор тоже. Их вонь так и не развеялась, их рьяные приспешники норовят согнать евангелистов с кафедр. – Я знаю, что Боннер ваш человек, – недовольно говорит Ризли. – Но он долго не продержится, французы его не любят. – Они меня не любят, – говорит он. Выигрываешь одно очко, проигрываешь другое, выигрываешь и проигрываешь.
Ко двору съезжаются дамы – встречать новую королеву. Верховодят почтенные леди Сассекс и леди Рэтленд, они указывают, кому какие обязанности исполнять и как одеваться. По титулу старшая Маргарет Дуглас, принцесса Шотландская. Из деревни вызвали ее подругу Мэри Фицрой. Места в свите будущей королевы получили родственницы хранителя малой печати – жена Эдварда Сеймура Нэн, жена Грегори Бесс. В списках будет леди Клинтон, мать Ричмонда, но не будет леди Латимер. Молодые люди в Остин-фрайарз расстроены. Как лорд Кромвель будет за ней увиваться, спрашивают они, толкая друг дружку в бок. Мы знаем, он пишет ей длинные письма, но она так давно вдали от двора, что забудет, насколько лорд Кромвель неотразим. Главной фрейлиной личных покоев Анны станет Джейн Рочфорд. После смерти Томаса Болейна она не нуждается в деньгах, могла бы уехать в Норфолк и жить в своем бликлингском доме, но чего ради? Несмотря на все, чего она навидалась в жизни, ей лишь немногим больше тридцати. «Как вам новые фрейлины?» – спрашивает она, когда те щебечущей стайкой проходят мимо. Их французские чепцы сдвинуты назад, сколько дозволяют приличия, короткие вуали плещут за спиной. Он улыбается: – В этом году они кажутся очень молодыми. – Это вы стареете. Фрейлины обычного возраста. – Вон та мне вроде бы знакома. Джейн Рочфорд заходится смехом: – Еще бы! Это внучатая племянница Норфолка. Кэтрин Кэри, дочь Марии Болейн. Вы когда-то ухлестывали за ее матушкой. Он потрясен: маленькая дочка Марии Болейн – девица на выданье. – Я никогда не ухлестывал за леди Кэри. – А луна сделана из сыра, – отвечает леди Рочфорд. – Кале помните? Гарри Норрис сказал мне, Томас Кромвель и Мария Болейн в саду вместе, и я не думаю, что они просто совершают моцион, а вы? Я ответила, нет, Гарри, они гуляют, а он засмеялся. О господи, сказал он, как бы она не нагуляла от него маленького Кромвеля. – Я не отрицаю, что мы были в саду. Леди Рочфорд смеется ему в лицо: – На следующее утро Мария ходила с блаженным лицом и синяками от поцелуев на шее. Гарри Норрис сказал ей, Кромвель хорошенько вас отделал, теперь будете знать, каково иметь грубого любовника, надеюсь, на эту ночь у вас с ним вновь назначено свидание, потому что никто другой вас не захочет, вы вся в пятнах, как испорченная рыба. Он думает, Норрис был джентльмен и никогда бы такого не сказал. А впрочем, как все джентльмены в окружении покойной Анны, он оказался не таким, как мы думали. – Уильям Стаффорд тоже был в саду, – говорит он. – Тот, за которого Мария после вышла замуж. Видимо, ей понравилось его любовное обхождение. Моего она не знала. – Как скажете. Однако, насколько я слышала, вы и прогнали его, угрожая кинжалом, а потом затащили свою жертву в дом. Часть сказанного правда. Стаффорд подошел к нему сзади в темноте, и он подумал, это убийца. Он помнит, как Стаффорд уворачивался из его хватки. – Что ж, как бы то ни было, это очаровательное создание – дочка Марии. А крошка, с которой она идет под ручку, Мэри, дочь Норриса. Он смотрит на дочку Норриса и не видит в ней сходства с отцом. Ее мать он почти не помнит – та умерла молодой. Ему неспокойно. – Воспитанница дяди Норфолка, если я не ошибаюсь? – говорит он. – Уж дядя Норфолк своих протолкнет, будьте покойны, – отвечает Рочфорд. – Его воспитанница Норрис, его племянница Кэри – и у него есть еще племянница, из выводка брата Эдмунда. Эдмунд Говард, упокой Господь его душу. Это был бедный джентльмен, единокровный брат Норфолка: пятеро своих детей и пять пасынков и падчериц в придачу. Эдмунд как-то заявил кардиналу, что, не будь он лордом, зарабатывал бы на хлеб собственными руками, пахал землю, однако титул обрекает его на нищету. – А вот и Норфолк, – говорит Рочфорд. Норфолк вышагивает под руку с крохотной девчушкой. – Это Кэтрин Говард, которую вы отослали назад, потому что она выглядела на двенадцать. Однако они присягнули, что ей больше, и вот она снова здесь. Он слышит, как девушка звонким детским голосом произносит: «Дядя Норфолк…» Тянет старого мерзавца за руку, хочет тому что-то показать. – Что за куколка! – говорит Ризли. – Я бы стоял и любовался на нее, а вы, милорд? – Вряд ли, – отвечает он. – Я бы опасался, что тень дяди Норфолка ляжет между нами. Девочка поворачивает лицо, словно цветок на стебельке, принимается щебетать. Дядя Норфолк слушает с плохо сдерживаемым нетерпением – высматривает, не появится ли король. Девочка забыла про дядю, отпускает его руку, оглядывается по сторонам. Взгляд равнодушно скользит по мужчинам, но исследует женщин с головы до пят. Она никогда не видела столько знатных дам и сейчас изучает, как они стоят, как движутся. – Оценивает соперниц, – говорит он. Бесхитростное существо ничего не умеет скрыть. – Бедняжка росла без матери. Осиротела еще в младенчестве. Он косится на Рочфорд: – Вы можете о ком-то говорить с нежностью, миледи. – Я не чудовище, милорд. Мэри Норрис и Кэтрин Кэри смотрят на новую фрейлину. Рочфорд говорит: – Вы назвали бы ее блондинкой? Или рыжей? Он никак бы ее не назвал. Он уже на нее не смотрит. – Интересно, кто заплатил за то, что на ней надето, – говорит Рочфорд. – Ткань точно не из гардероба вдовствующей герцогини. А эти рубины – разве они не принадлежали Анне Болейн? – Если принадлежали, их следовало вернуть в королевскую сокровищницу. Как они оказались у Норфолка? – А, хоть что-то вас в ней заинтересовало! – говорит Джейн Рочфорд.
Двадцать шестого ноября Анна трогается в сторону Кале. С ней эскорт в двести пятьдесят человек, а также ее фрейлины, так что по временам они делают в день не больше пяти миль. Впереди шагают барабанщики и трубачи, а едет она в золоченой карете, расписанной лебедями и гербами Клеве-Марк-Юлих-Берга. Грегори приезжает в Остин-фрайарз за последними наставлениями. – Сейчас я еще раз тебе их повторю, – говорит он. – Отпиши домой сразу, как увидишь Анну. Представься так, чтобы она поняла, кто ты такой. Будь добр. Будь терпелив. Заботься, чтобы ее кормили тем, что она любит. Вручи ей кошель с деньгами на личные расходы. Перед возвращением домой убедись, что все долги ее свиты оплачены. Погода может вас задержать. – Он вспоминает, как шесть лет назад король застрял в Кале с Анной Болейн. – Знай, что чем дольше вы там пробудете, тем больше французские купцы будут искушать ее свиту. Кстати, веди собственные счета. – Вы знаете, что говорите со мной так, будто я – Уайетт? – Да, – отвечает он. – И ты польщен. Грегори улыбается. Снизу раздается крик: – Милорд, можно вас побеспокоить? Судя по шуму, все выбегают наружу. Грегори спускается на первый этаж, а через несколько мгновений взлетает по ступеням: – Вы должны это видеть. Во дворе телега, с ней четыре возчика. На телеге огромный ящик, зарешеченный спереди. Первое впечатление, будто возчики охраняют тьму, но тут в ней что-то шевелится. Он видит пятнистую шкуру и примятую морду, которая отворачивается от света. Леопард. На коже засохший помет и блевота, по крайней мере, если судить по запаху. Он плотнее кутается в одежду. Домашние смотрят на животное, потом на него. Ему хочется перекреститься. Леопарда везли издалека, из Китая наверно; как он не сдох? – По-вашему, он голодный? – спрашивает Терстон. – В смысле, голодный прямо сейчас? Решетка прочная, однако домашние держатся на расстоянии. Леопард прижимается мордой к прутьям. Ему неоткуда знать, что он прибыл на место назначения, он думает, это какая-то промежуточная остановка в череде тесных зловонных дней. Возчики озираются в ожидании платы. Они англичане, груз забрали в Дувре, как было велено, всю дорогу боялись, что зверь вырвется и напугает жителей Кента. Следовательно, намекают они, заплатить бы надо побольше обычного. Это не штабель бревен забрать, объясняет один. – У кого вы забрали его в Дувре? Возчик отвечает, чуть враждебно: – У кого всегда. – Бумаги у вас есть? – Нет, сэр. Другой в порыве вдохновения добавляет: – У нас были бумаги, но он их съел. Откуда зверя переправили в Дувр, они не знают и знать не хотят. – Да где такие водятся, кроме как в языческих краях? – замечает один. – Может, вам стоит позвать попа, окропить эту животину святой водой. – Сдается мне, попа он бы съел, – замечает Терстон и хмыкает. Что ж, по всему имя дарителя затерялось где-то в дороге. Он воображает неведомого владыку в тюрбане, ждущего благодарности. Что ж, поблагодарим всех. Напишем, спасибо за диковину. Грегори первым высказывает разумную мысль: – Не королю ли это подарок? Возможно; в таком случае леопард лишь пройдет через его дом, очередной пункт в длинной описи. Дик Персер стоит рядом. – Дик, – говорит он, – до перевозки в Тауэр зверю понадобится смотритель. Нельзя отправлять его королю в нынешнем виде. Он останется здесь. Надо отдать Дику должное, тот не говорит, нет-нет, только не я, сэр, а лишь сдергивает шапку и запускает пятерню в жесткие волосы. Раздается крик: – Смотрите, шевелится! До сих пор зверь лежал бревном в тесном вонючем ящике, теперь встает и потягивается. Делает шаг вперед – ровно столько свободы дозволяет ему клетка – и смотрит на него; глаза упрятаны глубоко в складках пятнистого меха, и не различить, что в них: страх, уважение или ярость. Тишина. Дик неуверенно произносит: – Он узнал своего хозяина. Точно стрела свою цель. Он чувствует, как зверь пронзает еговзглядом, хотя сам тощий, шкура на костях. Первым делом надо снять его с телеги. – Заплатите этим людям, – говорит он. Зверю придется оставаться в передвижной тюрьме, пока не построят клетку побольше, но вонь можно уменьшить, если смыть помет. И надо подкормить его, чтобы нарастил на кости мясца. – Ну, что скажешь? – спрашивает он Дика Персера. – Хватит тебе отваги? Дик подрастает на глазах. Грегори говорит: – Со всем уважением, милорд отец, вы всегда говорите такое людям, от которых хотите чего-то для них невыгодного и неполезного. – Ага, – подхватывает Терстон. – Настоящий вопрос, Дик Персер, хватит ли тебе дури? Дик говорит: – Если мне надо будет смотреть за зверем, помимо собак, то мне нужен помощник, чтобы я его обучил. – Будет тебе помощник. – Зверь станет съедать по полбыка в день. – Закажи, чтоб тебе приносили. Расходы потом просчитаем. – Одно условие. – Дик оглядывает собравшихся. – Я его единственный смотритель. Никто не тычет в него палкой. Вообще никто к нему не подходит без моего разрешения. Не беспокоят, когда я его успокоил. Не ходят мимо с собаками, не дразнят его. Грегори говорит: – Дивлюсь, что Господь такое создал. – Что Господь вообще такое измыслил, – отвечает он. Только подумать о тех, кто его сюда доставил, – не только о возчиках, но и о тех, кто охранял его на всех этапах пути, просовывал в клетку мясо и воду. Не следует жаловаться, что зверь в плохом состоянии, если вспомнить, что в любой миг они могли вогнать ему копье в горло и продать шкуру задорого. Зверь до сих пор не издал ни звука. Не издает и сейчас, только смотрит пристально, смотрит на лорда Кромвеля, лорда Кромвеля Уимблдонского, хранителя малой королевской печати. Думает, как одним движением мощной лапы содрать с того кожу и меха. По расчетам оголодавшего зверя, он должен тянуть на две половины бычьей туши. Грегори говорит: – Что, если он ест живую добычу? Дику Персеру придется изловить оленя. Дик делает шаг к клетке, будто хочет произнести приветственную речь. Однако зверь по-прежнему глядит на него. Как будто видит пространство между ними. А прутьев не видит. Он возвращается к себе за стол. Просматривает пенсионный список для Сент-Олбанса. По бумагам скользят пятна света и тени, словно рисунок леопардовой шкуры. По зрелом размышлении он исправляет мысленный образ владыки в тюрбане. Быть может, леопарда прислал какой-нибудь вельможа из-за Ла-Манша. Увидел такую диковинку и решил, это поможет мне снискать расположение лорда Кромвеля, говорят, у того ненасытная страсть ко всему дорогому, ко всему, чем можно пускать пыль в глаза. На входе в залу совета он рассказывает про зверя Уильяму Фицуильяму. Фиц сочувственно стонет: – Мне какой-то болван прислал тюлениху. Три ведра рыбы каждый час, и все равно она не наедалась. В конце концов я дал указание жене, и та пустила тюлениху на пироги.
С Фицуильямом в Кале едет Томас Сеймур, брат покойной королевы, бывалый дипломат Фрэнсис Брайан и другие, хорошо знакомые с французскими берегами, в том числе Уильям Стаффорд, муж Марии Болейн. Некоторых укачало, а меня нет, пишет Грегори. Он улыбается, читая письмо мастеру Ризли. Странная вещь наследственность. Никто не знает, что мы получим от отцов. – Хорошо, если я передал Грегори способность переносить качку, – говорит он. – У моего отца желудок тоже был крепкий, иначе он бы не мог так набираться элем. – Иногда мне кажется… – начинает Ризли и умолкает. – Что? – Я согласен с дядей Норфолком. Чем выше вы поднимаетесь на королевской службе, тем чаще поминаете свое низкое происхождение. – Тем чаще другие его поминают, вы хотите сказать. Я не стыжусь его, Зовите-меня. Отец многому меня научил. Он научил меня гнуть металл. Он человек занятой, ему некогда читать все присланные записки, но эту он читает: «Вы правильно меня устыдили. Я исправлюсь». Наша делегация болтается в море, аббат Колчестерский болтается в петле. Колчестер признал королевскую супрематию и подписал присягу. А потом сдал назад, принялся шептать, Мор-де и Фишер мученики, как мне их жалко! На требование передать аббатство казне заявил, что у короля нет такого права – то есть что королевская воля и законы ничтожны. Генрих не мирской владыка и не духовный, он вообще не король, а парламентские законы – не законы. Согласно аббату. Он уверен, что это последнее повешение. Они заражали друг друга, Колчестер, Гластонбери и Рединг. Теперь противление сломлено. Со всеми другими аббатами удастся поладить: не будет больше крови, веревок и цепей. Новые примеры не потребуются, знамя мятежников, изображавшее Пять Ран, повергнуто в прах. Суеверные жители севера говорят, что вдобавок к главным ранам Христу нанесли еще пять тысяч четыреста семьдесят. Что Томас Кромвель каждый день наносит Ему новые раны. Нигде не написано, что великие люди должны быть счастливы. Нигде не сказано, что в число наград за служение государству входит душевный покой. Он сидит в Уайтхолле на изломе года, видит тень своей руки, свой кулак, который никуда не спрячешь, и в тишине дома слышит шелест пера по бумаге, как будто написанное шепотом ему отвечает. Можно ли создать новую Англию? Можно написать новую историю. Можно написать новые тексты и уничтожить старые, можно вырвать страницы из Дунса Скота и пустить по четырем ветрам. Можно писать по Англии, но всё написанное раньше проступает снова и снова, высеченное на камнях, несомое половодьем, встающее со дна глубоких колодцев. Не только святые и мученики претендуют на эту землю, но и те, кто был до них: гномы, зарытые в канавах, духи, поющие в шуме ветра, демоны, замурованные в дренажных трубах и погребенные под мостами, кости у тебя под полом. Невозможно их счесть и обложить налогом. Они продержались десять тысяч лет и еще десять тысяч до того. Их не сгонят с места новые арендаторы или клерки, заверяющие купчие на поместья. Они пузырями лезут из земли, размывают побережье, сеют плевелы меж колосьев и заваливают камнями рудники.
Одиннадцатого декабря Анна прибывает в Антверпен. Английские купцы во главе со Стивеном Воэном встречают ее в четырех милях от города. Они несут шестнадцать десятков факелов, пламя лижет и целует сумерки. Воэн пишет, весь город вышел ее встречать, больше, чем когда приезжал император. Пишет, Анна приятна в обхождении, добра и степенна, закована в странные блистающие одежды. С ней дамы, одетые так же, но нет ни одной краше ее. Воэн ничего не пишет о Женнеке, не сообщает, видел ли ее. Впрочем, почте такое доверять опасно. Уже почти темно. Эскорт принцессы на лошадях под черными бархатными попонами возникает как будто из ниоткуда. При их приближении со стен начинают палить пушки, так что Анна и ее свита подъезжают к Фонарным воротам в сплошном дыму.
Теперь, когда брак короля устроен, он берется за леди Марию. В Англию приехал герцог Баварский, со скромной свитой, как посоветовал король. Холостяк и весьма достойный человек. Герцог заверил короля, что не будет требовать приданого и женится на Марии исключительно ради дружбы, дабы усилить немецкую лигу против императора и Рима. Он посылает мастера Ризли к леди Марии – подготовить ее к встрече. Зовите-меня теперь его всегдашний посланец. Мария хорошо относится к Ризли, даже вышила тому атласную подушку с фамильным гербом. Сейчас он, хранитель малой печати, обсуждает с церемониймейстерами окончательную подготовку к торжественному приему королевы. Он отвел почетную роль леди Марии, однако король говорит, нет, Сухарь, не стоит. В Клеве могут остаться недовольны. Пусть шотландцы выставляют напоказ незаконных детей, а мы не будем. Он отвешивает поклон. Признает, что дамам и впрямь лучше будет встретиться с глазу на глаз. Падчерица младше мачехи всего на год. Быть может, они станут гулять под ручку, как Мария гуляла с Джейн. Зовите-меня он говорит: передайте Марии новое предложение, но ждите всегдашнего ответа: я предпочла бы остаться незамужней, однако покорюсь отцу. Выслушайте и удалитесь; перечислите достоинства герцога Баварского, только не убеждайте ее слишком настойчиво. Потому что после вашего отъезда она станет кричать, что не пойдет за лютеранина и пусть ее лучше бросят на растерзание диким зверям. Герцог Филип пришелся Генриху по душе. Тот ведет гостя в свои уайтхоллские покои показать Генриха на стене. Если король и видит расхождение между монархом кисти Ганса и человеком, который его показывает, то ничуть этим не смущается. – Посмотрите на мою покойную королеву, – говорит он. – Превосходнейшая из женщин. Они беседуют по-латыни. Филип кланяется портрету. – Посмотрите на моего отца. – Король переходит на английский: – Знаете ли вы, что у него было всего семь кораблей, из них только пять исправных? А я отрядил в Кале пятьдесят кораблей для того лишь, чтобы доставить сюда вашу кузину, принцессу Клевскую. Старый король за спиной у сына немного съеживается. – Поздравляю вас, – отвечает Филип. Он не говорит по-английски, но общую суть улавливает. – Доблестнейшего из государей, – добавляет герцог. Король отводит гостя в сторонку. Филип воевал против турок, когда те осадили Вену. Король хочет послушать рассказы о сражениях. Они проводят вместе остаток дня. Через день или два он вместе с Рейфом отправляется в Энфилд – лично побеседовать с леди Марией. – Сам ваш приезд покажет, что ее отец хочет этого брака, – говорит Рейф. Генрих уже обсуждает условия. Попросил составить черновой договор. Мария заставила его ждать, но он видит, что она наряжалась: черное бархатное платье, розовый атласный лиф. – Как дорога, милорд? – Ужасная, – отвечает он. – Однако проехать можно. Мы сумеем отвезти вас в Гринвич, если вашему батюшке угодно будет так распорядиться. Ваши новые покои в Уайтхолле почти готовы. Я как раз досушиваю лепнину. На прошлой неделе говорил с мастерами витражей. – «ГА-ГА»? – спрашивает она. – Да. И геральдические знаки королевы. – Мне это странно, – говорит Мария. – Называть ее королевой. Хотя мы ее еще не видели. И все же. Я поздравляю милорда отца. Разумеется. – Герцог Филип прекрасно сложен, – говорит он. – Белокур. Глаза голубые. Цвет кожи примерно как был у госпожи вашей матушки. Она смотрит в окно. – Я подумал, мастер Ризли мог этого не упомянуть. Она кладет руки на колени и тихонько напевает: «Увидите, что дрозд строит храм на холме…» – Чего бы мы не хотели, так это вашего отказа на позднем этапе, – объясняет он. – Вы говорите да, да, да, а потом в последнюю минуту говорите нет. Поскольку это поставит короля в неудобное положение. – Да, – отвечает она. – Нет. Он ждет. – Да, это поставит его в неудобное положение. Нет, я так не поступлю. Я сказала, что покорюсь. – Король – любящий отец и не вынудит вас к браку с тем, кого вы не сможете полюбить. Мария поднимает бровь: – Однако он вынудил Мег Дуглас отказаться от брака с тем, за кого она готова была умереть. – А, Правдивый Том, – говорит он. – Он не стоил того, чтобы ради него умерла принцесса. – Любовь слепа, – отвечает Мария. – Не обязательно. Вам следует увидеть его. Филипа. Рейф говорит: – Вы же хотите вернуться ко двору? Я уверен, что хотите. – Мастер Сэдлер, почему вы говорите со мной как с маленькой? Рейф в досаде хватает шляпу. Он, хранитель малой печати, отвечает: – Потому что вы нас вынуждаете. Он проходит через комнату, берет Марию за руку: – Умоляю вас, миледи. Ведите себя не как ребенок, а как взрослая женщина. Позвольте судьбе вас вести, не дожидаясь, когда она потащит вас силой. Снаружи Рейф говорит: – Она с ним увидится. Ей любопытно, я чувствую. А что посоветовал бы Шапюи, будь он здесь? Сказал бы, не гневите короля. Он кивает. Он забыл разыграть карту Шапюи. Впрочем, мысли его заняты более крупной игрой. В Лондоне он садится за стол с епископом Тунстоллом, и они прорабатывают условия. Филип может увезти Марию с собой за собственный счет. – Хорошо, – говорит епископ. – Вы уже однажды получили ее подпись под документом, милорд. Бог весть как вы принудили ее к покорности, но ведь принудили же. Он бросает перо: – Но если придется на руках нести ее под благословение, я этого делать не стану. Пусть король сам ее тащит. – Меня он не попросит, – сухо замечает Тунстолл. – Мне шестьдесят пять. У преклонного возраста есть свои привилегии. Как вы убедитесь, милорд, если Господь, как я Его молю, дарует вам долгую жизнь.
После лета отдыха, после осени в лесах и полях король выглядит нездоровым: лицо осунувшееся, бледное, как непропеченный хлеб. Они сидят над письмами из-за границы, света мало, воздух черновато-серый, цвета разведенных чернил. За окном воображаемая страна, залитые пастбища и мокрые рощи, затопленные леса и поля, глинобитные стены и соломенные крыши, церкви и крестьянские усадьбы. Уайетт по пути в Париж нагнал короля Франциска. Последовал пустой обмен комплиментами: Уайетт поздравил Франциска, что тот долго сохраняет дружбу с императором, а Франциск, приложив руку к сердцу, поклялся в неизменной любви к своему английскому собрату Генриху. Затем Уайетт пустился вдогонку императору. Тот же бессмысленный обмен учтивостями; но затем кто-то упоминает Гельдерн, территорию, которую молодой герцог Клевский объявил своей. Карл выходит из себя. Пусть Генрих даст новому шурину совет: подчиниться сюзерену и отказаться от притязаний на Гельдерн. Иначе его накажут, как наказывают молодых и дерзких. Пусть поостережется. Уайетт изумлен. Карл сдержан и немногословен. Почти никогда не высказывается открыто, действует исподволь. Так что означает этот внезапный гнев? Пошлет ли император войска против нашего нового союзника? Император встретился с Франциском. Говорят, они будут вместе праздновать Рождество и пробудут в Париже до Нового года. Даже папа боится их тайных переговоров. Уайетт находит агентов Рима, прячущихся по углам. Говорит: я узнаю для вас, о чем совещаются государи, а вы найдите для меня предлог бывать в их обществе каждый день. – Их якобы согласие, – говорит Генрих. – Ни один не смеет повернуться к другому спиной. Оттого-то они и в одном городе. Это не дружба, а ее противоположность. – И все равно, – отвечает он, – их союз длится дольше, чем мы предполагали. – Вулси бы его разрушил. Он смотрит на Генриха долгим пристальным взглядом: – Без сомнения. – У нас есть во Франции люди, которым мы платим, однако они продадут нас за полпенни. У нас мало друзей при обоих дворах. – Король закусывает губу. – Особенно у вас. У вас, Кромвель, мало друзей. – Если я навлек на себя их злобу, то считаю себя счастливцем. Ибо все это ради вашего величества. – Вы уверены? – с деланым любопытством спрашивает Генрих. – А я думаю, дело в вашей натуре. Они не знают, с какого бока к вам подступиться. – Вероятно, да. Ваше величество, – говорит он, – поймите, они хотят меня сместить, дабы лишить вас доброго совета. Потому-то и клевещут вам на меня. Рассказывают самые дикие небылицы. – Так если мне сообщают, что вы превысили полномочия, или не исполнили моих повелений, или поступили вопреки им, вы советуете мне оставить этот слух без внимания. – Прежде чем чему-либо поверить, поговорите со мной. – Хорошо, – отвечает Генрих. Он встает. Волнение не дает усидеть на месте. Это на него не похоже. Обычно он в силах изобразить спокойствие, даже если король, как сегодня, угрюм и раздражен. Генрих говорит: – Знаете, мне кажется, вы так меня и не простили. За то, что я расстался с Вулси. Расстался? Боже милостивый. – Я думаю, вы вините меня в его смерти. Он подходит к окну. В парке деревья сочетаются браком с темнотой. Не различишь, где кончается дождь и начинаются тени. – Мы подбиваем предварительные счета по Вестминстерскому аббатству, – говорит он. – В новом году они передадут имущество казне. Сейчас у Рича слишком много документов по передаче, иначе они не заставили бы ваше величество ждать. Генрих говорит: – Помните Джона Айслипа? К тому времени, как он стал аббатом, Вестминстер был в сильном упадке. – На грани разорения, сэр. Впрочем, это было лет сорок назад. Айслип проверил приходно-расходные книги и поднял плату арендаторам. Как только он заново отстроил гробницу Эдуарда Исповедника, доходы повысились. – Айслип был умен, – говорит Генрих. – В детстве отец водил меня к нему, в его дом на Тотхилл-филдс. Дорога была ужасная – грязь у пруда, истоптанная скотом. Там рылись свиньи, валялись дохлые собаки и всякая падаль. – Когда лопнули сточные трубы, сэр, стало еще хуже. Но сейчас я там все осушил. Кто, если не Кромвель? Ваш попечитель речушек и сточных канав, кладбищ и мусорных свалок. – А когда он умер, – продолжает Генрих, – помните, как его хоронили? Это было скорее триумфальное шествие, чем похороны. По Уиллоу-уок с развевающимися флагами. Процессия поющих монахов. Никогда не видел такого облака благовоний, стены аббатства как будто таяли. И поминальный пир. Вы знаете, что минуло всего шесть лет? А кажется – целая жизнь. Когда в прошлом сентябре умер Стоксли, мы завесили церкви черным, все церемонии были соблюдены. Однако Айслип умер в католической стране. Генрих говорит: – Отец хотел, чтобы Гарри Седьмого канонизировали, и это тоже обогатило бы аббатство. Однако когда узнал, сколько запросил Ватикан, то долго чертыхался. – Ненасытная алчность Ватикана превосходит воображение. – Он предпочел бы сказать что-нибудь менее избитое, но говорит королю то, что тот желает услышать. – Отец посылал Айслипу вино, – вспоминает Генрих. – А монахи в ответ присылали пудинг из костного мозга. Думаю, отец ел его в бытность бедным изгнанником. Любимое кушанье у него было. – У моего отца тоже, – говорит он и сам удивляется, что вспомнил. – Такой пудинг можно купить за пенни. – Генрих улыбается. – Нашим отцам легко было потрафить. – Погляди сейчас Господь с небес, что бы Он увидел? Двое стареющих мужчин говорят в сумерках о прошлом, потому что у них его так много. – Ему хочется потянуть эти мгновения. Однако скоро принесут свечи. Генрих говорит: – Том, много времени прошло с тех пор, как я вас впервые увидел. – Больше десяти лет, – соглашается он. – С тех пор я получил привилегию бывать в вашем обществе… – Почти ежедневно? – говорит Генрих. – Да, почти ежедневно. Помню… я знал вас в лицо, но помню наш первый разговор. Суффолк не знал, что о вас думать. А я знал. Видел ваши маленькие проницательные глаза. Вы сказали мне не начинать войну. Никогда не воюйте, сказали вы, вам это не по карману. Сидите дома, как больной ребенок, это будет на пользу казне. И я подумал… клянусь святым Элигием, смелости этому малому не занимать. – Надеюсь, вы не обиделись. – Обиделся. Но преодолел это чувство. Королевский голос все слабее, как и гаснущий свет. – Айслип был другом Вулси. Так что я сделал его моим советником, хотя сам расположения к нему не питал. У него был нюх на ереси. Вулси посылал его к вашим друзьям, ганзейским купцам. В Стил-ярд. Король проводит рукой по лицу, будто смахивает Айслипа, аббатство, еретиков, их логово. – Я обиделся, но простил вас. Так должно поступать правителю. За десять лет я очень сильно изменился. Вы – не очень сильно. Вы не изумляете меня, как прежде. Вряд ли вы сумеете меня удивить, памятуя, что вы сказали и сделали за это время, а я не стану отрицать, Том, что вы свернули горы. Вы работаете за десятерых обычных людей. Но мне все равно недостает кардинала Йоркского. Выходя, он чувствует, как бьется жилка на шее. Ризли ждет у дверей. – Генрих от меня устал, – говорит он весело. – И не скрывает этого. Призрак кардинала меня обставил. Зовите-меня говорит: – Я гадал, что там происходит, в потемках. Он дал кардиналу шанс материализоваться? В гробовых пеленах. С черепом, закутанным в саван. Мертвые преданнее живых. К добру или к худу, они тебя не бросят. Даже в самую долгую ночь они с тобой до утра.
Невесту задержали в Кале противные ветра, и они коротают время за турнирами, переездами из дома в дом, масками и спектаклями. Неподалеку от Булони разбилось купеческое судно, груз – шерсть и кастильское мыло – выбросило на берег. Он воображает, как пенится океан, пузырясь на гребнях волн. Дай Бог Анне добраться поскорее; король не находит себе места. Фицуильям шлет ему таблицу приливов. Кардинал, желчно замечает он, уже повелел бы ветрам задуть в нужную сторону. Все, кто видел новую королеву, от нее в восторге. Леди Лайл пишет своей дочери Энн Бассет, одной из новых фрейлин; Энн с низким реверансом вручает письмо королю. Король читает вслух: – «Служить и угождать ей легко и приятно». Что может быть лучше? У вас будет ласковая госпожа, у меня – ласковая подруга. Энн краснеет. Слово «подруга» показалось ей нескромным. Быть может, ей неприятно думать о короле в постели. Как все изменилось! Десять лет назад она бы запрыгнула к нему под одеяло.
В Кале Анна живет в покоях королевы. Фицуильям пишет, что она пригласила английских лордов на ужин. Анна привыкла трапезничать на людях и не знает, что английские короли отказались от этого обычая. Однако намерения у нее добрые – увидеть новых соотечественников за столом и узнать их обычаи. Держится она царственно, сообщает Фицуильям. Они с Грегори час учили ее любимым карточным играм короля. Мысль ее собственная, удачная. Ветер меняется. Двадцать седьмого декабря Анна высаживается в Диле, ночью под дождем. Ее везут к берегу на лодке – принцесса является из моря. Из Дила она поедет в Дувр, затем из Кентербери в Рочестер и на первой неделе нового года въедет в Лондон с востока. Король встретит ее в Блэкхите, проводит в Гринвичский дворец, и они сочетаются в Двенадцатую ночь.
III Величие
Январь – июнь 1540 г. В Диле, в новом замке короля, королева умоется с дороги и укрепит силы кубком вина перед путешествием в Дувр. Ее сопровождают Чарльз Брэндон и Ричард Сэмпсон, епископ Чичестерский, молчаливый прелат, которому не впервой заключать и расторгать королевские браки. Брэндон взял с собой молодую жену. Она милая, живая – хорошо, что смущенную невесту встретит улыбчивая юная герцогиня, которая будет угадывать ее желания. Чарльзу невдомек, что нужно женщине, епископу Сэмпсону тем более. Зато Чарльз, старый вояка, выглядит внушительно, а Сэмпсон сядет в уголке и займется бумагами. В Дувре Анну нагонит ее багаж. На следующий день она – вместе с капелланами, секретарями, музыкантами и фрейлинами – двинется в Кентербери, где ее встретит архиепископ. Ей нужны будут деньги на личные расходы, и он, Кромвель, передал для нее золотую чашу с пятьюдесятью соверенами. В Рочестер ее сопроводит Норфолк с большой свитой джентльменов. Встреча с епископом Винчестерским не предусмотрена. Это испытание повременит. Как говорят молодые люди лорда Кромвеля, она бы с перепугу бросилась обратно в морские волны. Погода ужасная, однако невесту не укачало в море, и она готова ехать навстречу ветру и граду. Церемониймейстеры вздыхают с облегчением: они готовят большой прием в Блэкхите, на подъезде к Гринвичскому дворцу, и если Анна опоздает, это повлечет большие расходы. Он, лорд Кромвель, ждет, что соберется вся округа. По его приказу улицы Гринвича очистили от мусора и посыпали гравием, а вдоль берега поставили ограду, чтобы зеваки не сталкивали друг друга в Темзу. Всю зиму в Остин-фрайарз он запасал мускатель и мальвазию для торжества. В пекарне готовят штрицели для Анны и ее фрейлин, дом благоухает гвоздикой, корицей и апельсиновой цедрой. Когда жива была Лиззи, в Двенадцатую ночь они угощали соседей. Разыгрывали поклонение волхвов; наряды трех восточных царей расшивали лоскутками парчи, обрезками, которые самый бережливый портной не сумел бы пустить в ход. Все женщины, от мала до велика, садились за шитье, а Лиззи, орудуя иголкой, подбадривала их шутками. Один год Энн Кромвель была кошкой с хвостом из кроличьего меха, а Грегори – рыбой в серебряной чешуе и поблескивал в зимних сумерках. Он гадает, как там его дочь Женнеке и когда он снова ее увидит. Не говорит себе «увидит ли», потому что склонен верить в удачу. Странно думать, что Лиззи так с ней и не познакомилась. Она бы приняла его незаконную дочь, поскольку знала, что выходит за человека с прошлым. Много лет минуло с тех пор, как женщины обрядили его дочерей для погребения. Он давно привык к той стесненности в груди, которую ощущает в праздники: на Пасху, в Иванов день, Петров день, Михайлов день, Дни Всех Душ и Всех Святых.Тысяча пятьсот тридцать девятый год близится к завершению. Идя в Гринвич с кипой документов, он рассчитывает застать короля за игрой на арфе, или за раздумьями о том, что ему подарят на Новый год, или за складыванием дротиков из бумаги, но в любом случае неготового к серьезным делам. Однако в личных покоях суета, и молодой Калпепер выходит со словами: – Ни за что не угадаете, сэр! Его величество едет в Рочестер встречать королеву! Он сует Калпеперу бумаги: – Ризли, идите со мной. Генрих, нагнувшись, смотрит в сундук, присланный из гардеробной. Выпрямляется, говорит весело: – Милорд, я решил поспешить и самолично встретить невесту. – Зачем, сэр? До ее приезда всего день-два. Генрих отвечает: – Я хочу подогреть любовь. – Ваше величество, – говорит мастер Ризли. – Со всем почтением, разве это не обсудили на совете? Ваши советники горячо молили ваше величество избавить себя от тягот пути и встретить невесту в Блэкхите. И вам угодно было согласиться. – Ризли, разве я не могу изменить решение? В Блэкхите будут музыка, пушечный салют, шествия и толпы, мы не успеем словом перемолвиться, как надо будет скакать сюда, а здесь пройдут часы, прежде чем мы окажемся наедине. Я хочу явиться нежданно, обрадовать ее и приветствовать как следует. – Сэр, если вы послушаете моего совета… – начинает он. – Не послушаю. Признайте, Кромвель, вы ничего не смыслите в ухаживаниях. Да. Он был женат всего один раз. – Сэр, она только что с корабля. Вообразите, как стыдно ей будет предстать перед вами неприбранной, в дорожном платье. Мастер Ризли добавляет: – И разумеется, она может оробеть при виде вашего величества. – Потому-то мне и надо ехать! Я избавлю ее от волнений. Она готовится к пышной церемонии. – Генрих улыбается. – Я поеду переодетым. Он закрывает глаза. – Так поступают короли, – объясняет ему Генрих. – Вам неоткуда знать, Кромвель, вы не придворный от рождения. Когда моя сестра Маргарита выходила замуж в Шотландию, король Яков и его охотничья свита встретили ее в Далкитском замке. Жених был в куртке алого бархата, с лирой за плечом. Он об этом наслышан. Молодой удалец с горящим взором преклоняет колено, невеста, тринадцати весен от роду, заливается стыдливым румянцем и трепещет всем телом. Мастер Ризли говорит: – Дозволено ли мне спросить, кем ваше величество желает нарядиться? Они переглядываются. Когда королевой была Екатерина, ее вечно подстерегал Робин Гуд или аркадские пастушки. Затем они сбрасывали маскарад, и – гляньте-ка! Это король и Чарльз Брэндон; Чарльз Брэндон и король. – У меня для нее соболя, – говорит Генрих. – Может, мне нарядиться русским купцом в огромных меховых сапогах? Мастер Ризли говорит: – Если не известить заранее, боюсь, ваше величество напугает собственную стражу. Это может привести к… – Тогда пастухом. Или одним из волхвов. Мы легко найдем наряды для двух других. Пошлите за Чарльзом… – Или, может быть, сэр, – говорит он, – вы поедете просто как джентльмен? – Английский джентльмен, – задумчиво произносит Генрих. – Безымянный. Да, – он опускает взор, – очень хорошо, я исполню волю лорда Кромвеля, раз уж иностранцы говорят, что он мною правит. И король, чуть помолчав, добавляет благодушно: – Да, милорд, я помню, что мы уговаривались о другом. Однако у жениха могут быть причуды, а маскарад – это всегда весело. Вдовствующая принцесса Екатерина, – обращается он к Ризли, – притворялась, будто не узнает меня. Разумеется, она мне подыгрывала. Короля узнают все. Томас Калпепер выходит следом за ними: – Ваши бумаги, джентльмены? Ризли забирает документы. Он, лорд Кромвель, идет прочь. Чертыхается. Калпепер говорит: – Вы сделали, что могли. Он думает: я говорил с ним как подданный с государем. Что, если бы я набрался смелости и сказал: «Генрих, говорю с вами как мужчина с мужчиной, откажитесь от этой затеи»? – Чего вы боитесь? – спрашивает Калпепер. – Все превозносят ее до небес. Вас тревожит, что его постигнет разочарование? – Перестаньте тянуть меня за рукав. Калпепер улыбается: – Она так точно увидит не того, кого ей обещали. Мы сознаем, что вы слегка приукрасили факты, лорд Кромвель, однако, надеюсь, вы не расписывали его как бога? Ждет ли она Аполлона? – Она ждет официальной придворной встречи. К этому ее готовили. – Он поворачивается к Ризли. – Срочно пошлите кого-нибудь в Рочестер, пусть ее предупредят. Король отправится по реке с небольшой свитой. Анне следует быть готовой. Никаких герольдов, никаких церемоний – он войдет в ее покои, и она должна изумиться. – Так вы испортите ему неожиданность? – смеется Калпепер. – Ей следует сперва не узнать его, потом узнать? Ее счастье, если она сумеет сыграть правильно. – Следовало ли мне настоять, что я поеду с ним? – спрашивает он Ризли. Зовите-меня отвечает: – Все могло быть еще хуже, сэр. По крайней мере, он не нарядится турком.
Генрих намерен присоединиться к королеве на Новый год и остаться в Рочестере на ночь; даже если король отрядит гонца с известием, как она ему понравилась, тот будет скакать в Гринвич много часов. Он заключает, что в Остин-фрайарз новость доберется немногим позже, поэтому отправляется домой – встретить тысяча пятьсот сороковой год под собственной крышей. За стол садится рано, убеждая себя, что получил в распоряжение лишний день, однако отодвигает стопку писем из Кале, берет книгу. Это Ролевинк, история, где все даты до Рождества Христова напечатаны вверх ногами. Ее прислал отец Джейн Рочфорд, который никогда не позволит тебе просто читать, пишет: «Mirabilia!»[166] – рядом с каждым особо понравившимся местом. Он листает страницы, разглядывает картинки: Антиох, Иерусалим, храм Соломона, Вавилонская башня. Ролевинк начинает историю с 6615 года (вверх ногами). Читает про интронизацию папы Иннокентия, которая произошла более или менее в год его рождения. Тут в дверь с лаем влетает спаниель Белла. Снизу доносится: «С Новым годом, мастер Грегори!» Белла носится кругами. Он кричит: – Грегори! Зачем ты приехал? Грегори врывается в кабинет и, не поздоровавшись, говорит: – Как вы могли такое позволить? Почему не остановили его? – Остановить его? – говорит он. – Как? Он сказал, что хочет подогреть любовь. – Вы должны были это предотвратить. Вы его советник. – Грегори, вот, выпей, согрейся. Я думал, ты с королевой. – Я приехал вас предупредить. Генрих провел там ночь, теперь скачет обратно. Один из мальчишек Терстона вносит тарелку пирогов и сдергивает с нее салфетку: – Мясо и смородинное желе. Щука и редис. Изюм и сливы. – Видишь, зачем я вернулся домой, – говорит он. – При дворе еду тебе несут полмили, и она успевает остыть. Другой мальчишка вносит чашу с теплой водой и полотенце. Грегори вынужден молчать, пока они вновь не остаются одни. Белла встает на задние лапы, требует внимания. Он вспоминает сцены, которые разыгрывал с Джорджем Кавендишем, приближенным кардинала. Тогда он говорил: «Покажите мне, как это было, Джордж, кто где сидел, кто заговорил первым». И Кавендиш изображал короля. Он может мысленно нарисовать помещение, где встретились жених и невеста: старый зал в Рочестере, огромный камин с резными эмблемами – папоротник, сердце, валлийский дракон с шаром. Может войти вслед за королем и его веселыми спутниками; они неплотно прижимают маски к лицу, потому что уверены – их узнают через секунду. И впрямь, когда они проходят, слуги новой королевы преклоняют колени. – Анну предупредили? – спрашивает он. – Она была готова? – Ее предупредили, но она была не готова. Король ввалился, но она смотрела в окно – во дворе травили быка. Она бросила взгляд через плечо и тут же вновь отвернулась. Он видит сцену глазами Грегори. Массивная фигура короля заслоняет свет. Туманное очертание королевы на фоне окна: простой овал лица, быстрый взгляд черных глаз и в следующий миг – ее затылок. – Думаю, она не поверила, что государь может приехать тайно. Может, герцог Вильгельм везде ходит с трубачами и барабанщиками. Даже чтобы подогреть любовь. Говорят, император предложил Анниному брату герцогиню Кристину, если тот без боя вернет Гельдерн. Он думает, будь я герцогом Клевским, я бы не отдал мое морское побережье за ее ямочки на щеках. – Король низко поклонился, – Грегори отпивает вина, – и заговорил с ней, но она не обернулась. Думаю, она приняла его… не знаю… за какого-то весельчака, нарядившегося к празднику. Так что он стоял, со шляпой в руке… тут вбежали ее дамы, одна дама крикнула: «Мадам!» – и еще что-то, чтобы ее предупредить… – Голос у Грегори дрожит. – И тогда она обернулась. И поняла, кто он. И, Господь мой Спаситель, надо было видеть ее взгляд! Я его никогда не забуду. – Грегори падает на стул, как будто ноги больше его не держат. – И король тоже. Он берет Беллу на руки, скармливает ей пирог, кусочек за кусочком. – Почему она изумилась? Я ее не обманывал. – Вы не сказали ей, что он старик. – Я старик? Это ты вспомнишь первым, если станешь описывать Кромвеля? «Ой, он старик». – Нет, – нехотя признает Грегори. – Она знала, когда он родился. Знала, что он дороден. Довольно придворных ее брата побывали у нас. И Ганс. Ганс мог ей его описать. Кто сумел бы лучше? – Но Ганс не стал бы этого делать. Верно. – И что король? – Попятился. Как будто его ударили. Она отшатнулась от него. Он не мог этого не заметить. – И? – Тут она взяла себя в руки. Притворилась исключительно хорошо. Он тоже. Она сказала по-английски: «Добро пожаловать, мой король и повелитель». Это королю следовало говорить: «Добро пожаловать». – Продолжай. – Она присела в реверансе, очень низко, как будто ничего не произошло. И король с улыбкой ее поднял. Сказал: «Добро пожаловать, милая». Это и значит быть монархом, думает он. Грегори добавляет: – Его рука дрожала. В его воображаемом рочестерском зале смеркается. Под окном беззвучно орут участники травли. Собаки висят, вцепившись зубами в бычий бок. Кровь медленно капает на булыжники. – А королевские джентльмены. Что они? На самом деле он спрашивает: они видели? Антони Брауни был позади, нес соболиные меха для королевы. Однако Генрих знаком велел ему отойти. Он смотрел даме в лицо и все время говорил. – Грегори, – спрашивает он, – честно ли Ганс ее написал? – Он не посмел бы написать ее нечестно. – И она красива? – Сбоку – нет. У нее нос длинный. Но у Ганса не было времени писать ее со всех сторон. Она миловидная. Лицо чуть рябое от оспы, но я это заметил лишь раз, на ярком солнце. Король не мог этого видеть, он отвернулся. Значит, она миловидна в сумерках. И когда смотрит прямо на тебя. Его почти разбирает смех. – Он разочарован? – Если и разочарован, то не показал этого. Взял ее под руку, они отошли в сторонку и сели с переводчиками. Он спросил, нравится ли ей Англия, она ответила, очень нравится. Он спросил, как ее принимали в Кале, она ответила, принимали очень хорошо. Он поздравил ее с тем, как мужественно она перенесла путешествие, и спросил, бывала ли она прежде в море. Когда ей перевели, она растерялась. Он представляет короля. Как тот потеет от натуги, ищет глазами, на что бы перевести разговор. – Король потребовал музыки. Музыканты заиграли «Пусть белая прекрасная рука исцелит мои печали». Она слушала очень мило, потом сказала, через переводчика, что хотела бы научиться играть на каком-нибудь инструменте. Король сказал, в юности учиться проще. Она ответила, я еще не так стара и пальцы у меня ловкие от вышивания. Король спросил, умеет ли она петь, она ответила, умею петь хвалебную песнь Богородице и святым. Он спросил, не споет ли она, она сказала, при лордах не буду, но спою вам наедине. И покраснела. – Весьма уместная скромность, – говорит он. Вспоминает Анну Болейн: та запела бы на улице, лишь бы привлечь к себе внимание. – Мы говорим, что любим скромниц. – Грегори берет пирог, и Белла трогает лапой его колени. – Однако на самом деле нам нравятся девицы, не скрывающие свою приязнь. Прежде чем начать ухаживать, мы хотим знать, что нас примут благосклонно. Я бы не посмел заговорить с Бесс, если бы вы с Эдвардом Сеймуром мне не помогли. Если мы боимся, что женщина нас презирает, то будем ее избегать. А когда мы решаем к ней подступиться, думает он, то не хотим увидеть ужаса на ее лице. – Так ты думаешь, ущерб непоправим? – Не знаю, как ей исправить то первое мгновение, будь она хоть царица Савская. – Грегори откусывает пирог. Белла с обожанием приникает к его ноге. – Они сели ужинать. Она была очень внимательна, ловила каждое его слово. Начало получилось неудачное, но, притом что никто не может с ней говорить, мне она очень понравилась, да и всем остальным тоже. Фицуильям сказал, король не нашел бы никого лучше, прочеши он хоть всю Европу. – Он всю Европу и прочесал. Я, вернее. Что ж… он подумает и поймет, что она просто напугалась от неожиданности. И, как ты говоришь, потом у них все было хорошо. – Его взгляд падает на книгу лорда Морли. – Нам надо отмотать время назад. Как будто король моргнул и прожил то мгновение заново. Грегори говорит: – Но разве время можно отмотать? По мере того, как исчезают пироги, проступает рисунок блюда. Fatto in Venezia[167], оно изображает гибель Трои: деревянный конь, вопящие женщины, запрокинутые головы, башни, охваченные огнем. Удивительно, как они столько всего там уместили.
Он приезжает в Гринвич почти сразу после короля. – Милорд, его величество в библиотеке. Генрих сидит между ящиками книг. – Это из аббатства Тьюксбери. – Король тяжело поднимается с кресла. – Кромвель, документов о помолвке с Лотарингией так и нет. Мне твердо обещали, что дама привезет их с собой, но она не привезла. Даже наименее подозрительный человек спросил бы себя, отчего их по-прежнему скрывают. Он начинает говорить, но король поднимает руку: – Я не могу двигаться дальше. Я не могу на ней жениться, пока не буду знать наверняка, что она свободна от любых прежних обязательств. Король стискивает ладонью сжатый кулак: – Дама вовсе не так хороша, как ее описывали. Фицуильям из Кале превозносил ее до небес. Лайл тоже. Отчего? – Я не видел ее, сэр. – Да, вы ее не видели, – говорит король. – Вы, как и я, полагались на чужие слова, так что винить вас не в чем. Однако скажу вам: когда я вчера ее увидел, то еле сумел взять себя в руки. Огромный диковинный чепец с крыльями по бокам… при ее росте и фигуре, мне показалось, будто передо мной Майский столб. И она накрасила губы, что воистину мерзостно. – Чепец можно сменить, сэр. – У нее желтый цвет лица. Я вспоминаю Джейн, белую, как жемчужина. Золотистый свет волнами пробегает по потолку, по алым лепным розам, зеленым листьям, кровавым шипам. – Это с дороги. Утомительное многомильное путешествие с обозом, ожидание погоды, затем качка на корабле. – Он думает про град в лицо по пути из Дувра. – Что до бумаг, ума не приложу, отчего послы их не привезли. Однако нас заверили, что дама свободна. Мы знаем, что брачного договора не было. Мы знаем, что стороны были малолетними. Вы сами говорили, сэр, что это не важно. – Очень важно, если я думаю, что женат, а окажется, что нет. – Завтра, – обещает он, – я поговорю с людьми королевы. – Завтра я встречаю ее в Блэкхите, – говорит король. – Выезжаем в восемь.
Сорок лет прошло с тех пор, как здесь встречали невесту из далеких краев: инфанту Каталину, которая привезла с собой из Испании мавританских рабынь. Ее свадьба с Артуром была пышной и публичной. На сей раз брачные торжества должны уступить место церковному празднованию Крещения. А значит, все зависит от публичной встречи, которую он для Анны подготовил. В Гринвиче он лежит без сна, слушает ветер.
Воскресное утро. Он сообщает представителям Клеве, что жених хочет отложить свадьбу. Они в растерянности и недоумении: – Лорд Кромвель, мы считали, что вопрос решен. Мы предоставили копии всех нужных документов. Он держится сухо и вежливо: не хочет показать, что он в таком же ужасе, как и они. – Король требует оригиналы. Мы объясняли много раз, говорят они, что не знаем, где оригиналы. Помолвка входила в более общий договор, который много раз менялся, и потому… – Советую вам их добыть. – Он садится и, хотя время еще раннее, жестом требует кувшин вина. – Господа, в ваших силах устранить это препятствие. Не все гости из Клеве хорошо понимают по-французски. Они тычут друг друга в бок: что он сказал? – Позвольте сослаться на прецедент. Когда королева Екатерина… я хотел сказал сказать, покойная Екатерина, вдовствующая принцесса Уэльская… Да, говорят они, первая жена Генриха… – …когда ее мать Изабелла выходила за ее отца Фердинанда, потребовалась диспенсация от папы, но документ задержался… Да, мы понимаем, говорят они. Рим вытягивал еще деньги, ведь так? – Однако все остальное было готово, и приближенные Фердинанда изготовили все, что требовалось, включая папские печати. Так что вы советуете, спрашивают они. – Я не смею советовать. Но сделайте все, чтобы удовлетворить желания короля. Поищите в своих вещах. Загляните между страницами ваших Библий. Нам нужно посовещаться, отвечают они. – Поспешите, – говорит, входя, Уильям Фицуильям. О да, мы поспешим, обещают они. Промедление губительно для всех. Пойдут слухи. Вообразите, что скажут французы, какую ложь начнут сеять люди императора. Скажут, она ему не понравилась. Или что она, увидев, какой он старый и грузный, отказалась за него выходить. – После обеда вы можете прийти в совет, – говорит он, – и объяснить, как опасны такие слухи. Король присоединится к нам, когда они с королевой придут от мессы. Они с Фицем идут в залу совета. Фиц дергает его за рукав: – Ничего уже нельзя поправить? Генрих кипит. Я его знаю. Да, думает он, вы его знаете. Он вышвырнул вас из совета, сорвал с вас цепь. Ваше счастье, что королевский гнев смягчился, вернее, что я его смягчил. – Бумаги не более чем предлог, – говорит Фицуильям. – Она ему не понравилась, или он ее боится, не знаю. Но запомните, Кромвель, я не хочу нести вину лишь потому, что ездил за ней в Кале. – Никто не сваливает вину на вас. Если кто тут и виноват, то он сам. Что помчался к ней сломя голову, будто пылкий юнец. Советники уже собрались. Кранмер сидит, словно обессилел, начинает подниматься и снова падает на стул. Епископ Даремский наклоняет голову: – Милорд хранитель малой печати. Тон благоговейный, будто епископ что-то освящает или держит в руках нечто хрупкое, готовое рассыпаться. Он кивает: – Ваше преподобие. Тунстоллу известно, что хранитель малой печати не первый месяц роет под него подкоп: выпытывает, что он делает в Дареме и во что по-настоящему верит. Так что последнее время епископ сидит с опаской, словно ждет, что из-под него выдернут стул. Врывается Томас Говард. Глаза сверкают, как будто есть повод что-то отпраздновать. – Итак, Кромвель. Я слышал, он хочет отвертеться. Он садится, не дожидаясь, когда сядет герцог: – Император и французский король вместе встречают Новый год. Так близки они на нашей памяти не были. Они подобны планетам, господа, их сближение притягивает море и сушу, определяет нашу судьбу. У них есть флот и деньги, чтобы на нас напасть. Наши форты еще недостроены. Ирландия против нас. Шотландия против нас. Чтобы устоять этой весной, нам нужен союз с немецкими государями – они либо пришлют людей на подмогу, либо будут отвлекать противника, пока мы его не разобьем или не заключим мир. Король должен на ней жениться. Этот брак нужен Англии. Чарльз Брэндон обводит их скорбным взглядом: – Он согласился. Он подписал договор. Он не может теперь увильнуть. – Что случилось в Рочестере? – спрашивает Норфолк. – Не знаю. Меня там не было. Норфолк дергает носом: – Что-то между ними произошло. Что-то ему не понравилось. Лорд Одли говорит: – Я согласен с милордом Суффолком. Король зашел слишком далеко и не может без очень веских оснований нарушить слово. Раньше он не сомневался, что она свободна. И, на мой взгляд, она достойная женщина. – Быть может, вы не понимаете, что нужно монархам, – говорит Норфолк. – Вот как? – Одли награждает герцога взглядом, который мог бы облупить яйцо. – Если она не удовлетворяет королевским требованиям, ваша светлость, моей вины тут нет. – Кромвель считает, король должен винить самого себя, – говорит Фиц. – За то, что поскакал в Рочестер. – Винить себя? – переспрашивает Тунстолл. – Король? С каких пор? Можно подумать, Кромвель с ним не знаком. Он с тяжелым сердцем произносит: – Возможно, я сумею отложить свадьбу. – И какой от этого прок? – спрашивает Фиц. Он думает, время может сгладить воспоминания о тягостной встрече. Генрих может забыть ее взгляд. Однако он не знает, видел ли это Фиц, и потому молчит. Кранмер, добрый христианин, не говорит: «Я вас предупреждал», а произносит кротко: – Я согласен с вашими доводами, милорды. Однако совесть короля не успокоится, пока он не увидит требуемые документы. Его обманывали в прошлом. Ему не следует вступать брак иначе как с полным душевным согласием. Кранмер чересчур хорош для нашего грешного мира – забыл о собственных тревогах и думает только о Генрихе. Он обращается к архиепископу через голову Норфолка: – Послы Клеве только что сделали мне предложение. Двое из них останутся в качестве поручителей, до тех пор пока не прибудут документы. Норфолк говорит: – Кормить их до Пасхи? Ну уж нет, клянусь мессой! – Я не вижу в этом нужды, – говорит Кранмер. – Мы не сомневаемся, что в Клеве добросовестно все проверили. Я даже не сомневаюсь, что дама свободна. Однако мы должны учитывать сомнения короля. Дверь открывается. Они преклоняют колени. – Ну, – говорит Генрих, – что вы придумали, чтобы меня освободить? – Ничего, сэр, – отвечает Кранмер. – Что ж, по крайней мере честный ответ. Я уже начал подозревать, что мои советники не вполне честны, а друзья и союзники не вполне искренни. – Генрих поворачивается к Суффолку. – Чарльз, ты ведь был в Виндзоре в прошлом сентябре? Когда люди герцога Вильгельма клялись, что привезут документы целиком и полностью? – Да, клялись, – отвечает Брэндон. – Иначе мы не подписали бы договор. Однако, – мягко продолжает герцог, – по-моему, дело сделано бесповоротно. – Мы можем оттянуть свадьбу, – говорит Фиц. – Кромвель так считает. Хоть я не вижу смысла. – Мне дурно служат, – говорит Генрих. – Можете встать, джентльмены, я не вижу смысла с вами заседать. Кромвель, прогуляйтесь со мной.
– Ну, теперь вы ее видели, – говорит Генрих. – Ведь я же был прав? Он отвечает: – Все согласны, что она очень милая дама. И мне представляется, что у нее царственные манеры. Король фыркает: – Мне судить, что царственное. – Берет себя в руки. – Насчет ее губ я, возможно, ошибся. Свежие, как вишня. Алые от природы. Он решает не говорить этого вслух. Обнадеживает, что Генрих готов признать ошибку хотя бы в мелочи. Другие советники отстали, но королевские стражники идут близко и вынуждены затворить уши. Он осторожно произносит: – Вы считаете, она не такая, как на портрете, сэр? – Я не виню Ганса. Он нарисовал ее так хорошо, как мог, учитывая… – король прикладывает руку к груди, – броню. Она такая высокая и деревянная. – Рост придает ей величия. – Вы не разглядывали ее туфли? – спрашивает король. – Думаю, они на высоких подошвах. Скажите ее женщинам, у нас в домах навоза нет. Не знаю, зачем ей это. Одежду и обувь можно сменить, говорит он, а король отвечает: – Вы все мне это твердите. Но знай я заранее то, что знаю сейчас, она бы не вступила в мое королевство. Это вопрос… Король качает головой. Похлопывает по одежде, как будто нащупывает сердце.
Понедельник, пятое января. Двое приближенных Анны, Олислегер и Гохштеден, приходят в его покои в северной половине дворца и торжественно клянутся, что Анна свободна от других брачных обязательств и не позднее чем через три месяца все нужные документы будет найдены. Их предложение остаться в Англии Генрих отверг, добавив, что свита Анны чересчур велика и они могут забрать часть соотечественников с собой. Все видные свитские джентльмены, решившие уехать, получат на дорогу по сто фунтов. Соглашение составлено, и они ставят свои подписи со стороны Англии: Кранмер, Одли, он сам, Фицуильям, епископ Тунстолл. Кранмер с осунувшимся лицом идет в покои королевы, за ним переводчик несет Библию. В Библии, если заглянуть, есть картинка, на которой король раздает Писание народу. Подданные толпятся в нижней части страницы и кричат «Vivat Rex!» [168]и «Боже, храни короля!» – причем низшие сословия явно предпочитают английский. Король хмуро смотрит на советников и удаляется в личные покои. Входят музыканты, настраивают инструменты, начинают играть. Возвращается Кранмер, говорит, Анна без колебаний присягнула, что совершенно свободна от каких-либо брачных обязательств. – Она сказала, что делает это с радостью, и, благодарение Богу, присягнула быстро и уверенно, чуть не вырвала книгу у меня из рук, так хотела угодить вашему величеству. Она желает сочетаться с вами браком без промедления. Он думает, она боится родственников. Того, что те скажут, если ее отошлют назад. Генрих стонет: – Так ничего не исправить? Неужто я должен совать голову в ярмо? Он правильно угадал, что по эту сторону Ла-Манша невеста получит новое имя. С корабля она сошла Анной, но здесь ее между собой называют Нэн, как ту, другую, будто у короля со всеми его сокровищами нет в запасе лишнего слога.
Утро вторника, дождь, заседание совета назначено на семь часов. Сам он обычно начинает работать в шесть, но сегодня велел не пускать просителей и приносить только срочные депеши из-за границы. Мастер Ризли сидит на краешке стола, смотрит, как он облачается для свадьбы. – Каких депеш вы ждете, сэр? Кристоф надевает ему через голову рубаху. – Я памятую, что император – вдовец. – Он просовывает голову в ворот. – Не исключаю, что на этой неделе он объявит о браке с француженкой. Если это случится, то подогреет аппетит Генриха к молодой жене. – Упаси бог! – восклицает Зовите-меня. – Там с императором Уайетт, его дело такого не допустить. – Пусть похитит даму, – предлагает Кристоф. – Прочтет ей сонет. Покувыркается с ней в придорожной гостинице. Вернет императору порченый товар. В королевских покоях советники говорят приглушенными голосами, словно у ложа умирающего. Уильям Кингстон: – Милорд, это же неправда? Будто наш король невзлюбил даму с первого взгляда? Он подносит палец к губам. Он только что выписал Анне первую из дарственных грамот, которые в дальнейшем обеспечат ей доход. У нее будет свой двор, такой же, как у короля. Ее гофмейстер – граф Рэтленд. У нее будут прелаты и пажи, прачки и пирожники, виночерпии и хлебоносцы, лакеи и конюхи, счетоводы и землемеры. Когда прибудут представители Клеве, он намерен подробно это все изложить, потому что вчера они ясно видели недоброжелательство в каждом взгляде и жесте англичан. Он надеется, что не даст истолковать это как оскорбление, которое они передадут нашим союзникам. Входит Фиц: – Полагаю, нам по-прежнему нужны, как их, квасцы? – Да, – отвечает он. – И друзья. Друзья нам нужны, как никогда прежде. Осенью он говорил советникам, что квасцы добывать очень трудно. Нужно вгрызаться в недра гор, подпирая выработки крепями. Теперь он объясняет Фицу: нужны тяжелые молоты и железные кирки. Проще всего – пускать в дело взрывные устройства. – Рудокопы называют их «патерностеры» – потому что, когда такое устройство взрывается, вы подпрыгиваете и кричите: «Боже Отче Вседержителю!» Однако Фиц не слушает – ловит звуки из соседней комнаты. Наконец выходит король в мантии золотой парчи, затканной серебряными цветами. – Где милорд Эссекс? Он должен сопровождать невесту. Он опаздывает, что она подумает? – Позвольте мне? – нехотя предлагает Фиц. Король говорит: – Это должен быть неженатый мужчина. По какому-то обычаю ее страны, который она непременно желает соблюсти. – Взгляд Генриха останавливается на нем. – Идите вы, лорд – хранитель печати. – Я недостоин, – отвечает он. Генрих говорит: – Достойны, милорд, коли я так говорю. Распахивается дверь. Прихрамывая, входит Генри Буршье – старый Эссекс. Озирается: – Что такое? – ВЫ ОПОЗДАЛИ! – орут придворные. – Светает поздно, – говорит Эссекс. – Слуги полусонные, дорога заледенела, кто бы не опоздал? Зачем подвергать себя опасности? – Нам желательно получить ее до того, как она выйдет из детородного возраста, – шепчет мастер Ризли. – Предпочтительно в ближайшие десять лет. Эссекс озирается: – За ней идет Кромвель? Ваше величество, она не оскорбится? Наверняка ей известно, что он когда-то был простым стригалем. – Даже не стригалем, – отвечает он. – Я гонял на рынок гусей и щипал из них пух на теплые перины для графов. – Ой, бросьте, – говорит Генрих. – Давайте быстрей, Кромвель, невелика важность, кто это сделает. Джентльмены личных покоев в ужасе переглядываются. – Сэр, – говорит Уильям Кингстон, – в таких случаях все важно. Кто-то разумный по-прежнему держит дверь открытой. Эссекс, прихрамывая, выходит. Король поворачивается к нему, говорит с тихой злобой: – Знайте, милорд, что, если бы не страх толкнуть ее брата в объятия императора, я бы ни за что на свете на это не пошел. – Поднимает голову. – Идемте, джентльмены. Они степенным шагом идут к покоям принцессы, давая ей время прибыть первой; таковы монаршие порядки, король никогда никого не ждет. Кранмер стоит наготове с требником в руках, в полном архиепископском облачении: – Где она? Брэндон хохочет: – Наверное, Эссекс помер по дороге! Король делает вид, будто не слышит, держится торжественно, как пристало жениху: те никогда не слышат дружеских шуточек о счастье, которое ждет их в темноте. Поверх сверкающего платья на короле мантия темно-синего атласа, опушенная мехом. Свет играет на складках. Губы движутся, словно читают молитву. Появляется Анна. Платье у нее расшито цветами, как у короля, только не серебряными, а жемчужными. Белокурые волосы распущены и доходят до талии, венчик на голове оплетен розмарином. Она уже не похожа на жену бакалейщика. Это принцесса, чье детство прошло в высокой башне на скале, откуда видно на много миль. Церемония простая и короткая. От нее требуется лишь стоять столбом и выглядеть бодрой. Спрашивая, знает ли кто-нибудь о препятствиях к браку, архиепископ озирается, словно предлагает выступить любому желающему. Все молчат. Кранмер кивает – как будто пригибается. Король приносит брачные обеты, затем, по жесту архиепископа, берет королеву за локоть и целует в щеку. Она неловко поворачивает голову; король, уворачиваясь от крыльев чепца, целует ее в другую щеку. Алые губки ждут поцелуя, но ничего не происходит. Кранмер говорит, «Deo Gratias»[169], король с королевой выходят под руку. Звучат фанфары. Придворные кричат: «Gaudete!» [170]Советники вслед за новобрачными отправляются на пир.
Вопреки обыкновению, он не замечает, что ест. Обычно после такого парадного обеда королевские советники собираются в уголке и беседуют об охоте, но сегодня, когда начинает играть музыка, герцог Норфолк идет танцевать со своей племянницей Кэтрин. Фиц мрачно на них смотрит: – Полагаю, стоило встать с постели, чтобы такое увидеть? – Вы не будете танцевать, лорд Кромвель? – спрашивает Калпепер. – Если можно милорду Норфолку, то можно и вам. Мастер Ризли отвечает: – Только если появится леди Латимер. Тогда милорд начнет выкидывать коленца. – Вам не следует повторять эту шутку, – добродушно говорит он. – Лорд Латимер младше короля. И здоров, насколько я знаю. Здоров и процветает. Брат леди Латимер Уильям в прошлом году стал бароном Парром. А ее сестра, служившая покойной Джейн, теперь в числе фрейлин новой королевы. Племянница Норфолка хихикает над тем, как отплясывает ее дядя. Вскоре она уже с другими девицами, щеки раскраснелись от быстрого танца. Молодые люди выписывают ногами кренделя. Король наблюдает со снисходительной улыбкой. Когда все встают из-за стола, король подает королеве руку и ведет ее к портрету, полученному от Ганса в подарок на Новый год. Советники идут за ними гуськом. Отдергивают занавес. На портрете принц Эдуард в золоте и багрянце. Под высоким младенческим лбом, под шапочкой с плюмажем, сверкают глаза. Одна рука ладонью вперед, другая сжимает драгоценную погремушку, как скипетр. – Его написал мастер Гольбейн, – говорит король; это королева понимает. – Какой прелестный принц, – говорит она. – Когда я его увижу? – Скоро, – обещает король. – А ваших дочерей? – В скором времени. – А леди Мария выходит замуж? Переводчики торопливо перешептываются. Король резко мотает головой, и Анна жалеет, что задала этот вопрос. Король поворачивается к послам Клеве и говорит по-французски: – Общество герцога Баварского нам приятно, посему спешить некуда и обсуждать пока нечего. Он, лорд Кромвель, переходит на итальянский, который Олислегер немного понимает. Рубит рукой воздух: не надо об этом. Король продолжает, показывая на сына: – Эдуард мой наследник. Дочери не наследницы. Она понимает? – Снова поворачивается к картине, лицо смягчается. – Маленький подбородок у него от Джейн. Король и королева с поклоном расходятся, она идет в свои покои. Переводчики и представители Клеве сбиваются в кучку, что-то обсуждают, толкая друг друга локтями. Он направляется прочь. Его догоняют: королева желает говорить с лордом Кромвелем. Анна все еще в подвенечном платье. Племянница Норфолка на полу, держит в пальцах королевин подол, в другой руке иголка с ниткой, на коленях – гирлянда розмарина. Клевские дамы хихикают в уголке. Джейн Рочфорд приветствует его кивком. Королева снимает обручальное кольцо и показывает ему. На кольце выбранный ею девиз: «Господь да хранит меня». Какой болван ей это присоветовал? Надо было: «Господь да хранит его». – Спасибо за рулеты, – говорит королева. – Они нам очень понравились. Вкус родины. Вы бывали на моей родине? Он выражает сожаление, что не бывал. – В Кале я ждала писем, но мне ничего не пришло. Бедняжка тоскует по дому. – Почта в это время года ходит очень плохо, – отвечает он. – Я сам жду известий от наших послов во Франции. – Да, – говорит она, – мы все их ждем. Узнать, сохраняется ли союз. Дурно желать раздора, когда мы все с детства молимся о мире. Но мой брат Вильгельм вздохнет с облегчением, если император и французский король вцепятся друг другу в глотку. Она смеется. – Война между ними – мир для нас, – говорит он, – их разлад – наша гармония. А она довольно осведомлена и вполне способна выразить свои мысли, более того, он в целом ее понимает, хоть и не решается отвечать без посредника – боится недоразумений, неверно понятых слов. Эта опасность велика и при лучших переводчиках. – А где молодой Грегори? – спрашивает она по-английски. – Он так прекрасно развлекал меня в Кале. Такой милый юноша. Дамы удивлены и восхищены: – Прекрасно сказано, мадам! Кэтрин Говард поднимает глаза от работы: – Не могу воткнуть иголку. Ткань жесткая, как кожа. Тут нужно большое шило. Раздается смешок. Мэри Норрис краснеет, догадываясь: это что-то негодное для девичьих ушей. Джейн Рочфорд говорит: – Снимите с нее это платье. Она не будет его носить, пока его не перешьют на английский фасон. Джейн наклоняется и дружески поднимает юную Говард на ноги. Он откланивается, но Анна зовет его назад. Она переживает из-за пятидесяти соверенов, как будто он рассчитывает получить их обратно. Она разменяла часть монет на более мелкие и раздала. Женщины выходили из домов, объясняет она, это было в… – Ситтингбурне, – подсказывает Джейн Рочфорд. – …и угощали меня сладостями. Он говорит через переводчиков: – Скажите ей, что при каждом появлении на людях ей следует иметь при себе – вернее, кто-нибудь должен за ней нести – монеты подходящего достоинства. Ими надо одаривать прохожих, не дожидаясь, когда те поднесут дары. Будьте щедры, особенно к детям, и тем копите народную любовь на будущее. Джейн Рочфорд следит за губами Анны, как будто читает по ним слова. Она умница, думает он, просто не находила приложения своему уму, – возможно, теперь наступил ее час. Вскоре знатные дамы, включая Бесс Кромвель, разъедутся по домам, к детям и хозяйству, а Рочфорд будет помогать леди Рэтленд в повседневных делах, приглядывать за молоденькими фрейлинами, следить за порядком и благочестием. Один из переводчиков спрашивает его: – Милорд, что дальше? – Вечерня, – отвечает он. – После нее к нам присоединится французский посол, и мы увидим вторжение Цезаря в Британию под волынки и барабаны. Затем акробаты и фокусники, а дальше ужинать и в постель.
В сумерках актеры разыгрывают Британию непокоренную. Королева сидит очень прямо и внимательно смотрит на сцену, а переводчик объясняет ей, что происходит: британцы дали отпор римлянам, отказались платить дань. Британского короля играет один из актеров Джорджа Болейна. Генрих хочет показать Анне ее новых соотечественников: их не поработить силой, не обмануть хитростью. Монарх времен Цезаря вооружил саму Темзу – вбил в дно острые колья с железными наконечниками, дабы пропороть дно римских судов. Когда уцелевшие легионеры выбрались на берег, британцы их перебили. Хронисты говорят, до нынешнего короля у нас было девяносто девять монархов. Он подозревает, что они выстригли из нашей истории куски, чтобы Генрих стал сотым. – У вас на родине, полагаю, ничего подобного нет, – говорит король Анне. Ей старательно переводят. Да, отвечает она. К сожалению. Вид у нее оторопелый. Актеры с обнаженными мечами произносят свои стансы и угрозы. Чинно разыгрывают бой, затем «римляне» падают на колени и, убедившись, что пол чистый, растягиваются ничком. Фрейлины хихикают, толкая друг дружку в бок. Король улыбается, как будто что-то припомнил. Говорит жене: – Британские короли завоевали Рим. Он, лорд Кромвель, все время находит предлоги встать и пройтись, поговорить то с одним, то с другим. Он смотрит на королеву в разных ракурсах, при разном освещении. Некоторые выражения ее лица не требуют перевода. Он видит, что она настроена принять любые события сегодняшнего вечера. За бойцами на сцене стоит павильон из двадцати шести отделений, с окошками, как в доме. Он был расшит вензелями «ГиЕ», но их спороли. Стены – золотая парча и пурпур с оторочкой из зеленого дамаста, что придает павильону весенний вид. – Кто угодно может выйти из такого шатра, – говорит он. – Сам король Артур им бы гордился. Начинается интерлюдия, все садятся. Первой разыгрывают маску о влюбленных. Выходят два скорбных джентльмена с лирами, их платья расшиты ракушками гребешка. Объявляют, что они – паломники любви. – Других паломников теперь нет. Даже Уолсингемская обитель закрыта, – говорит Норфолк и кривится. – По-моему, метафора устарела. Распорядитель празднества решил сэкономить денежки. – Всецело одобряю. Из шатра выходят две девицы и утешают влюбленных. Все четверо танцуют джигу. – Это моя племянница Кэтрин, – говорит Норфолк. – Дочка Эдмунда. – Знаю. – Как она вам? У него нет никакого мнения на ее счет. Влюбленные убегают под ручку, появляются монахи – брат Трах-Трюх и брат Жих-Жух, пытаются обчистить зрителям карманы, пока на них не спускают пса. Пса зовут Пачкун, он тянется к угощениям, которые ему предлагают, псарь тянет его назад. Под капюшоном псаря знакомое лицо. – Это Секстон? Я же вышвырнул этого мерзавца раз и навсегда. Мальчишка Калпепер отвечает: – Он к кому-нибудь устроился. Николас Кэрью взял его к себе, но Кэрью нет в живых. Секстон оставляет пса наскакивать на монахов, уходит и возвращается в другом наряде, пурпурном, с огромными рукавами вроде парусов и непомерно выпяченным брюхом. Говорит, что он лорд – хранитель малой королевской печати, человек низкого рода; отца и матери стыдится, поэтому прячет их в рукавах. Гнев прокатывает по нему волной. Он говорит сидящему рядом Марильяку: – Это затасканная шутка, когда-то так говорили про кардинала. – Ах да, вашего прежнего господина, – говорит Марильяк. – Меня предупредили, чтобы я не произносил его имени, однако вы поминаете его свободно. Странно, что из-за него до сих пор ссорятся. Сколько лет уже прошло, десять? Он указывает на Секстона: – Видели бы вы, как этот малый голосил, когда кардинал решил подарить его королю. Нам пришлось его связать и бросить на телегу. Секстон набрасывает на шеи Трах-Трюха и Жих-Жуха удавки. Монахи шатаются и высовывают языки. Он кричит: – Секстон! Поостерегись! Быть может, у меня в рукаве найдется веревка и для тебя. Секстон смотрит прямо ему в лицо. – Том, Тайберн не шутка. Для него шутка, – указывает на короля, – и для нее, и для меня, а для тебя – нет. Пачкун присаживается справить большую нужду. Король сжимает губы. Он жестом велит псарю увести пса, да и монахов заодно. Секстон бежит, высоко поднимая колени, как будто прыгает через лужи. Под гром аплодисментов вновь появляются бритты, несут на руках свернутую Темзу. Лорд Морли подается вперед: – Увидим ли мы боевые машины императора Клавдия? Веспасиана и осаду Эксетера? – Клянусь, у нас, советников, был сегодня утомительный день, милорд, – говорит Норфолк. – А король захочет уединиться с королевой, не так ли? – Должны быть великаны, – замечает Грегори. – Гогмагог был двенадцати футов ростом. Он выдергивал с корнем дубы легко, будто цветочки срывал. Был еще один великан, Ритон, с огромной бородой из бород убитых врагов. – Как у Брэндона? – спрашивает Норфолк и заходится упоенным смехом; в кои-то веки ему случилось пошутить. Актеры разворачивают синюю, сшитую из кусков Темзу. Девицы хватают ее за концы и начинают колыхать. Лорд Морли говорит: – Боюсь, значительная часть истории пропущена. В Британии были короли до воплощения Иисуса Христа. Это все вы найдете у Гальфрида Монмутского, в его книге. Он говорит: – Милорд, я читал, что не все эти правители были удачливы и мало кто из них отличался мудростью. Король Гумбер утонул в реке, которая с тех пор зовется его именем. Бладуд полетел над Лондоном на самодельных крыльях; его пришлось отскребать от мостовой. Риваллон был добрый король, во всяком случае миролюбивый, но в его правление падал кровавый дождь, а полчища мух сжирали англичан заживо. А если отправиться дальше в глубь времени, страну основал убийца: троянец Брут, отец нас всех, убил собственного отца. Якобы случайно на охоте, но, может, на самом деле намеренно. Стрелы, которые сворачивают в полете, обычно знают свою цель. Грегори говорит: – Гальфрид Монмутский был отъявленный лжец. Готов поспорить, что он родился не в Монмуте. Готов поспорить, он в жизни там не бывал. Королева встает, то ли по чьему-то невидимому знаку, то ли по внутреннему зову. Дамы вскакивают и сбиваются в кучку вокруг нее. Маленькую Говард приходится дергать за рукав – она засмотрелась на красивые ноги лютниста. Вечер движется к завершению. Музыканты будут играть в личных покоях короля, затем уберут свои тимпаны и скрипки. На лице Генриха никакого выражения, кроме усталости. Мастер Ризли, нагнувшись, шепчет ему в ухо: – Хотели бы вы прочесть его мысли, сэр? – Нет. Джентльмены из личных покоев встают и уходят вслед за королем. Духовенство выстраивается в процессию и идет благословить ложе. Королевские простыни кропят святой водой ежевечерне, однако сегодня Генриху нужно особое попечение Небес: забота ангелов и святых о его детородном уде. Калпепер бросает на ходу: – Теперь ему осталось только влезть на нее и заделать ей герцога Йоркского.
Королю изготовили новую кровать, украшенную искусной резьбой. Ему, лорду Кромвелю, не лежится на своей старой, и он бродит по дворцу. Все тихо. Огонь в каминах погашен. Никого, кроме стражников, которые его приветствуют, да двух развеселых молодых лордов в красно-желтых маскарадных колпаках: один пляшет, другой хлопает в ладоши. При его появлении танцор врастает в пол, хлопок замирает меж ладоней его приятеля. – Идите в свои колыбели, – говорит он. – Если вам повезет, утром я не вспомню ваших имен. Они пристыженно отдают ему колпаки, будто не знают, что с ними делать: – Это шапки, чтобы изображать татар, милорд. Они должны быть с лентами или шнурками, говорит он. Иначе ветер сорвет их в скачке по заснеженным просторам. Юнцы уходят, держась за руки. Он кричит вслед: «Молитесь за меня!» С лестницы доносится их смех. Он идет обратно в свои покои, закрывает дверь. Дай человеку татарскую шапку, и тот ее примерит, даже если поблизости нет зеркала. Но ему не хочется. Он оставляет шапку на лежанке Кристофа и оттого, проснувшись, подумает, что еще спит. Всю ночь в обрывочных снах его соотечественники бьются с легионами Цезаря: медленно, словно увязая в болоте.
На рассвете он у себя в покоях обсуждает с Ричардом Ричем передачу Малвернского аббатства. Рич зевает: – Хотел бы я знать… – и не договаривает фразы. – Может, сосредоточимся на цифрах? Входит Кристоф с двумя кружками слабого пива. На нем татарская шапка, и Рич спрашивает: – Почему он в… Ни одну фразу закончить не может, как будто слова теряются в тумане. Вбегает гонец, прямо в дорожных сапогах, нос синий с мороза, одежда забрызгана грязью. – Срочно, милорд. Из Йорка, в ваши собственные руки. – Господи помилуй, – говорит Рич. – Неужто снова бунтуют? – Думаю, для этого еще холодно. Печать уже сломана; хотелось бы знать почему. Он читает: Йоркский казначей угрожает закрыть казначейство, если не получит две тысячи фунтов к концу недели и еще столько же в ближайшее время. Пришли счета за Бридлингтонскую гавань, а северные лорды требуют заплатить им ежегодные пенсионы. Врывается Норфолк: – Кромвель? Видели, что пишет Тристрам Тэш? Он смотрит на Норфолка, затем на гонца; тот прячет глаза. – Клянусь Богородицей, – говорит Норфолк, – Тэшу надо было взять баронов за шкирку и вытрясти из них душу. Будь я на его месте, они бы у меня ждали денег до Благовещенья. За Норфолком входит Фицуильям, смурной и небритый: – Если он с ними не рассчитается, некоторые могут перейти на сторону шотландцев. Или взыскать требуемое грабежом. Входит мастер Ризли: – От Уайетта, сэр. – Ризли уже вскрыл письмо. Франциск с императором по-прежнему в мире и согласии между собой. – Уайетт говорит, при каждом упоминании нашей страны император мрачнеет, как туча. – Немудрено, – отвечает он. – Наш король удачно женился и без его помощи. Он идет в королевскую присутственную залу, в руках куча прошений с письмами и счетами. Отдает их обратно Ризли и Рейфу. Жаль, что ни Рейфа, ни Ричарда Кромвеля не было вчера в личных покоях; тогда бы он точно получил надежные сведения. Может, стоило этим озаботиться? Я не могу думать обо всем, говорит он себе и слышит голос короля: это почему же? Представители Клеве его опередили. Они бодры, преисполнены надежды и говорят, что уже были у мессы. – И, – говорят они, – у нас подарок для вас, лорд Кромвель, в честь этого счастливого дня. Курфюрст Саксонский, зять Вильгельма, прислал ему в подарок часы. Он принимает их с восхищенным шепотом. Они в форме бочонка и такие миниатюрные, что помещаются в ладони, – самые искусно сделанные и, возможно, самые маленькие, какие ему доводилось видеть. Английские джентльмены передают часы из рук в руки, когда входит король. – Сэр, презентуйте их ему, – шепчет Рейф. Немцы огорченно кивают; им понятно, что иногда необходимы такие жертвы. Король не глядя забирает часы, продолжая говорить одному из джентльменов: – …отзовите Эдмунда Боннера, как я обещал, и отправьте моему брату – французскому королю более учтивого и скромного посланника. Умолкает, поворачивается к клевским послам: – Господа, вам приятно будет узнать… – Да, ваше величество? – Они ловят его слова. – Я отправил королеве morgengabe, так, кажется, вы это называете, утренний дар в соответствии с обычаем вашей страны. Мы передадим вам точное исчисление цены. Они надеялись услышать больше, однако король затворил уста. Даже о часах ничего не сказал. В другой день Генрих восхитился бы такой игрушкой, разглядывал бы механизм, попросил бы другие такие же, на сей раз с его портретом на крышке. Однако сейчас король лишь смотрит на них со вздохом, натужно улыбается и отдает часы придворному. – Спасибо, милорд Кромвель, у вас всегда что-нибудь новое. Хотя не всегда такое новое, как хотелось бы. Короткая пауза. Король кивает ему: – Пропустите. Он смотрит в растерянности. Что пропустить? Затем спохватывается и уступает дорогу: – Ах да, конечно. Идет за королем. Иногда с Генрихом лучше держаться весело, запросто, словно вы сидите в «Колодце с двумя ведрами» за пинтой испанского вина. Он думает, я бы сейчас пропустил кубок-другой, будь передо мной испанское вино. Или рейнское. Аквавит. Уолтерово пиво. – Как вам понравилась королева? – Она не нравилась мне раньше, а теперь не нравится еще больше. Генрих оборачивается через плечо. Никто к ним не приблизился. Они одни, как в пустыне. Король говорит: – У нее отвислые груди и дряблый живот. Когда я их потрогал, мне не захотелось остального. Я не верю, что она девственна. Что за нелепица! – Ваше величество, она никогда не отходила от матери… Он пятится. Ему хочется сбежать ради собственной безопасности. Краем глаза он видит, что вошли доктор Чамберс и доктор Беттс в скромных врачебных шапочках и длинных мантиях. Король говорит: – Я побеседую с моими врачами. Никто не должен услышать об этом ни слова. Никто не слышит от него ни слова, когда он отступает, давая королю дорогу. И никто с ним не заговаривает, все расступаются, пока он идет через присутственную залу, через кордегардию и прочь с глаз.
Первыми к нему приходят врачи. Он читал письмо Уайетта и теперь откладывает его вместе со сценами, которые оно вызвало в воображении, далекими, но явственными. Уайетт рядом, даже когда в чужих краях, особенно когда в чужих краях. Его письма – подробный рассказ о дипломатических встречах. И все же, как бы ты ни вникал в написанное, чувствуешь: что-то от тебя ускользает; затем придет другой и прочтет то же самое иначе. Беттс прочищает горло: – Милорд Кромвель, нам, как и вам, король запретил говорить. – А что тут можно сказать? Мы обсуждали бы девственность королевы. Если такие разговоры и уместны, то лишь с духовником в исповедальне. – Что ж, – говорит Беттс. – Вы знаете, я знаю и король знает, что в таких неудобосказуемых вопросах ему случалось ошибаться. Он считал девственной вдовствующую принцессу Екатерину, хотя она была замужем за его братом. Позже он изменил свое мнение. Чамберс добавляет: – Он считал Болейн непорочной, потом обнаружил, что она утратила целомудрие еще во Франции. Беттс говорит: – Он знает, что грудь и живот ничего не доказывают. Однако сегодня утром он в подавленном состоянии духа, потому что стыдится. Другой раз у него, возможно, получится, и тогда все будет иначе. Чамберс хмурится: – Вы так думаете, собрат? – Всем мужчинам случается потерпеть неудачу, – говорит Беттс. – И не смотрите так, будто это для вас новость, лорд Кромвель. – Меня тревожит, чтобы он не повторил свое обвинение, будто она не девственница, – отвечает он. – Потому что в таком случае мне придется действовать. Впрочем, если он говорит, что она ему не нравится, неприятна… – Так он говорит. – …если он признает, что потерпел с ней неудачу… – …то у вас затруднение иного рода, – заканчивает Беттс. – Не думаю, что он поделился с кем-нибудь, кроме нас, – говорит Чамберс. – Может быть, с одним-двумя своими джентльменами. Капелланом. – Но мы опасаемся, что новость вскоре станет общим достоянием, – говорит Беттс. – Посмотрите на его лицо. Кто-нибудь скажет, что это счастливый новобрачный? И еще хотелось бы знать, говорила ли с кем-нибудь Анна? – Мне стоит его ободрить. – Из головы нейдет необходимость отправить деньги в Йорк. Он думает, я не хочу быть сейчас с Генрихом, но оставлять его на других опасно. Я должен ходить за ним по пятам, как демон. Вслух говорит: – Что мне сказать клевским послам? – А им надо что-нибудь говорить? Пусть королева сама даст им отчет. Чамберс говорит: – Вряд ли она станет жаловаться на короля. Она слишком хорошо воспитана.И, возможно, наивна. – Или, – добавляет Беттс, – понимает, что дурное начало еще можно исправить. Я посоветовал королю сегодня остаться в собственной спальне. Воздержание усиливает аппетит. – В прежние времена наутро показывали простыню, – говорит Чамберс. – Хорошо, что теперь так не принято. Однако по королевскому лицу все видно без слов. Только подумать, сколько людей толпилось в Рочестере, когда он прискакал подогреть любовь. Увидев Анну, король сразу увидел себя в зеркале ее глаз. И в тот же миг стало ясно: не будет между ними любви и нежной дружбы. С того мига короля не занимало, что обнаружится у нее под одеждой: просто груди и щелка, волосатые складки кожи.
Он идет к Джейн Рочфорд: – Мы думаем, ничего не произошло. – Что говорит Анна? – Анна ничего не говорит. По-вашему, мы должны были утром вызвать переводчиков? – Есть женщины, которые могут переводить. Он сам их нашел. Джейн говорит: – Думаю, и нам, и ей разумнее помалкивать. Если у него не получилось, лучше никому этого не знать. На что годятся такие сведения? – Вы правы, – говорит он. – Они ничего не стоят. Так что имейте в виду – сведения больше не имеют цены. Рочфорд поворачивается к нему спиной, как будто сдается. Говорит: – Мы считаем, он на нее лег. Думаю, он засунул в нее два пальца. C’est tout[171].
Собрался совет. От королевы никаких известий. Немецкие приближенные, и дамы и господа, посетили ее и вышли по виду совершенно спокойные. Очевидно, мы живем в двойной реальности, какую опытные придворные умеют поддерживать. Много лет, уж и не упомнить сколько, английский король был прекрасным юношей. После долгих лет брака выяснилось, что он все это время был холост, а покойники мучились в чистилище и лепные святые двигали глазами. Теперь советники несут двойное бремя: знают, что король потерпел неудачу, и притворяются, будто тому всегда и во всем сопутствовал успех. – Не будем отчаиваться, – предлагает епископ Даремский. – Подождем. Природа свое возьмет. Норфолк делает удивленное лицо: Тунстолл же не друг «немцам»? Тунстолл говорит: – Я не нахожу в даме никаких изъянов. Во что бы ни верил ее брат, сама она не лютеранка. И быть может, ради блага Англии пора закончить наши споры и объединиться вокруг королевы. Норфолк говорит: – Если бы Генрих днем проводил время на воздухе, он лучше бы показал себя ночью. Сидение с книгой у камина тут не подмога. – Разве что книга скабрезная, – замечает Фицуильям. Эдвард Сеймур говорит: – Во дни моей сестры у него таких затруднений не было. – Или вы о них не знали, – говорит Норфолк. – Но ее король любил, – тихо произносит Кранмер. Норфолк фыркает. Сеймур говорит: – Да. Тот брак был по любви, этот ради политики. Однако я согласен с епископом Тунстоллом. Мне нечего против нее сказать. Рич говорит: – Кроме того, что она ему не нравится. Епископ Сэмпсон говорит: – Памятуя, каков наш король, вы затеяли рискованную игру, лорд Кромвель. Он сухо отвечает: – Я руководствовался благими побуждениями и действовал с его полного согласия и одобрения. Кранмер говорит: – Возможно… и это всего лишь мои личные мысли… – Не заставляйте нас их из вас вытягивать, – говорит Фицуильям. – …некоторые полагают, что всякое соитие – грех… – Вряд ли король входит в их число, – благодушно замечает Тунстолл. – …хотя грех, который Бог по необходимости простит, но приступать к соитию следует не только с желанием зачать дитя… – Которое у короля, безусловно, есть, – вставляет лорд Одли. – …но и ради чистого слияния сердец и душ, происходящего из добровольного согласия… – Ничего не понял, – признается Суффолк. – И значит, если у него или у нее есть некие опасения в душе или в сердце, то для щепетильной натуры могут возникнуть преграды… – Какие преграды? – перебивает Одли. – Вы про ту давнюю помолвку? Кранмер шепчет: – Король много читал Отцов Церкви… – Поздних комментаторов, – возражает Сэмпсон. – Которые не всегда на пользу, ибо обсуждают, как именно и чем грешит мужчина, соединяясь с женщиной. Но грешит всегда. – Что, даже с женой? – изумляется Суффолк. Сэмпсон отвечает с мрачным ехидством: – Возможно, да. – Чушь собачья! – восклицает Норфолк. – Кромвель, в Писании это есть? – Почему бы вашей светлости не почитать его самому? Одли откашливается. Все советники поворачиваются к нему. – Просто для ясности. Его неспособность… – Или нежелание, – добавляет Кранмер. – …или нежелание – как-то связано с бумагами из Клеве? Или нет? – Сомнения бывают разного рода, – неопределенно отвечает Кранмер. – Так если добыть бумаги, это исправит дело? – спрашивает Рич. – Хуже точно не будет, – говорит Сэмпсон. – Конечно, пока они придут, наступит Великий пост. А он не станет спать с ней Великим постом. – Нам не следует вести подобные разговоры, – строго говорит Суффолк. – Мы мужчины, а не кумушки. Это неуважение к нашему государю. Фицуильям хлопает ладонью по столу: – Вы знаете, что он винит меня? Говорит, я должен был остановить ее в Кале. Я написал ему, что у нее царственные манеры, и это правда. Больше ничего не обсуждалось. Я что, должен был ощупать ее груди и отправить свое о них мнение с гонцом? Открывается дверь. Это Зовите-меня, и лицо у него такое, будто он ступает по раскаленным камням. – Прочь! – рычит Норфолк. – Вы прерываете совет! Зовите-меня говорит: – Король. Он идет сюда. Они встают, скрипя ножками стульев. Генрих обводит их взглядом: – Спорили? – Да, – печально отвечает Брэндон. Он перебивает: – Ваше величество справедливо ценит согласие. Однако я никогда не приду к согласию с теми, кто дает дурные советы. Чарльз Брэндон говорит: – Но очень хорошо, что вы к нам присоединились, сэр. Мы вас почти не ждали. Мы очень рады вас видеть. Мы… – Довольно, Чарльз, – отвечает Генрих. – Надо поговорить о герцоге Баварском и его сватовстве. – Дай ему Бог здоровья, – говорит Брэндон; как будто молодой герцог болен. – Милорд хранитель малой печати, – говорит король, – вы ведь с герцогом Баварским посещали леди Марию? А затем ее перевезли в замок Бейнард, где они с герцогом могли немного пообщаться, в сочельник, если не ошибаюсь? Король говорит так, будто это некая загадка, которую надо распутать. Он согласно кивает: да, все так. Филип хотел подарить Марии большой крест с алмазами, но советники не разрешили. Ведь если до свадьбы не дойдет, такой дорогой подарок придется вернуть? Это сложный вопрос дипломатического протокола. Ювелирам велели изготовить крест подешевле. Леди Мария гуляла с герцогом Филипом по зимнему вестминстерскому саду, где вся жизнь съежилась, втянулась в корни. Они беседовали: частью через переводчика, частью на латыни. Когда Марии подарили крест, она его поцеловала. И Филипа. В щеку. – Добрый знак, клянусь Богом! – говорит Брэндон. – Никого из нас она не целовала. – Вы недостаточно знатны, – говорит король. – Последним, чья знатность такое позволяла, был предатель Эксетер. Как ее кузен. Епископ Сэмпсон подается вперед, сводит брови: – Филип же ей не кузен? А если кузен, то насколько близкий? Он делает себе мысленную пометку: проверить. Генрих говорит: – Мне представляется, что этот брак очень укрепит нашу дружбу с Германией. Молчание. Король чуть заметно улыбается; умение изумить советников – предмет его гордости. – Я жертвую собой ради Англии, так отчего моей дочери не поступить так же? Если я могу плодиться в интересах страны, то может и она. Кромвель заверил меня, что в Баварии ей будет хорошо. Он вечно дает мне заверения, только из них пока ничего не вышло. Епископ Сэмпсон, может, съездите к Марии, подготовите ее к свадьбе? Сэмпсон стискивает губы и через силу кивает. Он, Томас Кромвель, говорит: – В Европе утверждают, что брак уже заключен, причем против воли дамы. Воэн пишет, весь Антверпен об этом судачит. Марильяк в этом уверен либо притворяется, будто уверен. Франциску уже сообщили. Генрих говорит: – Они считают, я ее принуждаю? – Да. Генрих смотрит на него: – И? – И я полагаю, со всем почтением к вашему величеству, что вам лучше отказаться от своего решения и отправить герцога восвояси. Иначе вы сделаете ровно то, чего ждут ваши враги, а это неудачная политика. Эдвард Сеймур прикрывает рот. Слышен смешок. Генрих поджимает губы. Потом говорит: – Очень хорошо. Я сделаю для Филипа что-нибудь еще. Возможно, награжу его орденом Подвязки. – Трет переносицу. – Не стоит разрушать его надежды. Скажите, что он может вернуться в Англию. Скажите, я всегда буду рад видеть его в какую-нибудь еще не назначенную дату. – Государь, ваша дочь никогда не выйдет замуж, – говорит Норфолк. – Кромвель разрушает все предлагаемые ей браки. Король встает. Одной рукой придерживается за стол, другой трет грудь. Они все тоже на ногах, готовы преклонить колени; иногда Генрих этого ожидает, иногда – нет. Норфолк говорит: – Хотите опереться на мою руку, государь? – Зачем? – говорит король. – Скорее я поддержу вас, Томас Говард, чем вы меня. Перед королем распахивают дверь. Зовите-меня входит и замирает. Только тут они видят, что герцог Суффолк по-прежнему сидит, раскачиваясь взад-вперед. – Бедный Гарри, бедный Гарри, – стонет герцог. Слезы бегут по его щекам.
Седьмого января король спит один, как предписали врачи. В следующие две ночи джентльмены сопровождают его в спальню королевы. Приходит доктор Беттс: – Лорд Кромвель, по-прежнему ничего. Я сказал его величеству не заставлять себя. – Во избежание вреда для монаршего здоровья, – добавляет Чамберс. – Он сказал, что все равно будет посещать ее опочивальню каждую вторую ночь, – добавляет Беттс. – Чтобы не пошли слухи. Чамберс говорит: – Он утверждает, что от нее дурно пахнет. Возможно, вам стоит поговорить с ее служанками. Сказать, чтобы мыли ее хорошенько. Он отвечает: – Поговорите с ними сами, если желаете. – Ему видится, как Анну замачивают и намыливают, трут в Темзе и бьют ею по камням, полощут ее и отжимают. – Я ручаюсь жизнью, что она девственница. – Об этом он вроде больше не упоминал, – говорит Чамберс. – Теперь лишь повторяет, что она ему омерзительна. Однако, по его словам, он по-прежнему мужчина. Во всяком случае, способен излить семя. Если вы намерены женить его снова, вас это должно утешить. Доктор Беттс шепчет: – У него были… вы нас поймете… duas pollutiones nocturnas in somne[172]. – То есть он считает, что смог бы с другой женщиной, – добавляет Чамберс. – У него кто-то на примете? Он думает: я как Чарльз Брэндон, мне стыдно за такие разговоры.
На следующем заседании совета лорд-канцлер говорит: – Если король и королева любезны друг с другом днем, это поможет унять слухи. И тут, я думаю, на них обоих можно положиться. – Когда он был женат на другой и у него с ней не получалось, он винил ведьм, – говорит Фицуильям. – Суеверие, – отвечает Кранмер. – Он больше в такое не верит. – Итак, Кромвель? Что делать? – спрашивает Норфолк. Он отвечает: – Я всегда заботился лишь о его благе. Он краем уха ловит, как молодой придворный – Говард, разумеется, мальчишка Калпепер, – говорит другим: – Если король не справится с новой королевой, за него это сделает Кромвель. А почему нет? Все остальное он за короля делает. Молодые люди смеются. Его встревожила не насмешка, а то, что они и не думают приглушить голос. У него чувство, что пол в зале совета надо посыпать песком – чтобы впитывал кровь. Это как champ clos на турнире, место, огороженное, дабы отделить бойцов от зрителей. Король смотрит с высокой башни, оценивает каждое их движение.
Поздно вечером он пишет Стивену Воэну. Рассказывает то же, что и другим заграничным друзьям: король и королева веселы, все за них радуются. Я лгу даже Воэну, думает он. Ричард Рич спрашивает: – Какие новости от вашей дочери в Антверпене? – Никаких, – отвечает он. Рич говорит: – Может, оно и к лучшему. У короля острый нюх на ереси. Вы столько путешествовали по свету, милорд, что у вас могут быть и другие, неведомые вам отпрыски. Вы когда-нибудь об этом думали? – Да, Вулси раз или два об этом упоминал. Он думает: если Женнеке захочет ко мне приехать, неизвестно, смогу ли ее принять. Он выпроваживает Рича, и сразу входит красный от смущения Ризли – видно, что подслушивал. – У этого человека нет никаких чувств, одно честолюбие. То же самое говорит про тебя Рич, думает он. Однако, покуда я у власти, вы оба стараетесь для меня изо всех сил. Я должен на вас полагаться, даже если не вполне вам доверяю. Я не могу работать в одиночку. У Сеймуров собственные интересы, что естественно. В это странное время Суффолк – мой доброжелатель, но Суффолк тупица. Рассчитывать на поддержку Фицуильяма я не могу, он борется за себя и перекладывает обвинения на меня. Кранмер боится, он всегда боится. Латимер в опале. Роберту Барнсу я не доверил бы его собственную жизнь, не то что свою. Книги советуют нам опасаться слабых людей больше, чем сильных. Однако перед лицом короля мы все слабы, даже Томас Уайетт, не испугавшийся льва. У главного советника в королевстве должны быть великие замыслы, однако он час за часом корпит над будничными делами. В городе полно немцев – официальных и неофициальных посланников, – уверенных, что он сделает короля достойным союзником Лютера. Лорд Кромвель, говорят они, мы знаем, это вы день ото дня смягчаете законы прошлого лета. – Мы знаем, что вы желаете более полной реформации. Вы верите в то же, что и мы. Он указывает на короля, стоящего в отдалении: – Я верю в то же, что и он. В Остин-фрайарз он идет навестить леопарда. Это самка. Дик Персер знает ее привычки, ее угрюмые повадки и опасную игривость. – Дик, – говорит он, – не думай, будто можешь с ней подружиться. Не думай, что она тебя пощадит. Он смотрит на леопардицу, та смотрит на него. Золотые глаза моргают. Она зевает, но каждый миг думает об убийстве – это выдает подергивание хвоста. Дик спрашивает: – Как вы думаете, что бы она сказала, если бы могла говорить? – Ничего такого, что мы сумели бы понять. – Когда вы забрали меня из дома Мора, у меня и мысли не было, что я буду смотрителем такой зверюги. Он обнимает юношу за плечи. Дик Персер – сирота; Томас Мор и епископ Стоксли выследили его отца, поставили к позорному столбу, ославили как еретика; их жестокое обращение, он уверен, и свело несчастного в могилу. Томас Мор гордился тем, что взял мальчика в дом, гордился и тем, что поркой выбивал из него ересь. Сэр Томас хвалился, что ни разу не ударил собственных детей, даже перышком. Однако на чужих детей его доброта не распространялась. Он сам, вне себя от ярости, заявился к Мору. Не отправил слугу, не стал дожидаться в прихожей, когда Мор соблаговолит его принять. – Я пришел за сыном Персера. Отдайте его мне, или я подам на вас жалобу за побои. – Что? – удивился Мор. – За то, что я наказал провинившегося ребенка у себя в доме? Вас поднимут на смех, мастер Кромвель. Так или иначе, негодник сбежал. По счастью, он прихватил лишь то, что на нем было. Иначе пришлось бы его арестовать. – Я слышал, он прихватил с собой ваше благословение. Следы видны. – Наверное, он убежал к вам, – сказал Мор. – Где ему искать убежища, как не под кровом у еретика? – Я могу вчинить вам иск о клевете, – ответил он; один юрист другому. – Вчините, – сказал Мор. – Факты выйдут наружу. Ваши связи с контрабандой книг. Ваши сомнительные знакомства. Антверпен, все такое. Нет… идите домой, найдете мальчишку у себя под дверью. Куда еще ему идти? В порт, думает он, в доки. Наняться на корабль. Как я когда-то. Не худший выбор. А может, и худший. Теперь он платит Дику Персеру двенадцать фунтов в год. И четыре пенса в день за попечение о леопардице.
Он идет к лорду Рэтленду, гофмейстеру королевы. Разговаривают обиняками, но лорд Рэтленд ясно дает понять, что не вмешивается в постельные дела. Он предлагает лорду Рэтленду поговорить со своей женой. Леди Рэтленд беседует со старшей из немецких фрейлин. На следующий день Анна снимает немецкий чепец и появляется во французском арселе, который изящно обрамляет ее лицо, открывая прекрасные белокурые волосы надо лбом. Он спрашивает Джейн Рочфорд: – Есть способ сделать цвет ее кожи посвежее? Король постоянно вспоминает Джейн. – У Джейн цвет кожи был не свежий, а мертвенно-бледный, будто она живет под алтарной пеленой. Не то чтобы она была такая уж святая. Она запугивала Анну Болейн. Мэри Фицрой говорит: – Королеве не с чего сиять, милорд. Она слышит, что король несчастен, и чем больше английских слов узнает, тем больше будет требовать объяснений. – Вряд ли она будет что-нибудь спрашивать, – встревает маленькая Кэтрин Говард. – Ей рассказали, что с первой женой король развелся оттого, что та громко по-латыни молила Господа его простить. И казнил Анну Болейн за то, что она сплетничала и кричала. А третья жена была любимая, потому что почти не открывала рта. Так что она старается быть как Джейн. Только не умереть. Рочфорд говорит: – Может, вы хотите сами вымыть ее и одеть? Мы поставим ее перед вами голой, а дальше вы сами. Он говорит: – Если она доверит вам свои мысли, скажите мне. Через переводчиков он узнает, чего Анна ждет от брака. Ее родители женились не по любви, но стали любящими супругами. Они писали друг другу стихи. Ей известно, что король в юности сочинял стихи, и она гадает, когда он напишет что-нибудь ей. Клевские послы спрашивают: – В прошлом, когда ваш король был без жены, заводил ли он любовниц? – Наш король добродетелен, – отвечает он. – Не сомневаемся, – отвечают послы. – Хотя возможны и другие причины. Он говорит Фицуильяму: – Посоветуйте королю проявить нежность на людях. – Лучше вы, – отвечает Фиц. – Нет, вы. Фиц стонет. Позже в тот же день, в присутствии всего двора и немцев, король требует к себе королеву и берет ее за руку: – Идемте, дорогая мадам. – Смотрит на советников; те хотят, чтобы он продолжал. Он привлекает ее к себе. Лоб Анны упирается в его грудь, расшитую драгоценными камнями. Генрих держит крепко, как если бы она противилась. Сжимает хватку, как если бы она вырывалась. Тело Анны напряжено, распластано. Рот – глубоко в его мехах. Она пытается сдвинуться в сторону, чтобы дышать. Сжимает опущенную руку в кулак. Запрокидывает голову, охает. Затем, спиной к зрителям, затихает. Грегори шепчет: – Может, он ее задушил? Ризли говорит: – Ваше величество… не лучше ли… – Что? – Генрих отпускает королеву. Отступает на шаг, точно говоря: вы видели, я старался. Анна пятится, будто ноги плохо ее держат. Скользит взглядом по Фицуильяму, по Грегори, по лицам тех, кого знает, затем неуверенно делает к ним шаг, протягивая руку, обмякшую, словно пальцы переломаны. На щеке красным клеймом отпечаталась золотая королевская цепь.
В конце января Уайетт исполнил приказ, который слали ему из Лондона с каждым гонцом, с каждым кораблем: заронил семя раздора между императором и Франциском. На торжественном приеме Уайетт предстал перед Карлом и спросил: почему вы не держите обещаний? У нас есть соглашение о выдаче преступников, однако английские изменники беспрепятственно проезжают через ваши земли к чудовищу Полю. Вы настолько неблагодарны после всего, что сделал для вас наш король? – Я? Неблагодарен? Первый дворянин христианского мира багровеет от ярости. Потрясенные советники сбиваются в кучу и перешептываются. Один выступает вперед: – Быть может, мы неверно вас поняли, мсье Гуйетт? Или вы употребили не то слово? В конце концов, французский вам не родной. – Я прекрасно владею французским, – отвечает Уайетт. – Однако, если желаете, повторю по-латыни. Карл подается вперед. Как смеет ваш господин употреблять такое слово, «неблагодарен»? Как смеет посол жалкого островка еретиков и овец обвинять в неблагодарности императора? Король, низшее существо, не должен ждать благодарности. Император Священной Римской империи стоит высоко над обычными королями. Их место – у его ног. Уайетт отступает на шаг: – Все сказано, сударь. Желая оскорбить Генриха, император оскорбил всех государей, включая своего французского союзника. Когда приходит письмо Уайетта, мастер Ризли зачитывает его вслух. – Чисто пьеса! – восклицает Уильям Кингстон. Советники неуверенно улыбаются. Между Франциском и Карлом есть старые счеты, которые могут полыхнуть от малейшей искры. Как только огонь разгорится и спалит их соглашения, англичане вздохнут свободно. – В таком случае, Кромвель, – говорит Норфолк, – нам не понадобятся ваши немецкие друзья. Ваш друг Уайетт действует вопреки вашим целям. – Герцогу определенно нравится эта мысль. – Если он преуспеет, то выставит вас дураком.
В Валансьене, на берегу Шельды, Карл и Франциск разъезжаются в разные стороны. Император с войском направляется на восток. – И Уайетт с ним, – говорит он Генриху. Рядом, чтобы язвить и досаждать. День или два проходят без новых известий. Потом становится ясно, что император идет на мятежный Гент. Горожане знают, чего ждать. Карл уже казнил одного из их предводителей, семидесятипятилетнего старика, разорвал его на дыбе. Предварительно тому сбрили волосы на голове и на теле, так что он стал голый, точно новорожденный младенец. Генрих говорит: – Император любит воевать. Из Гента он пойдет на Гельдерн. Тогда герцог Вильгельм попросит меня о помощи, и я не смогу ему отказать. И если меня втянут в войну, это случится не по моему желанию, милорд, а – удивительное дело – по вашему. Ричард Рич приходит посоветоваться насчет пенсионного списка для Вестминстерского аббатства. Аббат, по собственным словам, при смерти, но может, это хитрость, чтобы выманить пенсион побольше? Аббатство станет кафедральным собором, аббат (если доживет) – настоятелем. Генрих не станет разрушать священное место, где коронуют монархов. Не станет тревожить отца и мать, лежащих в бронзе над полом и в свинце под землей; каждый день вокруг них горят толстые, словно колонны, свечи, озаряя их вечным зеленоватым светом. Мощи святых из аббатства заберут, но образы и статуи оставят. Фома неверующий преклоняет колени, чтобы вложить персты в кровавую рану на груди Спасителя. Святой Христофор несет Бога, котенком примостившегося у него на плече. На стене капитула святой Иоанн отплывает на Патмос – скорбный изгнанник, чей взор затуманен слезами. Труженики-верблюды бредут по пескам пустыни, косуля тонкими копытцами попирает траву, патриархи и девственницы стоят плечом к плечу с исповедниками и мучениками, таращат бусинки глаз. Надгробия покойных монархов тянутся друг к другу, будто их кости совещаются между собой, а мозаичный пол из оникса, порфира, зеленого змеевика и стекла рассказывает нам в пророческих надписях, сколько простоит мир. – Зачем им знать? – спрашивает он Ричарда Рича. – Я удивляюсь, как хоть кто-то из монахов доживает до четвертого десятка. Монастырский устав запрещает мясную пищу в трапезной, поэтому у них есть вторая столовая, где они утоляют свой аппетит к жареному и вареному мясу. На главные церковные праздники они готовят блюдо под названием Великий Пудинг. На него идет шесть фунтов коринки, триста яиц и огромные куски околопочечного жира. Ему как-то торжественно показали, как этот пудинг поспевает: жирная булькающая масса, подушка, вся в черных точках, будто облепленная мухами. – Аббатство стоило уничтожить, – говорит он, – пусть только ради того, чтобы уничтожить пудинг. Он, Томас Кромвель, смотрит вверх на веерные своды новой часовни: – Клянусь, свисающие конусы смещаются. Когда я был здесь в первый раз, они выглядели ровнее. – Просто здание дает усадку, – говорит монах. – Обычное дело, милорд. Есть особая индульгенция для тех, по кому здесь служат заупокойные мессы, – прощение грехов, которое всем нам когда-нибудь понадобится, – и зовется она Лестницей на Небеса. У святого Бернарда было видение, как души по ступенькам карабкаются в вечность; ангелы подают им руку, когда они прыгают с последней перекладины в райское блаженство. Лезть вверх легко. Труднее решить, что делать, когда доберешься до верха. Пока мы взбираемся, бес дергает нас за ногу; перекладина может сломаться, или вся лестница уйдет в болотистую почву. Он говорит Ричу: – Как по-вашему, в чем изъян: в природе лестниц или в природе тех, кто по ним лезет? Однако канцлер палаты приращений не задумывается над такого рода вопросами.
В конце месяца Эдвард Сеймур отправляется в Кале, Рейф Сэдлер – в Шотландию. Если король Яков хочет одолжений, говорит он Рейфу, пусть задабривает своего дядюшку Генриха, а не связывается с Франциском, который превратит Шотландию в вассальное государство. И если Рейф приметит разногласия между Яковом и папой, то пусть их усилит. Надо объяснить шотландскому королю преимущества главенства над собственной церковью, напомнить о богатстве монастырей; каждому правителю нужны деньги, а тут довольно протянуть руку. Отъезд Рейфа задерживается – король хочет отправить с ним коней в подарок племяннику. – Пиши мне, – говорит он, – при любой возможности. Отсутствие Рейфа – как холодный ветер за воротник.
Двор переезжает в Вестминстер по реке, с музыкантами, в сопровождении купеческих судов. В Тауэре палят пушки. Горожане на дрожащих от выстрелов берегах кричат: «Ура!» В Вестминстере король по-прежнему посещает королеву каждую вторую ночь. Немцы спрашивают: «Ваше величество, когда будет коронация?» Он, Кромвель, напоминает совету, что коронацию назначили на Сретение, однако Сретение уже прошло. Норфолк говорит: – Мы знаем, зачем вы хотите ее короновать. Считаете, если король раскошелится на торжество, то уже не отошлет ее обратно. – Обратно? – Возмущение приходится разыгрывать. На королевиной половине тишина. Женщины, хмурясь, пробегают мимо него – они вечно куда-то спешат. Он должен задать Анне вопрос, но не знает какой; а может, ей нужно получить его ответ. В сказках, когда встречаешь в лесу даму, закутанную с головы до пят, она загадывает тебе загадку. Угадаешь – ее одежды спадут, она скользнет в твои объятья, ее свет сольется с твоим светом. Но если не угадаешь, она обернется старой каргой, положит руку на твой уд, и тот съежится до размеров горохового стручка. Он привозит Чарльза Брэндона в Остин-фрайарз, показывает леопардицу, от которой Чарльз приходит в восторг, и доверительно сообщает: король признался, что никогда не полюбит королеву и потому не может исполнить супружеский долг. – Не может, не хочет – для государства это едино. Суффолк мрачнеет: – Не будет больше и пытаться? Не знал. А Томас Говард знает? А епископы? Любому, кроме него, вы могли бы посоветовать… Он в полном недоумении, что скажет Чарльз. – Вы могли бы посоветовать, попробуйте думать о другой женщине. Но если Гарри будет думать о другой женщине, он захочет на ней жениться. И что тогда будет с вами? При дворе он изучает племянницу Норфолка. Когда кто-нибудь из мужчин на нее смотрит, что случается очень часто, она распушает перышки, словно упитанная курочка. Король намерен отправить Томаса Норфолка во Францию; хочет проникнуть в мысли Франциска и думает, это задача для знатного вельможи. – Тут нужен кто-то уровня милорда Норфолка, – говорит король. Молодой Суррей говорит своим прихлебателям: – Лишь милостью Небес у короля еще остался дворянин, которому можно доверить посольство. Дай Кромвелю волю, он бы истребил нас всех. Ризли идет за ним по пятам: – Сэр, вы видите, как Норфолк рвется ехать? А раньше, если его отправляли за границу, всегда волочил ноги. И я боюсь, он плохо говорит по-французски. – Может, будет молчать и сойдет за умного. Ричард Рич говорит: – Вам, Зовите-меня, это бы тоже не помешало. Норфолку придадут в помощь сэра Джона Уоллопа. Он назначен постоянным послом; французы называют его Валлоп. Это опытный дипломат, но Кромвель бы его не выбрал – хотя бы из-за дружбы с лордом Лайлом. Мэтью сейчас в Кале и доносит обо всем, что происходит в доме наместника. Осталось дождаться, когда на столе его милости, а может, в рукодельной шкатулке ее милости обнаружится предательское письмо – Реджинальду Полю либо от Реджинальда Поля. Перед отплытием Норфолк побывал у Гардинера в Саутуорке. – Немудрено, что милорд захотел получить совет, – благодушно говорит он, когда ему об этом сообщают. – Ведь Гардинер долго был нашим послом во Франции. – Не в этом дело, – говорит Ризли. – Они вдвоем что-то замышляют. – Да. Хорошо. Я тоже что-то замышляю. После сюрприза, что я готовлю Норфолку, тот никогда не высунет нос из дома.
Великий пост тысяча пятьсот сорокового года соблюдают по всей строгости, как в старые времена. За этим следят Гардинер и его присные. Даже к лучшему, что они получили волю в мелочах, это усыпит их бдительность. Терстон поддерживает его и домашних шафрановым хлебом, луковыми пирожками с изюмом, печеным рисом с миндальным молоком и новым соусом для рыбы из чеснока и грецких орехов. На День святого Валентина вспыхивает война проповедников. Гардинер против Барнса, Барнс против Гардинера. Оба непреклонны, но Гардинеру терять нечего, а Барнс рискует жизнью. Барнс сломается, как прежде сломался перед Вулси. Подведет не слабость веры, а слабость характера. Он не Лютер. На том стоит – покуда Гардинер не собьет его с ног. Лондонцы слушают их проповеди, толкаясь под навесами из просмоленной холстины или пригнувшись под самодельными укрытиями, щурятся из-за дождя, волосы прилипли к голове, вода затекает в уши. Однако старухи говорят, лето будет жаркое. А сейчас, как сказал поэт, ни зелени, ни плодов, одни шипы. В день, когда он идет просить Генриха о милости, земля скована морозом. – Вы по поводу Роберта Барнса? – спрашивает Генрих. – По всему выходит, я сильно в нем обманулся. Гардинер говорит, он отъявленный еретик. Только подумать, я доверял ему дела Англии за границей! Вы близки с этим человеком, вы виновны в недосмотре, что не узнали и не обличили его мнения. Полагаю, вы о них не знали? – Я не по поводу Барнса. – Он мысленно выходит из помещения и заходит снова. – Я по поводу Гертруды Куртенэ, сэр. Ее можно было бы выпустить. Отправить свидетельства в архив. Она повинна в доверчивости, что женщине нельзя ставить в вину, и в верности покойным, что ваше величество вполне поймет. – Екатерина ведь так и не умерла по-настоящему? – устало говорит Генрих. – И кое-кто никогда не признает, что она не была моей женой. – Леди Эксетер потребуются средства для жизни, так что, если милосердие вашего величества позволит, я назначу ей ренту с земель ее супруга. – Будь он проклят, – говорит Генрих. – Ладно, женщину отпустите, младшего Эксетера оставьте под стражей; нечего изменническому отродью разгуливать по моему королевству. Он делает пометку. Генрих говорит: – Кромвель, вы могли бы зачать сына? От неожиданности он не находится с ответом. – Думаю, могли бы, – говорит Генрих. – Вы из простонародья. Простые мужчины крепче. Королю невдомек, как рано они теряют силы. Работник в сорок лет сгорблен и немощен. Его жена иссыхает к тридцати пяти. – Я думал, в этом браке у меня будет еще сын, но, сдается, Господь судил иначе. – Король оседает в кресле, перекладывает несколько документов. – Мы можем сейчас написать в Клеве. Будете писать под мою диктовку, как встарь. Он говорит: – Зрение у меня не то, что раньше. Такое вот здоровье простолюдина. – Но вы по-прежнему пишете письма, – отвечает Генрих. – Я знаю ваш почерк. Я хочу спросить у самого Вильгельма, где бумаги о том, замужем ли его сестра, потому что… – Король упирается локтями в стол, опускает голову на руки. – Кромвель, не можем ли мы от нее откупиться? – Да, мы можем предложить ей ренту. Не знаю, сколько нам придется наскрести, чтобы умиротворить ее брата. И не знаю, как спасти репутацию вашего величества, если вы расторгнете законный брак. Вам трудно будет высоко держать голову в кругу других правителей. Или найти новую жену. – Я могу найти ее завтра, – резко объявляет король. Дверь осторожно приоткрывается. Это слуги со светом. – Несите свечи сюда, – говорит он. Однако король как будто забыл про письмо. Генрих ждет, когда они снова останутся одни, но не заговаривает даже после того, как слуги выходят. Теплый свет рассеивается по комнате, и наконец король произносит: – Помните, милорд, как мы ехали в Уилд? Поговорить с литейщиками, узнать новые способы отливать пушки? Окна запотели. Алмазы на одежде Генриха, когда тот шевелится, похожи на бусины или на те семена, что упали на каменистую почву. Он ждет, положив пальцы на перо. – То были более светлые дни. Джейн не могла ехать, она носила под сердцем моего наследника. Ей не хотелось меня отпускать, но она знала, что мы давно задумали эту поездку, и при занятости вашей милости и многочисленных обязанностях короля она понимала, что просьба повременить будет неуместной. Я встал рано. Дело было около Иванова дня, рассвело задолго до разрешенного часа мессы, и Джейн спросила: вы дождетесь капеллана? И я задержался, потому что страхи женщины в таком положении следует уважать. Я сказал, что вернусь скоро, через две-три ночи, хоть мы и поедем неспешно. Мы будем слушать пение птиц и скакать по лесам, как рыцари Камелота. Будем радоваться солнечному свету. – Генрих ненадолго умолкает. – Куда подевался солнечный свет? – Господь сотворил февраль, сэр, как и июнь. – Вы говорите, точно епископ. – Генрих поднимает голову. – Вам с Гардинером надо помириться. Мы уже пробовали, думает он. – На Пасху сядьте вместе и помиритесь. – Клянусь честью, я попробую. Молчание. Он думает, наверное, этого мало. – Я помирюсь с ним, если сумею. Слуги не закрыли ставни. Он встает и подходит к окну. Генрих говорит: – Не закрывайте, пусть будет хоть такой свет. За стеклом проносятся чайки, словно перепутали вестминстерские башни с береговым обрывом. Генрих наблюдает за ним. Большие руки бессильно лежат на коленях. Говорит: – Но когда я думаю об этом, Кромвель… Мы ведь так с вами и не поехали. – В Кент? Да. Но собирались… – Собирались, да. Но каждый раз нам что-нибудь мешало. Он садится напротив короля: – Давайте считать, что мы съездили, сэр. Не будет вреда, если мы это вообразим. – Зеленое сердце Англии, далекий колокольный звон, тень деревьев средь полуденного зноя. – Давайте скажем, что литейщики приняли нас радушно и показали нам все свои секреты. – Еще бы, – говорит Генрих. – Бесполезно таить от меня секреты. Я все равно их узнаю.
Он выходит и, держась рукой за стену, шепчет молитву. В «Книге под названием Генрих» нет для него совета. Король оставил родные края и словно переселился туда, где причина не связана со следствием; не стремится он и открыть душу, как прежде. Вспомнить только падение Болейнов. Тогда король написал пьесу о чудовищном распутстве Анны Болейн. Носил в книжечке на груди и пытался всем показывать. В январе король сказал, Кромвель, вы не виноваты. Теперь слышишь, как Генрих думает: одного я хотел, одного, и он не уважил мое желание. Он думает: расторгнуть новый брак трудно, но возможно. Это станет победой Норфолка и его присных, радостью для папистов и концом новой Европы. Часто ли выпадет шанс перекроить карту? Может, раз в два или три поколения; и теперь этот шанс ускользает. Уайетт и время рассорят Франциска с императором, и мы вернемся к старым приевшимся играм, которые я вижу всю свою жизнь. Потом Генрих захочет жениться, бог весть на ком. Вспоминается песня, – наверное, Уолтер ее пел:
Пока Норфолк был во Франции, он вторгся в герцогскую вотчину – закрыл Тетфордский приорат, где лежат пращуры герцога. Триста лет в Тетфорде происходили чудеса – с тех самых пор, как там собрали множество аккуратно подписанных реликвий, в том числе камни с Голгофы, часть гроба Богородицы и кусочки яслей, в которых лежал младенец Иисус. Теперь явилось величайшее чудо: Томас Кромвель, мальчишка из Патни, который считает, что время не облагораживает подделки и не придает благолепия лжи. Что будет с досточтимыми покойниками? Здесь похоронен Джон Говард, который при Босворте был ранен стрелой в лицо и умер еще до того, как рухнул с коня на землю. Здесь же лежит отец герцога, Томас Говард, который рубил шотландцев при Флоддене и усеял поле их отсеченными руками и ногами. И здесь же недавно похоронили молодого Ричмонда, королевского бастарда и герцогского зятя. Придется ли семье строить новые гробницы? Это оскорбление имени Говардов, вопит герцог, да к тому же непосильные расходы. Приходит к нему с вопросом: – Кромвель, вы меня ни во что не ставите? Поберегитесь. Я вам кишки выпущу. – Воинственная речь, – замечает он, – у нас не было таких разговоров со времен кардинала. – За моего отца надо молиться! – ревет герцог. – Если не в Тетфорде, значит где-то еще. Рич говорит: – Вы же не хотите сказать, что за счет милорда? Он думает: почему вы не махнете на него рукой, на своего старого папашу? Не предоставите того собственной участи? – Его называли Флодденский Норфолк, – говорит герцог. – Отец, получивший прозвище в честь битвы. Как вам такое, Кромвель? Норфолк уходит, чертыхаясь; он чертыхается с самого приезда из Франции. Там ему посоветовали завязать дружбу с любовницей Франциска и через нее войти в доверие к королю, и он до сих пор злится, что вынужден был заискивать перед женщиной. Ризли говорит: – Он так гордится своими предками, что не простит вам закрытия приората. И я не думаю, что он рассказал обо всех своих сделках с французами или хотя бы о большей их части. Ричард Рич говорит: – Французы вас ненавидят. А Норфолк их в этом поощряет. Ризли говорит: – Разве я не дал вам совет, сэр, когда пали Болейны? Уничтожьте Норфолка, сказал я, пока есть такая возможность.
Роберт Барнс приходит в Остин-фрайарз; и вновь это утопленник, которого прибило волнами ко входу в дом. Знай он, что Барнс придет, велел бы не впускать. Барнс говорит: – Винчестер считает, что, погубив меня, погубит и вас. Он кивает; все так и есть. – Вы можете бежать, – говорит он. – Нет, – отвечает Барнс, – я слишком устал. Вы всегда советовали быть осторожным. Осмотрительным. Сколько Господу дожидаться, чтобы Англия приняла истинную религию? – Еще десять лет, – отвечает он. – По Его меркам – недолго. Барнс смотрит на него во все глаза: – Вы хотите сказать, до смерти Генриха? А что, если принц так и не взойдет на престол? Что, если будет править Мария? – Тогда нам всем конец, – отвечает он.
Двенадцатого марта граф Эссекс, Генри Буршье, падает с лошади, ломает шею и умирает на месте. – Господи, прости меня, – говорит Чарльз Брэндон, – на королевской свадьбе я пошутил, что ему недолго осталось жить. – Милорд, – отвечает он, – вот уж вы никак в его смерти не повинны. Куда отправится старый Эссекс? Прямиком на Суд? Или будет тихонько лежать в могиле до конца света? Будет ли он полмиллиона лет искупать свои грехи в чистилище или уже добрался до места назначения – верхней ступени Лестницы на Небеса либо адского рва, уготованного для графов? Большая часть придворных такими вопросами не задается. Кроме как по воскресеньям или в тяжкой болезни споры Гардинера и Барнса им безразличны. Их занимает лишь, что будет с титулом Эссекса. У графа не осталось наследника. На титул надеется его зять, но никто не знает, кого выберет король. На Вербное воскресенье приходит известие о смерти Джона де Вера, пятнадцатого графа Оксфорда. Оно никого не потрясло – Вер болел уже несколько месяцев. Его сын совершеннолетний и станет шестнадцатым графом; предполагают, его же назначат на отцовское место великого камергера, обер-гофмаршалакоролевского двора. – Не обязательно, – говорит Ризли. Его отец и дед были герольдмейстерами, и он такие вопросы знает как свои пять пальцев. – Вера назначили на это место в тысяча сто тринадцатом, при первом Генрихе, и с тех пор было очень мало великих камергеров не из этой семьи. Однако должность не наследственная. Король может назначить кого пожелает. Ему некогда обсуждать будущего великого камергера. Надо принимать нового посланника. Клеве наконец-то отправило к нам постоянного посла. Его зовут доктор Карл Харст, и раньше он представлял герцога Вильгельма в Испании. Документов он не привез, по-английски не говорит, жить ему негде, содержание у него мизерное, одевается и выглядит непрезентабельно. Он говорит Ризли: – Жаль, что они не прислали нам кого-нибудь получше; боюсь, двор будет над ним смеяться. – Над его ожиданиями уж точно, ибо они совершенно ошибочны, – отвечает Ризли. До Вильгельма должно было уже добраться письмо от сестры. На родном языке Анна сообщила брату, что не желала бы лучшего мужа и благодарит семью за свое счастье. Джейн Рочфорд сказала ему: – Она не знает, как быть. Делает вид, будто все хорошо, но, как галка, ждущая, когда созреют смоквы, питается надеждой. – Рочфорд смеется. – Пост кончился, и ни один человек, сколь угодно благочестивый, не может отказываться от жены. Мы ее спрашиваем: «Мадам, что он делает? После того, как гаснет свеча?» Она отвечает, он целует меня и говорит: «Спокойной ночи, милая». А утром встает и говорит: «До свиданья, дорогая». Мы сказали ей, мадам, если ничего больше не происходит, то нескоро мы дождемся герцога Йоркского. – Потише, Джейн, – говорит он. – Все это обсуждают. Сколько вы надеетесь скрывать от немцев правду? Позади шаги: одна из фрейлин. – Вы как будто бы повсюду, мистрис Говард. Кэтрин поднимает на него глаза: – Да. Он оценивает ее: – Новое платье? – Подарок дяди Норфолка. – Вы пришли что-нибудь сообщить или только поразить мой взор? Она склоняет голову: – Королева и леди Мария желают прогуляться с вами по галерее. Милорд. По окнам стучит дождь; свинцовые люди на кровле изливают воду из глоток.
Дамы из личных покоев Анны уже рассказали ему, что ее встреча с леди Марией прошла неудачно. Вопреки всем свидетельствам Мария считает Анну лютеранкой, а той ее люди сказали, что Мария шпионит для императора. В галерее он гуляет, держа дам под руку; Анна по-весеннему в желтом, Мария в своем любимом темно-алом. – Снова дождь, – говорит Анна, показывая свои успехи в английском. – Боюсь, что да, – отвечает он. Генрих сказал ему, поговорите с ней, Кромвель, вы же можете с ней поговорить? Он ответил, я не смею, а Генрих сказал, почему, если я вам разрешил? Он подумал, потому что не знаю, чего вы желаете от этого разговора. Вам нужна женщина, которую вы сумеете полюбить, или женщина, которую вы сможете отвергнуть? Мария говорит: – Я слышала, вашего друга Барнса скоро арестуют. И других ваших друзей-проповедников. Она умолкает, давая ему возможность сказать: Барнс мне не друг. Однако он молчит. Анна идет рядом в счастливом неведении, ее пальцы лежат на его рукаве. Чувство такое, будто лютеранские часы по-прежнему у него на ладони, тиканье механизма сбивает ему пульс. Их корпус изготовил ювелир, шестерни – оружейник. – На что Барнс рассчитывает? – говорит Мария. – Сперва он утверждает, что покаялся. Затем повторяет свои ошибки. Вы его слушали? – Да, мадам. Слушал его проповеди день за днем. – Пришлите мне их записи, – говорит она. Как будто он ее писарь. Он кланяется. Мария продолжает: – Я слышала, в Кале дела совсем плохи. – Лорда Лайла ждут на празднестве ордена Подвязки. Несомненно, с него потребуют отчет. – Странные времена, милорд. Умерли два великих лорда. Галерея увешана новыми шпалерами, сценами из жизни апостола Павла. Королева, дочь короля и сын пивовара прошли, ослепленные светом, по дороге в Дамаск, переплыли Средиземное море. Теперь они останавливаются перед эфесскими чародеями, жгущими свои книги. Ему хочется протянуть руки в сплетение нитей и спасти книги из огня.
В доме у Гардинера подают каплунов с инжиром, ломбардские кростаты и рубленую куриную печень с крутыми яйцами, сабайон и говяжий холодец. Он, Кромвель, здесь по велению короля и смотрит на свой обед, потому что не хочет смотреть на епископа Винчестерского. И на Томаса Говарда тоже. Он даже не был уверен, что придет сюда, пока его барка не пристала к берегу. Входя, он говорит: – Почему вы здесь, милорд герцог? Мне казалось, у вас дома чума. Вам не следует быть подле короля. – А я и не подле короля, – отвечает Норфолк. – Я подле вас. Гардинер, как добрый хозяин, источает миролюбие: – Насколько я понял, умер слуга, но милорд был от него в четырнадцати милях. – Он не умер, и это была не чума, – говорит Норфолк. – Больше никто в доме не заболел. Уверяю вас, я совершенно здоров. В это время года я ем пудинг с соком пижмы, чтобы очистить кровь. – Вы всегда очень к себе внимательны, – говорит он. – И вы, милорд епископ. Они садятся. Слуги наливают вино. Он поворачивается к Норфолку: – Помню, когда Стивен был секретарем милорда кардинала, мы оба отправились в Ипсвич, где должен был открыться колледж милорда. Я сам вешал шпалеры, потому что работники ползали как мухи, и таскал столы и скамьи, а вот этот мой добрый товарищ стоял рядом, отдавал мне указания и заботливо уговаривал меня не надорвать спину. Гардинер с улыбкой произносит: – Я утруждаю себя лишь для благих целей. Норфолк грохает кубком о стол: – Ипсвич? – Никто не умеет так выплевывать слова, как герцог. – Чтобы добыть средства на этот клятый колледж, Вулси упразднил монастырь в Феликстоу – а это был мой монастырь. Когда колледж закрыли, я ликовал. Надеюсь, он лежит в развалинах. Господи, почему в этом королевстве столько несправедливости? Если не Вулси меня обирает, так его последователь. Вулси был вашим Богом, Кромвель. Вашим Богом-мясником. – Вынужден согласиться. – Гардинер откладывает нож. – Меня изумляет, Кромвель, что вы до сих пор не видите истинную суть Вулси. Он был честолюбив и бесчестен. Вы сами знаете, что он, впав в опалу, просил о помощи иностранных государей. Без ведома короля, через голову короля договаривался с ними, будто он сам монарх. Как мы называем такого человека? Мы называем его изменником. Если бы вам показали факты без имени, вы бы сами его осудили. – Да, – говорит Норфолк. – Ничуть не утруждаясь. Впрочем, хорошо, что такой человек, как вы, не чужд благодарности. Кем вы были, когда явились ко двору? Даже рубашка на вас и та принадлежала Вулси. А теперь потрудитесь выказать благодарность королю, сделавшему для вас много больше. Заберите своих немцев и вышвырните их вон. Подходит слуга с кувшином вина. Стивен хмурится, и слуга отступает к стене. Не то чтобы Томас Говард хмелел с нескольких капель, но герцог, по всему, до выхода из дома опрокинул целый бурдюк. Наверное, для храбрости, и, видит Бог, она ему потребуется. Он сжимает кулак. Грохает по столу. Тарелки подпрыгивают. – Весь совет одобрил этот брак. Вы, Томас Говард, подписали договор в точности как и я. И король с нетерпением ждал невесту. – Нет, клянусь всеми святыми, это вы связали его и захомутали, – говорит Норфолк. – И я скажу вам, почему он хочет освободиться. Не видели, как он смотрит на мою племянницу? Он пленился Кэтрин с первого взгляда. – Если хотите власти, – говорит он, – добивайтесь ее по-мужски. Разыгрывая Пандара, вы позорите свои седины. – Будьте вы прокляты! – Герцог вскакивает, отталкивая стул, срывает с груди салфетку. Салфетки у Гардинера большие, и кажется, будто Норфолк силится вылезти из шатра. – Я не буду слушать, как меня называют сводником! Как только герцог вскочил, встал и он. Слуги вжимаются в стену. На краю зрения вспыхивает будто красный огонь. Кинжал здесь, у сердца: холодный под одеждой, готовый к действию, и рука сама метнулась к рукояти, точно по собственной воле. Однако Гардинер встает между ними: – Сегодня без кулаков, милорды. Он думает: без кулаков? Вы меня не знаете. Я мог бы зарезать его, как гуся, раньше чем вы поднялись с места. Улыбаясь, словно дамам, играющим в кегли, Гардинер вскидывает руки: – Что ж, милорд Норфолк, мы понимаем, что у вас спешные дела и вам пора ехать. – Снова улыбается. – Ваш обед мы отдадим бедным.
Герцог шумно выходит, на ходу зовя телохранителей и гребцов. Они вновь садятся, и Гардинер, протянув руку через стол, похлопывает его чуть выше локтя. – Скажите это, Стивен, – мрачно говорит он. – «Кромвель, вы забылись, мы сейчас не в Патни». Стивен жестом требует кувшин с вином. – Оскорбления – тонкое искусство. Я на миг задумался, знает ли он, кто такой Пандар. Не слишком ли утонченным был ваш намек? – Нет, сегодня мне не до утонченности, – говорит он. – Извините. Мы и сами должны сделать шаги навстречу друг другу. Я могу приложить к этому больше усилий – и приложу. Наверняка у меня есть что-то, что нужно вам, а вы могли бы оказать мне ответную услугу… – Вы хотите, чтобы Барнса выпустили на свободу, – говорит Гардинер. – Думаете, он исправим? Мне всегда жаль отправлять кембриджца на костер. Если помните, я заступался за него еще много лет назад, когда он предстал перед Вулси. – Коли вы так говорите. – Иначе он отправился бы прямиком в Тауэр. Что, полагаю, сберегло бы время. Я не вижу, чтобы он принес Англии что-либо доброе, сколько ни разъезжал с посольствами. Король раскаивается, что вообще взял Барнса на службу. Приносят моченую зелень, груши в сиропе и айвовую пастилу. Гардинер говорит: – Норфолк чрезмерно горяч, но он прав. Разве вы не чувствуете, что ветер меняется? Вы уверяли короля, что вся его надежда только на немцев. И это было правдой. Но как только союз рассыплется, император с Франциском вновь начнут обхаживать Генриха. – Не понимаю, с чего Норфолк взял, будто может видеть будущее. Обычно он видит не дальше своего носа. – Вы забываете, что он всего несколько недель как из Франции. Полагаю, Франциск делал некие авансы – не то чтобы тайно, но с глазу на глаз. И герцог о них знает, а вы – нет. Допустим, говорит он. – Знаю, у вас свои люди среди слуг каждого, здесь и за границей. Знаю, вы шпионите, снимаете копии, роетесь в сундуках и крадете ключи. Я страдал от такого в моем собственном доме. – И я, Стивен. Со стороны ваших людей. – Однако вы не всеведущи. Не вездесущи. А вы думаете, что да? Вы считаете себя Богом? – Нет, – отвечает он. – Божьим соглядатаем. – Тогда поглядите на факты, – говорит Стивен. – Раз король считает, что не нуждается в дружбе герцога Клевского, то, учитывая его неприязнь к даме, остается лишь один путь – расторгнуть этот брак. Он отодвигает кубок. Как и Норфолк, только менее торопливо, освобождается от салфетки. Гардинер не дурак. Демон, но не дурак. – Вкусная пастила, – говорит он. – Рецепт леди Лайл, если не ошибаюсь. Король часто хвалил ее пастилу. – Она присылает ее нам всем, – отвечает Стивен, как будто оправдываясь. – Всем, кому хочет угодить. Оборачивает ли она ее посланиями? Гардинер смотрит на него уважительно: – Клянусь Богом, от вас ничто не ускользает. Даже пастила. – Вздыхает. – Томас, мы оба знаем, что такое служить королю. Знаем, что это невозможно. Вопрос, кто лучше способен сносить невозможное. Вы никогда не были в опале. Я был много раз. И все же… – И все же вы здесь. Рассчитываете вернуться в совет. Стивен провожает его к выходу, на свежий воздух. – Вы знаете, чего хочет король. Чтобы мы ради службы к нему забыли о своих разногласиях. Объявили себя друзьями и единомышленниками. Они холодно соприкасаются ладонями. Он сбегает по ступеням к пристани, и Стивен кричит ему в спину: – Кромвель! Поостерегитесь!
День зябкий, но солнечный свет дробится на воде уже по-весеннему. Его барка идет против течения, флаг поднят, черные птицы трепещут на ветру – кардинальские галки танцуют вокруг флагштока. Кормчий говорит: – Мы увидели герцогскую барку и сказали промеж себя, клянусь мессой, бедный милорд, там и Гардинер, и Норфолк, оба два. Он отвечает: – Государь в моих глазах подобен Христу, распятому между двумя разбойниками. Снимает перчатку, сует руку за пазуху, вытаскивает кинжал: – Кристоф, забирай, теперь это твое. Постарайся не пускать его в ход. Кристоф вертит кинжал в руках: – С ним я чувствую себя будто выше ростом. А почему вы решили его отдать? – Потому что я сегодня чуть не зарезал Норфолка. Гребцы негромко кричат «ура». – Можешь сказать мастеру Сэдлеру, что я отдал его тебе. Он думает: Рейф советовал мне повзрослеть, пока не состарился. Бастингс спрашивает: – Вы сами его сделали, сэр? Когда были кузнецом? – Нет. Тот, что сделал, я… потерял. А этот мне подарила молодая особа в Риме. Он был у меня довольно давно. – Бьюсь об заклад, вы не раз пускали его в ход, – восхищенно произносит Бастингс. – Сэр, вам кое-что следует знать. Девчушка Норфолка, я слыхал, она порченая. Один из людей старой герцогини хвалился, что щупал ей манду. Говорит, в темноте щупал и отличит среди сотни других. – Кто тебе такое рассказал? Лодочники? – Он кутается в плащ и думает: даже если это правда, что я могу поделать? Коли Генрих влюблен, он растопчет любого, кто попробует встать между ним и его удовольствиями. Вслух говорит: – Бастингс, выбирай себе в друзья тех, чьи мысли более целомудренны. Он думает: надо это забыть. Плывет в барке по Темзе, старательно забывая услышанное. Отличит среди сотни?
Съезжается двор – самый большой за последние годы. Он видит, как Джейн Рочфорд беседует с Норфолком. Оба оживлены – герцог определенно выказывает ей почтение, чего за ним раньше не водилось. Позже он подстерегает ее и спрашивает игриво: – Что вам рассказывал дядюшка Норфолк? – То, что мне пристало знать. Она раздраженно, заносчиво отворачивается от него. Он думает: я ее упустил. Когда это случилось? К нему приходит невестка: – У меня новости о рукоделии. Знаю, вашей милости будет любопытно узнать. Он склоняет голову набок: слушаю, мол. – Мне поручили работу. С этим вполне справилась бы служанка, но вещицу отдали мне. Вещицу Джейн. Джейн, моей сестры, королевы. Это была ее поясная книжица, ее молитвенник. Сказали, спори отсюда инициалы. Я сказала, не буду. Я мистрис Кромвель, а не горничная. – Леди Кромвель, – напоминает он. – Мне надо было сказать так, да? Я забыла. У меня титул совсем недавно. Она готова разрыдаться от злости. Ему хочется обнять ее, но лучше не надо. Бесс надо не шить и распарывать, а заправлять в походном лагере, руководить осадой. – А дальше я вижу Кэтрин Говард с этой книжицей на поясе. И это не первый ее подарок из вещей дамы, которой она в подметки не годится. Король хочет затащить Кэтрин в постель и проверить, получится ли у него. А родственники говорят ей, не уступай, даже не смотри в его сторону. – Лицо у нее каменное. – Мы, Сеймуры, сами это проделали и не вправе жаловаться – а все равно жалуемся. Говарды считают, он на ней женится. И кто скажет, что этого не случится? На него наваливается усталость. – Что говорит Анна? Она наверняка знает. – Он видел, как она держится: хмуро, безучастно. – Она не должна давать королю поводов для недовольства. Если бы я мог ей посоветовать… – Но вы не можете. Вы с ней не видитесь. Если бы он мог давать ей советы, то посоветовал бы проявлять терпение. Все восхищались вдовствующей принцессой Екатериной, когда та с улыбкой высиживала многочасовые придворные церемонии подле короля, которого считала своим мужем. Никто не видел слезинки на ее щеке, не видел, чтобы она хмурилась. – Да, – говорит Бесс, – Екатерина являла собой образец женского поведения. Она умерла, всеми оставленная и забытая, разве нет?
Первого мая Ричард Кромвель должен биться на турнире в Гринвиче. Бои, спектакли и увеселения продлятся пять дней. Ричард в команде зачинщиков, которая зовется Джентльмены Англии, вместе с отважным красавцем Томасом Сеймуром; в числе их противников юный граф Суррей – он впервые выступит на турнире. Грегори, безусловно, будет участвовать на следующий год – его уже и сейчас приглашают противником для учебных боев. У него нет того веса, что у Ричарда, но есть изящество и бесстрашие, лучшие доспехи, лучшие кони. – Том Калпепер, – объясняет Грегори. – Мы смотрим, что он будет делать. Он королевский фаворит, на него ставят деньги. Ричарду выпал жребий биться с ним в пешем бою. В конном бою он против него не выступает. Пеший бой – самое жестокое из всех турнирных игрищ. Тут ты лицом к лицу с противником. Спрятаться некуда. – Калпепер далеко пойдет, – говорит он. – Пригожий юноша. – Подождите, я ему красоту попорчу, – говорит Ричард.
И Суффолк, и Норфолк являются к началу состязаний и приветствуют друг друга с всегдашней нелюбезной учтивостью. Суффолк говорит, что ради такого события восстал бы из мертвых, поскольку первенствовал на турнирах: я и король, говорит герцог, всегда Гарри и я. О боги, да, мы в свои дни были удальцы хоть куда. Если сидеть рядом с королем, под балдахином с гербами Англии и Франции, то чувствуешь, что все его тело напряжено, мышцы сжимаются, будто он сам в седле. Генрих видит, отмечает, оценивает каждое движение, а когда поединок заканчивается, оседает в кресле и выдыхает. Победитель и побежденный снимают шлемы, показывая лица толпе, взмыленные лошади идут боком и выкидывают коленца. Юный Суррей выехал семь раз; особо не отличился, однако из седла себя выбить не дал. Норфолк, надо думать, предпочитает настоящие бои. Говардовская свита подбадривает Суррея громкими криками, но герцогу довольно того, что сын не посрамил фамильную честь, а тонкости боя его не занимают. Норфолк не из тех, кто тоскует по рыцарским временам; дай ему волю, он бы выкатил пушку и смел противника с лица земли. Между поединками играют музыканты. Поют «Радуйся, Англия», на открытом воздухе их голоса звучат слабо и нестройно. Потом играют «Медвежий танец» и «Монтарский бранль», так что дамы вскакивают и начинают отбивать ритм, а все, кто не в латах, хлопают в ладоши. Королева сидит, чинно сложив руки, но завороженно следит за всем круглыми от изумления глазами; она ждет от короля знака, когда аплодировать, а когда огорчаться. Он, Эссекс, входит и выходит, потому что то и дело прибывают гонцы. «Вести из Ирландии», – коротко поясняет он королю. Покуда трубят трубы и трепещут шелковые флажки, он продирается через кусты и болота, преследуя О’Конноров и О’Нилов, Каванов и Бринов: разбойников, грабителей и поджигателей, готовых открыть порты кораблям Поля. В первом же бою Ричард копьем выдергивает противника из седла – лучший удар за много лет. Видели, как деревенский мальчишка втыкает нож в хлеб и поднимает его на острие? Так поднимают противника на копье, а его лошадь бежит дальше без седока. Удара, с которым он грохается на землю, почти не слышно, поскольку придворные орут, словно пьяные на медвежьей травле. Ричард поворачивает коня. Его оруженосцы бегут к концу барьера. Ричард показывает зрителям пустую латную перчатку, будто те не знают, что его копье разлетелось в щепки. Генрих на ногах, в блеске золотой парчи, смеется и плачет от восторга. Все машут Ричарду, чтобы тот подъехал к королю, но он через узкую прорезь шлема не видит сигнала; наконец оруженосец берет лошадь под уздцы, и та, в клочьях пены, идет, фыркая и позвякивая сбруей. Король снимает с пальца алмазный перстень, что-то говорит; Ричард латной рукавицей принимает дар. Следующий день – воскресенье. Ричард преклоняет колено и встает сэром Ричардом. Генрих целует его. Говорит: – Ричард, вы мой алмаз. Третьего мая зачинщики и защитники сражаются верхом, но уже не копьями, а затупленными мечами. Фицуильям, лорд-адмирал, сидит рядом с ним и говорит, перекрикивая лязг: – С границы сообщают, что шотландцы собирают флот. По словам посла, Яков намерен отплыть во Францию с визитом к родне. Однако наши лазутчики говорят, его цель – Ирландия. Он косится в сторону Норфолка: – Лучше бы шотландцы наступали сушей. Милорд мечтает повторить ратные подвиги отца. Наше время не дает ему случая покрыть себя славой. Фицуильям говорит: – Мне нужно двадцать кораблей. Я должен поспеть к ирландскому побережью раньше Якова и отогнать его в открытое море. Он кивает: – Я прослежу, чтобы вы их получили. Толпа оглушительно вопит: еще один рыцарь вылетел из седла на зеленую упругую землю, грохнулся тяжелыми доспехами и перекатился кубарем. Победитель снимает с него шлем, зрители рукоплещут. «Кромвель!» – кричат они. – Вы сегодня популярны, – коротко замечает Фицуильям. – Они приветствуют не меня, а моего племянника. Надо будет послать Ричарда вместо себя в совет объяснять мои траты. Приходят счета за путешествие королевы по суше и по морю. Одни только ее тринадцать трубачей обошлись нам почти в сто фунтов. Не далее как сегодня утром он выписал сто сорок фунтов на возведение королевской гробницы – что нечестно, ведь Генрих никогда не умрет. – Торжественные проводы герцога Баварского обошлись нам в две тысячи марок, – жалуется он. Лорд-адмирал говорит: – Для вас ведь это выгодное вложение? Даже если бы вы заплатили из своего кармана. Он не просит Фицуильяма растолковать эти слова. Он думает о гробнице: сто сорок два фунта одиннадцать шиллингов и десять пенсов. Видели когда-нибудь Раненого в учебниках по хирургии? Под стопой у него железный шип, голень проткнута копьем, между ребер торчит стрела с переломленным древком. В плече тесак, в животе меч, в глазу кинжал. Он истекает деньгами. Вот только что убедил парламент выделить королю двухлетнюю субсидию. В провинции эту меру не одобрят. Однако надо строить форты и снаряжать корабли. Он никогда не верил в дружбу между императором и Франциском, но убежден, что они отложат свои разногласия ради более насущной цели – вторжения в Англию. Он говорит Фицу: – Они высадятся в Ирландии и оттуда нападут на нас, вместе или порознь. Генрих говорит умасливать обоих, но король – глупец, если верит хоть одному их обещанию. – Передать ему ваши слова? Внизу плещет на ветру вышитый герб Кромвелей. Для Ричарда это величайшие дни жизни. Важнее свадьбы, рождения сыновей, дарованных земель, королевских поручений, весомей благополучия и процветания – мгновения, когда мышцы, кости и глаз воина нераздельны, когда заходится сердце, взор ослеплен, а время будто растягивается во все стороны и ты утопаешь в нем, как в сугробе или перине. Он вспоминает, как брат Фрисби лучезарным серафимом барахтался в снегу у аббатства Лонд. Ричард упорен. Знает, что такой способ одержать победу труден, дорог, несовременен. Однако он, как все Кромвели, хочет пробиться в жизни. Его дед был тюдоровским лучником. Отец – стряпчим. Теперь он рыцарь. Что выражает лицо Суррея под шлемом, можно только гадать. – А вы когда-нибудь облачались в латы и шлем, милорд? – спрашивает Фиц. Господи, да нет, конечно, думает он. У нас, пикинеров, не было денег на латы. Мы надевали на себя дубленую кожу и укрепляли ее молитвой. Мы шли в бой в чужих башмаках.
Уайетт, только что с побережья, врывается в дом и говорит с порога: – Боннер – епископ Лондонский? Вы думаете, вам это на пользу? – Да. И так я думал. Теперь сомневаюсь. Боннер розовый, пухлый, выглядит глуповатым, а на самом деле его ум остер, как заточенный гвоздь. Вернулся из Франции, поставлен епископом и наводит на подозрения в двурушничестве. Его, Эссекса, не легко обмануть, но сейчас те, кто вступают в твои ворота друзьями, в двери входят врагами. – Я думал, он из наших. Быть может, он служит и нашим, и вашим. И все же… – говорит он. – Боннеру многое известно. О Гардинере, о его французских интригах. – Не следовало давать ему место за то лишь, что он ненавидит Гардинера. Это небезопасно. – Уайетт меряет шагами комнату. – Я слышал, вы обедали. – Обедали. У Стивена было такое лицо, будто он глотает головастиков. – Ваши люди говорят, к вам приходил Суффолк. Поостерегитесь. Случись что, он от вас отступится. – Вы с Брэндоном в ссоре уже десять лет. Из-за чего – забыл. – Я тоже. И он. Но это не значит, что мы помиримся. – Езжайте домой к Бесс Даррелл, – говорит он. – Езжайте в Аллингтон и наслаждайтесь летней погодой. Бесс мне помогла. А теперь я в свой черед могу помочь вам. – Вы ничего мне не должны. Это я ваш должник. Я терзался, не зная, что вы обо мне подумаете. Выполнял ваши указания. Вы сказали мне поссорить императора с Франциском. Я сделал, что велено, но, боюсь, сослужил вам дурную службу. – Их вражда настолько давняя, что вы напрасно приписываете всю заслугу себе. Они просто вернулись к привычной неприязни. Так или иначе, вы следовали указаниям. Что еще вам оставалось? Будьте покойны, мне это не повредило. – Кроме того, что вы лишитесь королевы. Итак, Уайетт знает все. Волны Ла-Манша шуршат, как простыни, шепча Европе о бессилии Генриха. – Да, верно, без нее плохая игра. Входит Ризли: – Уайетт? Я так и думал, что это вы. Они обнимаются, как боевые товарищи. – Вы нам объясните, что здесь происходит, – говорит Ризли. – Но я был за границей, – отвечает Уайетт. – Это ничего не значит. Здесь ли, за границей, мы не ходим по земле, не плывем по воде и не летаем по воздуху, не знаем, в какой мы стихии. Близится лето, но у короля, как в апреле, то дождь, то вёдро. Люди меняют религию, как плащи. Совет принимает решение и через минуту его забывает. Мы пишем письма, а слова растворяются. Мы играем в шахматы в темноте. – На доске из студня, – добавляет он. – Фигурами из сливочного масла. Уайетт говорит: – Ваши сравнения меня огорчают. – Так придумайте нам лучше, дражайший, – говорит Ризли. Когда они обнимались, он видел глаза Зовите-меня над плечом Уайетта. Они были как глаза Уолтера в тот день, когда он обжегся о горн. Молча ушел сунуть руку в холодную воду, не чертыхнулся, не ругнул себя, только пот выступил на лбу и колени подогнулись.
В тот год дела не дают ему принять участие в церемонии ордена Подвязки. Надо заменить наместника Ирландии, причем срочно. Лет пять назад он назначил на эту должность Леонарда Грея и тоже ошибся. Некоторые советники говорят, что есть лишь одно решение: извести ирландцев под корень и заселить остров англичанами. Однако, он думает, ирландцы забьются в норы, где и крысам-то жить невозможно. Он говорит Одли: – Ходят слухи, что армия Поля высадилась в Голуэе. Или в Лимерике. Вряд ли Рейнольд различает их между собой или может сказать, в Ирландии он или в земле Нод. Если судить по тому, как он плутал в прошлом, на нас он двинется через Мадрид. Одли смотрит недовольно: как можно шутить? Сам лорд-канцлер – воплощенная серьезность с тех пор, как стал рыцарем Подвязки, получил на грудь цепь и Святого Георгия. Лорд Лайл счел разрешение покинуть Кале и приехать на церемонию ордена Подвязки знаком королевской милости и как же удивился, когда его вызвали в совет и подвергли допросу! Ни для кого не секрет, что приближенные Лайла оставляли дела и ездили в Рим. Мэтью привез толстую кипу свидетельств, да и не только Мэтью. Однако хранитель малой королевской печати так и не получил желаемого – хоть одной бумажки, доказывающей связь Лайла с Полем. Рейф говорит: – При таких затруднениях мы обычно берем под стражу Фрэнсиса Брайана. Когда не можем получить нужные ответы на вопросы. Он улыбается. Да, Брайан знает про Кале все и мог бы пустить ко дну лорда Лайла, а может быть, и посла Валлопа. Но кто поверит Фрэнсису? Наместник Сатаны опрокинул слишком много кубков, слишком много карточных партий сыграл, слишком со многими рассорился; если вы думаете, что in vino veritas, посмотрите на Фрэнсиса. Однако он знает секреты каждого и чуть ли не со всеми в родстве. У него друзья в каждом казначействе, соглядатаи в каждом порту. Рейф дергает плечами, словно поправляет неудобно уложенный груз. Мы, слуги короля, должны привыкать к играм по правилам, которых нам не объяснили. В них нельзя выиграть, а только ценой непомерных усилий свести их вничью. Мы получаем указания, полные ловушек и капканов, означающих, что, выигрывая, мы проигрываем. Мы не знаем, как идти дальше, но каким-то образом идем, и очередная ночь застает нас в Гринвиче, в Хэмптон-корте, в Уайтхолле. Король гадает вслух, что делать, если рыцарей ордена Подвязки уличают в измене, как было с Николасом Кэрью? Надо вычеркивать их имена из книг с историей ордена, но не загубит ли это красоту страниц? Решают, что имя опозоренного останется в книге, но на полях напишут: «Ах! Вероломец», дабы заклеймить его на веки вечные. Ах! Он вспоминает Гардинера, как тот силится откашлять головастиков, однако испорченный разум раздул их настолько, чтоотрыгивать придется лягушек. – Ему нужен святой Элред, – говорит Грегори. – Как-то святой встретил раздувшегося человека, который держался за живот, и сунул тому пальцы в горло; больной вместе с лягушками изблевал семь пинт желчи. Он говорит сыну: – У меня для тебя новости. И должен сознаться, это удар. Вместе с титулом король даровал ему двадцать четыре поместья в Эссексе помимо владений в других графствах. Однако взамен Генрих требует Уимблдонское поместье и дом в Мортлейке. Грегори моргает: – Почему, отец? – Говорит, что больше не может долго сидеть в седле. Хочет соединить большие парки между собой, чтобы ехать на запад от Лондона, не покидая своих владений. Он, не заглядывая в расходные книги, помнит, сколько потратил на мортлейкский дом, который считал своим пожизненно. Грегори говорит: – Вы же не будете тосковать по старым стенам? Грегори с детства приближен ко двору. Патни – поля и выгоны, за которые Уолтер цапался с соседями, – для него ничто. Грегори говорит: – Мужайтесь, милорд отец. Святой Элред помогал не только от боли в животе, но и от поломанных костей. Он исцелял немых, и те начинали говорить. – И что они сказали? – спрашивает он.
Рассудив, что приспело время, он отправляет стражников к Лайлу: десять человек, ночью, вытащить того из кровати и отвезти в Тауэр. Туда же он прикажет доставить Сэмпсона. Удобно будет получить их признания одновременно, поскольку речь об одних событиях и людях. Незачем отдавать епископа под суд, довольно запереть его и не допускать в совет и до кафедры. В соборе Святого Павла вместо Сэмпсона будет служить Кранмер: пора любящим слово Божие брать дело в свои руки. Для остальных епископов арест Сэмпсона станет предостережением. У него в списке пять имен, и он не делает из этого тайны, но сами имена не раскрывает. Лайла тоже можно подержать в Тауэре, пока не будут получены все нужные показания, а в Кале заменить его кем-нибудь более деятельным и толковым. Он думает про Уайетта: а почему бы нет? Французы боятся мсье Гуйетта. Хотя, как кто-то сказал, англичане боятся его еще сильнее. Наутро после ареста Лайла Джон Хуси еще до рассвета является к нему с мольбами. Он говорит: – Хуси, держитесь подальше от этого всего. Вы были хорошим слугой и заслуживаете лучшего хозяина. Хонор Лайл по-прежнему в Кале. Мастер Ризли говорит: – Если подумать, сэр, нам следовало взять ее под стражу вместе с мужем. Из них двоих она более ярая папистка. – Ее можно поместить под домашний арест, – говорит он. – Проследите за этим, будьте любезны. И внезапно впервые понимает: для сэра Томаса Ризли я недостаточно жесток. Теперь он говорит Хуси: – Если у леди Лайл есть письма, ей разумнее их отдать, чем сжечь. Я очень хорошо умею читать по пеплу. Король, дав разрешение на арест своего дяди, уходит молиться. Однако с лордом Лайлом не видится, как тот ни просит. Из Шотландии сообщают, что новая супруга родила королю Якову сына. – Надо было мне на ней жениться, – говорит король. – Однако мои советники не проявили ни расторопности, ни желания. В славном городе Генте император сидит в завешенном черным зале и вершит судьбы. Он лишает гильдии привилегий, налагает штрафы, изымает оружие, сносит часть городских стен и главное аббатство, говоря, что построит крепость, в которой разместит испанский гарнизон. Он прогоняет самых именитых горожан по улицам босыми, в одежде кающихся, с веревками на шее. Казни длятся месяц. Раньше казалось, что если выбирать, с кем лечь в постель, с Франциском или с Карлом, то Карл хотя бы менее гнусен. Но как выбирать теперь? Оба равно омерзительны, оба сочатся гноем. – Нашего короля называют убийцей, – говорит он Брэндону, – но когда я сравниваю… – Господи, да как они смеют! – восклицает герцог. – Если вспомнить, сколько он натерпелся от мужчин и от женщин, от бунтовщиков, изменников и вероломных советников, то он просто святой.
Норфолк и Гардинер вновь встречаются, как перед отъездом герцога во Францию. Соглядатаи доносят: «Норфолк привез с собой племянницу Кэтрин. В доме Гардинера играли маску. „Величие“. Сэр, ее играли против вас». Это старая вещица Скелтона, написанная в свое время против Вулси, о том, как плохо, когда простолюдины становятся придворными. Как временщик бахвалится, как грешит, как страдает от него страна. Действующие лица – Сговор и Оскорбление, Безумие и Лукавство, а также само Величие, которое провозглашает:
Он сдержал обещание, данное королю: покладистый парламент удовлетворил все требования казначейства. До начала лета этот парламент будет распущен без объявления новой даты созыва. Хотя он, лорд Эссекс, сложил с себя обязанности государственного секретаря, дел не убавилось. Он готовится к незримым опасностям. Если Поль и впрямь направляется в Ирландию, его кораблей не видно. Лорд-адмирал Фицуильям оставил своих капитанов нести дозор, а сам вернулся в совет. Лорд Лайл продолжает сыпать обвинениями даже из Тауэра. Чтобы это прекратить, надо перестать задавать ему вопросы. Лайл настаивает, что лорд Кромвель последние семь лет покровительствовал всем еретикам в Кале, обманывал правосудие и пренебрегал королевскими повелениями. Лайл не говорит кто, когда и где; в его положении остается только швыряться грязью наугад и надеяться: что-нибудь да пристанет. Хонор Лайл под домашним арестом. Он, Эссекс, нимало не удивился известию, что Лайлы задолжали слугам жалованье за два с половиной года. Шестого июня король зовет его к себе: – Милорд, я слышал, на вас нападали. Нападали? – Мне к этому не привыкать. – Открыто оскорбляли на представлении маски, – говорит Генрих. – Однако я дал понять, что те, кто порочит Кромвеля, порочат короля. Лишь я могу укорять или награждать моих слуг, больше никто. Они – король и его советник – ни разу не разговаривали о племяннице Норфолка. Теперь король дает волю своей досаде: – Я сказал хорошенькой дурочке несколько любезных слов, а теперь весь свет трубит, что я на ней женюсь. Что вы сделали, чтобы это опровергнуть? Он говорит: – Опровергать это – дело Норфолка. К тому же для всего света есть ответ. Ваше величество не может жениться. У вашего величества есть жена. Генрих говорит: – Вильгельм был в Генте. Виделся с императором. Они пришли к соглашению. Либо – не знаю, что из этого верно, – зашли в тупик. Что-то Генриха гложет, что-то, не относящееся напрямую к теперешнему разговору, отсюда раздражительность и резкость. Со временем я выясню, думает он, выясню так или иначе. – Нам еще не сообщили, что произошло в Генте. И я бы не доверял первым полученным сведениям. Я никогда им не доверяю. – Что ж, поступают они к вам, – недовольно говорит король. – Я знаю, вам доставляют письма, которые должны были попасть ко мне. Я вынужден посылать к вам в дом и вымаливать сведения о моих собственных делах. Уж наверняка кто-нибудь может нам сообщить, по-хорошему ли расстались император и герцог Клевский? Потому что, если нет, это означает войну. Бесполезно идти в парламент и добиваться для меня субсидий, милорд, если они будут тут же потрачены на войну, которой я не хочу, ради человека, который дурно со мной поступил… – Не думаю, что Вильгельм будет воевать. – Да? Так, по-вашему, он столковался с императором? У меня за спиной? Я давно подозревал герцога Клевского в нечестности. Он ведет игру и со мной, и с императором. Хочет иметь за спиной мои войска, чтобы смело предъявлять требования Карлу. Хочет получить от Карла герцогиню Кристину, но при этом сохранить Гельдерн. – Смелый замысел, – говорит он, – однако может удаться. Разве вы не поступили бы так же? – Возможно, если бы у меня не было ни страха, ни совести. И ни малейших понятий о долге. Возможно, происходи это двадцать лет назад. Ваш Макиавелли утверждает, что фортуна благоволит к молодым. – Он не мой. – Да? Кто ж тогда ваш? – На вас смотрели как на зерцало государей задолго до того, как я появился при дворе. Вы в совершенстве владеете искусством правления. – И все же, – говорит Генрих, – вы разбиваете мне сердце. Вы твердите: я думаю и забочусь только о вас, сэр. Однако вы отказываетесь освободить меня от этого гнусного, богопротивного мезальянса. Вы тщитесь оставить меня проклятым – без надежды на будущее потомство, в союзе с ересью, одолеваемого расходами и опасностями войны. – Извините меня, – говорит он и переходит на другую сторону галереи, в яркий свет, прячущий его от взглядов придворных: те сбились в кучку на отдалении и пристально на него смотрят. Он думает: я иду над облаками. Оборачивается: – Ваше величество держит в своих покоях портрет Кристины. – Я мог бы ее получить, – говорит Генрих, – если бы вы пожелали. Кромвеля устраивало лишь одно – женить меня на сестре лютеранина. – Вашему величеству, полагаю, известно, что герцог Вильгельм не лютеранин. Подобно вашему величеству, он идет собственной дорогой, путеводный свет для своих подданных. Король начинает говорить, затем умолкает, отрекаясь от собственных мыслей, и продолжает уже другим тоном, веселым, будто шутит: – Норфолк спросил меня, сколько Кромвелю заплатили за то, чтобы обстряпать брак с принцессой Клевской? – Я уверен, ему известны источники моих доходов. Как и вашему величеству. Генрих все с той же веселостью: – Я вам говорил, от меня ничто не укроется. И еще Норфолк спрашивает: «А помимо того, что он получил, сколько ему платят за сохранение этого брака?» Норфолк полагает, немалую сумму, коли вы с начала года действуете вопреки моему неудовольствию. Надо тщательно выбирать слова: не дать обещаний, которые он не сумеет исполнить. – Я сделаю что смогу, но, если вы разведетесь с королевой, я не смогу отвратить дурных последствий. – Вы мне угрожаете? – спрашивает Генрих. – Боже сохрани. – Он и сохраняет. Король отворачивается и смотрит в стену. Как будто его заворожила деревянная резьба.
На следующий день у него не назначена встреча с королем, однако он наполовину ждет какого-нибудь послания. Король любит гонять тебя по стране, чтобы крики «Срочно! Срочно!» отдавались в ушах, словно лай бегущих по следу гончих. Приносят письмо. Он читает и переваривает. Это королевский приказ. Он кладет письмо к другим бумагам. Ждет вызова во дворец, но его не зовут. Он достает письмо из бумаг и дает Ризли. Думает, Зовите-меня все равно бы откопал его из любопытства, а если Зовите-меня доносит Гардинеру… что ж, пусть донесет. В следующие несколько дней мы попытаемся сделать выводы. Ризли, держа письмо в руках, говорит: – Король не стал бы вас возвышать, сэр, только чтобы уничтожить. И не дал бы вам эти поручения, если бы не рассчитывал, что вы будете их исполнять. «Книга под названием Генрих»: никогда не говори, что того-то король точно не сделает. Он садится: – Насколько я понимаю, он хочет развестись с королевой. Однако здесь для меня есть затруднение. Я должен сообщить совету, что брак не был осуществлен. Король пишет, я могу сказать Фицуильяму. И еще одному-двоим, если потребуется. В то время как все уже и без того знают. Все знают, что брак был обречен изначально. Он проводит рукой по лицу. Ирландские бумаги лежат нетронутые. Время ужина, но есть не хочется, и у государственно секретаря Ризли, судя по лицу, аппетита тоже нет. А жаль, ведь Уайетт прислал из Кента раннюю клубнику. Зовите-меня говорит: – Вы можете поработать с ранее заключенным договором. Даме придется назначить пенсион. И выполнить все, что потребует ее брат в качестве возмещения. Впрочем, если она по-прежнему девица, Вильгельм может найти ей другого мужа, что будет заметным облегчением для нашей казны. Он думает, Анна, возможно, сыта мужчинами на всю жизнь. Засунул в нее два пальца. C’est tout. – Чтобы не позорить короля, – говорит Зовите-меня, – мы можем упомянуть его сомнения. Король опасался, что она несвободна и связана брачным договором с герцогом Лотарингским, потому решил не прикасаться к ней до получения документов. Которые так и не… – Но зачем мне… – начинает он. – …И теперь король полагает, как всякий полагал бы на его месте, что клевские советники нарочно затягивают… – …зачем мне это делать? Если не станет Анны, явится Норфолк под руку со своей шлюшонкой. Он думал править через другую свою племянницу, но та его быстро окоротила. Что эта будет покладистой, видно по лицу. Норфолк рассчитывает выгнать меня из совета, чтобы вместе со своим новым другом Гардинером вернуть нас под власть Рима. Но я этого не допущу, Зовите-меня. Я буду бороться. Можете передать это Стивену от моего имени, когда снова его увидите. Ризли сжимается, как собака под ударом хлыста. Скулит под грузом знания, как все, кто служит королю. В ту ночь ему снится, что он в Уайтхолле, на винтовой лестнице, ведущей к арене для петушиных боев. Бойцовые петухи, белые и рыжие, топорщат перья. Наскакивают, хлопают крыльями, рвут друг друга когтями, бьют стальными шпорами, клюют в глаза. Здесь они умирают под крики и топот зрителей, а те, забрызганные кровью, бьют по рукам и выплачивают проигрыш. Мертвого петуха граблями убирают с арены и бросают шавкам.
Наутро он в Вестминстере. Присутствует на заседании палаты лордов. Обедает. К трем идет в зал совета, Одли рядом с ним, Фицуильям позади, Норфолк мельтешит в лучах солнца: то обгоняет, то отстает, разговаривает с вооруженными приспешниками. День ветреный, и на пути через двор резкий порыв сдувает с него шапку. Он не успевает ее поймать, и она, подпрыгивая, катится к реке. Он глядит на спутников, и по спине пробегает холодок. Никто из советников не снял шляпу, все идут, как шли. Он прибавляет шаг, словно хочет от них оторваться, но они упорно не отстают. – Недобрый ветер сорвал шляпу с меня, но не тронул ваших, – говорит он. Вспоминает Вулфхолл, тихий вечер, руку Генриха у себя на плече. Распахивается дверь, музыканты играют королевскую песню «Коль царила бы любовь», и они вместе идут ужинать. Сейчас солнце блестит на серебряных нитях в одеянии лорда Одли, играет на синем парчовом плаще лорд-адмирала. Вспыхивает алым в уголке его глаза, когда он прикладывает руку к груди, к сердцу, однако кинжала здесь нет, лишь шелк, лен, кожа. Рейф был, конечно, прав. Когда кинжал нужен, невозможно пустить его в ход. Снизу тянут за рукав. – Это вы потеряли, лорд Эссекс? Мальчонка раздулся от гордости: и что шляпу поймал, и что знает, кто из лордов кто. Он достает монетку, смотрит в задранное кверху мальчишеское лицо: – Я тебя знаю. Ты носил камыш в Йоркский дворец. – Благослови вас Бог, милорд, это небось был мой брат Чарльз. А я Джордж. Мы с ним на одно лицо, нас часто путают. Только Чарльз… – Мальчик тянет руку вверх, показывая, какой сейчас его брат. – Да уж, – говорит он. Когда Чарльз носил камыш, Анна Болейн была еще простой маркизой; а поскольку он шел в ее логово, Чарльз спросил: «У вас есть образок, сэр, защититься от нее?» Он говорит: – Кланяйся от меня брату. Надеюсь, у него все хорошо? И спасибо тебе за шляпу. Он вроде бы замечает Стивена Гардинера, черную тень на фоне красного кирпича. Где государственные секретари, думает он, кто-нибудь из двоих должен присутствовать… В горле сухо. Сердце трепыхается. Тело знает, голова только начинает понимать… а тем временем мы идем на заседание совета. Они вступили под крышу, оставив летний день позади. Он думает, здесь я расстался с последним своим приверженцем: Джордж вприпрыжку умчался по лугу, подбрасывая в воздух награду. Рича нигде не видно. Он думает, Уайетт сказал, Чарльз Брэндон мне не поможет, и даже если это неправда, Брэндона здесь нет. А вот Норфолк подкрался сзади. Флодденский Норфолк, отец, прозванный в честь битвы. Как вам такое, Кромвель? Он думает, мой отец Уолтер не оставил бы кинжал дома. Будь здесь мой отец, я бы не боялся – боялись бы враги. Будь здесь Уолтер, они бы попрятались под столом и обмочились со страху. Он озирается: – Будет ли милорд архиепископ? Фицуильям отвечает: – Мы его не ждем. Гардинер вошел вслед за ними. Загораживает дверь. – Что это значит, Винчестер? – спрашивает он. – Вы вернулись в совет? – Как и следовало ожидать, – отвечает Гардинер. – Посмотрим, надолго ли. Кто-нибудь хочет держать пари? – Он садится. – Наше число уменьшилось, но, может быть, начнем? Фицуильям говорит: – Мы не садимся с изменниками. Он готов: вскочил, зубы стиснуты, глаза сузились, дыхание учащенное. Норфолк говорит: – Я вырву у вас сердце и затолкаю вам в глотку. Писари, прижимая бумаги к груди, отступили к стенам, пропуская королевских алебардщиков. Советники бросаются на него. Словно стайные звери, они рычат и скалят зубы, сопят и наскакивают. Фицуильям тянет руку сорвать с него орден Подвязки. Он отбивается, толкает Норфолка так, что тот отлетает к столу. Однако Фицуильям напрыгивает снова. Они тянут его, тащат, пинают, толкают, осыпают ударами, золотую цепь сорвали, он набычился, выставил кулаки, ревет, трясется от ярости, не думает, что говорит, да это и не важно – все кончено. Цепь и Георгия отняли. Кто-то смахнул на пол его бумаги. Уильям Кингстон высок и широк в плечах – советники расступаются перед ним. – Милорд? Вам придется пойти со стражниками. – В голосе безусловная уверенность. – И благоразумнее вам держаться ближе ко мне. Я пойду рядом и проведу вас через толпу. Кингстон отводит лишь в одно место. И когда явился Кингстон с ордером на арест, сердце кардинала ослабело, ноги подогнулись, он сел на сундук и рассыпался в сетованиях и молитвах. В дверях Гардинер говорит: – Прощайте, Кромвель. Он останавливается: – Называйте меня моим титулом. – У вас больше нет титула, Кромвель. Вы таков, каким вас сотворил Господь. Да будет Он к вам милостив. Солнце слепит, лиц не разглядеть. Советники вываливаются следом за ним. Очевидно, делами сегодня заниматься не будут, а может, считают, главное дело уже сделано. Он думает, сейчас мне помог бы лишь тот, кто застрелил Пакингтона. Впрочем, даже для умелого стрелка целей слишком много. Кого бы выбрал я? Его ждет лодка. Все подготовлено так тщательно, будто он сам этим занимался. Двухминутная потасовка, но ее, он полагает, заранее приняли в расчет. Быть может, кто-нибудь получил кулаком в морду, но их было столько на одного, они знали, чем все кончится. Отряхнули с себя пыль, сплавили меня с глаз долой. Сегодня десятое июня. Когда во дворе с него сдуло шляпу, было около трех часов. Сейчас еще нет четырех. Полдня впереди. Он спрашивает Кингстона: – Милорда архиепископа не арестовали? – У меня нет такого приказа, – бросает Кингстон, но тут же добавляет: – Не тревожьтесь за него. – Грегори? – Я час назад видел вашего сына в палате общин. На его счет у меня приказов нет. – А сэр Рейф? – Сегодня он очень внимателен к титулам. – Возможно, его подстерегли, чтобы не допустить на встречу. Но опять-таки у меня нет приказов касательно государственного секретаря. Он не спрашивает, а что Ризли? Говорит: – Вы пошлете ко мне домой за кем-нибудь, кто будет прислуживать мне до моего освобождения? Кингстон говорит: – Не в нашем обычае оставлять джентльмена без слуги. Назовите имя, и его позовут. – Пошлите в Остин-фрайарз, спросите Кристофа. Он думает, я избит до синяков, но болеть они начнут только завтра. Под ними колышется лазурная вода. Впереди Тауэр. Камень искрится, точно море под ярким солнцем.
Часть шестая
I Зеркало
Июнь-июль 1540 г. Закат. Кристоф стоит на пороге; одежда порвана, глаз подбит. – Мне велели поклясться, что я буду передавать каждое ваше изменническое слово. Я поклялся, а потом вышел наружу и плюнул. – Кристоф расхаживает по комнате. – Там внизу река. Можно устроить побег. – Болван, – отвечает он. – Как отсюда сбежать? А даже будь это возможно, что бы сталось с моими близкими? По-твоему, они бы все уплыли со мной в Утопию на одном большом корабле? Думает, по крайней мере Кристоф никого не зарезал моим кинжалом, а если и зарезал, трупа не нашли. – Они ввалились в дом, – говорит Кристоф. – Потребовали ключи. Я сказал, ничего им не давайте. Но Томас Авери подчинился. – У него не было выбора. – Захватили дом, будто солдаты. «Все здесь принадлежит королю». Забрали деньги из сундуков. Взломали замок нашего чулана, от которого ключ только у вас. Я сказал одному: «Смотри под ноги, скот, – наследишь на ковре с шелковыми цветами, лорд Кромвель самолично спустит с тебя шкуру». Так нет, он все равно пошел по ковру. Они спустились с факелами в подвал. Вошли и кричат: «Кости!» Кости и мощи, частью безымянные, частью подписанные. Он думает, я дам поручение: найдите в подвале Бекета и сорвите с него бирку. Это с ним покончит. Спрашивает: – Кто у них был за главного? – Кто, как не Зовите-меня? Он поднимает голову: – Ты не удивился? – Никто не удивился. Но всем было гадко. Он думает: Гардинер не спросил Ризли, с кем вы, с Кромвелем или со мной? Гардинер сказал: выбирайте, либо я, либо смерть. Кристоф говорит: – Они побросали ваши бумаги в ящики и унесли. Зовите-меня показывал, где искать: загляните в тот сундук, откройте этот. Только он нашел не все, что искал, так что под конец разорался. Томас Авери и говорит: «Я подозревал Зовите-меня все последние месяцы. Зачем хозяин его привечал?» – Христос привечал Иуду. Впрочем, я не навязываю сравнение. – Потом пришел Ричард Рич. И тоже давай орать: «Посмотрите в желтом сундуке под окном!» – Кристоф ухмыляется. – А желтый сундук-то сплыл. И вместе с сундуком – вся его переписка со швейцарскими богословами. Пусть теперь утверждают, будто он еретик, отрицающий присутствие Божие в облатке. Доказательств у них не будет. А ему не составит труда сказать, что Бог повсюду. – Все ждут вашего возвращения. Вы вернетесь, и все станет по-прежнему. А до тех пор я вам буду служить здесь. – Кристоф смотрит на золоченый потолок. – Я боялся, вас бросили в подземелье. – Ты тут прежде не бывал? Он сам отделывал эти комнаты, семь лет назад, для Анны, которой предстояло жить здесь несколько дней накануне коронации. Он их заново застеклил, заказал написать на стенах богинь, сменивших цвет глаз с карего на голубой, когда королевой стала Джейн Сеймур. Входишь через большую кордегардию. За ней присутственная зала, светлая и просторная, где он сидит сейчас, дальше столовая, спальня и крохотная молельня. – Это не ради моего удобства, – говорит он, – а ради тех, кто придет меня допрашивать. Я их жду в самом скором времени. Ибо королевские советники были готовы к моему аресту, даже если я готов не был. Как они это провернули? Какими тайными перешептываниями, движениями бровей, какими кивками и подмигиваниями? И что наплели королю? Надо думать, наушники просачивались к нему, как только я выходил. Неудивительно, что Генрих говорил, повернувшись ко мне спиной. Неудивительно, что он обращался к стене. – Скажи Терстону, пусть не вешает фартук на крюк. Пусть присылает мне еду. – Когда вы отсюда выйдете, – говорит Кристоф, – мы порешим Норферка, оторвем ему голову и кинем псам. Рича я приколочу к полу, где крысы будут отъедать от него по кусочку, и чем дольше он будет умирать, тем лучше. Зовите-меня я отрежу ноги и стану смотреть, как он ползает по двору, пока не сдохнет. Он опускает голову на руки. Планы Кристофа отняли у него последние силы. – То-то я потешусь, – продолжает Кристоф. – А Генриха я буду пинать по Уайтхоллу, как свиной пузырь. Вот лопнет, посмотрим, кто тут король. Вот размажу его по камням, посмотрим, кто победил.В первую ночь, оставшись один, он пытается молиться. Шапюи как-то спросил его, что вы сделаете, когда Генрих от вас отвернется? Он ответил, вооружусь терпением и предоставлю остальное Богу. Некоторые книги учат, размышляй о последнем часе, проживай каждый день так, будто ночью тебя ждет не постель, а гроб. Богословы советуют это не только узникам и больным, но и людям в расцвете славы и процветания: купцам на Риальто, правителям в сенате. Но я не готов, думает он. Дайте мне увидеть врага. И король переменчив. Это все знают. Мы постоянно сетуем на его непостоянство. Однако бывало ли – он не может такого вспомнить, – чтобы Генрих, повернувшись спиной, вновь поворачивался лицом? Он оставил Екатерину в Виндзоре и никогда с ней больше не виделся. Уехал от Анны Болейн, отдал приказ ее убить и препоручил ее другим. Он прочел библиотеки томов под названием «Зерцало государей»; там говорится, что мудрый советник всегда готов к монаршей немилости и смерть почитает за награду. Разве апостол Павел не сказал, что желает умереть со Христом? Однако он ничего так не желает, как быть у себя в саду этим ласковым вечером, бесполезно меркнущим за окном: у дверей стража на случай, если Кромвель вздумает прогуляться. Он прикладывает руку к сердцу. Чувствует в груди что-то инородное – будто сердце сжимает с одной стороны и тянет с другой. Сколько дней осталось? Мои недруги будут подгонять Генриха. Они бы предпочли убить меня на этой неделе из опасений, что не смогут долго распалять королевский гнев. Но если Генрих хочет избавиться от Анны, я нужен ему живым, а дело может оказаться не простым и не быстрым. Если я продержусь два месяца, к тому времени Генрих рассорится с Гардинером. Тогда он обратится к Норфолку и что обнаружит, помимо упрямства, тупости и желчи? Так кто будет за него править? Фицуильям? Тунстолл? Одли? Они довольно толковые – толковые помощники главного министра. Три месяца, и королевские дела придут в такой беспорядок, что он станет умолять меня вернуться. А я скажу: «Нет, ваше величество, я сыт вами по горло. Я еду в Лонд». Но в следующий миг, в мгновение ока, я выхвачу печати из его рук: итак, ваше величество, с чего мне начать? Он думает о Томасе Море: тот пробыл в Тауэре пятнадцать месяцев и беспрерывно писал, пока у него не отобрали перо и бумагу. Мор, впрочем, мог выйти на свободу в любую минуту. Ему довольно было лишь произнести некие волшебные слова. Когда великан убивает Джека, то сам начинает чахнуть. Хиреет и усыхает от одиночества и сожалений. Однако умирает великан лишь через семь лет.
На следующее утро в восемь приходит Кингстон: – Как вы себя чувствуете, милорд? – Очень плохо, – отвечает он. В покоях королевы, разумеется, есть зеркала. Он видел себя в них, небритого, бледного, растерянного. – Это обычное дело для арестантов, – говорит Кингстон, – особенно если перемена участи была для них неожиданной. – И каково лекарство? Быть может, никто еще не задавал Кингстону такого вопроса, однако комендант Тауэра не из тех, кто колеблется с ответом. – Примите то, что случилось. Примиритесь сами с собой, милорд. – Я по-прежнему «милорд»? Кингстон говорит: – Вы вошли сюда графом Эссексом, и вы Эссекс, пока мне не сказали обратное. Итак, Гардинер ошибся: ошибся и в большом, и в мелочах. Он не знает, мелочь ли его графское достоинство. В очах Божьих, возможно, да. Однако в эти два месяца он ощущал свой титул как защиту, как стену, что выстроил вкруг него государь. – И еще, – говорит Кингстон, – король прислал денег на ваше содержание. Он желает, чтобы у вас было все, положенное вам по рангу. Он хочет спросить, содержание на какое время? Кингстон отвечает без вопроса: – Король оплатит все, что будет потребно. Срок не указан. До вчерашнего дня у него были свои деньги. Теперь он нищий и живет на королевское подаяние. Кингстон продолжает, словно о чем-то неважном: – Здесь ваш молодой человек. У него падает сердце. – Грегори? – Я хотел сказать, Рейф Сэдлер. Вернее, государственный секретарь сэр Рейф. Вечно забываешь эти последние назначения. И нет, Боже вас сохрани, он не под арестом. Я хотел сказать, он пришел осведомиться о ваших нуждах. Рейф, во всем черном, спарился от жары. – Доброе утро, сэр. Ветер совсем улегся. Снаружи печет, как в августе. Говорят, все лето такое будет. Нам не угодишь, да? Тепло, холодно, мы всегда жалуемся. Взгляд мечется туда-сюда по комнате – Рейф не в силах смотреть ему в лицо. Снимает шапку, мнет, тискает в пальцах бархат. – Рейф, – говорит он, – иди сюда. – Обнимает его. – Кингстон меня напугал, я решил, что тебя арестовали. Рейф осторожно трогает его за рукав, будто проверяет, по-прежнему ли он человек из плоти и крови. – Думаю, и арестовали бы, да только король не хочет перебоя в делах. Я сам не знаю, на каком я свете. Сегодня рано утром отправил Хелен с детьми из Лондона. – За тобой будут следить. – Он садится. – Я болен, Рейф. Дышать тяжело. Чувствую себя раздавленным. Кингстон говорит, надо привыкать. – Это потрясение, сэр. Я сам не знал, что происходит, иначе бы как-нибудь вас предупредил. Когда мы шли в совет, меня нарочно отвлекли по какому-то пустяшному делу, а потом я поворачиваю в вашу сторону и вижу стремящуюся прочь толпу. Одли говорит мне: «Ваш господин арестован, я иду в парламент об этом сообщить». Он был готов заранее, у него в кармане лежала написанная речь. Ждал только известия от стражи. Он думает, я не успел вступить в лодку, как меня повезли через реку Стикс. – И как парламент воспринял новость? – Молча, сэр. Он кивает. Должно быть, в обеих палатах изумились, что человека, которого в апреле сделали графом, в июне вышвыривают пинком, будто пса, укравшего мясо. Впрочем, членам парламента и не положено понимать Генриха. Король не отвечает перед низшими, своими подданными, а только перед Всевышним – если еще отвечает. Послушать Генриха, Господь должен быть благодарен за все, что Генрих сделал для Него в последние годы: перевел Его книгу, пустил Его в народ. Рейф говорит: – Эдвард Сеймур тут же отправился к королю просить за Грегори. – А за меня он просил? – Нет, сэр. – А кто-нибудь за меня просил? – Да. Но я не слышал. – И Кранмер не просил? – Кранмер пишет королю письмо. – Попытайся разузнать для меня, что в этом письме. – Он опускает голову. – Когда я думаю про Зовите-меня… Гадаю, что его понудило… Наверное, я ждал такого от Рича. Хотя я был добр к обоим. Рейф имеет полное право сказать, я вам с самого начала советовал не доверять Зовите-меня. Однако говорит он другое: – Все те годы, что мы его знаем, он старался показать нам свой несчастливый характер. Как он вечно не находит себе места от беспокойства, как гложет его зависть. Он предупреждал нас насчет себя. – На самом деле всему виной мое самомнение. Я не думал, что кто-нибудь предпочтет мне Гардинера. – Гардинер ему угрожал. Но это вам известно. Что до Кошеля, он бежит за тем, кто сегодня в победителях. – Скажи Грегори быть настолько смиренным, насколько он сочтет нужным. Его будут допрашивать. Пусть говорит то, что они хотят услышать. И Ричард тоже. – Ричард в ярости. Хотел идти прямиком к королю. – Скажи ему, чтобы ничего такого не делал. Пусть сидит тихо и держится подальше от Грегори, и пусть оба держатся подальше от тебя. Не давайте повода обвинить вас в заговоре. Я знаю, как работает мысль Генриха. Еще произнося эти слова, он думает, нет, все-таки не знаю, иначе не оказался бы здесь. Отдаление от друзей не спасет Грегори. Деньги за границей не спасут. Остается одно – покоряться Генриху во всем, пока его кровожадность не пойдет на спад. – Как Грегори это перенес? Ему видится, что Грегори плачет навзрыд, безутешно, как маленький ребенок. – Опечалился, сэр. Опечалился? Впрочем, скажи ему кто в детстве: «Твоего старика завтра повесят», он бы не опечалился. Он бы сказал: «Приду пораньше! А пироги будут продавать?» Он говорит: – Король дал понять, к каким обвинениям мне готовиться? Или, может быть, Одли? Рейф отводит взгляд: – По всему, это будет в основном насчет Марии. Что вы якобы хотели на ней жениться. Король решил наконец прислушаться к слухам. Написал о них Франциску, собственноручно, как мне сказали. Послал за Марильяком – объяснить ему ваш арест. Хотя, думаю, Марильяк бы сам все королю объяснил, потому что французы и распускали эти слухи. – Начал Шапюи. – Возможно. Кто знает, где они зародились? Может, у Марии в голове. Я бы не удивился. Она очень странная. – Нет, – говорит он, – я убежден, она к этому непричастна. – Вы всегда думали о ней лучше, чем она заслуживает. Вряд ли она шевельнет ради вас пальцем, сэр, хотя, как нам всем известно, вы спасли ей жизнь. Генрих верит – но я не понимаю, как он может в такое верить, – что вы намеревались на ней жениться, свергнуть его и стать королем. – Бред! Как он мог такое подумать? Как бы я это осуществил? Как я мог о таком хотя бы помыслить? Где моя армия? Рейф пожимает плечами: – Он боится вас, сэр. Вы его переросли. Стали больше, чем дозволено слуге или подданному. И вновь история кардинала, думает он. Вулси сгубили не поражения, а победы, не ошибки, а обида на то, как он велик. Он спрашивает: – Мои книги забрали? – Скажите, какие вам нужны, я принесу. – Найдешь мою древнееврейскую грамматику? Николя Кленар из Лёвена. Она у меня в Степни. Давно хотел ее изучить, да все времени не было. Кленар советует усвоить главные правила, прежде чем переходить к частностям. Говорят, по этой книге можно выучить начатки языка за три месяца. Возможно, я столько не проживу, думает он, но стоит хотя бы начать.
Двенадцатое июня, первый допрос. – Начнем с пурпурного атласного дублета, – говорит Ричард Рич. Ричард Рич сидит в одном конце длинного стола, Гардинер и Норфолк расположились на почетных местах, а государственный секретарь Ризли беспокойно ерзает на другом конце. – До последнего времени я не думал, что вы такие товарищи, – говорит он, когда Гардинер и Норфолк усаживаются. – Прежде вы скорее обменялись бы оскорблениями, чем сели за стол по-дружески. – Мы не всегда были едины во взглядах, – говорит Норфолк, – но одно у нас с Винчестером общее: когда мы чуем правду, мы идем по следу. Так что берегитесь, Кромвель. Что мы подозреваем, то мы из вас вытянем, так или иначе. Угроза грубая, неприкрытая. Он говорит: – Я расскажу вам правду, какой ее знаю. Ничего другого вы от меня не дождетесь. Гардинер острит перо: – Говорят, Истину рождает время. Хотел бы я, чтобы время плодилось, как кролики. Мы бы скорее достигли цели. Входит писарь. Он приветствует его по-валлийски: – Доброго тебе утра, Гвин. Славная солнечная погодка. – Ну уж нет! – рычит Норфолк. – Прогоните его и позовите другого. Гвин забирает свои принадлежности и уходит. Довольно долго ищут писаря, который устроил бы Томаса Говарда и с которым Кромвель не был бы знаком. Наконец все улажено. Ризли говорит: – Вы продолжите, Рич? Про дублет? Рич кладет руку на свои бумаги, словно на Евангелие: – Вы же понимаете, сэр, что я задаю вам эти вопросы по долгу службы и лично не питаю к вам зла. Рич заранее себя выгораживает – значит, думает, что Генрих может его вернуть. Он говорит: – Можно мне увидеться с королем? – Нет, клянусь Богом, – отвечает Норфолк. Ризли говорит: – Это последнее… Рич говорит: – Что навело вашу милость на такую мысль? Он снимает перстень с рубином: – Это подарил мне король Франции. – Вот как? – Норфолк кричит писарю: – Эй ты, записывай! – И тогда я передал перстень королю. Который позже соблаговолил вернуть его мне, сказав, что это будет между нами знак и, если я когда-нибудь пришлю ему данный перстень, даже если у меня не будет печати, даже если я не смогу писать, он поймет, что послание от меня. Так что я отправляю этот перстень ему. – Но чего ради? – спрашивает Гардинер. – Разумный вопрос, – говорит Рич. – Король знает, где вы. Знает, кто вы и что вы. – Перстень напомнит королю, как я ему служил, прилагая все силы и способности. Как я надеюсь служить ему еще много лет. – Вот это нам и предстоит тут решить, – говорит Рич. – Служили вы ему или нет. Обманули ли вы его доверие, как он полагает, и посягали ли на его трон. Надо как-то убедить Рича, думает он, и Ризли тоже, что, если Генрих дарует мне свободу, я не стану им мстить. Иначе они уничтожат меня от страха. – Каким образом посягал? – спрашивает он тоном светского разговора. – В Остин-фрайарз нашли письма, – говорит Гардинер. – Опровергающие ваши уверения, будто вы верный и безобидный подданный. – Явные доказательства измены, – подхватывает Норфолк. – Я жду, когда вы расскажете мне, что это за письма. Я ведь не могу угадать, что за фальшивки вы изготовили. – Это лютеранские письма, – говорит Рич. – Письма от самого Мартина и его еретических собратьев. – От Меланхтона? – спрашивает он. – Король сам ему писал. Гардинер свирепо хмурится: – А также от немецких князей, побуждающие вас к действиям, губительным для короля и страны. – Там нет таких писем, – говорит он. – Они никогда не существовали, а если бы существовали… – Логика крючкотвора, – перебивает Норфолк. – …а если бы существовали и в них бы содержалась крамола, стал бы я держать их в доме, где вы их сможете найти? Спросите Ризли, что он думает. Гардинер смотрит на Зовите-меня. – Что я думаю… – мямлит тот, – что я на самом деле… – И умолкает. – Продолжайте, – говорит он. – Или вы ждете, что я составлю повестку и буду вести собрание? Мне казалось, вы хотели что-то узнать про мой гардероб. – Да, дублет, – говорит Рич. – Мы начнем с него, а к изменнической переписке вернемся, когда мастер Ризли придет в себя. Во дни кардинала вы имели в своем гардеробе и публично носили дублет пурпурного атласа. Он не смеется, потому что видит, к чем они клонят. Норфолк вопрошает: – Что дало вам право носить пурпур? Это привилегия монархов и князей церкви. Рич говорит: – Возможно, он был малиновый? Если малиновый, то это простительно. Ризли говорит: – Я сам его видел. Он был пурпурный. И более того, вы носили соболя. Он думает: куда хуже тех прекрасных соболей, что я покупал позже. – Я мерзну. К тому же они были дареные. Мне подарил их клиент, не знающий наших порядков. Рич сводит брови; ответ сулит столько многообещающих путей, что он не знает, какому следовать. – Когда вы говорите «клиент», вы имеете в виду иностранного государя? – В ту пору государи не присылали мне даров. – И все же, – говорит Гардинер, – даже если ваш клиент не знал наших порядков, вы-то их знали. Норфолк гнет свое: – Не по чину и положению вам было рядиться так, будто вы уже граф. – Верно, – отвечает он, – но отчего вашу милость смущает то, что не смущало короля? Он не желал, чтобы его приближенные ходили в дерюге. Норфолк говорит: – Дублет – лишь один пример вашей непомерной гордыни. Оскорбительны не только ваши наряды, но и ваша речь. То, как вы держитесь. Как перебиваете короля. Перебиваете меня. Унижаете посланцев великих государей. Они приходят к вам, а вы велите слугам отвечать, что вас нет дома. После они узнают, что вы в саду катали шары! Они понимают, что ими пренебрегают. – Кстати, о послах… – начинает Рич. – Не сейчас! – рявкает Гардинер. Норфолк говорит: – Король доверяет вам высокую должность. И вы отбрасываете все установленные правила. Ставите подпись на клочке бумаги, и тысячи фунтов выплачиваются по одной вашей писульке. Лезете в любое королевское дело. Отменяете решения совета. Диктуете государственную политику. Читаете чужие письма. Подкупаете чужих слуг. Забираете себе чужие обязанности. – Я действую, когда надо действовать. Иногда правительство должно работать быстро. – Ондумает: я не могу ждать столько, сколько ворочаются ваши мозги. – Мы должны предвосхищать события. – Не понимаю, как это возможно, если только вы не обращаетесь к колдунам, – говорит Рич. Джентльмены переглядываются. Он спрашивает: – Так с дублетом вы покончили? Заходит посыльный, шепчет Гардинеру на ухо. Вручает бумагу, которую тот передает герцогу – украдкой, однако он, Томас Эссекс, успевает различить печать французского короля. Норфолк читает с явным удовольствием – с таким удовольствием, что не может удержаться: – Франциск поздравляет нашего короля с благим начинанием. – С вашей отставкой, – поясняет Гардинер. – Французам есть что рассказать нам по поводу ваших честолюбивых устремлений. Не говоря уже о том, как вы обманывали доверие нашего государя. Тут-то он наконец понимает то, что не мог угадать прежде: почему сейчас и кто за этим стоит. Видимо, в начале весны, когда Норфолк был во Франции, Франциск впервые намекнул на возможность союза и назвал цену. Ценой был я, и король не соглашался. До последних дней. Он говорит: – Французы предпочитают иметь дело с вами, милорд Норфолк. Норфолк раздувается, будто его похвалили. Клянусь Богом, думает он, я не знаю, что непомернее: честолюбие Норфолка или его тупость. Разумеется, французам любезнее посланник, которого можно обвести вокруг пальца, а если до такого дойдет – купить. – Я хотел бы вернуть нас… – начинает Рич. – Да уж, – говорит он, – вам стоит сменить тему, иначе вы рискуете доказать, как плох я был для Франциска. Рич листает старый письмовник: – В дни кардинала вы сильно разбогатели. – Но не за счет того, что платил мне Вулси. За счет моей юридической практики, да. – Как вам это удалось? – Много работал. – Вулси обычно щедро вознаграждал своих слуг, – говорит Ризли. – Да, что Стивен вам подтвердит. Однако есть и расходы. Кардинал впал в немилость, не успев полностью уплатить долги. Враги накинулись на его имущество. В конечном счете он стоил мне убытков. – Когда вы говорите «враги», вы имеете в виду короля? – спрашивает епископ. – Гардинер, не держите меня за глупца. Неужто я бы оказал вам услугу, назвав короля вором? – Вы цеплялись за кардинала, – продолжает Рич, – даже когда его обличили в измене. – То, что вы зовете «цеплянием», король называет верностью. – Да, называл. – Зовите-меня чуть не плачет. – Я сам слышал. Он смотрит на Ризли. Меня не трогают твои слезы. Ты сам выбрал, кому служить. Вслух говорит: – Король до сих пор горюет о кардинале. Гардинер говорит: – Можно не приплетать сюда кардинала? Нас интересует живой изменник. Рич произносит раздраженно: – Я хочу приступить к главному, перейти к леди Марии, но не могу этого сделать, не упомянув… Гардинер вздыхает: – Если иначе никак. Рич говорит: – Вы носили перстень, полученный от Вулси. Говорили, что он обладает некими свойствами… – Желаете его получить, Рикардо? Я распоряжусь, чтобы вам прислали. Он защитит вас от утопления. – Видите! – восклицает Норфолк. – Кольцо чародейское. Он признался. Он улыбается: – Перстень оберегает от диких зверей. И приносит любовь государей. Непохоже, чтобы он действовал, правда? – И еще… – Рич смущен. Теребит нижнюю губу. – И еще, говорят, он влюбляет принцесс в того, кто его носит. – У меня от них отбою нет. Не знаю, как и отвадить. Ризли говорит: – Вы не отваживали леди Марию. Рич добавляет: – Вы дерзнули, и королю это известно, вы дерзнули злокозненно втереться к ней в доверие, так что она называла вас… – он сверяется с записями, – «моим единственным другом». – Если мы говорим о днях после смерти Анны Болейн, то, полагаю, я и впрямь был ее единственным другом. Если бы я не убедил Марию подчиниться отцу, ее бы уже не было в живых. – И почему же вы так стремились сохранить ей жизнь? – спрашивает Гардинер. – Быть может, потому, что я христианин. – Быть может, потому, что вы рассчитывали получить от нее награду. – Она была беспомощной девушкой. Чем она могла меня вознаградить? Норфолк говорит: – Вы в своей гнусной гордыне возымели богопротивное намерение на ней жениться. – Например, – говорит Рич, – вы однажды были ее Валентином и сделали ей подарок. – Вы знаете, как это бывает, – раздраженно отвечает он. – Мы тянули жребий. – Да, – говорит Ризли, – но вы подтасовали жеребьевку. Вы хвастались, что можете подтасовать что угодно. Даже жеребьевку на турнире. Я точно помню, в день, когда ваш сын впервые выехал на ристалище, вы сказали ему, не бойся, я сделаю так, что ты попадешь в одну команду с королем, тебе не придется выступать против его величества. – Это Грегори вам сказал? – В тот же день. Вы ранили его гордость. – Он сказал это по простоте душевной. И вам, Зовите-меня, потому что считал вас другом. Однако, полагаю, вам приходится работать с теми обвинениями, что у вас есть. Валентин? Колдовство? Присяжные поднимут вас на смех. Впрочем, думает он, присяжных не будет. Суда не будет. Они проведут через парламент билль о лишении прав и покончат со мной. Не мне на это жаловаться – я сам к такому прибегал. Рич хмурится: – Было кольцо. Как я понимаю, летом тысяча пятьсот тридцать шестого года вы подарили Марии кольцо. – Но не в знак любви. И в итоге она носила его не как кольцо, а как украшение на поясе. – Он закрывает глаза. – Потому что оно было слишком тяжелое. Слишком много слов. – Каких слов? – спрашивает Норфолк. – Восхваляющих послушание. Гардинер разыгрывает изумление: – Вы считали, что она должна вас слушаться? – Я считал, она должна слушаться отца. И я показывал этот предмет его величеству. Счел это разумной предосторожностью на случай обвинений, какие сейчас выдвигаете вы. Королю кольцо так понравилось, что он забрал его и сам подарил дочери. Ризли опускает взгляд: – Чистая правда, милорд. Я при этом присутствовал. Рич с ненавистью косится на Ризли: – И все равно, объем вашей переписки с леди Марией, ваше неоспоримое на нее влияние, характер сведений, которыми она с вами делилась, сведений, касающихся ее телесной… – Вы хотите сказать, она жаловалась мне на зубную боль? – Она сообщала вам то, что приличествует знать врачу. Не постороннему человеку. – Я и не был для нее посторонним. – Возможно, – отвечает Рич. – Она даже делала вам подарки. Отправила вам пару перчаток. Перчатки означают союз. Означают брак. – Французский король подарил мне пару перчаток. Он не хотел на мне жениться. – Мне отвратительно, – говорит Норфолк, – что дама благородного происхождения так себя унизила. – Не вините даму, – резко произносит Гардинер. – Кромвель уверил леди Марию, что лишь он собственной персоной единолично защищает ее от смерти. – Вот оно что, – говорит он. – Моя персона. Леди Мария не устояла перед моим пурпурным дублетом. – Я хорошо помню, – говорит Норфолк, – хотя, клянусь мессой, не могу присягнуть, когда именно это было… Он, Томас Эссекс, заводит глаза к потолку: – Пусть вашу милость не останавливают подобные мелочи… – Но там были и другие, – продолжает Норфолк, – так что я могу утверждать… – Выкладывайте уже! – рявкает Гардинер. – Я помню некий разговор. Может ли женщина править. Может ли Мария править. И вы, вмешавшись, по обыкновению, в беседу джентльменов, сказали: «Это зависит от того, кто будет ее мужем». Гардинер улыбается: – Это было осенью тысяча пятьсот тридцатого. Я присутствовал при разговоре. – И в дальнейшем, – подхватывает Рич, – вы приложили все усилия, чтобы она не вышла замуж. Всем ее женихам отказывали. – И еще я помню, – говорит Норфолк, – когда король упал с лошади на турнире… – Двадцать четвертого января тысяча пятьсот тридцать шестого года, – вставляет Гардинер. – …когда короля унесли в шатер и положили то ли мертвого, то ли умирающего, вас заботило одно: «Где Мария?» – Я тревожился за ее жизнь. Думал, как ее уберечь. – От кого? – От вас, милорд Норфолк. От вашей племянницы. Королевы Анны. – И что бы вы сделали, окажись она тогда в вашей власти? – спрашивает Гардинер. – Это вы мне расскажите. Соблазнил бы я ее или принудил? Какая история вам больше по вкусу? – Он разводит руками. – Бросьте, Стивен. У меня было не больше намерений на ней жениться, чем у вас. – Будьте добры обращаться ко мне как положено, – холодно произносит Гардинер. Он ухмыляется: – Мне всегда казалось, что вам не следовало идти в епископы. Однако приношу извинения. – Оставим в стороне брак, – говорит Гардинер. – Есть и другие способы влияния. Король считает, что вы намеревались посадить Марию на трон и править через нее. И для этой цели вы поддерживали тесную дружбу с Шапюи, послом императора. – Он обедал у вас дважды в неделю, – добавляет Зовите-меня. – Вам ли не знать. Вы сидели с нами за столом. – Он был вашим другом. Конфидентом. – У меня нет конфидентов и очень мало друзей. Хотя до вчерашнего дня я числил среди них вас. – Я был в вашем доме в Кэнонбери, – говорит Ризли, – когда вы тайно совещались с Шапюи в садовой башне. Вы дали ему некие обещания. Касательно Марии. Касательно ее будущего положения. – Я не давал ему обещаний. – Она считала, что дали. И Шапюи тоже так считал. Он вспоминает ин-фолио на траве среди маргариток. Мраморный стол, опасения посла насчет клубники. Тучи, сгущавшиеся с утра, слова Кристофа, что в Ислингтоне боятся грозы. И потом Зовите-меня, в сумерках у подножия башни, с охапкой пионов в руках. Гардинер обещает: – Когда-нибудь мы вернемся к взяткам, которые давал вам император. А сейчас сосредоточимся на вашей женитьбе. Вы имели виды не только на леди Марию. Вы всячески выгораживали леди Маргарет Дуглас, хотя она провинилась в дерзком неповиновении королю. – Это я ее разоблачил! – выпаливает Ризли. – А вы представили дело пустяком, и оно осталось без последствий. – Не без последствий. Ее возлюбленный умер. – Он поворачивается к Норфолку. – Я сожалею, что не спас обоих. Норфолк презрительно фыркает. У герцога много братьев, и он не горюет о Правдивом Томе. – Вы позаботились, чтобы она стала вашей должницей. Племянница короля. Кто она была для вас, если не очередная дорога к трону? «Будь я королем» – ваше вечное присловье. Гардинер подается вперед: – Мы все слышали, как вы так говорите. Он кивает. Эту привычку следовало сдерживать. Как-то он сказал: «Будь я королем, я бы больше времени проводил в Уокинге. В Уокинге никогда не бывает снега». – Вы улыбаетесь? – Гардинер возмущен. – Вы, изменник, изъявлявший намерение вступить с королем в бой? – Что?! – У него ни единой мысли, о чем это может быть. В голове по-прежнему Уокинг. – Давайте я вам напомню. В церкви Святого Петра Бедных, неподалеку от вашего дома в Остин-фрайарз, накануне либо в самый день… – Рич не может найти даты, однако это не важно, – вы произнесли некие изменнические слова: что будете держаться собственных взглядов на веру, что не позволите королю вернуться под власть Рима и что – свидетель приводит ваши собственные слова – «если он отступится, я не отступлюсь, я выйду против него с мечом в руке». И вы сопровождали их воинственными жестами… – Возможно ли такое? – говорит он. – Даже будь у меня подобные мысли, стал бы я высказывать их вслух? В публичном месте? При свидетелях? – Сгоряча много что может вырваться, – замечает Норфолк. – У вас, милорд, но не у меня. – Вы также утверждали, – продолжает Рич, – что принесете в Англию новое учение и что – привожу ваши собственные слова – «если я проживу еще год-два, король уже не сможет противиться». – Что до вашей сдержанности, – говорит Гардинер, – при мне вы неоднократно забывались в пылу гнева или ради красного словца. – Я видел вас в слезах, – добавляет Рич. – Я готов зарыдать сейчас, – говорит он. Думает: «Я не отступлюсь». Возможно, я и впрямь произнес эти слова. Не прилюдно. Наедине. В разговоре с Бесс Даррелл. «Даже в мои годы я еще в силах держать меч». Я имел в виду, что выйду сражаться за Генриха, но бес противоречия толкнул меня сказать противоположное. И я готов был откусить себе язык. Рич нашел дату: – Церковь Петра Бедных – последний день января. – Сего года? – Прошлого. – Прошлого? И где были ваши свидетели год с лишним? Разве они не повинны в сокрытии измены? Буду рад увидеть их в цепях. Он угадывает, о чем думает Рич: вот, он в ярости, его задели за живое, сейчас он может сболтнуть что угодно. – Так вы признаете, что это измена? – спрашивает Норфолк. – Да, милорд, – спокойно отвечает он, – но не признаю, что произносил эти слова. С чего бы я стал бросаться такими угрозами? Как бы я сверг короля? – Быть может, с помощью ваших имперских друзей, – говорит Норфолк. – Шапюи за границей, но вы состояли с ним в переписке, верно? Он поздравлял вас с графским титулом. Я слышал, он намерен вернуться. – Придется ему обедать у кого-нибудь другого, – замечает он. – Зачем нам тратить время на Шапюи? – говорит Рич. – Куда хуже то, что могут подтвердить все, бывшие у Сэдлера в Хакни в тот вечер, когда король встречался со своей дочерью. Кубки с апостолами, думает он. Вкопанная в землю лохань для охлаждения вина. Рич говорит: – Вы вели тайные переговоры с Екатериной. И тогда вы в этом сознались. – Вам это было давно известно, Рич. Почему вы молчали? Нет ответа. – Я вам скажу почему, – говорит он. – Вы молчали ради своей выгоды. Пока вам не стало выгодней переметнуться на другую сторону. Давал ли я вам обещания, которых потом не выполнил? И что обещали мне вы? – Вам ли говорить про обещания? – перебивает Норфолк. – Король ненавидит тех, кто не держит слово. Вы обещали ему убить Реджинальда Поля. – И ни капли его крови не пролилось, – замечает Гардинер. Он думает, теперь мы дошли до сути. Вот в чем Генрих меня винит. И поделом. Тут я дал маху. Рич говорит: – У вас дома только и было что хвастовства, как вы заманите Реджинальда в ловушку. То вы натравите на него убийц, которых знали в Италии. Через неделю оказывается, что его убьет ваш племянник Ричард. Потом Фрэнсис Брайан. Потом Уайетт. Ризли говорит: – И кстати, Уайетт в бытность послом задерживал некоторые письма от леди Марии, предназначенные императору. Любопытно, по какой причине? Думается, он действовал в ваших интересах, как ваш агент. – Мой агент? В чем? – В какой-то гнусности, – говорит Рич. – Мы ее еще не разгадали. – Но обязательно разгадаем, – добавляет Гардинер. – Мастер Ризли в повседневных с вами делах слышал много изменнических речей. Например, недавно вы говорили, что окажете французскому королю услугу, если тот окажет услугу вам. Хотелось бы знать, что из этого вышло. – Ничего не вышло, – говорит он. – Французский король не оказывал мне никаких услуг. Это милорд Норфолк у него в милости. – Тогда зачем было так говорить? – настаивает Рич. – Хвастовство. Вы сами сказали, что в моем доме его было много. Гардинер сводит кончики пальцев: – Если считать бахвалов вместе со всеми прочими, ваш штат составит без малого три тысячи человек. Это монарший двор. Ваша ливрея мелькала не только по всему Лондону, но и по всей Англии. – Три тысячи? Да я бы разорился. Послушайте, в эти семь лет каждый англичанин умолял меня взять его сына к себе на службу. Я брал кого мог, обучал наукам и хорошим манерам. По большей части за их содержание платили отцы, значит нельзя сказать, что я их нанимал. – Вы говорите так, будто это смиренные писцы, – говорит Гардинер. – Но всем известно, что вы брали беглых подмастерьев, буянов, разбойников… – Да, беспутных мальчишек вроде Ричарда Рича в те дни, про которые он предпочел бы забыть. Не отрицаю, что принимал любого, кому хватило духа постучать в мои ворота. – Он смотрит на Рича. – Любой проходимец мог попытать у меня счастья. – Вы каждый день кормили у своих ворот толпу бедняков, – напоминает Норфолк. – Все великие люди так делают. – Вы рассчитывали, что армия нищих поднимется на вашу защиту. Так вот, сэр, не поднимется. Не будут они защищать стригаля, каким вы когда-то были. – Герцог демонстративно ежится. – Великий человек! Святой Иуда, оборони меня! Рич вытаскивает из стопки документ: – Здесь у меня опись имущества в Остин-фрайарз. У вас было триста пистолей, четыреста пик, почти восемьсот луков, алебарды и сбруя на целую, как выразился милорд Норфолк, армию. Я слышал, как вы говорили, и Ризли подтвердит мои слова, что у вас триста телохранителей, которые явятся к вам по свистку в любое время дня и ночи. – Когда началось восстание на севере, – говорит он, – я устыдился, что могу выставить так мало своих людей. Посему я сделал то, что делает каждый верноподданный, если располагает средствами. Я прирастил свои возможности. – Вы твердите про свою верность, – говорит Норфолк, – а сами готовы были продать короля еретикам! Готовы были продать Кале клятым сакраментариям… – Я? Продать Кале? С этим к Лайлам. Именно у них и у Полей вы найдете измену. Не у меня, всем обязанного королю, а у тех, кто считает своим законным правом его подвинуть. У тех, кто считает, что Тюдоры лишь временно заняли их трон. Гардинер говорит: – Милорд Норфолк, может, к Кале вернемся в другой день? Ему видны ноги епископа под столом – тот еле сдерживается, чтобы не пнуть герцога в лодыжку. Надо думать, они все еще допрашивают лорда Лайла и до сих пор не решили, какую ложь состряпать из его показаний. Ричард Рич похлопывает по своим бумагам: – Милорд епископ, у меня здесь… Гардинер встает: – Другой раз. Ему, Кромвелю, хочется удержать Гардинера, поспорить с ним. Винчестер знает, что все эти колдовские перстни и Валентины – чушь, и наверняка стыдится, что должен такое произносить. Однако Гардинер стремительно выходит, Норфолк за ним; Рич зовет писаря, чтобы помог ему нести бумаги. Говорит: «Желаю вам доброго вечера, милорд», будто они дома, в Остин-фрайарз. Мастер Ризли смотрит им вслед. Встает, цепляясь за стол, будто ноги его не держат: – Сэр… – Не тратьте слов. – Когда я был заложником в Брюсселе, вы, как мне сказали, не шевельнули ради меня пальцем. – Это неправда. – Вы сказали, если меня заточат в замок Вилворде, вы меня оттуда не вызволите. – Я бы и не смог. – Вы поручили мне и другим заманить в ловушку каналью Гарри Филлипса, хотя сами его использовали как своего агента и шпиона. – Кто вам такое сказал? – Епископ Гардинер. С Филлипсом вы подвели меня под монастырь. Я, ничего не подозревая, поселил его у себя в доме, а он меня ограбил и выставил дураком. – Я никогда не прибегал к услугам Филлипса, – говорит он. – Честное слово. Для меня он был слишком скользкий. – Сэр, Норфолк хочет, чтобы вас повесили на Тайберне, как простого вора. А поскольку вы изменник, он хочет, чтобы вам еще и выпустили кишки. Он желает вам самой мучительной смерти. И всячески этого добивается. – Вы, по всему, тоже. – Нет, сэр. Поймите, у меня нет выбора, я не могу поступить иначе, чем поступаю сейчас. Но я буду ходатайствовать перед королем, чтобы вас избавили от унизительной смерти. – Господи, Зовите-меня, – говорит он, – встаньте прямо. Как вы рассчитываете быть при Генрихе следующие несколько лет, если сжимаетесь в присутствии человека, который, по вашим же словам, обречен? – Надеюсь, что нет, сэр. – Голос Ризли дрожит. – Король дозволил вам ему написать. Напишите сегодня же вечером. Гардинер стоит в дверях: – Ризли? Зовите-меня пытается собрать бумаги, но роняет письмо и, встав на колени, принимается шарить под столом. На письме печать Куртенэ. Ему, Эссексу, хочется придавить бумагу ногой, чтобы Ризли пришлось ее выдергивать. Однако он думает, что толку? Берет молодого человека под локоть, помогает тому подняться. – Забирайте его, – говорит он Гардинеру. – Он целиком ваш.
Под вечер приходит Рейф. Он слышит голос, и у него заходится сердце. Он думает, если Генрих передумал, то пришлет именно Рейфа. Однако по лицу видно, что добрых вестей нет. – И все же король разрешил тебе меня навестить, – говорит он. – Ведь это же добрый знак? – Он боится, что вы отсюда выберетесь, – отвечает Рейф. – Поставил сильную охрану. Однако меня воинственным не считает. – Что, по его мнению, я ему сделаю, если отсюда выберусь? – Вот письмо Кранмера, – говорит Рейф. – Я подожду. Он идет с письмом к окну; очков у него нет, надо сказать, чтобы прислали из дома. Разворачивает бумагу. Она как будто дрожит. Кранмер, узнав об измене, выражает разом изумление и скорбь: «…столь возвышенный Вашим Величеством, имевший опору единственно в Вашем Величестве, любивший Ваше Величество, как я всегда полагал, не менее, чем Бога… служивший Вашему Величеству без оглядки на чье-либо неудовольствие; слуга престола, мудростью, усердием, верностью и опытом, по моему убеждению, не имевший равных в истории королевства… я любил его как друга, каковым почитал, но более всего за ту любовь к Вашему Величеству, какую, мне думалось, я в нем видел… …однако теперь…» Он поднимает голову: – Ну вот, началось… с одной стороны… с другой стороны… «…однако теперь, коли он изменник, я сожалею, что ко- гда-либо питал к нему любовь и доверие… и все же я глубоко скорблю…» Он складывает письмо. Из складки сочится страх. Говорит: – Ты должен понять, Рейф, мы с Кранмером давно условились: если один из нас падет, другой будет спасать себя. – Возможно, сэр. Но я считаю, он должен был пойти к королю. Если бы жизнь архиепископа была в опасности, неужели вы остались бы в стороне? Вот уж не думаю. – Не заставляй меня отвечать на вопросы. Я отвечал на них весь день. Кранмер действует в соответствии со своей натурой, иного от человека требовать нельзя. Рейф, что сталось с моим портретом? Тем, что написал Ганс? – Хелен его забрала, сэр, и надежно спрятала. – Где «Книга под названием Генрих»? – Мы ее сожгли. До прихода Ризли мои люди проверили весь дом. Мы много чего сожгли, а пепел высыпали в сад. – Отсутствие само по себе говорит красноречиво. – Однако невразумительно. Не думаю, что против вас сумеют выдвинуть хоть одно существенное обвинение. Джон Уоллоп прислал из Франции письмо с тем, что смог наскрести. По его словам, там все говорят, что вы намеревались сделаться королем. – Рейф опускает голову. – Франциск прислал письмо, король велел мне перевести его на английский и зачитать совету. Мне самому. – Это было испытание. Надеюсь, ты его прошел. – Франциск пишет, теперь, когда вы убрали Кромвеля, мы вновь можем быть друзьями. Я уверен, именно это он обсуждал с Норфолком в феврале. Посему неудивительно, что они с Гардинером так осмелели. Все их тайные совещания, обеды и маски… ну и разумеется, у них эта девица, которую они выставляют перед королем. – Рейф, – говорит он, – ты принесешь мне еще книг? Петрарку, его «О средствах против превратностей судьбы». Томаса Лупсета, его «Искусство умереть достойно». Лупсет был наставником кардинальского сына. И трактат свой написал вовремя, ибо умер в тридцать пять. Рейф говорит: – Не отчаивайтесь. Не сдавайтесь, умоляю вас. Вы знаете, что король действует под влиянием порыва… – Правда ли это? Мы всегда так говорили. Однако, возможно, королевские капризы имели одну цель: заставить нас работать и надеяться. Анна Болейн до последнего вздоха верила, что Генрих передумает. И умерла в растерянности. После ухода Рейфа он возвращается к письму Кранмера и видит вопрос, который архиепископ оставил Генриху для размышления: «Кому Ваше Величество будет доверять впредь, если Вы не можете доверять ему?»
В тот вечер он садится писать королю. После Рейфа приходил Фицуильям с новыми обвинениями. Он проглядел их наскоро: изменнические речи, сговоры, интриги и – что уже не совсем неожиданно – разглашение королевских неудач в спальне королевы. – Но ведь все знали, – ошарашенно произносит он. – И Генрих разрешил мне поговорить с вами и с приближенными Анны. – Он этого уже не помнит, – отвечает Фицуильям. – Считает, вы его выставили на посмешище. Фицуильям пробыл у него полчаса и ни разу не взглянул ему в лицо, пока не поднялся, чтобы возвращаться домой к ужину. Кристоф кладет на стол бумагу и ставит чернильницу. Уже сумерки, но окно выходит в сад, так что света пока достаточно. О чем говорить? Как-то Генрих ему сказал: «Вы рождены меня понимать». Этого понимания больше нет. Он прогневал короля, а значит, виновен и может лишь уверять, что вина его, в чем бы она ни состояла, не умышленная и не злонамеренная и что, он уповает, Господь явит правду. Он начинает с обычных уничиженных фраз; самоумаления в случае Генриха много не бывает, во всяком случае если пишет узник. «Смиренно припадая к стопам Вашего Величества… поелику Вашему Величеству угодно, дабы я написал, что надлежит, о моей жалкой участи…» Он думает, я никогда не умерял моих желаний. Как никогда не замедлял трудов, так я ни разу не сказал: «Довольно, теперь я вознагражден сполна». «Обвинители мои, да простит их Господь, Вашему Величеству ведомы. Как я всегда любил Вашу особу, честь, жизнь, благосостояние, здоровье, богатство и благополучие, а также Вашего дражайшего и возлюбленнейшего сына, Его Высочество принца, и все Ваши начинания, так да поможет мне Господь в моем несчастье и да покарает меня, если я когда-либо думал нечто этому противное». Они переписывают мою жизнь, думает он. Представляют так, будто моя покорность была внешней, что все эти годы я тайно искал сближения с врагами Генриха, такими как его дочь, якобы моя невеста. Быть может, мне следовало говорить ему о Марии правду. Однако сейчас я ее пощажу. Я не могу помочь собственной дочери, могу помочь лишь дочери короля. «Господу ведомо также, сколько усилий и трудов я положил, исполняя свой долг. Ибо будь в моей власти и во власти Божьей дать Вашему Величеству вечную юность и процветание, Бог свидетель, я бы это сделал. Будь в моей власти дать Вашему Величеству такое богатство, чтобы Вы могли обогатить всех, помоги мне Христос, я бы это сделал. Будь в моей власти дать Вашему Величеству такую мощь, чтобы весь мир Вам покорился, видит Бог, я бы это сделал». Он думает, десять лет мою душу давили и плющили, пока она не стала тоньше бумаги. Генрих молол и молол меня в жерновах своих желаний, а теперь я истерся в пыль и больше ему не гожусь, я прах на ветру. Государи ненавидят тех, перед кем они в долгу. «Ибо Ваше Величество были ко мне исключительно щедры, более как родной отец (не в обиду Вашему Величеству), нежели как господин». Некоторые отцовские угрозы до сих пор звенят в ушах. Я тебя в порошок сотру, я тебя по мостовой размажу, я тебя на следующей неделе в землю вколочу. «Душу мою, тело и имение я предал в руки Вашего Величества…» Что ж, Генриху это известно. У меня нет ничего, что бы я получил не от него. И мне не на что уповать, кроме как на его милость и Божью. «Сэр, о Вашем благе я пекся, прилагая все свои способности, силы и разумение, невзирая на лица (за исключением Вашего Величества)… но в том, что я умышленно причинил кому обиду или несправедливость, Господь свидетель, меня никто обвинить не может…» Не только государи лишены благодарности. Скольких он обогатил, скольких устроил на доходные посты – все это теперь работает против него, поскольку неоплатные услуги разъедают душу. Люди не хотят жить под бременем обязательств. Они предпочтут стать лжесвидетелями, продать своих друзей. Брат Мартин говорит, когда думаешь о смерти, отбрось страх. Но, быть может, этот совет легче принять, если думаешь умереть в своей постели под бормотание священника над ухом. Гардинер будет выдвигать обвинения в ереси и сожжет его, если сможет. Он знает, как это бывает: сырые дрова, слабый ветер, все лондонские псы скулят от запаха. Король может даровать ему топор. Это лучшее, на что можно надеяться, если только… Всегда есть это «если только». Эразм говорит: «Никто не должен отчаиваться, доколе дышит». Он заканчивает: «Писано дрожащей рукой и скорбным сердцем Вашего несчастнейшего подданного, смиреннейшего слуги и узника сего числа в субботу в Вашем Лондонском Тауэре». Посыпает чернила песком. Тут уж приходится лгать. Рука у него почти не дрожит, но сердце и впрямь скорбное, это правда. Он сидит, приложив руку к груди, легонько ее трет. – Кристоф, неси ужин. Что у меня сегодня? – Слава богу! Я уж боялся, у вас аппетит пропал. У нас клубника со сливками. И еще итальянские купцы прислали вам сыр вместе с выражением сочувствия. Купец Антонио Бонвизи слал Томасу Мору еду, приправленную душистыми пряностями. Однако Мор отодвигал все и говорил слуге: – Джон, можешь раздобыть мне молочный пудинг? Герцога Урбинского, Федериго да Монтефельтро, как-то спросили, что нужно, чтобы управлять государством. «Essere umano», – ответил тот. Быть человеком. Интересно, отвечает ли Генрих этому требованию.
Ответа на письмо нет. Во всяком случае, прямого. Допросы начинаются рано, на летней заре, и продолжаются в полуденный зной, когда в свете из окна пляшут пылинки. Иногда все проходит чинно и деловито, иногда превращается в обмен оскорблениями. Как и Фицуильям, Зовите-меня не может смотреть ему в лицо. Говорит: «он сделал то», «он сделал се», будто Томаса Эссекса здесь нет. Когда Гардинер удостаивает их своим присутствием, то держится строго, сухо, рассудительно, прячет злорадное предвкушение, которое наверняка испытывает. Писарю Гвину раз или два удается проскользнуть на допросы. Норфолк не замечает – простой писарь не заслуживает герцогского внимания, пока в чем-нибудь не провинится. Писарь забавляет его – узника – тем, что возводит очи горе или кривит рот, мол, ну и бред же я должен записывать. Наконец Рич взрывается: – Меня не устраивает этот писарь. Он постоянно глядит на арестанта! – Вы тоже постоянно на меня глядите, – говорит он. – Меня не устраиваете вы, Ричард Рич. Вы говорите так, будто я был изменником все те годы, что вы меня знали. Где были ваши свидетельства до сего дня? Вывалились через дыру в кармане? Рич говорит: – Непросто обвинить человека, стоящего так близко к трону. Я искал руководства. Молился. – И ваши молитвы были услышаны? – О да, – холодно отвечает Рич. Гвин снова безропотно забирает перья и перочинные ножи, однако в дверях оборачивается. Входит другой писарь и долго не может разобраться, как продолжать, пока Норфолк не рявкает: «Начинай как угодно!» Так тянутся часы, размеченные колоколами церкви Святого Петра в Оковах и церквей за стеной. Вопросы такие же абсурдные, как в первый день, а картина его жизни все так же далека от реальности, какой он ее видит. В зеркале чужое лицо, глаза скошены, рот раззявлен. Лорд Монтегю, и Эксетер, и Николас Кэрью испытывали то же отстранение от себя, а до них Норрис и Джордж Болейн. Монтегю сказал: «Всех, кого король создает, он затем уничтожает». С какой стати Кромвелю быть исключением? Меня создала Флоренция, думает он, Лондон меня уничтожил. Во Флоренции колокол по имени Леоне возвещает рассвет даже слепым. Потом звонит Подеста, затем Палаццо-дель-Пополо. С началом службы третьего часа, когда открываются суды, Леоне и Монтарина зовут адвокатов и тяжущихся к делам. Когда он был маленьким, сестра Кэт говорила ему, что время рождается из колоколов. Когда бьет час и мелодия дрожит в воздухе, оно самое лучше, а то, что остается потом, – вроде обсосанной сливовой косточки на краю тарелки. Приходит лорд Одли – лицо пристыженное, движения скованные. Я создал тебя, Одли, думает он. Я поднял тебя выше, чем ты заслуживал, чтобы получить покладистого советника, и ты разбогател. – Я думал, вы здесь со мной, милорд. Вы всегда выставляли себя поборником Евангелия, но, полагаю, лишь с целью угодить мне. Вы клялись мне в дружбе до конца дней. – Он добавляет: – У меня есть подтверждения в письменном виде. Фицуильям не появляется. Может, сказал королю, я знаю, Сухарь не предатель, не могу его допрашивать? – Он занят, – говорит Ризли. Рич говорит: – Он назначен хранителем малой печати вместо вас. Норфолк говорит: – Надежным государственным мужам есть чем заняться, кроме вашего ареста. В стране куда больше людей, чем один Кромвель. – Однако никто из них не сделал столько для ее блага, – говорит он. – Я удивляюсь, что ваш сын Суррей не пришел сюда позлорадствовать. Он думает, впустите сюда этого паука, я его раздавлю. Отсутствие Гардинера подозрительно: что тот готовит? Приходит Чарльз Брэндон, подтверждает, что Кромвель говорил: будь я королем, я бы проводил больше времени в Уокинге. Вспоминает и другой случай: – Король подарил Сухарю перстень со своего пальца. И Сухарь сказал: «Оно мне точно по размеру, подгонять не придется». – И что вы из этого заключаете? – спрашивает он. – Что я правильного размера, чтобы стать королем? А какой размер правильный, милорд Суффолк? Не ближе ли к нему вы, чем я? Брэндон его огорчил. Для Норфолка Кромвель не более чем помарка, которую нужно убрать, словно расхождение в приходно-расходной книге. А вот род Брэндона славится отвагой. Он ждал сочувствия. Чарльз не отвечает на его вопросы, расхаживает по комнате, потом выходит и резко зовет слуг, будто собаке свищет. Ризли спрашивает: – Вам известно, что арестован лорд Хангерфорд? – Хангерфорд? – Он думает, размышляя о Брэндоне, я что-то упустил. – Какое отношение имеет Хангерфорд ко мне? – Вот это мы и намерены выяснить, – говорит Рич. – Он написал вам множество писем, а вы ему – много ответов, копии которых государственный секретарь Ризли нашел в ваших бумагах. Хангерфорд – джентльмен из западных графств, толковый и деятельный шериф. А еще он жестоко обходится с женой, и та хочет от него освободиться; всего за несколько дней до ареста он, Томас Эссекс, дал начало официальной процедуре развода. Он говорит: – Что-то приходится поручать и таким людям. Королю не могут служить одни святые. – Некая старуха выдвинула против него тяжкие обвинения, – говорит Ризли. – Ее зовут матушка Хантли. Бедняга, думает он. У каждого из нас есть своя матушка Хантли. Мою зовут Ричард Рич. – Обвинения включают колдовство, – говорит Норфолк. – Кромвель в таком хорошо разбирается! Колдовские книги в подвале, а? Когда нашли восковую куклу нашего малютки-принца, Кромвель тут же бросился искать виновных, изымать их гнусные тексты. Однако он сказал молодому Ричмонду, упокой Господь его душу, что ведьм не бывает! Хотя мы все знаем, сколько вреда они причинили королю. – Я помню тот день, – говорит Рич. – Это было в Сент-Джеймсе, когда заболел Фицрой. Кромвель выгнал меня из комнаты, и я часто гадал, что затем произошло. Оно ведь так было постоянно. Ризли, вы же подтвердите? Он как будто доверяет тебе, а затем вдруг что-то от тебя таит. – Теперь мы видим почему, – говорит Ризли. – Так или иначе, вернемся к непосредственному вопросу, – продолжает Рич. – Лорд Хангерфорд прибег к помощи колдуна, чтобы узнать дату королевской смерти. Он думает, Генрих страшится не лживых гороскопов, а истинного: судьбы, от которой не уйти. Он говорит: – Такой человек, как Хангерфорд, неизбежно наживает врагов среди соседей. В колдовстве обвинить легко. – Не спешите объявить это обвинение пустяком, – говорит лорд Одли. – Уверяю вас, король его пустяком не считает. Хангерфорд, может, и негодяй, но благу страны не угрожает. Две недели назад он смахнул бы такие обвинения со своего стола на столы подчиненных. Рич говорит: – Также его обвиняют в том, что он учинил насилие над одним из домочадцев. Per anum. – Господи помилуй! Надеюсь, это была не леди Хангерфорд? – Слуга, – говорит Норфолк. – По счастью, его собственный, а не какого-нибудь другого джентльмена. За это он заплатит жизнью. – Существеннее, однако, – говорит Ризли, – что Хангерфорда разоблачили как паписта. Его домашний капеллан был в сношениях с северными бунтовщиками. Мы подтвердили это документально. – Отчего вы этого не знали? – спрашивает Рич. – Оттого что он мне лгал. Если бы я умел распознавать любую ложь, я бы мог учредить храм и стать там оракулом. – Он воображает себя в роще олив. – Подальше от вас. Время обеда давно прошло, и он голоден. Герцог тоже, но дни, когда они могли вместе сидеть за трапезой, миновали. Кристоф приносит курицу. Проходят полчаса, во время которых он ест почти с аппетитом. Затем посетители возвращаются. Рич входит последним с нарочитой медлительностью – это значит, ему не терпится что-то сказать. Неторопливо раскладывает бумаги, аккуратно их поправляет: – Уайетт значительно обогатился. – Да? – Ему пожалованы земли Редингского аббатства. Боксли и Моллинга. А здесь, в Лондоне, – Святой Марии Овери, Крестоносных братьев и Спасителя в Бермондси. – Он давно об этом мечтал. Рич улыбается: – Полагаю, он получил много больше, чем рассчитывал. – Уверяю вас, ему не составит труда спустить все за короткое время. Ризли, зардевшийся от волнения, подается вперед: – Милорд, вы не спрашиваете себя, отчего именно сейчас? Это сделано по прямому указанию его величества. Король нашел Уайетта достойным награды. Как и при падении Анны Болейн. – Что ж, – говорит он, – что к несчастью для других, то к счастью для Томаса Уайетта. Удача к нему благоволит. Ризли бормочет: – Опять-таки, спросите себя почему. – Это вопрос? Ризли молчит. Он, лорд Кромвель, поворачивается к Ричу: – Никто лучше вас не знает, что земли не жалуются по щелчку пальцев. В случае Уайетта документы начали готовить месяцы назад, когда я отозвал его из-за границы. Им недоставало лишь королевской подписи. – Король мог бы не подписать документы, если бы Уайетт ему не угодил. Очевидно, Уайетта допрашивали, а как же иначе? Судя по всему, тот дал ответы, которые королю понравились или, по крайней мере, не вызвали его неудовольствия. Однако что понудило Уайетта так отвечать? Может, Бесс Даррелл носит под сердцем очередное фантомное дитя? – Уайетт знает все ваши тайные дела, – говорит Ризли. – И, как он часто хвалился, ваши тайные мысли. – Было бы чем хвалиться, – замечает он. – Вы испытываете мое терпение, Ризли. Впрочем, когда я выйду на свободу, то постараюсь не держать на вас обиды. И вновь за ребрами трепещет орган, доставивший там много боли самому Уайетту. Любовь терзает сердце. Жребий лишает утешенья… Дни радости умчались быстролетно, Но с каждым днем беда моя все горше… Он говорит – слова вырываются внезапно, сами по себе: – Что вы будете без меня делать? Когда такой, как Уайетт, берется за дело, он трудится для того, кто способен его ценить. Без меня вы прочтете строки, как они написаны, но не сможете читать между ними. Марильяк будет водить вас за нос, и Шапюи тоже, когда вернется. Карл и Франциск взболтают вам мозги, как яйца в миске. Через год король будет воевать с шотландцами или с французами, а скорее всего, и с теми и с другими, и он нас разорит. Никто из вас не умеет управляться с делами, как я. Король поссорится со всеми вами, а вы перегрызетесь между собой. Если вы меня уберете, через год у страны не будет ни надежной монеты, ни честных министров. Писарь говорит: – Лорду Кромвелю нездоровится. Не сделать ли перерыв? Он смотрит на юношу: – Благослови тебя Бог за храбрость. По лбу течет пот. Норфолк говорит: – Да что ему станется? По личному распоряжению короля его даже не пытают, хоть он и не благородного происхождения. Так проходит день, затем другой. Измену можно состряпать из любого клочка бумаги, было бы желание. Хватит и одного слога. Власть в руках читающего, не пишущего. Герцог то и дело взрывается, Рич продолжает свои нападки, прыгая с пятого на десятое. Иногда он может ответить, иногда вынужден отсылать их к бумагам, которые они изъяли или потеряли. На самом деле, как он сознается, он занимался столькими королевскими делами, что даже при его способностях невозможно упомнить все сказанное и сделанное. – Трудно жить по закону. Любой министр невольно что-нибудь да нарушит. Но если я изменник, – он вытирает с лица пот, – то пусть на меня падет Божий гнев и пусть меня разразят все дьяволы ада. Под вечер, оставшись один, он сидит, разбирая по нитям ткань недавнего прошлого, и все эти нити ведут к Майскому дню. Томас Эссекс в Гринвиче, то выходит из павильона, то снова входит, за ним спешат писари с королевскими бумагами; граф – то есть я – бросает распоряжения направо и налево. Ричард Кромвель на поле, расшвыривает нападающих. Наше чествование друзей и врагов, наша куртуазность, наша spezzaturata[173], наше выставленное напоказ великолепие; Майский день сгубил нас, ибо зависть и порожденная ею злоба выплеснулись из берегов. Ричард нанял каких-то итальянцев написать фреску с его триумфом в хинчингбрукском доме; они собираются украсить целую комнату. Может прийти время, когда Ричарду будет больно смотреть на эту фреску, но писать ее все равно надо. Не следует нарушать данное итальянцам обещание – они этим зарабатывают на хлеб.
За девять дней с его ареста они набрали довольно обвинений, чтобы провести через парламент билль о лишении прав за измену. Теперь ему задают вопросы о религии – готовят дальнейшие обвинения. Спрашивают, что он делал в Кале, кого там защищал. Закапываются все глубже в свой запас фальшивок, откуда можно извлечь что угодно. Норфолк говорит: – Когда мастер Ризли ехал через Антверпен по королевскому делу, вы дали ему письмо для еретиков. – Я дал ему послание для моей родной дочери. Норфолк отвечает: – По-вашему, это лучше? Он вновь просит: – Дайте мне увидеться с королем. – Нет, – отвечает Норфолк. Вероятно, Генрих искренне верил, что он изменник и еретик, – час или два кряду. Но не может же он обманывать себя и дальше? Значит, короля не заботит истина, он лишь растравляет свои обиды.Никому из советников не успокоить его уязвленную душу, не утолить его жажду и не насытить его голод. К концу первой недели Рейф сообщил, как воспринял известие император. Согласно депешам, Карл был поражен. «Что? – спросил он. – Кремюэль? Вы не путаете? В Тауэре? По королевскому приказу?»
Как-то открывается дверь. Он ждет Гардинера, но это снова Брэндон. Чарльз с тяжелым вздохом садится на обитый подушечкой табурет, так что колени нелепо упираются в подбородок. – Отчего бы вашей милости не сесть на вон тот стул? Однако Чарльз сидит, словно кающийся грешник, пыхтит, вздыхает, смотрит на стены, расписанные райскими сценами, ручьями и цветущими холмами. – За всем этим она? Другая? – Не лично, милорд. Она покоится в часовне. А что до росписи, я ее закрасил. – Что? Своими руками? – Нет, милорд. Пригласил художника. Он воображает, как ночью прокрадывается сюда с огромной малярной кистью. – Вы славный малый, Чарльз, – говорит он. – Я бы с вами пошел грабить дом, если бы пришлось. Брэндон улыбается в пышную бороду: – Много вы домов ограбили? – В моей бурной юности, вы понимаете. – У нас у всех она была бурной, – говорит Чарльз. – Я не пошел бы грабить дом с королем. Скажешь ему: «Стойте здесь и свистните, если пойдет дозор», а он, заслышав шаги, сбежит, пока ты перелезаешь через подоконник. – Не думаю, что он пошел бы кого-нибудь грабить, – говорит Чарльз. – Он бы нарушил общественный порядок в собственной стране, не так ли? Да и кого ему грабить? Он и без того может забрать что пожелает и пустить нас всех по миру. – Брэндон трет лоб. – Сухарь, я рад слышать, что вы шутите. Послушайте… – Он встает. – Послушайте, вот мой вам совет. Признайте, что вы еретик. Скажите, что заблуждались. Попросите Генриха встретиться с вами лично и обратить вас в правоверие. Ему же это будет приятно, верно? Помните суд на Ламбертом? Как Генрих сидел на высоком помосте, весь в белом… – Ламберта сожгли, – говорит он. Чарльз сникает: – Ну, в общем, это то, что я хотел предложить, и теперь, когда я все сказал… – Чарльз идет к двери, резко поворачивает назад. – Вашу руку? Они обмениваются рукопожатием. Чарльз двигает его кулаком в плечо, будто они смотрят собачий бой. После ухода Брэндона он думает, Чарльз прав, Генриху будет приятно меня обратить. Однако есть причина, по которой это решение не годится. Враги убедительно (для себя самих) докажут, что он отрицает евхаристию, а такого рода еретиков не спасает от смерти даже покаяние. Его погубит первая из гнусных статей, принятая парламентом в прошлом году, когда он болел. Итальянская лихорадка все-таки загонит его в гроб. Билль о лишении прав проходит второе чтение двадцать девятого июня. Между первым чтением и вторым, между вторым и третьим он умирающий. После третьего он будет юридически мертв. Вопрос лишь в том, каким способом его превратят в труп. Если король предпочтет наказать его за ересь, то он умрет на костре, возможно, вместе с Робертом Барнсом и другими единомышленниками; если за измену, то его, скорее всего, отправят на Тайберн и выпотрошат заживо. Даже содомиту Хангерфорду даруют легкую смерть, а ему… Бог весть. Ему снится, будто перед ним выкрашенная алым дверь или не выкрашенная, а залитая алым и стена того же цвета; она мокрая, пол, стена и комната за дверью тоже мокрые и алые. Дожди прекратились. Глядя из окна королевиных покоев, он видит, что лето умирает. Он помнит нескончаемые ливни в годы перед падением кардинала. Помнит, как привез Рейфа в дом на Фенчерч-стрит и как с того капало на пол, покуда Лиз распутывала бесконечные слои одежды. Думает: она умерла до того, как я чего-то добился. У меня был дом в Остин-фрайарз, но то был дом стряпчего. Когда я служил у кардинала, она меня не видела неделями кряду, все равно как если бы я был матросом и уходил в море. Она стояла на лестнице в белом чепце. Попросила: «Скажи, когда вернешься». После ее смерти я написал завещание, и в те дни я оставил бы сыну шестьсот фунтов и дюжину серебряных ложек. В день, когда принимают билль о лишении прав, приходит Стивен Гардинер. Кутается, будто замерз. – Я пришел спросить вас о так называемом браке короля. Уже по одной формулировке он понимает, что от него требуется: – Я все для вас запишу. С самого начала. – Ничего не опускайте, – говорит Гардинер. – От ваших первых переговоров с Клеве до якобы брачной ночи. Изложите все, что слышали о помолвке дамы с герцогом Лотарингским, и честно напишите о нежелании короля вступать в этот брак. Он поднимает брови. Гардинер говорит: – Леди Рочфорд и другие подтвердят, что брак не был осуществлен. Врачи тоже подтвердят. Если она приехала сюда девицей, то и уедет девицей, поскольку король, сомневаясь в законности брака, воздержался от плотского соития. Он думает, я мог бы поступить, как Джордж Болейн, ославить Генриха так, что тот сгорит со стыда. Однако у меня сын, и два внука, и племянник, и у племянника есть дети. У Джорджа детей не было. Вслух говорит: – Женить короля всегда было моей задачей. Теперь ее возложили на вас? Полагаю, новой женой станет племянница Норфолка? Что будет с королевой? – Принцесса Клевская уже покинула двор. Король отослал ее в Ричмонд. Обещал приехать к ней туда, но, разумеется, не приедет. Надо прекратить ее женские сетования или, по крайней мере, сделать так, чтобы она сетовала подальше от короля. Он думает, она, бедняжка, наверняка перепугана. И некому о ней позаботиться. – Я полагаю, деньги помогут сгладить обиду. – Разумеется, она получит содержание. Я этим займусь. Но прежде надо аннулировать брак. Король говорит, Кромвель знает об этом больше кого бы то ни было, исключая меня. Если вам дорого спасение души, вы должны написать правду. От вас потребуют присягнуть. – С чего мне отказываться? – говорит он. – Готов также присягнуть, что я – честный слуга короля и что вера моя – соборная и католическая, ничем не отличается от той, которую исповедует король. Странно, что в одном вопросе мое слово будет считаться истинным, а в другом – нет. – Вы – умирающий, – говорит Гардинер. – Они, как известно, не лгут. Прислать Сэдлера вам в помощь? Он не хочет, чтобы Рейф видел его за этим последним делом. Он думает: аннуляция брака аннулирует меня. – Я знаю, что требуется, – холодно говорит он. – Предоставьте это мне, милорд епископ. А теперь выметайтесь. Он садится. Факты выстраиваются в голове, фразы встают одна за другой, но, прежде чем взяться за перо, он роняет слезу и думает: я оплакиваю себя, на этих бумагах кончится моя полезность. Годы неусыпных трудов и насилия над собственной душой, тяжесть топора в руке – ничего этого больше не будет. Когда Генрих умрет и предстанет перед Судом, то ответит за меня, как и за всех своих слуг; он должен будет сказать, что сделал с Кромвелем. Я никогда не стремился занять его место. По всей Англии есть стоячие камни: это те, кто мечтал править. «Ветка, камень, глыба, прут, меня королем Англии назовут». За свою дерзость они обречены стоять тысячу лет, две тысячи лет, под ветром и дождем; вокруг камни поменьше – несчастные, бывшие их рыцарями. Пересчитайте эти камни, и – чуднóе дело – у вас никогда не получится дважды одно число. Разрушений не счесть, не описать пером. Записать весь его рассказ – труд на много часов. Иногда заходит Кристоф, смотрит на него, предлагает миску малины, или вафель, или цукатов. Однако он погрузился в свое повествование: Рочестер, травля быка, клевская дама в оконной нише, разгоряченный король в наряде английского джентльмена. Сцена в Гринвиче, римляне шатаются и падают; король в постели, мнет новобрачной живот и груди. Иногда мысли неизбежно уплывают далеко за каменные стены, за поля, в леса, густые, как за годы до того, как деревья срубили на дома и корабли, и все исчезнувшие твари живы, к добру или к худу: бобр в ручье, волк, настигающий тебя длинными прыжками. Когда человек не знает, на какую тропу свернуть, он сыплет крошки от хлеба, который несет в руке, но птицы прилетают и склевывают крошки. Он снимает рубаху, рвет на полоски и завязывает их на каждой развилке дороги, но огры, живущие в лесу, идут за ним и крадут тряпицы, чтобы перевязывать себе раны, потому что огры вечно воюют между собой. Он бредет из последних сил, говорящие деревья глумятся над ним, пряча за листьями презрительные гримасы. Закончив рассказ, он пишет сверху: «Моему королю, Его Величеству всемилостивейшему государю». Однако не может придумать, как закончить. Быть может, это последнее письмо, которое ему дозволено написать. Так что он пишет: «Молю о милости». Он повторяет, на случай если Генрих первый раз не обратит внимания: «милости». И еще раз «милости», чтобы слово точно вошло в королевский мозг, пронзило королевское сердце. Под рассказом он вывел: «Писано в среду, в последний день июня, дрожащей рукой и сокрушенным сердцем». На сей раз он не лукавил. Рука и впрямь дрожит. Он смотрит на нее, будто на чью-то чужую. Из всех написанных им слов сохранится ли эта мольба? Крысы сожрали законы былых времен. Они любят пергамент и рыбий клей; все, некогда живое, они будут есть, а потом, по привычке, будут есть мертвое; от маргиналий они выгрызаются вглубь, в тайную историю Англии. Величайшая заслуга соработников Кромвеля, что они не только давили гадин, но и латали, чинили, делали натяжки, заменяя погрызенную букву, и всегда были готовы вставить на место изжеванной фразы пункт на благо короны. Но что проку? Он жил по законам, которые написал, и должен смириться с тем, что по ним умрет. Однако закон – не орудие для поиска истины. Его цель – создать вымысел, что поможет нам пройти через мерзости к будущему. Милости в мире нет, есть лишь случайная справедливость: люди платят за грехи, но не обязательно за собственные. Рейф приходит забрать письмо. Печати у него нет, так что он складывает листы и, сложив, медлит отдавать. – Я всегда говорил Генриху, запугивать людей дешево, но не всегда дает лучший результат. Чтобы узник рассказал вам все, предложите ему надежду. Рейф говорит: – Я читал, что философ Кан, когда пришли палачи Калигулы и застали его играющим в шахматы, сказал им: «Вы будете свидетелями, что я выигрывал, – сочтите мои фигуры на доске». – Я не произнесу таких смелых слов, – печально говорит он. – У Кана на доске оставалась его королева. – Двигает письмо через стол. – Здесь все, чего он желает. Объявит ли нам Клеве войну? Рейф говорит: – По всему, герцога вполне устраивает, что его сестра останется в Англии. И если она ни в чем не станет противиться королю, он назначит ей справедливое и почетное содержание. – С чего она будет ему противиться? Бедняжка. – Он думает: совершить долгое зимнее путешествие и в конце обнаружить, что никому тут не нужна. Рейф говорит: – Герцог Вильгельм ведет переговоры с французами. Говорят, они предлагают ему принцессу и союз. – Так что, он не женится на Кристине? – Нет, он не сторговался с императором, во всяком случае на сей раз. Говорят, принцесса не хочет за него выходить. Не хочет за него выходить. Это оставляет лазейку для аннуляции, когда император предложит что-нибудь получше. – Вильгельм внакладе не остался, – говорит он. – Чего не скажешь про Анну. Вряд ли она снова захочет замуж, после того как Генрих ее мял. Рейф говорит: – Французы клянутся, если надо будет, силой отнести принцессу к алтарю. Ей всего двенадцать, так что вряд ли она тяжелая. – Вздыхает. – Хелен, сэр, шлет вам поклон. Она молится о вас каждое утро и каждый вечер. И наши дети тоже, и все наши друзья. Что ж, не много молитв обо мне бомбардирует небесные врата. Впрочем, я могу рассчитывать на молитвы архиепископа Кентерберийского, и уж его-то просьбы гремят, как раскаты грома. И Роберт Барнс обо мне молится, а я – о Роберте Барнсе. Нам обоим нечего для себя просить, только мужества. И, как пишет Уайетт, Lauda finem. Восхвалим конец.
На следующий день приходит Эдмунд Уолсингем, смотритель Тауэра: – Не тревожьтесь, милорд, я не с дурными вестями. Я лишь пришел сказать, что вам надо переехать. Итак, допрошатели с ним закончили. – Где я буду теперь? – В Колокольной башне, рядом с моими комнатами. – Она мне знакома, – сухо говорит он. – Нельзя ли мне поселиться в башне Бошана? – Она занята, милорд. – Кристоф, собери мои книги. Пошли в Остин-фрайарз за одеждой потеплее, там стены толстые. – Он обращается к смотрителю: – Когда Томас Мор сидел в Колокольной башне, ему разрешали гулять в вашем саду. Буду ли я пользоваться такой же свободой? – Нет, милорд. Уолсингем – неразговорчивый ветеран Флодденского сражения, свой пост занимает пятнадцать лет и не намерен допустить оплошность. – Мора не запирали. Будут ли запирать меня? – Да, милорд. Он надевает кафтан. «Allons»[174]. Прощается с богинями – последний мимолетный взгляд через плечо. Ни следа Анны Болейн. Он вспоминает, как она сказала – не в этой ли самой комнате? – «Будьте ко мне добры». Думает, если я увижу ее снова, то на сей раз, возможно, буду к ней добр. Они выходят на открытый воздух. Он оглядывается и видит только вооруженных людей. Смотритель говорит: – Надеюсь, стража вас не побеспокоит. Порыв влажного ветра с реки. Трепетание зеленых листьев. Тепло солнца на плече. Работник сидит на лесах, голый по пояс, насвистывает «Веселого лесника»… Он чувствует, что увязает в прошлом, в синем, разлитом в воздухе мгновении. К полудню лесник обгорит.
– Мартин, это ты? Хорошо выглядишь. Как моя крестница? Тюремщик снимает шапку. Он собирался сказать, мне жаль видеть вас здесь, обычные пустые слова, лучше было их упредить. – Ей уже пять, сэр, и такая славная девчушка, спасибо, что спросили. Такая безобидная. Безобидная? До чего странные вещи люди иногда говорят. – Читать учится? – Девочка, сэр? Им от этого один вред. – Ты не хочешь, чтобы она читала Евангелие? – Пусть ей муж читает. Принести вам что-нибудь? – Лорд Лайл по-прежнему здесь? – Не могу вам сказать. – А старуха? Маргарет Поль? Ему подумалось, что теперь, когда он не удерживает руку Генриха, тот может казнить Маргарет. – Хорошо. Тебе приказано не говорить, понимаю. Как по-твоему, нельзя ли затопить камин? – Я скажу, чтобы затопили, – отвечает Мартин. – Вы всегда не любили холод. Помню, как вы приходили сюда к сэру Томасу Мору. Вы говорили: «Надо затопить камин», а он отвечал: «Томас, я не могу себе этого позволить». А вы ему на это: «Да боже мой, я заплачу за дрова – перестаньте же надрывать мое сердце, черт побери. Вы, может, и папист, но вы не нищий». – Я? – дивится он. – Я так говорил? Мое сердце, черт побери? – Мор умел выбить из колеи. Когда наступала ночная стража, он возвращался из сада и всю ночь водил пером по бумаге. Сидел за этим столом, в простыне. Она была точно саван – у меня аж мурашки бегали. Сам я ни разу его не видел с тех пор, как его увели. Но другие говорят, что видели. И, клянусь жизнью и спасением души, вы услышите старика наверху, Фишера. Услышите, его шаги. – Не стоит верить в привидений, – неуверенно говорит он. – Я и не верю, – отвечает Мартин, – но им-то что, верят в них или нет? Послушайте сегодня. Услышите, как старый Фишер шаркает, а потом стул скрипит под его весом, когда он откидывается на спинку. – В нем не было никакого веса, – говорит он. Епископ был тоньше сухой былинки. Чего ждать от человека, который, садясь за стол, ставит череп там, где у другого была бы солонка? – Ваш слуга может спать здесь на тюфяке, – говорит Мартин, – если вы не захотите сами на нем сидеть. – Сидеть? Я буду спать. Я всегда сплю. Мартин, если сюда приведут как узника моего сына Грегори или сэра Ричарда Кромвеля, ты мне скажешь? Мартин возит ногой по полу: – Да, скажу. Постараюсь сказать. Пол застелен старой тростниковой плетенкой. Он думает: я велю прислать из дома ковер получше; если там что-нибудь осталось.
Это камера для узников, к которым благоволят, но за обычную комнату ее не примешь. И все же ночь проходит без происшествий. Он прислушивается к шагам Фишера, но старого епископа сморил сон. Раз он просыпается и думает: король может изменить решение, такое случалось. Некоторое время разум ходит по кругу, силясь вспомнить пример. Хроники сообщают, что в правление третьего Генриха король разгневался на своего рыцаря, Губерта де Бурга, графа Кентского, взял его измором, когда тот укрылся в церкви, и бросил в глубокую темницу. Губерт два года прожил в оковах, затем бежал и вернул себе графский титул. Утром приходит Рейф. – Итак, как он принял мое письмо? Рейф движется медленно и, судя по лицу, провел за работой всю ночь. Он хочет приказать, чтобы Рейфу принесли эля, но тот говорит, нет, нет. Я должен рассказать вам, как это было. – Король выставил советников за дверь. А потом велел мне прочесть ваше письмо вслух. – Это, должно быть, заняло довольно много времени. – Когда я закончил, он сказал: «Прочти еще раз, Сэдлер». Я спросил: «Целиком, сэр?» Он подумал и ответил: «Нет, историю женитьбы можешь опустить. Прочти, где он молит о милости». Когда я прочел второй раз, то увидел, что он тронут. Мне не хотелось прерывать ход его мыслей, но наконец я отважился сказать: «Сэр, довольно одного слова». Он посмотрел на меня: «Для чего довольно одного слова?» Разумеется, он меня понял, и я не смел настаивать. Затем он сказал: «Да, я могу освободить Кромвеля. Я мог бы вернуть его ко двору завтра». Я сказал: «Французы оторопели бы, сэр», – надеялся, это станет веским доводом, ведь вы всегда советовали ему делать то, чего враг ожидает меньше всего. «Однако французы нам не враги, – сказал он. – С прошлой недели». Но затем король сказал: «Он так и не простил мне Вулси, и я всегда гадал, до какой крайности может довести его обида? Даже когда мой сын Ричмонд лежал при смерти, он изводил врачей своими вопросами. Епископ Гардинер говорит, сам кардинал мог бы простить, но кардинальский слуга не простит никогда». Я сказал: «Сэр, клянусь, граф смирился и отпустил кардинала с миром». Однако он меня перебил: «Здесь у меня в шкатулке его предыдущее письмо». Повернул ключ, достал письмо и вложил мне в руки. Сказал: «Читайте. Читайте, где он говорит, что дал бы мне вечную молодость». Я прочитал. Король сказал: «Он ведь не в силах это сделать, верно?» Я готов поклясться, сэр, что в глазах у него стояли слезы. У меня быстрее застучало сердце, я думал, сейчас он прикажет: «Выпустить Эссекса на свободу!» Однако он встал и подошел к окну. Сказал: «Спасибо за ваше терпение, господин секретарь». Я ответил: «Меня обучал очень терпеливый человек». Он сказал: «А теперь можете меня оставить». – Ты молодец, Рейф. Ты сделал больше, чем я вправе ожидать. Рейф говорит: – Когда я был маленьким, вы увезли меня с собой. Поставили у камина, сказали, здесь ты теперь будешь жить, мы будем о тебе заботиться, ничего не бойся. В тот день я расстался с матушкой и не знал, где я, и впервые видел Лондон, а уж тем более ваш дом, но я не плакал, ведь правда? Сейчас Рейф плачет, словно рассерженный младенец, некрасиво, как все рыжие: лицо красное, все тело трясется. – Где, во имя всего святого, Кранмер? Где Уайетт? Где Эдвард Сеймур? Им будет стыдно до конца жизни. – Кранмер это переживет. Не утверждаю, что он будет спокойно спать по ночам, но переживет. Уайетт напишет про меня стихи. А Сеймур, возможно, еще будет направлять маленького принца, когда он, когда Генрих… Он не станет говорить этого вслух. Ему уже думалось: что, если в эту самую ночь у Генриха поднимется жар, кашель сдавит грудь, легкие вновь наполнятся водой и яд от раненой ноги его убьет? Тогда страна затаит дыхание. Исполнительная рука зависнет в воздухе, даже если топор уже занесен. Я буду нужен принцу. Нужен совету. Эдвард Сеймур повернет ключ в замке и выпустит меня на свободу. После ухода Рейфа он говорит Кристофу: – Принеси колоду карт. Показывает нарисованную даму, тасует колоду, кладет на стол три карты: – Ну, где она? Кристоф тычет коротким пальцем. – Нет. – Он переворачивает карту. – А теперь следи за моими руками, я научу тебя этому трюку. Если когда-нибудь останешься без хлеба и денег, дама тебя выручит. – Добавляет мягко: – Это лишь на последнюю крайность. Тебя возьмет к себе Грегори. Или мастер Ричард. Скажи им, я велел тебя женить, дабы уберечь от греха. Сейчас он занимается тем, как пристроить слуг. Некоторые отправятся к Грегори, другие – к Ричарду Кромвелю, если, конечно, король не лишит Кромвелей имущества. Кого-то возьмет Уайетт – он теперь при деньгах, и ему нужны слуги для нескольких имений. Он думает, Брэндон будет рад заполучить моих охотников, моих псарей. Дика Персера возьмет к себе торговец, знавший его отца. Итальянские купцы с руками оторвут моих поваров. Мэтью может вернуться в Вулфхолл, хотя там его французский будет без надобности. В апреле, когда его падение казалось почти неминуемым, он собрал мальчиков-певчих, поблагодарил за службу и отпустил по домам, пожелав каждому счастья и вручив по двадцать фунтов. Став графом, он подумал, не стоит ли их вернуть? Сейчас он рад, что не стал их возвращать. В Италии, работая у банкиров, он освоил мнемонику и практиковал ее с тех пор всю жизнь. Для всего, что хочешь запомнить, придумываешь образ и оставляешь в церквях, которые посещаешь, на улицах, по которым идешь, на берегу реки, по которой плывешь в лодке. Оставляешь их в канавах, в поле между борозд, вешаешь на деревья: арбалеты и кинжалы, драконов и звезды. Когда реальные места заканчиваются, выдумываешь новые – сочиняешь острова, подобные Утопии. Теперь, когда жить, вероятно, осталось меньше недели, надо обойти свои внутренние владения и забрать образы оттуда, где их разместил. Надо пройти всю прошлую жизнь, бодрствование и сон – нельзя оставлять свои воспоминания одни в этом мире, чужим людям.
В сумерках возвращается кардинал – чуть заметное сгущение тени на краю зрения. – Где вы были? – спрашивает он. – Не знаю, Томас. – Голос у старика несчастный. – Я сказал бы вам, если бы знал. На предложенный стул смотрит с отвращением: – Я не сяду там, где сидел Томас Мор. Не желаю даже видеть этого неблагодарного после того, как он со мной поступил. Чуть почую его дух, поворачиваю в другую сторону. Он говорит: – Сэр, вы же знаете, что я вас не предал? Что бы ни думала ваша дочь. Вулси ходит по комнате, волоча край багряного одеяния. Наконец говорит: – Ну что ж, Томас… скажем так… женщины все понимают превратно. Непомерная усталость, которая прошла, когда он каждый день сражался с Норфолком или Гардинером, теперь навалилась снова. Ощущение в области сердца – будто его давят, сжимают – стали уже привычным симптомом горя. У него чувство, будто он тащит трупы, наваливает их один на другой: Роберта Аска, Правдивого Тома, Гарри Норриса, Уилла Брертона, маленького Фрэнсиса Уэстона и Марка Смитона с его лютней. И даже тех, к чьей смерти он непричастен: королеву Джейн, Гарри Перси, Томаса Болейна. Он прокручивает в голове вопросы, которые ему задавали, как будто следствие все еще продолжается. Думает про Ричарда Рича: «В июне тысяча пятьсот тридцать пятого арестованный сказал мне: „Ричард, когда начнется царствование короля Кромвеля, вы станете герцогом“». И Одли ответил слабым голосом: «Рич, мы не можем записать это в протокол. Я думаю, милорд пошутил». Он вспоминает, как Ризли однажды взорвался: «Он уже считал себя королем. Вел себя как король. Помню, в год, когда все замерзло, в Гринвич пришли французские послы. Они предлагали его величеству свои товары, и его величество их прогнал, сказав, что потратил все деньги на войну с Паломниками. Однако затем, увидев, как они опечалились, что плыли в Англию зазря, он милостиво согласился купить их добро. Но милорд хранитель печати выгнал их из королевских покоев и заключил с ними сделку за меньшую цену, чем они предлагали королю». Он вспоминает тот день: льдистый свет из окна, разложенные перед Генрихом соблазны: бархатный воротник, два земляничных рукава и для него, лорда Кромвеля, багрово-пурпурный шелк. Зовите-меня сказал: «Поостерегитесь, сэр». Он помнит напряженное лицо Ризли. Вряд ли тот имел в виду: остерегайтесь меня.
Эдмунд Уолсингем заходит почти каждый день, но времени проводит лишь столько, чтобы удостовериться в телесном и душевном здравии узника, словно боится подцепить заразу. Кингстон занят в совете и в Тауэре бывает только по важным поводам. Так что ему не с кем беседовать, кроме Кристофа, тюремщика и мертвых; а с наступлением дня призраки рассеиваются. Слышен легкий вздох, шорох, с которым они тают, обращаются сквозняком, немазаным скрипом, уходят в природные субстанции – клочья тумана, дымок над прогоревшими углями. Он живет в страхе, что король запретит Рейфу его навещать, однако, по всему, король по-прежнему желает, чтобы ему сообщали новости. Лорда Хангерфорда приговорили к смерти, рассказывает Рейф. – Французский посол распускает слух, что Хангерфорд якобы насиловал свою дочь. Однако таких обвинений не выдвинули. Хватило колдовства и содомии. – Марильяк обнаглел после всех слухов, что распространял обо мне. Ему это сошло с рук. Он не может найти в себе жалости к Хангерфорду, помимо сочувствия к другому узнику, знающему, что впереди казнь. Хорошо бы Вулси пришел сыграть с ним в шахматы, хоть и не следует играть в шахматы с прелатом – у того всегда в рукаве пешка. Он страстно желает увидеть Томаса Мора, небритого, с усталыми глазами, на прежнем месте за столом – столом, которому дрожащее от сквозняка пламя свечи придавало вид алтаря. Слякотной весной тысяча пятьсот тридцать пятого года Мор научился исчезать со сцены, и ты видел перед собой покойника, безжизненное тело, вроде серебристых трупиков в паутине умершего паука. Теперь о Море говорят как о мученике, а не как о человеке, который просчитался. Он как-то сказал Шапюи, Мор думал, что сможет управлять Генрихом, и, возможно, был прав, но столкнулся с тем, на что не рассчитывал, – с Анной Болейн. Мы, советники, считаем себя мудрыми и зоркими, мы основательно очерчиваем позиции, строим планы и до поздней ночи отстаиваем свои убеждения. И тут какая-то девчонка пробегает мимо, роняет свечу и поджигает нам рукав; и мы хлопаем по себе как полоумные, силясь уберечь свою шкуру. Я злюсь, что хитрый воришка Рич меня обошел, что болван Поло пробил дыру в моей лодке, что выживший из ума Лайл меня потопил. Может, кто-нибудь скажет, что я умер за Евангелие, как Мор умер за папу. Но большинство не сочтут меня мучеником, разве что мучеником за жажду преуспеть в жизни. К середине месяца король снова холостяк. Сперва собрание епископов, затем парламент его освободили. Анна со всем согласилась и вернула обручальное кольцо. Рейф говорит: – Парламент будет умолять короля жениться снова. Ради блага страны. Вопреки собственному нежеланию. Рейф вздыхает. Цепь государственного секретаря тяжело давит на плечи. Дождя так и нет. Жара не спадает. Судя по всему, Генрих намерен убить опального слугу полным бездействием. Висконти в Милане придумал пытку, которая длится сорок дней, и на сороковой день, не раньше, узник умирает. В первый день отрезаете ему, например, ухо. На второй день он отдыхает. На третий – выкалываете глаз. Он ждет; он сохранил один глаз, но не знает, когда вы решите его ослепить. На пятый день начинаете полосами сдирать с него кожу. И это не ради того, чтобы вытянуть какие-то сведения. Только ради спектакля для устрашения горожан. На третьей неделе июля возобновляются допросы. Новые обвинения в лихоимстве. Есть дело, которое тянется уже два года, – насчет корабля, принадлежащего брату коннетабля Франции. Он помнит все цифры и уверен, что совершенно чист, но теперь видит, что ему не отмыться от того, как представила события французская сторона. Франциск хочет поторопить его казнь. – Ему не терпится отправить меня на эшафот, – говорит он. – Полагаю, уже недолго, – отвечает Гардинер. – Король подпишет билль со дня на день. Парламент вот-вот будет распущен. Его величество покинет Лондон на лето. – Как племянница Норфолка? Гардинер мрачнеет: – Радуется своему счастью, пустельга. Впрочем, не мне обсуждать королевский выбор. – Держитесь этого правила, и вы далеко пойдете, – говорит он. – Конечно она пустельга. А как же иначе, в ее-то годы. Для вас лучше, чтобы она не слишком задумывалась. История против нее. Гардинер смотрит задумчиво: – Боюсь, история против нас всех. Сегодня в Колокольной башне оживленный день; за Гардинером приходит Норфолк с новыми бумагами по французскому кораблю: – Вы должны написать об этом совету. – Не королю? – Пишите королю, если вам угодно. Впрочем, вряд ли он найдет время прочесть ваше письмо – слишком занят моей племянницей. – Говорил ли он, когда меня казнят, милорд? Норфолк не отвечает. – Мой сын Суррей говорит, если бы вас не устранили, вы бы извели всех дворян под корень. Он говорит, Кромвель поражен собственным оружием. С ним будет то же, что со многими, кто перешел ему дорогу, знатными и простыми. – Не буду оспаривать, – говорит он. – Но, быть может, милорд Суррей подумает, чем себя занять, если попадет сюда узником. Удача и король высоко его вознесли, однако нам не следует на такое полагаться, ибо земля у нас под ногами скользкая. – Я ему передам, – говорит Норфолк. – Однако, клянусь Богом, вы впали в нравоучительный тон! Умные люди не нуждаются в таких предупреждениях. Они промывают себе глаза каждый день. Думаете, король вас когда-нибудь любил? Ничего подобного. Вы были для него орудием. Как и я. Вы, я, мой сын Суррей для него не более чем требушет, катапульта или другая осадная машина. Или пес. Что делать с псом, когда закончился охотничий сезон? Только удавить. Норфолк уходит и о чем-то говорит с Мартином за дверью, но слов не разобрать. – Кристоф! – зовет он. – Бумагу и чернила. – Опять? – удивляется Кристоф. Он пишет совету. Отрицает, что получил выгоду от несчастий, которые приключились с братом коннетабля и его кораблем. Норфолк знает, пишет он, так как присутствовал при разборе дела, и Фицуильям знает, и епископ Боннер – он был послом во Франции и все вспомнит. Целый час, пока думает и пишет, он чувствует себя не здесь, а в совете. Затем сразу принимается за письмо Генриху. Ему много есть что сказать, но он понимает: если выйти за пределы уничиженной мольбы, Генрих не станет слушать письмо, тем более три раза. Возможно ли умалить себя еще сильнее, чем в прежних письмах? Под вечер он уже не может бороться с усталостью. Откладывает перо и дает мыслям отвлечься. Шапюи снова в Лондоне, опять назначен послом. Возвращаемся к старым играм. Генрих отвесил поклон французам, теперь преклоняет колени перед императором. Кардинал узнал бы в этом свою политику. Ночью, когда Вулси, моргая, входит в комнату, он говорит: – Будьте мне добрым отцом. Посидите со мной до конца. – Я бы рад, – отвечает старик, – да не знаю, хватит ли сил. Судя по бормотанию в уголке, кардинала больше заботит его собственная кончина. Вулси говорит о свечах вокруг смертного одра, о том, как Джордж Кавендиш держал его за руку. Описывает склонившиеся над ним скорбные лица монахов Лестерского аббатства. Говорит о поспешных похоронах, про которые вроде бы знает. «Почему меня не уложили в мою гробницу? За которую я столько заплатил вашим итальянцам. Где мои подсвечники? Куда делись мои танцующие ангелы?» Мартин из жалости приходит с ним посидеть. Мор в последние дни много говорил, замечает тюремщик, все время говорил, не только когда хочешь слушать. Рассказывал, как был школяром в школе Святого Антония. Шел с сумкой по Вестчип к Треднидл-стрит. Зимним утром, в шесть утра, улицу освещал лишь иней на мостовой. Их, маленьких школяров, дразнили свиньями святого Антония; в свете фонаря они принимались зубрить свою латынь. – А про Ламбет он когда-нибудь рассказывал? – Про архиепископа Кентерберийского? Он его ненавидел. – Я хотел сказать, про Ламбет времен Мортона, когда мы оба были детьми. Томас Мор готовился там в Оксфорд, просиживал дни за книгами. Он меня не упоминал? – Вас, сэр? При чем здесь вы? Он улыбается: – Я тоже там был.
Дядя Джон говорит: – Видишь подносы? Это ужин молодых джентльменов. Они очень много учатся, и если просыпаются по ночам, то думают о Пифагоре или святом Иерониме. От этого у них разыгрывается аппетит. Так что им нужен кусочек хлеба и стаканчик разведенного пива. Так вот, знаешь третью лестницу? На самом верху – мастер Томас Мор. Он не любит, когда ему мешают, поэтому входи тихо, как мышь. Если он тебя заметит – поклонись. Если не заметит, выходи так же тихо и ничего не говори, даже «доброго здоровьица», понял? Он понял. Хватает поднос и бежит к лестнице – ноги у него крепкие, по виду и не скажешь, что он всегда голоден. Что, если сесть на нижней ступеньке, выпить пиво и съесть хлеб? Услышит ли он ночью, как мастер Мор плачет от голодной рези в желудке? «О, накорми меня, накорми, – жалобно хнычет он, поднимаясь по лестнице. – О святой Иероним, накорми меня!» На верхней ступеньке в него вселяется бес. Он пинком распахивает дверь и орет: – Мастер Томас Мор! Школяр поднимает кроткий заинтересованный взгляд, однако поворачивает книгу, будто хочет закрыться. – Мастер Томас Мор, ваш ужин! Он грохает поднос на буфетную полку. Говорит: – Петли скрипят. Завтра приду смажу. Открывает и закрывает дверь, чтобы скрипнуло дважды. Ему хочется спросить, что такое пифагор, это животное, или болезнь, или фигура, которую можно нарисовать? – Мастер Томас Мор, доброго здоровьица! – орет он. – Спокойной ночи! И уже собирается хлопнуть дверью, но тут мастер Мор зовет: «Мальчик?» Он снова врывается в комнату. Мастер Мор сидит за столом, моргает. Лет четырнадцати-пятнадцати, тощий. Уолтер бы такого обсмеял. Мастер Мор говорит мягко: – Если я дам тебе пенни, ты другой раз не будешь так делать? Он сбегает по лестнице, богаче на пенни. Прыгает на каждой ступеньке и свистит. Все по-честному. Ему заплатили, чтобы он не шумел в комнате, про лестницу речи не было. Если мастер Мор хочет жить в могильной тишине, пусть раскошелится пощедрее. Он бежит прочь, туда, где мальчишки гоняют по двору мяч. После этого он каждый вечер сидел на лестнице затаившись, будто демон, пока Мор не решал, что опасность миновала. Тогда он врывался с криком: «Добрейший вечерок, сэр!» – и грохал поднос так, что Мор проливал чернила. Когда Мор напомнил ему про пенни, он изумленно распахнул глаза: «Я думал, это только за один раз!» Со вздохом и полуулыбкой Мор вытащил еще монету. Он думал, Томас Мор пожалуется эконому, тот вызовет его к себе и отлупит. Или сам архиепископ вызовет его к себе и отлупит, а может, как служитель Божий, только отчитает. В последнем случае он собирался много чего наговорить в ответ. Он бы рассказал Мортону, как управляют его кухнями, как воруют со стола оловянную посуду, как лезут пальцами служанке в манду и тут же, теми же пальцами, во фрикасе. Однако никто его не вызывает. Никто его не лупит, кроме Уолтера, сестер, дядьев, теток, священника (если поймает), отца Шона Мэдокса, Уильямсов, Уиксов… однако Томас Мор ни разу его не тронул, даже чужими руками. Удар завис в воздухе; он ощущал эту угрозу в те годы, когда Мор искоренял ересь и врывался в дома и лавки его друзей. А когда удар все же обрушился, то пал, на кого не ждали: это Мор поднялся на эшафот в день, когда ветер дует будто со всех сторон сразу; рубаха трепетала, пока он стоял, обнажив шею, дождевые струи слезами текли по лицу, а туманная дымка растворяла каменные стены в серой вздувшейся реке. Это была легкая смерть. Один удар – и все. Бывает гораздо хуже. Когда они встретились взрослыми, Мор его не узнал.
Эсташ Шапюи вернулся в сильно изменившийся Лондон: в воздухе разлита подозрительность, королева была и сплыла. Король вычищает не только тех, кого считает еретиками, но и последних папистов, так что тюрьмы переполнены. Говорят, посол выглядит усталым и не выражает радости от возвращения. Он, Кромвель, понимает, что Шапюи, как человек разумный, и близко к нему не подойдет, бесполезно даже просить, но про себя гадает: придет ли Шапюи на мою казнь? Он не хочет, чтобы приходил сын, даже если дело ограничится отсечением головы, – помнит, как худо тому было на казни Анны Болейн, которую Грегори толком и не знал. Говорит Рейфу: – Грегори пора написать письмо с отречением от меня. Пусть пишет обо мне как можно хуже. Пусть скажет, что не понимает, как оказался в родстве с таким гнусным изменником. Пусть молит, чтобы ему позволили службой его величеству искупить мои преступления. – Да, но вы знаете письма Грегори. «На сем, за неимением времени, заканчиваю». – Рейф задумывается. – Я поручу это его жене Бесс. Она – сестра покойной королевы Джейн и скорее растрогает королевское сердце. Он думает, я всегда был сообразителен во всем, но Рейф Сэдлер сообразителен, когда это нужно. – Даже в разгар своего нового счастья король наверняка помнит Джейн. Рейф говорит: – Запрещено носить траур по изменникам. Однако Ричард Кромвель сказал, что будет носить траур. – Не надо, – мягко произносит он. – Скажите, что я прошу этого не делать. И все равно он невольно улыбается. Рейф оглядывает помещение: – Сказать Эдмунду Уолсингему, чтобы вас переселили? Мне здесь не по себе. – Я привык. Если встанешь на табурет, сможешь увидеть башню Байворд. Попробуй. Рейф не видит башню, потому что тоже невысок ростом, зато это позволяет ему успокоиться, стоя лицом к стене; затем он в последний раз обнимает покровителя и уходит в жаркий вечер. Дверь закрывается, шаги Рейфа затихают. Он открывает свои книги. Тома легенд, компендиумы святых; утешительные легенды. Благодарение Богу, их не забрали, однако надо позаботиться, чтобы они не пропали. Надо написать письмо о том немногом, что у меня осталось, и надеяться, что мою просьбу уважат. Он читает книгу Эразма «О приуготовлении к смерти», написанную всего лет пять-шесть назад под покровительством Томаса Болейна. Чтение утомляет глаза – лучше смотреть картинки. Он откладывает книгу и начинает листать гравюры. Видит Икара с оплавленными крыльями, падающего в воду. Дедал придумал крылья и совершил первый полет. Он был куда осмотрительнее сына: пролетел над лабиринтом, над стенами, над морем так низко, что замочил ноги. Но затем он взмыл с ветром, и землепашцы таращились ввысь, убежденные, что видят богов или исполинских бабочек, и, пока он набирал высоту, был миг, когда искусник почувствовал нутром: «Получится!» И то было худшее мгновение его жизни.
Двадцать седьмого июля к нему приходят разом комендант и смотритель Тауэра. Кингстон говорит: – Сэр, король дарует вам смягчение казни. Это будет отсечение головы, чему я искренне рад… – Кингстон спохватывается: – Прошу прощения, я хотел сказать, вы часто просили такой милости для других, и король вам редко отказывал. Значит, думает он, я не увижу августа. Зайцев, бегущих от сборщиков урожая, холодные утренние росы после Дня святого Варфоломея. Листопад, темные синие ночи. – Это будет завтра? Кингстону не положено отвечать, но Уолсингем произносит мягко: – Если ваша милость прочтет сегодня вечером молитвы, то поступит очень правильно. Кингстон отбрасывает притворство: – Я приду в обычный час, в девять, и вместе с вами выведут лорда Хангерфорда. Значит, я умру вместе с чудовищем, думает он. Или с человеком, который нажил чудовищных врагов, способных силой воображения превратить осужденного в кого пожелают. Уолсингем говорит: – Хотите ли вы исповедаться? – Да, если духовником будет Роберт Барнс. Комендант и смотритель переглядываются. – Он осужден, – говорит Уолсингем. – Его казнят в Смитфилде через день или два. – Одного? – С ним казнят священника Гаррета и отца Уильяма Джерома. Мы ждем приказов. Еще через день-два повесят двух папистов, в том числе Томаса Эйбла, капеллана принцессы Арагонской. Гаррет, Джером, его друзья, евангелисты. Эйбл, давний противник. Насыщенная неделя, думает он. – Надеюсь, у вас хватит умелых палачей. Кингстон отвечает резко: – Мы стараемся, как можем. Он встает. Выражает желание остаться в одиночестве. – Я не так давно исповедовался, а здесь у меня было мало возможности согрешить. – Дело не в этом, – смущенно произносит Кингстон. – Нам положено всю жизнь себя исследовать и каждый раз находить новые грехи. – Знаю, – говорит он, – и знаю, как это делать. Я живу здесь с Томасом Мором. Я читал его книги. Мы все умираем, только с разной быстротой. Уолсингем говорит: – Герцог Норфолк просил известить вашу милость – завтра король женится на Кэтрин Говард.
Кристоф говорит: – Я принесу свой тюфяк. Буду сегодня ночью с вами. – Не бойся, я не наложу на себя руки, – говорит он. – Надеюсь, палач справится быстрее меня. – Вы будете писать письма? Он задумывается. – Нет. Я уже все написал. Он отсылает Кристофа погреться на солнце: выпить за его здоровье и посидеть на стене с другими слугами, болтая, без сомнения, о неопределенности своей судьбы, с такими-то хозяевами. Думает о том, как все будет завтра. По рангу он выше Хангерфорда, так что умрет первым. Король своим решением избавил его от страшных мук и позора. Он будет молиться об одном точном ударе. Вспоминает Анну Болейн, как та заказывала наряды для коронации: «Томас должен быть в алом». На эшафоте он восхвалит короля: его благородство, милость, попечение о народе. Этого ждут, и у него есть долг перед теми, кого он оставляет. Он скажет, я не еретик, я умираю членом единой католической церкви, и пусть зрители понимают как хотят. Хотя каждому боязно узнать час своей кончины, христианин больше страшится внезапной смерти, как было с его родителем, mors improvisa без покаяния. Соседи в Патни считали, что Уолтер исправился, бросил пить, буянить и драться. Однако как-то вечером он повздорил с другим церковным старостой – и не по божественным вопросам, а из-за петушьих боев. Уолтер поставил другому старосте фонарь под глазом, после чего вернулся домой и потребовал есть. Свидетели рассказывают, что он был бледен и в поту, но все равно умял тарелку холодного мяса, ни на минуту не переставая браниться. Потом принялся тереть грудь и жаловаться на ужин, от которого у него-де в животе печет, а через пять минут уже упал лицом на стол. Его уложили на спину. «Черт вас дери, я задыхаюсь! Поднимите меня, поднимите же» – были его последние слова. На похороны собралось довольно много народу. Он, Томас, оплатил заупокойные мессы. – Как по-вашему, будет от этого прок? – спросил он священника. – Не отчаивайтесь насчет него, – ответил тот. – Он был человек буйного нрава, но не безнадежно дурной. – Я не о том, – сказал он. – Будет ли Уолтеру прок от молитв? В смысле, есть ли от них прок покойникам? Бог смотрит на нас всю нашу жизнь. Уж наверное, если человек прожил так долго, как Уолтер, Господь успел составить о нем мнение? Если не знал изначально. – На мой взгляд, это попахивает ересью, – сказал священник. – Разумеется, поскольку бьет вас по карману. Если Господь не сомневается в собственных решениях, то что проку в ваших панихидах, четках и плате за тысячу веков месс? Он вспоминает себя пятнадцатилетним, избитым, на мощеном дворе в Патни. Отец стоит над ним, булыжники в крови, дратва торчит из разошедшегося шва на отцовском башмаке. Уолтер орет на него, он орет в ответ: je voudrais mourir autrement[175] – не здесь, не сейчас, не так. Но, думает он, я не орал. Я не знал тогда французского. Растоптанный, оглушенный, я встал и уплыл за море. Я сражался на чужих войнах, за деньги, пока не сообразил, как зарабатывать их проще: Кремуэлло к вашим услугам, ваша тень в стекле. Как-то ночью в Венеции перед ним промелькнула куртизанка, призрак во влажной дымке, – стук башмаков в тишине, желтая шаль в бесцветной серости, отзвук смеха. Затем в стене открылась дверь, и женщина растворилась в мраке. Она исчезла так быстро, так бесследно, что он гадал, уж не привиделось ли ему. Он подумал: если мне когда-нибудь потребуется исчезнуть, я поеду в Венецию. В эти дни ему порой снится, что он тонет. Он просыпается с мокрыми ресницами, не помня, на каком языке говорит, не помня, где он, но страстно желая оказаться в другом месте. Вспоминает детство, дни на реке, дни в полях. Вся его жизнь – мелькание неуловимых женщин. Он помнит мачех, которых приводил Уолтер; не успеешь привыкнуть к очередной, как Уолтер ее выгонит, или она сама убежит, прихватив узелок с пожитками. Он думает о своих дочерях Энн и Грейс; может, он встретит их уже взрослыми? Мысленно видит дочку Ансельмы, как та ходит по его дому и внимательным взглядом отмечает принадлежащие ему вещи: печать, книги, – рассматривает его глобус мира и спрашивает: «А этот остров где? В Новом Свете?» Ему сообщают, что мастер Ризли переехал в Остин-фрайарз. Король велел распустить Кромвелеву прислугу. Днем по комнатам хозяйски расхаживает Зовите-меня, вдыхает запах бумаги и чернил, розовой воды и смолы. Ночами по полам бесшумно ступает леопардица, вынюхивает давно умерших животных, спаниелей и мармозеток, смотрит вверх на молчащего в клетке соловья. Она чует аромат вареного мяса от несчетных обедов и мышиные кости за стенными панелями; ее недвижный взгляд следит птичий полет за окнами. Он думает, я потратил тысячи фунтов на стекло. Мастер Ризли не сможет уничтожить то, что я создал. Он может лишь пройти сквозь стекло и пораниться осколками. Кристоф возвращается нетвердой походкой – пьян, перегрелся на солнце или что-нибудь еще. Он говорит: – Мог бы побыть там дольше. Я не скучаю. Июль, ночи короткие. В сумерках он отправляет Кристофа за ужином, а сам думает о рае и аде. Ад рисуется ему холодным местом, пустырем, болотом, пристанью – вдалеке орет Уолтер, потом крики приближаются. Так оно и будет – не сама боль, но постоянный страх боли, страх ошибки, понимание, что тебя накажут за что-то, чего ты не мог избежать, более того, не считал дурным; и такой же постоянный раздор, нестихающий ожесточенный спор сразу за стеной. Рай видится ему празднеством, которое устроил кардинал, чем-то вроде Поля Золотой Парчи в Пикардии – дворцы на диковинной пограничной земле, акры прозрачного стекла, искрящегося на солнце. Хотя, конечно, устраивать такое надо было в краях потеплее. Может быть, думает он, завтра я буду жить в ласковом городе, где последние солнечные лучи смягчают очертания колоколен и куполов; дамы в нишах молитвенно склонили головы, по улице семенит собачонка с пушистым хвостиком, равнодушные голуби садятся на позолоченные шпили.
После ужина он складывает книги. Надо попросить Кингстона, пусть отдаст их Рейфу. Кладет в стопку грамматику Кленара. Он почти не продвинулся в изучении древнееврейского, отчасти по недостатку времени – никогда еще узник не трудился так много и не изводил столько чернил. Жаль, что ему не довелось познакомиться с автором грамматики Николя Кленаром, или Клейнартом, как называют его голландские соотечественники; антверпенские друзья говорят, он великий знаток языков и провел много северных ночей при лампе, копируя завитушки арабской вязи. За книгами на этом языке Кленар много лет назад отправился в Саламанку, оттуда в Гранаду, но все оказалось тщетно – инквизиция упрятала арабские писания под замок. Некоторые говорят, теперь Кленар отправится в Африку – изучать священную книгу магометан. Он воображает, как ученый муж бродит по базарам, питается финиками, оливками, грушами, томленными в меду с эссенцией флердоранжа, бараниной, запеченной с шафраном и абрикосами. Всю жизнь бредешь по пустой дороге, ветер дует тебе в спину. Тебя мучает голод, и чем дальше уходишь во мрак, тем сильнее терзаешься неуверенностью. Однако, когда добираешься до цели, привратник тебя узнает и с фонарем провожает через двор. В доме ждет огонь в очаге и кувшин вина, на столе свеча, а рядом – твоя книга. Садишься у огня, открываешь ее на заложенной странице и начинаешь читать свою повесть. За окном ночь, а ты все читаешь и читаешь. В девять часов двадцать седьмого июля он встает на колени и читает молитвы. Он часто гадал, как мы узнаем за гробом умерших близких. Однако сегодня, в последнюю ночь, он видит, что они зримы и сияют. Они обратились в промельк, в мгновение. Между ребер у них воздух, их плоть пронизана светом, мозг костей слился с Божьей благодатью. Ему чудится, будто из угла на него смотрит мальчишка-рыбник. Пшел вон, срань, говорит он. Он не может уснуть, потом вроде бы засыпает. Ему снятся четыре женщины, они стоят у его постели, их лица скрыты покрывалами. Он просыпается и высматривает их в темноте, но никого нет, только Кристоф храпит на тюфяке. Он вспоминает Кристофа в Кале, на Кокуэлл-стрит, – грязные лохмы, засаленный фартук. Кто бы угадал, что этот мальчишка будет с ним в последнюю ночь? Думает про мнемоническую машину, ее ниши, полочки, тайные углубления. Должно быть, он снова засыпает, потому что видит себя ребенком. Вокруг него призрачные товарищи детских игр, другие сыновья Уолтера, родившиеся раньше его и умершие. Он видит этих старших братьев, трех или четырех, в профиль – они то ли вырезаны на скамье, то ли нарисованы на стене. Они стоят на коленях, по росту, от самого высокого, с чьей смерти прошло больше всего лет, до него, самого маленького и незначительного. Полупробудившись, он спрашивает себя: рассказывал ли Уолтер об этих сыновьях. Нет; и все же каждый раз, как отец выражал ему свое недовольство – например, кулаком или башмаком, – он ощущал их еле уловимое присутствие, их безмолвную жалость как слабое колыхание воздуха. От звука первых колоколов он садится. Спускает ноги на пол. Слышит, как Кристоф что-то бормочет: молитвы, хочется верить. Видит себя, из последних сил ползущего по флорентийской мостовой. К воротам Фрескобальди.
II Свет
28 июля 1540 г. Узник не думает ни о чем, кроме еды. – Кристоф, где мой завтрак? И вода для умывания? Я не могу предстать перед Богом в таком виде. Холодный пот. Он проводит рукой по подбородку. Бритву ему не давали; тут их можно понять. Кристоф ставит на стол хлеб и эль: – Мартин принесет холодную птицу. – Хорошо. Попробуй что-нибудь у него выведать. Насчет времени, когда за мной придут. Он не особо доверяет расписаниям Кингстона; Анна по его милости прождала целый день. Однако Мартин теперь не тратит на этого узника много слов – тот почти что уже завершенное дело. Он думает, я не знал, что, когда умираешь, никто не хочет на тебя глядеть. Да и тебе на них глядеть не хочется. Ты видишь выражение, которое не можешь воспроизвести. Мартин говорит – Кристофу, не узнику: – Лорда Хангерфорда не знают, как выводить. Он ночью видел дьявола. Теперь лежит на полу и орет как пьяный. Вместе с Кингстоном приходят шерифы, Уильям Лакстон и Мартин Боуз. Вежливо желают ему доброго утра. – Вы готовы, лорд Кромвель? Мы готовы вас вести. Ему дают монеты, чтобы вручить палачу как плату за услуги. Его джеркин тоже заберет себе палач – такова традиция. Он думает, надо было найти пурпурный. Или оранжевый, так огорчивший однажды мастера Ризли. Ему приходит в голову, что после его смерти другие будут проживать день дальше; час будет примерно обеденный: бульканье похлебки в котлах, звон поварешек, шкварчание снимаемого с вертелов мяса; тысячи псов очнутся от дремоты и завиляют хвостами; люди в домах приладят на грудь салфетки, окунут пальцы в розовую воду, преломят хлеб. А когда крошки сметут и посуду унесут мыть, его тело будет разрубленным мясом и палач протрет лезвие дочиста. – Что-нибудь кому-нибудь передать? – спрашивает Мартин. Он готов исполнить такую просьбу ради платы от родных покойника. – Скажи моему сыну… – Он умолкает. – Скажи государственному секретарю Сэдлеру… нет, не важно. Пошли в Остин-фрайарз и передай Томасу Авери… Нет. Авери не надо повторять дважды. Он говорит шерифам: – В Плимуте некий человек, Уильям Хокинс, снарядил корабль в Бразилию. Взял на борт свинец и медь, сукно, гребни, ножи и девятнадцать дюжин ночных колпаков. Хотелось бы мне знать, что из этого вышло. Шерифы сочувственно сопят. Наверняка жалеют, что не вложились. Он оглядывается через плечо: – Кристоф, возьми метлу и подмети. У Кристофа лицо сморщенное – вот-вот заплачет. – Сэр, я пойду с вами. Подметут и без меня. Вот, – он роется за пазухой, – у меня есть образок, святой образок, мне его матушка подарила, возьмите, Христом Богом прошу. Он отвечает: – Мне не нужен образ, я увижу Божье лицо. Кристоф держит образок на ладони: – Сэр, отнесите ей. Она его ждет. Он разрешает повесить образок себе на шею. Вспоминает другой, подаренный сестрой, тот, что лежит на морском дне. – А теперь, Кристоф, послушайся меня в последний раз. Когда подметешь, можешь идти за мной, только в драку не лезь. Мне нужно молиться, так что не прерывай мои молитвы. Мартин, и ты обо мне молись, когда я буду умирать. А потом, если смогу, я буду молиться за тебя. Он вспоминает, как Джордж Болейн сказал: у нас есть актер, который играет Робина Доброго Малого. Когда короли и королевы удаляются со сцены, он выходит с метлой и свечой – это значит, что пьеса окончена.Свет утренний, мягкий, небо – бледно-голубое. Уже чувствуется, что день будет снова жаркий. Идти предстоит за крепостную стену, до Тауэрского холма, где воздвигли эшафот. Он, с трудом веря своим глазам, смотрит на ряды вооруженной стражи. – Столько? – спрашивает он Кингстона. – Стой! – орет начальник стражи. Это всего лишь Хангерфорд. Его тащат под локти двое стражников. Одна процессия должна пристроиться за другой. Хангерфорд смотрит сквозь него остекленелым взглядом, не узнает. – Милорд, – говорит он, – нам осталось совсем немного времени, и, хочется верить, наша боль будет сильной, но недолгой. Наберитесь мужества и поддерживайте себя надеждой. Если вы искренне раскаиваетесь в содеянном, то уповайте на Бога – Он милостив. Он пробыл в заточении сорок восемь дней и за все это время практически не выходил на открытый воздух. Даже такой мягкий свет режет глаза, и он вспоминает Тиндейла, идущего по белильным полям. Рейф прав, думает он, мы вечно сетуем на погоду, и сегодня она не такая, как надо. Англичанин умирает вымокший, под дождем, который поливал его всю жизнь, и, когда бродит тенью по старым местам, не поймешь за моросью и туманом, живой или мертвый. Климат защищает его, как ладони – свечу. Они уже за крепостной стеной, на Тауэрском холме. Люди, стекающиеся к лобному месту, ступают по своим покойникам, праотцам и праматерям. Говорят, здесь под землей лежат кости бессчетных лондонцев, умерших во время чумы. Они падали мертвыми прямо на улицах; трупы уносили в спешке и хоронили прямо в добрых башмаках, даже не срезав кошель, так что тут прямо под ногами лежат сокровища для тех, кто решится их откопать. По реву толпы не поймешь, пришли лондонцы горевать или радоваться. Впрочем, поскольку король поставил в оцепление шесть сотен солдат, это и не важно. А возможно, они и сами не знают. После тишины в Колокольной башне он идет как по полю сражения, на стук барабанов: боро боромбетта…
Эпитафия
Вдруг, однако, тебе, о ты, который родишься после меня! – тебе, как я желаю и чаю, лучший достанется век! Сей сон Летейский не может длиться без срока: мрак расточится, поздним потомкам вновь отворится тропа к пречистому древнему свету[178].Петрарка. Африка, IX
Послесловие автора
Через полтора года после женитьбы короля на Екатерине Говард ее обвинили в преступной связи с придворным Томасом Калпепером, а также в том, что у нее были любовники еще до свадьбы. Ей отрубили голову. Вместе с ней казнили Джейн Рочфорд за пособничество в измене. Детей у Генриха больше не было. Его шестой, и последней женой стала Екатерина Парр, бывшая леди Латимер. Умная и образованная Екатерина, пережившая короля, вышла за Томаса Сеймура – своего четвертого мужа – и умерла, родив ему дочь. После развода с Анной Клевской, своей четвертой женой, Генрих остался с ней в дружеских отношениях. Она получила богатые поместья (в том числе конфискованные у Томаса Кромвеля), жила на широкую ногу, не выражая желания вернуться на родину, и умерла на десять лет позже Генриха. После казни Кромвеля Генрих прожил еще семь лет, больной, немощный и опасный. Он отправился воевать во Францию и обесценил английскую монету. Его сыну Эдуарду было девять лет, когда тот взошел на трон, лорд-протектором стал Эдвард Сеймур. В царствование Эдуарда в Англии окончательно утвердился протестантизм. Однако Эдуард умер в пятнадцать лет – вероятно, от туберкулеза. Его сестра Мария, взойдя на трон, попыталась восстановить Римско-католическую церковь. Она назначила Стивена Гардинера лорд-канцлером, а Реджинальд Поль, возвращенный из долгого изгнания, стал архиепископом Кентерберийским. Томаса Кранмера, Хью Латимера и многих других сожгли как еретиков. Мать Реджинальда Поля, Маргарет, графиню Солсбери, казнили в 1541 году. Джеффри Поля помиловали и отпустили на свободу, но он бежал в Рим и вернулся в Англию лишь после воцарения Марии. Он умер в 1558 году, оставив одиннадцать детей. Генрих довольно скоро пожалел о смерти Кромвеля и вернул Грегори баронский титул. Грегори иногда появлялся при дворе, но по большей части жил тихо в аббатстве Лонд. Он умер молодым, и его жена Элизабет воздвигла ему красивый надгробный памятник, который можно видеть в часовне и в наши дни. Ричард Кромвель тоже пережил падение своего дяди. Он был назначен джентльменом личных покоев и воевал во Франции. Умер он в 1545 году богатым человеком. Его правнук, Оливер Кромвель, стал лорд-протектором первой английской республики. Ансельма и Женнеке вымышлены. Считается, что у Томаса Кромвеля была незаконная дочь по имени Джейн, родившаяся, вероятно, вскоре после смерти его жены. Однако мы не знаем, кто ее мать, и никаких полезных догадок у нас нет. Рейф Сэдлер после казни Кромвеля впал в немилость, однако пережил ее и оставался на королевской службе почти до смерти. Он умер в 1587 году, без малого восьмидесяти лет; молва называла его богатейшим из нетитулованных англичан. Его дом в Хакни, Брик-плейс, теперь носит название Саттон-хауз и находится в ведении Национального фонда архитектурного наследия. Соседний Кингс-плейс, некогда принадлежавший Гарри Перси, не сохранился. Томаса Уайетта арестовали в 1541-м вместе с Сэдлером, но вскоре выпустили и восстановили на королевской службе. Впрочем, его обязали вернуться к жене, с которой он задолго до того разъехался, и оставить Бесс Даррелл, от которой у него был по меньшей мере один сын. Осенью 1543 года его отправили в Корнуолл встречать императорского посла, неожиданно прибывшего в Фалмут. По дороге у него начался жар, он остановился в Шерборне, где и умер. Уильям Фицуильям сменил Кромвеля на посту хранителя малой королевской печати. В 1542 году он возглавил войско, направляемое в Шотландию, но по пути заболел и умер; наследников у него не осталось. И Томас Ризли, и Ричард Рич в свое время стали лорд-канцлерами. В последние годы Генрихова правления Ризли сделал головокружительную карьеру. При Эдуарде он получил титул графа Саутгемптона и вошел в регентский совет, но проиграл в яростной межпартийной схватке и умер в 1550 году. Ричард Рич, сменивший его на посту, основал династию и Фелстедскую школу в Эссексе; оставил пятнадцать детей и огромное состояние. После смерти Кромвеля Артур, лорд Лайл, пробыл в Тауэре еще полтора года. Потом король его помиловал, но на следующий день, не успев выйти на свободу, он скончался «от ликования». Хонор Лайл вернулась в Англию и дожила до 1566 года. Ее дочь Энн Бассет вышла за Уолтера Хангерфорда, сына человека, казненного вместе с Томасом Кромвелем. Джон Хуси сохранил свой пост в Кале и во время французской кампании Генриха занимался снабжением английского войска. Он умер двумя годами позже, однако письма, которыми он обменивался с Лайлами, а также письма самих лорда и леди Лайл и членов их семьи составляют уникальную хронику эпохи. Подобно Джорджу Кавендишу, приближенному джентльмену Вулси, Джон Хуси – один из величайших свидетелей истории. Чарльз Брэндон, герцог Суффолкский, умер в 1545 году, к большой скорби своего друга-короля. Его внучкой была леди Джейн Грей, которая заявила права на трон после смерти Эдуарда и процарствовала девять дней, после чего была низложена Марией, а затем и казнена. Генри Говард, граф Суррей, был обезглавлен за измену 19 января 1547 года. Его отца Норфолка должны были казнить следом, 28 января, однако за несколько часов до назначенного времени казни король Генрих скончался. Так что Норфолк умер в своей постели, в восемьдесят лет. Эсташ Шапюи оставался послом до 1545 года, и даже после отставки император обращался к нему за советами по поводу английских дел. Он жил в Лёвене, где основал колледж для студентов из родной Савойи. У него был незаконный сын, которого он пережил. Оставшись без наследников, Шапюи пожертвовал часть скопленных богатств на стипендии для английских студентов. У Марии де Гиз, мадам де Лонгвиль, которая вышла за короля Шотландии, хотя ее сватал Генрих VIII, выжил только один ребенок, дочь, которую обычно называют Мария Стюарт, королева шотландцев. Второй муж Марии Стюарт, лорд Дарнли, был сыном леди Маргарет Дуглас и графа Леннокса. Кристина Датская, герцогиня Миланская, была одной из интереснейших личностей своего времени. В ее долгой жизни был счастливый брак. В 1555 году, в правление Марии, она совершила визит в Англию и посетила Тауэр; без сомнения, она понимала, что если бы вышла замуж за Генриха, то оказалась бы там много раньше. Мария Тюдор в конце концов все-таки вышла замуж – за Филиппа Испанского, сына императора Карла. Филипп старался как можно реже бывать в Англии; Мария умерла, несчастная и бездетная, в 1558-м, и о ней мало кто пожалел. Ей наследовала Елизавета, дочь Анны Болейн. Династия, воцарившаяся в 1485 году на Босвортском поле, закончилась в 1603-м; Елизавета была последней из Тюдоров.Благодарности
Когда я села выразить благодарность историкам, музейным работникам и ученым, которые в эти десять лет уделяли мне время, вдохновляли меня и подбадривали, то обнаружила: список такой длинный и содержит столько знаменитых имен, что похож на вульгарное хвастовство знакомствами. Поэтому я просто хочу сказать, что благодарна всем и никого не забыла. Еще я признательна моим издателям по всему миру и той незримой армии, что стирает пыль с экспонатов и бережет сокровища, дабы, пользуясь словами Тиндейла, моль и ржа не истребили и время не уничтожило то, что осталось миру от Томаса Кромвеля.Примечания
…серо-коричневая палая листва Дня святой Цецилии... – День святой Цецилии – 22 ноября. «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто джентльменом был тогда?» – Слова из речи Джона Болла (1338–1381) – английского священника-лолларда, который проповедовал социальное равенство и был одним их вдохновителей восстания Уота Тайлера 1381 г. Поэт Скелтон однажды сравнил Марджери с примулой. – Джон Скелтон (1460–1529) – английский поэт-лауреат, наставник Генриха VIII. …в крови железо, а не чернила. – В 2010 г., после работы над «Вулфхоллом», Хилари Мантел легла в больницу на операцию, о чем написала в книге «Чернила в крови. Больничный дневник» (Ink in the Blood: A Hospital Diary, 2010). …некоторые жалкие богословы утверждали, что если бы Господь пожелал, чтобы мы ходили в цветном, то создал бы цветных овец. – Тертуллиан в сочинении «Об одеянии женщин» обличает роскошь римлянок, которые не только носили ткани, окрашенные дорогими красителями, но и наряжали в них рабов и даже завешивали ими стены: «Какое другое заключение можно извлечь из сего сверхъестественного смешения цветов и разнообразия тканей, как не то, что Бог не в состоянии был сотворить таких овец, на которых шерсть была бы багряного или другого блестящего цвета, в какой она теперь окрашивается? А, как известно, что Он мог бы и сие сотворить: то надлежит согласиться, что Ему было то не угодно, потому что Он того не сделал; стало быть, изменять волю Его, есть не иное что, как дерзость» (перев. Е. Карнеева). Скарамелла идет на войну… – Популярная фроттола «Скарамелла» («Scaramella va alla guerra») французского композитора Жоскене Депре (1450–1521). Скарамелла – хвастливый солдат, персонаж итальянской ренессансной комедии. …как там у Боккаччо? – «восстания плоти»? – Выражение заимствовано из десятой новеллы третьего дня «Декамерона» Д. Боккаччо. Даже узурпатор Ричард Скорпион… – Историк и антиквар Джон Рус (1411–1492) называл английского короля Ричарда Третьего (1452–1485) Скорпионом, потому что в его гороскопе Скорпион был асцендентом, определяя, по мнению хроникера, мнимую мягкость короля, за которой скрывалась жестокость. Это герб Ральфа Кромвеля из замка Таттершолл. – Ральф, барон де Кромвель (1393–1456), сражался бок о бок с Генрихом V в битвe при Азенкуре (1415). Бог в своих небесах. Ворота на засове. – Ср.: «Бог в своих небесах. И в порядке мир». (Р. Браунинг «Пипа проходит мимо». Перев. Н. Гумилева.) …с утренней звездой, райскими вратами, кедром и лилией среди терний. – Все перечисленное, а также упомянутое ниже speсula sine macula, «зеркало без изъянов», – символы или наименования Богородицы. Он вспоминает доктора Агостино, взятого под стражу в Кэвуде… – Доктора Агостино, венецианца, личного врача Вулси, арестовали в Кэвуде одновременно с кардиналом. Кавендиш в своих воспоминаниях пишет, что с врачом обошлись очень бесцеремонно. …на потолочных балках Хэмптон-корта затесался один Екатеринин резной гранат. – Резные символы на потолочных балках Большого зала Хэмптон-корта заменяли несколько раз: в 1529 г., забрав Хэмптон-корт у Вулси, Генрих велел сбить эмблемы кардинала и вырезать его: геральдические лилии, тюдоровские розы и так далее, потом добавил туда и Анниных соколов, которых потом тоже сбивали. Немудрено, что на каком-то этапе там могли вырезать и Екатеринин гранат, который потом позабыли сбить. «Нет у меня сына, чтобы сохранить память имени моего». – 2 Цар. 18: 18. Он учил нас пути и истине… – Ср.: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6). …он открыл наши ожиревшие сердца. – Ср.: «Ожирело сердце их, как тук; я же законом Твоим утешаюсь» (Пс. 118: 70). И кто есть сыны века, и кто – сыны света. – Ср.: «Ибо все вы – сыны света и сыны дня» (1 Фес. 5: 5). Также ср.: «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде» (Лк. 16: 8). Поль. Из Италии пришла его книга. – «О защите единства церкви» (Pro ecclesiasticae unitatis defensione, 1536) – труд, в которым Поль опровергал претензии Генриха на роль главы английской церкви и защищал власть папы; позже был опубликован без согласия автора. Разве я сторож брату моему?.. – Быт. 4: 9. …прислал людей из мастерской Галейона Хоне… – Галейон Хоне (1467–1551) – фламандский витражист, работавший в Англии. Дрозд строит храм на холме, зяблик на мельницу тащит мешок… – Стихотворение «Доверяйте женщине» из сборника средневековых шуточных песенок:Оскар Мединг Медичи
Глава 1
Во второй половине XV столетия, когда папский престол занимал Сикст IV, и двор его в Риме представляли кардиналы, превосходившие роскошью своей жизни королей, римские аристократы и посланники всех государств Европы, верхушка финансового мира, проживали большей частью на Виа де-Банки, ведущей к мосту Ангелов и к церкви Сан-Анжело. Эта улица называется теперь де-Банки Векки, а к ней примыкает де-Банки Нуови. Тут размещались большие банкирские дома, находившиеся почти исключительно в руках флорентийцев. Тут же были дворцы денежных тузов того времени, частью вымерших уже, частью ставших князьями, как Строцци, Чита, Никколи, Альтовини, а также представителей обоих патрицианских родов Флоренции: Пацци и Медичи. Банк Пацци находился около моста, а несколько дальше – банк Медичи, превосходивший всех других богатством, вроде Ротшильдов. Медичи были казначеями папского престола и ведали всеми официальными и личными денежными делами папы и большинства кардиналов. Они имели филиалы во всех городах Франции, Италии, Испании, и в то время не было ни одного крупного финансового дела, в котором Медичи не играли бы ведущую роль. Все здания банков были дворцами, под сводами которых хранилось золото, серебро и всевозможные драгоценности; в нижних этажах и во дворах помещались обширные конторы, в верхних этажах – жилые и приемные покои владельцев. Дворцы эти теперь разрушены или служат жилищем простого народа; в окнах вместо роскошных шелковых занавесей висит грязное белье; под великолепными порталами, в которые въезжали посланники князей и королей, нуждающихся в деньгах, или посланники денежных воротил, с известиями о крупнейших промышленных и финансовых операциях, теперь бегают оборванные ребятишки. Представителем дома Пацци в те давние времена был племянник Жакопо молодой Франческо Пацци, а представителем дома Медичи был Джованни Торнабуони, дядя по женской линии Лоренцо Медичи, стоявшего во главе Флорентийской республики. Обе семьи состояли в родстве, так как сестра Лоренцо Бьянка вышла замуж за Гульельмо Пацци. Тем не менее, между ними всегда было известное соперничество, так как Пацци принадлежали к древним флорентийским патрициям, а Медичи поддерживались народной демократической партией и были обязаны своим положением во Флоренции ее любви и почитанию. Это соперничество, или ревность, сказывалось и во взаимоотношениях банков, хотя представители их с виду были дружны между собой. Пацци часто находили, что Медичи перебивают у них дела или портят их. И это было так. Медичи, будучи казначеями папского престола, естественно, имели большое влияние в финансовом мире и были посвящены в политические события, оказывающие влияние на денежные операции.Итак, Рим, январь 1477 года, вечер… С моста на безлюдную Виа де-Банки въехал на чудном рыжем андалузском жеребце мужчина лет тридцати пяти – сорока. У него гордая осанка; смуглое лицо с горбатым носом и черной клинообразной бородкой носило отпечаток бурных страстей, глаза то загорались огнем, то принимали безразличное выражение, скрываясь под опущенными веками. На кудрявых волосах его был берет, опушенный дорогим мехом, темный бархатный плащ тоже был опушен мехом, драгоценные камни украшали рукоятки его шпаги и кинжала. Два служителя ехали впереди с зажженными факелами, шестеро следовали сзади на почтительном расстоянии. Как одежда слуг, так и великолепная сбруя лошадей свидетельствовали о богатстве и знатности их хозяина. Немногочисленные прохожие и банковские конторщики уступали дорогу и почтительно кланялись известному всем графу Джироламо Риарио, племяннику папы, который после смерти своего брата, возведенного Сикстом IV из простых монахов в кардиналы, пользовался почти исключительным влиянием на его святейшество. Граф был одарен папой несметными богатствами и затмевал своей роскошью всех римских князей. Граф Джироламо едва кивал головой в ответ на почтительные поклоны прохожих и вскоре остановился у дворца Медичи, над порталом которого был виден высеченный из камня их фамильный герб – шесть шаров с тремя страусовыми перьями. Слуга подбежал поддержать стремя, Джироламо легко спрыгнул с лошади и прошел в ворота, оставив свиту на улице. В просторном вестибюле, освещенном восковыми факелами на чугунных подставках, графа почтительно встретили слуги и проводили по ярко освещенному коридору со сводами до рабочего кабинета хозяина дворца Джованни Торнабуони. Вся обстановка кабинета отличалась деловой простотой, но соответствовала блеску дома Медичи и его богатству. Из просторной приемной, мозаичный пол которой покрывали драгоценные восточные ковры, граф вошел в большой кабинет, где вдоль стен стояли резные шкафы с книгами и документами, а посередине – письменный стол, освещенный бронзовой люстрой с восковыми свечами и заваленный бумагами. Джованни Торнабуони было около пятидесяти лет. Он был одет в широкое домашнее платье из черной шелковой материи, отороченное мехом. Тонкое, спокойное лицо с темными умными глазами, без бороды и усов, седеющие, назад зачесанные волосы изобличали вполне светского человека с твердой, непреклонной волей. Он встретил графа на пороге и сказал, поклонившись: – Очень сожалею, ваше сиятельство, что вы дали себе труд войти в мой скромный кабинет. Если бы я знал заранее о вашем посещении, то мог бы более достойно принять вас. – Это ничего не значит, милый друг, – отвечал Джироламо, снисходительно протягивая руку, – я знаю, что ваш дворец может достойно принять даже его святейшество, но я приехал к вам не с церемонным визитом, а поговорить по делу и скорее его закончить, для чего это помещение самое подходящее. – Я к услугам вашего сиятельства, – сказал Торнабуони, придвигая кресло графу, а сам уселся на деревянный резной стул у стола. – Вам известно, – начал Джироламо, – что его святейшество купил у герцога Галеаццо-Мария Миланского город Имола, приобретенный им у Манфреди. Смерть герцога Галеаццо, погибшего от руки дерзких убийц, несколько задержала окончание этого дела, но теперь все устроено с герцогиней-регентшей, и покупка состоялась, только надо внести сумму в тридцать тысяч золотых флоринов. Его святейшество, понятно, не имеет таких денег в своей шкатулке, а их надо выплатить как можно скорее. Святой отец очень желает окончить дело, да и я в этом заинтересован, – прибавил граф с улыбкой, – так как святой отец в неисчерпаемой милости своей решил подарить мне поместье Имола. Меня особенно радует соседство Флорентийской республики, что дает мне возможность еще более укрепить дружеские отношения с вашим племянником. Торнабуони слушал молча, ни один мускул у него не дрогнул, и он спокойно ответил графу: – Мне известно об этих переговорах, ваше сиятельство. Его святейшество милостиво уведомил меня об этом, и я уже дал знать во Флоренцию. Могу вас заверить, что синьория моего родного города, а тем более мой племянник Лоренцо будут очень обрадованы вашим дружеским расположением. Мы со своей стороны уже давно принимаем все меры, чтобы найти эту сумму. – Отлично! – радостно воскликнул Джироламо. – Значит, дело, по которому я приехал, окончено и я скоро буду иметь удовольствие посетить Лоренцо из Имолы. – Я сказал вашему сиятельству, что мы приняли все меры для отыскания этой суммы, но до сих пор, к сожалению, нам это не удалось. Времена тяжелые, дела дают мало дохода, а наши капиталы вложены в предприятия. Джироламо побледнел, глаза его сердито сверкнули, и он сказал с язвительной улыбкой: – Я думал, тридцать тысяч не имеют значения для дома Медичи, а если ваши собственные капиталы несвободны в данную минуту, как вы говорите, то с вашим кредитом нетрудно достать эту сумму через посредство других банков. Его святейшество рассчитывал – и, конечно, с полным правом – на скорое и удачное посредничество, так как дом Медичи состоит казначеем папского престола и обязан заботиться обо всех его потребностях. – Мы знаем и высоко ценим свои обязанности, которые налагает на нас звание казначея его святейшества, и уже обращались за посредничеством, о котором вы изволили упомянуть, обращались даже к банкам Франции и Испании, но, как я имел честь сообщить вам, все наши старания пока напрасны, и самое большее, что мы могли бы сделать, это выплачивать сумму частями. – Это ни к чему не приведет, – нетерпеливо вскричал Джироламо. – В Милане требуют немедленной оплаты и… – Это невозможно, – спокойно заявил Торнабуони. – Его святейшество знает, что мы всегда стремимся исполнять его желания, хотя он предъявляет к нам очень большие требования, и мы не преминем продолжать наши поиски с должным старанием. – А в какое время вы надеетесь это выполнить? – спросил Джироламо. Торнабуони пожал плечами: – На это я не в состоянии ответить вам сейчас, граф, но потребуется довольно много времени… Ни один из здешних банкирских домов не взялся бы выполнить наше поручение. Джироламо закусил губу и с трудом сдерживал закипавшую злобу. – А Пацци? – спросил он. – Вы не обращались к ним? Они ведь располагают большими средствами. – К ним мы не обращались, – сказал Торнабуони. – Я убежден, что и они не могут без посторонней поддержки пойти на такое крупное дело… Кроме того, вашему сиятельству известно, что Пацци, несмотря на родство с Медичи, питают к нам недоброжелательство, и они, я думаю, не были бы склонны помогать. При последних словах в глазах Джироламо мелькнуло хитрое выражение. – Значит, вы ничего другого не можете мне сказать? – коротко спросил он. – К сожалению, не могу, чтобы не возбуждать ложную надежду, но, повторяю, мы приложим все старания. Я советовал бы вам условиться со Сфорца платить по частям; могу заверить, что Лоренцо употребит свое влияние в Милане для такого соглашения. – Благодарю за вашу готовность, я доложу его святейшеству о таком неприятном положении дела. Боюсь, что святой отец будет очень недоволен, даже больше, чем я, хотя это, прежде всего, касается меня. – Если бы я имел честь говорить с его святейшеством, то и тогда бы не мог дать другого ответа, – сказал Торнабуони. – Но я уверен, что соглашение со Сфорца может состояться, так как и они должны желать оставить за собой милость святого отца и упрочить нашу дружбу. – Надо подумать, что предпринять, – заметил Джироламо, быстро поднимаясь. Его лицо приняло совсем равнодушное выражение. Он небрежно протянул руку Торнабуони, и тот почтительно проводил его до двери. В приемной им встретился молодой человек, не более двадцати лет, в богатом, плотно прилегавшем камзоле, по моде того времени, со шпагой и коротким кинжалом у золотого парчового пояса. У него была удивительно благородная и симпатичная наружность. Лицо с тонкими, правильными чертами, какие встречаются на старинных портретах, выражало волю и решимость, соединенные с обаянием юности. Темные глаза смотрели удивленно и вопросительно, а мечтательное выражение придавало им особую прелесть. Густые черные волосы волнами лежали на плечах. Он низко поклонился, а Торнабуони сказал: – Ваше сиятельство, позвольте мне представить вам моего племянника Козимо Ручеллаи. Он приехал ко мне, чтобы немного ознакомиться с ведением дел. Прошу не отказать ему в вашем милостивом благоволении. – А! Ручеллаи, – сказал граф. – Имя мне знакомо, и хорошо звучит. Ваша мать Наннина Медичи? – Совершенно верно, – ответил молодой человек. – Ваше сиятельство очень добры, что сохранили доброе воспоминание о моей семье. – Как же иначе, – заметил граф и прибавил с оттенком горечи: – Медичи уже давно мои друзья и преданные слуги папского престола… Я буду очень рад, синьор Ручеллаи, если смогу быть вам полезен. Он протянул молодому человеку руку, которую тот почтительно пожал, и быстро направился к выходу. Торнабуони проводил его до вестибюля. А Козимо вышел с графом на улицу, подал ему стремя, и граф, кивнув головой, медленно поехал по направлению к мосту. – Проклятые торгаши, – ворчал он про себя, – и подлые лицемеры! К ним золото льется из всех стран Европы, они казначеи папского престола и нигде не могут набрать жалкую сумму в тридцать тысяч флоринов! Это ложь, наглая ложь, низкая измена… А может быть, и Сфорца с ними заодно, они всегда вместе старались умалить нашу власть… Может быть, они раскаиваются в продаже Имолы и прячутся за спину этого лицемера Лоренцо, чтобы дело не состоялось. Уж поплатятся они мне за это нахальство, как только представится случай! Яркий свет факелов показался впереди. Джироламо увидел, почти у головы своей лошади, молодого человека лет двадцати пяти, в богатой одежде, в накинутом на плечи меховом плаще. Сняв берет, тот низко кланялся, а его слуги почтительно отступили. Когда молодой человек поднял голову, Джироламо сразу узнал его смуглое лицо с гордо и смело блестевшими глазами. Торжествующая улыбка мелькнула на губах графа, точно ему внезапно пришла счастливая мысль. Он остановил лошадь, протянул руку молодому человеку и любезно сказал: – Это вы, синьор Франческо Пацци, и пешком в такую пору? Можно подумать, что вы идете на любовное свидание, если бы только не факелы, при свете которых вас каждый узнает. Молодой человек слегка покраснел от шутки графа. – Мне идти недалеко, и не стоит садиться на лошадь. – А, значит, вы идете к вашему дорогому родственнику Торнабуони, у которого такие музыкальные вечера, что о них говорит весь Рим. Я слышал также, что у него в доме есть магнит, очень притягательный для молодого человека. Ведь там гостит маркиза Маляспини Фосдинуово со своей дочерью Джованной, которая, говорят, чудо красоты. – Я действительно направляюсь к Торнабуони, – поспешно сказал Франческо Пацци. – Что касается моего родства с ним, то оно весьма отдаленное, я не придаю ему никакого значения. – Вам это и не нужно! Пацци были уже древней, знаменитой фамилией, когда Медичи еще ничего из себя не представляли… Как хорошо, что я вас встретил, мне бы хотелось с вами поговорить. – Я к вашим услугам, ваше сиятельство, – сказал Франческе – Наш дом в нескольких шагах отсюда, если пожелаете оказать мне честь вашим посещением, или, если прикажете, я провожу вас до вашего дворца. – Нет-нет, я не хочу отвлекать вас от прелестной Джованны, но когда там гости разойдутся, вы очень обрадуете меня, если зайдете ко мне. Я буду вас ждать, хотя бы это было и очень поздно. – Вы очень милостивы, ваше сиятельство, я не премину зайти. И Франческо продолжил свой путь ко дворцу Медичи в сопровождении своих слуг. Торнабуони в раздумье вернулся в свой кабинет. «Это опасная игра, – думал он, пряча корреспонденцию в письменный стол, – папа уже недоволен, что его желания встречают сопротивление во Флоренции. А твердо рассчитывать на Венецию и Милан мы не можем, так как, несмотря на их дружеские заверения, они с завистью смотрят на нас. Я сознаю, как и Лоренцо, что нас хотят окрутить цепью, которую можно будет затянуть по первому знаку из Рима, причем Имола будет главным звеном этой цепи. Но, тем не менее, рискованно раздражать папу отказом предоставить ему эти тридцать тысяч золотых флоринов, так как он отлично знает, что мы можем их достать, и даже вправе требовать от нас этой услуги… И помешаем ли мы покупке Имолы? Может быть, Сфорца все же рассрочат платеж, а Джироламо в своем озлоблении будет еще более опасным соседом для Флорентийской республики… Я боюсь, что Лоренцо по горячности молодости слишком надеется на свое влияние, а было бы лучше, пожалуй, действовать осторожно и попробовать восстановить дружбу с папой, а потом разумно и мерно укреплять независимость Флоренции, чем рисковать ею в борьбе. Завтра я опять попрошу графа дать нам срок и предостерегу Лоренцо…» Это решение успокоило Торнабуони: оно представляло собой золотую середину, что вполне соответствовало его рассудительному характеру. Лицо его приняло обычное приветливое выражение, он запер стол и шкафы и поднялся по лестнице, чтобы провести вечер, как всегда, в кругу семьи и друзей. Жилые помещения находились в так называемой меццании – небольшом этаже между нижним и бельэтажем. Но и тут, в простых покоях семьи видна была роскошь солидная и изящная, выделявшаяся даже среди блеска тогдашнего Рима. Широкие коридоры были ярко освещены восковыми факелами, и многочисленные лакеи стояли, отворяя двери и провожая посетителей. Драгоценные ковры лежали на мозаичных полах; картины лучших мастеров, старинные вазы и скульптуры украшали стены, покрытые мрамором или художественной деревянной резьбой; восковые свечи в хрустальных люстрах и канделябрах ярко освещали комнаты, а в каминах горели дрова из душистых хвойных деревьев, распространяя приятное тепло. Торнабуони прошел несколько комнат и вошел в круглый зал, где собралось человек пятнадцать гостей, которые оживленно беседовали, разбившись на несколько групп. Рядом с женой Торнабуони Маддаленой на широком диване сидела маркиза де Маляспини, и с ними разговаривал, сидя в золоченом кресле, Наполеоне Орсини, брат жены Лоренцо Медичи, человек лет тридцати пяти, удивительно аристократической внешности, с тонким, умным лицом, соединявший в себе все свойства вполне светского человека с достоинством духовного сана. На стуле рядом с маркизой сидела ее семнадцатилетняя дочь Джованна, нежное, прелестное создание с темно-голубыми глазами, только что пробудившимися к жизни; ее густые волосы имели тот золотисто-белокурый оттенок, который так высоко ценится в Италии и мастерски изображен на картинах Тициана. На ней было белое шелковое платье, шитое золотом и отделанное драгоценными кружевами, а вместо бриллиантов ее украшали только живые цветы. Кардинал Наполеоне был, конечно, прав, говоря, что Джованну создали ангелы на утренней заре из солнечного света и аромата цветов. На низенькой скамеечке у ее ног поместился Козимо Ручеллаи, который, проводив графа Джироламо, пришел сюда раньше своего дяди Торнабуони. Молодые люди не разговаривали, а внимательно и почтительно слушали остроумную, веселую болтовню кардинала, который умел смешить серьезную донну Маддалену и гордую маркизу своими смелыми шутками. Можно было подумать, что Козимо и Джованне совсем нечего сказать друг другу, но это было не так, и внимательный наблюдатель заметил бы все. Джованна чувствовала устремленный на нее взгляд Козимо, краснела, сама взглядывала мельком на него и быстро отворачивалась, краснея еще сильнее, но с выражением радости в глазах. Остальные гости сидели или стояли в зале, разделясь на группы. Тут были главным образом молодые музыканты, живописцы, скульпторы и между ними высокообразованный знаток всех искусств, посланник Флорентийской республики Донато Аччауоли; он умел разыскивать молодые таланты и оказывать им широкую поддержку. Торнабуони галантно приветствовал маркизу и ее дочь, которые приехали погостить к нему, чтобы познакомиться с римским обществом, почтительно пожал руку кардиналу и отошел к другим гостям. Вскоре в зал вошел Франческо Пацци с букетом свежих роз. Он сейчас же увидел Джованну и Козимо. Торнабуони пошел к нему навстречу, вежливо поклонился и сказал: – Меня очень радует, синьор Франческо, что вы и сегодня вспомнили нас. Флорентийцы должны быть близки и за пределами родины, особенно когда их семьи связаны родством и дружбой. Франческо ответил только низким поклоном и поспешил раскланяться с дамами и кардиналом. – Я нашел у нас в оранжереях розы, большую редкость в это время года, и они исполнят свое назначение, если маркиза Джованна будет так милостива принять их в знак моего восторга и поклонения; жаль только, что они утратят всю свою прелесть в сравнении с ее красотой. И Франческо с глубоким поклоном подал Джованне букет, перевязанный широкой золотой лентой. Она покраснела, наклонилась понюхать цветы и сказала несколько слов благодарности, тогда как Козимо побледнел. – Если эти прелестные розы не могут соперничать с красотой нашей милой маркизы, то они еще меньше напоминают ее своими сердитыми шипами, – с улыбкой заметил кардинал и продолжил, взглянув на обоих мужчин: – Положим, у красавиц есть тоже шипы, но они не опасны тому, кому красавицы дарят свою благосклонность, а роза колет каждого. Джованна еще гуще покраснела и невольно посмотрела на Козимо особенно лучистым взглядом, который не укрылся от Франческо, и его резкое слово уже готово было сорваться с языка, но Торнабуони подошел к маркизе и попросил позволения молодому певцу спеть им же написанный романс. Молодой музыкант, впервые привезенный Аччауоли в это общество, куда стремились попасть все римские художники, вышел на середину зала и запел, аккомпанируя себе на мандолине. Это была песнь любви в романтично-меланхоличном духе того времени, с высокопарными выражениями восторга, поклонения и с трогательными жалобами на жестокосердие возлюбленной. Мелодия была нежная, задушевная, голос у певца прекрасный, и аккомпанировал он себе мастерски. Все слушали с напряженным вниманием. Так как Козимо не уступал своего места около Джованны, то Франческо Пацци присоединился к остальным слушателям, но не сводил мрачного взгляда с молодых людей. – Как чудно и как правдиво! – шептал Козимо на ухо Джованне, наклонившейся к нему. – Бедный певец жалуется, что дама его сердца отказывает ему в любезности, в которой не отказывают даже другу. Она не дает ему цветок, о котором он молит, чтобы вспоминать в разлуке ее прелесть и красоту… Ведь цветок можно подарить другу, не правда ли, синьорина Джованна? Бедный певец имеет право жаловаться и вздыхать? Она кивнула головой и вопросительно посмотрела на него. – Синьорина Джованна, – продолжал он, – вы не были бы так же жестоки, если бы я попросил у вас цветок? Я не сумел бы так прекрасно плакать, как этот певец сейчас, но тем сильнее было бы мое горе. Она опять посмотрела на него, слегка покраснела и, выдернув розу из букета, положила ее в протянутую руку Козимо. В эту минуту стул, на спинку которого опирался Франческо, резко стукнул по мозаичному полу, и все оглянулись, но, вероятно, это была случайность, так как Франческо стоял неподвижно, опираясь на стул и упорно глядя на певца, только лицо его стало мрачнее, вероятно под влиянием захватившей его музыки. Козимо не обратил на это внимания, взял цветок, поднес к губам и спрятал на груди. – О, благодарю вас, Джованна, благодарю! Теперь мне хочется закричать от радости в ответ на эту печальную мелодию. Вы позволили мне называться вашим другом… Джованна казалась совсем погруженной в музыку, щеки ее горели, глаза блестели. И певец, глядя на нее, должен был радоваться впечатлению, произведенному его исполнением. Никто не знал, что Козимо держит ее руку, и он один чувствовал иногда легкое ответное пожатие. Но Франческо Пацци все это видел. Когда пение окончилось, кардинал первым шумно зааплодировал, а все последовали его примеру. Козимо подошел высказать свою благодарность за музыку. Франческо Пацци холодно и серьезно разговаривал с мужчинами. Когда лакеи распахнули двери в столовую, он подошел к Торнабуони и выразил сожаление, что неотложные дела лишают его возможности остаться на ужин. Он простился с дамами и поспешно удалился, а общество направилось к столу, убранному дорогим серебром и живыми цветами. Кардинал и Аччауоли предложили руку пожилым дамам. Торнабуони сел против них, остальные гости разместились по собственному выбору и желанию; Козимо Ручеллаи, как близкий родственник хозяина дома, сел рядом с Джованной. По обычаю дома Медичи, стол был проще, чем можно было ожидать по роскошной сервировке. Немногочисленные блюда состояли из дичи, прекрасных овощей и чудных фруктов. Вина были безукоризненны, так что даже понимающий и избалованный кардинал Наполеоне не мог возразить и своей веселостью и остроумием способствовал все большему оживлению общества. Но самым счастливым из всех был все-таки Козимо, и ему не нужно было никаких вин для подъема настроения. Он оживленно разговаривал с Джованной; среди общего говора никто не мог их слышать, даже если бы они не говорили вполголоса, но, верно, они говорили о чем-то радостном и веселом, так как глаза Джованны блестели под шелковистыми ресницами, и она часто краснела со счастливым выражением лица. Кардинал Наполеоне иногда с улыбкой поглядывал на них, обращаясь с шуткой, и его особенно радовало, как они точно пробуждаются ото сна и отвечают ему часто совсем невпопад. По окончании ужина кардинал простился и шепнул несколько слов Джованне, от которых прелестная девушка густо покраснела, а Козимо, проводившему его до стоявшего у ворот паланкина, он сказал: – Желаю вам счастья, мой молодой друг! – Счастья? – удивился Козимо. – А почему, смею спросить, ваше высокопреосвященство? – Это вам лучше знать, – смеясь, возразил кардинал. – Я хороший физиономист и вижу, что у вас сегодня произошло счастливое событие. Я не могу проникнуть в тайны сердца и не хочу быть любопытным или нескромным, но советую вам крепко держать это счастье и заботливо ухаживать за цветком, который оно дает вам в руки. Ведь фортуна капризна и улыбается только смелой отваге, особенно когда она в заговоре с шаловливым сыном Афродиты. Он еще раз поклонился, и паланкин тронулся, а Козимо побежал по лестнице, мимо других гостей, чтобы успеть проводить маркизу и ее дочь на верхний этаж дворца. Осчастливленный теплым рукопожатием Джованны, он вернулся в кабинет, но застал Торнабуони одного, задумчиво сидящего в кресле. – Будь готов ехать завтра во Флоренцию, Козимо, – сказал Торнабуони. – Надо отвезти важное и срочное письмо Лоренцо. Я сообщу тебе его содержание и дам еще словесные разъяснения. Письмо серьезное, и я не хотел бы доверять его чужому человеку, а ты как можно скорее привезешь мне ответ Лоренцо. Во всякое другое время Козимо был бы польщен доверием своего осторожного дяди, но теперь он был ошеломлен и нерешительно опустил глаза. – Тебя пугаетпутешествие? – с удивлением и даже упреком спросил Торнабуони. – Оно не весело в это время года, это верно, но в твои лета трудности не должны быть для тебя препятствием. Козимо стоял молча, но, вспомнив слова кардинала, быстро решился, смело и прямо глядя в глаза Торнабуони, высказать все: – О, не в этом дело, дядя! Мне грустно показалось уезжать именно теперь, когда я получил надежду на счастье… Я люблю в первый и, конечно, единственный раз в моей жизни и хотел просить, дядя, твоего содействия и посредничества в моей любви. – Кого же ты любишь? – с улыбкой спросил Торнабуони. – Насколько я знаю, ты еще недавно здесь и видел мало дам, разве что… – Я видел только одну Джованну Маляспини, и никакой другой не будет в моем сердце! – горячо воскликнул Козимо. – А она? – О, я едва могу поверить моему счастью! Я только сегодня узнал, что она разделяет мою любовь. Она, правда, аристократка… Ее отец маркиз де Фосдинуово очень гордится своим именем и своим родом, но я все-таки дерзаю надеяться на счастье, если ты, дядя, согласишься поговорить за меня. – Отчего же нет? Мы не графы и не князья, но смело можем стать в один ряд с первыми фамилиями Италии. Если гордые Орсини не задумываясь породнились с нашим двоюродным братом Медичи, но и Ручеллаи может смело просить руки маркизы Маляспини. – И кардинал Наполеоне подкрепил мою надежду некоторыми шутками, которые я не могу не понять. У него зоркий глаз, и он, наверное, проник в тайну моего сердца, но ты понимаешь, дядя, что мне грустно уезжать из Рима именно теперь, как ни радостно я всегда исполняю мои обязанности. – Ну, поезжай спокойно, – отвечал Торнабуони. – Джованна скажет тебе ласковое слово на прощание, а я обещаю тебе заняться твоим делом. И для этого тоже твое путешествие необходимо – поговори с Лоренцо. Мы должны смотреть на него как на главу нашего дома, и если он согласится, то ничто не будет препятствовать твоему счастью. Я думаю, что он не воспротивится твоему выбору. Он сам желал, чтобы маркиза гостила у меня в доме, а Габриэль Маляспини, отец Джованны, один из наших лучших друзей. Итак, будь готов. Я дам тебе письмо и словесные указания, которые тебе придется твердо запомнить. – Благодарю тебя, дядя, тогда я поеду со спокойным сердцем хоть через Альпы. Он горячо обнял Торнабуони, а придя к себе, поставил в воду розу Джованны, предварительно осыпав ее поцелуями.
Глава 2
Франческо Пацци почти бежал, сопровождаемый своими слугами с факелами. Холодный, даже резкий воздух не мог освежить его, и он тяжело, порывисто дышал. – Жалкий мальчишка! – ворчал он, едва сдерживая свою злобу при слугах. – Молоко не обсохло на губах, а он смеет мне становиться поперек дороги! А эта Джованна, первая из всех красавиц, дочь гордого Габриэля Маляспини, отворачивается от меня и отдает этому молокососу одну из роз, которые я преподнес ей как знак моей любви. Если бы не смешно мне было соперничать с этим Козимо, как там они его зовут, я уж проколол бы его влюбленное сердце. Все, что связано с этими из грязи вылезшими Медичи, является проклятием для нас, Пацци, и всех древних родов Флоренции, которые уже сражались рыцарями, когда Медичи сидели еще в своих лавчонках. Чернь дала им могущество над нами, и этот Ручеллаи осмеливается даже красть у меня мою любовь. Он сжал рукоятку шпаги и так бежал, что слуги едва поспевали за ним. Перейдя мост, он у церкви Сан-Анжело повернул налево и на углу Виа де-Лонгара, около собора святого Петра, остановился у дворца графа Джироламо Риарио, построенного в виде виллы, с большим садом, спускавшимся к Тибру. Двор и окна дворца были ярко освещены, в вестибюле толпились многочисленные слуги, и Франческо тотчас же провели по мраморной лестнице в покои графа. Вся обстановка свидетельствовала о расточительной роскоши, но ей не хватало благородной простоты дома Торнабуани, хотя и тут виден был вкус и художественное понимание, что было обычным в то время в Риме. Картины знаменитых художников украшали стены, и золоченые рамы сами по себе представляли произведения искусства. Громадное количество восковых свечей горело в люстрах и канделябрах, и все комнаты были овеяны нежным запахом благовоний. В маленькой комнате за круглым столом сидели граф и двое гостей. Ужин был окончен, и посуда убрана, стояли только золотые корзины с великолепными фруктами и разнообразным десертом и граненые графины с изысканными винами. У всех были высокие бокалы с гербом графа. Один из гостей был архиепископ Пизы Франческо Сальвиати, высокий, худощавый мужчина лет тридцати пяти, с бледным лицом, выражавшим больше хитрости и лукавства, чем настоящего ума, с маленькими черными глазами под черными, резко очерченными бровями. Черные волосы его были расчесаны на пробор, а фиолетовая сутана, осыпанный бриллиантами крест на золотой цепочке и белые холеные руки придавали ему аристократическую внешность прелатов того времени, которые почти так же щеголяли роскошью своей одежды, как и модницы высшего света. Рядом с ним сидел высокий мужчина атлетического сложения, в котором можно было сразу узнать солдата по ремеслу, живущего исключительно войной. Такие, как он, продавали свои услуги за высокое вознаграждение то тому, то другому, при бесчисленных распрях больших и мелких провинций, и для этого набирали людей, которые охотнее стекались к тем, у кого громче была слава кондотьера и у кого большая добыча имелась в виду. На нем был серый шерстяной камзол, обшитый красным шелком, большая шпага держалась на крепкой кожаной перевязи. Темные курчавые волосы его были коротко острижены, загорелое лицо с острой бородкой выражало решимость и добродушие. Граф Джироламо пошел навстречу Франческо и подвел его к приготовленному креслу. – Как любезно, что вы сдержали свое слово, синьор Франческо. Вы пришли еще раньше, чем я ожидал, но как раз вовремя, так как мы обсуждали такое дело, где ваше мнение и совет весьма важны. Позвольте вам представить синьора Джованни Баттиста де Монтесекко, предоставившего в мое распоряжение свой победоносный меч. Франческо поздоровался с архиепископом, которого знал давно, так как был из родственной ему флорентийской семьи, холодно-вежливо поклонился Монтесекко и изъявил графу полную готовность служить ему делом и советом, что он считает своей обязанностью относительно племянника его святейшества. – Хотя, – добавил он, – святой отец не очень милостиво относится к дому Пацци, так как избрал себе в казначеи Медичи, право ничем не превосходящих нас. – Мой высокочтимый дядя сделал это, предполагая, что Медичи окажутся достойными этой чести, – сказал Джироламо, – и потому, что поверил словесным и письменным заверениям преданности, постоянно повторяемым Лоренцо. Но, к сожалению, святой отец ошибся, и Медичи не оправдали доверия. – В чем же именно? – насторожившись, спросил Франческо. – Можете себе представить, синьор Франческо, – воскликнул Джироламо, – этот лживый Торнабуони объявил мне, что банк Медичи не в состоянии достать тридцать тысяч золотых флоринов, которые нужны святому отцу для уплаты за Имолу. Мой щедрый дядя дарит мне это владение, а я уверен, что у самого Лоренцо лежит в кладовых больше этой суммы. Злорадство блеснуло в глазах Франческо. – Неужели Медичи осмелились? Но если у них не хватает собственных средств, отчего они не обратились к другим? – Они уверяют, что обращались, – прервал Джироламо, – но ни Альтовини, ни Чита, ни другие банки не смогли помочь им. – Неправда! – вскричал Франческо. – А если даже эти банки отказались, то только в угоду Медичи, которых считают своим провидением. – Так вы думаете, что Медичи забыли свои обязанности, отказывая в этой услуге святому отцу и мешая другим оказать ее? – В этом я уверен. Самое лучшее доказательство в том, что они не обращались ко мне. – Какая же на это причина? – с любопытством вмешался архиепископ. – Ведь это оскорбление святому отцу, измена папскому престолу, казначеями которого они состоят. – Какая причина? На это легко ответить. Разве не известно и не видно по всему, что этот Лоренцо хотел бы управлять всей Италией, как он и свой родной город подчинил невыносимому деспотизму? Лоренцо хочет даже святому отцу дать почувствовать зависимость от его воли и доказать, что папа ничего не может сделать без согласия Лоренцо. В данном случае особенно видно его недоброжелательство: он и его близкие только и стремятся завладеть Романьей или окончательно подчинить ее Флоренции, то есть дому Медичи, который хочет создать для себя, путем демократической тирании, большое тосканское герцогство. Поэтому ему нежелательно, чтобы вы, граф, прочно обосновались на границе, и он надеется помешать приобретению Имолы, не предоставив нужную для покупки сумму. Это все ясно, и мы это поняли давно. Мы, древние аристократические фамилии Флоренции, хитрой демагогией Медичи отстраненные от всякого влияния, мы думаем иначе: мы были бы рады иметь на границах сильных союзников для ограждения права от черни, возвеличивающей Медичи, а тем более, если бы папский престол через преданных своих приверженцев, как вы, граф, приобрел бы там влияние, всегда и везде ограждающее право и не допускающее демократической тирании. – Почтенный Франческо, безусловно, прав, – заметил архиепископ, – только личное честолюбие Лоренцо стремится обратить Романью в вассальскую провинцию Флоренции и устранить влияние и власть святого отца за пределы своего владычества. Ведь он осмелился же воспротивиться моему назначению в Пизу, хотя я сам родом из Флоренции, и только с трудом удалось склонить его дать согласие на занятие мною этого места. – И то только тогда, когда я дал этому заносчивому Лоренцо письменное заверение, что святой отец, назначая вас, ваше преосвященство, не имел намерения обидеть ни Флорентийскую республику, ни дом Медичи! – горячо воскликнул Джироламо, стукнув кулаком по столу. – Подобное заверение – унижение для папского престола, – сказал Франческо Пацци. – Против таких требований Медичи должны восстать все истинно преданные ему. Как смеет Лоренцо Медичи препятствовать занять архиепископство, дарованное святым отцом? Очень грустно, что святой отец счел нужным, по мудрости своей, молча перенести такую непокорность, так как гордости Медичи теперь не будет предела, и всякая попытка восстановить влияние папского престола в Умбрии и Романье будет разбиваться об это честолюбие. – Да, но как сломить честолюбие человека, поддерживаемого народом? – вскричал Джироламо. – Прежде всего, надо убедить святого отца, что он ошибся в своем доверии, что Медичи обманывают его своими заверениями преданности и оказываются злейшими врагами папского престола, а следовательно мира и согласия в Италии и ее могущества. – Это трудно доказать, – заметил архиепископ, – так как его святейшеству нелегко поверить в такую лживость и испорченность. Если бы можно было доказать, что Медичи в деле приобретения Имолы обманули его и только отговорились неимением денег, чтобы не допустить в Романью графа Джироламо, а следовательно, и папское влияние… – Это доказательство я могу доставить, ваше преосвященство! – заявил Франческо Пацци. – Медичи уверяли, что не могли найти эту сумму даже при содействии других банков. Так она будет, эта сумма! Через неделю я предоставлю в распоряжение его святейшества тридцать тысяч золотых флоринов, а что дом Пацци может сделать один, то, конечно, могли бы сделать и Медичи, тем более при содействии своих союзных банков. – Вот это действительно будет доказательство! – вскричал Джироламо. – Если вы это исполните, благородный Франческо, то моя дружба и благодарность обеспечены вам навсегда, а его святейшеству придётся убедиться в лицемерии всех Медичи. – Я это исполню, граф, – подтвердил Франческо, – мое слово дано, а Пацци никогда не изменяли своему слову. Можете располагать этими тридцатью тысячами золотых флоринов, наш банк выплатит их по вашему указанию. Джироламо вскочил, пожал руку Франческо и обнял его. – Вы именно такой человек, какие нужны Италии, чтобы она могла в тесном согласии, под охраной и руководством папского престола, крепнуть и повелевать миром. Будьте свидетелями, досточтимый архиепископ и вы, храбрый Монтесекко, что я даю слово исполнить всякое желание благородного Франческо, насколько хватит моих собственных сил и моего ходатайства перед святым отцом. – Я искренне радуюсь благородству чувств моего молодого друга и земляка, которое наследственно передается в семье Пацци, – сказал архиепископ, пока Джироламо наполнял бокалы и чокался с Франческо. – Тем печальнее, что этот знаменитый род так стеснен в своем положении, а хитрый и вероломный Лоренцо неограниченно управляет прекрасной Флоренцией, только носящей название республики. – Что делать! – со вздохом сказал Франческо. – Чернь слепо повинуется Лоренцо, который льстит ей, как это делали и тираны в древности. – Неужели же тут бессильны старинные, именитые фамилии, Богом и историей призванные управлять страной? – воскликнул Джироламо. – Если бы они захотели, они могли бы свергнуть такое незаконное владычество! – Могли бы, конечно, – заметил архиепископ, – если бы у них хватило мужества и воли. – Это мужество существует хотя бы в роде Пацци, – горячо вскричал Франческо. – Никто из нас не отступит, к нам присоединятся многие, невольно терпящие сейчас иго выскочки! Мы не забыли, что Паццо де Пацци совершил крестовый поход в Иерусалим с Готфрицем Бульонским, а Джакопо Пацци в сражении близ Перти нес знамя Флоренции! В гербе нашем золотые рыбы служат символом христианства, а четыре креста означают, что в святом кресте вся наша сила и честь. А что такое Медичи? Откуда они взялись? Никто этого не знает, хотя лесть приписывает особую родовитость гербу на их щите, наверно не участвовавшему в крестовых походах. Они сами придают какое-то аллегорическое значение этим шести шарам, а в сущности это просто пилюли и банки, что совершенно соответствует их фамилии, завещанной им давно забытым библейским предком. Глупый народ, когда приветствует их, видя этот странный герб своих кумиров, и кричит «Палле! Палле!» – не понимает, какая злая ирония кроется в этих кликах: они действительно дают народу золоченые пилюли, которые отравляют его и убивают мужество и любовь к родине. А банками они вытягивают из народа кровь для поддержания своего величия и одуряют его зрелищами и празднествами. – Браво, браво, синьор Франческо! – с ядовитым смехом воскликнул Джироламо. – Это прелестно, и в таком смысле я первый охотно буду кричать Лоренцо: «Палле! Палле!» – Мы имеем право так думать и чувствовать, с нами многие другие, оттесненные выскочкой, в том числе и дом высокоуважаемого архиепископа Сальвиати. Но что поделаешь с чернью, которая забывает благородное прошлое и своим неистовым ревом «Палле! Палле!» заглушает всякое истинное, справедливое слово? – Ваши слова – чистое золото, благородный Франческо, – возразил архиепископ, – но последнее заключение все-таки неверно: безумная чернь неистово приветствовала Цезаря, но не смогла помешать сильной воле и мужеству других сломить тиранию. При этом на знаменах Цезаря были победоносные орлы, а не банки и пилюли. Толпа идет за смелым и быстро забывает кумиров минуты. – Почтенный архиепископ прав, – согласился Джироламо. – Зачем терпят тиранию этого позорного правителя, зачем древние роды подчиняются выскочкам? Решительный шаг – и Флоренция освобождена от своих навязанных правителей, и Италия перестанет быть игрушкой в руках преступного честолюбия, которое осмеливается противиться даже папской власти. В народе многие кричат, ничего не понимая, и, может быть, еще охотнее приветствовали бы другого, более достойного. – Это верно, – заметил архиепископ и прибавил со вздохом: – Но где найдутся люди, которые бы решились произнести приговор над тираном Флоренции и исполнить его, как это сделал когда-то Брут с властителем мира? – Такие люди найдутся, – сказал Франческо, сидевший некоторое время в раздумье и быстро вскакивая. – Они есть, я сам готов возбудить их на смелое дело, если вы говорите серьезно, господа! Но план надо обдумать всесторонне и прежде всего, хранить строжайшую тайну, так как Лоренцо умеет расслышать и шепот. Он недоверчиво посмотрел на Монтесекко, который до сих пор молча слушал разговор. – Конечно, я говорю серьезно, – сказал Джироламо, – если соглашаюсь с почтенным архиепископом и готов всеми силами поддержать дело, угодное самому Богу! Пока длится власть Медичи, мои владения не будут в безопасности, и сама чудная Флоренция, жемчужина Италии, будет вечным камнем преткновения для всех патриотов, которые хотели бы сплотиться под руководством святого отца для процветания и могущества родины. Благородный Франческо, в присутствии этого воина, храброго Баттиста Монтесекко, вы можете говорить не стесняясь: он предан его святейшеству, а брат его – полковник стражи Ватиканского дворца; сам же он не раз уже командовал папским войском, как будет командовать теперь моим, – значит, будем говорить свободно и поклянемся друг другу хранить тайну, и такую же клятву должны дать и другие, которые будут привлечены впоследствии к нашему делу. – Вы можете на меня положиться, благородные синьоры, – сказал Монтесекко, – я еще никогда не выдавал доверенной мне тайны и не сделаю этого теперь, когда дело идет об упрочении и расширении власти святого отца. И он продолжал, держась рукой за крестообразную рукоятку шпаги: – Клянусь никому на свете не проронить ни слова о том, что слышал здесь и еще услышу впоследствии. Но, господа, обдумайте хорошенько и помните, что вы затеваете нелегкое дело. Флоренция не такой город, как другие, народ там не такой трусливый и равнодушный, как в Риме, и если его раздражить, он будет опасен, как лев в ярости. Я бывал там не раз; у Лоренцо масса приверженцев и огромное влияние на народ и зажиточных граждан; если план не удастся, то будет хуже прежнего и Лоренцо станет неограниченным повелителем. – Поэтому он должен удасться, – вскричал Франческо. – Медичи должны быть низвергнуты навсегда, если мы хотим водворить во Флоренции закон и справедливость. Ведь они добились в прошлом году изменения древнего закона о наследии только потому, что Лоренцо хотел отнять у нас громадное наследство флорентийской линии рода Барромео… Такой произвол не должен иметь места, и я могу вас заверить, что он очень тяжело отзывается на многих. Оба Медичи, Лоренцо и Джулиано, должны погибнуть; перед их трупами смолкнет пресловутое «Палле! Палле» – и совершившийся факт встретит вскоре радостное сочувствие. Сальвиати и Пацци одни уже имеют достаточное влияние, чтобы при совместном усилии подействовать на половину населения, а когда Медичи падут, наши друзья вступят в свои права и враги смолкнут. Из предосторожности надо держать войско наготове у границ, чтобы оно могло немедленно, по завершении событий занять город и подавить всякое противодействие. – Об этом позаботится храбрый капитан, – сказал Джироламо, – он может сколько угодно набрать войска на мой счет и вести его из моих владений к флорентийской границе, так что, предупрежденный о моменте свершения дела, он уже будет на месте, займет общественные здания и очистит улицы от толпы. – Тогда все хорошо, – воскликнул Франческо. – За выполнение дела я ручаюсь и уверен во всех членах нашей семьи. Даже Гульельмо не будет противиться, хотя он женат на сестре Лоренцо. Конечно, ему не надо говорить, что это касается жизни Медичи, но мы, господа, не можем себя обманывать и должны знать, что только смерть обоих братьев избавит Флоренцию от ига тирании. – Разве не довольно одного Лоренцо? – спросил Джироламо. – Он один всем управляет и противится папскому престолу. Его брат Джулиано веселый, жизнерадостный человек, он мало думает о власти и хлопот нам не доставит. – Нет, граф, оба брата должны погибнуть, – с особенным ударением сказал Франческо. – Я знаю, что Джулиано менее опасен, чем Лоренцо, но если хоть один из них останется в живых, у их друзей будет надежда и центр, около которого можно группироваться, и когда чернь увидит хоть какого-нибудь Медичи, ее трудно будет обуздать. По, крайней мере, это вызовет жестокую борьбу и беспорядки в городе. Лучше пожертвовать одним человеком, хотя и менее виновным, для блага отечества, чем проливать кровь невинных и только ослепленных людей. – По-моему, Франческо Пацци прав, – заметил архиепископ. – Я, конечно, хотел бы ограничить кровавую жертву святого и правого дела одним виновным, но, во всяком случае, для достижения цели жизнь одного человека не стоит крови тысяч людей. Когда оба брата исчезнут, народ не решится сопротивляться, и тогда легко будет немедленно после этого события восстановить прежние законы и возвратить древним фамилиям их попранные права, если войско капитана займет при этом город. – Пусть будет так, – согласился Джироламо. – Уж конечно, не мне заступаться за Медичи, когда его приговаривают к смерти его собственные соотечественники. Итак, будьте готовы, Джованни Баггиста, и набирайте как можно больше войска в Романье, что вполне естественно объясняется приобретением мною Имолы, теперь это уже не подлежит сомнению благодаря любезности дома Пацци. – А я, господа, как только здесь устрою дела, поеду во Флоренцию, чтобы там все подготовить, – сказал Франческо. – Я считаю очень важным, чтобы почтенный архиепископ тоже приехал туда поддержать своим влиянием колеблющихся. Ведь всем очень понятно, что его преосвященство, которому Лоренцо, наконец, милостиво разрешил занять назначенное ему место, посетит свой родной город. Он лучше всех сумеет выработать план и решить, что должно произойти после окончательного события. Придется также арестовать известных приверженцев Медичи – Содерини и Ручеллаи и изгнать их на первое время, чтобы оградить новый, или, вернее, древний, восстановленный строй от всякого сопротивления. – И с этим я согласен, – сказал архиепископ. – Я скоро еду во Флоренцию и так отвечу на лицемерные речи, которые Лоренцо, наверное, подготовил для меня, что он вполне поверит искреннему примирению. – Что касается меня, – сказал Монтесекко, все время задумчиво поглаживающий бороду, – то я готов служить вашему сиятельству. По данному приказанию я займу Флоренцию, а когда город будет в моих руках, сам черт меня оттуда не вытеснит, и с чернью я тоже справлюсь. Но в убийстве обоих братьев Медичи я участвовать не могу и очень рад, что это не предполагалось по намеченному плану. Я солдат и исполню свой долг относительно того, кому служу моим оружием; я охотно буду усмирять восстание и мятежную толпу для поддержания прав древних рыцарских фамилий, которые близки мне по душе и по происхождению, но я никогда не обнажу оружия для убийства беззащитного человека. – А если этот человек приговорен к смерти лучшими из своих сограждан? – спросил Джироламо, сдвигая брови. – Тоже нет! – вскричал капитан. – Ищите палача, где вам угодно, а Джованни де Монтесекко им не будет. – Капитан прав, – поспешил заявить архиепископ, пока Джироламо в гневе еще не успел выговорить резкое слово, – удалить обоих братьев – это дело самих флорентийцев. – И вы позаботитесь об этом, – сказал Франческо. – Вполне достаточно, если Монтесекко удержит народ от бурного вмешательства в порядок правления. – Еще вот что, господа, – заметил Монтесекко, – теперь, когда я знаю, к чему клонится все дело, я не могу действовать даже по приказанию графа Риарио, если это не будет одобрено его святейшеством. Без такого одобрения я не могу, и не буду участвовать в этом деле, даже если бы граф лишил меня за это сопротивление командования его войском. – Этого не будет, храбрый капитан, – заявил архиепископ. – Вы совершенно правы, не желая ничего предпринимать, что могло бы быть неприятно нашему святому отцу, которому мы все обязаны повиноваться. Вы можете не тревожиться, так как святой отец сильно гневается на Лоренцо, который не повинуется ему и ведет заговоры с врагами папского престола. Его святейшество искренне обрадуется, когда Медичи будут свергнуты, и высоко зачтет ваши услуги в этом деле. – Это верно? – спросил Монтесекко. – Святой отец это говорил? – Конечно! – воскликнул архиепископ. – Он не раз жаловался на Лоренцо и с трудом поборол свой гнев, когда тот осмелился не допустить меня в мое архиепископство в Пизе. – А не будет ли святой отец так милостив сам сообщить мне лично свою волю занять Флоренцию, с которой его святейшество в мирных отношениях? Простите меня, но речь идет о самых святых обязанностях, которые я признаю на земле, и мне совесть не позволит принять участие в таком важном и ответственном событии без личного приказания святого отца. – Его святейшество в мирных отношениях с Флоренцией, это совершенно верно, но против города и не предпринимается ничего, – возразил архиепископ. – Ваше войско должно, наоборот, охранять права достойных представителей республики и при необходимости укротить мятежную толпу. Джироламо нетерпеливо потирал руки. – Вы требуете согласия и личного приказания его святейшества? – прервал он архиепископа. – Хорошо, вы его получите. Приготовьтесь явиться перед святым отцом, он развеет ваши сомнения. – У меня нет сомнений, граф, они не пристали солдату, который должен повиноваться, а не рассуждать. Но приказание должно исходить от того, кому на это дано право Богом, чтобы солдат со спокойной совестью и мужеством исполнял свой долг. – Так и будет, – сказал Джироламо, прикрывая приветливостью свое недовольство сомнениями Монтесекко, – ваше желание исполнится в скором времени, а вы, благородный Франческо Пацци, тоже будьте готовы предстать перед его святейшеством. Я уверен, что папа, всегда справедливый и признательный, должным образом оценит вашу услугу, в которой ему отказали под надуманным предлогом его казначеи Медичи. Гордость засветилась в торжествующем взгляде Франческо, и он низко поклонился. – Итак, мы связаны благородным, патриотическим делом, в котором каждый из нас должен делать все возможное для его выполнения и оберегать тайну от врагов. Выпьем за успех! Он наполнил бокалы, и все осушили их до дна. После этого, архиепископ удалился в свои комнаты во дворце графа. Франческо тоже отправился со своими слугами. А Монтесекко пошел один в остерию, где остановился. «Ей Богу, – думал он, глядя в темное небо, – мне в тысячу раз приятнее было бы идти против французов или даже против самого черта, чем нападать на неукрепленный город, такой, как эта чудная Флоренция, и сажать одних на место других, когда я вполне равнодушен и к тем, и к другим. Но если это, как говорит граф, приказание его святейшества, то моя обязанность, как итальянца, дворянина и христианина, повиноваться и исполнять мой долг, а что из этого выйдет – мне безразлично и не мое дело. Все, что мы, солдаты, делаем для добывания нашим оружием всесильного золота, за все отвечают нанимающие нас господа, а если сам святой отец берет на себя ответственность, то мне остается только со спокойной совестью радоваться счастью, выпавшему на мою долю». Он прошел Пьяцца дель-Пополо и повернул к Монте Пинчио, где под тенью высоких деревьев находилась остерия. В одной половине довольно большого здания располагался ресторан, посещаемый молодыми учениками известных художников и ватиканскими телохранителями, а в другой – комнаты для приезжающих среднего сословия. Монтесекко миновал коридор, освещенный лампой, и отворил дверь в простую, но уютно обставленную комнату, к которой примыкала еще одна. Здесь тоже горела спускавшаяся с потолка лампа, которая освещала своеобразную живописную картину. На низком турецком диване лежал человек, которого можно было принять за юношу. Но, несмотря на высокие, до колен, сапоги и пояс с кинжалом, руки и плечи, видневшиеся под плащом, опушенным мехом, выдавали женские формы, и нетрудно было угадать, что под мужской одеждой скрывается молодая красивая женщина. Ее густые вьющиеся волосы были острижены и причесаны по-мужски; изящное загорелое лицо с темными глазами имело в эту минуту мягкое, грустное выражение, не свойственное юношам. В комнате было разбросано платье и оружие. На столе, под лампою, лежали фрукты, сыр, хлеб и стояли пузатая бутылка с длинным горлышком и блестящий металлический стакан. Монтесекко остановился на пороге, и его мрачное лицо прояснилось при виде столь милого зрелища. Молодая женщина при звуке шагов очнулась от забытья, вскочила и с радостным криком подбежала к нему, обняла, воскликнув: – Как долго ты пропадал, Баттиста! Мне жутко, я чувствую себя одинокой и заброшенной, когда тебя нет! Монтесекко нежно поцеловал ее и погладил ее локоны. – Какие глупости, Клодина! Что может случиться с тобой здесь, в доме? Ты не раз оставалась одна в поле, когда я водил свой отряд в опасные места. – О, это не страх, Баттиста, – вскричала она со сверкающими глазами, – я страха не знаю и даже просила всюду брать меня с собою, но мне так грустно, так одиноко без тебя! Ты единственный, кто у меня есть на свете, без тебя я так беспомощна в моем ложном виде и положении, так боюсь людских взглядов… одна, с моими мыслями, с моей совестью… – С твоей совестью, Клодина? – повторил Монтесекко, нежно обнимая ее. – К чему это? Ведь мы поклялись в верности друг другу перед алтарем, и если этого никто не слышал, то это знает Бог, и перед ним ты моя жена. Ты знаешь также, что я никогда не оставлю тебя, и через несколько лет, когда я заработаю оружием то, что нам нужно для скромного безбедного существования, ты будешь моей женой и перед людьми и превратишь своего дикого Монтесекко в мирного поселянина. – О, не в этом дело, Баттиста! Я верю тебе. И если я твоя жена перед Богом, то мне все равно, что думают люди. Но мысль, что я бросила родителей и последовала за тобой, что, может быть, их проклятие тяготеет надо мною и призовет на тебя гнев Божий… Эта мысль преследует меня, когда я одна, и пропадает только тогда, когда ты со мной. – Твои родители бесповоротно отказались благословить нашу любовь, – мрачно ответил Монтесекко. – Бог внушил нам эту любовь, разве они имели право ей противиться? Я честно обещал им любить тебя и устроить твою жизнь. Я ношу честное имя, я истинный христианин, хотя и солдат по призванию и ремеслу. Мне тяжело, что тебе пришлось бросить родителей из-за меня, но тем я выше тебя ставлю и тем священнее для меня наша клятва верности. Будет же услышана моя молитва, и твои родители нам дадут благословение, а если они даже призвали на нас проклятие, то, поверь, оно не дойдет до Бога милосердия и любви! Пока покоримся нашей участи, которую мы изменить не можем, будем бодро смотреть в будущее и еще сильнее любить друг друга. – О Баттиста, когда я слышу твой голос и смотрю тебе в глаза, тогда я забываю все, что мне, пожалуй, и не следовало бы забывать. Так, верно, и должно быть, я так люблю тебя. Но иногда меня гнетет неудержимое желание увидеть отца и мать, сестру Фиоретту, которая так любила меня. Я не знаю, живы ли родители, а если они умерли в эти годы, не простив меня… – Будь спокойна, моя дорогая, – перебил Монтесекко, целуя ее влажные глаза, – я надеюсь скоро принести тебе хорошее известие, а может быть, представится и возможность примирения. Граф Джироламо Риарио, племянник папы, поручил мне командование войском, которое он собирает в Имоле, и скоро мы туда отправимся. Мы будем недалеко от твоей родины, я справлюсь о твоих родителях и обещаю тебе все сделать для примирения. И граф Риарио, пользующийся милостью папы, не откажет мне в своем посредничестве, которое, может быть, поможет смягчить твоего отца. Клодина радостно улыбнулась, хотя слезы еще блестели на ее глазах. – Какой ты добрый, Баттиста! Я буду надеяться, верить в тебя и милость Божью. Я забуду свои тревоги и снова буду твоим веселым Беппо. Я буду только молиться, чтобы скорее настало время, когда ты бросишь оружие, и мы мирно доживем до старости и будем с радостью вспоминать былые заботы и волнения. Клодина совсем преобразилась, грустное выражение лица исчезло, глаза заблестели, и она действительно походила на мальчика, бодро и смело смотрящего на жизнь. Она налила вина, пригубила и подала стакан Монтесекко, который осушил его до дна. Потом она взяла изящную неаполитанскую мандолину и запела веселую солдатскую песенку, а Монтесекко, лежа на диване, слушал ее свежий молодой голос и, отбивая такт, подпевал ей.Глава 3
С утра следующего дня в конюшнях дворца Медичи шли приготовления к отъезду Козимо во Флоренцию. Сильные, здоровые лошади предназначались для поклажи, конюхи кормили лошадей для верховой езды и чистили оружие. Козимо уезжал спешно и без особенного блеска, его свита состояла из пяти слуг. Несколько запасных лошадей были взяты на случай каких-либо неожиданностей. Козимо позвали к Торнабуони, который рано прошел в кабинет и написал длинное письмо Лоренцо. – Ну, слушай хорошенько, – сказал он, когда молодой человек, почтительно поклонившись, сел к столу, – и запомни каждое слово, чтобы передать его Лоренцо. Ты скажешь ему, что папа сильно озлоблен против него по многим причинам, которые он знает сам, и что враги наши, сильные и многочисленные, всячески стараются довести до полного разрыва папский престол с ним. По моему мнению – и Аччауоли вполне согласен со мной, – эта вражда представляет большую опасность и даже несчастье для всех нас. Папа имеет огромную власть, и если дойдет до полного разрыва, с ним будет нелегко помириться. Неаполь на стороне папы, а также многие соседние провинции, которые неохотно подчиняются нам. Они воспользуются случаем, чтобы восстать. Венеция завидует нам, а на Сфорца тоже положиться нельзя, единственный наш союзник – король Франции, но лицемерному Людовику XI верить нельзя, и если бы он и был верен своему слову, то мне не хотелось бы обращаться к чужой помощи, расплачиваться за которую придется нашей Италии. Я не хотел бы, чтобы такой укор тяготел над нами и над именем Лоренцо. Граф Джироламо был нашим другом, по крайней мере, казался таким, и старался поддерживать дальнейшие хорошие отношения. Если же мы откажемся помочь ему и лишим его возможности совершить желаемое приобретение, то он перейдет в стан наших врагов, и будет усиливать озлобление папы до крайних пределов. Я не хотел бы доводить до этого из-за суммы денег, не имеющей особого значения. Я признаю, что поселение графа Джироламо в Романье и у границ Флоренции представляет для нас некоторую опасность, но она не столь велика и будет существовать до тех пор, пока жив папа Сикст. После смерти папы его племянник Джироламо не будет иметь никакого значения, и мы легко сломим его могущество, может быть, даже вероятно, при помощи преемника папского престола. Поэтому я желаю, и даже настойчиво требую, то есть советую Лоренцо, поручить мне немедленно, выплатить требуемые тридцать тысяч флоринов золотом. Папа примет это как большую услугу, а граф Риарио, по крайней мере, в первое время, не перейдет на сторону наших врагов. Затем я прошу Лоренцо дружески и почетно принять Франческо Сальвиати, который скоро поедет в Пизу, и сгладить любезностью натянутые отношения со святым отцом. Папа усмотрит в этом стремление к примирению и высоко оценит его, а мы, таким образом, двух своих злейших врагов превратим в друзей, хотя, может быть, и лицемерных. Ты понял все, что я тебе сказал? – Разумеется, и не забуду это, – отвечал Козимо. Он повторил слово в слово все, сказанное дядей, и тот остался доволен. – Я вижу, ты станешь дельным человеком, так как умеешь серьезно относиться к делу, хотя сердце твое, конечно, занято совсем другим. Первое и величайшее правило во всех политических и коммерческих делах, на которых основано положение Медичи и всех нас, это чтобы ничто не отвлекало ум и сердце от серьезных задач нашей жизни. Даже любовь может быть только вьющимся растением около сильной, твердой воли. Пойди и простись с маркизой и прелестной Джованной. Мы соберемся еще раз все к завтраку, а потом ты сразу отправишься, чтобы к ночи доехать до Витербо и как можно скорее привести к желаемому результату это неприятное дело. Козимо взбежал по лестнице и тотчас же был принят дамами. Маркиза сидела с рукоделием у пылающего камина, Джованна подбирала мелодию на великолепной, резной и богато золоченой арфе. Она была в белом платье, ее чудные золотистые волосы были небрежно завязаны греческим узлом. При входе Козимо она покраснела и подняла на него сияющие счастьем глаза, но тотчас же опустила их. Трудно было представить себе более очаровательную картину, и Козимо нелегко было подойти к маркизе и почтительно сообщить ей, что он пришел проститься, уезжая во Флоренцию по поручению дяди. – Вы уезжаете, – грустно произнесла Джованна, – так скоро… сегодня же… – Я должен ехать по неотложному делу… я скоро вернусь. – Скоро вернетесь? – вздохнула Джованна. – О, Флоренция так далеко… Мы ехали сюда больше недели. Она опустилась на стул за арфой, на глазах ее показались слезы. Козимо не выдержал и подбежал к ней. – О, мне самому больно уезжать, я постараюсь вернуться как можно скорее… Ведь я оставляю здесь все счастье моей жизни… Джованна подняла на него взор, юноша уже хотел обнять ее, но опомнился, подошел к маркизе и сказал взволнованным голосом: – Простите, маркиза, я думал скрыть тайну моего сердца, но в минуту разлуки она неудержимо просится наружу. Я увидал слезы в глазах Джованны и не могу молчать. Вам первой, маркиза, должен я признаться, что люблю вашу дочь и прошу вас принять под защиту эту любовь. Он подбежал к Джованне, преклонил колено и нежно и почтительно поцеловал ей руку. – Видите, маркиза, она принимает мою любовь, а если вы согласитесь поговорить с вашим супругом, то наше счастье будет обеспечено на всю жизнь. Маркиза с улыбкой смотрела на них. – Ах, дети, дети, вы нерассудительны и нетерпеливы, как молодость вообще… Где любовь, там нет рассудка. Так как вы не скрываетесь от меня, то я не могу отказать вам в содействии. Я поговорю с Джованни Торнабуони. – Он знает о моей любви и не отнял у меня надежду. – Тогда и я не хочу ее у вас отнимать. Я ничего не обещаю, но можете надеяться. Ведь моя старшая дочь, донна Аргентина, вышла за Пьетро Содерини, вашего родственника. Если Лоренцо согласится, то мой муж, я думаю, не будет противиться вашей любви… Я буду молить Бога, чтобы Он благословил ваши надежды. – Благодарю вас, маркиза, Бог услышит ваши молитвы. Мой дядя Лоренцо искренне расположен ко мне, и он верный друг дома Содерини и вашего. Не правда ли, Джованна, теперь вы с легким сердцем отпустите меня? Ведь я еду к Лоренцо, а он поговорит с вашим отцом. Джованна с улыбкой протянула ему руку, и они все вместе пошли завтракать в покои Торнабуони. Донна Маддалека тоже заметила склонность молодых людей, так как особенно сочувственно и ласково смотрела на них… За завтраком говорили о самых обыденных предметах, но никто не удивлялся, что Козимо и Джованна смотрели только друг на друга. Когда Козимо проезжал мимо окон, Джованна поклонилась ему, и слезы показались на ее глазах, но она не дала им воли, стараясь думать о скором и радостном его возвращении. Вернувшись в кабинет, Торнабуони нашел там письмо кардинала Барронео, секретаря папских грамот, сообщавшее кратко и определенно, что его святейшество решил лишить дом Медичи звания казначея папского престола. Поэтому кардинал предлагает представителю банка Медичи закончить все дела и представить счета. Торнабуони мрачно перечитал письмо второй раз. – Расплата за отказ по делу графа Джироламо, – проговорил он. – Я не думал, что она последует так скоро. Это показывает, как силен гнев папы, иначе бы он не решился на такую крайнюю и оскорбительную меру. А может, это только угроза и она не будет приведена в исполнение, если мы удовлетворим желание папы. Во всяком случае, надо немедленно уведомить Лоренцо и указать ему на серьезность положения. Он написал короткую записку и запечатал ее, вложив туда же письмо кардинала, потом призвал доверенного слугу, велел догнать Козимо и передать все это ему. Вечером, по обыкновению, собрались друзья и знакомые, почти то же общество, что и накануне. Внезапный отъезд Козимо во Флоренцию не возбудил удивления, так как при многочисленных операциях банка это случалось нередко. Но Торнабуони неприятно поразило, когда кардинал Наполеоне Орсини выразил ему сожаление, что Медичи лишились звания папского казначея. Если об этом открыто говорили в Ватикане, то это уже не представлялось простой угрозой. Или же папа хотел унизить Медичи, заставляя их просить его, чтобы им оставили это звание. – А его святейшество назначил другого казначея? – спросил он кардинала. – Об этом я ничего не слышал. Помешайте этому, не противьтесь желаниям святого отца. Иначе это будет иметь куда худшие последствия для вас, чем для него. Аччауоли тоже знал о смещении Медичи, но он отнесся к этому иначе, чем Торнабуони, так как, несмотря на дипломатическую ловкость, его гордая, пылкая натура с трудом переносила зависимость от Рима. – Я надеюсь, что Лоренцо именно теперь будет стоять на своем. Банк Медичи может существовать и без этого почетного, часто стеснительного звания, а папе нелегко заменить вас. Нам же следует показать, что мы для папского престола друзья, но не вассалы. Франческо Пацци тоже явился. Он слышал об отъезде Козимо, и его страсть и гордость не хотели отказаться от надежд по отношению к прекрасной Джованне. Неужели ему, более зрелому и очень высоко стоящему человеку, не удастся отбить ее у ненавистного соперника, даже если она полюбила его, чего Франческо не мог никак признать. Все, что он заметил вчера, было чистой случайностью или простым ухаживанием. Сегодня место около Джованны было свободно, и он, как Козимо, шепотом заговорил с ней: – Мне следовало бы на вас сердиться, синьорина, если бы я вообще был способен испытывать такое чувство к вам. – Сердиться? – переспросила Джованна, пробуждаясь от своих мыслей. – А? За что же? Не знаю, чем я могла обидеть вас, синьор Франческо. – Разве не обида, что вы дали при мне цветок, который я вам принес, другому? Вы знаете его меньше, чем меня, и я даже недопускаю сравнения между нами. Джованна испугалась его страстного взгляда и угрожающего тона, но ответила с улыбкой: – Вы придаете мелочи и случайности слишком большое значение, синьор Франческо. Цветы должны доставлять удовольствие всем. Отчего мне не порадовать нашего общего друга? – Потому что эти розы предназначались только вам и должны были доказать вам мою преданность и поклонение. На Востоке существует язык цветов, передающий сокровенные тайны сердца. Такой цветок предназначается только одному человеку, как искреннее, сердечное слово, которое нельзя бросать на ветер. – Тогда вы напрасно дали мне цветы, – поспешно ответила Джованна, – я не знаю их тайн и поэтому не умею их хранить. – Я надеялся, синьорина, что моя тайна не новость для вас, вы могли давно прочитать ее в моих глазах. Если вы не поняли ее или не хотели понять, то я должен вам сказать, что… – Остановитесь, синьор Франческо! – воскликнула Джованна. – Не говорите мне ничего, чего я не могу или не должна понимать. Если я не поняла языка цветов, то не пойму и ваших слов, и мне будет неприятно, что ваша тайна не найдет у меня оценки и понимания. – Отчего же? – бледнея, спросил Франческо. – Для моей тайны сердце благородной девушки – прекрасный приют, как сад для цветка. Теперь она серьезно и грустно посмотрела на него. – Человеческое сердце – не большой сад, синьор Франческо, оно может беречь и лелеять только один цветок. – О, я вижу, маркиза, что вы умеете отлично разгадывать тайны, но я вам могу сказать, что и в лучшем саду бывают сорные травы ослепления и самообмана. Если заботливый садовник вырвет их, давая место для благородных растений, разве вы не будете благодарны ему? Ее мягкие, грустные глаза вдруг гневно сверкнули. – Вы напрасно думаете, что я умею разгадывать тайны, и я ваших слов не понимаю. А если ваши слова относятся ко мне, то я скажу вам, что в моем сердце не может вырасти сорная трава, а растущего уже там цветка никогда не коснется рука непрошеного садовника. Пение окончилось. Джованна быстро встала во время общих аплодисментов и подошла к кардиналу Орсини. – Прелестная Джованна, вы, кажется, на горе нашим музыкантам, не любите музыки. – Почему вы так думаете? – Вчера во время пения вы тихо, но оживленно разговаривали, а сегодня то же самое… хотя не совсем – вчера разговор гармонировал с чудной музыкой, а сегодня мне показалось, что в нем слышится слишком резкая и фальшивая нота. Джованна покраснела. – Фальшивая нота? Я знаю только одно, что существует гармония, сглаживающая все фальшивые ноты. – А я знаю, что всю гармонию соединяет в себе умная и красивая девушка, такая, как вы, в которой сочетается кротость голубки и мудрость змеи. Франческо остался на месте и мрачно смотрел на девушку, в значении слов которой не сомневался. Потом он встал, присоединился к остальному обществу и был так весел, каким его не привыкли видеть. За ужином он не занял место около Джованны, заговорившись с молодым художником и ожидая, пока все гости разместились. Джованна была весела и спокойна. Только иногда она краснела, встречая взгляд Франческо, но не опускала глаза, и только на губах ее появлялась холодная, гордая усмешка.Глава 4
Кабинет папы Сикста IV, примыкавший к старинной библиотеке Ватиканского дворца, был совсем скромным в сравнении с роскошью дворца архипастыря христианства и напоминал своей обстановкой келью ученого монаха францисканского ордена Франческо д'Альбесколо Делла Ровере, вступившего на папский престол под именем мученика Сикста. На больших столах были разложены рукописи. На стенах рядом со старинными картинами висели карты малых провинций и княжеств Италии. У большого окна на возвышении стояло кресло, на которое папа садился для частных аудиенций, а рядом на мольберте стоял почти законченный портрет папы, благословляющего коленопреклоненного прелата. Сиксту было шестьдесят четыре года; он был худ, сгорблен, с бледным угловатым лицом и производил впечатление дряхлого старика. Короткие седые волосы, венчиком окружающие плешь, и короткая курчавая седая бородка делали его похожим на простого францисканского монаха. Но в его темных глазах, глубоко запавших в орбиты, светился такой острый, проницательный ум и такая сила воли, такое мужество, а выражение его рта так менялось, переходя от мягкой, ласковой улыбки до грозного неумолимого гнева, что он молодел на десять лет, когда, гордо выпрямляясь, с высоты своего недосягаемого величия обращал слова милости или осуждения к трепетно слушавшей толпе. Сикст находился один в кабинете и стоял с серьезным, даже грозным лицом перед картой Италии, на которой все провинции были обозначены пестрыми красками, а отдельные города крупными красными точками. «Как грустно и постыдно, – думал он, – что Италия, превосходящая все народы умом и образованием, бывшая когда-то владычицей мира, из-за злополучного расчленения тратит лучшие свои силы на междоусобную борьбу. Положим, мировое владычество восстановлено папским престолом, но во Франции, в Испании, в Германии, везде встречается сопротивление, а как мне побороть его, когда я встречаю здесь, в собственном государстве, явный или скрытый отпор? Теперь уже одним только словом управлять нельзя, вся водруженная сила Италии должна поддержать папский престол, призывая императоров и королей к их обязанностям. Я принужден кланяться и просить, чтобы сохранить иногда только кажущуюся верховную власть, и всегда и во всем мне оказывает сопротивление эта надменная и непокорная Флоренция, которая расширяет свое могущество деньгами и оружием и все более перетягивает на свою сторону Венецию и Милан для противодействия мне. Так продолжаться не может, надо сломить упорство и независимость этой республики. Я окружу ее своими приверженцами и разгромлю, когда настанет удобная минута. Неаполь и Милан менее опасны – король Ферранте непрочно чувствует себя на престоле и боится Анжу, которых король Франции Людовик держит в руках, чтобы ими грозить и запугивать, и он нуждается во мне, а миланцы всегда готовы быть на моей стороне, имея виды на Ломбардию. Я их согну, этих упрямых флорентийцев, как только удастся сломить власть заносчивых Медичи, которые всегда поддерживают сопротивление мне и своей холодной рассудительностью и деньгами вечно возбуждают моих врагов. О, как я ненавижу этого лицемерного Лоренцо! На словах он полон преданности и почтения, а на деле всегда поддерживает сопротивление моей воле! Неужели я, призванный повелевать, всем христианским миром, должен уступать этому человеку? Осмелился же он устранить архиепископа, назначенного мною в Пизу, и я должен считаться с ним, пока он управляет Флоренцией. Нет… Нет! Мои предшественники сломили германских королей, и я не уступлю выскочке, который восстанавливает всю Италию против ее истинного, единственного повелителя. И его черед придет… Трудно ждать, а все-таки надо, чтобы подготовить и направить удар». Он выпрямился, протянул руку, точно хотел произнести проклятие, и глаза его метали молнии. Он походил не на верховного пастыря любви и милосердия, дающего мир и утешение страждущему человечеству, а на полководца воюющей церкви, готовящейся подчинить своему владычеству все народы мира. Слуга вошел и доложил, преклонив колено, о приходе графа Джироламо Риарио. Поднятая рука папы опустилась, лицо приняло обычное спокойное, приветливое выражение, и он велел принять посетителя. Граф Джироламо опустился на колени перед дядей, тот благословил его и подал руку для поцелуя. Глаза папы засветились мягким, сердечным блеском, и все лицо преобразилось. – Встань, я всегда рад тебя видеть, я уверен в твоей искренней преданности, которая так редко встречается. Тяжело и грустно управлять людьми путем страха, когда так хотелось бы давать и получать любовь! Чего же удивляться, если я приближаю к себе моих родных по крови, когда я уверен в их любви и благодарности? – Со мной, ваше святейшество, можете быть в этом твёрдо уверены, – отвечал Джироламо, вставая, и еще раз поцеловал руку папы. – Я только желаю и стараюсь заменить моему милостивому дяде утрату моего брата, которого смерть унесла во цвете лет, и все мои мысли и устремления принадлежат великой задаче вашего святейшества – восстановить и упрочить владычество папского престола в Италии и во всем христианском мире назло явным и тайным врагам. – Это я знаю, – сказал папа, ласково похлопав племянника по плечу. – Выполнить эту задачу или приблизить ее исполнение составляет цель моей жизни и святую обязанность высокого положения, дарованного мне Божьей милостью. Но ты прав: святому делу противятся многочисленные тайные и явные враги. – В этом я снова убедился, святой отец, – сказал Джироламо. – Поэтому тайные враги должны быть уничтожены в первую очередь, и прежде всех – Лоренцо де Медичи, который скрывает свое предательство под маской лицемерия. – Лоренцо де Медичи? – переспросил Сикст. – А что такое? Ведь он покорился и допустил назначенного мною архиепископа, правда, показав мне предварительно, что он может и противиться моей воле! – добавил он с горьким смехом. – Но все это изменится, когда строптивая республика будет окружена, когда Имола… – Имола! – прервал его Джироламо. – Это отлично понимает хитрый Лоренцо, не принимающий княжеского титула, чтобы управлять деспотически, поэтому он отказывается выдавать необходимую для покупки сумму, как ему приказывали ваше святейшество. – Отказывается? – переспросил папа, покраснев от гнева. – Он осмелился ослушаться моего приказания? – Лицемерный, как всегда; он уверяет, что не может достать эту сумму. – Он лжет, одного слова его достаточно, чтобы найти куда большие суммы! Это открытое сопротивление, измена церкви и мне, удар из-за угла, разрушающий весь мой план… Мне уже кажется, будто Сфорца раскаивается в продаже Имолы, а если уплата не состоится, то они могут к этому придраться, чтобы нарушить договор… – Уплата состоится, святой отец, – сказал Джироламо, – и мой флаг скоро будет развеваться на шпиле Имолы в честь и к услугам вашего святейшества. – Каким образом? – недоверчиво спросил Сикст. – Где я достану деньги, если мой казначей отказывает мне в кредите? – Банк Пацци взял на себя уплату… Я покончил это дело вчера с Франческо де Пацци. – Пацци? Они так богаты… и решились идти против Медичи? – Из преданности вашему святейшеству и в надежде на защиту и поддержку высшего правителя Италии. – Значит, есть еще преданные слуги церкви и ее пастыря, а я оказывал предпочтение хитрым врагам. Это новое сопротивление Лоренцо должно быть наказано, а заслуга Пацци вознаграждена. Медичи лишатся звания казначея, и я передаю его Пацци. Приведи ко мне Франческо. – Он в приемной, ждет приказаний вашего святейшества, – поторопился объявить Джироламо. – Я знал, что справедливость моего милостивого дяди и покровителя не оставит без награды важную услугу. Но этого недостаточно, святой отец… Коварные враги не достойны вашего долготерпения… Их надо уничтожить навсегда! – Уничтожить, сын мой? – вздохнул Сикст. – Это скоро и легко не дается, Флорентийская республика слишком сильна… – Не республика, святой отец, – она покорится, – а уничтожить надо тех, которые пользуются могуществом республики, чтобы противиться вашему святейшеству. Люди, желающие и могущие выполнить это дело, просят только приказания и благословения святого отца. – А кто эти люди? Где они? – с разгоревшимися глазами спросил папа. – Франческо де Пацци, архиепископ Пизы и начальник моего войска Джованни Баттиста де Монтесекко, хорошо известный вашему святейшеству. Пацци и Сальвиати имеют много приверженцев во Флоренции и стремятся освободить свою родину от деспотизма выскочки, а Монтесекко с моим войском сдержит чернь, преданную Медичи. Папа опустил голову и долго стоял в раздумье. – А ведь это дело может удаться, если его повести умно и решительно. Позови этих людей, так неожиданно предложивших мне помощь в борьбе с врагами. Он сел в кресло, а Джироламо привел ожидавших, которые опустились на колени и поцеловали крест на белой шелковой туфле папы. Он наклонился для братского поцелуя к архиепископу и с приветливым достоинством сказал Франческо Пацци: – Я с удовольствием узнал, сын мой, какое доказательство преданности ты хочешь мне дать. Такой поступок заслуживает благодарности и награды. Я передаю тебе и твоему дому звание казначея папского престола и лишаю этой чести тех, кто оказался недостойным моего доверия. Ты незамедлительно получишь это назначение. – Благодарность моего дома будет безгранична, – отвечал Франческо с радостным и торжествующим видом, – и мы всегда будем стремиться быть достойными этой высокой милости. Мы никогда не допустили бы, чтобы наш родной город доставил вашей милости так много горя несправедливым сопротивлением, как это, к сожалению, случилось. – Мое отеческое сердце страдало от поведения Флорентийской республики при назначении архиепископа в Пизу, но я знаю, что в этом виноват один человек, забравший себе неограниченную власть во Флоренции, и я жалею, что среди ваших сограждан не находится ни одного, который решился бы положить конец такой вопиющей несправедливости. – Такой человек нашелся, святой отец, – сказал архиепископ. – Он перед вами, а его родные и друзья, равно как и мои, помогут ему. – И я тоже, – вскричал Джироламо, – как верный друг и сосед республики, с которой хочу жить в мире и согласии, что невозможно, пока Медичи держат в оковах ваш город. Папа одобрительно кивнул головой. – Это будет дело, угодное Богу, мое согласие и благословение вам обеспечено, но как вы выполните его? Он сделал им знак, все поднялись, и архиепископ изложил условленный план. – Согласен с вашим планом, – заметил папа. – Если все верные и благородные граждане города будут действовать сообща, он может удаться, и незаконная власть будет свергнута. Только я требую одного: чтобы не было пролито крови. Правое дело не должно быть запятнано преступлением. Франческо с архиепископом молча поклонились, а Монтесекко сказал: – Трудно будет, святой отец, произвести полный переворот, не подвергая опасности жизнь Медичи, а, пожалуй, и некоторых их друзей. – Этого не должно быть, – строго сказал папа, – мой священный сан воспрещает мне вызывать или хотя бы допускать смерть человека. Лоренцо дурно и незаконно поступал против меня и против церкви, за это он будет лишен своего положения и предан суду, но его смерти я не хочу. – Воля вашего святейшества для нас закон, – сказал Джироламо. – Будет сделано все возможное, чтобы ее исполнить, но без борьбы Медичи не сдадутся, и если кто-нибудь погибнет при этом, то ваше святейшество простит тому, кто вынужден был защищаться. Папа поднялся с кресла, глаза его сверкали, он грозно протянул руку и крикнул громким голосом, раздавшимся на всю комнату: – В груди твоей кипит злоба дикого хищника, а я судья без злобы, и справедливость не исключает долготерпения. Не осмеливайся переступить мою волю, чтобы не навлечь на себя мой гнев! Джироламо, дрожа, склонил голову, а архиепископ поспешил сказать: – Ваше святейшество правы, справедливость не исключает долготерпения, Лоренцо де Медичи не должен избегнуть справедливого суда за свое преступление, так как он один виновен в противодействии Флорентийской республики святому престолу. Как только он перестанет там властвовать, республика подчинится главе христианского мира, и вся Италия от Альп до берегов Сицилии будет повиноваться воле святого отца. – Ты говоришь верно, брат мой, – сказал папа, опять садясь в кресло, – поэтому такое преступление не должно миновать суда. – Святой отец, предоставьте нам выполнить это дело, – смиренно заметил архиепископ, – и будьте уверены, что мы приведем его к желанному результату. – Да будет так, – согласился папа, – но не забывайте о чести папского престола. Также и ты, Джироламо, и все твои друзья – я не хочу, чтобы на вас осталось пятно. Все преклонили колени под благословением папы, потом Франческо Пацци, архиепископ и Монтесекко удалились, а Джироламо остался по его приказанию. – Ну, – ласково сказал Сикст, – ты знаешь мою волю. Я верю, что ты будешь повиноваться ей, а теперь забудем тревоги и заботы, которые нам доставляют злые люди. Прикажи позвать того, кого я жду. Я так стремлюсь доставить радость, когда уверен в благодарности. Джироламо передал приказание, и немедленно, к немалому его удивлению, в комнату вошел молодой человек, никак не более семнадцати лет, в одежде немонашествующего духовенства. Он был строен и нежен, робок и застенчив; его бледное лицо с большими черными глазами, обрамленное черными кудрями, зарумянилось при виде папы, ласково кивнувшего ему. Он торопливо преклонил колено и поцеловал туфлю папы. Сикст благословил его, потом поцеловал в лоб и любовно посмотрел на его нежное, почти детское лицо. – Как он похож на твою сестру, Джироламо. Совсем ее мягкий взгляд, ее улыбка. Она недолго пережила мужа своего, а этот ребенок остался на моем попечении… Я буду о тебе заботиться, мой маленький Рафаэлло, – сказал он, опять целуя его в лоб, – у меня приготовлен сюрприз для тебя. Папа совсем преобразился, глаза его с любовью смотрели на мальчика, худая рука его ласково гладила кудри, закрывавшие небольшую тонзуру. – У меня есть для тебя сюрприз, дитя мое, в награду за твое прилежание и хорошее поведение в школе. Кроме того, этот сюрприз должен напоминать тебе, когда меня не будет, что ты призван оказать честь имени твоего дяди в служении церкви. Джироламо, дай мне эту шкатулку со стола. Граф взял черную бархатную шкатулку с золотыми застежками и подал ее папе, преклонив колено. Сикст, открыв шкатулку, вынул оттуда пурпурную шапку с золотыми кистями, составляющую отличие высшего духовного звания и дающую ее обладателю первенствующее место перед всеми светскими титулами. Он возложил эту шапку на голову удивленно смотревшего Рафаэлло и торжественно произнес: – Моему племяннику не подобает медленно подниматься до высших ступеней. Светские правители окружают себя ближайшими родственниками, на преданность которых могут рассчитывать. Тем более должен это делать я, глава христианства. Мои задачи выше всех светских целей, и престол мой стоит выше всех престолов мира; поэтому мне больше, чем королям, нужна преданность и добровольное повиновение тех, которые призваны вести вместе со мной борьбу для подчинения всякой светской власти кресту и церкви. Прими из моих рук это отличие и исполняй долг твоего высокого звания на благо церкви и к чести твоего рода. Он нагнулся и поцеловал в лоб юного кардинала, который краснел и бледнел, не находя слов, и со слезами на глазах поцеловал руку папы. – Завтра я объявлю твое назначение в консистории, – продолжал папа. – Теперь иди и подготовься должным образом приветствовать святейшую коллегию. И еще вот что: я хочу, чтобы имя Риарио было в числе высших духовных представителей, поэтому ты будешь носить его теперь в честь своего дяди, а тебе, Джироламо, я приказываю передать твое имя Рафаэлло. Он тебе родственник по крови. – Как можем мы отблагодарить за столько милостей и отличий? – воскликнул Джироламо, опускаясь на колени рядом с Рафаэлло. – Преданностью и поддержкой в борьбе с моими врагами, а также привязанностью к вашему дяде, – добавил папа задушевным голосом. – Иди, сын мой, помещение твое готово. Ты в последний раз входишь в него как мальчик и ученик – завтра кардинал Риарио займет свое место в высшем церковном совете. А ты, Джироламо, позови камерленго и Бартоломео, а также художника Мелоццо де Форли, они ждут в приемной. Рафаэлло удалился, совершенно потрясенный неожиданной милостью, а призванные к папе вошли в комнату. Он приказал Джироламо и камерленго встать за его креслом, а монсеньор Бартоломео, высокий видный мужчина с умным, добрым лицом, опустился на колени перед ним. Художник подошел к мольберту и начал готовить краски. – Я хочу, чтобы момент назначения мною моего дорогого ученика Бартоломео хранителем сокровищ моей библиотеки был увековечен для потомства. Картина эта предназначается для большого зала в библиотеке, и, таким образом, Бартоломео будет навсегда связан с местом своих работ. Бартоломео поблагодарил за честь, художник взялся за кисти, а папа вежливо и приветливо разговаривал об искусстве и науках, и никто бы не узнал в нем грозного пастыря церкви, сражающейся за свое могущество, только что произнесшего свой приговор над семьей Медичи, которую боялись и почитали далеко за пределами Италии.Глава 5
Во дворце Медичи, где над порталом высечен был из камня их герб – шары и страусовые перья, непрерывно шла оживленная жизнь: поминутно являлись и посылались гонцы, под арками расхаживали художники и ученые, чиновники и судьи, в одеждах из парчи и бархата, в ярко-красных шапках, группами стояли и разговаривали о делах городских и государственных, тесно связанных в то время со всеми политическими вопросами. В отдаленной части громадного дворца, окружённого садами, находилось помещение Лоренцо Великолепного, главы дома Медичи, все обнимавшего своим зорким глазом, к словам которого с трепетом прислушивались в Венеции и Генуе, в Милане и Неаполе, во Франции и Германии, а главное – при папском дворе в Риме. Дом Медичи в течение многих поколений занимал в своем родном городе Флоренции и зависящих от нее территориях странное и редкое положение, которое после смерти Пьетро де Медичи, по желанию синьории – высшего совета республики, перешло к обоим его сыновьям, Лоренцо и Джулиано. Венеция избирала дожа, который имел неограниченную власть. В Милане кондотьер де Сфорца оружием достиг власти и упрочил ее за собой и своим потомством с присвоением герцогского титула. Во Флоренции же сохранялась демократическая республика со всеми ее законами и избираемыми народом должностными лицами, однако Медичи, не занимая, в сущности, никакого определенного положения в управлении, были настоящими правителями, назначая всех служащих и неся официальное представительство. Они упорно отказывались от титулов и всех внешних знаков княжеского звания и тем самым закрепили за собой любовь народа и полную готовность его подчиняться их власти. Для сношений с другими государствами, очень обширных у Флоренции того времени, посланники назначались, правда, синьорией, но выбор их зависел всецело от Медичи. От них они получали инструкции и приказания. Точно так же и представители иностранных держав – они в торжественной аудиенции предъявляли синьории свои верительные грамоты, а затем для всех дипломатических переговоров обращались исключительно к Медичи. Это положение вполне соответствовало возникновению могущества Медичи. В Милане Сфорца, как солдат, оружием завоевал себе герцогскую корону, а Медичи своим положением во Флоренции обязаны были деньгам. Банк Медичи имел филиальные отделения в Италии и во всей Европе, и несметные богатства стекались к нему благодаря умному и смелому ведению дел. С разумным расчетом Медичи употребляли немалую часть богатств на украшение родного города, обращая его в центр искусства и наук, и почти все граждане Флоренции, не исключая самых последних бедняков, пользовались их поддержкой; Медичи помогали везде, где надо было предотвратить нужду или поддержать деньгами труд и торговлю. Процветание Флоренции было главным образом их заслугой, и патриотическая и личная благодарность народа тем охотнее подчинялась власти щедрых правителей, что враги Медичи, к которым более или менее открыто принадлежали старинные фамилии, прежде державшие власть в своих руках, стремились ввести во Флоренции олигархическое правление, по образцу Венеции, при котором власть сосредоточивалась бы в определенном замкнутом кругу. Народ же видел в могуществе Медичи противовес и отражение собственной независимости и горячо отстаивал их положение. Когда после смерти Пьетро де Медичи власть и почет перешли по наследству к его обоим сыновьям, Лоренцо, один, без решений и соглашений, взял правление в свои руки, как старший и более подходящий к этому положению по своему складу ума и характера. Он обладал ясным, рассудительным умом, созданным именно для дальновидных расчетов и спокойного выжидания результатов, как в делах, так и в политике, тогда как Джулиано имел поэтичный, мечтательный характер и при этом большую склонность к наслаждениям жизни, от чего всегда воздерживался Лоренцо, с юности отличавшийся слабым здоровьем, хотя он и тогда уже любил роскошь и широту представительства, чем заслужил прозвище Великолепный, сохранившееся за ним в истории. Целый ряд комнат, наполненных сокровищами искусств, доказывающими богатство и изысканный вкус правителя Флорентийской республики, предшествовал рабочему кабинету Лоренцо, с окнами, выходящими в сад, соединенному галереей с роскошными жилыми комнатами. Роскошь была и здесь – в великолепных мозаичных полах из разного мрамора, в немногих, но выдающихся произведениях живописи и скульптуры, в тяжелых серебряных канделябрах с хрусталем, но при этом сразу было видно, что это место труда и кипучей умственной деятельности. У одного окна стоял большой резной письменный стол с громадным количеством счетных книг и документов в образцовом порядке. На другом столе, с серебряными львиными лапами вместо ножек, лежали древние рукописи и экземпляр святой Библии в двух больших томах, выдающееся произведение того времени в области быстро развивающегося книгопечатания, а также разные рисунки, наброски и модели построек и памятников. На третьем столе, несколько меньшего размера, лежали ноты на пергаменте и тексты романсов на итальянском и латинском языках, а над столом висели чудной работы гитара и мандолина, любимые струнные инструменты той эпохи для аккомпанирования пению. Все это доказывало, что глава дома Медичи и Флорентийской республики такой же знаток в искусствах, как и в серьезных делах, и что его ясный ум умеет соблюдать правильность и порядок во всех областях его разнообразной деятельности. Лоренцо сидел у письменного стола в удобном кресле с мягкими подлокотниками, заканчивающимися головами сатиров. Ему было не более двадцати девяти лет, но он казался старше из-за сутуловатости и болезненной бледности оригинального лица, казавшегося крайне некрасивым на первый взгляд. Темные волосы его с пробором посередине, по тогдашней моде, гладко лежали на плечах и уже начинали редеть. Глубоко ввалившиеся темные глаза, под бровями обыкновенно сдвинутыми, принимали разнохарактерные выражения: то они смотрели холодно, то грозно и гордо, а иногда светились так ясно и приветливо, что покоряли все сердца. Нос у него был большой, сильно выдающийся, орлиный, рот тоже большой, несколько искривленный. Нижняя губа выступала, развитый подбородок показывал силу воли и энергию. Но этот рот, имевший почти отталкивающее выражение, когда Лоренцо молчал, делал его, в сочетании с разнообразным выражением глаз, невероятно обаятельным, когда он разговаривал. Лоренцо умел уговорить, если не убедил, самых злейших противников. На Лоренцо был надет длинный, ниже колен, камзол, стянутый кожаным поясом с золотыми застежками, подбитый и опушенный у ворота и рукавов дорогим мехом. У пояса висел кошелек и тонкий носовой платок. Лоренцо сидел, нагнувшись над книгой с пергаментными листами и длинными рядами цифр… Но вот он откинулся на спинку кресла, с суровым выражением, которое было свойственно ему всегда при глубоком размышлении, и долго смотрел в потолок. – Лионский банк предлагает нам не особенно верное дело, – проговорил он наконец. – Обеспечения ненадежны и легко могут утратить свою ценность, если король Франции, слово которого не представляет верного ручательства, не захочет их выполнить. Сорок тысяч – крупная сумма, но королю нужны деньги. Если мы поможем ему их достать, он будет благодарен, тем более что думает воспользоваться нами еще, и мы вообще ему нужны, так как он все еще смотрит на Неаполь. Я, конечно, никогда не помогу Анжу найти дорогу туда, но держать нить в своих руках всегда полезно, так как я не уверен в короле Ферранте Арагонском. Если мы откажем в содействии, король Людовик станет нашим врагом, и даже опасным, а этого допускать нельзя. У нас и так много врагов, готовых помочь папе придавить нас и принудить к повиновению, поэтому дело надо сделать. Деньги должны служить политике, а если мы понесем убытки, то политика же укажет средство их восполнить. Быстро решившись, он позвонил и приказал вошедшему лакею просить к себе брата Джулиано. В ожидании брата Лоренцо подошел к другому столу и, стал внимательно рассматривать начерченный на пергаменте план. – Прекрасно, – проговорил он, – это вполне соответствует моей мысли. Это Поджо Каяно – чудо красоты, и если природа так щедро одарила его, то и искусство может ей помочь. Нигде я не могу воздвигнуть резиденцию, более достойную нашего имени и дома. Все отлично придумано, и изменять ничего не надо, но одно только забыто: когда там будет воздвигнут величественный замок, конюшни не могут оставаться в прежнем виде, а скотоводство должно постоянно развиваться. Я уже составил план – надо усовершенствовать породу скота, сено там превосходное, расширить производство сыра, и тогда невыгодный ввоз его из Ломбардии окажется совершенно ненужным. Хозяйство должно давать средства для роскоши, но должно также по внешности соответствовать ей. Лоренцо опять посмотрел на план и продолжал свои размышления: – Так будет хорошо. На некотором расстоянии от замка есть пригорок. Там будут построены конюшни, окруженные высокими стенами, с башнями на углах, и все это еще более украсит нашу благодатную местность. Он взял карандаш и сделал набросок. В это время лакей отворил дверь, и вошел Джулиано де Медичи. Он был четырьмя годами моложе Лоренцо, но казался много юнее его при своем высоком росте и крепком, но стройном и гибком сложении. Его правильное смуглое лицо вполне сохраняло свежесть молодости, черные волосы рассыпались густыми кудрями, а черные глаза умели гореть огнем и страстью и умели проникать в душу бесконечно мягким, ласковым взглядом. На нем был узкий камзол, длинные чулки с башмаками и широкий плащ. На роскошной перевязи висела изящная шпага, а у пояса – маленький кинжал. Одежда его блестела золотом и парчой, и он сам, веселый и жизнерадостный, производил впечатление щеголя, пользующегося молодостью, богатством и высоким положением без малейшей склонности смущаться заботами и тревогами. Он подошел к брату, нежно обнял его и сказал, глядя на пергамент с планом: – А, дорогой Лоренцо, ты строишь, как я вижу, твое Поджо Каяно… Если ты позвал меня, чтобы спросить моего совета, то вряд ли я могу служить тебе. Ты понимаешь все это лучше меня, а я могу тебе пригодиться только после освящения, если нужно будет устроить блестящий праздник. – Надеюсь, я скоро обращусь для этого к твоему совету, – с улыбкой ответил Лоренцо, – но сегодня, прося тебя прийти, я не собирался говорить об этом, а хотел сообщить тебе, что все-таки признаю нужным закончить известное тебе дело, предложенное Лионским банком, чтобы угодить этим королю Франции. Мы не можем восстанавливать его против себя, так как придется, пожалуй, обратиться к его помощи, если наши враги станут слишком сильны и опасны. – Пожалуйста, Лоренцо, решай все это сам, – нетерпеливо отозвался Джулиано. – Ты умеешь спокойно обсуждать прошлое и будущее, а я живу только настоящей минутой. Ты вникаешь во все сложные вопросы политики, а я никогда не умел подчинять время моей воле. Если синьория доверила нам обоим управление из уважения к памяти нашего отца, то все-таки ты один распоряжаешься и знаешь, что я во всем подчиняюсь твоей воле, как и следует подчиняться старшему и во всех отношениях превосходящему меня брату. Поэтому решай и это дело сам. А я хочу сохранить дружбу короля Франции, хотя не хотел бы никогда прибегать к его помощи против моих соотечественников: я итальянец, прежде всего, и стремлюсь только к единению нашего отечества, дабы оно заняло подобающее ему положение в Европе. Лоренцо мрачно смотрел в пол, но, видимо, не был расположен продолжать начатый братом разговор. – Итак, я покончу это дело с твоего согласия, а потом ты, может быть, посетишь короля Людовика XI. Путешествие во Францию доставит тебе удовольствие. В почетном приеме я уверен, а кроме того, у меня есть план на будущее, о котором я хотел бы с тобой поговорить. – Поездка во Францию! – почти испуганно вскрикнул Джулиано. – Да, да, конечно… это очень хорошо, но не теперь, не зимой. – Нет, нет, – улыбнулся Лоренцо, – ты поедешь весной. Поэтому, если твое сердце привязано теперь, не тревожься. Я знаю, что эти оковы у тебя бывают из хрупких цветов, а не из прочного металла. – Ты напрасно смеешься надо мной, – краснея, возразил Джулиано. – Я часто мимолетно увлекался, но способен также на серьезные, прочные привязанности. Лоренцо пожал плечами, очевидно мало доверяя словам брата. – Поговорим серьезно, и выслушай, что я наметил для твоей будущности, так как мне нужно же позаботиться о судьбе моего легкомысленного брата. Джулиано, с трудом скрывая замешательство, со вздохом сел против брата у письменного стола. – Я должен, конечно, выслушать тебя, Лоренцо, и поблагодарить за твои заботы, хотя мне было бы приятнее, чтобы ты будущее предоставил времени, а мне дал бы пользоваться радостным и кратким настоящим. – Нет, – сказал Лоренцо, качая головой, – кто так высоко поднялся, как мы, тому нельзя ни на минуту упускать из виду будущее. Я не хочу портить твое наслаждение настоящим, но не надо забывать, что наше счастье и сила дали нам много врагов, и поэтому каждый из нас должен стараться дополнить счастье рассудком и поддерживать прочное основание нашей силы. Папа очень склонен был дать тебе кардинальскую шапку, и если бы ты мог решиться принять посвящение… – Никогда, ни за что! – горячо перебил Джулиано. – Я был бы дурным пастырем и не делал бы чести ни священной коллегии, ни нашему дому. Я вполне светский человек, и серьезные обязанности жизни я лучше и охотнее исполнил бы с мечом в руке, чем в монашеском одеянии. – Я не уговариваю тебя, – возразил Лоренцо. – Я хотел бы высшего духовного звания для нашей семьи не для почета сегодня, а опять-таки для будущего. Кардинал из дома Медичи имел бы право надеяться при наших связях и могуществе возложить на свою голову корону или занять папский престол. Только тогда мы достигнем подобающей нам высоты, только тогда добьемся конечной нашей цели объединения и возвеличения Италии, к которому я стремлюсь, как и ты. – Я любуюсь твоим смелым, всеобъемлющим умом, но не мне быть его орудием. Я никогда не сумею проложить себе путь к папскому престолу, и даже если бы это удалось, я никогда не смог бы выполнять эту тяжелую обязанность перед церковью и нашим домом. – К сожалению, я это знаю, – со вздохом сказал Лоренцо, – и больше об этом говорить не будем. Нельзя навязывать человеку призвание, не свойственное его натуре, а, следовательно, невыполнимое для него. Что не удается теперь, может удаться со временем, если Господь сохранит моего маленького Джованни, которого я с детства воспитываю и готовлю для своих планов. А ты брат мой, все-таки должен думать о своем будущем или позволить мне о нем заботиться. Ты должен жениться, чтобы упрочить продление нашего рода и через жену свою содействовать блеску и могуществу нашего дома. – Жениться… теперь, во цвете лет? Я и думать об этом не хочу, на это еще есть время. – А я думаю, – строго сказал Лоренцо, – и все серьезно обдумал. Надеюсь, что ты долго проживешь, но человеческая жизнь висит на волоске, поэтому нужно холодно и спокойно позаботиться о будущем. Я наметил для тебя принцессу Савойскую или одну из дочерей неаполитанского королевского дома, а может быть, умный Людовик счел бы честью выдать за Медичи французскую принцессу. Через мою добрую Клариссу я породнился с княжеским домом Орсини, очень полезным для нашего преуспевания, а через тебя мы внесем королевскую кровь в наш род. Джулиано довольно долго сидел молча и, наконец, сказал: – Поверь, Лоренцо, я вполне понимаю твою благородную гордость, но и в этом отношении я не могу помочь тебе. Пожалуйста, оставь мне мою свободу, она мне нужна, как воздух и свет птице! Оставь все эти планы для твоего старшего сына Пьетро. Он уж и теперь, шестилетним мальчиком, показывает, что будет понимать их. – Свободу? – повторил Лоренцо. – Я думаю, ты сохранил бы ее, даже если бы подчинился моей воле. – Нет, нет, если бы я дал клятву верности перед алтарем, я исполнил бы ее свято, нерушимо… – Во всяком случае, ты мог бы еще некоторое время пользоваться своей свободой, так как эти невесты слишком молоды, чтобы вступать в брак. Но это не мешает заключить союз. Когда они со временем подрастут, и ты полюбишь одну из них, тем лучше для вас, но любовь не может иметь решающего значения для браков, такого рода, как Медичи. Ты знаешь, конечно, что не пламенная любовь свела меня с Клариссой, но мы счастливы даже больше, чем были бы при скоропреходящей страсти. – Ты не то, что другие люди. Ты владеешь и управляешь собою так же неограниченно, как и другими, а я этого не могу! Оставь мне мою свободу, я только тогда смогу служить тебе. Джулиано взял брата за руку и с мольбой смотрел ему в глаза. Не успел Лоренцо ответить, как вошел лакей с докладом, что синьор Козимо Ручеллаи только что приехал из Рима и просит принять его. – Козимо? Так внезапно и неожиданно? – воскликнул Лоренцо, вскакивая. – Это означает что-нибудь необычайное! Проси его немедленно. Останься, Джулиано, это дело требует, вероятно, неотложного решения, иначе наш спокойный и осторожный Торнабуони не прислал бы его. Лакей отворил дверь, и вошел Козимо в дорожном платье, в сапогах со шпорами. – Простите, уважаемый дядя, что явился к вам, не переодевшись, но дядя Джованни приказал как можно скорее передать вам это письмо. Лоренцо обнял молодого человека, который сердечно поздоровался с Джулиано и, вынув письмо Торнабуони из кожаной сумки, подал его Лоренцо. Тот быстро сорвал печать и стал внимательно читать, а Джулиано шепотом справлялся об общих друзьях в Риме. Джироламо Риарио настоятельно требует тридцать тысяч золотых флоринов для приобретения Имолы, – сообщил Лоренцо, прочитав письмо, – хотя Торнабуони заявил ему, по моему желанию, что это неисполнимо. Торнабуони все-таки советует оказать эту услугу папе. Козимо передал еще все словесные наставления дяди, и Лоренцо, выслушав его, обратился к брату: – А ты как думаешь, Джулиано? – Мне кажется, что Торнабуони отчасти прав, – отозвался Джулиано, едва слушавший разговор. – Вражда папы может быть нам опасна, а если придется прибегнуть к помощи Франции, это может быть еще опаснее для всего отечества. – Позвольте до окончательного решения передать вам еще письмо, – сказал Козимо. – Я получил его уже по дороге с гонцом. Лоренцо взял письмо, и пока читал, лицо его бледнело, принимая грозное выражение. – Опасения Торнабуони оправдались: вражда папы стала явной, он лишил нас звания казначея папского престола. Джулиано испуганно вздрогнул, и Козимо опустил голову при этом известии, которое привез, не зная того. – Это почти равняется объявлению войны, – сказал Джулиано. – И, пожалуй, будет разумнее пойти на соглашение, чтобы обезоружить папу. – Никогда! – горячо воскликнул Лоренцо. – Уклоняться от удара, может быть, умно, но гнуться перед ним – это поражение, от которого мы никогда не оправимся. Если крепость Джироламо будет стоять у наших границ и папа своей угрозой принудит нас подчиниться его воле, тогда их цель достигнута, мы обращены в вассалов и самостоятельность Флорентийской республики потеряна навсегда. Мы же призваны сделать ее центром объединенной Италии, оплотом против все захватывающей власти папского престола. Этот центр только тогда исполнит свое назначение, когда будет опираться на могущество Италии, вместо того чтобы дробить ее силы и разводить княжества, которые, как хищники, высасывают ее кровь. Теперь пришло время доказать папе, что у него нет ни власти, ни права за пределами церкви, что мы можем быть его преданными слугами для пользы церкви и родины, но не рабами его произвола для предоставления почестей и богатств недостойным любимцам. Если мы это раз и навсегда докажем, то в Риме примут к сведению, будут воздерживаться от деспотических вожделений и убедятся, хотя бы при будущих папах, что папский престол найдет себе лучшую опору в независимой Италии. – Извини, Лоренцо, если я не вполне соглашаюсь с твоим мнением, – робко заметил Джулиано. – Раздражать папу – дело опасное, его власть велика и еще усиливается всем, что нам враждебно. Я согласился бы с тобой, если бы надо было отстаивать права республики, и тогда у нас было бы много сторонников, а тут речь идет об услуге, которую папа требует и считает себя вправе ожидать от своего казначея. При таких обстоятельствах ввязываться в борьбу мне кажется опасным, и я боюсь, что в этом случае синьория не поймет и не одобрит нашего поведения. – Этого я не думаю, – ответил Лоренцо. – Я поговорю с Содерини, и он нас поймет, но нам не следует также ставить себя в зависимость от малодушия синьории. Это коммерческое дело, касающееся нашего банка, не подлежащее обсуждению синьории, а так как злоба и враждебность папы проявляется во всем, то надо, прежде всего, твердо выдержать первый натиск… Чем больше мы колеблемся, тем сильнее будут наши враги. Решение мое бесповоротно. Я чувствую себя достаточно сильным, чтобы нести ответственность за последствия, и я уверен, что ты, спокойно обдумав положение, согласишься со мной. – Когда же я не соглашаюсь с тобой, дорогой Лоренцо? Твое мнение всегда верно, а если придется столкнуться с врагами, то ты знаешь, что я буду отстаивать оружием все, что твой ясный ум найдет справедливым. – Отлично! – сказал Лоренцо, принимая опять свое обычное выражение спокойствия. – Я отвечу Торнабуони и напишу папе почтительно, но без смиренных просьб. Он не будет иметь возможности упрекнуть нас внесоблюдении приличий или в неуважении к главе церкви, что я уже доказал, дав согласие на назначение Франческо Сальвиати архиепископом Пизы, хотя это назначение было доказательством враждебности, несмотря на все заверения графа Джироламо. Сальвиати были всегда врагами нам и республике, и мы могли видеть в этом оскорбление. Мой ответ будет готов завтра, и ты можешь ехать обратно, Козимо, если не хочешь подольше отдохнуть после трудного пути. – О нет, я готов сейчас сесть на лошадь и ехать в Рим, так как Джованни Торнабуони велел мне торопиться, – ответил Козимо, избегая проницательного взгляда Лоренцо. – Ну, такого спеха нет, – сказал Лоренцо, улыбаясь, – так как я не могу последовать совету Торнабуони и что-либо изменить в деле. Можешь отдохнуть до завтра и сдержать свое нетерпение, а то тебя, кажется, очень тянет обратно в Рим. Козимо покраснел, ничего не отвечая. – Переоденься и навести своих родителей, они рады будут тебя видеть, а вечером мы соберемся все вместе, и ты можешь нам рассказать про Рим. Маркиз Габриэль Маляспини здесь на несколько дней и, наверное, захочет узнать от тебя о жене и дочери, с которыми ты, конечно, видался у Торнабуони. – Маркиз Маляспини! – воскликнул Козимо, еще гуще краснея. – О, дядя, так ты все знаешь… – Я знаю, что маркиза и ее красавица дочь находятся в Риме, – сказал Лоренцо с напускным равнодушием, – а ты, верно, привез от них поклоны маркизу. – Господи… Нет, не то! Конечно, ты не можешь знать… но ты должен знать, так как я ненадолго здесь, и маркиз так удачно тоже приехал… Ты должен знать, что я только тогда буду счастлив, когда получу надежду, что ты и маркиз сочувствуете нашей любви с Джованной. – Вот как! – с улыбкой сказал Лоренцо. – Тогда, вероятно, мне придется позаботиться, чтобы ты с радостью уехал в Рим, как подобает серьезному посланцу. Я, милый Козимо, не буду против твоей любви, а с маркизом ты успеешь сам поговорить, и я охотно поддержу тебя. – О, дядя, как мне благодарить тебя за твою доброту? – вскричал Козимо, порывисто целуя руку Лоренцо. – И как счастлива будет Джованна, когда я привезу ей такое радостное известие! Он сердечно пожал руку Джулиано, с грустной улыбкой смотревшему на него, и пошел переодеваться, чтобы навестить родителей. – Он счастлив, – проговорил Лоренцо, провожая Козимо взглядом. – У него сердце и политика сочетались в полном согласии. Дом Маляспини могуч и влиятелен, и союз с ним еще укрепит нашу силу. Лакей отворил дверь, и вошла жена Лоренцо, Кларисса. Не будучи особенно красивой, она имела очень аристократический вид и доброе лицо. Дорогое серое шелковое платье, вышитое золотом, хорошо облегало ее стройную фигуру, и длинный шлейф увеличивал небольшой рост. Она вела за руку трехлетнего Джованни, славного мальчугана с большими выразительными глазами. Рядом шел шестилетний Пьетро, уже в рыцарском костюме, только без шпаги и кинжала; резкие черты лица мальчика выражали живой ум и почти упрямую волю. За ними шел молодой человек лет двадцати семи, очень изящно носивший широкую одежду ученых того времени. Лоренцо встал навстречу жене, галантно поцеловал ей руку, и его холодное лицо приняло ласковое, сердечное выражение, когда он погладил кудри Пьетро и поднял на руки маленького Джованни. Потом он крепко пожал руку молодого человека и сказал жене: – Благодарю тебя, дорогая Кларисса, за то, что ты приводишь ко мне детей. Это радостный отдых среди сухих, деловых занятий. – Я знаю, что ты всегда рад видеть детей и всегда позволяешь приводить их, даже когда работаешь. Но сегодня мы пришли по особенному случаю. Пьетро был прилежен, и наш ученый Полициано говорит, что он может рассказать без ошибки греческое стихотворение, смысл которого должен служить ему жизненным правилом. – Очень желаю послушать, – весело сказал Лоренцо, ласково кивая Полициано, которому поручил воспитание сына с самого нежного возраста. Маленький Пьетро встал перед отцом и без ошибки, с правильным выговором прочитал своим тоненьким голоском гекзаметр, в котором Гомер говорит молодому Ахиллу, что он стремится быть лучше всех и превосходить всех. – Браво! – сказал Лоренцо. – Я вижу, что ты делаешь успехи в благородном греческом языке. Не забывай также смысла этих слов, и тогда будешь уметь исполнять обязанности, наложенные на тебя рождением. А вас, дорогой Полициано, благодарю за труды и за выбор этого первого стихотворения. – Приложу все старания, чтобы ваши дети походили на вас по знаниям и плодотворной деятельности. Джулиано ласково поздоровался с невесткой, с племянниками и с Полициано, с которым давно дружил, но был, видимо, озабочен и рассеянно принимал участие в разговоре, который касался учения и игр детей. Когда Кларисса удалилась с детьми, Джулиано сказал брату: – Прости, дорогой Лоренцо, если я сегодня поздно приду к вам. Я уговорился встретиться с несколькими приятелями и не могу отказаться, но все-таки еще успею поболтать с Козимо. – Ты волен располагать своим временем и не имеешь надобности извиняться. Разве мы не вполне равноправны по воле отца? Пользуйся жизнью и молодостью, но не забывай наш разговор, я к нему еще вернусь. Известия, полученные из Рима, еще больше заставляют нас сообразовываться с политикой при заключении семейных союзов. Джулиано со вздохом пожал руку брата и молча вышел из комнаты, а Лоренцо покачал головой, глядя ему вслед: – Мне не нравится его настроение. Я вовсе не хочу мешать ему наслаждаться жизнью и даже почти готов завидовать его беспечности и здоровью, но в чаду удовольствий нельзя забывать серьезные обязанности. Он даже испугался, когда я заговорил о моих планах… Это был не только страх оков, которыми он, конечно, особенно стесняться не будет. Неужели у него есть привязанность, которая может отвлечь от пути, предначертанного рождением? До сих пор я не обращал внимания на это, хотя мне много рассказывали о его увлечениях и мимолетных связях, но я не придавал этому значения. Буду следить за ним, и удержу от опасности, это мое право и обязанность, так как я много старше и должен заменять ему отца. Он запер книги в шкаф и опять взялся за начатый рисунок плана Поджо Каяно.Глава 6
Джулиано прошел в свое помещение в боковом флигеле дворца, чтобы накинуть меховой плащ и велеть седлать лошадь. Потом он поехал в сопровождении немногих слуг, веселый и довольный, как всегда, радостно приветствуемый народом, к роскошной вилле, окруженной садами, которая стояла одиноко в предместье города и принадлежала уже тогда знаменитому архитектору Антонио де-Сан Галло. Он происходил от одной из лучших фамилий Флоренции и в ранней молодости потерял отца, унаследовав громадное состояние. Антонио был из числа самых преданных сторонников Медичи и ближайшим другом Джулиано. Несколькими годами старше его, он всегда готов был участвовать в веселой компании, но любил также уединение, и потому больше жил не в фамильном дворце в центре города, а в чудной вилле, построенной еще его отцом. Джулиано соскочил с лошади и велел слугам ехать домой. Во дворце, окруженном галереей со статуями, встретил его Антонио. Он был богато одет, высок, мужествен, с красивым, приветливым лицом. Друзья сердечно поздоровались и под руку прошли в роскошный и уютный кабинет Антонио. – Я ждал тебя, дорогой Джулиано. Все готово, посмотри сам помещение, а потом мы можем поехать, подкрепившись, и при ранних сумерках незаметно привезем донну Фиоретту. Ее увидит только один из моих слуг и вполне надежная женщина, служившая еще моей покойной матери. Впрочем, все мои слуги преданны и привыкли не болтать, что происходит в доме. – Добрый, дорогой друг, как мне отблагодарить тебя за все? Теперь больше, чем когда-либо, мне нужен твой совет и поддержка. – Твое доверие для меня лучшая благодарность, – отвечал Антонио. – Пойдем, посмотри на гнездышко, приготовленное для твоей Фиоретты. Он провел его в отдельный флигель при дворце. Антонио отворил дверь, и Джулиано радостно вскрикнул, увидав прелестный уголок. Красивые картины украшали стены, и тут же было изображение Спасителя, благословляющего детей, а перед ним чаша со святой водой. В углу стояли группы пальм и душистых цветов. Через дверь с разноцветными стеклами был виден небольшой тенистый сад, отделенный от парка железной решеткой с калиткой. Антонио раздвинул тяжелую портьеру и ввел Джулиано в большую спальню, где у стены стояла великолепная кровать с балдахином, а рядом прелестная люлька. Окна с разноцветными стеклами пропускали мягкий, приятный свет, и пожилая женщина с седыми волосами, опрятно одетая, заканчивала уборку уютного помещения. – Как хорошо здесь! – вскричал Джулиано. – Как ты восхитительно обставил убежище моего счастья! – Все будет готово сегодня вечером? – спросил Антонио старушку. – Так точно, синьор! – Я знал, что могу положиться на мою старую Женевру. – Без сомнения, синьор Антонио! Все будет готово, можете не беспокоиться, и синьор Джулиано де Медичи будет доволен. – Вы знаете меня? – с испугом спросил Джулиано. – Кто же вас не знает во Флоренции? Но не беспокойтесь, синьор, старая Женевра не болтунья и хранила много тайн. – Это правда, – с улыбкой подтвердил Антонио, ласково похлопав ее по плечу, – я доверил бы ей любую тайну, она отлично будет ходить за твоей Фиореттой. – И за малюткой также, – сказала старуха, взбивая мягкие подушки в люльке. – Я и синьора Антонио носила на руках, когда он был маленький и беспомощный. – Это правда, Женевра, – отозвался Антонио, – поэтому я выбрал тебя: ты должна заботиться о моем друге, как обо мне, и охранять того, кто ему дороже всего на свете. Джулиано подал руку старушке и вышел вместе с Антонио из комнаты. В маленькой столовой был накрыт стол, и Антонио сделал лакеям знак, удалиться. – Мы будем сами себе прислуживать, чтобы не говорить при посторонних. Он положил на тарелку Джулиано жареного перепела с оливками и налил в бокалы марсалы. – Выпьем первый бокал за приезд донны Фиоретты и маленького Джулио, – сказал он, чокаясь с другом. – Желаю, чтобы она была счастлива здесь, под моей дружеской охраной, и чтобы ей скорее удалось переехать во дворец Медичи для большего счастья и блеска. Джулиано осушил свой бокал и со вздохом молча поставил его на стол. – Дай Бог, чтобы исполнилось твое желание! Мои тревоги не прекращаются и становятся еще тяжелее. – Ты слишком мрачно смотришь, – с улыбкой сказал Антонио. – Чего тебе бояться? Народ, который обожает тебя, будет еще преданнее, когда ты изберешь себе жену из его среды. А гордые, надменные семьи, которые кичатся своими предками, не могут ненавидеть тебя больше, чем теперь. – О, этого я не боюсь! Но мой брат Лоренцо. С ним будет трудно, труднее, чем ты думаешь. – Почему? – спросил Антонио. – Он так любит тебя и предоставляет тебе полную свободу наслаждаться жизнью, пока сам несет все тяготы правления, нисколько не затеняя твоего положения. Все могущество его основано на любви народа, и через тебя он еще теснее сблизится с людьми. Что же он может сказать против честной семьи Говини, которые жили независимо, уважаемыми хлебопашцами и воспитали свою дочь Фибретту в самых строгих правилах? – Все заботы правления он несет на себе, и я ему искренне благодарен за это, но все помыслы его сводятся к этим заботам, и он не признает никаких прав за сердцем, когда речь идет о положении нашего дома и о могуществе республики. Сегодня он говорил очень серьезно о моем будущем и наметил для меня союз с княжескими домами Савойи, Неаполя и Милана или даже с королевским домом Франции. – Ты не сказал ему, что сердце твое уже не свободно? Лоренцо лучше всякого другого умеет примириться с неизбежностью, и, может быть, твой брак с девушкой из народа даст и его дому более твердую опору, чем иностранные принцессы, которые всегда останутся чужими народу. Джулиано покачал головой. – Лоренцо строг и неумолим, когда это касается блеска и положения нашего дома. Сегодня я не мог отвечать ему, он и так получил неприятное известие, и мне не хотелось в эту минуту нарушать наши сердечные отношения. – Ты слишком робок, – заметил Антонио. – Какое право имеет Лоренцо распоряжаться твоим сердцем? Разве ты не равен ему по положению, разве он уполномочен опекать тебя? – Нет, вовсе нет, я это знаю, но этого вопроса лучше не касаться, если только это возможно. О, неужели мне придется завоевывать счастье ценой любви моего брата? Дай мне время, Антонио. Фиоретта будет в безопасности под твоей охраной, а я хочу выбрать удобную минуту, чтобы поговорить с братом. Когда у него не будет хлопот и забот, он скорее будет склонен признавать права сердца наравне с политикой и честолюбием. А если мне и тогда придется указать на мое право, я, по крайней мере, не упрекну себя, что смутил его покой, когда ему нужна вся сила и ясность ума для блага и чести нашей родины. Антонио согласился, не вполне, однако, убежденный, а Джулиано повеселел, но ненадолго. – Вот еще что, Антонио, – заговорил он снова. – Несмотря на окружающее нас счастье и радостные надежды на будущее, у меня бывает иногда очень тяжелое предчувствие, будто грозовая туча разорвется, и молния неожиданно поразит меня. – Какое безумие! – сказал Антонио. – Конечно, наша жизнь в руках Божьих, но во цвете сил и молодости нет оснований думать об особом несчастье. – Ты, может быть, прав, и, вероятно, страх за мою любовь внушает мне такие мрачные мысли, но, тем не менее, ты должен дать мне обещание. Ты помнишь, что священник в Сан-Донино, венчавший нас с Фиореттой, не знал моего имени и не внес наш брак в книги, и сына моего он крестил под именем Джулио, не подозревая, что присоединяет к лону христианской церкви сына Медичи. Священник был стар и может умереть, да и показание его может быть подвергнуто сомнению… Если со мной случится несчастье, Антонио, то ты скажешь Лоренцо и подтвердишь всему свету, что Фиоретта была перед Богом моей законной женой, а бедный Джулио крещен как мой законный сын. – Конечно, я это удостоверю, – с улыбкой согласился Антонио, – если когда-нибудь над твоей головой появится воображаемая туча и мое свидетельство потребуется. Но пока оставим эти мысли. Не надо печалиться, когда мы собираемся ввести твою прелестную Фиоретту в мой дом, который, надеюсь, будет ей только кратковременным убежищем. Выпьем еще сиракузского вина, это перл моих погребов, а потом поедем, чтобы к вечеру вернуться обратно. Друзья вышли и сели на поданных лошадей. Двое доверенных слуг Антонио следовали за ними, вооруженные; лошадь с дамским седлом была уже послана вперед с двумя другими слугами. Свежий воздух разогнал мрачные мысли Джулиано, и они ехали, весело болтая, вдоль берега Арно, по дороге к Сан-Донино.В плодородной долине Арно было расположено местечко Сан-Донино, со своими приветливыми домиками, садами оливковых и каштановых деревьев, роскошными полями и виноградниками. Церковь небольшого францисканского монастыря, окруженная величественными вязами, возвышалась над скромными домами, и вечерний колокол гудел в свежем воздухе. В стороне от Сан-Донино, отдельно, на холме, стоял домик, окруженный садом и виноградниками. В палисаднике перед домом стояла молодая женщина и смотрела через низкую стену, обвитую плющом, на дорогу во Флоренцию, к которой вела спускающаяся к реке тропинка. На женщине было простое синее шерстяное платье и легкая накидка на плечах. Роскошные черные косы ее были обвязаны пестрым платком, как носят тосканские девушки и женщины; кожа имела тот смуглый и притом нежный оттенок, который дает только южное солнце; черты лица были антично правильны, а большие черные глаза нежно и выжидательно смотрели на извивающуюся белую полосу дороги. Но там ничего не было видно, и она со вздохом сложила руки, при звуке колокола шепча молитву и с мольбой глядя в небо. Вдруг от Сан-Донино послышался стук копыт, и молодая женщина, быстро оглянувшись, увидела всадника на сильной, здоровой лошади. Он был в простой одежде, в шляпе с большими полями, без перьев, и широкий плащ висел на ремне, закрывая круп лошади. Несмотря на простоту костюма, видно было, что этот человек знатного происхождения. Его еще молодое, но бледное лицо носило следы страстей, а в глазах блестел беспокойный огонь. Он остановился у дома и почтительно поклонился молодой женщине, которая покраснела и казалась неприятно удивленной его появлением. – Прелестная Фиоретта, – сказал он, соскакивая с лошади, – позвольте мне сегодня воспользоваться гостеприимством, которое вы уже неоднократно оказывали мне с тех пор, как счастливый случай привел меня к вам в первый раз. Он повесил поводья на крюк и, войдя в палисадник, поцеловал руку молодой женщине, а она ответила ему, смеясь: – Мое гостеприимство слишком скромно для вас, синьор, но стакан вина из собственных виноградников найдется для всякого, кто этим удовольствуется. Она повернулась к двери, но он удержал ее, говоря: – Вы не хотите впустить меня, прелестная Фиоретта? В эту пору неудобно болтать в саду. – Я не мерзлячка, – коротко возразила она, – и привыкла к воздуху во все времена года. – И я воздуха не боюсь, прелестная Фиоретта, особенно в вашем присутствии, которое распространяет тепло и свет, как солнце. Но сегодня я приехал не только попросить стакан вина, но и серьезно поговорить и сказать, что у меня на сердце, а для этого лучше быть в комнате, чем в саду. Она покраснела и покачала головой. – Нет, синьор, это неудобно. После смерти моей матери я живу одна, и было бы неприлично и все стали бы говорить обо мне, если бы я ввела в дом чужого человека, тем более что вы всегда приезжаете, когда моего верного Жакопо нет дома. Он и сегодня подрезает деревья в саду. Подождите, я сейчас принесу вам вина. Она сказала все это строго, повелительно и скрылась в доме. «Никогда еще ни одна женщина не привлекала меня так, как эта крестьянка, могущая быть герцогиней по красоте и обаянию, – подумал гость. – Этот клочок земли имеет немалую ценность, его можно бы продать, и если бы я тогда с нею появился в свете в Неаполе или еще дальше, она была бы мне отличной помощницей, чтобы управлять людьми и снова привлечь в мои руки деньги. Она умна и могла бы помочь мне восстановить мое надломленное счастье. Я проследил, что она принимает таинственного посетителя, только не мог узнать, кто он. Жаль, что я не первый, хотя, может быть, это и лучше – она будет доступнее, когда мне придется утешать покинутую, и тем послушнее подчинится мне». Фиоретта вернулась с большим стаканом вина и любезно поднесла его гостю. Он отпил и ближе подошел к ней, говоря: – Вы сказали, что я вам чужой человек, и вы не можете меня впустить в дом, но вы уже много раз видели меня и могли убедиться, что я не из тех людей, которых девушка может бояться. Она опустила глаза, краснея, но сказала с усмешкой: – А разве вы мне не чужой? Я даже не знаю вашего имени. – Я вам сказал, что меня зовут Бернардо, а мою фамилию – хорошую и очень известную в Италии – я имею причины скрывать от врагов, которые причинили большое несчастье моей семье и мне самому готовы были бы вредить. Для истинной подруги моя фамилия не была бы тайной, и я приехал спросить: хотите ли вы быть мне такой подругой? – Подругой… неизвестному? – спросила она. – Не неизвестному, Фиоретта, а тому, кто любит вас, как никто другой любить не может… Я предлагаю вам руку, чтобы ввести вас в свет, о роскоши и блеске которого вы и представления не имеете. Вы не созданы для этого жалкого одиночества или чтобы быть жертвою лицемерия и измены. Многие, конечно, будут говорить вам о любви, но вас обманут, и вы горько будете оплакивать ваше разочарование, я же предлагаю вам руку и имя, вы будете моей женой перед светом. Поэтому доверьтесь мне, а любовь разгорится в вашем сердце от моей любви… Дайте мне вашу руку, а когда мы будем стоять перед алтарем, вы узнаете и мою фамилию… Фиоретта, краснея и бледнея, слушала его горячую речь, она отступила перед его страстным взглядом, но когда он хотел взять ее руку, она отдернула ее и резко прервала его: – Довольно! Я не хочу и не должна слушать ваши слова, в правдивость которых не верю. Я прощаю вас. Вы думали, что имеете право так говорить со мной, но каждое лишнее слово ваше будет мне оскорблением. Вот Жакопо возвращается домой, и я принуждена буду его позвать, если вы не перестанете. – Фиоретта! – почти с угрозой воскликнул он. – Вы не хотите слушать меня и верить мне, а верите другим! – Уходите! – крикнула она, гордо выпрямляясь. – И не возвращайтесь никогда, так как я даже не окажу вам гостеприимства, которым вы злоупотребили. Она вдруг замолчала, покраснела, и счастливая улыбка появилась у нее на губах. Бернардо посмотрел по направлению ее взгляда: вдали на дороге из Флоренции виднелась группа всадников. Его лицо исказилось от раздражения. – Я ухожу, но вернусь опять, и вы, может быть, скоро убедитесь, что я был искренним вашим другом и больше достоин доверия, чем другие. Он отвязал лошадь, прыгнул в седло и, проскакав по полевой дороге к Сан-Донино, скоро скрылся в чаще деревьев. Фиоретта смотрела на дорогу с сияющими глазами и сильно бьющимся сердцем. Она вошла в дом. С пригорка спустился старик в крестьянской одежде. Он не видел Бернардо, уже скрывшегося за деревьями, но заметил, конечно, всадников на большой дороге, мрачно покачал головой, ворча, вошел в дом и поставил в угол свои инструменты. Всадники быстро приближались, Джулиано во весь дух скакал впереди. У калитки сада он спрыгнул, отдав повод лошади подоспевшему слуге, мимоходом подал руку Жакопо и вошел в комнату. Тут ему представилась такая прелестная картина, что он в восторге остановился на пороге. У окна на низком стуле, освещенная лучами заходящего солнца, сидела Фиоретта, держа на коленях годовалого ребенка, который обернулся, заслышав шум. Джулиано подбежал к молодой женщине, нежно обнял ее и взял на руки ребенка, весело протянувшего ему ручки. – Я приехал за тобой и за нашим Джулио, как уже давно обещал тебе, моя Фиоретта. Ты найдешь верный и мирный приют в доме нашего друга Антонио до тех пор, пока нам можно будет всему свету объявить о нашем браке. Там будет более достойная тебя обстановка, чем этот дом, где ты живешь одна и без защиты. – Более достойная? – повторила молодая женщина. – Не говори так, Джулиано, не презирай этот домик, где я счастливо росла с моими родителями и где познакомилась с тобой, когда ты заехал с охоты попросить стакан вина. Поверь, я не желала бы большего счастья, как жить здесь с тобой, вдали от света. Но это невозможно, как ты говоришь, ты богат и знатен и твоих родных надо подготовить к твоему браку с бедной девушкой… Ты так хочешь, и я повинуюсь тебе. Пусть это останется тайною, пока нужно, но богатства твоего мне не надо. И если бы я думала только о себе, то желала бы, чтобы ты был беден, как я… Для нашего Джулио я тоже не желаю богатства, я посвятила его Богу в часы тоскливого одиночества, чтобы искупить мой грех, когда я тайно обвенчалась с тобой! – Нет, нет, Фиоретта, – воскликнул Джулиано, крепче прижимая к себе мальчика, – так нельзя, наш Джулио должен носить шпагу и подняться высоко, на радость и счастье тебе. – Господь убережет его от земной гордости и тщеславия. Разве есть лучшее призвание, чем служить церкви? Он будет замаливать грехи матери, так как это все-таки был грех – тайно повенчаться с тобой и внести горе и раздор в твою семью. Ведь я даже имени твоего не знаю, и если бы с тобой случилось несчастье или ты забыл бы меня, я не могла бы моему сыну назвать его отца. – Фиоретта, Фиоретта, как могут приходить тебе в голову подобные мысли? – вскричал Джулиано, целуя ее. – Ты жена моя перед Богом, и Джулиано – имя, данное мне при святом крещении, тогда как другое принадлежит свету. Ты не узнаешь его, пока я не введу тебя в мой дом. Я люблю и уважаю моих родных, и ты узнаешь, кто они, только когда они с радостью примут тебя. – О, не придавай дурного значения моим словам, не думай, что мое доверие к тебе может поколебаться! Для меня ты всегда останешься Джулиано, даже если бы голову твою украшала княжеская корона, – добавила она с детским, простодушным смехом. Солнце почти скрылось. Антонио, разговаривавший в саду с Жакопо, вошел, почтительно поздоровался с Фиоретгой и стал торопить с отъездом. Молодая женщина вздохнула, опустилась на колени перед распятием и тихо молилась, пока Антонио держал мальчика, весело игравшего его длинными кудрями. Потом она встала и сказала, утирая слезы: – Я готова. Куда ты меня поведешь, там будет мое счастье. А ты, Жакопо, береги дом и могилы моих родителей. – Об этом не беспокойся, Фиоретта, – ответил старик и обратился к Джулиано: – Мне следовало бы питать к вам злобу, синьор, за то, что вы уводите Фиоретту из ее дома, но она будет счастлива только с вами, и я буду молить Бога, чтобы ее счастье никогда не омрачалось. Но я также буду молить Бога наказать вас, если вы когда-нибудь бросите ее, так слепо доверившуюся вам. – Будь спокоен, Жакопо, – сказал Джулиано, пожимая его загрубевшую руку, – она мне дороже жизни, и я обещаю, что ты скоро ее опять увидишь и будешь радоваться ее счастью. Дом остается на твоем попечении, а что тебе нужно… – Синьор Антонио дал мне даже слишком много денег. Я буду держать в порядке сад и виноградники, чтобы Фиоретта порадовалась, когда приедет взглянуть на дом, на могилы родителей и на старого Жакопо. Пусть она не делает так, как сестра ее Клодина. которая бросила отца, мать, родину и меня, старика, и ушла с чужим воином, околдовавшим ее сердце. Она больше не вернулась, бедная Клодина, и, может быть, уже погибла. – Что ты говоришь? – спросил Джулиано. – У Фиоретты была сестра… Она ушла из дома? – Спросите ее, – мрачно ответил старик. – Клодина была четырьмя годами старше, такая же красивая, свежая и веселая, пока не явился этот военный, вербовавший солдат для Сфорца. Он остановился на день в Сан-Донино, а остался на неделю, потому что встретил Клодину… Он околдовал ее сердце, и она ушла с ним, как Фиоретта уходит с вами, только не так свободно и открыто. Она таяла на глазах и ушла ночью. Он, верно, посылал ей известия тайно, чтобы заманить ее… Фиоретта свободна, она вольна делать, что хочет… Я не имею права удерживать ее, я могу только молить Бога, чтобы Он хранил ее. Фиоретта закрыла лицо руками, а потом выпрямилась и сказала со слезами на глазах: – Нехорошо, Жакопо, что ты сегодня вспоминаешь старое горе и говоришь про мою бедную сестру. Ты не справедлив к ней. Она любила своего Баггиста, и он был достоин ее любви… Разве он не просил ее руки у отца, а тот резко отказал ему, хотя мать хотела согласиться? Тогда она ушла, а мне сказала об этом ночью, хотя я была еще ребенком. Она плакала, прощаясь, и велела молчать. Она говорила, что иначе поступить не может… Я не понимала этого тогда и горько плакала, а теперь понимаю, что она была права. При этом она обняла Джулиано и, рыдая, склонила голову к нему на плечо. – Мы будем искать твою сестру, – сказал Джулиано, целуя ее мокрые от слез глаза, – обыщем все уголки Италии и найдем ее. А ты, Жакопо, будь спокоен за Фиоретту. Клянусь тебе, она будет счастлива, и мы вместе придем сюда, чтобы навестить тебя и помолиться у могил ее родителей. – Я должен вам верить, синьор, и изменить ничего не могу, но, повторяю, Бог накажет вас, если вы обманете ее доверие. Голос Жакопо дрожал, он почти грубо взял ребенка из рук Джулиано и нежно прижал его к груди. – Будь счастлив, мой Джулио, да хранят тебя Господь и все святые! Фиоретта молча пожала ему руку и взяла ребенка. Джулиано закутал ее в меховой плащ, посадил на иноходца, и всадники быстро скрылись в темноте. Пока Жакопо стоял в мрачном раздумье у двери осиротелого дома, со стороны Сан-Донино подъехал всадник. Он был в широком сером плаще, в надвинутой на глаза мягкой войлочной шляпе, так что лицо его почти нельзя было разглядеть. – Это дом Говини? – спросил он, останавливая лошадь. – Говини уже два года как померли, – нехотя ответил старик. – Если вы их ищете, то опоздали. – Но осталась дочь, как мне сказали в Сан-Донино. Мне хотелось бы купить дом, сад, виноградники. – Дом не продается… – Так разве дочь хочет одна вести хозяйство? Я хотел бы поговорить с ней, может быть, она примет мое предложение. – Ее нет, а даже если бы она была здесь, это не повело бы ни к чему. – Ее нет? Так это, верно, она уехала с всадниками? Я слышал конский топот. – Ее нет, и этого вам достаточно, – проворчал старик; – Я вам опять повторяю, этот дом не продается. Он вошел в дом и резко захлопнул дверь. – Я был прав, – проговорил всадник. – Это был Джулиано – он похитил крестьянку, которая красивее всех аристократок. Надо проследить, куда он ее спрячет. Хороший охотник не должен терять следа. Он медленно поехал прочь, прислушиваясь к стуку копыт. Антонио подъехал со своими спутниками к задней части парка и отпер маленькую калитку. Все сошли с лошадей и прошли через парк в помещение, которое он показывал утром Джулиано. Комнаты были еще уютнее при вечернем освещении, и Фиоретта радостно вскрикнула, увидев свое убежище – оно превосходило все ее представления о роскоши. – И я тут буду жить, мой дорогой Джулиано? О, как восхитительно! И как я счастлива буду здесь, если буду видеть тебя чаще, чем ты мог приезжать ко мне за город. – Ты будешь видеть меня каждый день, – отвечал Джулиано, целуя ее со счастливой улыбкой. Женевра вышла из спальни, почтительно поклонилась и взяла у нее из рук ребенка. – Дайте мне его, сударыня, я буду заботиться о нем. Я вырастила уже многих детей. Какой он красивый и ласковый! Вы будете радоваться на него, когда он будет расти и крепнуть. Маленький Джулио вовсе не боялся нового лица и спокойно дал уложить себя в люльку. Фиоретта пошла за Женеврой и опять вскрикнула от радости, увидев спальню. Вернувшись, она обняла Джулиано и молча поглядела на него с выражением счастья и благодарности. – Вот друг, устроивший нам это уютное гнездышко, – сказал ей Джулиано. – Здесь ты под его кровом и под его защитой и будешь жить беззаботно, пока я введу тебя в твой собственный дом. Она молча протянула руку Антонио, а он велел преданному слуге принести уже накрытый для ужина стол, и они сидели втроем, дружески беседуя, а из спальни слышалась колыбельная песня, которую Женевра напевала маленькому Джулио. Фиоретта иногда оглядывалась как во сне, будучи не в состоянии соединить этот блеск и красоту со своими понятиями о тихой, скромной жизни. Так прошел час, и Джулиано поспешно встал. – Мне нужно ехать, моя Фиоретта, а завтра я опять буду у тебя. Завтра и каждый день. Он простился с Фиореттой и подошел к люльке сына, а потом Антонио провел его через потайную дверь в свою комнату, так что и слуги не могли ничего заподозрить. Ужин был окончен, когда Джулиано приехал к брату. Общество было невелико: родители Козимо – Бернардо Ручеллаи и донна Наннина, сестра Джулиано, маркиз де Маляспини, высокий, статный вельможа в богатом рыцарском костюме, с выхоленной клинообразной бородой и длинными седеющими локонами, и молодой, но уже знаменитый ученый Полициано, собиравшийся читать стихи. – Пожалуйста, не смущайтесь, Полициано, – вскричал маркиз при появлении Джулиано, – а вы, Джулиано, слушайте внимательно, вам будет поучительно знать, как судит о вас свет. Все думают так, как это прекрасно выразил Полициано. В стихотворении заключалось восхваление Джулиано. В изысканных выражениях превозносились его качества и геройские подвиги, которые предстояло совершить в будущем молодому Медичи. При особенно выразительных стихах Лоренцо аплодировал, и другие следовали его примеру. Джулиано же сконфуженно и с неудовольствием опускал голову. Его страшили все высокие подвиги, возложенные на него стихами Полициано и одобренные Лоренцо. Он со вздохом думал о Фиоретте, маленьком Джулио, о своем мирном счастье, которое ему придется горячо и трудно отстаивать. Наконец Полициано объявил, что его труд еще не окончен и он прочтет продолжение в другой раз. – Посмотри на счастливца, Джулиано, – сказал Лоренцо, указывая на Козимо, сидевшего рядом с матерью. – И он предназначается для высоких целей и не обманет наших ожиданий, так как будущее улыбается ему. По моей просьбе маркиз Габриэль согласился отдать ему руку дочери, и он покажет себя достойным этого союза, желательного и почетного для нашего дома. Джулиано от души пожелал счастья Козимо, но в его словах невольно звучала грусть, так как радость Лоренцо по поводу блестящего брака племянника доставила ему боль. Долго не засиживались, так как Козимо на другой день уезжал в Рим.
Глава 7
В первые дни путешествия Козимо так торопился, как только позволяли лошади и его собственные силы. Он рано выезжал и останавливался только к ночи, так что через несколько дней миновал уже Витербо и маленький городок Ветралло, древний форум Кассии. В это утро на заре он ехал по горной дороге за Капраникой, окруженной дремучими лесами, мало проезжей в это время года и пользующейся дурной славой, так как тут часто совершали нападение разбойники, скрывавшиеся в оврагах около озера Браччиано. Козимо не думал об опасности, его люди были хорошо вооружены, и он мечтал только о счастье, которое ожидало его в Риме, когда он привезет Джованне радостное известие. Дорога становилась все мрачнее и лесистее. Когда Козимо миновал местечко Капраника и подъезжал к подошве Рокка Романа со скалистыми обрывами, его лошадь вдруг шарахнулась в сторону, а из леса, у поворота дороги, послышались грозные голоса, лязг оружия и женский голос, взывающий о помощи. Козимо сейчас же велел привязать вьючных лошадей к деревьям, а своих слуг послал частью верхом, частью пешими по направлению голосов. Недалеко от опушки леса они увидели человек десять богато одетых слуг, окруженных дикими разбойниками. В середине этой группы на великолепном коне сидела дама в черном бархатном платье, закутанная меховым плащом. Разбойник атлетического сложения, схватив лошадь под уздцы, тянул ее на тропинку, ведущую в горное ущелье. Дама то громко угрожала, то обещала крупное вознаграждение, если ее отпустят на свободу. Разбойник не обращал на нее никакого внимания и уже довел лошадь до опушки леса, когда Козимо подскочил с обнаженной шпагой. Разбойник с проклятием бросился на него, но Козимо сильно ударил его по руке, и он выронил кинжал. Слуги Козимо бросились на других разбойников, которым пришлось выпустить из рук своих пленников. После короткой схватки, при которой один из разбойников был тяжело ранен, их атаман счел себя побежденным и издал резкий свист. Разбойники собрались около него и исчезли в горном ущелье. Слуги Козимо хотели было их преследовать, но он запретил им пускаться в опасную, незнакомую местность и подъехал к даме, которая дрожала от страха, сидя на своей испуганной лошади. Дама была молода, гибкого, стройного сложения и поразительной красоты. Благородные, правильные черты лица выражали гордость и силу воли, большие черные глаза светились чудным огнем, черные локоны выбивались из-под шляпы, и, видя, как она своей маленькой ручкой уверенно сдерживала храпевшую от испуга лошадь, ее можно было принять за воинственную амазонку, если бы не было столько мягкости и женственности в ее улыбке и в очаровательном взгляде, обращенном к избавителю. Сняв шляпу, Козимо поклонился ей и сказал с рыцарской любезностью: – Я счастлив, благородная синьора, что избавил вас от разбойников, и прошу позволения проводить вас, пока мы выедем из этой опасной местности. – Благодарю Бога, что Он вас послал, – ответила дама мягким грудным голосом. – Примите мою искреннюю благодарность и уверение, что я никогда не забуду ваше доброе дело. Я даже сама попросила бы вас проводить меня и надеюсь, что это не особенно стеснит вас, так как, вероятно, нам предстоит одна дорога. – Даже если бы этого не было, я не дал бы вам снова подвергаться опасности, – сказал Козимо, любуясь ее красотой. – Даже если бы мне пришлось свернуть с моего пути, это с лихвой вознаградилось бы вашим обществом… Я еду в Рим и… – О, как удачно, и я туда возвращаюсь! Тогда я не буду стесняться навязать вам мое общество. Она сняла перчатку и протянула ему изящную ручку, которую он почтительно поцеловал. – Пикколо! – воскликнула она, быстро оборачиваясь. – Ты тут, мой Пикколо! Воображаю, как ты испугался разбойников. Поблагодари этого благородного синьора, избавившего нас от них. Она нагнулась к подъехавшему к ней на крошечной лошадке карлику, каких держали в то время в знатных домах. Маленькое странное существо возбуждало смех и вызывало сострадание. Карлик, ростом с семилетнего ребенка, был худ, но довольно пропорционально сложен, только руки были несколько длинны, и голова слишком низко сидела на короткой шее. По маленькому лицу, окаймленному густыми волосами, видно было, что ему не меньше тридцати пяти лет. При этом лицо его своей необыкновенной подвижностью очень напоминало обезьяну. Глубоко впалые глаза смотрели то робко, то надменно и злобно, а тонкие, закрученные кверху усики прикрывали тонкую губу. На карлике был костюм, бросавшийся в глаза своим богатством и пестротой. Дорогие перья украшали его шляпу, на боку висела крошечная шпага, на плечи был накинут плащ, подбитый мехом. Крошечная лошадка, совсем подходящая к его росту, была под чепраком, вышитым золотом, и в дорогой уздечке. – Действительно, благородная синьора, – отвечал Пикколо хриплым и крикливым голосом, галантно целуя руку своей госпожи, – это была большая опасность для вас, но не для меня, так как я не знаю страха. Разбойники, разбойники… Но ваши слуги жалкие трусы, которые тотчас же испугались, не взявшись даже за оружие. Вам следовало бы их всех прогнать, они недостойны вам служить. Вас я благодарю так же, как и благородная синьора, за содействие, – обратился он к Козимо, подъезжая на своей лошадке, – что, конечно, было нетрудно для вас, так как вы, кажется, имели перевес в численности. Он вытянул свою длинную руку и высокомерно смотрел ла Козимо, который с улыбкой нагнулся к нему. – Ты не любезен с нашим избавителем, Пикколо, – сказала дама. – Простите ему, синьор, он не склонен признавать чужие заслуги, но будьте уверены, что я должным образом ценю ваше содействие. Однако надо ехать. Конечно, нечего бояться нового нападения, но я рада буду покинуть эту опасную местность! Они поехали вперед, слуги следовали в некотором отдалении. Пикколо ехал рядом со своей госпожой. – Благородная синьора, разрешите вам сообщить, кто имеет честь вас провожать… – Отчасти я догадываюсь, – с улыбкой прервала дама. – Ваши слуги, кажется, одеты в цвета Медичи? – Совершенно верно, но я принадлежу к этому дому только с материнской стороны – Лоренцо де Медичи мой дядя, я ездил по его поручению и служу в его банке в Риме. Козимо назвал свою фамилию. – Я не ожидала, что мой рыцарский избавитель так близок к знатному дому Медичи, – радостно воскликнула дама, – но мне тем более лестно продолжать путь под такой охраной… Я тоже должна была бы сказать вам свое имя, – заговорила она после некоторого колебания, – но я попрошу вас позволить мне сохранить тайну, тем более что она не моя: я ездила по поручению родственника, которому должна повиноваться, и моя поездка должна пока остаться неизвестной. Я не стала бы скрывать все это от вас и обещаю, что эта тайна скоро прояснится. Даю вам слово, что это не недоверие. Зовите меня Лукрецией – я получила это имя при крещении, и друзья так вообще зовут меня, а я надеюсь, что мы всегда останемся друзьями. – Конечно, – отвечал Козимо. – Мне не нужно другого имени, чтобы всегда быть к вашим услугам. Они продолжали путь, весело болтая. Лукреция говорила о Риме так подробно и уверенно, что Козимо, живший там совсем недавно, слушал с интересом и задавал ей вопросы, на которые она отвечала то серьезно, то с тонким остроумием. При этом она выказывала такой живой ум, такое знание людей и такое разностороннее образование, что Козимо пришел в восторг от разговора, который она вела с непринужденностью и доверчивостью старой знакомой, и даже забыл нетерпение, с которым еще недавно стремился к цели своего путешествия. К обеду они приехали в древний этрусский город Сутрию, построенный на скалистой плоскости в виде острова и называвшийся во времена Древнего Рима воротами и ключом Этрурии, так как скалы соединяются с сушей двумя узкими ущельями, по которым не смогли бы пройти войска, не взяв предварительно город. – Надо дать лошадям отдохнуть, на это потребуется два часа, – сказал Козимо. – Два часа? – воскликнула Лукреция. – Нет, нет, этого мало, там так много надо осмотреть. Помню, я была здесь почти ребенком, и мне хотелось бы в благодарность за вашу защиту быть вашим проводником при осмотре памятников прошлого, которых немало в этом городе. Я тоже устала, наверное, от испуга, мне хотелось бы отдохнуть, а дни так коротки, что мы немного проедем до вечера. Останемся до завтрашнего утра. Козимо колебался. Он вспомнил Джованну, всякое промедление отдаляло счастье свидания, но Лукреция уже направила свою лошадь к городу, и Козимо подумал, что они действительно немного проедут до темноты, а лучшего места для ночлега трудно желать. Он считал себя обязанным заботиться о даме, которую взялся охранять, и поэтому без возражений стал подниматься к городу. Они въехали через северные ворота. Дома, сложенные из каменных глыб, напоминали о древности. А ворота назывались именем Фурия Камилла, который за четыреста лет до Рождества Христова завоевал Сутрию для римлян. В стенах были видны высеченные статуи и остатки античной скульптуры, и Лукреция постоянно обращала внимание своего спутника на эти памятники древности. Местные жители удивленно смотрели на блестящую кавалькаду в их малопосещаемом городке, но ничем не выражали любопытства или навязчивости и только почтительно кланялись красавице и ее спутнику. На вопрос Козимо им указали остерию на базарной площади. Хозяин объявил, что может дать помещение господам, но слугам придется довольствоваться конюшнями. Он проводил Козимо, Лукрецию и следовавшего за ними карлика в первый этаж старинного дома и открыл им четыре комнаты в ряд, со сводами и остроконечными окнами, просто, но удобно и уютно обустроенные. Козимо испуганно отступил. – Это для синьоры, – сказал он, – а мне дайте другую комнату, хотя бы маленькую и неудобную, я никаких требований не предъявляю. Хозяин удивленно посмотрел на них, а Лукреция, краснея, опустила глаза. – Спальню я могу предложить синьору на другом конце коридора, но там, конечно, не так хорошо, как здесь. – Все равно, – поторопился заявить Козимо, – проводите меня туда и позаботьтесь, насколько возможно, об ужине. Вам нужно отдохнуть, синьора, – продолжал он, обращаясь к Лукреции, – будьте добры известить, когда вы мне разрешите прийти ужинать с вами. – Мне нужно несколько минут, чтобы поправить мой туалет, через полчаса я к вашим услугам. – Достаньте нам проводника, – сказал Козимо хозяину. – Я помню, что в вашем городе много замечательных памятников старины. – Как же, древние этрусские гробницы, церковь Мадонны дель-Парто, древний амфитеатр и грот Орланда. Я дам одного из моих людей, и он вам все это покажет. Козимо поклонился и последовал за хозяином, который привел его в маленькую комнатку и обещал употребить все старания, чтобы приготовить хороший ужин. Хозяин вышел, а Козимо позвал своего слугу, чтобы вычистить платье и клинок шпаги, запачканный кровью разбойника. Вскоре за ним пришел Пикколо. – Идемте, – сказала Лукреция, выходя к нему навстречу, – наш проводник ждет, и мне не терпится показать вам памятники древности, которые теперь еще живее вспоминаются мне. Пикколо, останься дома, отдохни и смотри, чтобы стол был накрыт к нашему возвращению. – Я не устал, – ворчливо сказал Пикколо, враждебно глядя на Козимо. – Наш переезд так же мало утомил меня, как этого синьора. – Ты дитя и не соразмеряешь свои силы с возможностями, – возразила Лукреция, смеясь. – Я должна заботиться о тебе, чтобы ты приехал в Рим бодрым, поэтому приказываю остаться здесь и смотреть, чтобы стол хорошо был накрыт. Пикколо отвернулся и бросился в кресло. Лукреция и Козимо ушли. – Пикколо как собачонка, – со смехом сказала она, спускаясь по лестнице, – ему всегда хочется быть около меня, а ходить по скалам было бы ему слишком трудно. Ожидавший внизу проводник повел их к Порта Романа, откуда дорога в Рим спускалась к ущелью. Везде были видны гробницы в скалах с высеченными надписями. Наконец они пришли к отвесной скалистой стене у самой дороги, над которой росли могучие дубы. Над небольшим отверстием в каменной стене были высечены слова: «Здесь замедли шаг, это место священно». – Да, да, здесь! – радостно вскричала Лукреция. – Я вспоминаю, какое впечатление это произвело на меня, когда я была ещё ребенком. – Это церковь Мадонны дель-Парто, – сказал проводник, останавливаясь у отверстия. – Вероятно, древняя гробница, которой пользовались христиане для молитв, а теперь она посвящена Богоматери. Он вошел первым, а за ним Лукреция, которая подала руку Козимо, точно хотела его вести. Пещера, в которую они вошли и где глаз должен был сперва привыкнуть к темноте, представляла высокий свод, разделенный столбами на три части. В глубине находился алтарь, и рядом, у запертой двери ризницы, неугасимая лампада. На алтаре, перед изображением Богоматери, горели две толстые восковые свечи. Все это, высеченное из природных скал, производило удивительное впечатление. Смягченный дневной свет проходил через отверстие, а лампада и свечи бросали на стены фантастические тени. – Не правда ли, как хорошо? – сказала Лукреция, пожимая руку Козимо. – Нигде ничего подобного не увидишь. Вы не пожалеете, что согласились по моей просьбе подольше остаться здесь. – Напротив, я благодарю вас, – с волнением сказал Козимо. – Я ничего подобного не видел и никогда не забуду это впечатление. – Тогда я уверена, что у вас останется хоть одно воспоминание о нашей встрече, – заметила Лукреция шутливо, но удивительно задушевным тоном. – Точно прошлые столетия встают перед нами, сообщая нам священные откровения. Здесь была гробница, предназначенная для вечного покоя смерти, а потом здесь снова возникла жизнь, принося даже в могилу радостную весть… Но мы забыли поклониться святыне, – добавила она, указывая на проводника, преклонившего колено перед алтарем. Все еще не выпуская руки Козимо, она подвела его к алтарю, встала на колени и шептала молитву, глядя на образ Мадонны, а Козимо тоже опустился на колени рядом с нею. Торжественная тишина царила в скалистом своде. Козимо был потрясен, а Лукреция казалась взволнованной. Она сжала его руку, как бы в забытьи прислонилась к его плечу и внятно проговорила: – Святая Мадонна, моли Бога о нас! Козимо испытывал странное ощущение, стоя перед алтарем с женщиной, еще недавно совершенно незнакомой ему, и вознося с ней совместную молитву ко Всевышнему. Прижавшись головой к плечу Козимо, Лукреция смотрела на него лучистым, как бы детским, молящим и вопрошающим взглядом. Этот взгляд неотразимо притягивал его, и он никак не мог оторваться от него. Она быстро встала, подошла к столбу, Козимо тоже поднялся, но оба чувствовали себя неловко и не могли продолжать разговор так непринужденно, как прежде. Они молча слушали проводника и, наконец, направились к выходу. Козимо легче вздохнул на свежем воздухе. Лукреция еще раз взглянула на часовню, и они последовали за проводником к другим скалам. Тут был вполне сохранившийся, тоже высеченный в скалах амфитеатр, существовавший, по словам проводника, в то время, когда в Риме не строили еще каменных театров. Это перевело разговор на общие темы. Лукреция опять весело болтала, но избегала смотреть в глаза Козимо. Они миновали целый ряд гробниц с древнейшими изваяниями и за густыми кустами остановились перед аркой. – Это грот Орландо, – сказал проводник, войдя в пещеру. – Да, да, – оживленно ответила Лукреция. – Здесь знаменитый герой Орландо во время похода Карла Великого на Рим забыл про войну и… Она остановилась и потупилась, краснея. – Совершенно верно, благородная синьора, – подтвердил проводник. – Великий, непобедимый Орландо был побежден здесь красивыми глазами девушки из Сутрии. Он обратил этот грот в убежище их любви и едва мог оторваться, когда император Карл Великий приказал ему немедленно прибыть в Рим. А прекрасная Дидо умерла от горя. Лукреция влажными глазами осматривала грот и, наконец, со вздохом подняла их на Козимо. – Сколько бесконечного счастья укрывал этот грот, тем более сладостного, что оно было тайной для света! Козимо покачал головой. – А сколько горя в этом мимолетном счастье, пролетевшем, как сон! – возразил он. – Прекрасная Дидо умерла от отчаяния, а если Орландо был такой, каким я себе его представляю, это воспоминание должно было навсегда омрачить его покой. – Разве смерть слишком большая жертва за высшее счастье, которое может дать жизнь? И верно, уж не так сильна была любовь Дидо, иначе Орландо не покинул бы ее, она сумела бы поддержать огонь страсти. – А если бы ей удалось удержать героя в этом гроте, она отвлекла бы его от славы, прогремевшей в веках, и причинила бы ему горе хуже смерти. Любовь, скрывающая свое блаженство, не может удержать сердце, которое стремится подражать подвигам исторических героев. Ползучий мох тоже иногда цветет пестрыми цветами, но благородной розе нужен солнечный свет для полного расцвета. Он гордо выпрямился, его глаза сверкали, и голос громко раздавался в пещере. Лукреция с восторгом посмотрела на него, потом подбежала и горячо поцеловала его руку. – Что вы делаете, синьора? – воскликнул Козимо, испуганно отступая. – Поклоняюсь рыцарскому геройству, которое звучит в ваших словах! Оно теперь редко встречается в свете, где хитрость и лицемерие заменили гордое мужество и победоносную, силу. Мне кажется, будто я вижу, перед собой Орландо, и… я понимаю счастье и отчаяние Дидо. – Походить на Орландо я, конечно, не могу, – с улыбкой заметил Козимо, – но стремиться подражать ему будет целью моей жизни. Однако пора вернуться в город синьора, – заметил Козимо, – солнце уже начинает садиться, вам нужно отдохнуть, чтобы выехать завтра на рассвете. Они молча шли по скалистой дороге к городу; она опиралась на его руку. В остерии они застали весьма приличный и заманчивый ужин, приготовленный в комнате Лукреции. Маленький Пикколо бранился с хозяином и прислугой, горько жаловался, что они не повинуются его приказаниям и даже позволили себе смеяться над ним и обращаться, как с ребенком. Лукреция, смеясь, утешала карлика, а за ужином была так весела, разговорчива и остроумна, что рассеяла серьезность Козимо. Пикколо, как невоспитанный ребенок, часто вмешивался в разговор, делая злобные, вызывающие замечания насчет Козимо, за что Лукреция несколько раз резко обрывала его. Он утолял свою злобу вином и, в конце концов, напился, отчего его маленькая фигурка с раскрасневшимся лицом казалась еще смешнее. После ужина Лукреция приказала уложить его в постель. Пикколо сопротивлялся, топал ногами, но ослушаться не посмел и удалился, бросив на Козимо враждебный взгляд. Лукреция прошла в соседнюю комнату и попросила Козимо, собиравшегося уйти, посидеть еще немного. – Мы успеем выспаться, даже если выедем на заре, я стараюсь ограничивать сон, отнимающий у нас так много времени. Самый благородный отдых для ума – общение с родственной душой, и я хотела бы таким отдыхом закончить сегодняшний день, давший мне избавление, от опасности и так много неизгладимых воспоминаний. Она открыла корзину, обтянутую кожей, достала оттуда изящную лютню с золотыми украшениями и, сев на кушетку, взяла несколько аккордов, затем запела одну из песен Петрарки, в стиле песен средневековых миннезингеров. Музыка, собственно, не составляла мелодии, это было нечто среднее между пением и декламацией, как и теперь еще исполняются старинные французские романсы. Поэтичные слова любви она выговаривала совершенно ясно, полным контральтовым голосом, владеющим всеми модуляциями, от задушевного шепота до потрясающей страсти. Козимо слушал с восторгом. Он ничего подобного не встречал и, когда она протянула ему лютню, едва решился тоже исполнить романс. Козимо все забыл под влиянием какого-то очарования. Прошло более часа, когда он вдруг испуганно вскочил. – Я дольше не могу нарушать ваш покой, синьора. Благодарю вас за доставленное мне удовольствие и желаю вам радостных снов. – Сны? – повторила она. – Разве вся жизнь не сон, который так же быстро пролетает, как радостные или грозные представления во сне? Жизнь имеет только то преимущество, что она хоть раз была действительностью, а не призраком, к которому мы тщетно простираем руки во сне. Лукреция простерла руки как бы в дополнение своей мысли, но перед ней стоял Козимо, а не призрачное видение. Он взял ее руку, почтительно поцеловал и опять пожелал спокойной ночи. Она не выпустила его руку, глядя ему в глаза. Козимо нагнулся, как отуманенный, ее губы раскрылись… но он содрогнулся и быстро вышел из комнаты. Она сделала несколько шагов, точно хотела последовать за ним, но со вздохом опустилась на кушетку и закрыла лицо руками. – Орландо! – прошептала она. – Дидо! Она все-таки была счастлива, хоть и заплатила жизнью за счастье. Лукреция взяла лютню, из нее полились чудные звуки, точно издали слышалась томительная песня соловья. Заря еще не осветила горы, когда Козимо встал после тяжелой, тревожной ночи. Странный сон преследовал его. Козимо хотел отогнать его, но сон возвращался, как только он смыкал глаза. Наконец Козимо встал, пошел будить людей и велел готовиться в путь. Холодный воздух освежил его, и он посмеялся над своими снами, объясняя их встречей с разбойниками, тяжелыми впечатлениями от гробниц и хорошим вином. Ему опять захотелось поскорее доехать домой, и при первых лучах солнца он велел доложить Лукреции, что все готово к отъезду. Она вскоре явилась, с бледным лицом и утомленными глазами, доказывающими, что она тоже плохо провела ночь. За завтраком Лукреция была весела по-прежнему, хотя избегала взгляда Козимо. Пикколо был очень недоволен ранним отъездом, бранил лакеев, которые приготовили ему неудобную постель и помешали тщательно заняться своим туалетом, как подобает такому изящному господину, даже во время путешествия. Он еще больше рассердился, когда Козимо, отстранив его, подал стремя Лукреции. Карлик, ворча, взобрался на свою лошадку и поехал рядом с госпожой. Дорога шла через Монтерози, где путешественники опять выехали на Виа-Кассия, с которой свернули, чтобы переночевать в Сутрии. Тут кончились лесистые Сабинские горы, местность стала плоской, пустынной. Лукреция оживленно разговаривала об истории этих мест, о красотах природы, но в речах ее не было такой веселой непринужденности, как накануне, и Козимо тоже отвечал иногда, точно пробуждаясь ото сна. Они проехали мимо кратера, в котором расположилось, как в гнезде, местечко Бацеано с приветливыми домиками и садами. – Как счастливы, должны быть там люди, – сказала Лукреция. – Прежде подземные силы тут разрушали жизнь, а теперь люди находят защиту от стихий, бушующих на горной высоте. Кажется даже заманчивым спуститься в этот мирный уголок. – Нет, меня не тянет вниз, – поспешно ответил Козимо. – Там тоже, конечно, царят страсти, людская зависть и злоба, но они отравляют душу, приковывая ее к земле, а на высоте она борется и стремится к простору… Поедемте, я покажу вам теперь гордую высоту. Он пришпорил лошадь и поскакал вперед, на близлежащий холм, а за ним – Лукреция, не обращая внимания на жалобные крики Пикколо, лошадь которого не могла поспеть за ними. С холма, за обширной равниной, похожей на зеленевшее море, за Монте-Марио, был хорошо виден сияющий купол собора святого Петра, освещенный полуденным солнцем, и открывались живописные окрестности Вечного города. Внизу серебристой лентой извивался Тибр. – Вот мир, где заблуждения, даже преступления, будут велики и возвышенны, и где я буду искать и труд, и счастье. – Вы правы! – с сияющими глазами сказала Лукреция, потом протянула руку над равниной и громко, торжественно произнесла: – «Великое солнце, приносящее день на блестящих волнах и снова скрывающее его, всегда возрождающееся, всегда другое и вечно одинаковое, – ты не увидишь ничего величественнее Рима». – Я поражен, благородная Лукреция, – воскликнул Козимо, с восторгом глядя на ее прелестное лицо, – я не думал, что вы так твердо знаете великого Горация Флакка. Если смотреть отсюда на Вечный город, то можно думать, что великий поэт только здесь и мог написать эти чудные строки. – Вы удивляетесь моим знаниям? – спросила Лукреция. – Я могла бы даже обидеться. Думаю, флорентийские дамы тоже читают поэтов древности. Как же мне, римлянке, не знать и не понимать величайшего поэта римского величия? Но я вам прощаю за то, что вы так чтите мой родной город, и желаю вам в нем найти высшее счастье. Отчаянные крики Пикколо прервали разговор. Его лошадка упрямо отказывалась взбираться на холм, ржала и вертелась, а он взывал о помощи, уцепясь за ее густую гриву. Козимо подъехал, взял под уздцы обыкновенно смирную лошадку, а Лукреция ударила хлыстом бранившегося Пикколо, и все снова продолжили путь до Ла-Старта, где сделали часовой привал для отдыха и кормления лошадей. Лукреция стала молчаливее, казалась взволнованной и иногда проводила рукой по глазам, точно вытирая слезу. В остерии, где им подали вино, фрукты и хлеб, было много окрестных поселян, поэтому Лукреция и Козимо вышли посмотреть на место древнего города Байи, который был разрушен диктатором Камиллом за сопротивление Риму. – Мне грустно думать, что вы можете меня счесть неблагодарной, так как я расстаюсь с вами, не говоря даже, кто я… Но, повторяю, это не моя тайна, и я должна ее хранить, но надеюсь, что она скоро откроется. Вы обещаете мне прийти, когда я пошлю за вами? Я не хочу быть забытым воспоминанием для моего избавителя. – Забытым оно не будет, даже если бы я больше не имел счастья увидеть мою прелестную и ученую спутницу. Но свидание было бы радостно: вы обещали, что мы будем друзьями, и я надеюсь, что мы ими останемся… – Значит, до свидания. Лошади были поданы. Пикколо оставался в гостинице, выпил хорошего вина в утешение, и слуги бережно посадили его в седло. Они ехали молча, каждый погруженный в свои мысли, по мрачной равнине Кампаньи, где однообразие нарушалось только отдельными развалинами и стадами серебристо-серых быков с громадными, широко расставленными рогами. Их гнали пиками верховые в остроконечных шапках, в высоких сапогах со шпорами, с красными поясами. Далее виднелись стада баранов с пастухами в широких шляпах и в плащах на бараньем меху. Только у Моите-Малло местность стала приветливее, и наконец, путешественники при надвигающихся сумерках въехали в Рим через Порта-дель-Пополо. Лукреция остановила лошадь. – Позвольте мне здесь проститься с вами. До свидания! – До свидания! – повторил Козимо, а когда она отвернулась, он пришпорил лошадь и, не оглядываясь, поскакал в город. Козимо скоро доехал до Виа де-Банки, спрыгнул с лошади под порталом дворца Медичи и немедленно прошел в кабинет к Торнабуони для доклада и, не выказывая ни малейшего нетерпения, спокойно и ясно передал все сказанное Лоренцо в дополнение его письма. Торнабуони отложил письмо для внимательного прочтения и с улыбкой сказал племяннику, ласково похлопав его по плечу: – Ты хорошо и разумно исполнил поручение, Козимо. Доволен ли ты своими личными делами так же, как я доволен твоим первым шагом в серьезных делах? – О, я вполне счастлив, дядя! – просияв, воскликнул Козимо. – Лоренцо одобрил мое желание, и маркиз Маляспини также дал свое согласие. – Еще бы! Теперь дела окончены, иди и передай добрую весть – ее ждут с нетерпением. Торнабуони сел читать письмо Лоренцо, а Козимо помчался к маркизе, не дав даже времени слугам доложить о нем. Джованна вздрогнула при его неожиданном появлении, но, увидев радостное лицо жениха, со слабым криком бросилась к нему навстречу. Маркиза не рассердилась, что Козимо только потом поздоровался с ней, и оставила влюбленных. Что они говорили между собой – неизвестно, но, конечно, это было все то же самое, всегда кажущееся новым, как заря, веками появляющаяся на горизонте и приносящая людям новую жизнь и новые надежды. Козимо только вскользь упомянул о своем путешествии, а о встрече с Лукрецией ничего не сказал – он едва помнил о ней и забывал весь мир, глядя в лучистые глаза Джованны.Глава 8
По возвращении Козимо в доме Торнабуони царила полная радость. Помолвка Ручеллаи с маркизой Маляспини была объявлена, и свадьба должна была состояться в начале лета. Как ни высоко стояли Медичи и их родня в общественном мнении, союз с домом Маляспини де Фос-динуово, принадлежащим к самой родовитой аристократии в Италии, являлся радостным и лестным событием. Семейство Медичи проявило при помолвке всю свою роскошь, и высшее общество Рима присутствовало на торжестве. Джироламо Риарио тоже явился и выразил обрученным самое дружеское и любезное внимание. Франческо Пацци в изысканных выражениях принес пожелания счастья Джованне и с искренним сочувствием отнесся к Козимо, с которым обыкновенно обращался свысока, как с мальчиком, так что Джованна подумала, что он забыл прошлое, или она сама придала слишком серьезное значение простой светской галантности. С Торнабуони он поговорил прямо и откровенно, выразив сожаление в том, что папа лишил дом Медичи звания своего казначея. – Лоренцо сам виноват в этом, – добавил он. – Его банк слишком велик и могуч, чтобы папа не счел оскорблением отказ в требуемой сумме. К нам же нельзя иметь претензии за то, что мы с благодарностью приняли оказанную нам его святейшеством милость. Лучше упрочить звание папского казначея за одним из флорентийских домов, чем отдать его в совершенно посторонние руки. – Вы были совершенно правы, – отвечал Торнабуони, – хотя взяли на себя обузу, которой мы часто тяготились. Папа предъявляет требования, нередко превышающие наши силы, а теперь мы свободнее в делах и не должны стесняться никакими соображениями. Сомневаться в нашей преданности папскому престолу его святейшество не имеет оснований, и мы будем всегда доказывать, что готовы служить ему по мере сил и возможностей. Этим вопрос был исчерпан, и парадный обед прошел при общем оживлении, так как и папа прислал свои поздравления обрученным через кардинала Орсини, подчеркнув неизменную преданность дома Маляспини церкви и ее высшему представителю. После обеда, когда в соседних залах лучшие певцы и певицы Рима услаждали гостей своим пением, граф Джироламо увел Торнабуони в маленькую гостиную. – Дорогой друг, я должен уведомить вас, что это недоразумение нисколько не изменило моего отношения к вам и к дому Медичи. Я очень жалею, что Лоренцо из упрямства – вы не можете с этим не согласиться – не пожелал достать требуемую его святейшеством сумму… – Не мог достать, – перебил его Торнабуони. – Хорошо, – замялся Джироламо, – спорить не буду, вам не надо это утверждать, но я все-таки не поверю, чтобы эта сумма превосходила средства Медичи. Все равно, дело кончено, но я из-за этого, как владелец Имолы, буду не менее добрым соседом Флорентийской республики, и Монтесекко, начальник моего войска, будет во всем следовать советам Лоренцо. Я очень жалею, что все это произошло. Папа рассержен и выразил свое недовольство, передав дому Пацци звание казначея. Этого уже изменить нельзя, но мне крайне желательно, чтобы во всем остальном нарушенное согласие было восстановлено, так как долгий и все усиливающийся разлад не выгоден ни папскому престолу, ни Флорентийской республике, ни дому Медичи. – Конечно, нет, – со вздохом согласился Торнабуони. – Я со своей стороны охотно приложу все старания, чтобы сгладить недоразумение. – Это будет трудно. Вы понимаете сами, что папа, если даже сожалеет о случившемся, не может признать себя неправым. Есть средство все миролюбиво уладить… – Какое? – Чтобы Лоренцо как можно скорее приехал в Рим. Вы знаете, как дружески относится папа к нему и как высоко ценит его характер и выдающиеся качества. Если Лоренцо приедет, я ручаюсь, что личное свидание разъяснит и устранит все недоразумения. Лоренцо, вероятно, даже не придется извиняться или признавать какую-либо вину, все устроится само собой, и восстановление прежних дружеских отношений будет большим счастьем не только для нас, но и для всей Италии. – Конечно, Лоренцо сумеет убедить папу, что во всем этом не было ни непокорности, ни нежелания служить папскому престолу. Но при этих обстоятельствах Лоренцо трудно побудить приехать сюда. Он горд и свой приезд после опалы, которой подверг его папа в глазах всего света, сочтет для себя унижением. – Он должен убедиться, что об этом не может быть и речи, – воскликнул Джироламо. – Ему будет оказан почет, подобающий ему лично и как представителю Флорентийской республики. Я сам напишу ему, а вас прошу подтвердить мое приглашение и в том же смысле повлиять на него. – С удовольствием, – отвечал Торнабуони; – я искренне желаю, чтобы удалось побудить его на эту поездку, если вы ручаетесь, что его не ожидает неприятный прием. – Даю вам слово и клянусь, что его приезд навсегда положит конец всем распрям, отравляющим жизнь и нам, и вам. Слова Джироламо так странно звучали, что Торнабуони насторожился. Но лицо графа было так весело, точно он искренне радовался, что нашел выход из затруднительного положения. – Отлично! – воскликнул он, протягивая руку Торнабуони. – Значит, это дело решенное, а я буду гордиться, что оказал важную услугу как папскому престолу, так и всей Италии. Джироламо отошел к остальным гостям, а Торнабуони покачал головой, глядя ему вслед. «Если бы ему можно было верить! – подумал он про себя. – Но я не верю в дружеское расположение к нам ни Франческо Пацци, ни самого папы. Лоренцо окажется здесь среди могучих врагов, которые ни перед чем не остановятся… Об этом даже страшно подумать… Я не могу этого советовать, а должен, напротив, предостеречь его… пусть сам решает». Джироламо прошёл в музыкальный зал, где в дверях стоял Франческо Пацци. – Он приедет, – радостно сказал ему граф, даже не понижая голоса, – и будет в наших руках. Франческо взял его под руку с многозначительным взглядом. За ними стоял Аччауоли, видимо всецело погруженный в музыку. – Э! – прошептал Джироламо. – Здесь никто не услышит, а кто и услышит, так не поймет. Тихо разговаривая, они отошли к окну. Аччауоли незаметно вышел и встретил погруженного в раздумья Торнабуони. – Вы сейчас разговаривали с графом Риарио? – Да, – отвечал Торнабуони, оглядываясь, нет ли кого поблизости, – он желает восстановить согласие, и ручается, что папа пойдет на примирение… Он хочет пригласить Лоренцо приехать сюда и просил меня поддержать его приглашение… Может быть, он и прав – лично объясняться лучше, чем письменно… – Нет, – горячо перебил его Аччауоли. – Этого нельзя допускать; будь Лоренцо здесь, в руках могучих и коварных врагов… мы больше не увидали бы его. – Разве они решились бы? Ведь это вызов республике. – Что значит республика без Лоренцо? Джулиано заменить его не может. Жизнь Лоренцо слишком драгоценна, чтобы рисковать ею, – он, наверное, погиб бы, а вместе с ним и республика. Он нагнулся и что-то шепнул на ухо Торнабуони. Тот побледнел и с ужасом посмотрел на него. – Да, да, – прошептал Аччауоли, – я отлично слышал, и ни к чему другому не могли относиться слова хитрого Джироламо. О, как бы они торжествовали, если бы им удался такой план! Лоренцо ни под каким видом не должен приезжать. Напишите ему. – Обязательно! – содрогаясь, проговорил Торнабуони. – Боже, страшно подумать, что такое деяние замышляется при поддержке представителя Христа на земле! – Не думаю, чтобы папа это знал, – возразил Аччауоли. – Он, может быть, и правда, склонен к личному объяснению, что было бы, конечно, хорошо для обеих сторон, но замысел графа Джироламо обойдется без папского благословения. – Во всяком случае, и в Риме есть темницы, где странным образом умирают… Значит, вы согласны, что Лоренцо приезжать нельзя? – Безусловно. Сегодня же ночью должен быть послан во Флоренцию курьер, чтобы он по возможности был раньше гонца Джироламо. Аччауоли взял под руку Торнабуони, и они, разговаривая, вошли в зал. Пение закончилось, и Торнабуони направился к певцу выразить свой восторг и благодарность. Джироламо и Франческо Пацци еще стояли в нише окна. – Я ручаюсь за успех, – говорил Франческо, – если у вас здесь будет надежный человек, который не промахнется. Лоренцо будет устранен, а с Джулиано мы уж справимся, и Флоренция будет, наконец, избавлена от своих тиранов. – И для вас чистый расчет, – смеясь, заметил Джироламо. – Я знаю, что вы влюблены в маркизу Джованну, которая по детской глупости предпочитает вам этого младенца Ручеллаи. Когда Медичи будут свергнуты, старик Маляспини, насколько я его знаю, вряд ли захочет отдать свою дочь за ничтожного мальчишку… Злая радость блеснула в глазах Франческо. – За презренного мальчишку, – добавил он, – так как, когда тираны будут свергнуты, ручаюсь, во Флоренции никого не останется из их отродья. – Тем лучше, – сказал Джироламо, потирая руки. – Все гнездо надо разрушить, и тогда Маляспини, уже пожалевший, конечно, что породнился с Содерини через свою старшую дочь, очень обрадуется союзу с Пацци, а вы уж сумеете укротить строптивую и заставить ее забыть своего безбородого Козимо. Франческо презрительно засмеялся и взглянул на Джованну, которая стояла, опираясь на руку Козимо, среди группы гостей, сияя от гордости и счастья и слушая комплименты, расточавшиеся ей со всех сторон. Когда празднество окончилось, Торнабуони удалился с Аччауоли к себе в кабинет. Они написали длинное письмо Лоренцо, и в ту же ночь гонец повез его во Флоренцию. Во Флоренции жизнь текла спокойно. Лоренцо де Медичи, наравне с государственными делами, не требующими по состоянию политики особых забот, занимался приготовлениями к постройке Поджо Каяно и других своих резиденций и предавался научным занятиям с учеными, среди которых выдающееся место занимал Полициано, воспитатель его младшего сына. Прошел праздник Пасхи, и город готовился показать всю свою красу в зеленом наряде на предстоящих торжествах Троицы, для которых должны были съехаться многочисленные гости. Молодой кардинал Рафаэлло Риарио, внучатый племянник папы, возвестил о своем приезде. Его дядя Джироламо, вступив во владение Имолой, должен был встретиться во Флоренции с племянником, назначенным в Перуджию, и архиепископ Франческо Сальвиати, занявший, наконец, свое место в Пизе, тоже хотел приехать приветствовать кардинала. Гостеприимный дом Медичи готовился должным образом принять высоких представителей церкви и ставленников папы, а народ радовался, ожидая полного удовлетворения своей страсти к зрелищам. В теплый весенний день Лоренцо поехал с немногими слугами в свое поместье Казаньоло. Это было очень скромное имение, но редкостно красиво расположенное у склона Апеннинских гор и представляющее собой в это время года прелестную зеленеющую панораму. Лоренцо, осмотрев поля и виноградники, вернулся в прохладный дом и прошел в комнату, где висел портрет деда. Он стоял, задумавшись, у окна, и вдруг увидел всадника с несколькими слугами, въезжающего на гору по дороге из Имолы. Через несколько минут ему доложили, что капитан Монтесекко просит разрешения ему представиться. Лоренцо вспомнились предостережения Торнабуони, и ему пришла мысль о возможности какого-нибудь покушения, но он улыбнулся таким предположениям и велел просить посетителя. Монтесекко вошел, низко кланяясь, со шляпой в руке, в изящном рыцарском костюме тех времен, когда еще не знали никаких мундиров. – Прошу прощения, что нарушаю покой вашего сиятельства, но я увидел флаг над домом, указывающий на ваше присутствие, и не мог упустить случая, немедленно к вам явиться. Мой господин, граф Джироламо Риарио, приказал доложить о моем назначении в Имолу. – Благодарю вас, – любезно отвечал Лоренцо. – Мне очень приятно познакомиться с воином, чье имя пользуется доблестной славой. Я слышал о вашем приезде в Имолу и что вы стягиваете туда многочисленное войско. Он испытующим взглядом смотрел на Монтесекко, а тот спокойно отвечал: – Времена изменчивы, а граф Риарио хочет прочно оградить свои владения на случай, если непокорные подданные или соседи вздумали бы оспаривать его права. Он прислал со мной для вас план по укреплению Имолы и список завербованного войска в надежде на ваше сочувствие, так как его положение имеет значение также для Флорентийской республики. Граф питает к вам, ваше сиятельство, чувства дружбы и преданности, и мне велено вам передать уверения, что вы найдете в нем доброго соседа, на которого можете положиться. – Я в этом не сомневаюсь, – холодно отвечал Лоренцо, – так как сам граф не раз уверял меня в своем дружеском расположении, и вы мне это подтверждаете. Меня радует возможность слышать это от храброго воина. Он просто и сердечно протянул капитану руку, которую тот, сняв перчатку, пожал с глубоким поклоном. Вошел слуга с докладом, что обед подан. Лоренцо пригласил гостя к столу, и они прошли в столовую. Лоренцо вел разговор со своим обычным умением. Ободренный его приветливостью, Монтесекко тоже оставил свою обычную сдержанность и много рассказывал о своей жизни. Чудное вино, хранившееся в погребах со времен Козимо Медичи, тоже содействовало оживлению беседы. После обеда подали лошадей, и Лоренцо, шутя, попросил гостя проводить его во Флоренцию. Монтесекко согласился с радостью и горячо воскликнул: – Я хотел бы охранять вас от всех разбойников, благородный синьор! Клянусь Богом, если бы я служил вам, вы могли бы не бояться ваших врагов. – Ну, чего нет теперь, то возможно в будущем. Флорентийской республике могут понадобиться храбрые воины. Хотите быть моим гостем во Флоренции? Монтесекко ответил с замешательством, даже как бы с неудовольствием: – Простите, благородный синьор, я не могу принять это милостивое предложение. Я должен быть при моих солдатах, которые будут сопровождать кардинала. – Вы правы. Но мой дом всегда открыт для вас, когда вы опять будете во Флоренции. Лоренцо был весел, и все время вел разговор с Монтесекко. А Монтесекко рассказал, что Карло Манфреди, владелец прилегающего к Имоле графства Фаенца, сильно заболел, и граф Джироламо поручил ему переговорить с семейством Манфреди о продаже части их имения; семья склоняется к предложению графа, но сам Монтесекко знает, что в этом деле графу Риарио было бы очень желательно согласие, а если можно, то и благосклонная поддержка Лоренцо. – Граф хотел лично переговорить с вашим сиятельством по этому поводу, – закончил он, – но так как я имел честь быть так милостиво принятым вами и нашел такое дружеское отношение к графу, то счел возможным сообщить вам планы и желания моего господина. Лоренцо молча проехал несколько шагов, потом сказал с особым ударением: – Благодарю вас за откровенное сообщение, храбрый капитан, и нахожу, что вы умелый посредник. Скажу вам прямо: узнай я это другим путем, то, вероятно, удивился бы, но ваше сообщение доказывает, что вы не предполагаете намерения графа скрывать свою игру. Я тоже откровенно скажу вам мое мнение и думаю, что, передав его графу, вы окажете ему услугу. Приобретая часть владения Фаенца, граф, уже владеющий Имолой, станет очень могучим соседом Флорентийской республики, а с соседями отношения должны быть ясны и определенны. Если граф желает быть добрым, честным соседом, он найдет во мне одобрение и сильную поддержку всех его планов; если же я могу опасаться, что он когда-нибудь сделается моим врагом, то я уже теперь должен ограждать себя. – А чем должен доказать граф вашему сиятельству искренность своего дружеского расположения? – спросил Монтесекко. – Это лучше всего доказывается на деле. Если граф сделается таким крупным владельцем, то, чтобы считаться другом, он должен присоединиться к нашему союзу с Миланом и Венецией, так как мои союзники тоже захотят убедиться в добром расположении нового соседа. – Но разве этот союз не направлен против его святейшества? – спросил Монтесекко. – Ничуть, однако, наши враги хотят уверить папу в обратном. Мы с полной преданностью и почтением относимся к папскому престолу, только хотим оградить нашу независимость на случай, если бы при римском дворе, помимо святого отца, явилось поползновение нас ослабить или даже подавить. Независимые и преданные друзья – лучшая опора папского престола, чем нехотя повинующиеся подданные. – Вы правы, положительно правы! – сказал Монтесекко. – Ваш государственный ум все предвидит. – Если граф Джироламо хочет войти в тесный союз с нами, – продолжал Лоренцо, – он также, без сомнения, захочет разъяснить и устранить недоразумения, к сожалению возникшие между мной и папой. И кто же может это сделать лучше графа, который пользуется таким доверием его святейшества? Вот условия дружеского соседства, с которыми связана моя полная поддержка всех планов и желаний графа Джироламо. – Могу я это написать графу? – с радостью спросил Монтесекко. – Каждое слово, сказанное вам, я повторил бы графу лично. Может быть, он охотнее узнает мое мнение через вас, так как может обдумать его до приезда сюда. Я был бы рад, если бы вам удалось так устроить политические отношения между мной и графом, чтобы они соответствовали моим личным отношениям к нему. – Я все точно доложу и от души желаю, чтобы искренность и мудрость вашего сиятельства так же убедили его, как меня. Монтесекко некоторое время ехал молча возле Лоренцо, пустившего свою лошадь рысью. Можно было подумать, что у него есть еще что-то на сердце, но Лоренцо вскоре опять весело и оживленно заговорил и не дал случая возвратиться к затронутой теме. Стало уж совершенно темно, и слуги зажгли факелы при въезде в город. Лоренцо любезно простился с капитаном, и Монтесекко задумчиво поехал к предместью, где был дом Антонио де Сан-Галло.Глава 9
Когда Лоренцо вернулся и прошел в свой кабинет для просмотра писем и бумаг, прежде чем идти к ужину в кругу родных и близких, ему доложили, что синьор Бернардо Бандини просит его принять. При этом сообщении лицо Лоренцо стало строгим, даже суровым. Он поколебался минуту, но затем велел принять. С самоуверенностью светского человека вошел мужчина лет тридцати, стройный и гибкий, одетый в дорогой костюм. Лицо его было правильно и тонко, но носило следы страстей, глаза под сросшимися бровями смотрели пытливо, рот, со вздернутой верхней губой, часто складывался в холодную, презрительную усмешку. Он поклонился почтительно и низко, но с сознанием прирожденного равенства, и сказал: – Я пришел в неприемные часы вашего сиятельства, потому что не хотел отнимать время, предназначенное для деловых занятий, и еще потому, что я не могу в двух словах изложить цель моего посещения. Лоренцо ответил на поклон с несвойственной ему холодной надменностью и, указав на стул, сам сел к письменному столу. – Смею предположить, что мое имя известно вашему сиятельству, так как мой род происходит из Флоренции. Мой отец был на службе у неаполитанского короля до своей смерти, после чего я, следуя традициям, приехал сюда, чтобы посвятить себя служению родине. Лоренцо слушал, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Бандини остановился на минуту, видимо озадаченный, но затем быстро продолжил: – Твердая и умелая рука вашего сиятельства управляет Флорентийской республикой, поэтому вы можете исполнить мое желание, так как и вам, и ей нужны люди, как я, умеющие все видеть и обо всем молчать. Буду говорить откровенно: я растратил небольшое наследство и должен искать себе дело и заработок. Я хотел бы служить вам, и вы от меня узнаете многое, что происходит втайне от вас. Враги готовят против вас козни, и вы должны быть предупреждены, пока еще беда не разразилась. – Пусть боятся за свое положение те, кому надо защищать незаконную и шаткую власть. Моя же власть твердо основана на воле народа, на труде и силе и не нуждается в поддержке тайного шпионства, – гордо отвечал Лоренцо. – Очень жаль… – возразил Бандини. – Так как я хотел предложить свои услуги взамен помощи, которую я вынужден просить у вас. Я знаю, что вы, по благородству своих убеждений, не оставите в нужде потомка знаменитого рода. – Мой долг заставляет меня помогать, прежде всего, тем, кто имеет общественные заслуги, которые вам пока не удалось оказать республике, – холодно сказал Лоренцо. – Но я готов вам помочь, насколько смогу, когда вы изложите мне ваше положение и ваши желания. Кроме того, я попрошу высший совет синьории дать вам место для служения республике. Бандини встал с мрачным видом, низко поклонился, проговорил несколько слов благодарности и поспешно удалился. «Это авантюрист, – подумал Лоренцо, оставшись один. – Он так же предал бы меня, как хотел предать других. Я разрушил бы все труды моих предков, если бы поддавался подозрительности тиранов. Что разумно и необходимо для Сфорца в Милане и для Аррагонов в Неаполе, то не пристало Медичи. Я знаю, что у меня есть враги, но не во Флоренции. Здесь те, кто завидует мне и ненавидит меня, бессильны при любви и доверии народа, а опасные враги собираются за границей Флоренции. Дружеским заверениям графа Джироламо я не верю и позабочусь приготовить против него вооруженную силу. Но он опасен ненадолго, его положение ограничивается жизнью папы. Если мне удастся заручиться для республики капитаном Монтесекко, чего он, видимо, и сам желает, то мне не страшны будут укрепления Имолы. Ну, довольно этих забот, у меня есть уголок, куда они не проникают. Уж не за Джулиано ли мне надо шпионить и отравлять ему молодость, которая и без того пройдет? Пусть пока наслаждается жизнью, а если придется взяться за оружие, чтобы отстаивать независимость родины, тогда он будет на своем месте». Лицо Лоренцо приняло веселое, приветливое выражение, и он поднялся в великолепные покои меццании, где собрались родные и друзья дома. Бандини, выйдя на улицу, остановился и с ненавистью взглянул на ярко освещенные окна дворца. – Он обошелся со мной, как с нищим, этот надменный выскочка, воображающий, что он выше старинного итальянского дворянства и равен князьям. Я мог бы помочь ему держать в руках его врагов, мне нужно золото, которое он горстями швыряет на свои планы, и нам обоим было бы выгодно. Он с презрением отнесся ко мне, как к червяку, ползающему у его ног, пусть же увидит, что этот червяк может превратиться в змею и свергнуть его с высоты. Он забыл благоразумие в ослеплении гордости, а я был умнее и не выдал ему подслушанную тайну. Теперь его судьба решена. Он злобно засмеялся, закутался в плащ и быстро направился ко дворцу Пацци. Дворец, похожий на крепость, был мрачен и угрюм. Жилые помещения выходили во двор, а в высоких окнах нигде не было огня, только у входа горели два факела. Бандини нашел слугу в вестибюле, велел доложить о себе Франческо Пацци, и его ввели в кабинет в нижнем этаже, богато обставленный, но мрачный, как и весь дворец, резко отличающийся от блестящей роскоши дома Медичи. Франческо с некоторым замешательством принял позднего посетителя и с плохо скрываемым нетерпением спросил, чего он желает. – Я пришел по важному делу, благородный Франческо, и прошу меня выслушать. – Я к вашим услугам, – отвечал Франческо, указывая на кресло, – но должен предупредить, что я ожидаю гостей и не могу располагать моим временем. – Я буду краток, – заявил Бандини, – и уверен, что вы поймете меня с полуслова. Как вам известно, я вернулся после долгого отсутствия в мой родной город и был грустно поражен его положением. Независимость города и республики является пустым звуком, в действительности же здесь тирания похуже, чем в Неаполе и в Милане снеограниченными правителями. Франческо насторожился. – Я вас не понимаю… – От республики осталось только название, – продолжал Бандини. – Произвол Медичи, поддерживаемый любовью народа, царит здесь, где управляла прежде древняя аристократия с достоинством и мудростью, и если бы Лоренцо вздумалось в один прекрасный день возложить себе на голову княжескую корону и окружить себя продажными наемниками, все права республики разлетелись бы, как листья от ветра. Не противоречьте мне, – остановил он возражение Франческо. – Я знаю, что вы разделяете мое мнение и решили положить конец этому недостойному порабощению, как и подобает потомку древнего рода, уже бывшего знаменитым в то время, когда Медичи еще не выползли из грязи… Я знаю ваши мысли и планы. – Я вас не понимаю, – дрожащим голосом сказал Франческо, – я не понимаю, как могли вам прийти в голову подобные мысли. – Не бойтесь, – спокойно возразил Бандини, – я знаю, что у вас одинаковые со мной мысли и стремления, а если бы я имел намерение выдать вас, я не был бы здесь. Я пришел честно и искренне предложить вам мои услуги. Голова у меня свежая, глаз верный, и рука умеет владеть оружием. Все это вам может пригодиться, особенно когда нужно уничтожить двоих и достигнуть благородной цели. Когда обоих Медичи не будет, Флорентийская республика станет свободной, и вы займете место, принадлежащее вам по рождению. – Я не знаю… – нерешительно начал Франческо. – Можете ли вы мне доверять? – в упор спросил Бандини и сам ответил: – Можете и должны, если серьезно думаете об освобождении родины. Благоразумие должно, конечно, быть осмотрительным, но неосновательное недоверие, отталкивающее искреннее содействие, безумно. Вы идете на свержение всемогущих Медичи, так неужели не сумеете наказать измену? Моей откровенностью я отдаюсь вам в руки, ведь не стал бы я этого делать, если бы мое предложение было несерьезно. Я так же, как вы, ненавижу Медичи и готов был бы один исполнить подготовленный вами план, что я и сделаю, и жизнь свою поставлю на карту, если вы будете недостаточно решительны. – Вы правы, – со сверкнувшими глазами вскричал Франческо. – Но тайна, о которой вы говорите, если даже она существует, принадлежит не мне. – Я знаю, что вы не один. Нужно много людей, чтобы достигнуть цели, но, пожалуй, вы уж их набрали слишком много. Если вы удостоили своим доверием Наполеоне Франчези де Сан-Деминьяно, который, служа Франции, устроил заговор против папы Бонифация и помог королю Филиппу Прекрасному в его ростовщических делах, то было бы безумно не доверять мне. – Вы знаете Наполеоне Франчези? – испуганно воскликнул Франческо. – Как и он меня знает, – отвечал Бандини. – Он знает также, что моя помощь в вашем деле нужнее его участия, так как я не боюсь взять оружие в руки и рискнуть жизнью за жизнь. Как видите, вы не много нового можете мне сообщить, а если бы я был врагом и изменником долгу перед родиной, мне стоило бы только пойти к Лоренцо и сказать ему то, что я говорю вам. – Я не могу не верить вам, – сказал Франческо, – но помните, речь идет о жизни и смерти, и измена не останется безнаказанной. – Знаю, – спокойно отвечал Бандини. – Моя жизнь в ваших руках, она и без того загублена. Несчастья преследовали меня, я беден и беспомощен, но могу отдать жизнь великому делу в сообществе равных мне людей. – Вы бедны и признаете свою жизнь загубленной? – спросил Франческо. – Это так с точки зрения света, который видит цену жизни только в богатстве. Я все потерял и так беден, что не знаю, чем буду питаться завтра, но я не забыл, что во мне течет дворянская кровь и я должен быть достоин моих предков. – Не отчаивайтесь, – сказал Франческо, пожимая руку Бандини. – Такого человека, как вы, не должны угнетать мелкие заботы. Придите ко мне завтра, и вы будете избавлены от подобных мелочей, а если нам удастся освободить родину, то ваша жизнь получит большую цену, чём золото, которое и я презираю. – Благодарю вас, благородный Франческо, – с кажущимся безразличием отвечал Бандини. – От вас я могу принять то, что не принял бы ни от кого другого… Ведь я вам дам больше, чем золото, которое судьба отняла у меня, а вам дала в изобилии. Теперь скажите мне, что надо делать. Дайте мне самое трудное и опасное, я на все готов. – Сейчас вы узнаете. Вы пришли как раз вовремя, я жду друзей, и вы займете свое место среди них. Вошел слуга и доложил, что гости собрались. Франческо взял Бандини под руку и повел его через коридор в большой зал, где они застали многочисленное общество. Тут был Жакопо Сальвиати, брат пизанского архиепископа, очень похожий на него, худощавый, с таким же хитрым лицом; затем Жакопо Браччиолини, писатель, лет тридцати пяти, стяжавший себе уже некоторую известность, изысканно одетый, самодовольный и важный. С ним горячо разговаривал молодой человек духовного звания с бледным лицом и страстно горевшими глазами. Это был Антонио Маффеи де Вольтерра; другой аббат, Стефано де Баньоне, тоже не старше тридцати лет, был, напротив, приниженно скромен, с хитрым взглядом и постоянной слащавой улыбкой. Наполеоне Франчези де Сан-Деминьяно только что пришел и почти свысока поздоровался с Жакопо Сальвиати. Ему было уже пятьдесят лет, но он старался сохранить моложавую внешность своими манерами, роскошным костюмом, маленькой бородкой и тщательно завитыми кудрями, что и удавалось ему до известной степени благодаря гибкой, стройной фигуре. Лицо его было поблекшим, а тонкие губы выражали холодную жестокость. И Монтесекко был тут, он стоял в стороне, серьезный, угрюмый, по-военному держась за шпагу, и не вмешивался в разговор. Наполеоне пошел навстречу входившему Франческо. – Я рад, что вижу с вами Бернардо Бандини. Я знал, что он будет с нами заодно, и вы поймете друг друга. Остальные недоверчиво посматривали на Бандини, но Франческо заявил, что он верит новому товарищу и ручается за него. Потом он вышел и скоро вернулся со своим дядей Жакопо, которому все почтительно поклонились. Жакопо де Пацци, ему было около пятидесяти лет, считался главой дома не столько по своей плодотворной деятельности, сколько по годам и врожденной способности всегда вовремя сказать умное слово; вообще же он был кутила, сохранивший все страсти молодости и живший на широкую ногу, вопреки обычаям дома Пацци. Он сел в кресло, все собрались около него, и Франческо заговорил. – Я знаю, дорогой дядя, что вы так же, как и я, горько чувствуете иго, под которым стонет вся республика при незаконном владычестве Медичи. Мы все здесь собрались, чтобы свергнуть это владычество, для чего выработали план устранения обоих братьев, и уверены, что вы одобрите наше предприятие и поддержите нас своим советом. Поэтому я просил вас присутствовать при нашем собрании и обсудить наш план. Вы знаете здесь всех, кроме Жакопо Браччиолини, которого позвольте вам представить, и Бернардо Бандини, только что вернувшегося на родину. Они оба присоединяются к нам с полным убеждением, и, когда наше дело удастся, их заслуги, конечно, не будут забыты. Браччиолини и Бандини поклонились, причем Браччиолини сказал: – Благородный Жакопо, граф Джироламо Риарио назначил меня состоять при его племяннике, кардинале Рафаэлло, который скоро сюда приедет, и напутствовать его моими советами, в чем он, конечно, часто будет нуждаться, так как еще не закончил свое образование, когда был возведен в высокий сан. Граф поручил мне сообщить о моем назначении Лоренцо де Медичи и просит его обращаться ко мне по всему, касающемуся кардинала, и ожидать здесь прибытия его преподобия. Я с великой скорбью узнал о положении в республике и еще больше опечалился, увидев, что надменный и честолюбивый Лоренцо даже не умеет сохранить достоинство своего положения. Флоренция должна быть центром искусств и наук, а Лоренцо окружает себя людьми без имени и значения, как этот Полициано и этот легкомысленный Калкондилас, за которыми нет других заслуг, как льстить ему. Я тем более рад присоединиться к делу освобождения Флоренции, что граф приказал мне во всем следовать указаниям благородного Франческо, который разделяет его взгляды по спасению республики. Жакопо слегка наклонил голову, бегло и пытливо оглядел присутствующих, и насмешливая улыбка скользнула по его губам. – У вас, конечно, благие намерения, благородные синьоры, – сказал он, – и, несомненно, было бы желательно, чтобы республика вернулась к своей прежней независимости, только я не понимаю, каким образом можно этого достигнуть. Вы хотите свергнуть Медичи – это трудное дело, так как за них весь народ над которым мы власти не имеем. Это надежнее всяких крепостей и стен, и вы не добьетесь ничего, кроме собственной гибели, а власть Медичи станет еще сильнее прежнего. Я об этом и слышать не хочу и прошу вас мне ничего не говорить. Все с удивлением переглянулись, никто не ожидал такого решительного отпора. Франческо же сказал: – Вы правы, дядя, что власть Медичи поддерживается народом, против которого мы бессильны, но толпа неустойчива и труслива. Если удастся уничтожить обоих братьев – а это несомненно – и подавить первые порывы толпы, народ скоро подчинится своим прежним правителям и так же радостно будет их приветствовать, как приветствует теперь бесправного выскочку… А когда кардинал Риарио прибудет сюда и архиепископ выйдет его приветствовать, Медичи должны будут с почестями принять его, что, при их тщеславии, они исполнят с особенным блеском. При таком торжестве легко захватить обоих братьев… – А если народ освободит их и возвеличит больше прежнего? – прервал Жакопо. – И это предусмотрено, дорогой дядя, – отвечал Франческо. – У графа Джироламо в Имоле набрано войско в две тысячи человек под командой нашего друга храброго капитана Монтесекко. К назначенному дню это войско подойдет небольшими отрядами к городу. Как только дело свершится, а народ еще не успеет опомниться, Монтесекко займет город и подавит всякое движение. Так мы захватим власть. А обоих братьев Медичи отдадим графу Джироламо в Имолу, оттуда их препроводят в Рим, где святой отец сам произнесет над ними приговор. Жакопо слушал внимательно и обратился к Монтесекко: – План, по-видимому, хорошо обдуман. А что вы на это скажете, храбрый капитан? – Все так, как вам сказал благородный Франческо, – с тихим вздохом отвечал Монтесекко. – Граф Джироламо приказал мне подойти к городу, быть в распоряжении синьора Франческо и по его приказанию доставить обоих братьев Медичи в Имолу. – Это кажется мне разумным. А что скажет его святейшество? А если он не признает за ними никакой вины? Тогда нам будет еще хуже, чем сейчас, и мы даже не сможем пожаловаться на их самоуправство. Мы страдаем под их властью, но они не силой захватили ее, а имеют по доброй воле народа. – Разве это не самоуправство, что Лоренцо осмелился не допускать архиепископа Пизы, благородного флорентийца, занять предназначенное ему место? – вскричал Франческо. – А разве не дерзкий вызов – отказать папе в необходимой сумме для покупки Имолы? Гнев его святейшества силен и основателен, и если он его сдерживал до сих пор, то только щадя Флоренцию и глупый ослепленный народ, наше желание и намерение свергнуть Медичи известны святому отцу и одобрены им вполне. Его святейшество будет благодарен, что мы предоставим Медичи суду, а за освобождение родины мы можем быть уверены в благословении церкви. Капитан может удостоверить, что папа одобрил наш план. Мы были вместе с ним, когда святой отец благословил наше намерение. Жакопо опять вопросительно взглянул на Монтесекко. – Совершенно верно, – отозвался тот, – граф Джироламо дал мне приказание согласно воле святого отца, и я могу вас заверить, синьоры, что я никогда не пошел бы против двух безоружных людей, вместо того, чтобы сражаться с врагами, если бы приказание святого отца не обязывало меня к повиновению. Жакопо задумчиво склонил голову. Все стояли в напряженном ожидании. – Если так, – сказал он, наконец, – то это дело, возвращающее свободу нашей родине, может удаться, а одобрение его святейшества устраняет все сомнения, так как доказывает, что он считает Медичи врагами папского престола и всей Италии. Поэтому я готов вас поддержать, но план должен быть выработан таким, чтобы успех не подлежал сомнению. – План готов, – сказал Франческо. – Капитан введет войско в город, что нетрудно при слабой охране городских ворот, и сдержит волнение народа, когда Медичи будут схвачены. Это произойдет во время парадного обеда, который они дадут кардиналу Риарио в их дворце или на вилле Фьезол, что было бы еще удобнее. – И вы думаете, что братья так легко сдадутся? – с иронией спросил Жакопо. – Они вряд ли будут вооружены для борьбы, – возразил Франческо, – а при нас будет хорошее оружие… Мы их окружим и с криком «Да здравствует республика!» бросимся на них. Любое сопротивление может кончиться только их гибелью. – Мы справимся с ними! – вскричал Наполеоне Франчези, играя шпагой. – И борьба скоро окончится. – Тут дело идет о жизни и смерти, – сказал Жакопо, – об этом не забывайте. В борьбе нельзя полагаться только на оружие. – На него и не надо полагаться, – с особенным ударением сказал Монтесекко, – так как его святейшество, соглашаясь на свержение Медичи и разрешая пользоваться для этого войском, запретил подвергать опасности жизнь обоих братьев. – Совершенно верно, – поспешил заявить Франческо, тогда как Жакопо склонил голову, а Наполеоне Франчези отвернулся с иронической улыбкой, – и мы будем стремиться исполнить волю его святейшества, избавив его от врагов. А вам надо будет тогда, дядя, возвестить народ об освобождении от позорного ига и убедить его подчиниться нам, так как народ больше всего расположен к нам. – На это я согласен, – сказал Жакопо, – я и до этого поговорю кое с кем из граждан, которые приходят иногда за советом или жаловаться на Медичи. Таким образом, у нас и в народе будет некоторая поддержка. – Итак, мы все обсудили, и предстоит только назначить день, – заключил Франческо. – Это зависит от обстоятельств, и заранее решать это нельзя, – заметил Жакопо. – Нам нужно только знать, сколько времени потребуется капитану, чтобы дойти до города. В этой опоре мы должны быть абсолютно уверены, приступая к делу. – На это нужно только несколько дней, – отвечал Монтесекко. – Мелкими отрядами войско идет быстро, и не надо, чтобы здесь знали это заранее. Первое условие успеха – обязательное соблюдение тайны. – Кто нарушит тайну, тот сам себя осудит на гибель, – воскликнул Франческо. – Итак, все решено. Теперь надо избегать собираться здесь, это может возбудить подозрение Лоренцо. Я буду вас извещать обо всем надежными гонцами, синьоры, и также графа Джироламо. А сейчас позвольте вас просить к столу, нам нужно поддержать в себе бодрость в ожидании полного освобождения. Он повел гостей, к которым присоединился и Жакопо, в величественную столовую, где уже стоял роскошно сервированный стол, и чудные вина погребов Пацци внесли радостное оживление в общество.Глава 10
Праздник Троицы приближался, все прекраснее становилось природное убранство Флоренции. А в самом городе улицы, площади, общественные здания пестро украшались к приезду гостей, благодаря которым в этом году праздник предполагался еще блестящее обыкновенного. Архиепископ Пизы приехал и остановился во дворце Сальвиати. Синьория приветствовала его, и братья Медичи приняли представителя церкви со всем подобающим ему почетом, доказывая желание забыть прошлые недоразумения, так как праздник Троицы был одновременно и праздником примирения. Граф Джироламо, занятый, укреплением и украшением Имолы, объявил о своем приезде и написал почти нежное письмо Лоренцо о том, что привезет благословение и приветствие папы и его заверения в своей дружбе с республикой. Но все должен был превзойти приезд кардинала Рафаэлло Риарио, который, окончив занятия в высшей коллегии в Пизе, отправлялся на место своего назначения. К этой встрече все особенно радостно готовились, так как знали, что въезд любимого внучатого племянника папы будет сопровождаться особым блеском, и падкая на зрелища толпа ожидала его прибытия с нетерпением. Кардинал остановился в Монтуги, пригородной вилле Пацци, чем доказывалось, что папа высоко ценит оказанную ему услугу и стремится отплатить за нее милостивым вниманием. Но кардинал Рафаэлло со своей стороны написал чрезвычайно любезное письмо Лоренцо, так что и тут, по-видимому, все склонялось к примирению, тем более что Жакопо и даже Франческо Пацци пользовались каждым случаем оказать внимание братьям Медичи. В чудный летний день, незадолго до Вознесения, красавица Фиоретта Говини сидела на скамейке в садике, окруженном высокой живой изгородью. Фиоретта сидела погруженная в глубокую думу, а в глазах ее стояли слезы. – Как хорошо здесь, – проговорила она со вздохом. – Разве я не должна быть счастлива с моим возлюбленным и младенцем, составляющим всю мою жизнь в настоящем и будущем? А все-таки у меня иногда сердце надрывается, и я не могу удержать слезы. Настоящее принадлежит мне, и я упиваюсь его счастьем, а будущее? Будущее – это мой ребенок, мой ненаглядный Джулио, а что оно даст ему, не имеющему имени? Я должна скрывать его, а мне хотелось бы показать его всему свету, когда он так умно смотрит и сладко улыбается и так похож на своего отца! И зачем я должна жить здесь и скрываться?.. Она вскочила и начала в волнении ходить по крохотному дворику, окруженному высокой живой стеной с небольшим проходом, перед которым опять была живая стена, как в модных тогда лабиринтах. Через узкий проход в изгороди Фиоретта вышла в большой сад с высокими развесистыми деревьями, с зелеными лужайками, клумбами цветов и мраморными бассейнами. – О, как здесь хорошо! – проговорила она, с восторгом озираясь кругом. – И зачем Джулиано лишает меня этого чудесного зрелища? Мы и здесь были бы скрыты от завистливых взглядов. Я чувствую, что еще сильнее любила бы его среди этого простора, с ясным, бесконечным небом, чем там, где меня давит и гнетет неволя. В саду не было ни души. Слуги находились в доме, а Антонио только вечерами возвращался из мастерской. Она подошла к бассейну, где плавали золотые рыбки, и, как дитя, стала бросать им цветы. «А все-таки нехорошо, что я ослушалась приказания Джулиано. Ведь он мне сказал, что наше счастье зависит от сохранения тайны. – Она испугалась, но тут же упрямо покачала головой. – Нет, нет, ему, может быть, потому и нравится наше тайное гнездышко, что он постоянно на воле, но он не должен забывать, что я стремлюсь к свободе и могу быть счастлива только свободной». Она свернула в тенистую аллею и пошла быстро, точно желая заглушить свои мысли. Аллея вела к стене, окружающей парк. Вдруг она увидела калитку, выходившую на улицу. Фиоретта с испугом отшатнулась, так как у калитки стоял мужчина в простом, но замечательно нарядном сером шелковом костюме. Он что-то делал у замка калитки и отскочил, услышав ее шаги. – А, вы здесь, прелестная Фиоретта! – сказал он, когда она остановилась и хотела идти обратно. – Хорошо, что мы встретились, так как я хотел увидеться с вами. – Вы пришли ко мне? – с испуганным удивлением спросила Фиоретта, узнав своего посетителя в Сан-Донино, назвавшегося Бернардо. – И таким путем? Ведь это не подъезд к дому… Значит, вы знаете синьора Антонио и… Она запнулась, краснея. – Я его не знаю, – прервал Бернардо, – а потому хотел тайным путем проникнуть к вам, чтобы предупредить и спасти от недостойного обмана. Я готов освободить вас, если вы захотите довериться мне, как доверились, к несчастью, ложным друзьям. Разве вы не узнаете меня? Ведь я не раз заезжал к вам, усталый, попросить стакан вина. – Я вас узнала, конечно, – с неудовольствием отвечала Фиоретта. – Я вас принимала, пока вы не начали говорить слова, которые я не могла и не хотела слушать. – Вы не хотели слушать, что я вас люблю, – вскричал Бернардо. – Напрасно, я предлагал вам руку и перед всем светом хотел признать вас женой. – И потому вы всегда приезжали, когда моего старого Жакопо не было дома. Вы понимаете, что это не могло внушить мне доверия к вам, и, кроме того, я уже сказала, что не могла и не хотела понимать ваши слова, так как… – Так как ваше сердце завлекло вас на ложный путь, о чем вы со временем горько пожалеете. Вы заперты здесь, как заключенная, а тот, кто скрывает вас, едва ли захочет открыто признавать вас своей женой. – Это клевета! – гневно вскричала Фиоретта. – Что вам нужно от меня? Как вы нашли сюда дорогу? – Дорогу я нашел, Фиоретта, потому что люблю вас больше, чем кто-либо другой, и, уж конечно, больше, чем ваш тюремщик, который держит вас взаперти, как забаву. А я хочу указать вам путь к спасению, если вы хотите быть спасенной. – Спасенной от высшего счастья? Уходите, уходите, вы обманываете меня. От вас мне надо бы спасаться, если бы этот дом не ограждал меня от ваших преследований. – Этот дом не спасет вас от предостерегающего голоса любви, который привел меня сюда и заставил вас разыскать. Он отпер калитку и вошел в сад. Она вскрикнула и хотела бежать, но он схватил ее за руку, говоря: – Не бойтесь, Фиоретта, со мной вы так же в безопасности, как за стенами этого дома. Спасти вас может только ваша добрая воля, если вы захотите поверить мне. – Я вам не верю, – вскричала Фиоретта, вырывая руку, – вы не поколеблете мою веру коварной клеветой. – Я не сержусь на ваши слова, Фиоретта, я понимаю, что тяжело отказаться от ослепления, в котором вы видите ваше счастье, но это не клевета, а истина. Он никогда не сможет быть вашим мужем, а если вы хоть немного знаете жизнь, то поймете это сами. Фиоретта, побледнев, помолчала немного, а потом воскликнула: – Я знаю его сердце… Он честный, благородный и не способен на ложь и обман. – Если даже слова, которыми он заманил вас, были не ложь в ту минуту, то вы сами убедитесь, что он не в состоянии выполнить своих обещаний. – Убедиться? Никогда! Докажите мне это немедленно или уходите, а то я позову людей. – Доказать это очень легко, – отвечал Бернардо. – Только пройдите со мной несколько шагов… до угла улицы, и вы убедитесь, что я сказал правду… Вы все увидите собственными глазами. Фиоретта с испугом отступила на шаг. – Идти с вами?.. Отдаться в ваши руки?.. – Какое безумие! На улице, среди толпы, что я могу вам сделать, даже если бы я был вашим врагом? Вы будете свободны, как птица небесная, я дам вам ключ от этой калитки, и вы каждую минуту можете вернуться обратно. Отчего вы не хотите пройти несколько шагов, чтобы навсегда рассеять сомнения, которые все-таки запали в вашу душу? – Хорошо, я пойду, чтобы убедиться, что вы меня обманываете, хотя не понимаю, что я там увижу. – Поймете. Крики толпы все приближаются. Вы требовали доказательства, и я обязан вам его представить, но закройте лицо, чтобы вас нельзя было узнать. Фиоретта закуталась кружевным платком, накинутым на плечи, и твердыми шагами вышла на улицу. Бернардо запер калитку, отдал ей ключ, взял ее под руку и быстро повел на угол широкой улицы, ведущей к городу. Собравшаяся здесь толпа все увеличивалась и, видимо, чего-то ждала. Все с любопытством смотрели то на дорогу, то на улицу по направлению к городу. – Отсюда вы все увидите, – сказал Бернардо, останавливаясь в последних рядах толпы. – Что я должна увидеть? – боязливо спросила Фиоретта. – Мне не следовало идти с вами. Не успел Бернардо ответить, как толпа хлынула вперед, и все взоры обратились на дорогу. – Едут, едут! – послышались возгласы в толпе. – Вот его высокопреосвященство кардинал, а рядом с ним архиепископ Пизы. А сколько господ за ними! – Кардинал! – прошептала Фиоретта. – О Боже, неужели это возможно? И она продвинулась вперед, глядя на приближающихся. Впереди всех на великолепной лошади в дорогой сбруе ехал кардинал Рафаэлло в нарядной черной шелковой одежде, обшитой пурпуром, и в кардинальской шапке на черных кудрях. На груди у него висел большой золотой крест, усыпанный бриллиантами. Его бледное, юное, почти девичье лицо с большими темными глазами выражало робкую застенчивость, точно он еще неуверенно чувствовал себя в своем высоком положении и конфузился от обращенных на него взоров. Вся его фигура была такая ребяческая, но при этом благородная и симпатичная, и он так приветливо кланялся, что многие встречали его искренне добрыми пожеланиями. Направо от него с гордой, уверенной осанкой ехал архиепископ Сальвиати, налево – Франческо Пацци в великолепном, расшитом золотом костюме, а сзади – большая свита и огромное количество слуг в парадных одеждах. – Какой молоденький новый кардинал, – сказала старуха, стоявшая рядом с Фиореттой, – какой скромный и робкий, точно сам Бог избрал его себе в служители. – Да, молоденький, скромный, – ворчал старый, толстый мужчина. – Он похож на школьника, которому еще самому надо бы многому поучиться, прежде чем учить других… Да, племяннику папы нетрудно сделаться кардиналом… Его возьмут прямо со школьной скамьи, а другие годами сидят на ней до первого рукоположения. Фиоретта боязливо посмотрела на кардинала, а потом начала внимательно всматриваться в его спутников. Наконец вздохнула с облегчением – она не знала никого из них. Вдруг со стороны города раздались громкие радостные голоса, и ясно слышались крики: «Палле! Палле!» – Что это значит? – спросила Фиоретта. – Этими кликами народ приветствует Медичи, которые управляют Флоренцией и сильны, как никто во всей Италии, – пояснил ей Бернардо. – Слышите, как они приветствуют всесильного правителя? Посмотрите на них хорошенько. Видите, кардинал, племянник папы, остановил лошадь, ожидая правителя Флоренции. – Палле! Палле! – ревела толпа. И старик, язвительно смеявшийся над молодостью кардинала, теперь громко приветствовал Медичи. Впереди на чудном андалузском жеребце ехал Лоренцо в черном шелковом костюме; на шее его висела цепь дивной венецианской работы, драгоценные камни сверкали на эфесе шпаги. За ним следовал маркиз Маляспини с женой и дочерью. Рядом с Джованной ехал Джулиано, весело переговариваясь с невестой своего друга. Он был в роскошном светлом костюме, драгоценные камни украшали его пояс, рукоятку шпаги и кинжал, а также пряжку на берете с белыми перьями. Он всех превосходил блеском и красотой, и крики «Палле! Палле!» раздались еще громче, когда он с поклоном оставил Джованну и подъехал к брату. – Смотрите хорошенько, – шепнул Бернардо слабо вскрикнувшей Фиоретге, – и сами рассудите, убедительно ли мое доказательство. Она оперлась на его руку и едва держалась на ногах. Но ведь Джулиано ей сказал, что он богат и должен подготовить свою гордую родню к известию о своем браке, так почему же ему не быть здесь, в свите Лоренцо, хотя она не думала, что он так много выше ее. Она отвернулась от Бернардо и спросила стоявшую рядом старушку: – Кто этот молодой человек, который разговаривал с красивой синьорой, а теперь догоняет своего господина? – Своего господина? – повторила старуха. – Вы, верно, пришли издалека и никогда не бывали во Флоренции, если не знаете Джулиано де Медичи, брата Лоренцо Великолепного. – Джулиано де Медичи! – прошептала Фиоретта, поспешно закрывая лицо соскользнувшим платком. – О Боже, так это правда, сущая правда… Ее ноги подкашивались, она машинально оперлась на руку Бернардо. – Посмотрите, как он красив, – продолжала старуха, – как чудно сидит на коне, как блестят его глаза! Фиоретта напряженно смотрела на возлюбленного, которого никогда не видала в таком блеске, и сердце ее леденело. Кардинал почтительно и робко поклонился обоим братьям и внимательно слушал приветственную речь Лоренцо, а свита расположилась большим полукругом. – А кто эта синьора, с которой он разговаривал? – спросила Фиоретта. – Это дочь маркиза де Фосдинуово, – словоохотливо объяснила старуха. – Она гостит с родителями во дворце Медичи. – Она, верно, невеста Джулиано? – глухим, прерывистым голосом сказала Фиоретта. – Нет, – смеясь, отозвалась старуха, – красавица синьорина Джованна, конечно, аристократка, породнится она с Медичи через своего жениха – молодого Ручеллаи, но до Джулиано ей далеко. Ему, верно, предназначается герцогиня или принцесса королевской крови… что-то такое уже поговаривают, да и действительно, быть супругой Джулиано даже для дочери короля великое счастье на земле. – Высшее счастье, – как во сне прошептала Фиоретта. Она глаз не могла оторвать от этого зрелища и не ответила Бернардо, который ей шепнул: – Вы хорошо все рассмотрели и теперь убедитесь, что я искренне предупреждал вас? Кардинал поздоровался с маркизом, дамами и со всей свитой и поехал между двумя братьями во дворец Медичи представиться донне Клариссе, а потом посетить верховный совет. Народ бросился за ними. Крики «Палле! Палле!» все удалялись, и скоро Бернардо и Фиоретта остались одни. – Надеюсь, вы больше не будете считать меня обманщиком и признаете, что я имел основания вас предостеречь. Фиоретта повернулась и быстро направилась к саду. Она уже дошла до калитки, когда Бернардо взял ее за руку. – Вы хотите вернуться в вашу тюрьму, когда убедились, что были жертвою легкомысленного и низкого обмана? – А что же, по-вашему, я должна делать? Ведь там мой сын, мой милый Джулио, которого я должна охранять и оберегать, чтобы он никогда не узнал, кто его отец… Она чуть слышно договорила последние слова, вырвала руку и быстро пошла дальше. – О, не бойтесь за вашего ребенка, – сказал Бернардо, – Джулиано великодушен и не бросит сына… Вы свободны, совершенно свободны и еще сможете после горького разочарования найти полное счастье. Я не считаю вас виновной, и вы смело можете опереться на меня. Идемте со мной, и вы будете в безопасности: он никогда вас не найдет. – Бросить моего ребенка? – вскричала Фиоретта, ускоряя шаг. – Вы смеете мне это предлагать, смеете называть это моим спасением? Не знаю, что ожидает меня в будущем, но моя жизнь принадлежит ребенку, и наши пути никогда не пересекутся с вами на земле. Я вас не благодарю за правду, которую я могла бы узнать и иначе, а ему мое сердце принадлежит навсегда, и я благодарю его за данное мне счастье. Она добежала до калитки. – Вы безумны, и, если не последуете за мной, я насильно заставлю вас спастись, – злобно вскричал Бернардо, схватив ее за руку. Она резко оттолкнула его и с угрожающим видом крикнула: – Посмейте только! Я сумею защититься и позвать на помощь, а вы ответите за вашу дерзость. Бернардо отступил и оглянулся. Улица была пустынна, только мальчик выглядывал из-за изгороди, но невдалеке слышались голоса, и насильственное похищение было бы невозможно. – Простите, Фиоретта, что я хотел спасти вас помимо вашей воли. Вы взволнованны теперь, но увидите, что я желаю вам добра. Обдумайте, что вы видели и что я сказал. Я всегда готов служить вам и создать вам счастливую жизнь. Если я буду нужен, повесьте ветку на эту решетку, я явлюсь в тот же вечер и увезу вас в безопасное место. Могут случиться обстоятельства, при которых вам понадобится моя опора. Не сердитесь на меня, я уверен, что мы еще увидимся. – Если я обидела вас, простите меня, – сказала Фиоретта, протягивая ему руку, – но поверьте, что мою жизнь изменить нельзя, и она никогда не будет иметь ничего общего с вашей. Она отперла калитку и вошла в сад. – Возьмите ключ с собой. Если я буду вам нужен, я и без него найду дорогу. Фиоретта взяла ключ и направилась к дому. В саду никого не было, и она незаметно прошла к себе. В соседней комнате было тихо, и, заглянув туда, Фиоретта увидела, что ребенок спокойно спит и Женевра тоже заснула, склонив голову на грудь. Фиоретта подошла, слегка коснулась губами головки мальчика и прошептала: – Благослови его Господь за то счастье, которое он мне дал, а ты, мой Джулио, в служении Богу найдешь отца, которого жизнь отняла у тебя. Она прошла в свою комнату и в изнеможении упала на кушетку. Она не могла постигнуть того, что в несколько секунд разбило ее жизнь, не разрушив ее любовь, и лежала в каком-то забытьи, ощущая только жгучую боль. Солнце уже клонилось к закату, высокие деревья бросали тень в окна, а Фиоретта все лежала неподвижно, только губы ее иногда мучительно шептали: – Джулиано… Джулиано де Медичи… Дверь из коридора распахнулась, и вошел Джулиано, в том же роскошном костюме, в котором встречал кардинала, только без плаща. Он остановился и с восхищением смотрел на лежащую Фиоретту, залитую красным светом заката. Тихо подойдя к ней, он опустился на колени и прильнул к ее руке. Не открывая глаз, она прошептала: – Джулиано… Джулиано де Медичи… Он с ужасом вскочил. – Джулиано де Медичи! – повторил он, ошеломленный. – Что означает это имя в ее устах? Что произошло здесь? Кто раскрыл тайну, которая должна была оградить ее от тяжелых тревог? Неужели Антонио выдал меня? Нет, это невозможно… Он верен и предан… Тут вмешались злые люди. В волнении он громко заговорил, Фиоретта очнулась, взглянула на него, пришла в себя, поднялась, прижалась к нему и проговорила голосом, в котором звучало счастье и страдание: – Джулиано, Джулиано, я люблю тебя, и всегда буду любить! Он почти резко высвободился из ее объятий, положил ей руки на плечи и сказал, глядя прямо в глаза: – Когда я сейчас подошел к тебе, Фиоретта, ты произнесла имя, которое ты никогда не слышала от меня. Откуда ты его узнала? Отвечай мне ради нашей любви, я требую правды. – Джулиано де Медичи, – повторила она с тоской, но гордо глядя на него. – Я должна была понять, что это ты, так высоко стоящий над всеми и снизошедший до меня своей любовью. Благодарю тебя за тайну, которой ты окружил себя. Я испытала счастье, которое озарит мою одинокую жизнь и даст силы заботиться о Джулио, о твоем сыне. – Одинокую жизнь?! – вскричал Джулиано. – Как ты могла дойти до того, чтобы сомневаться во мне, в моей чести и верности, даже зная, кто я? Так как ты это знаешь, то должна понять, что мне надо отстаивать мое счастье, и я не хотел говорить мое имя, пока не признаю тебя женой перед всем светом. Но откуда ты знаешь мое имя? Кто открыл тебе тайну? Она колебалась с минуту, потом рассказала, глядя прямо ему в глаза, что под гнетом одиночества вышла из огороженного сада и увидела у калитки человека, заезжавшего к ней прежде и которого она отказалась у себя принимать, когда он заговорил с ней о любви; он провел ее на улицу и показал встречу кардинала с обоими братьями Медичи. – О, мой Джулиано, поверь, я не сержусь на тебя, хотя и страдаю от неизбежности тебя потерять, и только потому, что ты дал мне такое безграничное счастье. – А кто этот человек, – резко перебил он ее, – который вторгается в мою жизнь и хочет отнять у меня твое сердце? Он умрет от моей руки, если он достоин встретиться в рыцарском бою с Джулиано де Медичи. – Клянусь Богом, я не знаю его! Он мне сказал только, что его зовут Бернардо. – Все равно, на свете есть человек, знающий мою тайну и желающий разрушить мое счастье. Ему это не удалось, потому что он плохо знает твое сердце, но медлить дальше было бы трусостью. Мы были обвенчаны священником, и неужели ты, могла думать, что я обману тебя, или нарушу священный союз, неразрывно соединяющий людей? – Я ничего не думала, – с мольбой сказала Фиоретта, – кроме того, что я, бедная Фиоретта Говини, никогда не смогу перед светом встать наравне с Медичи. Он смотрел, глубоко тронутый, в ее ясные, любящие глаза, взял ее за руки и сказал серьезно и торжественно: – Я не могу сердиться, Фиоретта, что ты усомнилась во мне. Может, я был не прав, скрывая от тебя истину. Теперь слушай и верь мне: клянусь тебе, что я не обманул тебя и священник, венчавший нас, был настоящим священником, союз наш неразрывен, ты жена моя перед Богом и будешь признана таковой перед светом не позже как через три дня. Сегодня я не могу говорить с братом – он занят визитом кардинала. Завтра тоже, так как у нас дома будет большой завтрак, перед которым кардинал будет присутствовать на обедне в соборе. На завтраке я не буду, я сегодня отговорился нездоровьем, чтобы поспешить к тебе. Когда кардинал уедет на виллу Монтуги, я все скажу моему брату Лоренцо. Может, у него и были другие планы, но он примет тебя, как сестру. Я уверен в этом, так как он добр, и любит меня, да и, помимо этого, не в его власти было бы мешать моему выбору. Это будет самым лучшим наказанием для негодяя, дерзнувшего проникнуть в мою тайну. А той высоты, на которой ты будешь стоять со мной, никто уж не осмелится коснуться. – О Джулиано, – отвечала Фиоретта, опускаясь на колени. – Я не достойна такой жертвы! Иди предначертанным тебе путем, а меня оставь! – Я никогда тебя не оставлю, даже если бы можно было расторгнуть наш союз. Я исполню мою клятву и прошу у тебя только три дня сроку. Теперь больше ни слова об этом. Мы еще раз вспомним прошлое, а в будущем нас ожидает только счастье. Он притянул ее к себе и крепко обнял. Антонио вошел и, улыбаясь, остановился на пороге. Джулиано рассказал ему обо всем случившемся и сообщил о своем решении. Когда Джулиано рассказал другу о том, что в сад проник неизвестный, который раскрыл его тайну Фиоретге и пытался ее похитить, они решили поставить в саду стражу, надеясь поймать его и предать суду как вора. Внесли накрытый стол, и они весело сидели втроем, ничего не подозревая, и ничто не омрачало их счастье.Глава 11
В предместье, недалеко от дома Антонио де Сан-Галло, была простая остерия – низкий, но большой дом, в который входили через ворота в стене, всегда запертые и отворявшиеся только по звонку с улицы. Хозяина этой гостиницы Луиджи Лодини ни в чем нельзя было упрекнуть – он исполнял все обязанности гражданина, аккуратно бывал у обедни в своей приходской церкви и при случае охотно и щедро жертвовал на бедных. Тем не менее, все со страхом и торопливо проходили мимо ограды этой гостиницы, похожей на высокую монастырскую стену, а путешественники из мещан и купцов никогда не заглядывали в эту отдаленную гостиницу с деревянным стаканом вместо вывески. Здесь обыкновенно по вечерам собирались солдаты городской стражи и останавливались наемники, искавшие работу. Ловкий и услужливый Луиджи всегда знал, куда им обратиться, чтобы выгодно пристроиться к начальникам, закрывавшим глаза на грабежи. Потихоньку рассказывали, что добыча этих грабежей легко и выгодно сбывалась хозяину остерии. А часто служила ставками при игре в кости, вызывала горячие споры и даже кровавые расправы. Прохожие не раз слышали вечером звон оружия и стоны, но слухи о таких случаях не выходили за ворота дома, а посещавшие остерию днем могли только засвидетельствовать, что в ней всегда царил образцовый порядок. В день приезда кардинала во Флоренцию Луиджи, вероятно, особенно хорошо торговал, так как к сумеркам у него собралось много гостей, пришедших с разных сторон. Все это были сильные, здоровые люди с загорелыми лицами и по-солдатски подстриженными бородами. У всех были большие мешки за плечами, и они казались солдатами, только что нанявшимися в какой-нибудь отряд. Это было вполне естественно, так как далеко разнеслась молва, что граф Джироламо Риарио набирает для вновь приобретенного владения Имолы сильное войско под предводительством известного капитана Монтесекко, и многие из пришедших справлялись по дороге об остерии Луиджи, где можно узнать о вербовке солдат. Большинство, однако, знало, по-видимому, дорогу и незаметно пришло в остерию, когда все жители Флоренции стремились в город смотреть на приезд блестящих гостей во дворец Пацци. Дверь остерии открывалась на каждый звонок, и осторожно выглядывающий Луиджи провожал гостей в назначенные им комнаты, рассчитанные на двоих или троих и снабженные прекрасными кроватями с соломенными тюфяками. Пришедшие доставали из мешков кожаные колеты, панцири, шлемы, шпаги, клали все это у своих постелей и отправлялись с Луиджи в большую столовую, присоединиться к пьющим и играющим. Приход гостей уже прекратился, разговоры становились все громче и оживленнее, когда по дороге от Имолы подъехал всадник, закутанный в темный плащ, в надвинутой на глаза шляпе, и позвонил у двери, нагнувшись с лошади. Тотчас же отворилась дверь, и в ней появилась худая, мускулистая фигура хозяина. На нем был белый полотняный камзол, стянутый узким кожаным поясом, башмаки в виде сандалий с белыми кожаными ремнями, переплетенными до колен, и маленькая шапочка на коротко остриженных волосах – общепринятый костюм трактирщиков того времени, но его загорелое лицо с резкими чертами, остроконечная бородка и хитрые глаза больше напоминали солдата, которым он давал приют, а большой кинжал, висевший у пояса, доказывал, что он не задумается преградить вход незваному или непрошеному гостю. Увидев всадника, он низко поклонился и отворил ворота, так что тот мог въехать во двор, только слегка нагнувшись. – Вы Луиджи Лодини? – спросил всадник резким, повелительным голосом. – Я путешествую, и мой друг капитан Монтесекко рекомендовал вас Он, вероятно, заказал мне помещение. – Так точно, – отвечал хозяин, снимая шапочку, – все готово, и вы будете довольны. Всадник спрыгнул с седла. Хозяин свистнул, и подошедший слуга увел лошадь в конюшню. Луиджи провел гостя по деревянной лестнице в просторную комнату, ярко освещенную восковыми свечами. На столе стояли оплетенные соломой бутылки и два бокала. – Вы хорошо меня принимаете и делаете честь рекомендации капитана. – Благородный капитан сказал мне, что вы любите сиракузское вино, и поверьте, ваше сиятельство, лучшего вина трудно найти, – осклабившись, отвечал хозяин, – это военная добыча при осаде Вольтерры, подаренная мне одним приятелем. Он наполнил бокал рубиновой влагой, и гость, не отрываясь, осушил его. – Превосходное вино, – сказал он, сбрасывая плащ, – мне не напрасно хвалили вашу остерию, сказав, что можно положиться на доброкачественность вашего вина и на вашу молчаливость. – Мое вино говорит само за себя, и молчаливость моя вполне доказана. Капитан знает, что я умею хранить тайны, и никто не узнает, что Риарио удостоил своим посещением моюубогую остерию. – Вы знаете меня? – с неудовольствием воскликнул гость. – Монтесекко был так неосторожен? – Капитан понимает, что я могу хранить тайну, только зная ее, что я могу ручаться за безопасность графа, только зная, кто находится под моим кровом. Кроме того, бесполезно было бы скрывать от меня имя вашего сиятельства – я видел вас в Риме два года назад. – Пожалуй, Монтесекко прав. Таким людям нужно доверять вполне, так как вы знаете, что я награждаю молчаливость, а измену не оставляю безнаказанной. А где же капитан? Я буду ждать его здесь. – Он не долго заставит себя ждать, так как сообщил мне час вашего приезда. Он провожал сюда из виллы Монтуги его высокопреосвященство кардинала… А вот, верно, и он, – сказал Луиджи, услышав звонок. Он сбежал вниз и вернулся с капитаном. – Я получил ваше письмо, – сказал Джироламо, протягивая руку Монтесекко, – и приехал согласно вашему желанию, так как уверен, вы не вызвали бы меня напрасно. – Конечно, нет. То, что имею сообщить вашему сиятельству, важно и серьезно. Пером владеть не умею и нахожу, что не обо всем можно написать. – Совершенно верно. Меня очень интересует ваше сообщение. Ведь вы человек дела, а не пустых слов. – Вы знаете, граф, что здесь должно произойти и какое участие в этом должен я принять по велению святого отца. Все подготовлено. Войско незаметно подошло к городу мелкими отрядами, а самые надежные люди уже здесь, чтобы в известный момент занять ворота и ввести солдат в город для удержания толпы. Флорентийских войск здесь мало; ворота охраняются слабо, и пока сделано все для выполнения воли его святейшества. – Браво, Монтесекко! – сказал граф, наполняя стакан. – Я никогда не сомневался, что вы все сумеете устроить. – Тем не менее, я все-таки прошу вас еще раз серьезно обдумать и взвесить намеченный план. Я имел длинный разговор с Лоренцо де Медичи, и он высказал мне соображения, заслуживающие серьезного внимания: я передал ему ваши намерения относительно Фаенцы, и он готов вам содействовать, если вы присоединитесь к союзу республики с Миланом и Венецией. – Я должен присоединиться к союзу, который во всем идет против папы, и поддерживать непокорность Флорентийской республики, я, племянник его святейшества? Как вам это могло прийти в голову, Джованни Баттиста? – Союз направлен не против папы, – возразил Монтесекко, и вы могли бы присоединиться к нему без официального объявления. Венеция, Милан, Флоренция и вы, как владетель Имолы, а со временем, вероятно, герцог Романьи, – это такая сила, которую мало кто решится затронуть. А затем, – шепотом продолжал капитан, наклоняясь к графу, – Лоренцо говорил о том времени, которое мы все хотели бы отдалить, но оно неминуемо настанет, когда Сикст IV не будет уже занимать папский престол. Лицо Джироламо приняло сумрачное выражение, и он почти недоверчиво посмотрел на Монтесекко. – Преемник святого отца, – продолжал тот, – может не питать никаких милостивых чувств к вашему сиятельству, ему может даже показаться заманчивым вытеснить вас из ваших владений, и для этого случая было бы, пожалуй, разумно и вам заручиться стойкой, надежной поддержкой, чтобы не бояться возможных осложнений в будущем. Джироламо вскочил. – И это сказал вам Лоренцо? – спросил он, кладя руку на плечо Монтесекко. – Да, и он говорил искренне, в этом я убежден, – с ударением подтвердил Монтесекко. Джироламо крупными шагами ходил по комнате. – Он прав, и его слова действительно достойны внимания. Я уже сам с тревогой думал о том времени, и если бы можно было упрочить почву для будущего, то… – Это было бы истинным советом друга, и Лоренцо будет таким для вас, граф, когда у него не будет оснований бояться вас. – Я в этом удостоверюсь! – сказал граф. – Я его не предупредил о моем посещении – что я здесь сегодня, об этом он, конечно, не должен знать, – такой разговор надо вести спокойно, а теперь этого сделать нельзя. Благодарю вас за сообщение, ради этого стоило меня вызывать. Я немедленно еду обратно в Имолу, а через несколько дней вернусь и увижу, искренне ли говорит Лоренцо. – Через несколько дней? – переспросил Монтесекко. – Тогда, пожалуй, будет поздно. Вы знаете, что завтра предполагается осуществить заговор против Медичи во время завтрака у них во дворце. Все подготовлено, как вы знаете, войска стоят у городских ворот, и мне дан приказ арестовать Лоренцо, что, говоря прямо, мне крайне тяжело, но я взял на себя эту обязанность, чтобы быть уверенным, что при этом не будет пролита кровь. Не всякий мог бы быть уверен, что не произойдет несчастного случая, – с горькой усмешкой добавил он. – Нет, нет, этого не должно быть, ни за что! – вскричал Джироламо. – Союз с Медичи может быть для меня важнее, чем с Пацци и Сальвиати. Надо отложить задуманное. Слышите? Через несколько дней представится такой случай, как теперь. – Может быть, и нет, – возразил Монтесекко. – Я даже удивляюсь, как до сих пор хранится тайна, так многим известная. – Вы это уладите, они послушаются вашего совета. – Несомненно, если я могу сослаться на приказание вашего сиятельства. Для меня лично вполне достаточно вашего приказания – я вам служу, и вы представляете для меня волю его святейшества. – Нет, нет, – нерешительно сказал Джироламо, – меня не называйте, я не хочу ни предположений, ни расспросов. Я хочу действовать сам по себе, и вы должны мне помочь. Намерения Пацци едва ли выполнимы без вас, а я вам запрещаю участвовать в деле, которое может лишить меня друга. Мое войско не должно принимать никакого участия, пока я не дам дальнейших приказаний. Пошлите отсюда ваших людей сообщить отдельным отрядам, чтобы они отступили от города, а если их присутствие будет замечено, можно его объяснить какими-нибудь краткими маневрами. – Это ваше решительное приказание, граф? – Да, – отвечал Джироламо, – и притом опять прошу вас никому не говорить, что я был здесь. Вы дали мне полезный совет, доказывающий вашу преданность, и вы понимаете, что я должен вести дело осторожно. Вы сами знаете, что на войне светлая голова нужна не меньше доброго меча. – Это я понимаю, граф, – задумчиво отозвался Монтесекко, – но я боюсь, что все остальные, так нетерпеливо стремящиеся выполнить свой план, не послушаются моего совета, если я не сошлюсь на вас. – Они и вас послушаются. Скажите, что еще не все готово, что войска надо двигать чрезвычайно осторожно. Скажите что хотите, но удержите их, пока я не узнаю, чего мне ждать от Лоренцо. Если же он действительно искренне хочет быть моим другом, то я сумею примирить его с папой. Теперь мне надо ехать как можно скорее, чтобы никакая случайность не могла выдать моего пребывания здесь. – Вы хотите один ехать в Имолу, граф, без конвоя? – спросил Монтесекко. – Чего мне бояться? Дороги безопасны, а ваших людей вы, вероятно, так строго держите, что они не посмеют напасть на одинокого всадника. И скорее всего, они узнают меня. Сделайте, что я сказал, и прикажите хозяину молчать. Он, кажется, большой мошенник и узнал меня. – Мошенники умеют молчать, граф. Только у дураков, что на уме, то и на языке, – с улыбкой заметил Монтесекко. – Итак, действуйте в этом смысле. Если Лоренцо, а через него Милан и Венеция будут моими союзниками, то я буду этим обязан вам, и вы будете первым лицом при моем дворе в Имоле. Монтесекко пошел вперед по лестнице, а Луиджи, вероятно, чутьем знал, что происходит в его доме, так как, когда граф показался на дворе, он уже выводил его лошадь из конюшни. – Капитан заплатит по счету, – сказал граф трактирщику, – так как вы не поверите в кредит незнакомому человеку, каким я должен быть для вас. Он осторожно выехал из ворот, пока Луиджи кланялся ему с плутоватой улыбкой, и поскакал по дороге. Монтесекко вошел в столовую, где его солдаты пили и играли в кости. Все вскочили и по-военному вытянулись перед ним. Он велел им осторожно выйти на заре, разными улицами города, и передать отрядам приказ возвращаться в Имолу. Солдаты обещали точно исполнить приказание, и Монтесекко направился во дворец Пацци. В среднем зале приемных комнат дворца, производившем мрачное впечатление, несмотря на свое великолепие, когда вошел Монтесекко, Лоренцо прощался с кардиналом Риарио, одетым в пурпурную мантию с горностаевым воротником. Молодой кардинал, несмотря на почтительность, оказываемую его высокому сану, казался робким и сконфуженным мальчиком. Когда Лоренцо, низко поклонившись, отошел, он, видимо, хотел его проводить, и только когда Браччиолини, ни на шаг не отходивший от него, шепнул ему несколько слов, он испуганно остановился. Лоренцо, которого сопровождали Жакопо и Франческо Пацци, а также Джулиано и сестра его Бьянка, увидев Монтесекко, протянул ему руку и сказал сердечно: – Я не встречался с вами в течение всего вечера, капитан, очень рад, что хоть при отъезде увидел вас. Его высокопреосвященство оказывает мне честь завтракать у меня завтра после обедни, и я очень прошу обрадовать меня вашим посещением. Капитан поблагодарил и обещал воспользоваться приглашением Лоренцо. – К сожалению, – продолжал Лоренцо, – мой брат по нездоровью не будет присутствовать на завтраке, но он проводит его высокопреосвященство в церковь. Надеюсь, его нездоровье не усилится, и вы будете иметь случай поближе узнать его. Он создан быть вашим другом, и если бы ему пришлось выбирать призвание, то он, конечно, был бы солдатом. Усталость и трудность для него не существуют, и, я думаю, вы были бы им довольны. Может быть, когда-нибудь вам еще придется быть его руководителем в бою. Монтесекко низко поклонился, когда Лоренцо еще раз пожал ему руку, и с грустью посмотрел ему вслед. «А сами-то они будут лучше, если удастся его свергнуть? – подумал Монтесекко. – Едва ли. Мне кажется, он создан быть правителем, и они только из зависти и злобы стремятся его свергнуть. Я счастлив, что хоть граф Джироламо хочет отступиться, и, Бог даст, он и с папой уладит это грустное недоразумение». Он отошел к окну, погруженный в свои мысли, даже не глядя на блестящую толпу гостей. Вдруг чья-то рука легла ему на плечо. Это был Франческо Пацци. – Вы слышали, капитан? – угрюмо сказал он. – Джулиано уклоняется от завтрака, как уклонился сегодня от нашего приглашения. Уж не догадывается ли он об угрожающей им опасности? – Возможно. Об этом знают слишком многие, и в том числе такие, которым я не доверяю, как, например, Франчези и Бандини. – A им верю, – с презрительной улыбкой сказал Франческо, – потому что они ненавидят Медичи, а от нас ожидают денег и почестей… Но если Джулиано не будет, то ничего нельзя предпринимать. Надо уничтожить обоих, иначе власть оставшегося в живых только усилится. – Оставшегося в живых? – грозно переспросил Монтесекко. – Вы знаете, что святой отец запретил проливать кровь. – Я хотел сказать: оставшегося на свободе, – быстро поправился Франческо. – И если легкомысленный Джулиано ускользнет от нас, он сделается кумиром народа и будет представлять ещё большую опасность для нас. Вашим войскам тоже досталась бы тяжелая работа, и неминуемо пришлось бы проливать кровь невинных. Я уже переговорил с остальными. За завтраком Джулиано не покажется, и ничего предпринимать нельзя, а мы решили сделать это в соборе, где он обязательно будет. – В соборе? – с ужасом вскричал Монтесекко. – В священном месте, перед алтарем? – А разве это не священное дело, одобренное самим святым отцом? Монтесекко мрачно покачал головой. – Делайте, что хотите и что берете на свою ответственность… На меня не рассчитывайте. Во время завтрака я исполнил бы мой долг и позаботился бы, чтобы воля святого отца была выполнена в точности, но перед алтарем я не предприму ничего, оскорбляющего уважение к храму Божию. Он вздохнул с облегчением, считая делом чести не выдавать свой разговор с графом Джироламо, и был счастлив найти уважительную причину отказаться от всего этого замысла, особенно неприятного ему после личного знакомства с Лоренцо. Кроме того, нерешительность графа Джироламо ставила его во всех отношениях в совершенно ложное положение. – Значит, вы отказываете в вашем содействии? – с угрозой спросил Франческо. – Отказываетесь повиноваться святому отцу? – Да, я отказываюсь содействовать вам, – твердо и решительно заявил Монтесекко, – я уверен: если бы время позволило спросить святого отца, он запретил бы оскорблять церковь подобным деянием. Я советовал бы вам отказаться от вашего намерения. Отложите его до другого удобного случая и пошлите верного гонца в Имолу спросить мнение графа Джироламо, так как он лучше всех нас сумеет разъяснить волю папы. Я предупреждаю вас, что войско в собор не поведу, и даже если бы сам святой отец это приказал, я просил бы графа передать командование его армией другому. Кроме того, мое войско не готово, и я едва ли мог бы в нужную минуту занять город и подавить народное движение. – Значит, вы потеряли время и не привели ваших солдат? – запальчиво вскричал Франческо. – Нелегко вести вооруженных людей по чужим владениям, – холодно и свысока отвечал Монтесекко. – Если бы вы были солдатом, то рассуждали бы не так. – В таком случае хватит и личной охраны кардинала, которая находится здесь, чтобы сопровождать его завтра в Монтуги. По крайней мере, надеюсь, мы можем рассчитывать на ваше молчание? Монтесекко резко ответил: – Я умел молчать и в более важных случаях и на подобные сомнения не привык отвечать. – Простите, благородный капитан, – поспешил сказать Франческо с любезной улыбкой, – это не с тем намерением было сказано. Мне неприятны были ваши колебания, так как, по-моему, только решимость может обеспечить успех. Я обдумаю ваш совет, а может быть, и другие согласятся с вами. Он протянул руку, которую капитан нехотя пожал, и вернулся к своим гостям, а Монтесекко удалился. Кардинал тоже ушел в свои покои. Франческо шепнул Бандини и Браччиолини, чтобы они ждали его с остальными в его комнате, и, проводив гостей, застал там всех заговорщиков. – Ну, как обстоит дело? – спросил Наполеоне Франчези. – Монтесекко готов для подавления черни? – На Монтесекко нам рассчитывать нельзя, – отвечал Франческо. – Он отказывается, содействовать нам в соборе, и советует все отложить. – Ни за что! – вскричал Бандини. – Если это не будет сделано завтра, то не будет сделано никогда, а если Монтесекко намерен выдать нас, то надо оградить себя от него. – Нет, нет, он не выдаст нас, – вмешался Франческо, – а употреблять против него насилие опасно. Тут что-нибудь кроется, чего я понять не могу… Бандини перебил его: – Может быть, умный и хитрый граф Джироламо желает остаться в стороне, пока мы вытащим для него каштаны из огня? Я знаю этих любимчиков. Они хитры и трусливы и все одинаковы, потому что сами по себе не представляют ничего. Но это безразлично, откладывать нельзя, нужно действовать, во что бы то ни стало, иначе другого случая не представится никогда. Если власть будет в наших руках, тогда мы можем ставить условия не только графу Джироламо, но и самому папе. Обсудим еще раз все подробности завтрашнего дня, так как от этого зависит успех. Жакопо Пацци не извещали. От него лишь требовалось призвать народ к освобождению, а в самом деле участия он не принимал по своей осторожной и несколько робкой натуре. Залы опустели, огни погасли, и только через тяжелые занавеси из комнаты Франческо падал свет во двор. Тут заговорщики обсуждали свой грозный замысел, который должен был дать Флоренции другую власть и всей политике Италии – новое направление. Монтесекко вернулся в гостиницу. На звонок явился Луиджи Лодини и проводил капитана в боковой флигель, причем Монтесекко приказал ему тихонько отворять ворота солдатам, которые будут уходить в течение ночи поодиночке. – Если ваши люди не будут сами шуметь, то ни один человек не догадается, что в моей гостинице не спят глубоким сном. О вашем молодом оруженосце я позаботился в лучшем виде, – добавил он с хитрой улыбкой. – Надеюсь, он остался мной доволен. Я и на улицу его провожал, так как ему было любопытно посмотреть на въезд кардинала. – Отлично, отлично, благодарю вас. Такому молодому человеку лучше не ходить одному в толпе. Позаботьтесь, чтобы меня разбудили пораньше, мне надо проводить кардинала во дворец Медичи, так что у меня дел будет по горло. Луиджи низко поклонился, но не удалился, а приник к двери, которую Монтесекко плотно закрыл за собой. Клодина в своем мужском костюме, бледная и взволнованная, встретила его. – Я с нетерпением ждала тебя, Баттиета, – сказала она, освобождаясь из его объятий. – У меня поразительная новость. – Ты выходила, – прервал ее Монтесекко с ласковым упреком. – Знаешь, я не люблю, когда ты выходишь без меня или без надежных провожатых… Ну да, Луиджи был рядом, и с тобой ничего не могло случиться. – Прости, – сказала Клодина, – я была одна, и мне так грустно стало без тебя… Захотелось посмотреть на весь этот блеск при въезде кардинала. И, наверное, это было наитие свыше. Я стояла в толпе, а рядом со мной стояла женщина, закутанная кружевом, в простом, но изящном костюме. Я не обращала на нее внимания, но когда подъехали Медичи, женщина повернулась к старухе, моей соседке, спрашивая о молодом всаднике. Это был Джулиано Медичи, как сказала старуха. Кружево соскользнуло с головы женщины, и я узнала мою сестру Фиоретту. – Фиоретту? – переспросил Монтесекко. – Как она попала сюда? – О, я не ошиблась! – воскликнула Клодина. – Я много лет не видела ее, но она мало изменилась, только стала выше и красивее. У нее было такое же грустное выражение, как тогда, когда я прощалась с ней, чтобы бежать к тебе. – А может быть, это случайное сходство? – О нет, это она! Я уж хотела взять ее за руку и назвать по имени, но она с испугом закрылась кружевами, а мужчина, который с ней был, что-то шептал ей на ухо со злой улыбкой. Тогда я остановилась, так как не могла при людях выдавать твою и мою тайну, и она, очевидно, тоже скрывалась. Но я ни на секунду не упускала ее из виду. Когда толпа последовала за шествием в город, она пошла по улице, ведущей к этой гостинице, так что я могла идти за ней, не возбуждая подозрений Луиджи. Ее спутник что-то горячо говорил ей, и они оба вошли в калитку сада с высокими деревьями, а я оглянулась как бы случайно и сказала Луиджи: «Какой чудный парк за этой стеной. Верно, очень важный вельможа живет в этом доме с блестящей крышей?» – «Да, – сказал мне Луиджи, – этот дом и парк принадлежат известному зодчему Антонио Сан-Галло, близкому другу дома Медичи». – «А он женат?» – спросила я, скрывая волнение. «Нет, но ему стоит только захотеть, и любая из красавиц и аристократок пойдет за него». Когда я опять оглянулась, – продолжала Клодина, – спутник Фиоретты вышел из калитки и быстро направился к городу. Больше я не спрашивала, но знала, что хотела: Фиоретта во Флоренции и скрывается в доме Антонио Сан-Галло, этого достаточно, чтобы найти дорогу к ней. Ты должен это устроить, Баттиста, хотя бы выдав мою тайну. Если этот Антонио любит ее, что весьма вероятно, и если она последовала за ним, то он не откажется отвечать тебе, когда ты придешь от имени сестры Фиоретты. – Если ты уверена, что не ошиблась, то это можно будет устроить. Антонио я знаю только по имени, но его друзья могут помочь мне, и тайна разъяснится, да и Фиоретта, вероятно, не захочет скрывать ее от сестры. – О, как я хотела бы увидеть ее и узнать о родителях. Даже самое тяжелое известие лучше неизвестности. Мне так трудно было удержаться, чтобы не заговорить с ней, но так лучше, a ты, Баттиста, все узнаешь и устроишь. – Может быть, вообще устроится все наше будущее, – сказал Монтесекко, нежно обнимая ее. – Я стремлюсь бросить свою службу у графа Джироламо. Я поговорил с Лоренцо де Медичи, и, ей-Богу, он не такой человек, как все остальные. Служить ему и Флорентийской республике большая честь. Да и я ему, кажется, понравился. Я думаю, недалеко то время, когда ему потребуется мой меч. Служба Флорентийской республике дала бы нам прочную оседлость, и я со спокойным сердцем оставлял бы тебя, уходя сражаться за честное и благородное дело. – О, как это было бы хорошо! Тут так близко от моей родины, – сказала Клодина. – Если мои родители живы, то они оценят тебя и дадут нам свое благословение. Я даже боюсь думать о таком счастье. – Будем надеяться! – сказал Монтесекко. – Постараюсь как можно скорее устроить нашу судьбу. И его лицо осветилось счастьем и радостной надеждой. – Перед сном дай мне послушать твой голос, он не раз ободрял меня в тяжелые минуты. Он притянул ее к себе на диван и дал ей в руки мандолину, и скоро раздалась веселая песенка в темпе марша, а снизу, из большого флигеля, доносились грубые голоса солдат.Глава 12
Во дворце Медичи до поздней ночи шли оживленные приготовления. Слуги накрывали столы в роскошных залах, украшая их драгоценным серебром и цветами. Повара все готовили для парадного завтрака, так что на другой день работа предстояла только очагам. В небольших приемных Лоренцо после ухода Клариссы с детьми собралось несколько друзей, с которыми Лоренцо любил отдыхать от дел. Тут были молодой Полициано и пожилой уже грек Дмитрий Калкондилас, с умным бледным лицом, а сегодня еще пришел живописец Сандро Боттичелли, желавший показать Лоренцо эскиз картины, которую он писал для церкви Санта-Мария Новелла. Лоренцо внимательно осматривал небольшой эскиз картины, стоявший перед ним на мольберте между двумя канделябрами. Боттичелли объяснял свой замысел, а Полициано и Калкондилас, слушая его, стояли в стороне. Картина изображала поклонение волхвов и была мастерски написана, даже в самых мельчайших подробностях. Старший из волхвов низко наклонился перед Мадонной и с благоговением целовал ногу младенца Христа, в доказательство того, как объяснил Боттичелли, что могущественный царь Востока признал родившегося Спасителя царем всех правителей земных. Лоренцо долго всматривался в выразительное лицо волхва, потом вопросительно посмотрел на Боттичелли и с волнением спросил: – Этот человек так поразительно похож на моего деда Козимо, что я никогда не видел более удачного сходства. Неужели это случайность? – Это не случайность, благородный Лоренцо, – ответил художник. – Я не мог выбрать лучшей и более достойной модели для изображения волхва, пришедшего поклониться Спасителю, как ваш дед, который с благоговейным смирением преклонился перед Сыном Божьим. – Вы правы, – сказал Лоренцо, – мой дед был так же смиренен перед Богом, как горд и непреклонен перед людьми. А этот, стоящий на коленях перед младенцем, это Джованни, мой дядя? – Да, по-моему, это вполне подходящее для него изображение. Джованни всегда держался вдали от шумного света, и вся его тихая жизнь соответствовала словам Священного Писания: «И дом мой будет служить Господу». – А этот последний из волхвов, – вскричал Лоренцо, – совсем еще юноша, приносящий Спасителю драгоценные дары, – это Джулиано, мой дорогой Джулиано? Он стоит тут, как живой! Я понимаю вашу мысль: мой брат Джулиано действительно так щедро одарен природой, как только возможно человеку, и он все эти дары посвятит Богу в служении родине, данной нам самим Богом, которой мы всецело должны жертвовать собой. Боттичелли улыбнулся, говоря: – Я поражен, видя, как вы угадали мои мысли. Я действительно об этом думал, хотя и не так ясно отдавал себе отчет. – О, дай Бог, чтобы эта картина превратилась в действительность! – с волнением воскликнул Лоренцо. – Благодарю вас от всего сердца за то, что вы вспомнили о моих родных и дали им в глазах потомства место почетное, но доказывающее также их смирение, которое каждый человек должен сохранять, как бы высоко ни поставила его рука Господня. Благодарю вас также, – добавил он с улыбкой, – что вы не изобразили меня на этой картине. Мое лицо не гармонировало бы с представлением красоты, к которой художник должен стремиться в своих произведениях. – Я не написал вас, чтобы в этом не усмотрели лести, которой я вполне чужд, несмотря на мое глубокое уважение к вам, – быстро и с оттенком неудовольствия ответил Боттичелли на шутку Лоренцо. – Вы так хорошо умеете писать, – продолжал Лоренцо, пожав руку художнику, – что мне хочется попросить вас написать портрет моей жены Клариссы, чтобы и я, и дети впоследствии имели ее портрет в молодости. Напишите также и брата моего Джулиано, не так, как он тут изображен, а как живет среди нас, с его милой улыбкой и в душу проникающим взглядом, чтобы даже те, кто его не знает, могли по портрету иметь о нем представление. – Я с радостью исполню ваше желание, – сказал Боттичелли и прибавил с улыбкой: – Не сомневаюсь, что мой портрет стяжает благородному Джулиано любовь и восхищение, если вы захотите его послать далеким друзьям. Лоренцо пытливо взглянул на художника, но ответил равнодушным тоном: – К счастью, у нас много друзей за границей, с которыми, однако, нам редко приходится видеться. И мне приятно было бы дать им вполне похожий портрет моего брата. Боттичелли поклонился с улыбкой, и разговор был прерван приходом монаха-доминиканца, которому лакей без предварительного доклада открыл дверь. Это был еще молодой человек, стройный, с желто-бледным лицом, сильно выдающимся носом, большим красивым ртом и темными, несколько впалыми глазами. Его густые волосы были под белым покрывалом, спускавшимся на грудь и на спину. Белая сутана и черный плащ со спущенным капюшоном висели складками на его тощей фигуре. Он мельком окинул взглядом присутствующих и слегка наклонил голову перед Лоренцо. – Меня очень радует, почтенный брат, – сказал Лоренцо, – что вы посетили меня перед своим отъездом и предоставили мне возможность познакомить вас с моими друзьями – с ученым Калкондиласом, с оратором Полициано и с художником Сандро Боттичелли, который только что принес мне эскиз чудной картины, предназначающейся для церкви Санта-Мария Новелла. Брат Джироламо Савонарола, – продолжал он, пока присутствующие почтительно кланялись, – приехал по делам своего монастыря в Болонье и привез мне поклон от их почтенного настоятеля. Вы охотно посмотрите на эту картину, брат Джироламо, так как художественные изображения Священного Писания столь же содействуют распространению и укреплению веры, как и горячая речь, которой вы так мастерски владеете. Монах посмотрел на картину, потом его лицо приняло суровое выражение, и он сказал, качая головой: – Картина прекрасна, этого отрицать нельзя, и изображение поклонения волхвов Спасителю должно, конечно, наполнять сердца любовью ко Всевышнему, но я вижу по этой картине, что кистью художника руководила не одна преданность священному сюжету, а также и земное тщеславие. Я вижу тут вашего брата Джулиано и вашего деда Козимо, которого узнаю по другим картинам. Его глаза загорелись, и низкий, грудной голос мощно и громко звучал, когда он продолжал: – Не таким духом должна быть проникнута картина, предназначенная для служения Богу. Я надеюсь и желаю, чтобы ваш дед и ваш брат были одушевлены той же верой и смирением, которые привели волхвов к яслям в Вифлееме, но это не требует картинного представления перед глазами всего народа. Эта картина – прославление грешных людей, что противоречит смирению, которое лишь одно ведет к источнику вечной любви и милосердия. О нем возвестил ангел в ту священную ночь, и звезда привела волхвов с Востока к смиренному месту рождения Спасителя мира, где сам Бог принял земной образ, чтобы искупить грех всего человечества своими страданиями и смертью. Гордому фарисею не место там, где сам Бог милостиво подал руку кающемуся мытарю. Монах говорил спокойно и медленно, резко отчеканивая каждое слово, но вся речь его дышала огнем. Боттичелли не сразу нашелся что ответить на строгую критику своей картины, а Лоренцо сказал мягко и почтительно: – Вы, может быть, слишком строго судите, почтенный брат. На этой картине нет моего изображения, и я только что говорил об этом почтенному Сандро, который не отвел мне места на картине, чтобы избежать всякого намека на лесть, так как я пользуюсь, может быть и незаслуженно, особенным доверием народа в управлении республикой. Если он отвел такое почетное место моим родственникам у места рождения Спасителя, то это, вероятно, чтобы показать потомству, что дух смирения, приведший волхвов в Вифлеем, всегда был и будет в нашей семье. – Именно так, – поспешил сказать Боттичелли, – благородный Лоренцо совершенно верно понял и выразил мою мысль. На этой картине, уважаемый брат, выражается не только благородное признание прошлого дома Медичи, но и ручательство за его будущее… – Которое мое потомство несомненно выполнит, если хочет быть достойным меня, так же как я стремлюсь быть достойным моих предков, – проговорил Лоренцо. – Охотно верю, что это так, – возразил Савонарола, устремляя проницательный взгляд на Лоренцо, который опустил глаза, – и надеюсь, что для вашего дома и впредь так будет. Но зачем это открыто выставлять на картине, посвященной Богу, когда Он говорит: «Поклоняйтесь Мне в духе и истине»? В крайнем смирении тоже кроется гордость, и не все говорящие «Господи, Господи!» и преклоняющие колени принародно найдут путь в царствие небесное. Это именно то проклятие, которое человеческая гордость и честолюбие внесли в святую церковь. Дух христианства и священное богослужение выражаются в наружных обрядах и лицемерном смирении, тогда как гордость и тщеславие наполняют сердца. Притворство подтачивает и церковь, и общество. Священники, проповедующие любовь и смирение, которые должны бы воплощать это своим примером, тяготеют к земному честолюбию и с завистливостью и враждебностью преследуют всех, кто становится им поперек дороги. Представитель Христа на земле забывает, что Спаситель родился в яслях, жил в бедности и отречении и говорил, что «легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому войти в царствие небесное». Он окружает себя роскошью светских правителей, а пастыри церкви, епископы и прелаты, подражают ему и стремятся к земным сокровищам и земным почестям. Народ ищет спасения в обрядах без жертв и труда, вместо того чтобы молиться и делами любви и милосердия создавать вечный храм, исполненный духа Христова, который должен соединить все человечество в братском мире и согласии. Всю церковь надо перестроить, вернуть ее к смирению и вере, которая горы сдвигает и укрепления обращает в прах. – Ай, ай, почтенный брат, – сказал Боттичелли, – вы смело говорите… Если бы это слышали князья церкви или его святейшество в Риме, то они были бы не особенно довольны. – А разве они могут иначе думать, если хотят служить истине, если хотят быть последователями апостолов, которые подобно Христу нищими пошли по свету, неся страждущим и обремененным радостную весть? Если бы Спаситель теперь сошел на землю, Ему многих пришлось бы изгнать из церкви, как Он изгонял торгующих из храма в Иерусалиме, и между ними немало было бы называющих себя Его слугами, которые носят Его крест на груди и проповедуют Его Евангелие. Если так действует церковь, то нечего удивляться, что везде на свете царят гордость и тщеславие и жажда власти и богатства. Что народ подавлен королями и князьями, сильными и богатыми, которые говорят, конечно, что обязаны своими коронами милости Божьей, но пользуются силой и властью для насилия, точно дьявол возложил эти короны на их головы. Веру, любовь и свободу проповедует Евангелие, и эта истина должна водвориться на земле, как она существует у престола Всевышнего. Кто хочет служить Богу, быть пастырем Его церкви, тот должен возвещать эту истину, пока она не разнесется победоносно по всему свету, не смущаясь лицемерными фарисеями и злобными властителями, которые преследовали и распяли Христа. Кто не проповедует веру и истину, кто не стремится освободить людей от ига, наложенного на него духовной и светской властью, тот не достоин быть пастырем церкви, чистый и вечный свет которой сияет из убогих яслей Вифлеема. Савонарола простер руки, как бы заклиная, и в глазах его светился необычайный огонь. Все были взволнованы и потрясены его словами, даже тонкая, ироническая улыбка Калкондиласа исчезла. Несколько секунд царило глубокое молчание. – Вы говорили прекрасно и, к сожалению, справедливо, уважаемый брат, – сказал Лоренцо, поднимая свое выразительное лицо, – хотя ваше порицание, пожалуй, слишком резко. Существует же немало истинных и преданных служителей церкви, которые исполнены горячей веры и проповедуют любовь и смирение… – А сами одеваются в пурпур, заимствованный у светских властителей, подобный тому, который стражники, издеваясь, надели на Спасителя! – прервал Савонарола. – Ну, – с улыбкой заметил Лоренцо, – свободу, которую вы требуете для народа, а также для бедных и угнетенных, как доказательство христианской любви и братства, вы найдете, пожалуй, и у нас. У нас в республике народ свободен и граждане равны в своих правах! – А все-таки в этой республике вы, Лоренцо Медичи, господин и повелитель, утопаете в королевской роскоши! – воскликнул Савонарола. – Разве вы не знаете, что сказал Спаситель богатому юноше? «Продай все и раздай деньги нищим, если хочешь следовать за мной». – Если мне принадлежит власть, – возразил Лоренцо, – то она добровольно дана мне доверием народа и так же может быть отнята, но ни один бедняк не уходит от меня без помощи. – Весьма возможно, – мрачно сказал Савонарола, – но разве подарок из милости, не требующий жертвы и не уменьшающий богатства, является доказательством братской любви? Я один не могу изменить мира, – продолжал он со вздохом, – но я всегда буду неустанно говорить, что надо изменить жизнь церкви и народа, если мы хотим удостоиться второго пришествия Христа. Анжело Полициано, я хорошо знаю вас, вы занимаетесь поэзией и мастерски владеете словом, но ваш талант служит силе и блеску, житейским радостям и удовольствиям, а моя песнь – и люди должны ее слушать – будет воспевать славу церкви, истинную славу, которая не блещет золотом и пурпуром, но сияет лучезарнее всякого земного света. И он как в экстазе поднял глаза. Потом его руки безжизненно опустились, он сгорбился, и взгляд его опять стал холоден и спокоен. – Благодарю вас, Лоренцо Медичи, – сказал он, – за пожертвования моему монастырю. Ваши письма я передам нашему высокочтимому настоятелю. Каждое доброе дело, если оно исходит из доброго побуждения, угодно Богу, и ваше тоже вам зачтется. – А я благодарю вас, почтенный брат, за то, что вы откровенно говорили, и если я не вполне разделяю строгость вашего суждения, то все-таки такие слова – хорошее лекарство от болезни, заразившей, к сожалению, весь свет и даже церковь… Здесь было бы подходящее поприще для вас, – продолжал он после краткого раздумья. – Монастырь Сан-Марко был бы достойным вас приютом, а в гражданах нашей республики, и прежде всего во мне, вы нашли бы почтительных слушателей. Вы попрекнули меня властью, данной мне свободным народом. Если хотите, эта власть будет к вашим услугам и отворит вам двери Сан-Марко, откуда ваше слово дальше разнесется по свету, чем из кельи в Болонье! – Благодарю, – отвечал Савонарола, – я уже подчинил свою волю законам ордена. Если мне потребуется убежище, я приду к вам, но не служить вашему могуществу, а возвещать славу церкви и богатым, и бедным. Мне оказали гостеприимство в вашем доме, и я прощаюсь с вами с благословением, как должно гостю, принятому вами во имя Христа, и буду молиться, чтобы дух Евангелия жил под вашим кровом, очищая вашу душу от земной гордости и тщеславия. Завтра я уйду и не буду больше мешать вам. Он осенил крестным знамением почтительно склонившегося Лоренцо, слегка кивнул головой остальным и вышел. – Странный господин, – медленно проговорил Полициано. – Он хотел бы заселить весь свет кающимися грешниками… Ну, меня он не обратит в свое суровое учение! Свет и блеск так прекрасны! Создатель дал нам мир на радость и счастье, так почему же не пользоваться с благодарностью таким даром? – А все-таки он, пожалуй, прав, – сказал Лоренцо, – говоря, что свет и, главное, церковь нуждаются в улучшении. Нам с огорчением приходится чувствовать, что глава церкви стремится для себя и для своих близких к преходящему блеску и в злобе и ненависти забывает христианскую любовь. Кажется, что в словах монаха я слышу голос будущего, в котором разразятся грозы, чтобы очистить удушливый воздух, окружающий нас. Он задумался, потом пожал руку художнику, говоря: – Еще раз благодарю вас, Сандро Боттичелли, за вашу картину, я всегда буду смотреть на нее без гордости и высокомерия, как на выражение смирения членов моей семьи, а если вам захочется и меня написать на одной из ваших картин, тогда выберете для этого мытаря, который чувствует свою греховность, но надеется на Божие милосердие. – А над фигурой фарисея мне затрудняться не придется, – отвечал Боттичелли, – для нее я найду достаточно моделей из высших служителей церкви. Гости вскоре разошлись, а Лоренцо, оставшись один, проговорил серьезно и задумчиво: – В Риме начали открыто показывать ко мне вражду… Словам Джироламо я не верю. Если мне не удастся управлять им путем его собственного тщеславия, надо быть готовым защищаться, и, пожалуй, недурно было бы для открытой борьбы с Римом иметь под рукой и нравственное оружие. Надо иметь в виду этого монаха.Глава 13
В последнее воскресенье перед Вознесением с самого утра вся Флоренция пришла в движение, и во дворце Медичи слуги в богатых, расшитых золотом ливреях ожидали приезда многочисленных гостей. Они все рано собрались в парадных залах дворца, где Кларисса в белом парчовом платье с накидкой, какие носили по старому обычаю флорентийские аристократки, принимала гостей. На ее поясе, на голове, на руках сияли драгоценные камни, почти затмевая бриллианты маркизы Маляспини. Мать Лоренцо, Лукреция, урожденная Торнабуони, почтенная матрона, в темном бархатном платье с серебром, принимала гостей, сидя в кресле. Из всех дам выделялась красотой и свежестью маркиза Джованна, а Лоренцо, как всегда, в простом темном костюме с многочисленными драгоценными украшениями, был окружен друзьями и родственниками, в числе которых находился и Козимо Ручеллаи, готовый немедленно выполнить любое поручение или приказание. Приехали на лошадях с великолепной сбруей, с многочисленной свитой посланник неаполитанского короля Марино Томачелли, посланники герцогов миланского и феррарского Филиппе Саграморо и Никколо Бандедеи, флорентийские рыцари Антонио Ридольфи, Бонджанни Джанфилиацци, Бернардо Бонджиролами и другие представители древних аристократических фамилий Флоренции. Лакеи встречали их под порталом дворца и провожали в залы, а лошади и слуги заполняли дворы. Когда все приглашенные собрались, доложили о приезде кардинала Риарио. Он въехал под портал в простой одежде. За ним следовал архиепископ Сальвиати и все Пацци со своей родней, в числе которых находился и Гульельмо со своей женой Бьянкой, сестрой Лоренцо, серьезной, горделивой женщиной, намного превосходившей характером и силой воли своего слабого, нерешительного мужа. Франческо Пацци привез с собой Бандини и Наполеоне Франчези, которые тоже были радушно приняты, хотя и не принадлежали к друзьям дома Медичи. Монтесекко вел охрану, присланную из Имолы графом Джироламо племяннику и состоявшую из сотни лучших всадников. Он оставил стражу у дворца, а сам с мрачным видом последовал за другими в приемные залы. При докладе о приезде кардинала Лоренцо послал Козимо встретить высокого гостя и проводить его в отведенные ему комнаты, где он хотел бы переодеться, и пешком пройти в собор. Сам Лоренцо принимал гостей с обычной своей любезностью, так же приветствовал и Бандини, даже виду не подав, что помнит их недавнее свидание. Франческо с тревогой спросил о здоровье Джулиано и, услышав от Лоренцо, что тот по болезни не будет присутствовать на завтраке, а придет в собор засвидетельствовать свое почтение кардиналу, удалился вместе с Бандинн в соседнюю комнату, оживленно разговаривая. Вскоре появился кардинал в пурпурной рясе, мантии и в кардинальской шапке. Странное явление представлял этот нежный, юный служитель церкви, изо всех сил старающийся побороть свою робость и сохранить достоинство и величие сана. Лоренцо и его жена приветствовали кардинала, и только для него донна Лукреция поднялась с кресла, сделав несколько шагов навстречу. Пока Рафаэлло почтительно разговаривал с ней, Лоренцо подошел к Монтесекко и сердечно пожал ему руку. – У вас великолепные всадники, благородный капитан. Такое войско я хотел бы иметь, если мне придется вести войну. Я видел, когда шел к ранней обедне, как они утром ехали за его высокопреосвященством. – Так вы уже были у обедни, ваше сиятельство? – поспешно спросил Монтесекко. – Я имею привычку начинать день обедней. – И вы не пойдете теперь в собор? – спросил Монтесекко, вздохнув с облегчением, точно у него камень свалился с плеч. – Пойду, – отвечал Лоренцо. – Я обязан сопровождать его высокопреосвященство, он мой гость. Монтесекко открыл рот, собираясь что-то сказать, но в этот момент подошел кардинал, которому хотелось поскорее окончить свою трудную роль, и спросил, не пора ли идти в собор. Монтесекко со вздохом удалился, а Лоренцо направился к выходу с кардиналом. Мужчины последовали за ними, а дамы удалились в свои комнаты до завтрака, который должен был быть сейчас же после богослужения. Козимо Ручеллаи, идя за кардиналом и Лоренцо, послал воздушный поцелуй Джованне, которая ответила ему, краснея и радостно улыбаясь. Торжественное шествие в ярком блеске красочных одежд, золота, серебра и драгоценных камней направилось по улице к собору. Толпа почтительно кланялась кардиналу, он тоже кланялся направо и налево, благословляя народ, и некоторые преклоняли колени, но, в сущности, приветствовали и Лоренцо, и отовсюду слышались крики: «Палле! Палле!» Когда шествие, к которому присоединились многочисленные слуги и конные солдаты Монтесекко, вышло из портала дворца, архиепископ остался с Браччиолини и Жакопо Пацци. Человек двадцать молодых людей были наготове, и, когда толпа хлынула за процессией к собору, Сальвиати иБраччиолини быстро направились к дворцу синьории, а остальные в некотором отдалении последовали за ними. Франческо Пацци и Бандини тоже отстали. – Его еще нет, – шептал Франческо. – Если мы не покончим сразу с обоими братьями, то все дело пропало. Неужели они что-нибудь узнали? Неужели это таинственное отсутствие Джулиано – какая-нибудь западня? – Это не похоже на Джулиано, – возразил Бандини. – В таком случае скорее отстранился бы Лоренцо. Я знаю, отчего Джулиано нет и что его отвлекает. Оставь его, я ручаюсь, что он от нас не уйдет, лишь бы с тем покончить. – Нет, нет, на случайность рассчитывать нельзя, это очень опасно. Нам Джулиано необходим, чтобы одновременно уничтожить обоих. Пойдем, я хочу узнать, в чем дело. И они поспешили во флигель, занимаемый Джулиано. Там, в противоположность дворцу, царила полная тишина. В передней было несколько слуг. Они свободно пропустили Франческо как приятеля их господина. Он быстро отворил дверь и вместе с Бандини вошел в знакомую комнату. Джулиано стоял у окна в богатом костюме, держа в руках шляпу, и задумчиво смотрел в сад. – Что с тобой, Джулиано? – спросил Франческо. – Неужели ты уж так болен, что даже не можешь появиться в соборе? Ты совсем готов, все уже ушли, время терять нельзя. Идем, идем скорее! – Я одет и обещал прийти, – со вздохом отвечал Джулиано, – но я, право, не здоров, можешь мне поверить, и только что думал, что мое присутствие ничего не значит, а мне так хорошо было бы спокойно посидеть здесь. – Твое присутствие ничего не значит? Это уж слишком скромно. Разве ты не то же, что Лоренцо? Твое отсутствие обидит кардинала, так как ты уже отказался от завтрака, а по своему положению ты обязан оказать вежливость пастырю церкви и племяннику папы. Жалко было бы, – прибавил Франческо с улыбкой, – если бы народ не увидал тебя в этом великолепном костюме. Что за чудное шитье! Мне даже завидно. При этом он рассматривал и трогал шитье на груди Джулиано. – Могу тебя уверить, – отвечал Джулиано, отстраняясь, – что я не особенно старался наряжаться сегодня и совсем не знаю, откуда взялось это шитье. Если это необходимо, я пойду с вами, но обещайте не задерживать меня на завтрак, все равно это будет напрасно. – Идем, идем, благородный Джулиано, – вмешался Бандини. – Колокола звонят, значит, кардинал уже в соборе и служба начинается. Джулиано подошел к большому венецианскому зеркалу, а Франческо шепнул Бандини: – Я его ощупал, на нем нет кольчуги… Все удастся, и через час мы будем хозяевами Флоренции. Он взял Джулиано под руку, и они втроем пошли по пустынной улице к собору, окруженному народом. Солдаты Монтесекко охраняли свободный проход. Внутри великолепный собор представлял пеструю, блестящую картину. Все места были заняты высшими флорентийскими гражданами. Кардиналу было приготовлено место против алтаря. Его окружала личная свита и все общество, собравшееся в доме Медичи. Над ними возвышался дивный купол Брунеллеско, а в окно врывался яркий солнечный свет. Лоренцо стоял за решеткой, любезно предоставив гостям место возле кардинала. Служивший обедню священник стоял у алтаря, освещенного массой свечей, остальное духовенство окружало его. Дым от ладана поднимался густыми облаками. Обедня началась, и чудное пение разносилось под высокими сводами. Франческо тянул Джулиано через свободный проход к клиросу. Бандини шел за ними. Монтесекко стоял у входа, чтобы не отдаляться от солдат. Он с тревогой озирался, не зная что будет, но, все еще надеясь, что заговорщики не решатся на дерзкое нападение, тем более что все казалось мирным и спокойным. Обедня продолжалась. Молитвенное настроение не особенно проявлялось, так как все были заняты зрелищем. Наконец раздался серебристый звон, на который ответил большой колокол собора. Священник поднял дароносицу, все опустились на колени. И вдруг громкий крик прервал торжественную тишину. Бандини вонзил кинжал в грудь Джулиано. Раненый вскочил, но тут же повалился, обливаясь кровью. Франческо бросился на него и с такой дикой яростью колол уже смертельно раненного Джулиано, что сам наткнулся на собственный кинжал и тоже упал на колени. В ту же минуту блеснули мечи и кинжалы в руках всех заговорщиков. Кардинал в ужасе вскочил и взбежал на ступени алтаря, где его окружили священники. Антонио Маффеи, стоявший вместе со Стефано Баньоне рядом с Лоренцо, поднял кинжал, но удар, направленный в шею, скользнул по плечу Лоренцо, который, быстро окутав руку плащом, выхватил шпагу, чтобы отпарировать нападение Бандини, бросившегося на него с кинжалом, с которого еще струилась кровь Джулиано. В одно мгновение друзья Медичи обнажили оружие. Джованни Торнабуони и другие окружили Лоренцо и втолкнули его в ризницу, железную дверь которой Полициано отворил и мгновенно захлопнул, как только Лоренцо был в безопасности. Козимо Ручеллаи бросился навстречу Бандини, только что заколовшему одного из друзей Медичи – Франческо Нори, и выбил у него из рук кинжал, а затем кинулся на Франческо Пацци, который поднялся с колен и убеждал заговорщиков пробиться в ризницу. – А, ты вовремя подошел! – вскричал Франческо, дрожа от злобы при виде Козимо. – Ты поплатишься за то, что посмел перейти мне дорогу. И он рванулся к Козимо, но молодой человек, впервые обнажив оружие, с холодным спокойствием защищался острием шпаги. Франческо старался схватить за рукоятку оружие противника. Когда это ему не удалось, он бросил свой тяжелый, острый кинжал в Козимо, но сам еле держался на ногах, кинжал пролетел мимо, а Козимо направил шпагу в грудь своего обезумевшего врага. Совсем обессиленный, Франческо упал на колени, стараясь еще выхватить шпагу, но оружие Козимо уже прокололо его камзол. Видя перед собой беззащитного врага, Козимо отвел свою шпагу, говоря: – Я не запятнаю свое оружие кровью убийцы! Тебя убьет топор палача, а не рыцарская шпага! Франческо мертвенно побледнел. Он попробовал подняться и крикнул хриплым голосом: – Коли, жалкий мальчишка! Франческо Пацци не принимает милости от тебя! Ему удалось достать шпагу, но Козимо уже отошел к Джулиано, у которого Торнабуони тщетно старался вызвать признаки жизни. Бандини, напрасно старавшийся взломать дверь в ризницу, подошел к Франческо, поднял его и, поддерживая, повел к выходу. – Все пропало, – сказал он. – Лоренцо в безопасности, нам здесь больше делать нечего. Мы можем выйти через боковую дверь, ты спрячешься в своем доме, а я уж найду дорогу. Никем не замеченные, они исчезли через маленькую дверь. В соборе происходило необычайное смятение, немногие знали, в чем дело, и, пока у алтаря звенели кинжалы, раздались крики, что купол обрушился, и все с воплями отчаяния бросились к выходу. Заговорщики, друзья Пацци, поняли, что их дело пропало, и старались спастись, смешавшись с толпой, теснившейся у дверей. Гульельмо, стоя на коленях у тела Джулиано, клялся в своей невиновности, и Торнабуони отвел его в старую ризницу, куда священники спрятали и кардинала Рафаэлло, который стоял мертвенно-бледный и хриплым голосом говорил, что он ни в чем не повинен и понятия не имел об этом ужасном происшествии. Наконец собор стал пустеть, и скоро разнесся слух об этом событии среди народа, который с громкими проклятиями на врагов Медичи начал толпами наполнять улицы. Монтесекко в начале схватки вышел из собора, он был в ужасе и негодовании от такого осквернения храма убийством в минуту открытия святых даров. Он вспомнил определенное приказание папы не проливать крови и решил уйти из города со своими солдатами. Он хотел ввести их в собор, чтобы любыми путями спасти кардинала, вверенного его охране, но солдат он уже не нашел. Жакопо Пацци, тоже оставшийся у входа, при первом звуке колокола вскочил на коня и приказал солдатам от имени кардинала следовать за ним. Солдаты, всегда видевшие Жакопо в свите кардинала, повиновались, и он ехал по улицам и кричал всем попадавшимся навстречу: – Свободу народу! Смерть тиранам! Толпа, собравшаяся у собора, не обратила внимания на скакавших всадников – шум и крики отвлекали ее. В домах открывались окна, прохожие останавливались, некоторые любопытные последовали за конным отрядом, но никто не понимал возгласов Жакопо, и они не имели другого действия, как собрать народ на улицах в ожидании новых зрелищ. Монтесекко испугался, не видя своих солдат. «Черт возьми! – подумал он. – Беда разразилась, теперь я уже помочь не могу. Надо хотя бы спастись самому». И он быстро направился к предместью, в свою гостиницу. Пока развивались события в соборе, архиепископ Сальвиати направился ко дворцу синьории в сопровождении заговорщиков, которых вел Браччиолини, чтобы по совершении дела немедленно овладеть правлением республики. Против ожидания, в синьории оказался гонфалоньер Чезаре Петруччи и несколько чиновников, находившихся там для решения некоторых неотложных дел. Стража синьории была невелика. Служителей по случаю воскресенья также было немного. Поэтому спутники архиепископа, хорошо вооруженные, надеялись легко овладеть зданием синьории. Когда архиепископ, объяснив свой приезд необходимостью получения какой-то деловой справки, узнал о присутствии гонфалоньера, он смутился и пошептался с Браччиолини, но потом велел доложить о себе и был немедленно почтительно введен слугами. Его спутники остались внизу, а Браччиолини последовал за ним, чтобы вовремя дать знак для нападения. Дверь комнаты, в которой находились заговорщики, была снабжена особым замком: его нельзя было отворить изнутри. Устроено это было для того, чтобы подсудимые, вызванные для допроса, могли там ждать без охраны. Один из заговорщиков захлопнул дверь за собой, чтобы стоящие снаружи часовые не слышали их разговоров. И таким образом сами оказались запертыми в комнате с железными решетками на окнах. Чезаре Петруччи, высокий, плотный мужчина с гордым и смелым взглядом, вместе с другими членами правления встретил архиепископа на пороге зала заседаний, почтительно поклонился высокому служителю церкви, предложил ему кресло рядом с собой у стола, заваленного бумагами, свертками пергамента, сводами законов, и со спокойной вежливостью спросил, что ему угодно. Смущение архиепископа, по природной скрытности более склонного к тайным интригам, чем к смелым поступкам, все усиливалось под проницательным взглядом гонфалоньера. Он пришел сюда, думая встретить только какого-нибудь мелкого чиновника и дождаться под каким-нибудь предлогом условного сигнала – звона соборного колокола. Смелый, решительный человек при таком повороте дела не стал бы выжидать. А при численном перевесе заговорщикам, пожалуй, удалось бы сразу овладеть синьорией. Но архиепископ сидел, смущенный и сконфуженный, а Петруччи удивленно и вопросительно смотрел на него. Наконец архиепископ сказал нетвердым голосом, что он получил от папы особо важное поручение и хотел бы немедленно сообщить об этом синьории. – Так вы знали, ваше преосвященство, что я сегодня буду находиться здесь? – с еще большим удивлением спросил Петруччи. – Я слышал об этом, – заикаясь, ответил архиепископ, – и пришел сообщить вам еще, почтенный гонфалоньер, что его святейшество, желая оказать республике и вам особую милость, хочет взять к себе на службу вашего сына и, если вы согласны, отправить его посланником к регентше в Милан. – Я не просил об этой милости, – отвечал Петруччи, все более удивляясь замешательству прелата, который боязливо посматривал на дверь, словно чего-то ожидая, – и сомневаюсь, чтобы мой сын сумел оправдать высокое доверие его святейшества, за которое я приношу почтительную благодарность. Позвольте мне поговорить с ним, а пока будьте добры сообщить мне о вашем поручении, чтобы я мог сейчас же, если нужно, созвать заседание. Архиепископ опять пробормотал какие-то несвязные слова и снова тревожно посмотрел на дверь. Снизу послышался глухой шум – заговорщики заметили, что они заперты, и попробовали изнутри взломать дверь. Архиепископ встал и хотел выйти, но Петруччи быстро вскочил и раньше его прошел в приемную. Тут он увидел Браччиолини, собирающегося идти вниз, где шум все усиливался. В руке у Браччиолини был кинжал, и, услышав шаги Петруччи, он обернулся с угрожающим видом, но сильный и ловкий гонфалоньер вырвал у него оружие, схватил его за длинные волосы и повалил на пол. – Держите архиепископа! – крикнул он оставшимся в зале чиновникам. – И вот этого негодяя… Это измена… коварная измена! Архиепископ, пытавшийся убежать, был задержан и, несмотря на возражения и упоминание о своем высоком сане, заперт в соседней комнате. Петруччи крепко держал за горло лежащего на полу Браччиолини, пока и того не заперли вместе с архиепископом. Потом гонфалоньер обнажил шпагу и поспешил вниз. Стражники, не подозревая никаких враждебных намерений, отперли дверь, заговорщики вырвались, и началась дикая, неравная борьба, так как стражников было очень мало, а у чиновников не оказалось никакого оружия. Но они схватили, что попало и смело бросились на заговорщиков, которые не рассчитывали на сопротивление и были немало смущены исчезновением архиепископа. Стражники отворили наружные двери и стали звать на помощь прохожих, которые с ужасом останавливались, слыша шум в обыкновенно тихом и торжественном дворце синьории. Вдруг подъехал с солдатами Жакопо Пацци, крича: – Свобода!.. Свобода!.. Смерть тиранам! Окна стали открываться, люди собирались, но никто не отвечал на эти возгласы, а напротив, слышались проклятия, и несколько камней полетело в Жакопо и солдат. Жакопо с отрядом остановился перед зданием синьории, считая, что все уже кончено и дворец находится в руках сообщников, но, увидев Петруччи, стоявшего у дверей, пришпорил лошадь и ускакал вместе с солдатами. В то же время послышались громкие крики людей: «Палле! Палле!» – и проклятия Пацци. Гонфалоньер из отрывистых слов очевидцев узнал, что в соборе совершилось предательство республики, что Джулиано убит, а Лоренцо ранен, вероятно, смертельно, а Пацци и архиепископ Пизы виноваты в этом неслыханном злодеянии. – Сюда, сюда, друзья! – закричал Петруччи, размахивая шпагой. – Архиепископ здесь, Жакопо ускакал с наемниками… Идите очистить дворец синьории от проклятых убийц. В толпе блеснули кинжалы и мечи, некоторые погнались, конечно, напрасно, за Жакопо, другие ринулись в синьорию. Началась дикая, отчаянная борьба, безнадежная для заговорщиков, так как напиравшая толпа все увеличивалась и все более ожесточалась от рассказов вновь приходивших об ужасах, происшедших в соборе. – Мы требуем суда! – вопили некоторые прижатые к стене заговорщики, но Петруччи ответил им громовым голосом: – Для предателей отечества и убийц нет суда! Вы осуждены… Вперед, друзья, очистите отечество от подлых негодяев! «Палле! Палле!» – кричала толпа и со всех сторон напирала на заговорщиков, которые из-за тесноты уже не могли пустить в ход оружие. Началась невообразимая резня; скоро весь пол был покрыт содрогающимися телами, а если кому-нибудь из раненых удавалось выбраться на лестницу, то его догоняли, добивали кинжалами и спускали вниз по каменным ступеням. Никого из заговорщиков не осталось в живых, и толпа с проклятиями требовала отдать им архиепископа. – Ему также не уйти от справедливого возмездия, – сказал Петруччи, спокойно стоявший на лестнице. – Идемте! В это время снова раздался оглушительный рев под порталом. Петруччи оглянулся и увидел, что несколько человек ломятся во дворец, неся на плечах окровавленного полуодетого человека. По его знаку народ расступился, и пришедшие подошли к Петруччи. – Благородный гонфалоньер, – сказал высокий, крепкий мужчина, – мы принесли коварного убийцу нашего дорогого Джулиано. Он подло скрылся, но мы нашли его в постели, в поганом доме Пацци. И они бросили окровавленное тело к ногам Петруччи. С трудом поднялся Франческо Пацци. Его ночное белье было изорвано в клочья, волосы растрепаны, они закрывали мертвенно-бледное лицо, кровь текла из раны на ноге. Он ухватился за перила и сказал хриплым голосом: – Возьмите оружие, гонфалоньер, и избавьте меня от этой черни. Я приму смерть за родину, которую хотел освободить от позорного врага. – Моя рыцарская шпага не может быть запятнана кровью предателя и убийцы. Отнесите его наверх, там его ждет суд и наказание! Толпа бросилась к Франческо, его схватили за руки, за волосы и поволокли в зал заседаний, где он в изнеможении упал на пол. Петруччи занял свое место, и остальные судьи сели рядом с ним. – Пусть двери останутся открытыми, – приказал Петруччи, – народ имеет право слушать, что происходит в суде, но никто не должен переступать порога. Бушующая толпа повиновалась, все замолчали, слышались только стоны раненых и умирающих. По приказанию Петруччи стражники ввели в зал заседаний архиепископа и Браччиолини. Архиепископ вздрогнул, когда увидел Франческо Пацци, которого служители посадили на стул. Сальвиати всеми силами старался ободриться и сказал надменно, хотя и дрожащим голосом: – Я требую, чтобы меня освободили. Это неслыханно, чтобы высшего служителя церкви держали в синьории как пленника. – Вы ничего не можете требовать, Франческо Сальвиати, – сказал Петруччи. – Вы можете только отвечать и ждать приговора, а ваш духовный сан усугубляет ваше злодеяние, противное не только божеским, но и человеческим законам. Ваш сообщник Браччиолини был схвачен мной, когда он во дворце республики с кинжалом бежал на помощь мятежникам. Это государственная измена, и вы, Франческо Сальвиати, знали об этом, так как пришли вместе с Браччиолини и с другими. Спрашиваю вас: что вы можете сказать в свое оправдание? – Я ничего не делал преступного, – ответил Браччиолини, бледный и дрожащий, – я только слышал шум внизу и взял оружие для самозащиты. – А я ничего не знаю, совершенно ничего, – вскричал архиепископ. – Я пришел к вам с сообщением, а меня схватили и заперли… Я требую, чтобы меня немедленно освободили. – И вам не известно, что собор Санта-Мария был осквернен кощунственным преступлением? – громко спросил Петруччи. – Вам не известно, что Джулиано Медичи погиб от руки предателя и убийцы Франческо Пацци, а благородный Лоренцо только чудом избег той же участи? – Лоренцо жив? – воскликнул архиепископ, но тотчас же спохватился. – Я ничего не знаю, я не был в соборе… И меня совершенно не касается, что делал Франческо Пацци. – Жалкий трус! – сказал Франческо Пацци, приподнимаясь и бросая на архиепископа взгляд, полный презрения. – То, чего я желал, я сделал, и даже перед верной смертью не буду отрекаться от этого. – А я отрекаюсь от тебя и от твоего поступка, с которым ничего не имею общего! – кричал архиепископ. – Докажите мою вину, если можете! И вообще, вы не имеете права судить меня. Только его святейшество может требовать от меня отчета, и он отомстит за насилие, которому я подвергся. – Мы судим всякое преступление, совершенное в стенах нашего города, против наших законов и против жизни наших благороднейших граждан. Ваше запирательство не поможет! Виновен ли он в участии в убийстве и государственной измене? – спросил Петруччи. – Виновен! – в один голос ответили судьи. – И вас я спрашиваю, мои сограждане, виновен ли он как соучастник в преступлении, совершенном Франческо Пацци и Жакопо Браччиолини? – Виновен… Виновен… Виновен! – закричала толпа. – Франческо Сальвиати, Жакопо Браччиолини и Франческо Пацци, я приговариваю вас к смертной казни, которая постигнет всех ваших соучастников, – громко сказал Петруччи и приказал стражникам: – Принесите веревки и повесьте осужденных на карнизах окон. Пусть флорентийский народ видит, что его избранники судят скоро и справедливо. Франческо Пацци приподнялся, сжав кулаки, и с ненавистью смотрел на Петруччи. – Не дерзайте тронуть меня! – кричал архиепископ, указывая на свой крест. – Проклятие церкви падет на вас! Браччиолини беспомощно опустился на стул, с мольбой простирая руки и говоря жалобным голосом: – Я служу при кардинале Риарио, отправьте меня к нему, лишь ему одному я могу дать отчет. – И он не избегнет нашего суда, если участвовал в этом преступлении, как можно заключить из ваших слов, – сказал Петруччи и обратился к солдатам: – Выполняйте приказание вашего гонфалоньера немедленно! Два солдата схватили Браччиолини, который от страха даже не сопротивлялся, другие принесли веревки, накинули ему петлю на шею, открыли окно, и через минуту он уже висел на карнизе; раздался крик, потом глухой хрип, когда сброшенное тело затянуло петлю. С улицы послышались громкие радостные вопли все увеличивающейся толпы. Крики «Палле! Палле!» и «Смерть убийцам, смерть предателям!» неслись со всех сторон. Франческо Пацци совершенно изнемогал от боли и потери крови. Его тоже поволокли к окну, и он с презрением плюнул, проходя мимо архиепископа. Тот отчаянно сопротивлялся и изрекал страшные проклятия в адрес гонфалоньера, неподвижно стоявшего у своего кресла. Но и архиепископа солдаты схватили, привязали к карнизу и выкинули в окно. Еще громче заревела толпа, увидев в окне Сальвиати в архиепископском одеянии с сияющим бриллиантовым крестом на груди. Петля запуталась в его воротнике и не сразу затянулась. – Предатель, низкий предатель! – кричал он, повернувшись к висевшему рядом Франческо Пацци, и с бешеной злобой укусил мертвое тело. Наконец петля затянулась, и удушливый крик положил конец его проклятиям. – Правосудие свершилось! – торжественно произнес Петруччи. – И так будет со всеми, кто осмелится поднять преступную руку на республику и ее священные законы. А теперь, друзья мои, пойдемте к Лоренцо выразить ему наше сочувствие в его тяжелой утрате и нашу радость по поводу его спасения. Он вышел из зала заседаний и пошел среди почтительно расступавшейся толпы, которая приветствовала его радостными криками. Улицы представляли собой ужасающее зрелище: везде лежали окровавленные трупы, так как народ беспощадно убивал всех сторонников Пацци. У бенедиктинского монастыря собралась большая толпа, и издали был слышен дикий, страшный рев. Когда гонфалоньер со своими товарищами приблизился, толпа хлынула к нему с криками «Палле! Палле!». – Смотрите, благородный гонфалоньер, – обратился к нему высокий, атлетически сложенный мужчина. – Мы здесь, в монастыре, нашли проклятых священников, поднявших оружие на Лоренцо… Взгляните на подлую голову Антонио Маффеи. Он нагнул длинный кол, и Петруччи с ужасом увидел насаженную на него голову. Он также увидел на площади, которую народ освободил для его прохода, окровавленные, неузнаваемые части человеческих тел. Стефано Баньоне и Маффеи народ буквально разорвал на клочки. – Монахи хотели их спрятать, – кричал атлет, – но и они от нас не уйдут. Пусть подохнут проклятые под развалинами своего монастыря. – Стойте! – закричал Петруччи. – Эти действительно были виновны, а о монахах вы ничего не знаете. Нельзя подвергать невиновных наказанию! Все будет расследовано, и я, ваш гонфалоньер, даю вам слово, что ни один преступник не избежит наказания. Некоторые люди поворчали вполголоса, но все-таки немедленно повиновались Петруччи. Толпа отступила от монастыря и последовала за мужчиной, несшим мертвую голову Маффеи, крича: «Палле! Палле!» и «Да здравствует Чезаре Петруччи, наш гонфалоньер!» – Все это страшно, но они правы! – сказал Петруччи, идя по улицам со своими товарищами. – Народ, как лев, страшен в ярости, раздирая своих врагов, но он велик и прекрасен в любви и преданности к своим друзьям. Те же были вероломные змеи и сами навлекли на себя заслуженную участь.Глава 14
В этот злополучный для Флоренции день Фиоретта сидела утром в своей комнате и задумчиво смотрела через отворенную дверь в садик. Солнце золотило листву деревьев, а цветы распространяли тонкий аромат в мягком, теплом воздухе. Маленький Джулио дремал в соседней комнате. Старая Женевра ушла к обедне, и глубокая тишина царила в этом убежище, где Фиоретта испытала столько счастья и так много тревог. Ее натуру, выросшую на свободе, среди простора гор и полей, это убежище тяготило, как заточение, и она все с большим нетерпением ждала минуты, когда ее возлюбленный открыто, перед всем светом поведет ее к себе. Теперь эта минута была близка, но она сулила ей будущее, совсем не похожее на ее прежние представления, и она ждала его с надеждой и страхом. Фиоретта считала, что у родных Джулиано ее может встретить только предубеждение гордости богатства перед бедностью, и часто думала, что она сможет путем смирения и преданной любви смягчить сердца тех, которые тоже любят Джулиано. Но теперь оказывается совсем не то. Не только бедность отделяла ее от возлюбленного. Он стоял на такой высоте, о которой она и подумать боялась, и он носил имя, известное всему свету, которое она с детства привыкла слышать с каким-то благоговейным страхом. Эта пропасть между ними была страшнее разницы между богатством и бедностью, и Фиоретта с тревогой думала о ней. Джулиано сказал ей накануне при прощании, что не появится на блестящих собраниях в городе и в их доме, а только из-за почтения к кардиналу будет присутствовать во время обедни в соборе. Потом празднества окончатся, и он, не откладывая ни на минуту, откроет тайну и введет свою жену в дом. Значит, решение близко, оно может состояться даже сегодня. Джулиано сказал ей, что все обойдется миролюбиво, так как брат горячо любит его и, хотя будет поражен неожиданностью, никогда не станет препятствовать его счастью. Она верила словам Джулийно, но не могла отрешиться от страха. Конечно, она гордилась и была счастлива, что он, стоящий выше всех, нашел ее достойной себя и предпочел всем аристократкам, но ее пугала мысль носить имя Медичи ей, простой, бедной крестьянке. Гордость ее возмущалась при мысли, что семья мужа с пренебрежением примет ее. Так метались ее мысли между страхом и надеждой: то она радостно ждала будущего, то хотела удержать тихое и мирное настоящее. Загудел соборный колокол, возвещая народу сошествие благодати Господней в храме. Фиоретта знала, что Джулиано у обедни и наверно в молитве думает о ней. Ей тоже одновременно с ним захотелось вознести и свою молитву к Богу. Она вошла в комнату и стала на колени у колыбели Джулио. Фиоретта молила Бога не разлучать ее с возлюбленным и даровать ей высшее счастье преданной любви. Звон уже давно прекратился, а она все еще стояла на коленях. Вдруг она вскочила, прислушиваясь: непонятный шум доносился из города, дикий, похожий на рев хищников, из которого выделялись временами возгласы и душераздирающие крики. Она не могла себе представить, что это могло быть, но, очевидно, что-то ужасное, и там, среди этих криков, в этой толпе, находился ее Джулиано… Фиоретта выбежала в сад, хотела бежать в город, увидеть людей, чтобы узнать, что случилось. Неожиданно перед ней появился Бернардо… Его платье было обрызгано кровью, глаза блуждали… Фиоретта отступила перед ним. – Что вам нужно? – спросила она, содрогаясь. – Что означает этот шум? – Я пришел спасти вас, Фиоретта, – вскричал он, хватая ее за руку. – Народ восстал, чтобы свергнуть Медичи. Весь город пришел в движение… Кровавый бой идет на улицах… – А Джулиано? – с ужасом воскликнула Фиоретта. – Где он? Я хочу к нему… Я хочу быть вместе с ним. – Он бежал, – отвечал Бернардо, – и теперь уже, наверное, в безопасности… Я пришел спасти вас и отвести к нему… Идемте скорее… Нельзя терять ни минуты… Странное чувство охватило Фиоретту. «Медичи свергнуты… Джулиано бежал…» Почти радостно забилось ее сердце. Это разрушало преграду, отделявшую ее от возлюбленного. Теперь она может утешать его, скрасить его несчастье своей любовью и быть для него больше, чем она была бы в роскоши и блеске. Но ее пугали горящие глаза Бернардо. Она высвободилась из его рук и сказала, отступая к двери: – Вы посланы им… Вы хотите отвести меня к нему? Но вы же ненавидели его и предостерегали меня! – Я ненавидел его и предостерегал вас, потому что я любил вас и боялся, что он злоупотребит вашим доверием, но теперь, видя, что все ваше счастье в нем, я хочу спасти вас для него… Теперь он уже не сможет обмануть вас, – добавил он с особенно злобным выражением, испугавшим Фиоретту. – Мое присутствие здесь сейчас доказывает, как велика моя любовь. Я думаю только о вашем счастье… Идемте… Идемте… нельзя терять ни минуты. Мы должны добраться до леса, пока на улицах идет резня, и никто не думает о преследовании. Если мы доберемся до Апеннин, куда он направился, то завтра перейдем границу и будем в безопасности. Идемте, это воля Джулиано. Вы не можете его ослушаться. Здесь, в доме его друга, вы не в безопасности, если обезумевший народ найдет вас. Она стояла в нерешительности. Бернардо схватил ее за руку и попытался увлечь за собой. – А мой сын, мой Джулио? – закричала она. – Ребенок должен остаться здесь, ему не угрожает опасность, со временем его можно будет взять… – Расстаться с моим сыном? Никогда! – Но это безумие! Я же говорю вам, что ребенок здесь в полной безопасности! Или вы хотите рисковать жизнью и счастьем из-за ребяческого упрямства? Идемте, время не терпит! Она пыталась вырваться, но сил для сопротивления не хватало. В эту минуту из отворенной двери вышел в сад Антонио Сан-Галло, бледный, в измятом костюме, с растрепанными волосами. – Ага! – вскричал он с угрожающим видом. – Сам Бог послал меня к вам на помощь, Фиоретта. Идите сюда! Ты в моих руках, Бернардо Бандини, убийца, и не избегнешь наказания! Наконец Фиоретта вырвалась и отскочила. – Он – убийца? – закричала она, широко раскрытыми глазами глядя на Бандини. – О Боже! Теперь я все понимаю… его окровавленные руки… его взгляд… Да, да… он убил Джулиано. – По крайней мере, я отомстил ему! – злорадно воскликнул Бандини. Он повернулся и хотел уйти, но Антонио подбежал и схватил его за ворот. – Ты не уйдешь от меня, негодяй! Для тебя еще найдется место в окнах синьории, где Сальвиати и Пацци уже висят в назидание всем изменникам! Бандини выхватил кинжал. Антонио отступил и обнажил шпагу. – Ты не уйдешь, несчастный, хотя мне и противно пачкать свое оружие твоей кровью. Он стал наступать, но Бандини в одно мгновение перекинул кинжал в другую руку и выхватил шпагу. Завязалась ожесточенная борьба, но Бандини был опытнее. Ловким приемом он поразил Антонио в правую руку и выбил шпагу. – Тебе не удержать меня! – насмешливо крикнул он. – Твоя рука, очевидно, лучше владеет циркулем и линейкой, чем оружием. Фиоретта стояла, как мраморное изваяние, ничего не видя и не сознавая, но когда Бандини хотел бежать, она вдруг ожила, бросилась на бандита и повисла на нем. – Стой, убийца моего Джулиано, ты не уйдешь! Бандини хотел стряхнуть ее, но отчаяние придало Фиоретте невероятную силу. Антонио тем временем взял шпагу в левую руку и громко позвал слуг. – Черт возьми! Так следуй за своим Джулиано, если лучшего ты не захотела. Я не пожертвую из-за тебя жизнью! – крикнул Бандини и нанес ей сильный удар в грудь кинжалом. Фиоретта повалилась на землю, все еще крепко цепляясь за него. Он резко оттолкнул ее и, прежде чем подоспел Антонио со слугами, спешившими из дома, убежал. Улица была пустынной. Бандини бросил шпагу, спрятал кинжал в камзол, надвинул шляпу на глаза и скрылся.Глава 15
Собор, ставший ареной неслыханного происшествия, скоро опустел, и народ бросился на улицу преследовать изменников. Священники увели кардинала Рафаэлло в старую ризницу, а сторонники Медичи поспешили охранять их дворец от возможного нападения. Раньше всех выбрался из собора маркиз Маляспини. Бледный, без шляпы, с искаженным лицом, он проталкивался через толпу, а так, как все знали его как друга и родственника Медичи, то народ расступался и приветствовал его криками «Палле! Палле!». Таким образом, он беспрепятственно добрался до своего дворца и, задыхаясь, вбежал в комнаты жены… Лоренцо, грустный и серьезный, сидел в ризнице; Торнабуони разрезал его камзол и наложил повязку на руку. Рана от скользнувшего кинжала была неопасной, но боль и потеря крови ослабили и без того не очень крепкого Лоренцо. – Чем я заслужил такую ненависть? – грустно говорил он. – Кажется, я, как и все мои предки, старался делать только добро моему городу и его гражданам. Я не так ощущаю эту рану, как эту неблагодарность, и готов от всего отстраниться, даже если восстание будет подавлено. – Оно уже подавлено, – сказал Козимо, отворяя дверь, – но вы не имеете права бросать родину из-за преступных действий нескольких людей. Сейчас вам следует идти домой, надо успокоить домашних, они наверняка сильно волнуются. – Козимо прав, – сказал Полициано. – Пойдемте, благородный Лоренцо. Донна Кларисса с нетерпением ожидает вас. Она, конечно, уже знает о случившемся. Здесь имеется боковая дверь, через нее путь к вашему дворцу будет короче. – А Джулиано? – с тревогой спросил Лоренцо. – Где он? Как спасся? Все присутствующие молчали, опустив глаза перед взволнованным взором Лоренцо. – Ты мужчина, Лоренцо, и глупо было бы скрывать истину, которую ты все равно скоро узнаешь, – сказал Торнабуони. – Джулиано убит Бандини и Франческо Пацци, которого я не считал способным на такое злодейство. – Убит? – вскричал Лоренцо. – Мой Джулиано, которого я любил, как сына? Безжалостно убит в полном расцвете сил и молодости! О, почему он не спасся, почему меня не поразила смерть, если уж одному из нас нужно было погибнуть! Пусть бы я был убит, я и так чувствую в себе зародыш смертельной болезни и все равно долго не проживу! Он закрыл лицо руками и весь дрожал от судорожных рыданий. – Такова воля Провидения, – сказал Торнабуони. – Благодари Бога вместе с нами, что Он сохранил нам тебя… Твоя жизнь нужнее отечеству, чем жизнь Джулиано. – Вы не знаете, как я его любил! Где он? – спросил Лоренцо, вскакивая. – Ведите меня к нему, я хочу видеть его… Может быть, он не умер… Может быть, удастся спасти его… – Он умер, и никакой надежды нет! Кровь его вытекла из многих ран, он погиб геройской смертью за отечество… Это должно утешать нас и сделать его память священной. Не смотри на него теперь, когда он лежит в жалком и обезображенном виде. Мы позаботимся, чтобы у тебя о нем, даже мертвом, осталось отрадное впечатление… Не задумывайся о прошлом. Ты принадлежишь семье и родине, и на тебя возложены великие обязанности, требующие всех твоих сил. Лоренцо все еще стоял молча, потом выпрямился и провел руками по глазам. Твердая решимость вновь появилась на его бледном лице, во взгляде выражалась непреклонная воля. – Это правда, я не имею права думать о себе. С этой минуты все силы мои принадлежат родине, пока Господь позволит мне трудиться и работать! Теперь надо утешать и охранять живых, а не оплакивать мертвых. Он взял под руку Торнабуони, а Полициано накинул на него плащ, чтобы прикрыть рану. Козимо пошел вперед, и они скоро дошли до боковых ворот дворца Медичи, у главного портала которого собралась толпа. Лоренцо отвели в его комнаты, а Полициано поспешил известить донну Клариссу и детей. С радостным возгласом бросилась Кларисса в объятия мужа, которого уже считала погибшим. Пьетро поцеловал руку отца, а маленький Джованни, улыбаясь сквозь слезы, протянул ему ручонки. Он не понимал, что случилось, но видел, что мать прежде плакала, а теперь чувствовал, что произошло что-то радостное. Лоренцо недолго позволил себе пробыть с семьей. Вскоре он велел оставить себя одного и известить немедленно мать, донну Лукрецию, о своем спасении. Холодно и спокойно он спросил о кардинале, а на сообщение Торнабуони, что тот укрылся с духовенством в ризнице, велел его арестовать и держать под строгой, но подобающей его положению охраной. – Не думаю, чтобы этот мальчик был причастен к такому неслыханному преступлению, – сказал он, – но судить его надо, и если он окажется виновным, то кардинальская мантия не спасет его от наказания за преступление, совершенное не против меня, а против республики. Потом Лоренцо поручил Козимо немедленно усилить караул у городских ворот, отдал приказ никого не впускать и никого не выпускать из города и, по возможности, сдержать неистовство народа, чтобы невинные не пострадали, а виновные не избегли суда. Козимо повиновался без промедления, Он, конечно, всем сердцем рвался к Джованне – сообщить ей, что остался жив, но в эту минуту все личные чувства смолкли перед долгом к родине, пример чего подавал сам Лоренцо. Только отдав все распоряжения, Лоренцо позвал ожидавшего его врача для осмотра и перевязки раны. Врач, сразу же объявивший, что рана хоть и глубока, но не опасна и скоро заживет, накладывал повязку, когда дверь отворилась и вошла сестра Лоренцо, Бьянка, только накинувшая плащ на роскошное, надетое для торжества платье. Она вела за руку своего мужа и опустилась на колени перед Лоренцо. – Он не виновен, клянусь тебе, Лоренцо! – воскликнула она. – Он ничего не знал об ужасном нападении… Сжалься… спаси его ради меня! А Гульельмо, мертвенно-бледный, встал на колени, говоря: – Клянусь тебе, Лоренцо, я не виновен в этом преступлении, хотя оно, к сожалению, исходит из моего дома… Они не посмели сказать мне об этом, зная, конечно, что я был бы на твоей стороне. Лоренцо серьезно взглянул на них. – Что сделано против меня, то я должен и хочу простить, но я не имею права прощать преступление перед родиной. Я поверю тебе, Гульельмо, ради Бьянки, мой дом будет тебе убежищем, но если твоя вина будет доказана, то и я не смогу тебя спасти. Идите туда, – Лоренцо указал на дверь в соседнюю комнату, – и оставайтесь в моих личных покоях, пока все не успокоится. – Благодарю тебя, Лоренцо, благодарю! Бьянка еще раз поцеловала руку брата, когда лакей доложил о приходе гонфалоньера. – Скорей, скорей! – крикнул им Лоренцо. – Он не будет так снисходителен, как я, и не должен вас видеть теперь. Не успели они затворить за собой дверь, как вошел Чезаре Петруччи со своими товарищами. Он подбежал к Лоренцо и сказал, обнимая его: – Слава и благодарение Богу, что вы спасены, а с вами республика! Вас хотели погубить, чтобы отнять свободу у народа, а он еще ближе стал к вам и подтвердил свою любовь и преданность. Лоренцо встал и пожал руки всем членам совета синьории, пришедшим с Петруччи. С улицы в окно доносился громкий шум и ясно раздавались голоса, выкрикивающие имя Лоренцо и «Палле! Палле!», повторяемое тысячекратно. Полициано, ходивший к матери Лоренцо, пришел сообщить, что у портала дворца собралась несметная толпа и требует Лоренцо. – Пойдемте, – сказал Петруччи, – покажитесь народу и поговорите, чтобы удержать его от дикой, необузданной расправы. Мне едва удалось спасти от разгрома бенедиктинский монастырь, куда укрылись сначала священники, убийцы. Лоренцо накинул плащ. – Да, а где архиепископ Сальвиати? Чезаре с мрачным видом в кратких словах рассказал ему про суд над архиепископом Сальвиати и Франческо Пацци во дворце синьории. Лоренцо задумчиво покачал головой и сказал серьезно: – Они с коварной злобой возбуждали против меня гнев папы и получили свое возмездие, но Сикст никогда не простит, что вы наложили руку на служителя церкви. Мы должны подготовиться к тяжелой и ожесточенной борьбе. – Мы к ней готовы! – вскричал Петруччи. – Республика достаточно сильна, чтобы не отступить даже перед угрозой проклятий! Идемте, идемте, народ вас зовет, а при его любви к вам гнев Рима не страшен. Он подал руку Лоренцо и повел его в зал, в котором был выходивший на улицу балкон. Доведя Лоренцо до перил балкона, Петруччи отошел назад. При появлении Лоренцо на несколько секунд воцарилась полная тишина в огромной толпе, над которой возвышалась голова Маффеи, надетая на кол, с искаженным смертью лицом. Потом крики возобновились с удвоенной силой, словно буря всколыхнула спокойную поверхность моря. «Палле! Палле!» и угрожающие возгласы «Смерть изменникам! Смерть убийцам!» доносились со всех сторон, и кол с мертвой головой качался в воздухе. Лоренцо благодарил, низко склоняясь к перилам, а толпа еще сильнее неистовствовала. Его бледное лицо подергивалось от сильного волнения, в глазах поблескивало гордое мужество, и он, выпрямляясь, повелительно протянул руку. Рев моментально смолк, и воцарилась тишина. Лоренцо не обладал ораторским талантом, но сегодня его голос звучал громко и ясно, и толпа, затаив дыхание, слушала его слова. – Сограждане и друзья, благодарю вас, что вы пришли высказать мне ваше участие в это ужасное время, грозившее лишить свободы наше отечество, а у меня отнявшее дорогого брата. – Смерть убийцам! – послышалось из толпы, но другие голоса остановили крики, и Лоренцо продолжал: – Перед вами, друзья мои, и перед Богом я обвиняю преступников, которые хотели из-за злобы и ненависти предательски убить меня, вместо открытой борьбы, которой я не боюсь. Я обвиняю их не потому что они были моими врагами, а потому, что они хотели погубить независимость республики. Страдания и радости мои и моих близких не имеют никакого значения, когда дело идет о могуществе, безопасности и достоинстве нашей республики. Я всем вам заявляю, что готов каждую минуту отказаться от положения, дарованного мне вашим доверием, если вы этого желаете и находите нужным для блага республики. – Палле! Падле! – опять раздалось со всех сторон. – Да здравствует Лоренцо, истинный друг народа… смерть его врагам… они и наши враги… Лоренцо поклонился, потом протянул руку, желая продолжить речь: – Благодарю всех тех, кто охранял меня и спас мне жизнь, но теперь я прошу не мстить никому и ждать решения суда, так как даже законный гнев может отуманить голову и пасть на невинных. Остерегайтесь этого, мои друзья, чтобы не дать повода врагам республики жаловаться и нападать на нас. Коварная и кровавая борьба, которую преступная партия вела против нашего законодательства, печальна, но имела свою хорошую сторону – наши недоброжелатели свергнуты и осознали свое бессилие, а скрытый яд, подтачивающий здоровье республики, обезврежен и безопасен теперь для нас. Теперь мы должны строгособлюдать справедливость в наказании преступления и отличать заблуждающихся и увлеченных от действительно виновных, чтобы наши враги за границей, возбуждавшие зависть среди наших сограждан и побудившие их на преступление, не имели повода обвинить нас. Приберегите ваш благородный гнев и вашу ненависть для внешнего врага, который, может быть, скоро поднимется на нас. Тогда мы все докажем свету, что граждане Флоренции также умеют у себя дома защищать право и закон, как готовы, с оружием в руках, победоносно отразить врага, кто бы он ни был. Я ручаюсь вам, что виновные не избегнут наказания… Только помог бы нам Господь отразить вражеские войска, как помог избежать кинжала убийц! Он поклонился на все стороны, Чеэаре Петруччи подошел к перилам, обнял его и крикнул толпе: – Да здравствует Флорентийская республика и Лоренцо Медичи, первый ее гражданин! Это приветствие с ликованием было встречено народом. – Палле! Палле! Да здравствует Лоренцо!.. Да здравствуют Медичи!.. Да здравствует Петруччи, наш храбрый гонфалоньер! – слышалось со всех сторон, и крики не прекращались, даже когда Лоренцо ушел с балкона. Среди бушующей толпы стоял монах-доминиканец в своей белой рясе, не заботясь о том, что в такой момент небезопасно показаться народу в монашеской одежде, но именно уверенное спокойствие его лица предохраняло его от подозрительности окружающих. Когда при последних словах Лоренцо и на приветствие Петруччи раздались радостные крики, монах выпрямился и закричал ясным голосом: – Да здравствует народ и его правда! Да здравствует свобода! Находящиеся рядом повторили его слова, но их заглушили несмолкаемые крики «Палле! Палле!». Доминиканец отвернулся, покачав головой, и с горечью проговорил: – Они кричат об убийцах, но точно так же поступают со своими врагами. Они повторяют слово «свобода», но приветствуют своего властителя, который отмеряет им свободу по своей мерке. Истинной свободы он им не дает, но будет сражаться за владычество над ними против жадных и честолюбивых служителей выродившейся церкви, которые оскверняют храм убийством, но при этом требуют рабского повиновения от народа, рожденного для свободы! Теперь они стремятся побороть светскую власть, но потом опять соединятся с ней, чтобы сообща готовить цепи народу. Ослепленный народ всегда одинаков, если независимая церковь не открывает ему глаза. Надвинув капюшон на глаза, Джироламо Савонарола направился сквозь толпу к предместью. У ворот его остановил караул, который только что получил приказ от Козимо никого не пропускать. Пререкания солдат с монахом, которого те хотели арестовать, привлекли внимание Козимо. – Стойте! – приказал он, взглянув на Савонаролу. – Этот почтенный брат вне всякого подозрения, он был гостем в доме Медичи и друг Лоренцо. Я ручаюсь за него. Идите своей дорогой, почтенный брат, сообщите в вашем монастыре обо всех этих печальных происшествиях и молитесь за наш город, на долю которого выпало такое тяжелое испытание. Солдаты отступили, Савонарола наклонил голову и сказал: – Я молюсь за всех, кто стремится к добру и исполняет все заповеди Спасителя с любовью, смирением и правдивостью. Он снова надвинул капюшон и крупным шагом пошел по дороге. Козимо повернул лошадь чтобы ехать к другим воротам, так как ему хотелось поскорее исполнить приказание Лоренцо и увидеть, наконец, Джованну, но вдруг услышал стук копыт. Солдаты двинулись вперед, чтобы задержать подъезжающих. Невдалеке показалась группа всадников. Впереди галопом скакала дама. Она остановила свою чудную лошадь перед копьями караула. На ней было легкое темно-синее шелковое платье, такой же колет облегал ее плечи, маленькая шляпа с перьями прикрывала черные волосы, замечательно красивое лицо разрумянилось от быстрой езды, а глаза гневно сверкали, когда она спросила, почему ей преграждают дорогу. Козимо вскрикнул от удивления, узнав лицо и голос прелестной Лукреции, его спутницы из Флоренции в Рим. Вскоре подъехал и Пикколо на своей маленькой лошадке, а слуги приближались шагом, увидев, что их госпожа остановилась. – Дать дорогу! – крикнул Козимо, поспешно подъезжая. Солдаты отступили. Лукреция вздрогнула, услышав голос Козимо, а когда он подъехал, румянец ее стал еще гуще и глаза радостно заблестели. – Мне повезло, что вы первый, кого я встретила у ворот вашего родного города – воскликнула она, прежде чем Козимо успел что-нибудь сказать или спросить. – В какой тревоге я ехала последние часы! Взгляните на мою вздымленную лошадь, она едва стоит на ногах. На последнем привале я слышала, будто во Флоренции произошло что-то ужасное – что Медичи убиты, а также все их родные и друзья… Но я вижу вас, так близко стоящего к дому Медичи, здоровым и невредимым, отдающим приказания страже, значит, это известие было неверно? – К сожалению, вы получили правильное известие, – сказал он, глядя в глаза прелестной Лукреции. – Лоренцо Медичи ранен, Джулиано заколот кинжалами подлых убийц, но опасность миновала, виновные наказаны или ждут суда, и несчастье, угрожавшее нашему отечеству, устранено. – Слава Богу! – воскликнули Лукреция, горячо пожимая ему руку. – Было бы ужасно, если бы я опоздала! – Опоздали? – удивленно спросил Козимо. – Что может у вас быть общего с этим коварным нападением и что привело вас во Флоренцию в это тяжелое время, когда я не могу даже вполне осознать радость встречи? – А я, благородный Козимо, вдвойне чувствую эту радость, видя вас спасенным от опасности… о которой я приехала предупредить вас, – добавила она вполголоса. – Предупредить меня? – Вы знали, что я ваш друг, – возразила она с пламенным взглядом. – Разве мы не поклялись в дружбе? Истинных друзей видят в минуты опасности, а мое имя – Лукреция – было, надеюсь, для вас приятным воспоминанием. – Иначе и быть не могло] Только грустно было, что свидание, на которое я надеялся в Риме, заставило себя так долго ждать. – Вот оно. А теперь проводите меня к благородному Лоренцо, так как я послана к нему. – Посланы к нему? – с возрастающим любопытством повторил Козимо. – Откуда? Кем? – Это тайна, которую нужно хранить, – сказала она, нагибаясь к нему. – Тайна не от вас, конечно, не от друга, от которого я была вынуждена скрываться до сих пор. Ведите же меня к вашему дяде, к светлейшему Лоренцо. Простите, – продолжала она, глянув вниз, – что я привезла с собой моего Пикколо. Он не отходит от меня ни на шаг и умер бы, если бы я его прогнала. Пикколо важно и сдержанно поклонился, по-видимому, вовсе не так радуясь свиданию, как его госпожа. Козимо, несмотря на свое невеселое настроение, улыбнулся, поклонился карлику и сказал своей спутнице: – Благородная Лукреция, я передаю приказ Лоренцо всем караулам, и мне остались только ворота в сторону Имолы… Я не моту не исполнить долга службы, но и не хотел бы отпускать вас одну по городу в такое смутное время. Не согласитесь ли вы поехать со мной к северным воротам, это недалеко, а потом я вас провожу немедленно к Лоренцо. – Разве я могу отвлекать вас от службы, особенно сейчас? Я тоже нахожусь на службе у Медичи с той минуты, как вступила в ваш город, – прибавила она с улыбкой. Они ехали рядом, тут же трусил Пикколо, а слуги следовали за ними. Лукреция участливо расспрашивала Козимо о последних событиях. Доехав до северных ворот, Козимо отдал приказ никого не впускать и никого не выпускать, кто бы это ни был. – Если бы вы привезли этот приказ часом раньше, – заметил начальник караула, – было бы, пожалуй, еще лучше. – Почему же? Разве вам попался кто-то подозрительный или преступники бежали? Вы должны были задержать их и без особого распоряжения. – Ну, вряд ли я мог считать подозрительным маркиза Фосдинуово, – заметил солдат, – но мне все-таки не понравилось, что он удирал сломя голову, когда друзьям республики и светлейших Медичи следовало бы оставаться здесь в минуту такой опасности. В тот момент сюда еще не дошло известие о страшном злодеянии… Мы только издали слышали крики толпы, когда маркиз выехал, а то я, пожалуй, на свою ответственность загородил бы ворота. Пораженный Козимо слушал солдата, а Лукреция следила за ним пристальным взглядом. – Маркиз Фосдинуово выехал из города, – повторил Козимо недоверчиво. – А вы хорошо его знаете? Вы уверены? – Вполне уверен, – подтвердил солдат. – Я часто видел его, когда он выезжал со светлейшим Лоренцо или с красавцем Джулиано, которого они так подло убили. – А маркиз был один? – бледнея, дрожащим голосом спросил Козимо. – Нет, не один, с ним были маркиза и его дочь, красавица Джованна, и довольно много слуг. – Маркиза и дочь! – с ужасом воскликнул Козимо. – Боже, что же это значит? – Это значит, что маркиз Габриэль Маляспини – плохой и коварный друг, – сказала Лукреция. – Верные друзья приходят в минуту нужды, а не убегают. Будьте тверды, синьор Козимо. Я понимаю, что вы потрясены этим сообщением, но меня оно не удивляет. Я приехала вас предостеречь от ложных друзей. – Маркиз направился по дороге на Имолу, – продолжал солдат, а Козимо все еще не мог прийти в себя от волнения, – и недалеко от этих ворот его встретил отряд всадников во главе с графом Джироламо Риарио. Я его тоже узнал, я часто видел графа в Риме прежде чем поступить на службу республике. Он остановился, увидев маркиза. Они горячо и долго разговаривали, потом граф Джироламо повернул лошадь, и они во весь дух поскакали с синьорами и слугами в Имолу. Скоро я потерял их из виду. Граф Джироламо тоже, наверное, приезжал не с хорошими намерениями. – Ужасно!.. Невероятно!.. – пробормотал Козимо. Лукреция же сказала холодно и спокойно: – Вы закончили вашу службу, и поэтому прошу проводить меня к Лоренцо. Клянусь, что ни ему, ни вам не предстоит ничего дурного от меня. – Да, да, к Лоренцо! – приходя в себя, воскликнул Козимо. – Надо выяснить это ужасное известие, там я узнаю правду. Я все еще не могу признать невероятное возможным. Он быстро поскакал вперед, а Лукреция за ним. Им встретилась толпа, возвращавшаяся из дворца Медичи с ужасной головой Маффеи. Народ бросился к Козимо и Лукреции и хотел их задержать. Пикколо прижался к Лукреции и отчаянно кричал о помощи. Но скоро многие узнали Козимо, раздались крики «Палле! Палле!» – и толпа расступилась, давая им дорогу. Под порталом дворца Медичи Козимо и Лукреция сошли с лошадей, а Пикколо, несмотря на жалобные просьбы не оставлять его одного, передали слугам. Козимо торопливо вошел в комнаты Лоренцо, который в изнеможении сидел в кресле. Лукрецию Козимо попросил остаться в приемной и спешно доложил об исполнении приказов. Лоренцо протянул ему руку и сказал с грустной улыбкой: – Ты из верных друзей, мой Козимо, я много потерял, но и много приобрел, так как убедился в любви народа и узнал, на кого могу рассчитывать. Бедный дорогой мой Джулиано! Он никому не сделал зла, а они его убили! Ты должен мне заменить его, Козимо, у тебя тоже верное, честное сердце. Ты поймешь меня и поможешь мне, несмотря на страшное горе, выполнить тяжелую обязанность, которую Провидение возложило на меня. – Распоряжайтесь мною, дядя, – с волнением сказал Козимо, целуя руку Лоренцо. – Моя жизнь принадлежит вам и родине, и я надеюсь, что всегда буду достоин вашего доверия. Потом он с дрожью в голосе рассказал о том, что сообщил ему начальник караула о маркизе и его встрече с графом Джироламо. Выслушав внимательно, Лоренцо грустно сказал: – Это, к сожалению, правда, Козимо. Габриэль Маляспини уехал… Поспешно, даже не простясь, бежал из моего дома. Может быть, он думал, что мы погибнем, или он предвидит, что самое трудное для нас еще впереди, чего здесь еще не сознают в жажде мести и в радости, что пока опасность устранена. Вот и бежал, как крысы бегут с тонущего корабля. – Он увез Джоваину, – застонал Козимо, – отнял у меня счастье и разбил сердце дочери. – Ты в этом уверен? – резко спросил Лоренцо с горькой усмешкой. – Но теперь не время думать об этом, перед нами стоит долг. Теперь некогда оплакивать измену и вероломство. Козимо закусил губу, слезы блеснули на его глазах, но он понял, что в эту минуту нельзя говорить о страданиях сердца. Поборов свое волнение, он сообщил о приезде Лукреции и ее желании увидеть Лоренцо. Своей встречи с ней по дороге в Рим он коснулся только мельком и с некоторым замешательством. – И она не сказала своей фамилии? – спросил Лоренцо. – Что означает «Лукреция», если я не знаю, кто ее послал? Женщины тоже умеют владеть кинжалом. Тем не менее я хочу ее выслушать. Знание дает силу, а в такую минуту ничем пренебрегать не следует. Попроси ее и оставайся здесь, я не хочу иметь никаких тайн от тебя, ты должен быть моей правой рукой. Природа наделила меня слабым здоровьем, и мне нужна в помощь молодая сила, чем был для меня мой бедный Джулиано. Козимо вышел в приемную и ввел Лукрецию, которая, войдя, поклонилась Лоренцо. – Простите, благородная синьора, – сказал он, пораженный ее ослепительной красотой, – что не встаю вам навстречу: враги ранили меня, и я едва избежал смерти. Козимо продвинул кресло, Лукреция села и сказала, с глубоким участием глядя на бледное лицо Лоренцо: – Я явилась к вашей светлости и, прежде всего, обязана вам сказать, что я – Лукреция Фаноцца де Катанеи и послана к вам кардиналом Родриго Барджиа. Лицо Лоренцо выразило полное удивление, потом приняло несколько угрюмое выражение, и он сказал вежливо, с легким поклоном: – Меня крайне интересует, что имеет мне сообщить его высокопреосвященство, и я, по мере сил и возможности, постараюсь исполнить его желание. – Кардинал прежде всего просит вас о соблюдении тайны, что обязательно при его положении и… – Он может вполне положиться на меня, – прервал Лоренцо, – я еще никогда не злоупотреблял оказанным мне доверием. – Кардинал убежден в этом, – продолжала Лукреция, – поэтому он выбрал меня для своего поручения, так как всякий другой посланный мог бы обратить на себя внимание. Моим первым поручением было предостеречь вас, но я уже опоздала, так как покушение на вашу жизнь и власть уже совершилось, когда я еще была в пути, но, слава Богу, безуспешно, а после этого ваша власть, пожалуй, еще более усилится и упрочится… Я видела, проезжая по городу, с какой любовью относится к вам флорентийский народ. Я жалею, что опоздала, так как своевременное предостережение могло бы спасти жизнь вашего брата. Лоренцо слушал со все возрастающим любопытством. – Значит, кардинал знал о заговоре против меня? – Не совсем, но у него тонкий слух и проницательный ум, и он понял, что что-то предпринимается. Он поручил мне передать вам, что хотели уничтожить вашу власть во Флорентийской республике, чтобы устранить противодействие планам графа Риарио, который стремится создать могущество в Романье и иметь, таким образом, первенствующее влияние на всю Северную Италию. Кардинал считает это несчастьем, источником вечных распрей и раздоров и находит, что могущество папского престола, ограничивающееся жизнью одного папы, получило бы только кажущееся подкрепление. Прочное же положение может создать и удержать только союз отдельных независимых провинций, естественным центром которого являлась бы Флоренция. – Кардинал совершенно прав, – воскликнул Лоренцо, – и я искренне рад, что и в священной коллегии есть особы, которые держатся такого мнения. – Поэтому я должна была, прежде всего, предостеречь вас против графа Джироламо Риарио и просить не доверять его дружеским уверениям, так как он стремится только свергнуть и обессилить Флоренцию. Он набирает войско и старается при поддержке римского двора расторгнуть ваш союз с Венецией и Миланом. – Я никогда и не доверял ему, – с улыбкой заметил Лоренцо, – но все-таки не думал, что он прибегнет к предательскому убийству для осуществления своих планов. – Теперь, дядя, вы не можете в этом больше сомневаться! – воскликнул Козимо. – Приезжал же хитрый Джироламо к городским воротам, чтобы пожать плоды своего преступления, а его племянник, кардинал, был в соборе во время совершения злодеяния. Козимо с восторгом смотрел на прелестное лицо Лукреции и с трудом верил, что его таинственная спутница, водившая его в пещеры Сутрии, певшая ему песни Петрарки и наизусть знающая оды Горация, с такой серьезностью и пониманием говорила о политике. Лукреция поняла значение его взгляда, и мимолетная улыбка скользнула по ее губам. – Я раз уже смешала планы Джироламо, следовательно, услужила вам, светлейший Лоренцо, – продолжала Лукреция. – Когда ваш племянник, благородный Козимо Ручеллаи, избавил меня от разбойников и проводил в Рим, я возвращалась из Фаенцы. Граф Джироламо хотел также приобрести и Фаенцу, чтобы от Имолы протянуть цепь, окружающую Флоренцию. Манфреди нуждался в деньгах и соглашался на продажу, но кардинал Борджиа выручил его, и мне удалось разрушить этот план. – Это сделал кардинал… через вас? – воскликнул Лоренцо. – Как многим я обязан ему и также вам! Я думал, что мои убеждения подействовали на Манфреди, но теперь я вижу, что ваша дипломатия оказалась тоньше и удачнее моей. Он нагнулся, любезно поцеловал ей руку и сказал с улыбкой: – Так и должно быть, конечно, когда политика находится в таких изящных ручках. – Я была только посланницей и не имею другой заслуги, как удачное исполнение поручения кардинала, – возразила Лукреция, бросив сияющий счастьем взгляд на Козимо. – Этой небольшой заслуге я обязана тем, что он теперь послал меня к вам… Кроме того, я еще должна предостеречь вас против маркиза Маляспини, который выдает себя за друга, но не заслуживает вашего доверия, так как кардиналу известно, что он поддерживает сношения в Риме с людьми вам враждебными. Кардинал поручил мне еще просить вас зорко следить за маркизом, имеющим и здесь тайные сношения с вашими врагами. – Нет, нет, – вскричал Козимо, – это невозможно! Этого не может быть! – Кардинал так думает, – возразила Лукреция, слегка покраснев. – Я Маляспини не знаю, но то, что именно сегодня он бежал из Флоренции и поехал с Джироламо в Имолу, доказывает, пожалуй, что проницательность кардинала не обманула его. Тяжелый, мучительный вздох вырвался из груди Козимо, а Лоренцо, сурово сдвинув брови, сказал: – Я всегда считал маркиза слабым и робким человеком, а он льнул ко мне, считая меня сильным. Теперь же, по близорукости своей, он думает, что мое могущество уже свергнуто или будет свергнуто в предстоящей мне тяжелой борьбе, поэтому он бросает меня и бежит к тому, кого считает сильнее. Пускай уходит, я от этого ничего не теряю. В несчастье и опасности узнаются люди, а это уже выгода. – Кардинал тоже думает, что вам предстоит серьезная борьба, светлейший Лоренцо, так как Джироламо не перестает возбуждать против вас гнев папы, и ему удалось склонить на союз неаполитанского короля Ферранте обещанием, что папа откажется от феодальных прав на королевство. – Ферранте будет обманут так же, как и другие. Он всегда был способен попадаться на такие удочки и представляет для меня величайшую опасность. Если он поддержит своими войсками Рим, то борьба будет трудная, но вести ее все-таки надо. – Поэтому кардинал находит, что вы должны, во что бы то ни стало, преодолеть могущество врагов, и самым лучшим союзником для этого будет король Франции Людовик. – Я это знаю, – сказал Лоренцо. – Король Людовик ненавидит римский двор и всеми силами стремится подорвать его влияние, что и удавалось ему уже не раз, но мне страшно подумать, что французские войска придут в Италию. Зачем эта злополучная борьба? Неужели папа не мог бы быть духовным главой нации, соединенной в независимый союз, которая гордо заняла бы свое положение в Европе, вместо того чтобы служить, как теперь, средством для иноземных честолюбий? – Я преклоняюсь перед вами, благородный Лоренцо, так как и в моей груди бьется итальянское сердце! – с детски смиренным выражением воскликнула Лукреция. – Но, по мнению кардинала, даже не нужно будет призывать французские войска, да и хитрый король Людовик, никогда не действующий открыто, вряд ли был бы к этому склонен, но может запугать неаполитанского короля. Держит же он в руках Анжу, короля Рене… – Именно, именно! – вскричал Лоренцо. – Право, прелестная Лукреция, вы читаете политику Европы, как открытую книгу! – Поэтому кардинал советует, прежде всего, обратиться к королю Людовику: он сумеет припугнуть короля Ферранте, и ваша борьба тогда легче окончится победой. Лоренцо одобрительно кивнул головой и задумался. – Наконец, кардинал советует вам еще тщательнее избегать всего, что может быть объяснено вашими врагами как оскорбление папского достоинства, и дать, таким образом, вашим друзьям в священной коллегии, к которым особенно принадлежит кардинал Эстутевиль, возможность употребить все их влияние для избежания разрыва и заключения возможного для вас соглашения. – Советы кардинала действительно мудры, и я не могу достойно отблагодарить его за такое доказательство дружеского расположения. – Кардинал просит вас поэтому твердо и неуклонно противиться планам графа Риарио и не бояться борьбы, если она неизбежна, но при этом стараться достигнуть соглашения. Если же оно недостижимо, то стараться обеспечить себе возможно легкую и верную победу. Для этого он предлагает нам совет и содействие, насколько это совместимо для него с повиновением папскому престолу. – Но как это сделать? – сказал Лоренцо, качая головой, – Поверьте, что отсюда в Рим дорога тщательно охраняется и гонцы или письма от меня к его высокопреосвященству и обратно вряд ли будут доходить по назначению. – Кардинал это предусмотрел, – отвечала Лукреция и добавила с задорной улыбкой: – Ведь мои письма к сестре о самых безразличных предметах на языке, понятном только для нас, не возбудят подозрений шпионов графа Джироламо. Никто не знает, что я здесь, и только вам известно мое имя. – А вы остались бы здесь, – вскричал Лоренцо, – не согласились бы вести такую переписку? На такую великую услугу я и рассчитывать не смел. – Кардинал прислал меня в полное ваше распоряжение, я же лично буду рада на деле выразить мою благодарность вашему дому за услугу, оказанную мне благородным Кознмо. Если вы хотите оказать мне гостеприимство, то я охотно буду служить вашему делу. Позаботьтесь о моем инкогнито, и чтобы как можно меньше людей видели меня. За моих слуг я ручаюсь. Лоренцо встал, протянул ей обе руки и с волнением сказал: – Вы действительно привезли мне добрые вести, благородная синьора. Когда со всех сторон окружают грозные враги, то верный друг является неоценимым сокровищем. Мой дом в вашем распоряжении, Кознмо проводит вас в ваши комнаты. Ты знаешь, – обратился он к Кознмо, – комнаты во флигеле, выходящие окнами в сад, где жила герцогиня Миланская, их надо убрать по желанию синьоры… Вы не увидите никого, кроме моей семьи и маленького кружка друзей, на которых я могу положиться. Отдохните с дороги, и дай Бог, чтобы радость и счастье посетили вас под моим кровом. Он проводил ее до дверей, где Козимо подал ей руку и повел в ее помещение. «Откуда ко мне эта дружба Борджиа? – подумал Лоренцо, оставшись один и в изнеможении опускаясь в кресло. – Мы дружелюбно встречались с ним, но я никогда не думал, что он первый в минуту большой опасности протянет мне руку помощи. Кардинал Родриго не такой человек, чтобы делать что-нибудь даром и без основания, а поддержка, которую он мне предлагает, может быть очень опасной для него… Ну, конечно, он ненавидит графа Джироламо, который держит себя повелителем в Риме и оскорбляет старинных аристократов своей заносчивостью, противился избранию Сикста, хочет вернуть Борджиа прежнее величие и помышляет, вероятно, когда-нибудь надеть тиару. Он мой друг, потому что Джироламо мой враг, и хочет на будущее обеспечить себе мою благодарность. Конечно, это так, а дружба, основанная на общей вражде, пожалуй, самая верная. Его совет разумен, а впоследствии может стать еще более полезным. Во всяком случае, он верит в мою будущность, значит, и мне не надо терять мужества». Лоренцо позвал лакея и, опираясь на его руку, поднялся к матери. – Мужайся, сын мой! – сказала донна Лукреция, обнимая его. – В тяжелом испытании все-таки видна рука Божья, спасшая тебя от убийц. – Я не теряю мужества, матушка, и сделал все, что требовал в эту минуту долг к родине, поэтому прости, что только теперь пришел к тебе. – Не говори об этом. Нужды отечества важнее матери! А Джулиано, наш бедный Джулиано!.. Он истек кровью под ударами проклятых убийц. – Господь призвал его! – сказал твердым голосом Лоренцо. – Теперь не время скорбеть и оплакивать умерших. Я предвижу, что нас еще многое ожидает, на что потребуются все мои силы. В Риме не перестанут нас преследовать, то, что произошло, было лишь первым нападением… Но у меня и в Риме нашлись друзья. От тебя, матушка, у меня нет тайн… И Лоренцо рассказал ей о кардинале Борджиа и передал свой разговор с красавицей Лукрецией. Лицо почтенной матроны приняло суровое выражение. – Лукреция Фаноцца де Катанеи? – переспросила она, когда он закончил. – Это сестра любовницы кардинала. Такую гостью мне было бы нежелательно принимать у меня в доме. – Ее сестра Роза Фаноцца, говорят, тайно обвенчалась с кардиналом, – возразил Лоренцо. – Ее дети носят фамилию Борджиа. – Разве тайный брак кардинала, служителя церкви, не есть преступление? – заметила ему мать. – Безбрачие священников не догмат веры. Папа его ввел и может опять отменить или позволить исключение из этого правила. Это дело совести кардинала, о котором не нам судить, а Лукреция Фаноцца не ответственна за свою сестру Розу. Если священник решил поднять кинжал на меня, то это, конечно, худшее преступление, чем тайный брак кардинала. Во всяком случае, она явилась другом в минуту несчастья, поэтому я прошу тебя, матушка, поласковее принять ее в нашем доме. – Ты прав, сын мой, нам нужно оружие для борьбы, а служение отечеству освящает всякое оружие. Я не забываю об этом. Мать того, кто является опорой и надеждой находящегося в опасности отечества, не имеет права раздумывать, если надо спасать родину. Иди, отдыхай, не запускай свою рану, чтобы выступить во всеоружии, когда настанет время. Лоренцо нагнулся, она поцеловала его в лоб и благословила. Козимо проводил Лукрецию через длинный коридор в отведенные ей роскошные покои. – Я сейчас позабочусь о ваших слугах и лошадях, – сказал он, – а донна Кларисса отдаст в ваше распоряжение несколько служанок. – Моему Пикколо дайте помещение поблизости. Вы знаете ведь, что он ко мне привязан, как собачонка, и умрет, если будет вдали от меня. Потом она взяла Козимо за руку и посмотрела в глаза, точно хотела проникнуть в душу. – Мы поклялись в дружбе, когда расстались у Порта-дель-Пополо в Риме. Я твердо помню эту клятву, и если вы не забыли ее, то должны позволить мне высказать вам участие и утешение в том горе, которое разрывает вам сердце. Он испуганно взглянул на нее и со слезами на глазах сказал глухим голосом: – Как я могу предаваться моему горю, когда Лоренцо подает мне пример геройского мужества? У тела убитого брата он не забывает свой долг. – Смерть еще не самое худшее. Гораздо тяжелее разочарование, причиненное изменой. – Не говорите этого… Я никогда не поверю в измену! – почти сурово вскричал он. – Джованна повиновалась только насилию… – Разве любовь можно насиловать? – воскликнула она с разгоревшимися глазами. – Маляспини не мог заставить ее повиноваться. Мне жаль разрушать вашу мечту, но правда – лучшее лекарство во всех страданиях. Я никогда не пойму и не поверю, чтобы можно было принудить к измене в любви! – О Боже, неужели вы правы? Неужели моя жизнь окончательно разбита? – с отчаянием вскричал Козимо. – Такая жизнь, как ваша, найдет в себе силы и не будет разбита. Я не хочу подрывать ваше доверие, но вы сами убедитесь в верности моих слов. Об одном только прошу… Когда страдания утраченной и обманутой любви измучат ваше сердце, вспомните, что у вас есть верная подруга, которая сумеет смягчить ваше горе и вызвать в вас мужество и жизненную силу. Поведайте тогда мне о ваших страданиях, не несите их в одиночку, и надежда и вера в будущее опять озарят вашу жизнь. – Благодарю вас, – с волнением сказал Козимо. Он поцеловал ее руку, а когда взглянул в чудные глаза, то ему вспомнился грот в Сутрии, и образ Джованны как-то исчез в тумане, а голос Лукреции пел любовные песни Петрарки. Слуги принесли багаж, Пикколо тоже явился. Козимо сейчас же удалился. Ему тяжело было видеть людей, он жаждал одиночества.Глава 16
Монтесекко беспрепятственно дошел до остерии; улицы были еще безлюдны, так как весь народ теснился на площади собора, а немногие прохожие стремились туда же узнать о причине слышавшегося шума. Луиджи Лодини с беспокойством встретил его. – Что случилось, благородный капитан? – спросил он, видя бледное лицо Монтесекко. – Что означает этот шум и дикий рев в городе? – Безумцы! – вскричал Монтесекко. – Они хотели свергнуть Медичи и сами себя погубили! Джулиано лежит убитый перед алтарем! – А Лоренцо? – спросил Луиджи. – Лоренцо спасен, народ проклинает убийц – они не избегнут своей участи. Джулиано они убили, но власть Медичи будет сильнее и прочнее, чем когда-либо. Меня все это не касается, но мне придется укрыться у вас, пока волнение уляжется. Обезумевший народ не разбирает правых и виновных. – Здесь вы в безопасности, – сказал Луиджи, и острые глаза его лукаво блеснули. – Ваших солдат здесь уже нет, и никто не подумает искать вас у меня. – Если спросят обо мне, скажите, что я уехал с охраной кардинала. Он быстро прошел в свою комнату, а Луиджи злобно посмотрел вслед. «Я понял из разговоров солдат, что что-то такое готовится. Они глупо взялись за дело, а дураки – плохие союзники. Умный плывет по течению и в волнах всегда найдет чем поживиться», – подумал Луиджи. Он вышел во двор, отворил дверь в стене, окружавшей всю остерию, прислушался к гулу и пошел к городу, пробираясь возле заборов. Монтесекко прошел через коридор в свою комнату и застал Клодину совсем одетой в свой мужской костюм. Она тоже слышала шум и, по привычке к походной жизни, приготовилась к каким-нибудь неожиданным событиям. Она испугалась, когда Монтесекко вошел бледный и расстроенный, подбежала к нему и с тревогой спросила: – Что случилось? – Большое несчастье, Клодина, – отвечал он, вздыхая с облегчением и плотно запирая дверь, – но оно может принести счастье. Он вкратце рассказал ей обо всем случившемся. – Но тебе, Баггиста, нечего бояться, не правда ли? – спросила она. – У тебя нет ничего общего с этими убийцами? Ведь ты не обнажил бы оружие против беззащитных? – Нет, нет, конечно, хотя они старались втянуть меня в их злодеяния, но я отказался от всякого участия я согласился только охранять порядок в городе. Граф Джироламо тоже уже хотел отстраниться от них. Но все-таки мы должны укрыться, дорогая, пока ярость толпы уляжется, а потом я решил бросить службу у графа я поступить к Лоренцо, которому, конечно, нужен опытный и храбрый воин. Может быть, этот день, стоящий так много крови, принесет нам желанное счастье. Я больше не могу иметь дела с врагами Медичи, а если Лоренцо еще не нужна моя служба, то мы можем прожить пока на то, что осталось от последней вербовки. Он достал из-под камзола кожаный мешочек и вынул из него два туго набитых кошелька. – Это золото обеспечивает пока нам независимость, – сказал он, – но я не могу иметь его при себе в такое время. – Ты никуда не пойдешь, Баггиста, – с испугом вскричала она. – Умоляю тебя, будь хоть один раз в жизни осторожным. Назови это трусостью, если хочешь, но мужество и храбрость тут не имеют ни цены, ни значения. – Будь покойна, Клодина, – с улыбкой отвечал он, – меня самого не тянет в свет, который внушил мне сегодня глубокое отвращение, и теперь мое оружие будет служить только честному, благородному делу. Дай-ка мне стакан сиракузского. Оно весьма недурное у Луиджи, а мне надо подкрепиться. Все, что я видел сегодня, подействовало на меня сильнее, чем самый утомительный переход или самая жаркая схватка. Клодина налила ему стакан вина, он выпил и прилег на диван. – Я устал, – сказал Монтесекко, – у меня глаза слипаются, дай мне поспать немножко. Может быть, в скором времени нам предстоит много труда и забот. Клодина поправила ему подушку, и он скоро заснул. Она же сложила руки и тихо молилась, со страхом прислушиваясь к усиливающемуся гулу голосов, доходившему из города. Прошло около часа. Крики приближались, слышались отдельные грозные возгласы, и Клодина не знала, будить ей Монтесекко или нет. Из города действительно шла буйная толпа, направляясь к гостинице. Из толпы, шедшей к воротам, как тень выскользнул Луиджи и пробрался вдоль заборов к боковой двери. Он прибежал в комнату Монтесекко, проснувшегося от шума. – Они идут сюда, капитан! – вскричал Луиджи. – Я не могу не впустить их, если они потребуют… Может быть, они и не будут вас искать здесь, но приготовьтесь к опасности. Монтесекко встал с выражением полного спокойствия и решимости. – О Боже, Боже, помоги нам! – простонала Клодина, ломая руки. Луиджи впился глазами в кошельки с золотом. – Это надо убрать в безопасное место, да, кстати, и синьору, скрывающуюся под мужским костюмом, – я это давно понял, а теперь не время скрытничать. Я позабочусь о ней. Пусть выйдет в соседнюю комнату, а за золото я отвечаю. Он отнес кошельки в соседнюю комнату и подтолкнул туда упиравшуюся Клодину. – Он прав, Клодина, – сказал Монтесекко, – спрячься туда, я так хочу. Я и не в таких переделках бывал и буду спокойнее, зная, что ты в безопасности. Иди, я приказываю тебе… Повинуйся, время не терпит. Уже слышно было, как стучали в ворота, и в то же время раздался звонок. – Я должен им отворить, капитан, – сказал Луиджи. – Может быть, еще удастся их успокоить. Он поспешно запер дверь в соседнюю комнату, где Клодина упала на колени, и побежал к воротам. Монтесекко надел шлем и взялся за рукоятку шпаги. Шум внизу все усиливался. Через минуту распахнулась дверь, дикая толпа ворвалась в комнату, засверкали окровавленные кинжалы и мечи, направленные на Монтесекко. Он вынул шпагу, левой рукой взялся за кинжал и крикнул громовым голосом: – Назад, не подходить! Кто сделает шаг вперед, того я уложу на месте. Подло убивать невинного человека. Я дешево свою жизнь не отдам, и вы за нее мне заплатите немалой кровью! Он размахивал шпагой перед собой; нападавшие отступили, но со всех сторон раздались угрожающие возгласы: – Коли его мечом!.. Выбейте у него оружие!.. Это наемник проклятого кардинала!.. Он должен был охранять убийц!.. Монтесекко отбил несколько направленных на него мечей и закричал: – Я не имею ничего общего с убийцами… Это вы убийцы, если хотите пролить кровь невинного человека. Ведите меня на суд… Я дам ответ и докажу мою невиновность… Назад! Или я буду рубить! Толпа опять отступила, но голоса гудели, как рычание хищника, готовящегося к прыжку. Высокий, плотный мужчина из цеха чесальщиков выступил вперед, говоря: – Капитан прав, его вина не доказана, хоть он и имел сношения с преступниками… Благородный Лоренцо сам предостерегал нас против незаконного возмездия. Если он хочет предстать перед судом, то наша обязанность свести его в синьорию и передать совету. Кое-где раздались слова неудовольствия, но толпа все-таки послушалась мастера из такого почтенного цеха. Шум стал утихать. Монтесекхо вложил шпагу в ножны и сказал: – Я подчинюсь решению совета… и верю вашему слову, – добавил он, обращаясь к чесальщику. Высокий мужчина пошел вперед, Монтесекко последовал за ним, со вздохом взглянув на дверь в соседнюю комнату, и шествие направилось ко дворцу синьории. Тут капитана сдали караулу, а чесальщик и еще несколько человек пошли в зал заседаний объявить, что привели капитана Монтесекко, служащего при кардинале Риарио и заподозренного в участии в покушении на убийство Медичи. Чезаре Петруччи только что вернулся от Лоренцо. – Над ним свершится суд! – торжественно произнес гонфалоньер. – Скажите это народу, а сами можете присутствовать при суде и решении. В такое время народ должен видеть, что избранные им представители исполняют свой долг без лицеприятия. Монтесекко ввели в зал заседаний и подвергли строгому допросу о его пребывании во Флоренции и о преступном замысле, с руководителями которого он состоял в личных сношениях. – Я мог бы сказать вам, благородные синьоры, – спокойно отвечал Монтесекко, – что вы не судьи надо мной, так как я не подданный Флорентийской республики, но это были бы излишние пререкания, ибо я в вашей власти. Я солдат и пустых слов не люблю, также и трусом никогда не был, а ложь – трусость, потому я вам скажу все, как было, тем более что это лучше всего послужит моему оправданию. – Это самое лучшее, что вы можете сделать, – заметил Петруччи, – тем более что мы удостоверили истину другими свидетелями, а ложь может только ухудшить ваше положение. Монтесекко ясно и подробно рассказал, как Франческо Пацци, архиепископ Сальвиати и граф Джироламо предложили ему участвовать в свержении Медичи и изменении порядков во Флорентийской республике, введя войско в город из Имолы для подавления народного движения. Он же хотя и находился на службе у графа, но поставил свое участие в зависимость от одобрения плана его святейшеством папой. – И папа дал это согласие? – спросил Петруччн. – Так точно, – отвечал Монтесекко, – иначе я немедленно бы отстранился от этого дела. Среди присутствующих послышались сдержанные проклятия, а Петруччи воскликнул: – Это ужасно! Представитель Христа на земле одобряет предательское убийство. Тщательно записывайте показания капитана, чтобы ни одного слова не было пропущено, – сказал он, обращаясь к советнику, составляющему протокол. – Вы ошибаетесь, благородные синьоры, – твердым голосом заявил Монтесекко, – его святейшество разрешил, правда, перемену правления Флорентийской республики, на которое жаловались сами же флорентийцы, как Франческо Пацци и архиепископ Сальвиати, но он самым решительным образом запретил проливать кровь. – Значит, мудрый Сикст думал, что правление республики может быть свергнуто без кровопролития и Медичи могут быть устранены живыми? – с ядовитой усмешкой заметил Петруччи. – Я говорю правду, – торжественно произнес Монтесекко, – и клянусь в этом кровью Спасителя. – Говорите, говорите дальше! – покачав головой, сказал Петруччи. Монтесекко рассказал, как граф Джироламо посылал его к Лоренцо, и граф Джироламо, по его словам, тоже изменил свое намерение и приказал ему приведенное тайно к воротам Флоренции войско отослать назад, но заговорщики действовали быстро. Медичи предполагалось схватить и арестовать во время парадного завтрака в честь кардинала, но так как Джулиано был не здоров, то решили выполнить план в церкви, во время обедни. – Осквернение храма с согласия папы и архиепископа! – воскликнул Петруччи. – Его святейшество ничего не знал о способе выполнения плана и не давал никакого приказания или согласия. Я же, узнав, отказался от всякого участия, ибо считал это, как и вы, осквернением храма и знал, что подобные действия противоречат желанию святого отца. Вот все, что я имею сказать, и, клянусь Богом, это святая истина. Советники и граждане были расположены в пользу Монтесекко его спокойствием и достоинством. – Удалитесь в соседнюю комнату, – приказал Петруччи. – Мы обсудим и решим, как повелит долг. Монтесекко поклонился и ушел в сопровождении двух солдат. – Итак, синьоры, какого вы мнения? – спросил Петруччи. – Капитан – храбрый солдат, – сказал Содерини, старший советник. – Он повиновался тем, у кого состоял на службе, и не принимал участия в ужасном преступлении. Показания его важны для нас, так как указывают наших врагов. Мое мнение – выслать его за границу и под страхом смерти запретить вступать на нашу территорию. Остальные члены совета согласились с ним. – А вы, граждане, что вы на это скажете, что бы вы сделали? – спросил Петруччи. – Он храбрый солдат, – сказал чесальщик, – и не хотел участвовать в убийстве… Пусть живет, виновные уже наказаны. Граждане согласились с ним, но Петруччи встал и сказал громким голосом: – Капитан Монтесекко – храбрый солдат и сказал нам правду – что свидетельствует о его мужестве, а пожалуй, и умно, – что он не принимал участия в убийстве, но по собственному ли решению или потому, что другие опередили его, – это не доказано. Во всяком случае, он готов был ограждать последствия убийства, он ввел войска графа Риарио, состоящего в мирных отношениях с республикой, в наш город, чтобы свергнуть наше правительство и отнять независимость у народа в угоду Пацци. Это вероломство и государственная измена, преступление, которое мы, даже по отношению к иноземцу, можем и должны карать смертной казнью. Не в наказании дело. Мы могли бы и не применять ее к менее виновному, а дело в примере. Если вы будете милостивы там, где затрагивается независимость, высшая святыня нашего отечества, то наши враги всегда найдут исполнителей для новых коварных нападений. Свет должен знать, что неумолимо подвергнется смерти тот, кто дерзнет коснуться нашего управления, наших законов и граждан, облеченных нашим доверием, хотя бы как пособник. Вспомните благородного Джулиано, погибшего от кинжала убийц. Подумайте, что было бы с вами, если бы лицемерные священники убили и Лоренцо, а потом войско капитана явилось бы укрощать вас и подчинить ваших потомков игу римского владычества. Подумайте об этом, синьоры, и вы, граждане, и вы согласитесь, что мы должны ради себя и ради памяти Джулиано показать пример на каждом далеко или близко причастном к преступлению, чтобы никто не решился впоследствии на такое злодеяние. – Вы правы, благородный гонфалоньер, – вскричал чесальщик. – Что значит жизнь одного такого врага, как этот Монтесекко, в сравнении с Джулиано Медичи и нашей независимостью? Советники тоже утвердительно склонили головы, и Содерини пожал руку Петруччи, говоря: – Выхорошо сделали, что напомнили мне о Джулиано… Они, конечно, не пощадили бы нас, если бы нападение удалось. – Следовательно, я стою за смертную казнь, – сказал Петруччи, – но, так как капитан менее других виновен и храбрый солдат, пусть он умрет от меча. Когда все опять изъявили согласие, Монтесекко ввели в зал. Петруччи объявил ему приговор, сломал белый жезл, лежавший на столе, и обломки бросил на пол. Монтесекко побледнел, взялся за сердце, прошептал: «Бедная Клодина!», но голову не склонил. Он сказал спокойным голосом, с гордым взглядом: – Вы отвечаете за ваш приговор перед Богом, который тоже будет вас судить. Я много раз стоял лицом к лицу со смертью и не боюсь ее, но об одном прошу вас: позовите священника, чтобы я подготовился к смерти исповедью и причастием и мог доверить служителю церкви мою последнюю волю. – Ваше желание будет исполнено, – сказал Петруччи, и на строгом лице его мелькнула тень сочувствия. – Если вы что-нибудь еще желаете, вам все будет разрешено. – Прошу только бумаги и перо, больше мне ничего не нужно. Святые дары будут мне последним утешением. Петруччи приказал отвести осужденного в одну из задних комнат дворца и позвать к нему священника. Монтесекко с гордо поднятой головой вышел из зала заседаний. …Клодина горячо молилась, стоя на коленях, когда Луиджи вошел в комнату. – Что случилось? – воскликнула она, вскакивая. – Они убили его? – Он жив, – отвечал Луиджи. – Они увели его для допроса, как он требовал, и можно надеяться, что он останется жив, так как он не принимал участия в преступлении. Ждите спокойно, что будет дальше. Сделать тут ничего нельзя, но будьте уверены, что ему лучше быть перед судом республики, чем перед яростью народа. – Он перед судом! – повторила Клодина, пока Луиджи засовывал в карманы кошельки с золотом. – О! Тогда спасение еще возможно!.. Да, да! – проговорила она после минутного раздумья. – Так и надо… Фиоретта в доме друга Медичи и может мне помочь. Она хотела бежать, но Луиджи удержал ее. – Куда вы? Вы его не увидите. Капитан оставил вас под моей охраной, и вам нельзя выходить на улицу, где буйствует народ… До капитана вас не допустят, он сейчас под строгим караулом. – Я не к нему… Я хочу видеть человека, который сможет его спасти. – Это невозможно, – сказал Луиджи, преграждая ей дорогу, – вы должны оставаться здесь, только здесь вы в безопасности, я поручился за вас капитану. – Что значит моя безопасность, что значит моя жизнь? Его надо спасти, и для этого существует только один путь. Луиджи особенно блестящими глазами смотрел на нее. «Неужели часть добычи, и, пожалуй, самая лучшая, уйдет от меня? – думал он. – Ведь она дороже золота». – Нет, – сказал Луиджи, – вы не уйдете отсюда, я вам запрещаю. Вы поручены мне и, кажется, не можете ни на что жаловаться. – Я не слушаю никаких запрещений! – вскричала она. – У меня один долг на свете, и я исполню его! – Вы не пойдете никуда отсюда, – с угрозой крикнул он. – Я ваш господин теперь и научу вас повиноваться. Он схватил ее за руку и потащил обратно в комнату. – Что? Как вы смеете? Оруженосец Монтесекко не знает страха и повинуется только одному господину. Прочь с дороги! В одно мгновение Клодина выхватила свободной рукой маленький трехгранный кинжал и с силой вонзила его в руку Луиджи. С болезненным криком он отшатнулся, выпустил ее и не успел понять, что случилось, как она уже бежала по коридору во двор. Он бросился за ней с ругательствами, но она уже миновала ворота, оставшиеся незапертыми после ухода толпы. Луиджи видел только, как она бежала вдоль заборов. – Это черт, а не женщина! – ворчал он, – Гнаться за ней теперь бесполезно… Уже темнеет, нет никого поблизости, а рука болит… Она выучилась владеть оружием у проклятого капитана. Я глупо сделал, что не запер ее раньше. Надо довольствоваться золотом и перевязать руку, а там видно будет, авось ничего не пройдет даром этой дикой кошке. Он запер ворота и вернулся в пустой дом, откуда все слуги разбежались при появлении толпы. Клодина бежала вдоль заборов и садов. Уже темнело, но, выйдя на улицу, ведущую в город, она узнала калитку, в которую вошла накануне Фиоретта. После бегства Бандини калитка осталась незапертой, и Клодина с радостной надеждой вошла в сад. Когда Фиоретта упала, пораженная кинжалом Бандини, Антонио Сан-Галло не пытался преследовать убийцу, и сбежавшиеся слуги остановились пораженные, увидев своего хозяина с окровавленной рукой, склонившегося над женщиной. Фиоретту подняли, внесли в ее комнату и положили на диван. Антонио послал слуг за доктором, а пока старался, как умел, возбудить в ней признаки жизни. Кинжал попал в середину груди, близко от сердца, и запекшаяся кровь затянула рану. Фиоретта не шевелилась, но тело было совершенно теплое, а когда Антонио влил ей в рот несколько капель вина и намочил виски холодной водой, то ему показалось, что грудь ее начала медленно подниматься. Антонио с напряженным вниманием наблюдал за ней. Дыхание Фиоретты становилось все глубже, и наконец она открыла глаза и посмотрела мутным взором. – Вы живы, – радостно вскричал Антонио. – Благодарение Богу! Лежите спокойно, не шевелитесь, Бог даст, удастся вас спасти. Он опять дал ей несколько глотков вина, ее взгляд прояснился, она все вспомнила, и бесконечная скорбь выразилась на ее лице. – Меня спасти? Зачем? – прошептала она. – К чему мне жизнь? О, если бы убийца моего Джулиано проколол и мне сердце, мы были бы вместе теперь там, где нет ни злобы, ни вражды. – Вы должны жить, Фиоретта, – строго сказал Антонио, подкладывая ей под голову мягкую подушку. – Подумайте о вашем Джулио. Глаза раненой оживились. – Мой Джулио! Да, да… вы правы, я должна жить для него, пока еще могу. Но это будет недолго… Я это чувствую, – она мучительно схватилась за сердце. – Кинжал убийцы так же метко убил меня, как и моего Джулиано. Она смолкла, совсем обессиленная, потом сказала с умоляющим взглядом: – Мне надо видеть Лоренцо… Я не дойду до него… сил не хватит… Но я не могу умереть, не передав ему моего сына. Как ни высоко он в сравнении со мной, он придет… он не отвернется от сына своего брата, который так любил его. – Имейте терпение… подождем доктора. Я вам обещаю привести Лоренцо. Она опять впала в забытье. Слуги долго искали доктора. Наконец он пришел и осторожно ощупал поверхность раны, потом отвел Антонио в сторону и тихо сказал ему: – Удар был умело направлен. Запекшаяся кровь закупорила рану и пока остановила кровотечение. Но если заняться раной, может последовать немедленная смерть. Если несчастной нужно сделать какие-либо распоряжения, пусть делает их сейчас и не медлит, так как напор крови может каждую минуту разорвать слабый покров раны. – Так подождите, – грустно сказал Антонио. – Ей еще надо сделать важное распоряжение. Он позволил доктору перевязать свою неопасную рану и отвел его в соседнюю комнату. Задыхаясь, прибежала старая Женевра. Она долго оставалась в соборе, пока решила, наконец, идти домой по запруженным народом улицам. Увидев Фиоретту с окровавленной грудью, она вскрикнула, но Антонио не допустил ее к раненой и сказал: – Не тревожьте бедную, она умирает от руки того же проклятого убийцы, что и Джулиано. Дайте ей вина, если проснется, и заботьтесь о ребенке. Слышите, Джулио плачет, а ее не надо беспокоить. Старуха кивнула, понимая серьезность приказания Антонио, и пошла к проснувшемуся ребенку, который весело протянул к ней ручки. Она подошла к его кроватке, дала ему молока и вполголоса запела веселую песенку, а у самой слезы текли по щекам. Уже темнело. Антонио велел зажечь свечи и соблюдать полную тишину возле Фиоретты, а сам с тяжелым сердцем направился ко дворцу Медичи. Когда он входил под портал, из собора выносили на носилках тело Джулиано, покрытое коврами, чтобы тихонько поставить его в одном из парадных залов дворца: не хотели, чтобы Лоренцо видел тело брата, обезображенное бесчисленными ударами кинжалов, пока заботливые руки не уничтожат следы ужасной смерти. Полициано вел печальное шествие. Пожав ему руку, Антонио сказал: – Какой ужасный день, я тоже пришел с грустными вестями. Право, мы должны не колеблясь карать злодейское преступление, которое пресекло эту молодую, цветущую жизнь. Полициано тихо рыдал, будучи не в силах отвечать, и направился за носилками к главной лестнице, а Антонио пошел к Лоренцо, прося принять его по неотложному делу. Он застал Лоренцо в кресле, полураздетым; ему только что сменили повязку. – С какими вестями пришли вы, Антонио? – спросил Лоренцо с грустной улыбкой. – От друга надо ждать только хорошего, но этот день, кажется, роковым образом предназначен для несчастий. Поэтому я боюсь, и вы принесли нерадостное известие. – К сожалению, так и есть, светлейший Лоренцо, – отвечал Антонио. – Простите, что я нарушаю столь необходимый вам покой, но дело идет о мире и спокойствии человеческой души. Я был хранителем тайны, которую вы должны были скоро узнать, но смерть лишила Джулиано возможности вам ее открыть. – Тайна Джулиано? – вскричал Лоренцо. – Говорите, Антонио, говорите. Все, что касается его, для меня свято и не терпит отлагательства. Антонио рассказал историю любви Джулиано и потрясающее событие, свидетелем которого он был. Лоренцо закрыл лицо руками. – Так вот что это значило! Я видел, что он чем-то озабочен. Может, я рассердился бы, что Джулиано забыл высокое назначение, предначертанное нашему роду, что он нарушил мои планы, но теперь они разрушены навсегда рукой убийцы, который убил также и ту, которую он так любил. Я исполню священное для меня завещание брата… Он будет доволен мной, если может сейчас видеть нас. – Несчастная непременно хочет видеть вас, – сказал Аитонио – Вы можете дать ей утешение, и она радостно последует за возлюбленным. – Сейчас иду, – сказал Лоренцо. – Вера Джулиано в брата не будет обманута… У меня хватит сил еще и это перенести. Она жена его, вы в этом уверены? – Вполне уверен. Я могу привести вам священника монастыря Сан-Донино, который их венчал. – Я потерял брата, – сказал Лоренцо, – но его сын во мне найдет отца. Он велел подать паланкин, так как не мог сесть на лошадь, и они вместе с Антонио отравились к нему. Фиоретта спокойно дремала и только изредка болезненно стонала. Ребенок опять уснул, и Женевра села около Фиоретгы. Она плакала и горячо молилась о сохранении жизни страдалицы. Вдруг раздались шаги в саду. Клодина, вбежав в парк, шла по направлению к освещенным окнам и испуганно остановилась на пороге отворенной двери, увидев безжизненно лежавшую Фиоретту. Женевра оглянулась и вскочила при виде незнакомого юноши. – Боже! – с ужасом вскричала Клодина. – Неужели судьба не сжалится, и несчастье все еще будет преследовать нас? Женевра бросилась к двери, чтобы позвать слуг, а Клодина подбежала, опустилась на колени и мучительно вскрикнула, целуя руку сестры: – Фиоретта, моя Фиоретта, что с тобой сделали? Неужели смерть не сжалится над нами, и я нашла сестру только для того, чтобы потерять ее? Фиоретта медленно открыла глаза, вздрогнула и хотела вырвать руку. – Ее брат? – проговорила Женевра, останавливаясь у двери. – Неужели это правда? Клодина сняла шляпу и откинула волосы. – Признай меня, Фиоретта, я – Клодина, твоя сестра. Я так ждала этой встречи и пришла просить у тебя помощи, а ты, бедная, сама в такой беде! Фиоретта пристально посмотрела на возбужденное лицо Клодины, потом глаза ее засветились радостью, и она слабым голосом проговорила: – Да, это ты, я узнаю тебя… У тебя такое же бледное лицо и полные слез глаза, как тогда, когда я прощалась с тобой… Господь свел нас, когда я потеряла все счастье, за которым последовала, как и ты, увлеченная непреодолимой любовью. Они убили Джулиано… моего возлюбленного… мужа… – Джулиано? – повторила Клодина, и надежда блеснула в ее глазах. – Джулиано Медичи и ты… – Так звал его свет, – усталым голосом сказала Фиоретта. – Для меня он был только Джулиано, мой возлюбленный, все мое счастье на земле. О, если бы он мог жить в неизвестности, его не коснулся бы убийца, завидовавший его величию. – Это ужасно! – содрогнулась Клодина. – Бедная сестра! Но все-таки ты, может быть, поможешь мне, чтобы я тоже не потеряла всего, что имею на земле. Фиоретта вопросительно посмотрела на нее, но, прежде чем успела ответить, дверь отворилась и вошел Лоренцо, опираясь на руку Антонио. Он остановился удивленный, увидев юношу в солдатском платье, а Антонио быстро подошел с угрожающим видом, но Фиоретта сказала, грустно улыбаясь: – Оставьте ее, это не убийца, а моя сестра, с которой мы каким-то чудом встретились после долгой разлуки. – Сестра? – воскликнул Антонио. – Как? Что случилось? Фиоретта, увидев Лоренцо, с трудом приподнялась и проговорила, с мольбой сложив руки: – Лоренцо, великий Лоренцо, которого так любил мой Джулиано, я чувствую, что это он. Благодарю вас, Антонио, и благодарю вас, светлейший Лоренцо, что вы принесли последнее утешение несчастной. Теперь уж не сердитесь, что она любила вашего брата и все забыла в своей любви. – Не последнее утешение, – сказал Лоренцо, глубоко растроганный, подходя и беря ее за руку, – вы будете жить и вместе со мной, вашим братом, вспоминать усопшего. Она грустно покачала головой. – Моя жизнь кончается, я это чувствую, но я умираю с радостью, потому что увидела вас и могу передать вам наследие Джулиано. Антонио послал Женевру в соседнюю комнату, и она принесла мальчика, который, внезапно разбуженный, испуганно озирался и прижимался к ней. Лоренцо положил руку на головку ребенка и сказал торжественно: – Сын моего брата Джулиано найдет во мне отца, а его мать – брата. – Благодарю вас, благодарю! – воскликнула Фиоретта. – Да будет над вами благословение Божье. Вы спасаете душу мою от отчаяния. Я могу спокойно пойти к Джулиано и принести ему радостную весть о безграничной любви его брата. Клодина слушала с волнением и бросилась на колени перед Лоренцо, с мольбой простирая к нему руки: – Вы принесли моей Фиоретте высшее утешение, светлейший синьор, сжальтесь надо мной и спасите от смерти моего возлюбленного. Он не может, конечно, равняться с вашим убитым братом, но для меня он все на свете… Он еще жив, надеюсь, и вашего слова достаточно, чтобы спасти его. – Сжальтесь над ней, – проговорила Фиоретта. Маленький Джулио, с испугом прижимавшийся к Женевре, улыбнулся и протянул ручонки к Лоренцо. – Что я могу для вас сделать? – спросил Лоренцо. – Кто он? За кого вы просите? – Баттиста Монтесекко, – отвечала Клодина. – Клянусь вам, он не виновен в злодеянии, совершенном против вас, но они все-таки взяли его и повели на суд… – Монтесекко? – повторил Лоренцо. – Его взяли? Я верю, что он невиновен, во всяком случае, менее виновен, чем другие. Как бы он ни поступил, он только исполнил свой долг солдата. Крови уже пролито довольно, а его жизнь может найти лучшее применение. Ваша просьба будет исполнена. Дайте мне лист бумаги, Антонио. Лоренцо наскоро написал несколько слов и дал записку Клодине, все еще стоявшей на коленях. – Идите скорее в синьорию и отдайте это гонфалоньеру Чезаре Петруччи. Он исполнит мое желание, дарует жизнь Монтесекко. О дальнейшем я позабочусь и устрою его участь. – Благослови вас Господь, светлейший синьор, – вскричала Клодина, быстро вскакивая. – Мы увидимся, Фиоретта, ты должна жить для ребенка. Она горячо обняла ее и поспешно удалилась, а Антонио велел служителю проводить ее в синьорию. Лоренцо взял младенца от Женевры, подошел к Фиоретте и положил свою руку на ее. – Ваша сестра права, вы должны жить для ребенка, а я буду охранять и его, и вас. Он испуганно умолк. Фиоретта судорожно сжала его руку, глаза ее остановились, губы раскрылись, и из них вырвался хриплый болезненный стон. – Боже, что с ней? Смотрите, как она вдруг изменилась… Скорее зовите доктора! Когда Антонио вернулся с доктором, Фиоретта приподнялась, беспомощно протягивая руки. Рана открылась, кровь брызнула на постель. – Мне здесь больше делать нечего, – шепотом сказал доктор. – Внутреннее кровоизлияние вскрыло рану, и медицина здесь бессильна. Он попробовал закрыть рану, но повязки не помогали; Фиоретта все бледнела, дыхание слабело, а лицо принимало мирное, спокойное выражение. Она еще раз открыла глаза и посмотрела на всех ясным, проницательным взглядом умирающей. – Благодарю вас, Лоренцо, – сказала она слабым, но внятным голосом. – Еще одна просьба, последняя: пусть ребенок, сын Джулиано, посвятит себя служению церкви, как я дала клятву Богу. – Обещаю вам это, – сказал Лоренцо. – Прощай, мой Джулио, – проговорила Фиоретта с лицом, озаренным счастьем, и, сделав последнее усилие, положила руку на голову сына. Голова ее откинулась на подушки, она глубоко вздохнула, вздрогнула и вытянулась. Доктор склонился над ней, пощупал пульс и торжественно произнес: – Скончалась. Лоренцо опустился на колени и тихо молился. Все последовали его примеру. Потом Лоренцо поднялся и сказал с волнением: – Она мирно скончалась. Упокой, Господи, ее душу. Я свято исполню мой долг перед Джулиано. Прошу вас, Антонио, позаботиться о ее погребении. Ребенка я оставлю сегодня еще на вашем попечении, а завтра его перевезут ко мне, где он найдет родной дом, как было бы при жизни его отца. Он поцеловал маленького Джулио и направился к своему паланкину. Клодина так бежала, что слуга едва поспевал за ней. Улицы значительно опустели, но кое-где еще попадались сборища. Иногда их останавливали, но тогда слуга заявлял, что они несут послание Лоренцо в синьорию, – толпа расступалась с криками: «Палле! Палле! Да здравствует Лоренцо!» Перед дворцом синьорин собралась значительная толпа, и шли оживленные разговоры. – Поймали Жакопо Падди!.. Крестьяне Кастаньо задержали его… сейчас приведут. И отовсюду раздавались проклятия. Клодина ничего не слышала, она только стремилась вперед, и слуге едва удавалось прокладывать ей дорогу. Под порталом ее направили в большой внутренний двор. Там горели факелы. Гонфалоньер стоял на ступенях подъезда с несколькими членами совета, а в стороне – чесальщик с теми, кто присутствовал при допросе Монтесекко. Посреди двора перед плахой, покрытой черным сукном, стоял на коленях Монтесекко, а рядом палач с закрытым липом, с мечом в руке. Онемев от ужаса, Клодина остановилась, упала на колени и протянула руку с запиской Лоренцо. Она хотела крикнуть, но голос не повиновался ей. Слуга взял записку из ее рук, подбежал к гонфалоньеру, но в это время с тупым звуком опустился меч палача, кровь брызнула, и голова Монтесекко скатилась на землю… – Дай ему, Господи, вечный покой, – торжественно произнес священник среди гробового молчания. Клодина отчаянно вскрикнула и упала без чувств. В эту минуту слуга передал гонфалоньеру записку Лоренцо. Петруччи прочитал ее при свете факела и мрачно сказал: – Теперь уже поздно, и, может, так и должно было быть. Лоренцо подобает прощать и оказывать милости, но мы, судьи республики, не можем щадить тех, которые сами нарушали законы… Кто этот юноша? – спросил он. – Не знаю, – отвечал слуга. – Я знаю, благородный гонфалоньер, – сказал подошедший священник. – Монтесекко сообщил мне свою последнюю волю… Позвольте мне взять этого юношу под мою охрану. Гонфалоньер согласился, священник послал за паланкином, чтобы в сопровождении слуги отнести неподвижно лежавшую Клодину в монастырь кармелиток, а тело Монтесекко было положено в приготовленный гроб. Едва священник удалился из синьории, как с улицы снова, раздались дикие крики. Гонфалоньер, направившийся было во дворец, остановился. Густая толпа вошла с улицы во двор. Тащили человека в разодранном платье, растерзанного, с бледным искаженным лицом. При свете факелов все узнали Жакопо Пацци. – Крестьяне из Кастаньо выдали его! Вот он, проклятый изменник! – кричала толпа. Жакопо, шатаясь, приблизился к гонфалоньеру и хотел что-то сказать, но Чезаре Петруччи прервал его и объявил громким голосом: – Другие искупили свое преступление, и даже только что казненный Монтесекко, хотя он был храбрый солдат и был, пожалуй, достоин помилования. Но этот не избегнет наказания! Он принимал участие в убийстве, он с чужими солдатами ездил по городу, чтобы побуждать народ к преступному восстанию. Правда ли это, благородные судьи? Правда ли это, граждане? – Правда, правда! Мы это сами видели. Клянемся, что правда! – раздались голоса. – Тогда я приговариваю его к смерти. Прав ли я, граждане? – Правы, правы!.. Да здравствует благородный гонфалоньер! Смерть предателям! – Так ведите его наверх и повесьте в окне зала заседаний, рядом с сообщниками его преступления. Голос Жакопо заглушили дикие крики толпы. Стражи синьории окружили его и увели, несмотря на его сопротивление. Вскоре на улице поднялся дикий рев толпы, когда она увидела при свете факелов Жакопо Пацци, вытолкнутого из окна, где еще висели трупы Франческо Пацци и архиепископа Сальвиати.Глава 17
Маркиз Габриэль Маляспини с семьей, в сопровождении графа Джироламо Риарио, так быстро ехал в Имолу, как только позволяла выносливость лошадей. Джироламо во время пути не переставал возмущаться неумелостью заговорщиков, сделавших наполовину дело, которое тогда лучше было и не начинать. – Так легко было прийти к соглашению с Лоренцо, – говорил он сердито, – да, пожалуй, это и теперь еще возможно. Я не причастен к этим грустным событиям, которые совершились или слишком рано, или слишком поздно. Мне теперь не поверят во Флоренции, но вы, благородный маркиз, подходящий человек, чтобы суметь восстановить доверие. Отчего вы бежали из Флоренции? Вам нечего было бояться оставаться там, если Медичи сохранили свое положение. Ведь вы намеревались даже породниться с их домом. – Я уехал из Флоренции потому, что не хотел оставлять семью в городе, где жизнь зависит теперь от возбужденной черни, и потому, что не могу, чтобы мне, бывшему гостем там, в доме Медичи, приписали виновность в резне, учиненной народом, и в преступлении против служителей церкви… Ведь вашего племянника, кардинала Риарио, с трудом скрыли в ризнице, и кто знает, может быть, он сделался жертвой озверевшей толпы. Джироламо покачал головой. – На это они не решатся. Лучше всего было бы, – сказал он, пытливо глядя на маркиза, – если бы вы, благородный друг, вернулись во Флоренцию, когда там все уляжется, и постарались восстановить доверие Лоренцо ко мне, так как я, конечно, лучше кого бы то ни было могу выяснить и устранить все недоразумения и разлад. – Это будет трудно, – возразил Маляспини. – Думаю, Лоренцо не простит мне отъезда из Флоренции именно в такую минуту, а вы знаете, дорогой граф, как я глубоко предан его святейшеству. В случае полного разрыва, чего я сильно опасаюсь, святой отец увидит, что я не на стороне его противника. Если бы его святейшество приказал мне взять на себя это посредничество, тогда другое дело. Обе дамы, ехавшие рядом, слышали весь разговор. Джованна подъехала на своей лошади поближе к маркизу и сказала умоляющим голосом, со слезами на глазах: – О отец, не отклоняй совета графа. Может быть, еще все устроится… Подумай обо мне, о счастье твоей дочери. – Не вмешивайся в серьезные дела, где сердечные соображения не имеют места, – резко и злобно оборвал ее Маляспини. – Ты найдешь себе мужа получше этого мальчишки Козимо, который, право, не на высоте нашего рода. Я не противился твоей склонности, предполагая, что положение Медичи прочно и что они сумеют сохранить благоволение святого отца, хотя, конечно, Франческо Пацци, который упал на моих глазах в соборе, был бы более подходящим мужем для тебя. Теперь же я вовсе не склонен унижаться до родства с Ручеллаи, которые имеют значение только при блеске ореола Медичи. Джованна отъехала с тяжелым вздохом, а мать протянула ей руку: – Подожди, дитя мое, теперь не время принимать какие-либо решения. Посмотрим, как сложатся обстоятельства. Когда носишь наше имя, надо уметь подавлять свое сердце. Джироламо сильно призадумался. Он погонял лошадь; они ехали все скорее и к вечеру прибыли в Имолу. Город, древний форум Корнелия, производил мрачное, воинственное впечатление; везде воздвигались укрепления; войско, предназначавшееся для Флоренции, вернулось по приказанию Монтесекко. А когда всадники подъехали к воротам по аллее редкостных деревьев, и ныне еще существующей, их встретил усиленный караул. Отворили ворота. Недавно только вернулась охрана кардинала, и солдаты рассказывали, что Жакопо Пацци, выехавший с ними из города, свернул в сторону и скрылся где-то в деревне. На улицах было оживленно, слух об ужасных событиях во Флоренции распространился в народе, и все ждали новых событий и известий. Джироламо провел маркиза и дам в старый замок, ныне уже не существующий, и просил принять его гостеприимство. Жена его, Катарина Сфорца, красивая, со жгучими глазами и выражением неженской силы воли на тонком, античном лице, встретила гостей и с тревогой спросила о происшедших событиях, так как в городе говорили об убийстве Медичи. – Если бы это было, то знали бы, по крайней мере, чего держаться, – вскричал Джироламо. – Но теперь Лоренцо жив, и это еще хуже, чем если бы ничего не было предпринято… Будущее неизвестно, и мы должны быть готовы ко всему. – Лоренцо жив? – спросила графиня. – Тогда будущее вполне определенно – у нас враг, непримиримый враг, и мы должны его уничтожить или отказаться от наших планов. Очень рада видеть вас у себя, благородный маркиз, – приветствовала она гостей. – В Риме не забудут, что вы без колебаний приняли сторону единственно неоспоримого права. Милости просим, надеюсь, что мне удастся заменить вам гостеприимство дома Медичи и вы, дорогая Джованна, найдете во мне верную подругу. Мы вместе с вашей матерью будем стараться, чтобы вы забыли мечту, которой, конечно, лучше остаться только мечтой. Джованна не могла удержать слез и сквозь рыдания пробормотала несколько едва понятных слов. – Будьте тверды и горды, – сказала графиня, целуя ее в лоб. – Ручаюсь, что эти чудные глаза скоро опять заблестят, и эти губки будут опять счастливо улыбаться. Если один цветок отпадет на заре жизни, на месте его появятся другие и… – А может быть, и этот цветок не потерян, – прервал Джироламо. – Я думаю, что маркиз может еще достигнуть соглашения и примирения. – Я этого не думаю и не желаю, – сказала графиня, гордо закидывая голову. – Упрямые флорентийцы и лицемерные, надменные Медичи никогда не будут искренне, без задней мысли поддерживать наши планы или спокойно видеть их осуществление, и все, что они, может быть, скажут теперь для устранения грозы, будет только лукавством и лицемерием. Джироламо замолчал. Графиня проводила дам в их комнаты. Обе извинились, прося позволения не выходить вечером из-за усталости и тревог этого дня. Джованна ушла к себе, чтобы хоть выплакать свое горе в одиночестве, так как она и у матери не встретила полного понимания своего чувства. Джироламо еще раз объехал город в сопровождении маркиза, усилил караулы у ворот и велел приготовить к обороне все законченные укрепления. Можно было предполагать, что возбужденный народ Флоренции совершит нападение, если появится подозрение в участии Джироламо в заговоре против Медичи. Когда граф поздно вечером сидел за ужином с графиней и маркизом, все стараясь побудить его к посредничеству, один за другим приходили гонцы от приверженцев дома Пацци, благополучно бежавших из города и искавших убежища в Имоле. Они принесли известие об ужасной смерти архиепископа, об аресте кардинала и о кровавой расправе народа со всеми, заподозренными в заговоре. – Они повесили архиепископа и дерзнули арестовать моего племянника, кардинала, – с негодованием вскричал Джироламо и еще более возмутился, узнав об аресте Монтесекко. – Арестовать начальника моего войска – это оскорбление, а папа будет несказанно разгневан, что они посмели коснуться служителя церкви. – И ты все-таки допускаешь возможность соглашения? – с горькой усмешкой спросила графиня. – Нет, такая дерзость не может остаться безнаказанной, и Сикст не может простить такое вторжение в его священные права. Война неминуема. Мы должны готовиться и искать союзников, главным образом там, где Лоренцо рассчитывает иметь друзей. Я поеду завтра в Милан, где герцогиня Бона хотя и состоит регентшей при малолетнем сыне, но всем управляет дядя Людовика. Он не пойдет, не может идти против нас. Я знаю, что он, несмотря на союз с Венецией и Флоренцией, ненавидит Лоренцо и мечтает о восстановлении независимого ломбардского государства. Я уверена, что мне удастся перетянуть его на нашу сторону или хотя бы помешать ему идти против нас. – Графиня права, – горячо отозвался маркиз, – я тоже считаю примирение невозможным, а если бы оно и состоялось, то было бы непрочным и дало бы Лоренцо только время вооружиться и приготовиться. – Может быть, – угрюмо заметил Джироламо. – Если бы я был уверен в победе, я, не задумываясь ни на минуту, свергнул бы Лоренцо и покорил эту упрямую Флоренцию, но, – он вопросительно взглянул на жену, – святой отец, к несчастью, пожилой человек, его жизни тоже есть предел, а у меня мало друзей среди кардиналов. Все Борджиа мне крайне враждебны, и трудно надеяться, что будущий папа благосклонно отнесется ко мне и моим планам. – Потому-то эти планы должны быть выполнены, пока мы пользуемся поддержкой святого отца. Герцогство Романское должно быть прочным теперь, при содействии папы, чтобы потом никто не мог отнять его у нас. – Пожалуй, ты права, – сказал Джироламо, почтительно целуя руку жены и с восторгом глядя на ее чудное лицо. – Видите, благородный друг Маляспини, моя жена готова взяться за оружие, тогда как я с трудом решаюсь вынуть его из ножен. – Нет, – с улыбкой возразила графиня, – оружие я предоставляю мужчинам, но ум и непреклонная воля так же важны, как острый меч. Я поеду завтра в Милан и заручусь поддержкой друга или хоть лишу ненавистного Лоренцо и его флорентийцев сильного союзника. Если Милан отстранится, Венеция тем более не захочет быть во враждебных отношениях с папским престолом, и нам удастся, в конце концов, свергнуть этих Медичи, которые мнят себя выше всех князей Италии. На другой день графиня уже на заре, собралась в путь, послав еще ночью гонца в Милан предупредить о ее приезде. Когда Джироламо, проводивший с Маляспини ее до ворот, возвращался в город, он опять заговорил о возможности примирения и снова старался склонить маркиза к посредничеству. Маляспини колебался, он дружил с Медичи, когда они были на высоте величия, но тем не менее питал надменную ненависть родовитого дворянина к выскочкам и с радостью приветствовал бы падение Флорентийской республики. Видя тревожные сомнения Джироламо, он сам стал колебаться и, придя к жене, заговорил о возможности вернуться во Флоренцию, так как у него, пожалуй, все-таки оставались еще возможности как-то уладить недоразумение. Бедная Джованна, не спавшая всю ночь, опять начала надеяться и просила позволения послать известие Козимо, чтобы успокоить его относительно ее внезапного исчезновения. Маркиз дал ей уклончивый ответ, но решительно запретил писать во Флоренцию без его разрешения. Он хотел выждать. Дальнейшим событиям скоро суждено было разрушить все надежды Джованны. Известие, что Монтесекко после строгого допроса, в котором он подробно изложил приготовления к заговору, был обезглавлен по решению синьории, сильно озлобило Джироламо, так как он усматривал личное оскорбление в казни находившегося у него на службе капитана и теперь сознавал полную невозможность примирения. В последующие дни стали приезжать гонцы из Рима с известием, что папа был преисполнен негодования позорной казнью архиепископа и арестом кардинала и решил принять самые строгие меры для наказания такого вторжения в права церкви. Скоро Джироламо получил приказание от его святейшества усиливать, на-сколько это возможно, свое войско и быть готовым к обороне Имолы, а самому немедленно явиться в Рим, чтобы получить распоряжения по неминуемому походу. Этим исключалась всякая возможность примирения, и попытка к нему навлекла бы гнев папы даже на любимца-племянника. К тому же графиня сообщала благоприятные известия из Милана, что там ни в коем случае не хотят допустить враждебных действий по отношению к папскому престолу. Следовательно, было полное основание надеяться на победу над одинокой Флорентийской республикой. Все колебания Джироламо исчезли бесследно, и ненависть к Флоренции и, в особенности, к Медичи возросла с полной силой. Он уже мечтал о покорении и присоединении к герцогству Романскому всей территории республики и обещал маркизу Маляспини управление Флоренцией, когда народное владычество будет свергнуто и «ядовитые пилюли Медичи», как он язвительно выражался, будут уничтожены окончательно. Маляспини, тоже уверенный в свержении Лоренцо, сейчас же пошел к жене и с насмешкой сказал Джованне: – Теперь пришло время, и можешь написать маленькому Козимо, чтобы он не изнывал в тревоге и не предавался безумной надежде породниться с Маляспини Фосдинуово. Скоро этот Лоренцо перестанет смотреть свысока на князей Италии, а с ним исчезнут и все мухи, пригретые сиянием его величия. Я тоже напишу Лоренцо, он узнает, как говорит аристократ с разбогатевшим банкиром, а мальчишка Козимо увидит разницу между дочерью Маляспини и каким-то Ручеллаи. – Ради Бога, отец, – молвила Джованна, – неужели ты не сжалишься над своей дочерью? Ты сам разрешил избрать мне мое счастье. Ты знаешь, что я люблю Козимо, и всегда буду любить его. – Не смей этого говорить! – с угрозой закричал Маляспини. – Политические соображения, неизбежные для такого рода, как наш, побудили меня, против моего желания и вопреки родовой гордости, дать согласие на этот брак, так как могущество Медичи казалось непоколебимым, и с ними надо было считаться, но теперь обстоятельства изменились, и блеск Медичи, распространившийся было на всю Италию, скоро померкнет. Я надеюсь, что и ты только по этой необходимости хотела снизойти до брака с Ручеллаи, но теперь ты свободна от оков, наложенных благоразумием, и я обещаю тебе мужа, более достойного тебя и твоего имени. – Никогда, отец, никогда я не отдам мою руку никому, кроме Козимо. Ему принадлежит мое сердце, ему я поклялась в верности… Никогда не напишу я ему того, что противоречит моему чувству, и было бы ложью перед ним и перед Богом. Она встала со слезами на глазах, но смело глядя на отца. – Ты должна и будешь повиноваться! – со злостью вскричал Маляспини. – Этот Козимо никогда не будет твоим мужем. Выбирай между твоим упрямством и проклятием отца. – Это не упрямство, отец, – возразила Джованна. – Приказывай мне что хочешь, и я буду повиноваться, но не требуй, чтобы я лгала тому, кого люблю и кого это смертельно огорчит. Спроси мою мать, пусть она решит, должна ли я слушаться такого приказания. – Он утешится, – насмешливо сказал Маляспини, – и даже скорее утешится в потере любви, чем в потере положения, до которого добрался благодаря покровительству Медичи. Твоя же мать слишком хорошо знает свой долг относительно нашего рода, чтобы поддерживать тебя в твоем безумии. – Выслушай меня, дитя мое, – заговорила маркиза. – Я понимаю, что ты страдаешь, но и отец прав. Неумолимая необходимость заставляет нас отказаться от брака, который может быть пагубным для нашего дома и нарушает наши обязанности перед церковью и Богом. Святой отец никогда не забудет и не простит, если Маляспини перейдут на сторону его врагов в минуту тяжелой борьбы… Довольно грустно уж и то, что твоя сестра, жена Содерини, должна быть на стороне Лоренцо. – Совершенно верно! – воскликнул Маляспини. – Как видишь, твоя мать так же думает и чувствует, как я. – Эта необходимость, дитя мое, – продолжала маркиза, – тяжела для тебя и, конечно, для Козимо Ручеллаи, но разве не хуже будет для него питать несбыточные надежды? Мужественный характер всегда перенесет неизбежный и неумолимый удар, поэтому, любя Козимо, ты должна внушить ему твердость перенести это горе. Это даст ему силу исполнить свои обязанности относительно Медичи, и тебе легче будет примириться с жизнью, которая со временем даст еще много радостей. – И я должна отвергнуть его любовь, как временную забаву, изменить ему, когда поклялась в верности на всю жизнь! – рыдала Джованна. – Нет, – более мягко сказал Маляспини, – ты должна только, как говорит твоя мать, дать ему силы перенести неизбежный удар и избавить его от мук постепенно разрушающейся надежды. Джованна, закрыв лицо руками, тихо плакала, потом подняла голову и сказала усталым голосом: – Хорошо, отец, я исполню вашу волю, если вы не будете принуждать меня писать ложь. Я буду молить Бога, чтобы Козимо забыл меня, но не хочу, чтобы он презирал меня. Мать обняла ее и подала перо и бумагу. Джованна спокойно взяла перо и сказала слегка дрогнувшим голосом: – Приказывай, отец, что я должна писать. Маляспини подошел и начал диктовать, следя за ее дрожавшей рукой: – Вы поймете, Козимо Ручеллаи, что после горестных событий последних дней наш брак не может состояться, так как мой отец никогда не покинет тех, которых вы обязаны считать своими врагами. Поэтому забудьте неосуществимую мечту и мужественно покоритесь, как и я, роковой неизбежности. Джованна писала медленно, останавливаясь на каждом слове. – Довольно, – сказал Маляспини, – больше ничего и не нужно. Она перечитала письмо и быстро приписала твердым почерком: «Прощайте и будьте уверены, что я всегда буду молить Бога за вас». – А это зачем? – с неудовольствием спросил Маляспини. – Он служит нашим врагам. – А все-таки я буду молиться за него, – твердо и решительно сказала Джованна. – Какое мне дело до распрей, которые разлучают сердца людей? Эту истину я хочу сказать ему, или он не получит моего письма совсем. Она взяла бумагу, как бы желая ее разорвать. – Отчего же? – заметила маркиза, подходя. – Ведь мы должны молиться и за врагов. – Хорошо! Подпиши! – сказал Джованне отец. Джованна подписала свое имя; он взял это письмо и хотел идти, но она удержала его. – Я исполнила вашу волю, отец, теперь у меня просьба к вам, в которой вы не можете мне отказать. Этим письмом я подписала приговор моему счастью, которое больше не существует для меня. Я хочу посвятить себя служению Богу. Он милосерднее людей и даст мне силы нести до конца мою горькую жизнь. Я требую, чтобы меня отпустили в монастырь кармелиток, и без промедления. Я только там найду покой и полное отречение. – Новое упрямство! – с досадой вскричал Маляспини. – Моя дочь в монастыре! Перед тобой открыто самое высокое положение в свете, а так как Бог не даровал мне сына, ты должна, по крайней мере, достойным образом продлить мой род. – Я не имею права требовать от вас исполнения моей просьбы, – твердо заявила Джованна, – но если вы мне откажете, то я обращусь к защите епископа и даже, если понадобится, к защите святого отца. Он не может запретить мне служить церкви, если моя душа к этому стремится. Глаза маркизы наполнились слезами. Маляспини стоял в мрачном раздумье: он понимал, что не сможет помешать выполнению решения дочери, если она обратится к содействию духовенства. Но вскоре лицо его приняло обычное выражение, и он ласково сказал Джованне: – Ты, может быть, права, дочь моя. Я понимаю, что ты вынесла тяжелое потрясение, и монастырская тишина благотворно подействует на тебя. Я отвезу тебя в монастырь кармелиток. До пострижения должен пройти год, и в такое смутное время ты будешь там в полной безопасности. Но я требую обещания, чтобы ты по окончании испытания не принимала бесповоротного решения, не поговорив еще раз со мной и с твоей матерью. – Обещаю, но решение мое не изменится. – Бог милостив, – сказала маркиза, обнимая дочь. – Он руководит людьми по своей воле и может послать тебе утешение. Джованна молча покачала головой и вышла, чтобы остаться одной. Маркиз написал письмо Лоренцо и тотчас же послал гонца во Флоренцию. На другой день он переговорил с епископом Имолы и вместе с женой повез дочь в монастырь. У ворот он простился с дочерью, а мать повела ее к настоятельнице, принадлежавшей к древнему итальянскому роду и получившей все сведения от епископа о девушке, порученной ее попечению. Джованне было приготовлено простое, но удобное помещение, а когда она попросила келью, как у других послушниц, то настоятельница сослалась на епископа, который сказал, что Джованна должна быть в монастыре, чтобы в тиши уединения зрело обдумать свое намерение. Потом она привела к ней молодую женщину в траурном платье, с красивым, но бледным и страдальческим лицом, наполовину закрытым черным платком. – Это ваша служанка, – сказала настоятельница Джованне. – У нее, так же как и у вас, было тяжелое испытание, и она решила прийти к нам. Ей тоже надо побыть год послушницей, и я назначила ее к вам. Может быть, вы вместе найдете утешение в вашем горе. Ее зовут Клодина, и она в вашем распоряжении. Клодина с искренним участием смотрела на молодую красивую девушку, тоже захотевшую удалиться от света, и молча почтительно поцеловала ей руку. Маркиза грустно простилась с дочерью. – Я пришла сюда служить и искать покоя в служении Богу, – сказала Джованна, протягивая руку Клодине. – Я не могу и не хочу быть вашей госпожой. Если вы страдали, как я, то поймете: здесь не существует различия, разделяющего людей в свете. Я только обращаюсь к вам за одной услугой. Попросите у настоятельницы для меня такое же траурное платье, как на вас. Здесь не место блеску и ярким цветам, они напоминают мне свет, а я пришла сюда, чтобы забыть его. Клодина молча поклонилась и вышла. Джованна опустилась на диван и заснула. Скоро вернулась Клодина с траурным платьем. Она взяла стул и села рядом со спавшей Джованной. – Как она хороша, – тихо проговорила Клодина. – Горе не пощадило ее среди блеска и величия. Она тоже ищет утешения в монастыре, хотя едва ли ее судьба так тяжела и ужасна, как моя. Отец и мать привезли еесюда, а я… Что мне осталось?.. Я все потеряла, все… что имела на земле… его, единственного, вечно любимого, и сестру, которую нашла после долгой разлуки. Она сложила руки и тихо заплакала, склонив голову на грудь.Глава 18
Рана Лоренцо быстро заживала, и опасения, что кинжал был отравлен, к счастью, не подтвердились. Не щадя себя, он напрягал все силы для организации противодействия опасностям, грозившим, несмотря на временную победу над заговором, ему и республике, а опасности эти были весьма значительны. Озлобление и ярость народа все продолжались. По ходатайству Лоренцо Жакопо Пацци скромно похоронили в фамильном склепе в церкви Санта-Кроче, но народ шумно требовал, чтобы преступник был зарыт в неосвященной земле, за городской стеной. Но и там не было покоя когда-то высоко стоявшему главе дома Пацци. Озверелая толпа вырыла его тело, таскала по улицам и бросила, наконец, в Арно. С трудом удалось удержать озлобленный народ от дальнейших кровавых расправ, а внутреннее единство было необходимо для противодействия угрозам внешних врагов. Из Рима пришло известие, что папа Сикст был страшно разгневан убийством пизанского архиепископа и арестом кардинала. Он уже объявил приказ посадить под арест флорентийского посланника Донато Аччауоли. И отказался от своего намерения только после решительного заявления посланников Милана и Венеции, что это будет признано нарушением международного права, и они потребуют, чтобы арестовали и их, если эта мера будет применена к Аччауоли. Тогда вместо этого всех служащих банка Медичи и всех проживающих в Риме флорентийских купцов заключили в крепость святого Ангела, а кассы опечатали. Граф Джироламо Риарио приехал в Рим и всеми силами старался возбудить гнев папы, но при этом продолжал лицемерную игру и послал верного гонца к Лоренцо, предлагая свое посредничество для примирения. Одновременно с этим в Имоле, куда вернулась графиня Риарио, продолжали набирать наемников, расширяли и усиливали укрепления. На союзников Флоренции, по-видимому, надежда была плохая. Посланники Милана и Венеции выразили, правда, высшему совету негодование по поводу преступных действий заговорщиков и принесли поздравления Лоренцо, спасшемуся от опасности, но они настоятельно советовали при этом выполнить законные требования папы и избегать всего, что могло бы вызвать непоправимый разрыв и повести к междоусобной войне. Синьория оказалась непримиримее Лоренцо, который видел своим проницательным умом все возраставшую опасность и не хотел резко отклонять предложения о соглашении, чтобы напрасно не раздражать противников. Был опубликован декрет с жестоким приговором над домом Пацци. Фамилия и герб должны были исчезнуть окончательно, и всякий произносивший это имя подвергался наказанию. Имения их были конфискованы. Каждый, кто породнился бы с членами этого дома, навсегда лишался права занимать общественные должности. Все участвовавшие в заговоре и спасшиеся бегством были изображены на портретах в натуральную величину, а портреты повешены вниз головой на башне дворца синьории; Лоренцо удалось спасти своего зятя Гульельмо, отправив его ночью в отдаленное имение. По распоряжению синьории знаменитым тогда Орсини Бенитенди были изготовлены восковые фигуры Лоренцо в натуральную величину и поставлены в церквах Санта-Аниунчиа, Мадонна-дельи-Анжели-де-Ассизи и в монастырской церкви Сан-Галло. На восковой фигуре, стоявшей в церкви Сан-Галло, был надет костюм, в котором был Лоренцо, когда получил рану кинжалом. Лоренцо проявлял неутомимую деятельность. Он сейчас же распорядился о доставке провианта во Флоренцию, чтобы в случае нужды выдержать осаду. У ворот была поставлена усиленная стража, все свободные воинские отряды были стянуты в город, и одновременно были посланы вербовщики в Ломбардию, чтобы набирать солдат за высокое вознаграждение; посланникам при всех дворах было поручено во что бы то ни стало искать союзников, а Милан и Венецию сохранить в качестве прежних союзников и стараться побудить их к деятельной помощи. В этих серьезных делах Козимо должен был принимать участие. Лоренцо делал все зависящее от него, чтобы не исключать возможности примирения и держать в своих руках ведущие к этому пути. Он написал графу Джироламо письмо, выражая сожаление по поводу казни Монтесекко, и сообщил о своей неудавшейся попытке спасти его жизнь. Кроме того, он изъявил неаполитанскому посланнику Марино Томачелли согласие принять предложенное королем Ферранте посредничество для примирения. Таким образом он выигрывал время для военных приготовлений, чтобы во всеоружии начать войну, если она все-таки окажется неизбежной. Тело Джулиано было поставлено в главном зале дворца Медичи. Все стены были затянуты черным сукном, масса свечей горела в высоких канделябрах, священники читали молитвы, а молодые люди лучших фамилий в траурных одеждах дежурили у усыпанного цветами гроба, в котором лежал усопший. Вечером накануне торжественного погребения Лоренцо вернулся домой после долгого совещания в синьории и прошел в зал поклониться телу брата. Потом он поручил Козимо, по обыкновению сопровождавшему его, привести приглашенных им Антонио Сан-Галло и Сандро Боттичелли. Он с грустным видом пожал руки обоим и подвел их к катафалку. – Я просил вас написать портрет моего брата, – обратился он к Боттичелли. – Он был еще жив тогда… теперь смерть безвременно отняла его у меня, но вы, благородный Сандро, знали его, и такой художник, как вы, сумеет оживить застывшие черты и придать мертвым глазам огонь и блеск жизни. – Конечно, это возможно, светлейший Лоренцо, – отвечал Боттичелли, подходя к гробу и с грустью глядя на бледное лицо Джулиано. – Так напишите мне картину, и я буду бесконечно вам благодарен. Еще просьба… Надо сохранить память об одной усопшей… Антонио сведет вас и к ее гробу. Вы не знали ее при жизни, но придайте ей всю прелесть, красящую ее. Обо всем вам расскажет Антонио, бывший ее другом. – Приложу все старания и надеюсь, мне это удастся, – отвечал Боттичелли. Лоренцо обнял художника и обратился к Антонио: – Все ли вы устроили для скромного, но приличного погребения несчастной женщины на кладбище Сан-Донино? – Все готово, – сказал Антонио. – Она там найдет покой после всех тревог ее рано окончившейся жизни. – Благодарю вас, это последняя дружеская услуга, которую вы оказали моему брату. Так приступайте к делу, дорогой учитель, и победите смерть своим искусством! Он еще раз преклонил колени перед гробом и молча удалился, а Сандро Боттичелли взял бумагу, чтобы сделать набросок. Придя в свой кабинет, Лоренцо положил руку на плечо Козимо и с грустной лаской посмотрел на него. – Я должен сообщить тебе печальное известие, мой бедный Козимо. Я не говорил этого раньше, чтобы не лишать тебя бодрости, в которой мы все нуждаемся в эти тяжелые дни. Страшный удар, обрушившийся на нас, у всех отнял дорогие надежды. Мои надежды похоронены вместе с Джулиано, а тебе придется забыть радостное прошлое, чтобы с ясным взглядом и с твердым мужеством помогать мне и исполнять свой долг перед родиной. Лукавый Маляспини, – продолжал он, а Козимо с замиранием сердца слушал его, – написал мне высокомерное письмо о том, что он теперь не может допустить брака своей дочери с моим племянником, так как я вызвал справедливое, по его словам, негодование его святейшества убийством архиепископа и арестом кардинала, а он слишком преданный слуга церкви и ее священного главы, чтобы породниться с домом, враждебным римскому двору. Я этого ожидал, конечно, после его постыдного бегства, но мне трудно сдержать негодование за его вероломство, заслуживающее только презрение. Негодяй называет убийством казнь архиепископа, к которой не я его присудил. Как тогда называть удары, под которыми пал Джулиано и я должен был погибнуть? Пусть он идет туда, где, как ему кажется, светит солнце, моя же звезда еще не закатилась, а возмездие не минует его. – Прости, дядя, – со спокойной сдержанностью сказал Козимо, – но я не хочу призывать возмездие на отца моей Джованны. Он очень виноват, но не все так сильны духом и возвышенны, как ты. Тучи собираются и опять расходятся. Я верю в справедливость, пусть у нас будет гроза, а потом твоя звезда опять ярко засияет. Я буду мужественно бороться и твердо верить в любовь и верность. – Верить в любовь и верность? – с горькой усмешкой повторил Лоренцо. – Твое доверие будет плохо вознаграждено, так как любви и верности нет в доме Маляспини. Вот читай… С письмом графа я получил и письмо Джованны для тебя. Он дал письмо племяннику. Козимо прочитал немногие строки и смертельно побледнел. Несколько секунд он стоял недвижимо, потом опять посмотрел на письмо и проговорил глухим голосом: – Это ее почерк, но, тем не менее… этого не может быть! – Не может быть, мой бедный Козимо, но ведь доказательство у тебя в руках. Отчего же дочь не может быть такой, как ее отец? Зачем ей хранить верность, когда ее этому не учили? Презирай ее и забудь, как я хочу забыть ее отца. Козимо стоял с поникшей головой, не находя возражений на слова дяди, как ни искал их в своем наболевшем сердце. Вошел лакей с докладом, что синьора Лукреция просит ее принять. Поклонившись ей, Козимо хотел уйти, все еще упорно глядя на письмо, но Лоренцо приказал ему остаться, а сам любезно подвел Лукрецию к креслу. Она как будто смутилась расстроенным видом Козимо, но потом заговорила со своей обычной веселостью и спокойствием, не обращая внимания на него: – Я получила известие из Рима для вашей светлости и не хотела ни минуты откладывать, чтобы сообщить вам, что пишет мне кардинал Родриго через мою сестру Розу. – Это меня крайне интересует, – живо отозвался Лоренцо. – Приятно иметь друзей в такое время, когда часто приходится обманываться в доверии. – Могу заверить вашу светлость, что сообщение и совет, которые я хочу вам передать, исходят из дружеского расположения. Прежде всего я должна вам сказать, что ваши враги в Риме сильны и продолжают разжигать гнев его святейшества. Во главе их граф Джироламо, а кардинал советует не верить его коварным словам и не принимать его посредничества. – Я много видел лжи за последнее время и могу поручиться, что не поверил ни одному слову Джироламо. – Папа сильно озлоблен и если согласился, по представлению многих кардиналов, не принимать насильственных мер против вашего посланника и выпустил на свободу флорентийских купцов и служащих банка – то это только для того, чтобы выиграть время и вернее направить на вас светское и духовное оружие. Поэтому кардинал советует избегать всякого повода к обвинению вас и дать возможность вашим друзьям в священной коллегии противодействовать ухищрениям непримиримых противников. – Что же мне делать? – с оттенком неудовольствия спросил Лоренцо. – Архиепископ казнен без моего ведома, я пощадил бы его, а священники, сами взявшие в руки оружие, пали жертвами законной злобы народа. И папе пришлось бы произнести над ними смертный приговор. Что свершилось, того уже не изменишь. – Но кардинал Рафаэлло все еще под арестом, хотя виновность его не доказана, а папа видит в этом вторжение в его права и сопротивление церкви, и в этом отношении священная коллегия не может признать его неправым. Уже назначена комиссия из пяти кардиналов для суда над республикой по поводу ареста кардинала, то есть в сущности над вами, благородный Лоренцо, так как ваши враги хотят отделить вас от республики и на вас одного взвалить вину за все случившееся. Мой дядя советует выпустить кардинала Рафаэлло и отправить его обратно в Рим, тогда ваши друзья и коллеги будут иметь право стоять за вас и устранить или ослабить дальнейшие враждебные действия. – Смогут ли они это сделать, если римский двор заручится сильными союзниками? А союзники у них будут: я знаю, как неаполитанский король Ферранте легко поддается искусной политике римского двора и как его сын, герцог Калабрии, жаждет военной славы. Не является ли тут кардинал Рафаэлло, племянник папы, залогом, который мне не следует выпускать из рук? – Вы сами лучше знаете, что надо делать, светлейший Лоренцо, – сказала Лукреция. – Я передала вам только, несомненно, искренний совет кардинала Родриго. Он советует еще заручиться поддержкой епископов Флорентийской республики, в которых вы найдете прочное содействие, если папу все-таки убедят пустить в ход духовное оружие. – Благодарю вас, благородная Лукреция, за ваши сообщения. Передайте, пожалуйста, мою благодарность кардиналу Родриго за его поддержку в это трудное время, чего я никогда не забуду. Сообщите ему, что кардинала Рафаэлло Риарио задержали, чтобы спасти его жизнь от злобы народа и чтобы ясно всем доказать его невиновность. Он лучше всех может засвидетельствовать мои миролюбивые стремления и преданность и почтение, которые я неизменно питаю к верховному главе церкви. Я переговорю с советом о возвращении папе кардинала Рафаэлло, если в Риме захотят, как и здесь, забыть все происшедшее. Я очень прошу дальнейшего содействия кардинала Родриго, насколько он считает его справедливым. Может быть, – продолжал Лоренцо с особенным ударением, – настанет время, когда я смогу на деле доказать ему мою дружбу и благодарность и помочь ему восстановить величие дома Борджиа, подорванное теперь графом Джироламо и его приверженцами. Я очень счастлива, что вы удостаиваете меня вашим доверием, и сейчас же сообщу ваш ответ в Рим… А мой друг и защитник благородный Козимо больше вас потрясен событиями последнего времени. Впрочем, понятно, что его больше волнует тревога о родине, чем обнажение меча для защиты незнакомой женщины от разбойников. А это он сделал так охотно и мужественно… Лоренцо посмотрел, на Козимо, который точно очнулся ото сна, когда упомянули его имя. У Лоренцо, очевидно, мелькнула мысль, и он сказал Лукреции: – Моего Козимо удручают не заботы о предстоящих опасностях. Он перенес тяжелое разочарование, какие выпадают на долю каждого человека, и его юное сердце не может с этим примириться. Ему нужно утешение и гордость, умеющая презирать и забывать. Вы назвали себя его подругой, и я думаю, что чуткая женская дружба лучше сумеет ободрить и поддержать его, чем мои разумные предостережения. – Конечно, я не забыла обета дружбы, – воскликнула Лукреция. – Я счастлива буду доказать это и сохранить вам верного и храброго помощника в борьбе с врагами. – Слышишь, Козимо? – сказал Лоренцо. – Проводи синьору в ее комнату. Ей можешь довериться, и тебе отрадно будет видеть сочувствие твоему горю. Козимо не ответил. Лукреция взяла его под руку, и они пошли длинными коридорами до ее комнаты. Козимо хотел удалиться с поклоном, но она взяла его за руку и повела за собой. Богатая и роскошная комната, в которую они вошли, представляла одновременно верх изящества и уюта. В хрустальной люстре, спускавшейся с потолка, горело немало свечей, как и в канделябрах, а бледно-розовые экраны еще больше смягчали свет; аромат цветов смешивался с тонким запахом восточных духов, которые дамы того времени любили и умели применять. Комната носила отпечаток женской руки и проявляла какую-то своеобразную прелесть жилища красивой женщины. В открытое окно сквозь густую листву деревьев проникал лунный свет. Очаровательное лицо Лукреции озарялось каким-то волшебным обаянием, а в ее больших глазах отражался мягкий свет свечей. Когда они вошли, с низенького стула поднялась маленькая фигурка Пикколо. Карлик радостно подбежал навстречу своей госпоже, но при виде Козимо нахмурился и отступил, заворчав. – Уходи, Пикколо, – сказала она, – уходи в свою комнату. Я пошлю за тобой, когда ты будешь нужен. Карлик злобно взглянул на Козимо. – Я так долго ждал вас, так соскучился по вас в чужом доме, среди чужих людей, и должен уходить… всегда уходить, точно я дурной слуга и вы не имеете больше доверия к преданному Пикколо. – Ты глуп, – сказала она нетерпеливо. Но потом погладила его по голове и прибавила с ласковой улыбкой: – Я знаю, ты предан мне, и я не обращаюсь с тобой, как с другими слугами. Иди и жди, пока я не позову тебя. Пикколо ушел, хлопнув дверью. – Вы обидели его из-за меня и все-таки не можете уменьшить мое горе. – Почему же нет? – спросила она, опустившись на диван. – Разве вы не считаете нашу дружбу настоящей? Садитесь сюда и расскажите, прежде всего, о ваших страданиях, чтобы я, как умелый врач, смогла найти средство для исцеления. Она протянула ему руку и усадила в кресло рядом с диваном. Он сел с глубоким вздохом, и из руки его выпало измятое письмо. Лукреция быстро нагнулась, подняла его и спросила: – Этим оружием ранено ваше сердце? Да, слово, написанное или сказанное, может быть ядовитее отравленного кинжала. Он испугался и сделал движение, точно желая взять письмо, но потом сказал, вздохнув: – Вы знаете, благородная Лукреция, какого счастья я ждал в будущем. Вы были со мной, когда это счастье так внезапно разрушилось. Вы можете понять, что я чувствую теперь, когда ему нет возврата… Прочтите письмо, и вы увидите, что для меня не может быть утешения. Лукреция пробежала письмо, ее глаза блеснули, и она бросила его с презрительной улыбкой, говоря: – Я понимаю, мой бедный друг, что такая подлость и лицемерие глубоко поразили вас, но я не верю, что вы не найдете целительного бальзама для этой раны в вашем сердце. Конечно, тяжело терять, что нам было дорого, но легче забыть утрату, когда приходится признать, что это сокровище было не драгоценным камнем, а простым стеклом. Козимо покраснел, с упреком посмотрел на нее и грустно проговорил: – Вы думаете, что письмо выражает подлость и лицемерие? Разве можно назвать подлостью и трусостью слабость женщины? Даже мужчина не всегда может устоять против угроз и клеветы. – Да, – воскликнула она, – я называю это подлым лицемерием и низкой трусостью. И я права, конечно! Я тоже женщина и могу поэтому судить о чувствах и долге женщины. Само бегство Джованны в минуту беды было уже трусостью, но тогда хоть можно было объяснить давлением внешних обстоятельств. Теперь же писать подобное письмо, спокойно и холодно обдуманное, – это еще худшая подлость и худшее вероломство… Нет, это даже не вероломство, так как она никогда не любила вас и никогда не была вам верна. В своем письме она выразила вам свою суть, которую до сих пор скрывала под лживой личиной. Вы должны быть счастливы, что узнали правду, еще не связав себя неразрывными узами. Козимо с грустью посмотрел на нее. – Я не нахожу слов, чтобы вам противоречить и защищать ту, которая так больно поразила меня, но я все-таки не решаюсь верить такому лицемерию. Тяжело презирать то, в чем я видел идеал. Ее обманули, принудили… О, если бы я мог увидеть ее, поговорить с ней! – Она так же обманула бы вас, как обманывала до сих пор. Но – с насмешкой продолжала Лукреция, – она оградила себя от этого. Может быть, она все-таки боится смотреть вам в глаза и показаться в настоящем свете, поэтому она сбежала и издали пустила ядовитую стрелу, зная при этом, как она больно поразит вас. Вы не можете искать ей оправдания или извинения и должны заставить себя разлюбить ту, которая никогда не была достойна вашей любви. Скажите мне, какая сила в мире может заставить любящее сердце разорвать союз в минуту грозной опасности? Я такая же женщина, как она, но клянусь, если бы я любила вас, никто не разлучил бы меня с вами и никакие пытки не заставили бы написать это холодное письмо. Козимо не находил возражений, и его оскорбленное чувство было готово согласиться с ней. Лукреция нагнулась и положила ему руки на плечи. Он чувствовал ее горячий взгляд, и она продолжала тихо, почти шепотом: – Опасность теснее сблизила бы меня с моим возлюбленным, и я проложила бы себе дорогу к нему, хотя бы с кинжалом в руке. Быть около него во время борьбы составляло бы для меня высшее счастье и гордость, пожалуй, больше даже, чем нежная любовь среди безоблачного счастья. В моих объятиях он черпал бы все новые силы и мужество для борьбы с врагами. Чем больше он проявлял бы геройства, тем сильнее билось бы мое сердце за него, и моя любовь, нежная и спокойная в счастливое время, превратилась бы в пылающий огонь страсти, чтобы воодушевить его на новые подвиги. Она все больше склонялась к нему, касаясь его своими волосами и дыханием, и он почувствовал легкое прикосновение ее губ ко лбу. Козимо, подчиняясь какой-то волшебной силе, опустился на колени и поцеловал ей руку. – Чего не дала вам любовь, то даст вам дружба, не знающая ни страха, ни лицемерия, – сказала она голосом, прямо проникавшим в его душу. – Это не самомнение, когда я говорю, что смогу вам вернуть не только мужество, но и веру в преданность и искренность людей. Я глубоко сочувствую вашему горю, но ваша избранница недостойна этих страданий, она никогда не понимала, как драгоценна ваша любовь, и никогда не любила вас. Забудьте ее и думайте о подруге, которая будет гордиться, видя вас на этом поприще. Она обвила руками его шею и поцеловала в лоб. Козимо горячо обнял ее, потом поднялся с загоревшимися глазами. – Да, я хочу забыться… занять место, указанное мне долгом и честью. Пусть прошлое бесследно исчезнет из моего сердца, которое вы вырвали из бесцельных мечтаний. Лукреция тоже встала. Он держал ее руку и смотрел в глаза. – Вы призвали меня к новой жизни, вы стоите передо мной, как богиня славы и победы, вы не можете покинуть меня, вы должны остаться подругой мужчины, обращенного вами в зрелого человека из бесхарактерного мальчишки, как богиня Олимпа, сошедшая на землю, чтобы вселять в героев мужество и силу богов. – Я поклялась вам в дружбе, когда вы спасли мне жизнь и свободу, и сохранила эту дружбу, когда вы считали ее неспособной утешить вас в вашем разочаровании. Конечно, я сохраню ее теперь для того, чтобы воодушевить вас на совершение подвигов! Она положила руки ему на плечи и с гордостью смотрела на него. При этом в глазах ее светилось столько мягкости и обаяния, что он в восторженном порыве привлек ее к себе. Лукреция склонила голову ему на грудь, но потом быстро отошла и сказала, улыбаясь: – Музыка лучше выразит, кем я хочу быть для вас. Она села и взяла лютню, но не запела любовные стансы Петрарки, а только играла. Звуки лились то, как приветственный гимн герою с радостными звуками фанфар, то мягко и любовно, как весенняя песня соловья, то, как нежное воркование голубя, и глаза ее то горели огнем, то мягко светились блеском утренней зари. Он с благоговением слушал музыку, точно она представляла будущее его вновь начинающейся жизни. Когда Лукреция закончила игру, Козимо почтительно преклонил колено, поцеловал ей руку и быстро вышел, не находя слов для выражения своих чувств. Она посмотрела ему вслед своими большими лучистыми глазами и тихо проговорила: – Он мой! Я пробудила его сердце к жизни, и эта жизнь будет принадлежать мне. Я сделаю из него героя, а этого может достигнуть только моя любовь. Струны опять зазвучали, как волшебная песнь любви и надежды. Лукреция услышала шаги и, быстро оглянувшись, увидела перед собой карлика. – Ты тут, Пикколо? – спросила она с неудовольствием. – Я еще не звала тебя. – Я думал, что могу прийти и без зова, так как услышал, что ушел этот проклятый Козимо, – злобно ответил карлик. – Я даже рад, что мне нельзя быть у вас при нем. По крайней мере, мне не приходится его видеть. – Я запрещаю тебе, Пикколо, – строго прикрикнула Лукреция, – так говорить о благородном синьоре, который мне верный друг, а с тобой всегда милостив. Ты слишком избалован моей снисходительностью, но если будешь продолжать в этом духе, я отошлю тебя к другим слугам, где твое настоящее место. – Нет, мое место не с ними, – вскричал Пикколо, – мое место рядом с вами, моя повелительница! Вам одной я хочу служить и отдать за вас жизнь, которой дорожу только тогда, когда могу быть возле вас. Я должен быть благодарен ему за то, что он спас вас и меня от разбойников. Но почему вы считаете это каким-то геройским подвигом? Он большой и сильный по незаслуженной милости природы и владеет длинной шпагой. Чем же виновен бедный Пикколо, что природа, создающая так много прекрасного, была для него мачехой и бросила в мир для насмешек и поругания от людей, которые превосходят его только силой и ростом? А в церкви учат, что только душа приближает нас к Богу, а тело надо презирать. Право, моя душа не хуже всякой другой и, конечно, искреннее в преданности к вам. Если бы я был велик и силен, как этот Козимо, я тоже освободил бы вас из рук разбойников. Теперь, конечно, вы смеетесь, и вам не удается скрыть улыбку, а все-таки душа в моем маленьком, жалком теле такая же, как и у других людей. Если бы я был красив, вы любили бы меня, как я люблю вас, и не отдали бы свое сердце тому, кто все-таки не будет вам предан так, как я. – Пикколо! – вскричала Лукреция, покраснев от гнева. – Ты дурак и наглец, тебя следовало бы выдрать за такие слова! – Что же, это в вашей власти, – с горьким смехом отвечал он. – Ведь я маленький и слабый, а все-таки лучше того, кто недостоин вашей любви. Лукреция угрожающе посмотрела на возбужденное лицо карлика, резкое, оскорбительное слово уже готово было сорваться с ее языка, но в глазах ее мелькнуло сострадание, она подозвала Пикколо и мягко сказала ему: – Ты отлично знаешь, что я не презираю тебя за твой маленький рост и верю в твою преданность, но несправедливо с твоей стороны ненавидеть тех, кого природа щедро одарила. Козимо Ручеллаи не сделал тебе ничего дурного, никогда не смеялся над тобой, зачем же ты ненавидишь его и так дурно говоришь о нем? Карлик мрачно посмотрел в пол, затем поднял глаза и сказал с искренним страданием: – Я ненавижу его за то, что вы любите его! Она улыбнулась, а лицо карлика стало еще мрачнее. – А разве ты хотел бы лишить меня того, что дано беднейшей крестьянке, равно как и дочерям князей и королей? – спросила она весело, желая придать разговору шутливый оборот. – И отчего я не должна любить именно его? Не он, так другой… Моя сестра уже давно хочет найти мне подходящего мужа. – Пусть находит вам князя, – вскричал Пикколо, – он даст вам блеск и почет, ваше гордое сердце будет радоваться, а я буду служить вам, как и теперь. А этого вы любите, я вижу по вашим глазам, по вашему румянцу, когда говорят о нем или вы слышите его шаги. Не вы будете его госпожой, а он вашим повелителем, и это разрывает мне сердце! Никто не смеет свысока смотреть на вас, когда я смотрю на вас, как на святыню… Тем более он… раньше любивший другую, как мне говорили здесь слуги. Вы не сможете быть всем для него. Он и после вас будет любить другую, а вас забудет, как забыл и ту. Бедный Пикколо тогда умрет вместе с вами, так как не сможет оружием отомстить за вас. Лукреция побледнела и склонила голову на руки. – Другую любить после меня, а меня забыть, как ту… – тихо проговорила она. – А забыл ли он ее? Она тяжело вздохнула, потом тряхнула головой и сказала с гордо блеснувшим взглядом: – Он должен ее забыть! Разве она может любить его так, как я? Она найдет себе другого и пойдет с ним по мирному течению жизни… Подойди, Пикколо, – громко и ласково обратилась она к карлику, протягивая ему руку, – ты знаешь, что я не смеюсь над тобой и уважаю в тебе душу, данную Богом, и ценю твое верное, преданное сердце. – Знаю, знаю, благородная моя госпожа! – воскликнул Пикколо, падая на колени. – За это ты должен быть мне благодарен. И если думаешь, что я люблю Козимо, никогда не смеявшегося над тобой, то будь уверен, что и он уважает в тебе человека. Если я люблю его, то он будет моим господином, а также и твоим, мой милый Пикколо, ты должен слушаться его, как меня, и быть преданным ему на всю жизнь. Обещай мне это, и я клянусь тебе, что ты будешь нашим другом. Карлик взглянул на нее, его лицо подергивалось от мучительной внутренней борьбы, но, укрощенный ее ласковым взором, он поцеловал ей руку и сказал со слезою в голосе: – Обещаю, госпожа моя! Разве бедный, маленький Пикколо может ослушаться? Я буду ему повиноваться, буду верно служить ему и молить Бога, чтобы он не обманул вашу любовь. Она с отвращением вздрогнула, почувствовав его горячий поцелуй, но отняла руку медленно, ласково провела по его кудрявым волосам и откинулась на подушки, с мечтательной улыбкой проводя по струнам лютни. Пикколо быстро поднялся и убежал, скрывая от нее свое лицо, залитое слезами.Глава 19
Несмотря на приготовления к войне, Лоренцо всячески старался отыскать средства к мирному соглашению, вполне сознавая тяжкое бремя войны для республики при каких бы то ни было обстоятельствах и понимая, что народ, восторженно приветствующий его теперь, может отвернуться от него под влиянием надвигающихся бедствий. Он любезно ответил графу Джироламо на его предложение о посредничестве и выпустил кардинала Рафаэлло, который по возвращении в Рим сам ходатайствовал о соглашении. Члены священной коллегии, находившиеся под влиянием Борджиа и Эстутевиля, тоже действовали в том же направлении, но враги Флорентийской республики, а в числе их и неаполитанский король, несмотря на свое показное миролюбие, все сильнее возбуждали гнев папы. Он же, все более озлобляясь противодействием некоторых кардиналов, требовал полного подчинения себе Лоренцо, на что тот, конечно, не мог и не хотел согласиться, не утрачивая своего влияния и положения в родном городе. Поэтому 1 июня 1478 года в самой резкой форме было объявлено об отлучении от церкви Лоренцо с перечислением всех его провинностей, в которых римская курия считала себя вправе упрекать Флорентийскую республику и ее руководителя. Это отлучение распространялось на гонфалоньера, членов верховного совета, на все семейство Медичи и на всех состоявших с ними в дружеских или родственных отношениях и не желавших их немедленно порвать. Синьории папа направил миролюбивое послание, объявляя, что согласен сохранить к республике свое благоволение, если она немедленно выдаст Лоренцо Медичи. В противном случае все флорентийцы будут признаны государственными преступниками и святотатцами и тоже отлучены от церкви. Это было объявлением войны. С этой минуты неаполитанский король открыто перешел на сторону папы и послал своего сына, герцога Калабрийского, с большим войском в Рим, в распоряжение папы. Герцога Урбино и герцога Калабрийского назначили главнокомандующими папскими войсками, которые немедленно выступили, чтобы из Сиены начать военные действия. У Флоренции тоже были союзники. От Милана можно было не ожидать враждебного отношения. Герцог Эрколе Эсте сам прибыл во главе значительной армии; Джованни Бентивольо прибыл со вспомогательными болонскими войсками. Джованни Эмо передал обещание Венеции неуклонно держаться союза, и французский король Людовик XI хотя и на словах, но резко выступил против папы. Флоренция была хорошо укреплена, снабжена провиантом и походила на военный лагерь; соединенное войско, усиленное навербованными в Ломбардии солдатами, находилось под командой герцога Эрколе Эсте, графа Николо Орсини Петилиджано и Рудольфо Гонзага-Мантуа. Венецианское войско привел Галеото Пико Мирандола. Ежедневно проводились учения, а Лоренцо с царским гостеприимством принимал иностранных князей и военных начальников. Находящейся в опасности республике пришла неожиданная и немаловажная помощь. Одновременно с отлучением Лоренцо от церкви папа объявил строгий выговор всему духовенству республики за недостаточное сопротивление превышению светской власти. Флорентийское духовенство сочло себя оскорбленным как в священническом сане, так и в своем патриотическом чувстве. Под предводительством почти всех епископов собрался синод в церкви Санта-Мариа-дель-Фьоре и послал папе бумагу, написанную Джентиле Векки, в которой в самой резкой форме опровергал все его обвинения. Папу Сикста, понятно, еще больше озлобила такая непокорность духовенства его воле, и он послал собственноручное письмо находившемуся в пути герцогу Урбино с приказанием ускорить военные действия и во что бы то ни стало жестоко наказать непокорную республику. Выступление флорентийских войск в Урбино и Сиену, откуда ожидалось нападение, было тоже ускорено, и в солнечное июльское утро войска, расквартированные в самой Флоренции, выстроились перед дворцом синьории, где собрался верховный совет, чтобы торжественно проводить союзные армии. Лоренцо Медичи ввел герцога Эрколе Эсте и других начальников, равно как и посланников других государств, в зал. Члены синьории поднялись, гонфалоньер пошел навстречу союзникам и в кратких, сильных выражениях высказал им благодарность за их верную дружбу и помощь. Старший из присутствующих епископов прочитал молитву, прося у Всевышнего защиты для правого дела и вразумления Божьего для папы, дабы он узрел клевету, наговоренную ему врагами отечества и церкви. После этого торжественного напутствия князья и начальники хотели выйти, но Лоренцо удержал их и сказал взволнованным голосом, выйдя на середину зала: – Благородный гонфалоньер и вы, синьоры члены верховного совета, я хочу сказать вам несколько слов в присутствии высоких представителей наших союзников. Начинающаяся война, как бы она ни закончилась, прольет много крови и потребует много жертв. По заявлению папы, эта война начинается из-за меня и можно избежать всех жертв, предстоящих нашему отечеству, если вы выдадите меня римскому двору, который видит врага только во мне, а вам готов протянуть руку примирения. Ответственность ложится на меня как гражданина ради спасения родины. Я отдаю себя в полное ваше распоряжение и никого из вас не упрекну, если вы по требованию папы выдадите меня врагам, которые после этого не будут вашими врагами. Если вы примете это решение, я с радостной покорностью приму мою участь и с гордостью отдам жизнь, всегда принадлежавшую отечеству, за мир и благо родины, для которой отдал кровь свою и мой брат Джулиано. Гонфалоньер горячо прервал его: – Нам следовало бы обидеться на ваши слова, светлейший Лоренцо, а последовать им было бы низостью и изменой отечеству. Никогда не случится то, что вы предлагаете нам в своем благородном самоотречении. Ваши враги также и наши враги, за вас стоит вся родина, ваша честь также и наша. И если бы мы предали вас, наши лицемерные враги только еще легче попрали бы наши права и нашу независимость. Вот мой ответ, и всех присутствующих здесь, и всего народа. И я моей служебной властью запрещаю вам говорить такие слова, какие вы нам сейчас сказали. Он обнял Лоренцо, вынул шпагу и воскликнул, подняв ее: – Да здравствует первый гражданин отечества и республики, светлейший Лоренцо Медичи! Да будет он и весь дом его неразрывно связан со всеми союзниками республики! Все члены синьории вынули шпаги, горячо повторили пожелания гонфалоньера, и иностранные представители присоединились к их приветственным крикам. Народ, со-бравшийся на площади, подхватил их, и все члены синьории по очереди подходили к Лоренцо и повторяли клятву верности. Глаза Лоренцо наполнились слезами, но он гордо выпрямился и обратился к иностранцам: – Вы видите, благородные синьоры, что добровольная жертва моя отвергнута. Я горжусь этим, так как сознаю мою связь с отечеством и ему посвящаю все мои силы и способности. Следовательно, я сохраняю положение, данное мне народом, и буду трудиться до последней капли крови и до последнего дыхания. Герцог Эрколе и Бентивольо обняли Лоренцо, остальные почтительно пожали ему руку, а епископы поклонились и осенили его крестным знамением. Потом все спустились с лестницы, чтобы встать во главе своих войск, а Лоренцо и гонфалоньер вышли на балкон синьории. Пока все это происходило в синьории, Козимо простился со своими родными и поспешил к Лукреции. Она была в роскошном светлом платье, украшенном драгоценностями, и показалась ему еще прекраснее, чем когда-либо. Он поцеловал ее руку и грустно посмотрел в глаза, а она сказала ему с улыбкой: – Не смотрите так печально, дорогой друг, вы точно слабый мальчик, расстающийся с любимой игрушкой. Такой игрушкой я не могу и не хочу быть для вас: вы не должны оставаться робким Козимино, как вас зовут в семье, а должны стремиться подражать вашему предку, светлейшему Козимо, и с честью выйти из первого рыцарского испытания мужества и силы. В такую минуту нельзя отдаваться горести разлуки. Да и разлука ли это? Конечно, нет! Вы уезжаете, правда, но мы не разлучены… Ведь я ваша подруга по духу, еще больше, чем по сердцу… А сильный, смелый дух, данный нам Богом, должен побеждать слабое земное сердце. Я не чувствую горя разлуки, дорогой мой друг, и моя душа будет следовать за вами по пути чести и славы. Возьмите этот шарф, – продолжала она, взяв голубой шелковый шарф с золотой бахромой и расправляя его на блестящей стальной кольчуге Козимо, – это мои цвета: он будет напоминать, что я с вами и молю Бога даровать вам победу. Он поцеловал ей руку и спросил с легким вздохом: – А если вам привезут этот шарф, обагренный моей кровью, как последнее прости? – Тогда, – воскликнула она, и глаза ее еще ярче заблестели, – тогда его украсят лавры, а моя гордость за вас будет сильнее, чем скорбь кратковременной земной разлуки, тогда эта память будет святыней моей жизни, которая все-таки будет принадлежать вам, пока мы не соединимся вновь. – Вы правы! – вскричал он, гордо выпрямляясь. – Прочь, ребяческая слабость! Вы сделали из меня мужчину, и он должен быть достоин вас. Она обняла его и горячо поцеловала. – Идите… идите… Я слышу трубы… После этого прощания слова не нужны. Он еще раз обнял ее и быстро вышел. В передней стоял карлик и протянул ему руку с серьезным выражением, облагораживающим его сморщенное лицо. – Желаю удачи, благородный синьор, – сказал он со слезами в голосе. – Я буду говорить о вас с моей госпожой, и молить Бога о победе. Козимо крепко пожал руку карлика, сел на лошадь и направился к синьории. Он подъехал туда, когда начальники войск спускались с лестницы. Герцог Эрколе в блестящей боевой амуниции, с развевающимся белым султаном над золотым шлемом ехал впереди войска, а рядом с ним Козимо. Фанфары загремели, и войско двинулось, а народ восторженно кричал «Палле! Падле!» стоявшим на балконе Лоренцо и гонфалоньеру. Когда войско скрылось, Лоренцо вернулся во дворец Медичи, сопровождаемый народом. В толпе шел монах-доминиканец с лицом, почти закрытым капюшоном. Он вошел во дворец и немедленно был принят в кабинете Лоренцо. Лоренцо узнал бледное лицо Савонаролы, который слегка кивнул головой. – Высокочтимый настоятель с остальной братией ушел от наступающей войны в более спокойное место и приказал мне явиться сюда, в ваше распоряжение. – Я очень благодарен почтенному настоятелю, что он исполнил мою просьбу и показал себя другом в это тяжелое время, – отвечал Лоренцо. – От всего сердца приветствую вас, почтенный брат. Вы видели, что наши войска выступили, а борьба, в которую они включились, направляет на нас не только меч, но и худшее оружие – развращающий дух лжи и обмана. Его тоже надо победить духом истины и свободы, вы должны для этого быть моим союзником, и ваше слово так же будет содействовать победе, как и оружие наших войск. Идите и проповедуйте народу, как вы уже часто делали, учение истинной, свободной от светской жадности и властолюбия единой христианской церкви, которая создает свое царство в духе истины и ведет народ к любви и смирению. Он протянул руку, но Савонарола как бы не заметил этого и ответил холодно и спокойно: – Можете на меня рассчитывать, Лоренцо Медичи, ваши враги также и мои, так как они враги Бога и истинной церкви, и мое слово будет раздаваться везде для убеждения народа в том, что римское властолюбие и гордость – злейшие враги свободы и истинной христианской веры. Но это не значит, что я ваш друг, Лоренцо Медичи, ибо и вы подавляете свободу народа, которому лицемерно льстите, и вы боретесь против могущества и тщеславия папы только потому, что он хочет ограничить ваше могущество и покорить ваше честолюбие. Народ, нуждающийся в истинной церкви, ничего не выигрывает от вашей борьбы, кроме того, что злейшие враги его уничтожат друг друга и подготовят почву для великой войны за свободу церкви. – Отдохните в моем доме, почтенный брат, – почти просительно сказал Лоренцо, – мы найдем время поговорить… – Мне не нужно отдыха, – возразил Савонарола, – а время слишком дорого, чтобы терять его в пустых словах. Наши разговоры ни к чему не приведут, так как вы со мной не согласитесь, а я вам не поверю. Дайте мне собственноручно написанный приказ, чтобы ваши войска не задерживали меня, и больше мне ничего не нужно – пока у нас один и тот же общий враг. Лоренцо написал бумагу и приложил свою печать. – С этим вас пропустят везде и окажут поддержку, где нужно. Если Господь дарует нам победу, вернитесь сюда – мы будем все-таки друзьями. Савонарола покачал головой, спрятал бумагу, холодно поклонился и ушел. Лоренцо долго задумчиво смотрел ему вслед. – Война начинается, и исход ее известен одному Богу, – проговорил он. – Я все сделал, чтобы одержать победу: наше войско не слабее противника, а духовное оружие, которое я направляю в лице этого монаха против надменного главы церкви, называющего себя представителем Христа и желающего обратить святой крест в скипетр светского владычества, будет не менее действенно в начатой борьбе. А когда победа останется за нами, – продолжал он, склоняя голову, – тогда наступит расчет с союзниками, и он будет, пожалуй, очень тяжелым. Но как поведет тогда себя разнузданный народ в своем грубом произволе? Не начнет ли разрушать все возвышенное и обращать в прах все святое? Он долго стоял, погруженный в думы, потом воскликнул с сияющим взором: – Будущее не в моих руках, но я твердо верю, что церковь будет очищена от всех земных стремлений и побуждений – как Спаситель изгнал всех торговцев из храма, – чтобы быть достойной хранительницей крови и заповедей Христа. А родина, наша дорогая Италия, освободится от тирании римского владычества, которое берется за меч вместо креста и в своем честолюбии заходит дальше древних цезарей. Стремиться к этой свободе – долг каждого человека. Когда эта цель будет достигнута – известно только высшей власти, руководящей судьбами народов. Он склонилсяперед изображением Христа, висевшим на стене, и молча молился, а издали слышались звуки труб удалявшихся войск.Ф. Ван Вик Мейсон Серебряный леопард
Книга первая САН-СЕВЕРИНО
Посвящается Элизабет и Эдварду Э. Иагги-младшему – несравненным в их стойкости во всех напастях и превратностях судьбы
Глава 1 ТРИНАДЦАТОЕ АПРЕЛЯ 1096 ГОДА
Никто не знает, сколько времени сэр Эдмунд де Монтгомери, бывший граф Аренделский, пролежал на сером прибрежном песке, отплевываясь от морской воды. В его ушах звучал грохот волн, беспрерывно обрушивавшихся на берег. Его обнаженное тело бил озноб. Новый приступ тошноты с такой силой вывернул этого могучего человека, что он не в состоянии был даже приоткрыть глаза, чтобы увидеть, в какое чистилище он попал из сущего ада… Монахи, обитавшие в бенедиктинском монастыре близ замка Арендел, нередко в подробностях описывали различные круги ада. Они не жалели красок, рассказывая о пытках вечным огнем или невероятным холодом. Однако даже они не в состоянии были вообразить пытку, которой подвергла сэра Эдмунда разбушевавшаяся стихия в неведомом даже аду водяном круге. Но какая участь постигла его сестру-близнеца? Розамунда, несомненно, должна была утонуть, как и все, кто оставался на галере. Сознание медленно возвращалось к сэру Эдмунду. Он вспомнил, как пытался спасти сестру. Удерживаясь на поверхности с помощью пустого бочонка из-под вина, он вцепился в ее длинные золотистые волосы, не давая ей уйти под воду. Генуэзская галера, на которой они бежали из Англии, развалилась очень быстро, напоровшись на рифы. Ни сам Эдмунд, ни его сестра не умели плавать, но этот маленький бочонок по крайней мере ему спас жизнь. До сих пор ему чудились отчаянные вопли рабов, прикованных к своим скамьям и с ужасом созерцавших свое погружение в пучину. Перед глазами англо-норманнского великана всплывала смутная картина: прекрасное тело его сестры Розамунды затягивает водоворот. Но даже страх смерти не обезобразил ее прелестный облик. Ее красоту воспевали по всей южной Англии, молва о ней распространилась дальше, на север, долетела до Лондона. Именно это восхищение и неуемные восхваления и навлекли на близнецов все несчастья. Именно это было причиной испытаний, выпавших на их долю. Когда сэр Эдмунд наконец извергнул из себя остатки морской воды, силы начали возвращаться к нему. Он оторвал голову от земли, усеянной обломками камней, и первое, что попало ему на глаза, был винный бочонок, спасший ему жизнь. Под ударами волн он то откатывался далеко на песок, то вновь несся по гальке к воде. Наконец бочонок отшвырнуло вверх на пляж, и он, перевернувшись, встал на попа. Только тогда сэр Эдмунд и заметил тело Розамунды, лежавшее у самой границы прилива. Ее белые стройные ноги касались бурлящей воды, а золотистые волосы разметались по песку, словно водоросли. Собрав все силы, граф наконец сел и сразу почувствовал себя постыдно слабым. Этим он, без сомнения, был обязан тому, что ничего не мог проглотить с тех самых пор, как буря обрушилась на злосчастную «Сан-Джорджо» спустя неделю после того, как они миновали знаменитые Геркулесовы столбы. Шторм налетел с запада, как раз когда они проходили мимо скалистого острова, который генуэзский капитан не захотел или не смог распознать. Тяжело дыша, молодой человек тупо смотрел на безжизненное тело сестры, бледной, неподвижной, но все же стройной и прекрасной. Словно мокрый пес, Эдмунд стряхнул на песок воду со своих спутанных, доходящих до плеч медно-рыжих волос. Он с вялым безразличием поглядывал на сестру, но вдруг заметил, что ее длинные пальцы дрогнули и сжались. Потом она подтянула к себе далеко отброшенную в сторону руку. У Розамунды сочилась кровь из двух ран – слабее на плече и гораздо сильнее на голове. Песок возле головы быстро краснел. Все еще слабый, сэр Эдмунд некоторое время был не в силах двигаться, но, когда извилистый ручеек крови начал огибать плечи и спину сестры, он попытался крикнуть. И обнаружил, что горло у него так воспалилось и распухло, что он не может издать даже слабого возгласа. Получился лишь слабый хрип, неслышный в реве ветра и прибоя. Леди Розамунда с трудом приподнялась на локте. Кровавый ручеек из раны на голове изменил направление: кривые струйки побежали по щекам. Молодая женщина внезапно, словно испуганная кошка, выгнула спину. Ее тошнило. Кое-как встав на четвереньки, Эдмунд пополз к ней. Когда приступ рвоты кончился, Розамунда, видимо, заметила приближающегося брата. Она инстинктивно попыталась вытереть лицо, а затем подтянуть рубашку в безрезультатной попытке прикрыть обнаженную грудь. Эти усилия, однако, оказались для нее чрезмерными, и она свалилась на песок. Тем временем Эдмунд, превозмогая боль, боком, словно краб, продолжал продвигаться к ней. Бывший граф поправил рубашку Розамунды, обнял сестру и положил ее голову к себе на грудь. Так они пролежали довольно долго, обдуваемые морским ветром и осыпаемые песком. При наступающем рассвете Эдмунд напряженно вглядывался в даль. Он хотел как можно скорее узнать, на какой берег их выбросило. Ведь «Сан-Джорджо» налетела на риф в кромешной тьме, так близко и одновременно так далеко от дружественных огней, обещавших помощь поврежденной штормом галере и ее измученным гребцам. Вскоре Эдмунду удалось понять, что их с сестрой выбросило на небольшую песчаную косу, отрезанную морем от высокой и скалистой прибрежной полосы. Затем он увидел бездыханные тела нескольких гребцов. Как раньше винный бочонок, волны, переворачивая, таскали их туда-сюда. От «Сан-Джорджо» остался лишь бесформенный кусок деревянного каркаса, зацепившийся за риф. Гигантские волны продолжали свое разрушительное дело, разбрасывая последствия кораблекрушения – оказавшиеся в воде грузы. Слабым голосом Эдмунд пробормотал «Аве Мария» в благодарность за свершившееся чудо: вероятно, только они с Розамундой и спаслись с «Сан-Джорджо»… Наклонившись, граф удостоверился, что рана на плече сестры менее серьезна, чем ему казалось. Почувствовав прикосновение, девушка застонала, а брат похлопал ее по щеке и прохрипел на норманно-французском языке слова ободрения. Вскоре к нему стали возвращаться силы и он смог, приподняв девушку, усадить ее и набросить ей на плечи окровавленную рубашку. При звуках его голоса темные ресницы Розамунды вздрогнули, и она изумленно взглянула вверх на склонившееся над ней смуглое лицо. Большие зеленовато-голубые глаза, цветом напоминавшие зеленый турмалин, широко раскрылись: девушка услышала негромкий смех. – Почему ты смеешься? – с усилием пробормотала она. – Ах, если бы благороднейший король Руфус впервые увидел тебя такой, как сейчас, он ни за что не приказал бы своим констеблям схватить тебя. И нам не пришлось бы бежать из Англии… Тень улыбки чуть тронула полные губы девушки. Посиневшие от холода и побелевшие от пережитого страха, они тем не менее оставались притягательными. День мало-помалу светлел, и уже можно было увидеть полчища рваных, серо-черных туч, грозно надвигавшихся с моря. Пока не было ни малейшего признака, что буря начинает утихать. Рыжеволосая девушка обратила к брату лицо. – Где мы? – слабым голосом спросила она. – Один святой Христофор знает, – ответил Эдмунд. – Бог послал волны, которые не выбросили нас на берег какого-нибудь королевства неверных. – Он немного подумал. – Вспомни-ка: перед столкновением наш капитан упоминал место, называемое Сардинией, потом назвал Сицилию или что-то вроде. – Нахмурившись, Эдмунд отбросил со лба свалявшиеся волосы. – Насколько я понимаю, это может быть даже берег той земли, откуда вышли древние римляне. В любом случае… Он внезапно замолк. Уголком глаза Эдмунд заметил, как ему показалось, какое-то движение в траве. Ее заросли покрывали до самой вершины склон небольшого, круто возвышавшегося над ними холма. У графа перехватило дыхание, когда он разглядел очертания наконечника копья и смутный силуэт косматой головы в тесно прилегающей кожаной шапке. В тот момент, когда голова скрылась, Эдмунд, напрягая все силы, поднялся и оттащил свою сестру в ненадежное, но все же укрытие среди скользких обломков скал. Вскоре над вершиной холма можно было уже четко различить головы семи или восьми человек. Еще через несколько минут смуглые туземцы, с пронзительными криками перепрыгивая с камня на камень, спустились вниз по козьей тропе и рассыпались по пляжу… Они бесстрашно бросались в приливные волны и вытаскивали на берег трупы. Туземцы были одеты в некое подобие плащей из грубо обработанных шкур. Своими длинными кинжалами они отрезали у трупов пальцы, украшенные кольцами. Потом начали раздевать погибших. Другие их соплеменники, появившись вслед за первой группой, принялись собирать бочонки, ящики, обрывки такелажа и прочие обломки погибшей галеры. Стиснув зубы, чтобы сдержать нервную дрожь, молодой норманн пытался угадать национальность незнакомцев в грубых плащах из козьих шкур. Все они были похожи один на другого с их копнами густых нечесаных волос, тощие и малорослые, и резко отличались от крепышей из норманнских вассалов или здоровенных саксонских мужиков, которыми граф правил в Суссексе. Из их речей Эдмунд ничего не мог понять. Эти косматые существа должны были в конце концов заметить его следы. И что тогда? Единственным оружием, которым Эдмунд мог бы воспользоваться, был обломок мачты, лежавший почти у его ног. Конечно, этот обломок, обмотанный веревкой, с лоскутом разорванного паруса был мало пригоден в качестве средства защиты, однако Эдмунд схватил его, но тотчас ощутил невероятную и особенно неуместную в данных обстоятельствах слабость. – Это мавры? – прошептала Розамунда, разглядывая незнакомцев сквозь слипшиеся, запорошенные песком пряди волос. Выглядела она ужасно; избороздившие лицо струйки крови усиливали впечатление. Эдмунд жестом велел ей молчать и пригнулся еще ниже: появилась новая причина для опасений. На фоне мрачного свинцового неба возник темный силуэт лошадиной головы. Граф разглядел и всадника. К изумлению Эдмунда, на голове у всадника был конический стальной шлем с пластиной, защищавшей нос. Поверх рубашки из грубой шерсти трепетала на ветру выцветшая темно-голубая мантия. Господи помилуй! Да ведь это один из норманнских воинов, завоевавших во всем обитаемом мире грозную славу. Разгоряченный всадник вертел головой во все стороны, отдавая жестами какие-то приказания своему косматому воинству. Затем направил коня вниз по козьей тропе и спустился на пляж. Бушующее море прибивало к берегу все новые обломки крушения. Человек в шлеме, по-видимому, велел своей команде отложить в сторону оружие и быстрее собирать в кучи извлеченное из воды добро. В каждом жесте всадника сквозили высокомерие и презрение к подчиненным, что было хорошо знакомо англо-норманну Эдмунду. Из своего укрытия он мог наблюдать за происходящим. Эдмунд отметил, что ростом всадник по крайней мере на голову выше всех туземцев, в руке у всадника была плеть – длинный жесткий ремень на деревянной рукоятке. Этой плетью он подгонял коня и ею же хлестал замешкавшихся косматых туземцев. Последние только ежились, приседая, но не делали никаких попыток защитить себя. Поскольку всадник от шеи до колен был облачен в рубаху с нашитыми на нее стальными пластинами и носил на голове конический шлем, Эдмунд и решил, что это – норманн. Но какого ранга? При слабом свете Эдмунд разглядел блеск стали, но не золота на правом каблуке всадника. Из этого следовало, что незнакомец был всего-навсего приставом, но не рыцарем, хоть и держался не по чину высокомерно. Как только всадник, повернув коня, поскакал по воде, поднимая тучи брызг, Эдмунд вздохнул с облегчением и прилег возле своей дрожащей сестры… Всадник продвигался вперед, а ветер рвал полы мантии, защищавшей его от холода. Склонившись над лукой седла, он пристально всматривался в песок и наконец обнаружил следы, которые оставил Эдмунд, перетаскивая сестру подальше от воды. Сделав такое открытие, незнакомец выкрикнул команду, и с полдюжины темнолицых копьеносцев немедленно собрались вокруг него. Под водительством всадника они немедленно начали обшаривать нагромождения каменных обломков, веками падавших на песок со скал. Сжимая обломок рангоута, бывший граф лихорадочно соображал, как в критический момент нанести сестре удар по голове, спасая тем самым честь высокой и стройной дочери сэра Роджера де Монтгомери. После этого он принял бы такую смерть, молва о которой разнеслась бы далеко. Однако Эдмунд не успел привести свой замысел в исполнение. Пронзительно кричавшие копьеносцы быстро сомкнули кольцо вокруг их убежища. Полуобнаженный гигант с широко расставленными, полными ярости глазами уже занес над ними свою дубинку. Ах, если бы в руках у него был сейчас его «Головоруб», он изрубил бы в куски этих жалких вояк! Копьеносец нацелил на Эдмунда свое оружие, но потерпевший крушение взмахнул обломком рангоута и, отбив угрожавший ему наконечник копья, сильно ударил парня по плечу. Тот дико завопил и отпрянул в сторону. Его правая рука безжизненно повисла. – Святой Михаил! – Кровь бросилась Эдмунду в голову, и он с трудом выкрикнул победный клич: – Святой Михаил за Монтгомери! Не дожидаясь, пока нападавшие оправятся от изумления, он нанес еще одному туземцу сильный удар по голове. Бедняга, свалившись на песок, остался лежать, подергиваясь, словно оглушенный бычок. Эдмунду удалось увернуться от дротика, просвистевшего у него над головой. Спустя мгновение он поразил и метнувшего дротик. Тогда, изрыгая проклятия, вперед устремился норманно-француз. Он поднял руку в латной рукавице и крикнул: – Берегись, ты, говорящий по-норманнски! Кто ты такой? Однако, к глубокому огорчению Эдмунда, недавняя короткая схватка с туземцами настолько его обессилила, что он не смог немедленно ответить всаднику. – Ты рыцарь? – продолжал темнолицый всадник, склоняясь со своего окованного медью седла и пристально вглядываясь в Эдмунда. Граф не успел ответить, как на него сзади набросились три туземца и опрокинули его на песок. Даже при этом англо-норманн мог бы высвободиться, если бы кто-то не нанес ему сильный удар по голове, от чего ноги его ослабели и он беспомощно вытянулся на земле. – Сдаешься? – проревел чернобородый всадник. Эдмунд только слабо кивнул. В голове у него словно молоты били по наковальне. Кровь теплыми ручейками бежала по спине и орошала песок… – Свяжите их, – приказал человек в стальном шлеме. – И если дорожите вашими пустыми головами, не упустите рыжую ведьму. У меня слабость к длинноногим девкам. Эдмунда связали, обмотали ему вокруг шеи веревку, другой конец которой прикрепили к кольцу на седле пристава. С жалким видом граф побрел за конем. Его сестра плелась следом за ним, спотыкаясь, готовая каждую минуту упасть. На вершине холма их поджидала целая дюжина косматых крепостных, или мужиков, как назвала бы их саксонка, мать графа. Аборигены держали в поводу нескольких лошадей и мулов. К тощей шее каждого животного был прикреплен факел; некоторые из них еще дымились. Это, как вдруг понял Эдмунд, и были те движущиеся огоньки, которые напоминали огни стоящих на якоре кораблей. Именно эти мерцающие точки обманули капитана «Сан-Джорджо», и он направил гонимую бурей галеру на рифы.Глава 2 ЗАМОК АГРОПОЛИ
Оставив послушных аборигенов собирать обломки, которые море продолжало выносить на берег, толстый пристав – он откликался на имя Ниссен – быстро двинулся вперед. Полуголые, истекающие кровью пленники едва поспевали за его конем. Они продвигались перебежками, порой их просто подтаскивали веревками, которыми пленники были привязаны к седлу. Эдмунд, немного взбодрившись под струями внезапно налетевшего дождя, шел, то и дело спотыкаясь босыми ногами об острые камни. Несчастная Розамунда! Она заслуживала того, чтобы передвигаться с большими удобствами. Эдмунд почувствовал, что уже достаточно хорошо владеет собственным голосом, и громко заявил твердолобому захватчику, что в его жилах, как и в жилах его сестры, течет благородная кровь и что он не только рыцарь, но и граф. Эдмунд де Монтгомери намеревался и дальше протестовать против унизительного обращения с ним и с его сестрой, но всадник приказал одному из копьеносцев подтолкнуть разговорившегося молодого человека острием копья в голые ягодицы. – Заткнись, лживая собака! – прикрикнул пристав на Эдмунда. – Вы оба больше похожи на рабов с затонувшей галеры. По манере говорить Ниссен напоминал искателя приключений, не слишком давно покинувшего Нормандию. Растянувшаяся колонна некоторое время двигалась по песчаной дороге, параллельной морскому берегу. Трава с острыми краями хлестала пленников по ногам, а порывы ветра швыряли песок им в глаза. Вскоре Розамунда начала сильно прихрамывать. Отяжелевшая от воды туника снова сползла, оголив по пояс ее гибкое, прекрасное тело. Однако несмотря на все страдания, медноволосая девушка продолжала высоко держать свою гордую голову. Улучив момент, Эдмунд вполголоса спросил ее: – Сколько ты еще можешь идти? – Немного, – с усилием ответила она. – Но в чьих владениях мы все-таки находимся? – И, не дожидаясь ответа, девушка вздохнула и ускорила шаг, чтобы хоть немного ослабить веревку, которая была привязана к ее рукам. – Может, в Сицилии. Или где-то в Ломбардии, – сказал граф. – По крайней мере, думаю, мы не попали в руки неверных, хоть эти туземцы совсем темнокожие. – Что еще ждет нас? – тихо пробормотала Розамунда. – Один Бог знает. Мы в Его руках, – так же тихо ответил граф. – Впрочем, мы в Его воле с той минуты, когда обреченная галера налетела на скалы… Прибрежная дорога, петлявшая среди высоких скал, вывела наконец на пустынное плато, совершенно голое, без единого дерева и вообще без всякой сколько-нибудь заметной растительности. Дальше дорога вела мимо обуглившихся остатков того, что когда-то было величественным храмом или дворцом… Только три из шести красивых беломраморных колонн все еще стояли перед его обвалившимся фасадом. Остальные давно упали и лежали в руинах, покрытые лишайниками, поросшие сорной травой. О том, что почва здесь некогда была плодородной, свидетельствовало множество разрушенных жилищ. Они виднелись повсюду – группами и поодиночке. Однако с течением времени чрезмерное и неправильное возделывание и бессмысленное уничтожение лесов лишили эти места плодородия. И сейчас здесь остались только голые скалы, выходы пластов глины и заполненные гравием канавы. Нигде на этих пустынных берегах не было видно скота. Не зеленели посевы, не трудились на полях сельские жители. Наконец приморская дорога сделала крутой поворот. Из груди Эдмунда вырвался вздох облегчения: они оказались на утесе, вздымавшемся прямо из морской пучины и увенчанном то ли маленьким замком, то ли большой сторожевой башней. Серо-коричневое сооружение состояло из высокой сторожевой вышки, окруженной стеной, за пределами которой находилась менее высокая квадратная башня. Эдмунд не заметил, чтобы эти сооружения особенно отличались от сторожевых башен, которые люди Вильгельма Завоевателя воздвигали для охраны берегов Кента, Эссекса, Суссекса, Дорсета и Гэмпшира от набегов датчан, сарацинов и других морских разбойников. Почти такая же крепость располагалась милях в шести от замка Арендел, охраняя устье реки Арен. Пленник вспомнил ее грубые очертания, видневшиеся при лунном свете, когда они с Розамундой и горсткой преданных соратников бежали вниз по реке, чтобы взойти затем на борт «Сан-Джорджо». А на дороге, параллельной Арену, раздавался цокот лошадиных копыт. Одетые в кольчуги преследователи были посланы королем Вильгельмом Вторым для захвата бывшего графа Аренделского, наследника сэра Роджера де Монтгомери. В памяти Эдмунда всплывало бурное развитие событий, которые довелось пережить ему с сестрой с того времени, как дородный констебль Руфуса Рыжего прибыл в замок Арендел с распоряжениями короля. Леди Розамунда возможно быстрее должна прибыть ко двору. А новому графу Аренделскому предписано поднять своих вассалов и присоединиться к походу для подавления бунта саксонцев в Сомерсетшире. Намерения короля в отношении Розамунды были очевидны: слишком многих прекрасных леди раньше уже вызывали в Лондон. Там рано или поздно они становились королевскими наложницами. Ходили слухи, что король Руфус был совершенно неотесан и начисто лишен физической привлекательности. Поэтому нередко приходилось прибегать к силе, чтобы уложить этих несчастных дев в королевскую постель. У Эдмунда не оставалось иного выбора, и он бросил вызов королю Вильгельму. И вот в кровавой схватке, которая произошла через несколько недель, молодой граф со своими немногими смелыми соратниками поднял оружие против сына Завоевателя. Отряду, направленному этим взбешенным норманном, было нанесено поражение. Стычка закончилась победой графа. Но что дальше? Ведь замок Арендел не мог надеяться устоять против мощной экспедиции, которая незамедлительно будет направлена королевским поручением. Рыжеволосому графу и его сестре не оставалось иного пути, кроме немедленного бегства. Они были вынуждены незамедлительно покинуть величественную крепость, выстроенную их отцом… Каменистая дорога, взбиравшаяся к воротам замка, вела дальше к маленькой гавани, увешанной по берегу гирляндами коричневых рыболовецких сетей. Возле гавани приютилась жалкая деревушка с соломенными крышами. Сквозь завесу дождя все же можно было рассмотреть согбенного старика, пытавшегося пахать с помощью маленького ослика, но немыслимо грубая деревянная соха лишь царапала землю. Колонна пристава Ниссена прошла через деревню, но ни одно любопытное лицо не выглянуло из окон без стекол. Лишь множество голодных на вид, злобно скалившихся собак выбежало на дорогу… Ниссен оглянулся через плечо и насупился, заметив, что его пленники ступают с гордо поднятыми головами, несмотря на связанные за спиной руки. – Погодите, сэр Вольмар согнет ваши упрямые шеи, – со злостью бросил он и, придержав лошадь, поравнялся с пленниками и плюнул в мужественное лицо Эдмунда. – А вот за это я когда-нибудь тебя убью, – пообещал англо-норманн, и произнес он эту угрозу спокойным, холодным, монотонным голосом. Пристав в ответ расхохотался, а затем пришпорил коня, вынудив пленников бежать за ним, изо всех сил хватаясь за веревки. Очень скоро Розамунда споткнулась и упала. Сообразив, что некрупная лошадка пристава не в силах тащить по земле их обоих, Эдмунд немедленно растянулся рядом с сестрой. Последовавшей за этим заминки в движении каравана было достаточно, чтобы пленники успели встать на ноги. Боже, как страшно выглядели запястья Розамунды, натертые веревками! А ведь руки девушки были закалены годами верховой езды и соколиной охоты. – Мои силы иссякли, – шептала брату Розамунда с отчаянием в зеленовато-голубых глазах. Превозмогая боль в голове, граф подбадривал ее: – Осталось совсем немного. Потерпи. Неприглядная крепость, к которой направлялся караван, торчала на утесе, с трех сторон окруженном бурлящей водой. Попасть туда можно было лишь по узкой дороге, проходившей по гребню утеса. К счастью, пристав был достаточно грузен, и потому его неухоженный тощий конь взбирался со своей ношей вверх очень медленно, дыша тяжело и низко опустив голову. Эдмунд заставил себя внимательно присмотреться к окружающей местности. Крепость выглядела строением грубым, неинтересным, лишенным величественных очертаний или каких-либо украшений. Главное ее здание – высокая квадратная башня – стояло без крыши. Стены были без каменных упоров и без облицовки, а единственным входом в башню служили большие ворота, пробитые во внешней стене. Сам портал был сложен из массивных дубовых бревен, скрепленных веревками и железными скобами. Над головой Эдмунда низко пролетела небольшая крачка. Занесенная на сушу шквальным морским ветром, она жалобно кричала, словно от боли. Плененному графу тревожный крик птицы показался дурным предзнаменованием. В крепости наблюдали за движением колонны. И стоило ей приблизиться к воротам, как тотчас же послышался глухой звук отодвигаемых засовов. Два рослых воина, одетых в ржавые кольчуги и конические шлемы без орнамента, широко распахнули ворота. К немалому удивлению пленников, эти вояки, с трудом удерживая под ударами ветра створки ворот открытыми, ругались на самом настоящем нормано-французском языке. Промерзших до костей пленников провели внутрь под низкой аркой. Грубо сложенная стена в этом месте была не менее пяти футов толщиной. И тут же Ниссен вытолкнул пленников в центр грязного, заваленного навозом и всяким мусором двора. Дышать стало трудно: во двор из печной трубы, проходившей по стене башни, клубами валил удушливый дым. Половину дальней территории двора занимали мрачные серо-коричневые казармы. Рядом с ними под красным черепичным навесом были сложены дрова и корм для скота. Здесь же понуро стояли три тощие коровы, топтались гуси, утки и куры. Вход в сторожевую башню охраняла свора поджарых цепных собак, от лая которых звенело в ушах. Ниссен тяжело сполз с лошади и, вытирая пот с лица, приказал своим подчиненным привести пленников под навес. Пленные англо-норманны наконец перевели дух и принялись, несмотря на боль в руках, рассматривать окружающее. Граф Аренделский заметил, что большая часть камней крепостной стены, должно быть, уже использовалась ранее. Так, крышу навеса, под который их затащили, поддерживали две красивые, разные по высоте мраморные колонны. Это несоответствие в размере было устранено при сооружении фундамента. У основания высокой башни тоже лежала плита прекрасно отполированного белоснежного мрамора с высеченной надписью на латинском языке. Затем Эдмунд увидел другую плиту с частью этой же надписи, вставленную в арку ворот. Присмотревшись повнимательнее, местами можно было различить и римские капители. Здесь были даже целые секции колонн розового или зеленого мрамора. И все это использовалось для укрепления уродливых и мрачных строений замка Агрополи! Желая ободрить сестру, молодой рыцарь изобразил подобие улыбки. – Нельзя расставаться с надеждой, – сказал граф Розамунде. – Этот сэр Вольмар определенно должен быть норманном. И если он действительно носит рыцарские шпоры, то по законам рыцарства должен оберегать нас и выпустить на свободу, – добавил он. – Я ведь не был побежден в сражении и не потерпел поражения в суде чести. Молодая женщина только кивнула в ответ. Закусив губы, она сдерживала стоны, ее раны невыносимо болели, хотя и перестали кровоточить. Горькая усмешка исказила ее лицо, когда она представила себе свой нынешний вид. Она ничем не напоминала ту, что совсем недавно украшала замок Арендел. При своем овдовевшем отце девушка была полной хозяйкой замка. С необычайным изяществом и скромностью главенствовала она в своем владении и славилась необыкновенной красотой. Не лучше ли было бы не цепляться за бочонок, который сохранил ей жизнь? Она утонула бы скоро и безболезненно. Ни она, ни Эдмунд не умели плавать. Немногие норманны были способны на это. По существу, единственными хорошими пловцами на берегах Суссекса и Кента были саксонцы вроде молодого Герта Ордуэя. Его отец Пенда властвовал над Аренделом до того, как Вильгельм Завоеватель выиграл битву под Сенлаком и приговорил его к казни. Смог бы вассал ее брата Герт пережить такое кораблекрушение? Вероятно, нет. Даже если бы саксонцу удалось преодолеть прибой, он разбился бы об острые скалы у этого дикого берега… Эдмунд оторвал сестру от невеселых мыслей и вернул к действительности. Он глазами указал ей на стог соломы. Стороживший их низкорослый копьеносец, казалось, не стал бы мешать пленникам укрыться там от холодного ветра, который, врываясь во двор, выплескивал грязные лужи и норовил сорвать крыши. Розамунда заплакала. Но беззвучно, как пристало дочери несгибаемого старого сэра Роджера де Монтгомери. Когда же она в последний раз принимала горячую пищу? По крайней мере три дня назад… В ожидании решения своей участи в замке Агрополи измученная Розамунда постепенно погружалась в полузабытье. Задремал и Эдмунд, обессиленный охватившей его яростью от понимания постыдной ситуации, в которой они оказались. Он начинал подозревать, что владелец этой мрачной крепости мог оказаться обыкновенным пиратом. Тогда их будущее представлялось весьма зловещим. Ведь в качестве выкупа граф теперь не смог бы предложить ни одного слитка золота. Бейлифы короля Руфуса Рыжего завладели замком Арендел, а небольшая часть фамильных сокровищ, которые Эдмунду удалось унести, пошла ко дну вместе с «Сан-Джорджо»… Гул голосов во дворе усилился, и Эдмунд решил, что прибыл отряд, организовавший кораблекрушение, а с отрядом – пара телег, тяжело груженных выловленными обломками. Повозки тащили быки. Огромные деревянные колеса невыносимо скрипели на несмазанных дегтем осях. Словно стонали души мучеников… Из узкой двери в основании высокой башни появилась дородная фигура, закутанная в темно-голубую шелковую мантию, отороченную потертым мехом. Это несомненно и был сэр Вольмар, владелец Агрополи. Между тем дождь прекратился. Бледно-желтое солнце разбросало яркие блики по усеянному грязными лужами двору. Мускулистые, угрюмые воины высыпали из казарм. Опираясь на пики, они с интересом наблюдали, как толпа скотоподобных крепостных разгружала телеги. Широко расставив ноги и покручивая висячие светлые усы, владелец замка указывал подданным, как разложить привезенный груз для осмотра. Приоткрыв глаза, сэр Эдмунд заметил, что разгружалось мало стоящих вещей. Он не увидел своего обтянутого кожей сундучка с набором серебряных чашек, браслетами, кольцами, заколками для волос и золотыми цепочками. Все это старый сэр Роджер отобрал у каких-то несчастных саксонских дворян еще в 1068 году… Итак, добыча сэра Вольмара оказалась ничтожной. Пристав Ниссен съежился перед хмурым взором своего владыки. Этот полный, но мускулистый мужчина с русыми волосами, ниспадавшими на плечи из-под кожаной шапки, даже несколько раз ткнул Ниссена кулаком. И тогда тот указал на навес. Владелец замка увидел пленников, скорчившихся на соломе. Он выкрикнул несколько приказаний, потом выхватил из-за пояса короткую плеть и принялся в бессильной ярости полосовать каждого, кто попадался ему под руку. Выразив таким способом негодование по поводу скудности добычи, хозяин крепости, повернувшись на каблуках тупоносых сапог, исчез в недрах донжона. Вскоре четверо норманнских воинов в грубых кольчугах, натянутых поверх кожаных рубашек, несмотря на протесты сэра Эдмунда, потащили пленников к сторожевой башне. Возмущенный до глубины души Эдмунд вступил с норманнскими воинами в неравную борьбу: он все еще был очень слаб. Через несколько мгновений голова его поникла, и он упал на подогнувшиеся колени. Сэр Эдмунд так и не понял, что силы оставили его совсем не из-за долгого голодания. Просто граф еще не избавился от изнурительной морской болезни. Сторожевая башня оказалась весьма мрачным помещением. Даже бойницы для лучников едва пропускали свет и воздух на ее второй этаж. В душном помещении стоял смешанный запах пота, чеснока, дубленой кожи и грязной одежды. Вокруг небольшого очага сидели на корточках десять или двенадцать неопрятных воинов, которые ели из общего котла руками. С железных костылей, вбитых в стены, свисали щиты, дротики, топоры и другое оружие. В дальнем углу комнаты были грудой навалены связанные в пучки дротики и стрелы. – Это самый плохой ваш улов, – проорал, обращаясь к Ниссену, упитанный красноносый парень. – Неужели ничего лучшего не нашлось на такой прекрасной галере? Жалкая шлюха вряд ли придется по вкусу нашему господину. – Ну и хорошо, – ухмыльнулся другой. – Ставлю два к одному, что через час мы ее заполучим. И разыграем в кости. Готовься, Хьюберт. Охваченный слепым приступом ярости, сэр Эдмунд бросился на говорившего и тут же получил сильный удар под ложечку. – Мерзкие чужеземные свиньи! – заорал Ниссен. – Марш наверх! Быстро! – Подталкивая наконечником копья своих пленников, он погнал их вверх по крутым деревянным ступеням лестницы, больше напоминавшей приставную. Третий этаж башни представлял собой помещение размером двадцать на двадцать пять футов. Оно тоже освещалось лишь пылающим очагом. Однако стены здесь были увешаны совершенно другими предметами. Среди них были куски некогда прекрасных ковров, накидки, дамские платья и другая одежда, в основном подпорченная пребыванием в морской воде. На богато инкрустированных походных креслах восседали сэр Вольмар и его леди – если можно было так назвать остроносую и угловатую женщину, лишенную всякой привлекательности. Она откинулась на спинку кресла, грозно выпятив вперед круглый раздутый живот, распиравший грязное зелено-желтое парчовое платье. Мышиного цвета волосы этой женщины, заплетенные в две косы, с тяжелыми серебряными кольцами на концах, извивались по плечам, словно выцветшие змеи. Увидев пленников, Вольмар из Агрополи резко наклонился вперед и приказал: – На колени, наглый пес! И тут пленный граф не сдержался. Голосом, ставшим снова глубоким и сильным, он произнес: – Я ни перед кем не стоял на коленях, кроме моего законного владыки и Бога на небесах! А ты – грубая деревенщина, хоть и напялил блестящие рыцарские шпоры. Если бы передо мной был благородный человек, я бы потребовал подобающего отношения к попавшему в беду собрату-рыцарю и к его сестре, леди Розамунде де Монтгомери. Желто-зеленые злые глаза сеньора Агрополи сузились. – И кто же твой законный властелин? – резко спросил он. – Король Англии, – гордо ответил пленник. – Я – граф его королевства. Или был им… – Не ври, – оборвал его хозяин башни. – Ты бесстыдный урод! Мошенник и плут – вот что написано у тебя на лбу! Сэр Эдмунд рванулся вперед, но воины со свирепой готовностью кинулись на него и отбросили назад. Однако оскорбленного Эдмунда ничто уже не могло удержать. – Как ты смеешь называть де Монтгомери лжецом? Ты, грязный коварный грабитель невинных путешественников? – Молчи, собака! – прорычал сэр Вольмар. – Еще одно слово – и я прикажу отрезать твой непотребный язык и скормить его псам! Но рыжеволосый гигант не собирался сдаваться. – Будь ты проклят, рыцарь-отступник! – бросил он в лицо сэру Вольмару. – Ни один норманнский дворянин не подверг бы сомнению слово другого дворянина. И уж конечно не допустил бы непристойности по отношению к леди благородного происхождения. На этот раз слова Эдмунда произвели на владельца Агрополи некоторое впечатление. Он молча размышлял. – Вы достойно себя ведете, – наконец спокойно сказал он. – Если я вас освобожу, что вы сможете предложить мне в виде выкупа? С высоко поднятой головой Эдмунд изучал грубые черты южного норманна. – Ничего, – наконец ответил граф. – Мы с сестрой были вынуждены бежать из Англии. И то немногое, что мы успели захватить с собой, лежит теперь благодаря вам на дне моря. – О-го-го! – удивился Вольмар. – Вынуждены были бежать? Несомненно, вы преступник. Убили своего отца? Изнасиловали монахиню или обокрали церковь? – со злорадным любопытством допрашивал он. Огромным усилием воли Эдмунду удалось сдержаться и не бросить в ответ слова, которые могли бы привести к катастрофе. Необходимость объяснять свое нынешнее жалкое состояние этому рыцарю-разбойнику уязвляла его гордость. Однако делать было нечего. – Король нашей страны схватил бы мою сестру и превратил ее в наложницу, – смирив гордыню, начал он свой рассказ. – Когда он послал своего констебля с приказом привезти Розамунду к нему, я поднял моих вассалов. Мы отогнали людей короля Вильгельма, перебив многих из них. Тогда король объявил меня восставшим. Против Арендела он направил целое войско, и у меня не оставалось никакой надежды на успешную оборону. Высокий пленник гордо выпрямился. – У меня не было иного выхода, – сказал он, пожав плечами, – как нанять судно и бежать. В любое место, за исключением Нормандии – или, как теперь стало ясно, этого берега. – Сэр Эдмунд замолчал. Он колебался. Ему не хотелось, чтобы ему оказывали снисхождение. Ведь это означало быть в долгу. Но ему нужно узнать судьбу своего эсквайра. Как господин саксонца, он обязан был выяснить это. И Эдмунд решился. – Сэр рыцарь, – обратился он к хозяину замка, – во время поисков на берегу не видели ли ваши люди светловолосого юношу, моего оруженосца? Сэр Вольмар нахмурился, оставив графа без ответа. Затем сплюнул в полость, устроенную в дымоходе, который обслуживал и сторожевую комнату внизу. Резонанс получился громкий. Не разобравшись в природе странного звука, Вольмар вопрошающе посмотрел на супругу. Лицо ее, багровое от непогоды, морщинистое и в белесых пятнах вокруг глаз и у рта, исказил испуг. Леди Альдебара неуклюже приподнялась на стуле, однако довольно проворно шлепнула одного из курчавых ребятишек, вертевшихся на полу. Орущего мальчишку отправили в угол. Покручивая усы, Вольмар Агропольский переключил свое внимание на растрепанную пленницу. С явным отвращением он несколько минут рассматривал ее, а затем отвернулся. – Я уверен, что ты мне лгал, – заявил он Эдмунду, – поэтому я задержу тебя, а потом продам неверным. Они хорошо платят за попавших в рабство солдат-франков. А эта шлюха, Ниссен, твоя, – добавил он. – Когда устанешь, отправь ее в комнату охраны. Терпение Эдмунда лопнуло. Освободившись от пут, он размахнулся и нанес удар своему мучителю. Но Вольмар Агропольский отпрянул в сторону, и кулак пленника лишь скользнул по его скуле. Спустя мгновение из глаз сэра Эдмунда посыпались искры от ударов охраны… Когда бывший граф Аренделский немного пришел в себя, то обнаружил, что лежит на грязных камнях сторожевой башни, а несколько воинов, навалившись, прижимают его к полу… Будто сквозь пелену тумана Эдмунд увидел, что Альдебара стоит перед Розамундой. Его сестру подвели к очагу, где ее прекрасная стройная фигура хорошо была видна в отсветах пламени. – Моя служанка-няня умерла на прошлой неделе, и мне нужно, чтобы ты присматривала за моими детьми, – объявила жена хозяина башни Розамунде. – Этот грязный кабан получает любую девку за то, что мне приходится пороситься. – И она бросила вызывающий взгляд на своего супруга. Розамунда отпрянула, гордо вскинув голову. – Чтобы я пеленала ваших сопливых детенышей? Никогда! Я не стану… – Удар по лицу прервал ее слова. Тучная хозяйка Агрополи, сотрясая воздух отвратительными ругательствами, начала избивать пленницу. – Ах, ты слишком горда, чтобы заботиться о моих детях? – вопила она. – Клянусь распятием, я справлюсь даже с самой гордой ослицей, которая когда-либо ступала по этой земле! Под градом ударов, которые приходились по ее раненой спине, Розамунда упала, словно охапка мокрой одежды. Она потеряла сознание и осталась лежать, вытянувшись, с обнаженными ногами. Белая кожа девушки перламутром мерцала при свете огня. Сэр Вольмар вдруг оттолкнул в сторону свою жену. – Посмотри-ка! У шлюхи на редкость хорошая фигура… – Заткнись, похотливая обезьяна! – огрызнулась Альдебара. В приступе ревности леди принялась тузить мужа кулаками. В ответ сэр Вольмар так сильно толкнул супругу, что она пулей выскочила из комнаты под восторженный визг неухоженного потомства.Глава 3 AU SECOURS!
Пленника-графа заперли в крохотном жалком чулане. В течение двух дней, казавшихся бесконечными, сэр Эдмунд де Монтгомери то метался в бессильной ярости, то устало дремал у стены. Его узилище выходило во внутренний двор замка и находилось прямо перед входом в сторожевую башню. На пол чулана никто не бросил даже пучка соломы, чтобы заключенный мог сесть или прилечь. Хуже того, граф был не один. Вместе с ним в этой темной дыре находился какой-то полубезумный. Поскольку ему вырвали язык, он не мог ни назвать себя, ни объяснить, почему его держат в заключении. Очевидно, этот несчастный провел в темнице уже немало времени. Совершенно голый, истощенный, длинноволосый узник испуганно вращал глазами и неразборчиво мычал. Он беспрерывно почесывался, копошился, выковыривая отросшими крючковатыми ногтями вшей из волос. Первое время Эдмунд в ужасе шарахался от него, но постепенно впал в апатию, свыкся с присутствием этого странного товарища по несчастью. Однако он не мог примириться с убийственным зловонием погреба. Здесь не существовало даже подобия отхожего места. Просто один из углов ужасной гробницы для живых использовался в этом качестве, к радости тучи жирных мух. Раз в сутки кто-то из солдат гарнизона проталкивал через створку в дверце глиняную плошку с водой и бросал на каменный пол какую-то непонятную дрянь. Для Эдмунда стало пыткой прислушиваться к кряканью уток и кудахтанью кур во дворе. В его воображении они являлись зажаренными, покрытыми коричневой румяной корочкой. Никто не обращал на узников ни малейшего внимания. На требования Эдмунда предоставить ему возможность добиться справедливости в честном поединке никто не отзывался. Временами душа его восставала против такого вероломства и беззакония, разум мутился. Он дико тряс железные прутья маленького окошка, безумно вопил… В конце концов бывший граф впал в безразличие, нередко возвращаясь ленивой, вялой мыслью в свое прошлое. Грязный и небритый, прислонившись к холодной скользкой стене, он вспоминал… Видел себя неуклюжим рыжеволосым мальчуганом лет десяти – так называемым «холостяком». Затем делал первые усердные шаги в учебе, которая в конце концов должна была принести ему славную честь рыцарства. Он был за многое благодарен своему отцу – угрюмому старому сэру Роджеру. Не один раз сэр Роджер отстаивал в бою знамя Вильгельма Нормандского. И это он послал еще в раннем возрасте своего единственного наследника изучать искусство войны и кодекс рыцарства под руководством барона Ришара де Донфрона, сенешаля Дуврского замка. Этот рыцарь некогда был жестокимбойцом, однако с течением лет, получив множество ранений, он смягчился, приобрел большую выдержку и терпение. Бывший владелец Арендела видел себя участником военных игр с другими юными рыцарями. У всех у них были миниатюрные щиты, деревянные мечи. И скакали они на послушных престарелых кобылах. Соседи – норманнские бароны, получившие от Завоевателя феодальные поместья и замки поблизости, считали графа Аренделского оригиналом. За чаркой вина они частенько посмеивались над его настойчивым желанием выучить своего молодого наследника читать и писать. Это, с их точки зрения, было совершенно не нужно, да и недостижимо. Кроме того, сэр Роджер требовал, чтобы Эдмунд получал наставления от монахов близлежащего аббатства на латинском языке. Он считался единственным общепринятым языком христиан и главным средством общения между любыми княжествами и герцогствами. Позднее старый граф Аренделский постарался, чтобы его наследник усвоил основы греческого языка. Возможно, к этому его побудили слухи о богатой добыче, которую можно завоевать в неведомых странах, лежащих где-то далеко на востоке. Одну из них называли Византией или иногда Романией. Ходили легенды о ее сказочных богатствах. По крайней мере, так рассказывали странствующие монахи… Проходил час за часом. Пронзительные крики извивавшихся под плетью Вольмара Агропольского крепостных уже не бросали сэра Эдмунда в дрожь. И он больше не кидался к маленькому окну, через которое было видно происходящее во внутреннем дворе. В начале своего заточения Эдмунд часами торчал у этой щели в надежде хотя бы взглянуть на свою сестру. Но она не появлялась. Какая судьба ее постигла? Жива ли она? И снова его мысли совершали путешествие в прошлое. Он вспомнил, как служил под руководством жестокого и требовательного барона сэра Ришара де Донфрона. Был его оруженосцем, или эсквайром. Сам старый барон, весь скрюченный от полученных в боях страшных ран, больше не мог участвовать в карательных походах против восставших саксонских кланов или в жестоких истребительных битвах против Уэльса. Волей-неволей Эдмунду пришлось вступить в свое первое сражение под предводительством брата сэра Ришара, Тибо Реннского. Вообще-то прежняя жизнь Эдмунда обычно текла монотонно. Утомительно скучные недели проходили одна за другой. День начинался до рассвета с кормления и чистки любимой кобылы господина сенешаля, его боевой лошади. Затем приходилось чистить, чинить и смазывать оружие барона и луку его седла. После этого долгие часы посвящались владению в совершенстве оружием рыцарей – пикой, булавой и прежде всего теми тяжелыми мечами трех футов длиной, которые показали себя всесокрушающими. Для укрепления мускулов плеч и рук молодой Эдмунд де Монтгомери по собственному желанию занимался с настолько тяжелыми гирями, что после них железная булава казалась ему просто тросточкой, а рыцарский меч – чуть тяжелее дубинки. Прилежные тренировки увенчались успехом, и в конце концов граф приобрел способность часами владеть оружием более тяжелым, чем у любого оруженосца или рыцаря из Дуврского замка. К тому же он с легкостью выдерживал вес железной кольчуги, покрывавшей его тело до колен, металлического капюшона и заостренного шлема. Все это вместе взятое весило по крайней мере тридцать фунтов. В свободное от всех этих занятий время от рыжего юноши требовалось прислуживать за столом сэра Ришара. Он должен был стоять у локтя господина, чтобы вовремя налить сенешалю вина или отрезать кинжалом ломтик мяса. К таким поручениям Эдмунд всегда питал отвращение. В то же время молодой граф всем сердцем отдавался другим занятиям, которых требовало рыцарство: играл на лютне и пел стихи, им же сложенные. Правда, его успехи в этой области, по-видимому, оказались невелики. Сэр Ришар терпел его пение ровно столько, сколько того требовала рыцарская вежливость. Затем предоставлял возможность возвысить свой голос в песне какому-нибудь другому оруженосцу. До отхода ко сну – спал Эдмунд на жестком соломенном тюфяке в небольшой, со всех сторон продуваемой палатке – он должен был убедиться, что кобыла его хозяина хорошо накормлена и напоена. Затем он и другие эсквайры обходили все посты вокруг крепости, проверяя, все ли часовые на месте. Оторвавшись от воспоминаний, благородный пленник тупо глянул на свои черные от грязи руки с поломанными ногтями. Разве были эти руки такими, когда в них вложили рыцарский меч? Как глубоко врезалось в его память малейшее событие в то славное июньское утро. Всю предшествующую ночь он не мог уснуть. Лежал на каменном полу перед алтарем часовни Дуврского замка с раскинутыми крестом руками. С восходом солнца появились его близкие друзья. Непривычно сдержанные, они повели его в зал, где он вымылся и аккуратно причесал свои медно-рыжие волосы. Затем натянул на себя белоснежное одеяние. В торжественном молчании самые молодые рыцари из подданных сэра Ришара де Донфрона эскортировали кандидата в рыцари в большой зал замка. Его поставили перед сенешалем, отцом и другими знаменитыми рыцарями и воинами. С одной стороны к будущему рыцарю придвинулась старшая дочь сенешаля. Вполне заурядная молодая женщина в эти торжественные минуты выглядела словно ангел Божий. Прислуживавшие леди Эрменгарде женщины вынесли на деревянном подносе рыцарские доспехи: кольчугу, шапочку и краги. Искусно сделанные перчатки и башмаки были скреплены железными кольцами. Затем раздался звучный голос старого сенешаля. Возможно, именно так он звучал во времена второго сбора норманнов в Гастингсе. – Клянешься ли ты, Эдмунд де Монтгомери, почитать Святую Церковь и верно служить ей? – громко вопрошал он. – Клянешься всегда быть послушным своему суверену, королю Вильгельму Второму? Обещаешь ли всегда выполнять свои обеты и уважать законы рыцарства? Будешь ли защищать слабых, если их дело справедливо? Станешь ли помогать в беде собратьям-рыцарям? Эдмунд вспоминал, как после клятвы следовать всем этим рыцарским заповедям он должен был преклонить колени перед старым графом Аренделским. Болезненно гордый старик похлопал сына по затылку плоской стороной длинного нормандского меча. Затем граф прокричал все еще могучим голосом: – Именем Бога я возвожу тебя в рыцарское достоинство! Подымись, сэр Эдмунд де Монтгомери! Его прежний господин, королевский сенешаль Дувра барон сэр Ришар де Донфрон, помог ему подняться на ноги. И, возложив свои руки на плечи нового рыцаря, в свою очередь закричал: – Будь гордым! Всегда оставайся гордым! Затем сэр Ришар нацарапал на его военном поясе: «Головоруб». Так, еще будучи оруженосцем, окрестил Эдмунд этот меч, отбитый им у благородного пирата сэра Тэт де Лю . Соратники тогда надели ему шпоры из позолоченной стали, а сэр Ришар поднес Эдмунду длинный, похожий очертаниями на коршуна нормандский щит. На нем кто-то довольно неумело изобразил леопарда, покрытого серебристой краской. Совсем еще маленьким мальчиком Эдмунд не раз задавался вопросом, что означает эта эмблема и откуда она. Но никто ничего об этом не знал. Эмблема была так же стара, как и клан Монтгомери. В последующие годы молодой граф пришел к заключению, что когда-то давным-давно в непроходимых лесах Нормандии их предок, должно быть, повстречался с белым леопардом и убил его. С тех пор многие знатные лорды обзавелись штандартами с изображением орлиных или медвежьих голов. Или силуэтов грифонов и жирафов. Они несли эти штандарты перед собой, чтобы их сподвижники быстрее отличали своего господина на поле брани. Позднее такие изображения перекочевали на боевые знамена или боевые флажки. Они были значительно легче штандартов, и, естественно, их было легче переносить. Изображения зверей и птиц наносились на них уже красками. Последним из даров, преподнесенных новому рыцарю, был нормандский шлем. Этот массивный головной убор из железа имел коническую форму и был оснащен для защиты носа стальной стрелкой. Эдмунд тяжело вздохнул. Вернется ли когда-нибудь счастливое время, подобное тому, когда он, облаченный в тяжелую кольчугу, поднялся в седло «большого коня», чтобы получить десятифунтовую пику рыцаря? Как оглушительно приветствовали его рыцари, воины и просто зрители, когда новый рыцарь с возгласом: «Святой Михаил за Монтгомери!» – подбросил это оружие высоко в воздух, затем ловко подхватил его и стал наносить удар за ударом… Пока рыцари громко выкрикивали военные команды, точно как во время боя, прекрасные леди посылали Эдмунду воздушные поцелуи, а трубы музыкантов отчаянно ревели. Пленник заморгал, и радостные сцены тотчас исчезли. Эдмунд с удивлением вслушивался в странные звуки. Не сон ли это? Или игра воображения? О Боже! Перед воротами замка Агрополи трубил настоящий рог! Еще два медных звука призывно прозвучали около сторожевой башни. Эдмунд поспешно встал. Через окошко он увидел, как непрезентабельный гарнизон сэра Вольмара, толкаясь, гурьбой вываливался из темного входа, подобно воронью из растревоженного гнезда. Вояки все еще цепляли свои мечи и поправляли шлемы, когда появился сэр Вольмар. Он отдавал приказы, пытаясь облачиться в красный плащ, отделанный лисьим мехом. Гарнизон выстроился перед порталом в неровный ряд. Четверо сержантов поспешно открывали ворота. Яркое солнце, проникавшее в темницу, слепило Эдмунда, но он продолжал наблюдать. Ему послышался знакомый стук подкованных железом копыт. В самом деле, во двор въезжал высокий, седой, с орлиным профилем кавалер в ярко-белой мантии поверх кольчуги. На груди был вышит ярко-красный латинский крест. Трудно было определить, какие чувства питает к сэру Вольмару Агропольскому вновь прибывший. Всадник держал себя отчужденно и надменно. Со двора донесся стук копыт еще четырех коней – въезжали сержанты, крупные, груболицые парни. Их кольчуги из широких колец и стальные начищенные шлемы горели на солнце, составляя контраст с тусклым, покрытым пылью снаряжением воинов гарнизона. Когда сподвижники незнакомца отъехали в сторону, в воротах замка появилась белобородая фигура в черном. Это был монах, лицо которого скрывала тень. Перед собой он нес распятие из черного дерева с вырезанным на нем образом Спасителя из слоновой кости. Вслед за монахом через несколько минут появились воины, -загорелые, покрытые пылью, числом около двадцати. Между тем рыцарь в белой мантии спешился и готовился уже отдать поводья своего коня охраннику… И тут, сделав глубокий вдох, Эдмунд закричал во весь голос, взывая о помощи: – На помощь! Au secours! Аи secours! Рыцарь резко повернулся, и Эдмунд заметил, что у него не только недоставало левого глаза, но вся эта сторона лица была искалечена каким-то страшным ударом. И снова еще громче узник подал голос, моля о спасении. Затем прислушался. Рыцарь в белой мантии поинтересовался, что это за крик. – Пленник-идиот. Выдает себя за благородного человека, – презрительно пояснили ему. – Но он говорит по-французски, – усомнился рыцарь. – Я хочу видеть его. – Не теряйте драгоценного времени, сэр Тустэн, – пытался отговорить его хозяин башни. – Это умалишенный, совершенно потерявший разум. – Вытащите-ка его. Я посмотрю, кто это как рыцарь взывает о помощи. Незнакомец, по всему видно, бывалый воин, покачиваясь, прошел по освещенному солнцем двору. Хмурый, покрасневший от волнения владелец Агрополи послал за ключами. Затем приказал двоим сподвижникам вывести пленника на солнечный свет. – В чем дело? – спросил седой рыцарь. – Почему ты взываешь о помощи? Рыцарь в белой мантии был почти такого же высокого роста, как и пленник; его единственный внимательный глаз холодно сверкал, словно был из отполированной стали. Стараясь держаться прямо, Эдмунд вкратце сообщил данные о своем происхождении, назвал прежнее звание. Тогда вперед выступил монах. Подняв распятие, теперь свободно укрепленное у его пояса из сплетенных веревок, он, возвысив голос, потребовал: – Поклянись перед этим крестом, что говоришь искренне и правдиво. – Но в этом нет необходимости, святой отец, – мягко сказал Эдмунд. – Я уже дал слово рыцаря, что говорю чистую правду. Под любопытными взорами неопрятного гарнизона крепости одноглазый рыцарь, шагнув вперед, снял правую перчатку. – Сэр Тустэн де Дивэ, констебль графа Тюржи Второго из Сан-Северино, – представился он. – Я счастлив, что имею честь оказать помощь благородному человеку, находящемуся в беде. – Затем повернулся и, с длинным мечом на левом бедре, величественно двинулся к владельцу Агрополи. – Будь ты проклят, негодяй! – прогремел он. – Как ты посмел заточить дворянина, не представив его сначала на суд законного господина? – Он мой пленник, – последовал уклончивый ответ. – Значит, ты победил сэра Эдмунда в рыцарском единоборстве? – допытывался одноглазый рыцарь. – Он мой пленник, – упрямо твердил владелец крепости. – Ты не даешь прямого ответа! Кольчуга из скрепленных между собой железных блях съехала на локти сэра Тустэна, когда он повернулся к Эдмунду: – Как же, сэр рыцарь, ты очутился в таком печальном положении? Сэр Эдмунд подробно рассказал о коварном захвате и заточении его с сестрой в этой крепости. Длинный шрам, пересекавший бронзовое лицо Тустэна, побагровел от негодования. – Сэр Вольмар, – загремел он, – когда мой господин в Сан-Северино услышит об этом, он снимет шпоры с каблуков докатившегося до такого свинства негодяя. Ты не прислал часть добычи, взятой на этом берегу, своему господину! Сэр Вольмар насупился. – Тем не менее этот незнакомец – мой пленник. Поскольку он не может уплатить выкупа, то останется здесь, – твердо заявил он. – Во славу Господа Бога! Он не останется! – проревел в ответ констебль. Окинув беглым взглядом худую фигуру англо-норманна, сэр Тустэн отметил его ввалившийся живот. – Сэр Эдмунд находится в слишком плачевном состоянии, – объявил он, – чтобы сражаться на суде чести. Поэтому я беру его под защиту. Иди, надень свою кольчугу, лживая собака, – бросил он хозяину башни. – Благодарю вас, благородный сэр, – с достоинством сказал граф, – но я всегда сражался за себя сам. – И, растолкав своих стражников, Эдмунд усмехнулся. – Одолжите мне ваш меч и ваш шлем, сэр Тустэн, и силы мои вернутся. Сэру Вольмару, вероятно, не понравилось предложение схватиться в поединке даже с таким истощенным пленником. – Я уступаю господину констеблю, – поспешно заявил он. – Негодяй – ваш. – Негодяй? – Двумя большими прыжками Эдмунд преодолел разделявшее их пространство и нанес обидчику удар в челюсть, да такой мощный, что у того затрещали зубы. Вольмар отпрянул, схватившись за рукоятку своего меча, однако так же поспешно отпустил ее. – А леди Розамунда, где она? – потребовал ответа Эдмунд. – И если пострадала ее честь… – с угрозой в голосе продолжил он, – тебя ждет кара Сатаны. – О нет! – забормотал Вольмар из Агрополи. – Девственность леди не пострадала, – поспешно добавил он. – Клянусь, худшее, что она испытала, – это легкие пинки и пощечины от моей жены. Прошло совсем немного времени, и леди Розамунда, облаченная в простой халат из козьей шерсти, появилась из сторожевой башни. Ее вывели оттуда бледную, измученную и давно не мытую. Правда, длинные золотистые волосы, как было видно, спешно заплели в косы. Не обращая внимания на любопытные взгляды собравшихся, девушка кинулась в объятия брата-близнеца и крепко прижалась к нему. А в это время сэр Тустэн на чем свет стоит ругал ставшего окончательно покорным владельца Агрополи. При этом Тустэн пользовался смесью итальянских, нормано-французских и даже греческих выражений. Не затрагивая темы бандитских нападений и потопления судов, он осуждал сэра Вольмара лишь за то, что тот не отдавал владельцу Сан-Северино причитающуюся тому половину добычи. – Выслушай, грязная свинья, – рычал констебль, уставившись своим единственным глазом на хозяина башни, – и узнай о цели нашего приезда. Брат Ордерикус, как тебе известно, один из самых почитаемых монахов монастыря Монте-Кассино. Он сообщит тебе то, что даст тебе возможность надеяться на отпущение грехов, и даже такому негодяю, как ты, откроет дорогу к спасению. Брат Ордерикус вышел в центр двора, торжественно задрал длинную седую, с серебряным отливом бороду и высоко поднял распятие… – Ты страшишься адского пламени, – звонко прокричал он так, что слышно было даже в чулане, из которого выглянул человек с вырванным языком. – У тебя будет возможность очиститься. Поручаю тебе и всем из этого двора собраться завтра утром в деревне под названием Песто. – Глубоко посаженные темные глаза монаха сияли поистине неземным светом. – Я поручаю тебе, сэр Вольмар, разослать конных гонцов по твоим владениям и повелеть всем собраться в Песто. Там я оглашу торжественный призыв к оружию, с которым обратился к верующим его святейшество папа Урбан Второй.Глава 4 НА ДОРОГЕ К ПЕСТО
Небольшая кавалькада размеренной рысцой продвигалась по разбитой пыльной дороге. Когда-то это был прекрасный римский тракт, проложенный вдоль морского берега. Розамунда де Монтгомери наконец-то полной грудью вдыхала живительный морской воздух. Она счастливо улыбалась, наблюдая, как трепещут на ветру многоцветные флажки, укрепленные на наконечниках пик спутников сэра Тустэна. Как чудесно было скакать этим солнечным утром вдоль берега большой бухты! Окаймленная каменными утесами, она простиралась далеко на север. И цветом своей воды могла сравниться разве что с голубизной глаз матери Розамунды. Как и пристало дочери грозного нормандского графа, девушка искусно управляла лошадью. Избавиться от унижений и человеческой подлости обитателей замка Агрополи было для Розамунды невероятным счастьем. За последние несколько дней она многое пережила. Трудно представить, какие издевательства вынесла дочь покойного графа Аренделского от грубой мегеры леди Альдебары. Яркие вишневые губы Розамунды горестно сжимались при воспоминании о том, как ее заставляли ходить босиком по ледяному полу башни. Как надели на нее грязный рваный халат, который она никогда не предложила бы даже дочери свинопаса. Очаги на верхних этажах башни вечно дымили независимо от направления ветра. Ничего удивительного, что у потомства сэра Вольмара постоянно были воспалены глаза. Кровать свою в студеном углу третьего этажа Розамунда накрыла одеялом поверх груды прогнивших парусов, выловленных при кораблекрушениях. Итак, кавалькада неспешно продвигалась вдоль побережья. С большим интересом рассматривала Розамунда широкую песчаную, почти лишенную деревьев равнину, тянувшуюся от залива Салерно. С радостным чувством она прислушивалась к мелодичному пению жаворонков, к голосам перекликавшихся черных дроздов. Под лучами теплого апрельского солнца даже эта заваленная грудами камней равнина казалась ей привлекательной. Розамунду радовал каждый зеленый кустик. Что за люди добровольно согласились жить на этой голой, часто опустошаемой бурями береговой полосе? Те немногие крестьяне, которых она успела заметить, были низкорослы, темнокожи и черноволосы. Казалось, они обитали в каких-то развалинах, если не пасли стада овец и коз. Верховые лошади словно почувствовали наступление весны; они игриво сгибали шеи и радостно фыркали, как бы приветствуя проносившихся над ними больших белых чаек. Боевые кони шумно вдыхали запахи свежей зеленой травы, упрямо пробивавшейся между развороченными камнями, некогда служившими покрытием дороги. Розамунда придержала поводья, когда стайка пестрых перепелов с шумом опустилась на дорогу, словно рассматривая лошадей. Вдалеке слева лучи солнца отражались от водной глади цепочки небольших прудов, окруженных колыхавшимся на ветру тростником. Колонну возглавлял сэр Тустэн. Загорелый, держащийся очень прямо, всадник гордо сидел в высоком седле, и над его головой развевался выцветший желтый с зеленым вымпел, прикрепленный к острию пики. За Тустэном следовал старейший оруженосец. В поводу у него плелся вьючный мул, груженный боевым, в форме коршуна, четырехфутовым щитом сэра Тустэна. Кроме того, в одной из плетеных корзин, которые тащил мул, находились булава, шлем и шапочка сэра Тустэна. А его дорогая кольчуга и боевые рукавицы покоились в другой корзине. За оруженосцем семенили, опустив головы, брат Ордерикус и еще один монах; оба в сандалиях и развевающихся рясах, они шли в тучах белой пыли и непрерывно перебирали четки. Следом, едва не наступая монахам на пятки, двигались верхом леди Розамунда и ее брат. Огромный, широкоплечий, в шерстяной малиновой тунике, сэр Эдмунд ехал с непокрытой головой, без шлема или шляпы. И сестра, глядя на его темно-рыжие волосы и мужественное лицо, с облегчением отмечала, что он становится прежним. Настоящее чудо совершили несколько сытных трапез и полноценный ночной отдых в теплом шатре сэра Тустэна де Дивэ. Бывший граф Аренделский ехал молча. Сейчас он особенно сожалел о том, что его щит с изображением серебряного леопарда и меч «Головоруб» лежат на дне моря. Под воду ушел и небольшой сундучок с фамильными драгоценностями. Они бы очень сейчас пригодились и могли бы вполне обеспечить нужное число сподвижников для завоевания новых владений. Между тем Розамунда переключила свое внимание на сержантов – или, как их называли древние римляне, сервиентес – ратников и пеших солдат. Они брели за всадниками. Одни были вооружены пиками, другие – топорами с короткими рукоятками или луками с колчанами стрел. Немногие из этих вассалов – все они владели землями, предоставленными им господином в оплату за верную службу, – были обуты. Однако их широкие ступни, подобно ступням простолюдинов в Суссексе, настолько затвердели, что даже самые острые камни не причиняли им боли. Время от времени появлялась жалкая кучка домов с соломенными крышами, жмущихся к древней наблюдательной башне. Завидев кавалькаду, испуганные блеском оружия местные пастухи поспешно отгоняли скот подальше от дороги. Разбегались кто куда и немногочисленные крестьяне, дровосеки или плетельщики корзин – все те, кого можно было повстречать на этой скудной малонаселенной земле. Раза два высоко на скалистых утесах вырисовывались на фоне неба суровые очертания небольших крепостей, похожих на замок Агрополи. Местные итало-норманские властители обрекали свои деревни на самое жалкое существование. Только один раз кавалькада, спасаясь от поднятой ветром тучи пыли, проехала через селение. Среди руин римского форта полдюжины грязных, дикого вида крестьянских лучников молотили пшеницу. На вершине уцелевшей башни, все еще готовой к обороне, другие лучники, завидев путников, молча наблюдали за ними. Время от времени сэр Тустэн, указывая на строение у дороги, определял его как римское, византийское или готическое. Однако лишь немногие выглядели обитаемыми, на что указывало присутствие возле них домашнего скота, брехливых собак и грязных голых ребятишек, которые, лежа на земле, подставляли солнечным лучам запавшие от голода животы. Иначе весь этот прибрежный район казался бы совершенно безлюдным, словно по нему недавно прошлась чума. Проезжая под сенью густых оливковых рощ, Розамунда размышляла обо всем увиденном. Она припомнила точно такую же нищету упрямых саксонских крепостных, чьи отцы сражались и потерпели поражение у Сенлака. Яростно, но тщетно те крестьянские парни пытались защитить дома своих предков. Теперь многие вместе со своими семьями ютились в нищете среди развалин вилл, храмов и сторожевых башен – свидетельств долгого римского владычества. Долго после этого одичавшие, полуголые мужчины и женщины бродили по лесам и болотам Суссекса, представляя собой объект для тайной охоты. Не лучшим было и положение уцелевших саксонских аристократов, таких как Герт Ордуэй, оруженосец Эдмунда. Этот юноша, неграмотный и невоспитанный, как подобало сыну дворянина, работал подручным у кузнеца, когда его случайно увидела леди Матильда де Монтгомери и, узнав о его происхождении от суссекского тана, взяла под свое покровительство. Бедная мама! Темные и жестокие нормандские дворяне из их округи не позволяли Матильде Годуайн забыть о своем саксонском происхождении. Они не могли простить Роджеру де Монтгомери его женитьбы на дворянке побежденного племени. В значительной степени из-за этого старый Роджер лишился благосклонности Завоевателя, которого саксонские подданные наградили кличкой Истребитель. Да, было и в самом деле очень приятно ехать сейчас на лошади и видеть длинные копья с блестящими наконечниками. Было лестно снова ощущать почтительное отношение. Приятно испытывать радость от того, как изменилось ее положение по сравнению с тем страшным днем почти полтора месяца назад, когда подручные короля Руфуса Рыжего нагрянули в замок Арендел. Увы, ни один граф не смог бы в одиночку противостоять королю Англии, которого ненавидело большинство его подданных. Покидая Арендел, Эдмунд взял с собой лишь горстку своих сподвижников. Они бежали на неведомый Восток, поскольку на западе была только водная гладь да дикие просторы Ирландии. Среди беглецов был и Герт Ордуэй, единственный выживший сын Пенды, последнего тана Суссекса. Бедный, всегда такой жизнерадостный, светловолосый Герт! Теперь его останки гниют на прибрежном песке на радость лисам и воронам. Эдмунд вспомнил, какая буря возмущения вспыхнула среди нормандских лордов Суссекса, когда он избрал саксонца в качестве своего главного эсквайра. На этот непопулярный выбор его толкнула, несомненно, память о матери. Сестре-близнецу сэра Эдмунда никогда не приходило в голову, что она унаследовала свою необычайную стройность и красоту скорее от леди Матильды, чем от того, кто числился в книге распределения земель Англии, составленной Завоевателем, как сэр Роджер де Монтгомери, граф Аренделский. …Высокая молодая женщина со вздохом привстала в седле: спина и ягодицы сильно болели, покрытые синяками от ударов, нанесенных руками леди Альдебары. Розамунда дала себе слово когда-нибудь отплатить нечесаной мегере из замка Агрополи той же монетой. Малонаселенная обширная провинция Калабрия, по которой следовал караван, некогда была частью Италии. Именно отсюда отправлялись римские легионы завоевывать другие земли, чтобы властвовать потом над ними в течение веков. Поэтому здесь повсюду еще встречались чудом сохранившиеся свидетельства гения античных архитекторов – акведуки, превосходные широкие дороги и прочные каменные мосты. По одному из таких мостов и проезжала теперь кавалькада. Внезапно Эдмунд наклонился к Розамунде и указал куда-то направо. – Взгляни, дорогая сестра! – воскликнул он. – Я просто глазам своим не верю! – Что ты там видишь? – Par Dex!- засмеялся брат. – Там, на лугу, какие-то благородные люди ведут соколиную охоту. Действительно, вдали, на краю равнины, где цвели миндаль и багряное иудино дерево, ехали вдоль берега пруда три всадника. И у каждого на правой руке сидела хищная птица с колпачком на голове. – Боже, если бы сейчас со мной была моя славная Лилит! – воскликнул Эдмунд. – Я бы показал тем парням, как надо вести себя до броска птицы! Видишь? Высокий всадник отпускает своего сокола. Его птица – хороший охотник: наносит сильный удар, прямо попадает в цель. Хорошо. Господи, чего ради этот дурень так спешит приблизиться? Он же вспугнет птицу! Все произошло именно так. Вспугнутая поспешностью своего нетерпеливого хозяина, птица расправила крылья и стала кругами подыматься в голубое весеннее небо… Граф выругался про себя. – Спокойно, Эдмунд. Это тебе не Англия, – улыбнулась Розамунда и в свою очередь указала брату налево, где на вершине холма виднелись руины удивительно пропорционального строения с белыми колоннами. – Скажите, сэр Тустэн, – обратилась она к предводителю кавалькады, – что это за здание вон там на склоне? – Мне рассказывали, – поведал сэр Тустэн, – что когда-то это был знаменитый языческий храм. Его воздвигли в честь римского бога, которого римляне называли Нептуном, а древние греки – Посейдоном. Деревня, раскинувшаяся внизу, называется Песто. Туда мы и направляемся, – заключил сэр Тустэн. Некоторое время Розамунда ехала молча, любуясь упиравшимися в небо колоннами и полуразбитыми статуями, все еще украшавшими вход в античное здание., – Я в жизни не видела ничего и в половину столь внушительного, – проговорила она. – А что скажешь ты, Эдмунд? . Бывший граф сэр Эдмунд все еще не мог оторваться от прекрасного зрелища соколиной охоты и в ответ лишь пожал плечами. – Хорошее место для постройки, – сказал он. – И камня поблизости сколько угодно. – А что скажете вы, сэр Тустэн? – недовольная равнодушием брата спросила у предводителя Розамунда. – О да, – неопределенно отозвался сэр Тустэн. – Я часто думал, что это самое красивое место. Однако не судите, пока не увидите город Константинополь и его огромные церкви… Розамунда озабоченно оглянулась на одетого во все черное брата Ордерикуса и его покрытого пылью спутника. – Я знаю, – заметила она достаточно громко, чтобы они слышали, – что не следует восхищаться языческим храмом. Ведь, например, часовня в замке Арендел гораздо красивее и величественнее. – При этом она отлично понимала, что это не так. Но почему ей так нравилось это безмолвное и покинутое строение, что вдохновляло при взгляде на него? Возможно, эти руины даже по прошествии стольких веков свидетельствовали о внутреннем стремлении человека познать бесконечность? – Как ты думаешь, когда был выстроен тот храм? – спросила Розамунда у брата. – Кто знает? – беззаботно ответил Эдмунд. – Возможно, сотню лет назад. Сэр Тустэн де Дивэ резко натянул поводья. Он уже устал от непрерывных попыток сдержать темперамент своей лошади. – Дорогая леди, – сказал ветеран, повернув к Розамунде темное, все в шрамах лицо и сверкнув единственным глазом. – Разрешите заметить, что тот храм, по всей видимости, был возведен за несколько веков до рождения нашего Господа. Глаза Розамунды широко раскрылись. – Значит, он простоял здесь уже более тысячи лет? – воскликнула она. – И даже больше. Скоро мы увидим руины другого такого храма, – продолжил свои пояснения сэр Тустэн. – Его воздвигнули в честь Деметры, богини плодородия, покровительницы семьи. Древние византийцы называли ее Церерой. Польщенный терпеливым вниманием Розамунды де Монтгомери, констебль графа Тюржи бросал на свою статную молодую спутницу откровенно восхищенные взгляды. Она так хорошо управляла лошадью, а грубые одежды выглядели на ней почти изысканно! – Но, господин Тустэн, – воскликнула девушка, – как же могли неверующие язычники так замечательно строить? Ведь Господь не вдохновлял их! Изуродованное лицо рыцаря словно просветлело. – Искусство в равной мере может служить и христианам, и язычникам, – спокойно заметил он. – Это я понял, когда еще юношей ездил с сэром Русселем де Байолем, служившим у Романа Диогена, к одной из самых пострадавших базилик Византии. – Он придержал лошадь. – Посмотрите, миледи, – указал он вперед, – вон тот другой храм, о котором я упоминал. Когда византийцы господствовали в этой местности, их патриарх велел перестроить храм Деметры в христианскую церковь. В таком виде она просуществовала почти четыре столетия, пока арабские пираты, да покарает их Господь, не сожгли и не разрушили ее. Ветеран смахнул пыль с рукава, потом, нагнувшись вперед, согнал овода со спины своей кобылы. – Мой господин, граф Тюржи из Сан-Северино, – заговорил он снова, – повелел своим вассалам-рыцарям, легионерам и другим подданным собраться завтра утром вон в той деревне у моря. Там они прослушают проповедь преподобного брата Ордерикуса и других excitatoriо странствии во славу Господа. Розамунда с облегчением вздохнула, увидев, наконец, впереди жалкую деревушку Песто с глинобитными домишками, крытыми соломой. В теле девушки ныла каждая косточка. – А потом? – спросила она. – А потом мы поедем в Сан-Северино, главную крепость графа Тюржи де Берне, – ответил господин Тустэн. – Какому принцу он принес феодальную присягу? – спросила Розамунда. Сэр Тустэн помолчал, подкручивая усы. – Это, миледи, остается под вопросом. На власть над Сан-Северино претендуют герцог Боэмунд Тарантский и его сводный брат Роджер Подсчитывающий, герцог Сицилийский. – Роджер Подсчитывающий? – переспросила Розамунда. – Именно так. Любимое занятие этого хитрого принца – пересчитывать монеты в своем кошельке.Глава 5 ЛОРД ВОИН С КОПЬЕМ
Герт Ордуэй, чье имя на саксонском языке означало «лорд воин с копьем», еще меньше своего господина знал что-либо о кораблях. И тем не менее он вовремя почувствовал, что «Сан-Джорджо» вот-вот развалится. Поэтому, выпустив из рук ванты, за которые было ухватился, он стал пробираться по скользкой от пены палубе в поисках своего лорда. Молодой саксонец – ему не было еще и двадцати – в последний раз видел сэра Эдмунда и его сестру за фальшбортом, у сдвоенного рулевого весла галеры. Это весло направляло «Сан-Джорджо» вдоль берегов Кастилии, мимо королевства неверных. Как считали генуэзские моряки, оно было частью огромного мусульманского владения, известного как халифат Альморавидов. Эта исключительно негостеприимная земля была буквально утыкана сторожевыми башнями. Она простиралась до самых Геркулесовых столбов, известных неверным как Гибралтар. Здесь холодные темно-синие воды Атлантики сливались с теплым сапфировым Средиземным морем. То же самое сдвоенное кормовое весло провело галеру мимо пиратских Питиузских островов, мимо не менее опасного мыса Нао в направлении порта, который много веков назад был известен как Картахена, или Малый Карфаген. Попутные ветры гнали тупоносое судно в Лионский залив и далее, к опасному порту Марсала… Через два дня ветер усилился. Североафриканский мистраль заставил несчастную галеру дрейфовать в южном направлении мимо едва различимого сквозь водяные брызги большого острова. Это могла быть либо Корсика, либо Сардиния. Так полагал генуэзский капитан. – Милорд! Миледи! – звал Герт, стараясь перекричать шум разбивающихся о рифы волн. Потом он увидел, как бывший граф и его сестра отчаянно цепляются за веревку, привязанную к бочонку. Вода уже заливала палубу. Зная, что ни брат, ни сестра не умеют плавать, Герт Ордуэй, молясь святому Олафу, стал пробираться к ним. Он намеревался отбуксировать эту пару к не слишком далекому песчаному берегу, но гигантский водяной вал обрушился на галеру и смыл полузадохнувшегося Герта в море. Одуэй изо всех сил старался отыскать своего господина. Но ему потребовались все его силы, все уменье, чтобы просто удержаться на поверхности, не дать своей русой голове скрыться в бурлящей воде. Наконец оруженосец, захлебнувшийся и почти бездыханный, был выброшен на песчаный берег небольшой бухточки среди скал. Разумеется, такое произошло благодаря своевременному вмешательству его покровителя святого Олафа. Чтобы преодолеть силу волн, тащивших его в открытое море, Герту понадобились последние силы. Ему удалось все же выползти из кипевшей воды и, глотая открытым ртом воздух, растянуться на скользкой гальке. Прежде всего Герт проверил, сохранился ли его топор. Слава святому Олафу! Его кожаный пояс крепко держал тяжелое, с острым как бритва лезвием оружие. Без него оруженосцу пришлось бы плохо, едва он отправился бы в глубь побережья. Немного отдышавшись, Герт Ордуэй, единственный из оставшихся в живых сыновей Пенды, последнего тана Суссекса, взобрался на скалистый утес. Стоя там, он внимательно осмотрел окружающую местность. Перед ним расстилалась пустынная и неприютная береговая полоса. Такой обширной пустыни молодому саксонцу еще никогда не доводилось видеть. С дикой яростью разбивались о берег штормовые валы, отбрасывая пену далеко на сушу. Эта дикая местность чем-то напоминала некоторые районы Корнуолла, где ему пришлось побывать во время прошлогодней карательной экспедиции. Герт увидел, что «Сан-Джорджо» исчезла в морской пучине, и только поломанные снасти и другие обломки галеры все еще болтались на волнах. На светло-голубые глаза саксонца навернулись слезы. Он подумал, что доблестный сэр Эдмунд и его статная сестра, наверное, погибли. Ведь даже хороший пловец не справился бы с гремящими водными валами, тем более что они разбивались о скалы, острые, как зубы барсука. Оруженосец зарыдал. Эдмунд и его сестра были единственными норманнами, которые пригрели его. Может быть, потому, что они не чистокровные норманны. В жилах их матери леди Матильды Годуайн текла кровь одной из самых древних и знатных семей, известной со времен короля Гарольда. И стоя на скале, промокший до нитки, с кудрями, свисавшими на оголенные плечи, Герт благословлял память леди Матильды. Благословлял день, когда она случайно проезжала мимо небольшой кузницы, где он без видимых усилий работал тяжелым молотом. Эта красивая женщина подъехала поближе, чтобы выяснить, не является ли грязный босой юноша со светлыми волосами родственником погибшего тана Суссекса. А когда она узнала о его происхождении, какая необычайная перемена произошла в его жизни! Сыну Пенды не пришлось больше спать на тростниковом настиле в вонючем хлеву вместе с коровой кузнеца и полудюжиной коз. Не пришлось и одеваться в шотландский килт и куртку из овчины. И самое главное, он стал есть мясо, по крайней мере дважды в месяц. Холодные конюшни замка Арендел, продуваемые со всех сторон и лишенные каких-либо удобств, казались ему уголком Божьего Рая, а бесконечные поручения, которые возлагали на него как на будущего эсквайра и обучение военному делу – самым легким делом. Бросив последний взгляд на вскипавшие рифы, о которые разбилась галера, саксонец двинулся по козьей тропе в глубь суши. Он заметил двух волосатых, дикого вида пастухов, укрывавшихся от ветра со своими козами за скалами. Подкрасться и захватить их врасплох оказалось несложно. Они было схватились за свои копья, но его боевой топор мгновенно поверг их наземь. Парни говорили на чужом языке, волосы у них были черные, грубые. Поэтому Герт решил, что они должны быть неверными. Там, в Англии, каждый слышал, что последователи Мухаммеда, главного антихриста, черномазые и похожи на чертей. И говорят на чудных языках. Не обращая внимания на неподвижные фигуры, истекавшие кровью на песке, Герт зарезал и освежевал козу, зажарил себе ее ляжку на том же костре, около которого совсем недавно грелись пастухи. – Эти дикари, само собой, неверные и ненавидят Христа, – успокаивал он себя, очищая руки от жира. – Значит, я совершил богоугодное дело. Заодно хорошо перекусил и обзавелся парой копий. Герт почувствовал себя физически лучше, но на душе у него было скверно. Теперь, когда Эдмунд де Монтгомери погиб, он сам себе господин. Подобную ответственность Герт воспринял с неохотой. Такому, как он, тугодуму было легче выполнять приказы, чем принимать собственные решения. Теперь он обзавелся копьями, что соответствует значению его имени, но он предпочел бы привычный топор. Странно, что до сих пор ему проще говорить на саксонском языке, чем на грубом нормано-французском, которым волей-неволей ему приходилось пользоваться более трех последних лет. Завернувшись в кишевшие паразитами одежды из козьих шкур, снятые с убитых пастухов, Герт растянулся на песке и тут же погрузился в глубокий сон. На рассвете он подправил костер и приготовил себе другую козью ляжку. Подобрал для себя более или менее подходящую одежду, которая хоть как-то прикрывала его стройное белокожее тело. Очистив от вшей остроконечную шапку, он водрузил ее на голову, завязав шнурки под подбородком. Молодой саксонец с сожалением отметил, что ночью все козы куда-то разбрелись. Их блеяние слышалось за высокими холмами, из-за которых вставало солнце. Плотно позавтракав, лорд Воин с Копьем взвалил на плечи копья убитых пастухов и, соблюдая осторожность, двинулся по едва заметной тропе. Словно желтая змея тянулась она вдоль берега и повторяла все изгибы огромной бухты. Герт не имел ни малейшего представления, как называлось водное пространство, мимо которого он шел. Оно теперь было совершенно спокойное и невероятно голубое. Впрочем, собственное неведение ничуть не беспокоило оруженосца. Его желудок был полон, а в грубом заплечном мешке лежал запас пищи по крайней мере еще на один день. К тому же Герту придавало уверенности то обстоятельство, что на плече он нес два копья, а любимый топор – про себя он называл его «Мститель Пенды» – висел у него на бедре.Глава 6 ПЕСТО
В деревню продолжали прибывать новые группы вооруженных людей, низкорослых и неряшливых. Им запретили приближаться к лагерю сэра Тустэна де Дивэ. Расположившись у истока ручейка в тени старых ветвистых оливковых деревьев, констебль Сан-Северино наслаждался отдыхом вдали от пыльных и захламленных лагерей, разбитых у развалин древнего города Пестума. Перед самым закатом сэр Вольмар из Агрополи подъехал со своим отрядом к месту встречи. Угрозами и бранью они вынудили более слабых ратников уступить им место, где немедленно были разбиты палатки. За всей этой картиной с грустным чувством наблюдал, полулежа на куче свежескошенной травы, Эдмунд де Монтгомери. Сейчас ему особенно недоставало искрящегося юмора его молодого оруженосца, не хватало особого умения саксонца обращаться с горячими лошадьми. Не хватало просто преданного соратника и слуги, хотя сын тана Пенды так и не осилил науку прислуживать за столом, даже не научился играть на лютне. Отряд из Агрополи, расположившись вокруг пылающих костров, приступил к трапезе. Однако не раз посторонние звуки: ржание лошадей, брань, лязг оружия – заставляли констебля из Сан-Северино отрываться от обгладывания очередной кости и, прислушиваясь, гадать о происхождении этих звуков: споры ли это вечно враждующих феодалов или просто ссоры их перепившихся слуг… Когда же поздно вечером близ Песто стали раздаваться отчаянные и несомненно женские вопли, сэр Тустэн опустил глаза и, поглядывая на последние красные угольки в костре, принялся спокойно допивать свое вино. На вопрошающий взгляд леди Розамунды сэр Тустэн ответил широкойулыбкой, оскалившись, как добродушная старая сторожевая собака, и показывая испорченные зубы. – Не тревожьтесь, миледи, – сказал он. – Это некоторые ревнители добрых нравов забавляются с крестьянскими девушками. – Одноглазый ветеран поднял короткий рог, служивший ему бокалом и обычно болтавшийся на поясе. – Пью за завтрашний день, друзья мои, и за то, чтобы проповедь брата Ордерикуса спасла заблудшие души от пламени ада. Эдмунд приподнялся на локте. – Что же это за проповедь? – спросил он. – И почему граф Тюржи приказал всем способным носить оружие собраться, чтобы прослушать ее? Сэр Тустэн медлил с ответом, пошевеливая палкой угли в костре. Затем, вздохнув, недоверчиво спросил: – Разве до Англии не дошли известия о провозглашенном святым отцом странствии во имя Господа? – Нет. По крайней мере в Суссексе это неизвестно, – сказал Эдмунд. – Что это за странствие? – Это связано с проповедью его святейшества папы Урбана Второго, с которой он выступил прошлой осенью в Клермонте, на земле бургундцев. – Бургундцев? Это кто такие? – удивился Эдмунд. На изувеченном лице сэра Тустэна появилось выражение недоверия. – Бог мой! Вы совершенно не осведомлены о том, что происходит за пределами Суссекса в Англии? Между тем за разрушенными стенами Песто по-прежнему звучали пьяные песни, прерываемые жалобными криками о пощаде. Розамунда, зашивавшая при неровном свете костра дырку на своей рубашке, подняла глаза. – Кто такой этот брат Ордерикус, с виду такой тщедушный, а на самом деле, оказывается, очень сильный? – Ученый монах из знаменитого бенедиктинского монастыря на Монте-Кассино, – объяснил ей седой сэр Тустэн, слегка распустив пояс, на котором укреплен меч. – Говорят, брат Ордерикус – один из самых умелых среди тех проповедников, которые ныне путешествуют по христианскому миру, передавая послание святого отца его пастве. – О чем же говорится в этом послании? – продолжал расспрашивать обеспокоенный своим будущим Эдмунд. – Завтрашний день все вам объяснит. И гораздо лучше, чем могу сделать это я сегодня, – широко зевнув, ответил ветеран. Завернувшись в попону, Эдмунд удобно устроился в выемке на земле. Однако, к своему удивлению, заснул не сразу. Граф глядел на свою сестру, которая, закутавшись в полотнище от палатки, забылась глубоким сном. Лунный свет слабо освещал ее благородный и одновременно мужественный профиль. В воздухе стоял храп, со всех сторон доносились вздохи и покашливания спутников сэра Тустэна. В отдалении сонно пофыркивали лошади, а еще дальше,, за холмом, завывали шакалы. По-видимому, они обитали в римских руинах над Песто… Глядя на безмятежно спящую сестру,. Эдмунд снова и снова задавался вопросом, что готовит им судьба. Он имел самые смутные представления о том, где в Европе находятся Сан-Северино и Салерно. Казалось, сэр Тустэн тоже не много знал о том, в каких владениях к северу от древнего Неаполя укрепился Робер Гюискар, первый из норманнов, вторгшихся в Италию еще сорок лет назад. Дальше на север лежал в руинах имперский Рим – часто подвергавшаяся разграблению, опустошенная столица христианского мира. Короче говоря, бывший граф пытался сообразить, сколько феодальных вотчин входит во владения графа Тюржи, этого нормандского искателя приключений. Если общая территория его владений не превышает размеров скалистой береговой полосы между Агрополи и Песто, то это весьма жалкая собственность в сравнении с подобными владениями в южной Англии. Предположим, граф Тюржи найдет предлог задержать Эдмунда до уплаты выкупа. Хотя более вероятно, что этот жестокий старый авантюрист сделает его своим вассалом – безземельным наемником, целиком зависящим от своего лорда как в отношении жалованья, так и боевого снаряжения… От этих мыслей сон как рукой сняло. Эдмунд, подсунув руки под голову, устремил невидящий взгляд на усыпанное звездами небо. У него не было ни малейшего желания оставаться безземельным беженцем. Итак, что же делать? Конечно, прежде всего раздобыть оружие и коня. Затем попытаться покорить какого-нибудь местного властелина. Если это удастся, то можно будет получить скромный выкуп. А там уж не слишком трудно завербовать людей, чтобы завладеть каким-нибудь плохо защищенным замком. Став хозяином укрепления, подобного Агрополи, он сможет с помощью хитрости или упорных баталий постепенно расширить свои владения. Разве другие норманны не поступали именно так в Италии целых полвека? Почему не попробовать того же Эдмунду де Монтгомери? В руинах над Песто заухала сова и продолжала подавать голос, пока сон не навалился на Эдмунда, словно лавина.Глава 7 DIEU LO VULT!
До конца своих дней Розамунда де Монтгомери будет помнить до последней мелочи то, что произошло в незабываемое утро восемнадцатого апреля 1096 года. Она будет вспоминать, как на вершине невысокого холма установили грубый крест, наскоро сооруженный из связанных веревкой корявых ветвей. Как ратники сэра Тустэна кружили по лагерю, предупреждая всех, чтобы не было никаких драк или беспорядков, когда брат Ордерикус станет читать послание святого отца. Не менее четырехсот человек, как считала Розамунда, собралось после восхода солнца вокруг холма, где был воздвигнут крест. Позади креста легкий бриз со стороны сапфирового Средиземного моря развевал желтое с зеленым знамя сэра Тустэна. Эдмунд со своей стройной сестрой стояли справа от алтаря, устроенного из обломка колонны и красивой ионической капители. Розамунда внимательно разглядывала горстку загорелых женщин, казалось, благородного происхождения. Одетые в яркие и чаще всего недостаточно опрятные одеяния, они молча стояли около своих лордов. К ее удивлению, эти дамы разговаривали между собой по-итальянски. Между ними явно не было ни одной норманнки. Шестнадцать местных сеньоров, собравшихся здесь со своими пажами и оруженосцами, все до единого были вооружены до зубов. У каждого типичный нормандский щит. Поверх серовато-коричневых кольчуг на всех были потрепанные, разных цветов плащи. Только немногие обладали полотняными штанами, подвязанными крест-накрест по старой нормандской моде. Вокруг алтаря и креста постепенно образовалось плотное кольцо пеших копьеносцев, оруженосцев и ратников, а также рыцарей с квадратными флагами. Дальше толпились разношерстные группы крепостных, пастухов, рыбаков и земледельцев. Как только сухая фигура брата Ордерикуса начала продвигаться сквозь толпу к алтарю, всякий шум и разговоры прекратились. Следом за Ордерикусом выступали два монаха с тонзурами. Один – в грубом коричневом одеянии, другой – в черно-белой рясе. Смысл их присутствия вскоре стал ясен. Когда брат Ордерикус, отбросив капюшон сутаны, начал читать проповедь по-латыни, монах в коричневом громко стал переводить ее на нормано-французский язык, а его собрат повторял слова проповеди на итальянском. Озаренная утренним солнцем аскетическая фигура брата Ордерикуса, его одухотворенное лицо, воздетые к небу руки и проникновенные слова произвели большое впечатление на всех присутствующих. Опустившись на колени и сжав руки, они по знаку священнослужителя начали твердить «Отче наш». . Затем, отступив в тень креста, брат Ордерикус внимательно оглядел обращенные к нему лохматые головы; вздернув седую бороду, он начал говорить сначала тихо, а затем все громче и громче… – Прислушайтесь к моим словам, дети мои, ибо я принес вам очень важные вести. – Знайте, что наш святой отец Урбан Второй получил в прошлом году прискорбное известие от императора византийцев. Христианский монарх сообщил, что варварские народы, отвернувшиеся от Бога, вторглись в его восточные провинции. Они опустошают их огнем и мечом. Знайте же, что полчища этих язычников несметны. Они – как песок в пустыне. И называют их турками. Вместе со своими союзниками арабами они, подобно морским волнам, накатываются на стены Византии. На этот последний оплот христианства в Малой Азии. И если не подоспеет своевременная помощь христианам, неверные захватят этот город. Голос брата Ордерикуса, хотя и негромкий, доносил его слова через головы воинов в остроконечных шлемах до каждого в толпе простонародья. – Над Восточной Римской империей нависла смертельная угроза. Самые богатые ее провинции уже захвачены. Ныне турки уже пасут своих лошадей перед воротами самой Византии. И никто не знает, сколько наших собратьев-христиан турки умертвили, скольких поработили… – Голос немощного и хрупкого на вид монаха теперь уже гремел в вышине: – Внемлите мне, дети мои! Знайте, что эти нечестивые собаки до основания сносили Божьи церкви, предварительно загадив алтари… – Стон ужаса прокатился по рядам слушателей. – Эти дикари совершали обрезание христианским мужчинам, а их кровь вливали в сосуды со святой водой… Эдмунд де Монтгомери не выдержал. Крик ярости вырвался из его груди. А стоявший перед ним раненный в ногу рыцарь не мог сдержать ужасных ругательств. – Отродье Сатаны устраивает в церквах конюшни, – продолжал брат Ордерикус. – Эти демоны пытают христиан, как мужчин, так и женщин. Одних они привязывают к колоннам и пробивают их тела стрелами, так что люди начинают походить на ежей. Другим разрезают животы и заставляют детей Христовых ходить, наступая на собственные внутренности. Христианские женщины, невзирая на возраст, подвергаются насилию. Розамунда застыла от ужаса. Она увидела, как глаза у старого монаха загорелись ненавистью, словно факелы. – Сарацины, другие варвары, неверные, завоевавшие Святую Землю, грабят и убивают беззащитных христианских пилигримов, направляющихся помолиться перед Гробом Господним. Крики возмущения собравшихся слились в единый мощный гул. Лес копий заколыхался. – Кто отомстит за все эти преступления? На кого падет этот долг, если не на вас и не на ваших собратьев-христиан? – Брат Ордерикус высоко поднятыми руками начертал в воздухе крест. Он пристально вглядывался в лица, потемневшие от гнева. Наконец задержал взгляд на большой группе знатных людей и покачал головой. – Вы, имеющие рыцарские шпоры и перевязи, без сомнения доказали свою доблесть на поле брани. И тем не менее вы – грешники, обуреваемые гордостью И алчностью. Разве не вы в погоне за славой нападаете на своих единоверцев-христиан? Испытываете радость, повергая их наземь? Разве это достойно христиан? – Гневный голос проповедника зазвучал, как труба. – И смеете ли вы заявлять, что сражаетесь во имя Бога? Вы славные создатели сирот, могучие притеснители слабых и храбрые преследователи беззащитных женщин! По правде, вы всего лишь кровожадные убийцы, готовые сражаться за любое неправое дело, лишь бы похвастать своей удалью. Кого убиваете? Своих собратьев-христиан! И все для того, чтобы удовлетворить свою позорную жадность, умножить собственность! С подчеркнутой решимостью бенедиктинец еще раз обошел вокруг креста из ветвей. Он то и дело останавливался, внимательно вглядываясь в лица людей. Эдмунду казалось, что взгляд проповедника проникал в тайники совести, осуждая все, что противоречило рыцарскому долгу. – Покайтесь, о вы, грешники! – кричал бенедиктинец срывающимся голосом. – Прекратите распри и баталии. Вместо междоусобиц сражайтесь за дело Христа, Господа нашего. Святой отец Урбан призывает направить ваше оружие против собак антихриста Мухаммеда! Проникновенные слова брата Ордерикуса нашли отклик. Зазвучал клич, который около половины столетия вдохновлял воображение, веру и волю людей. I – Dieu lo vult. Бог желает, чтобы вы пошли войной на неверных! Кто первым пойдет на правое дело? Тогда раздался глубокий голос сэра Тустэна: – Святой отец, я уже поклялся предпринять странствие во имя Бога. Готово к этому и большинство благородных людей с севера. Взгляните, милорды, на это. – Указательным пальцем он дотронулся до алого латинского креста, который словно огнем горел на его простом белом плаще. – Отлично сказано, сэр Тустэн де Дивэ! – прокричал брат Ордерикус. – Я, недостойный слуга Бога, прошу вас двинуться против неверных и тем завоевать спасение вашим несчастным душам! Идите на битву с кличем: «Dieu lo vult!» Старик сделал паузу, дав возможность говорить своим переводчикам. Преклонив колени на каменистой земле, Розамунда де Монтгомери слушала проповедника. И вдруг она заметила, что он весь задрожал. Пена выступила в уголках его рта, черты лица изменились… – Святой отец уполномочил меня обещать, – блестя глазами, сказал он. – Всякий, кто двинется в это путешествие со знаком креста на груди, не должен беспокоиться ни за безопасность своих любимых, ни за свои земные владения. Так пусть же ничто не удерживает вас – ни страх перед будущим, ни любовь к жене, ребенку или дому… – Люди креста, обратите ваши лица на восток, ко Гробу Господню. Освободите святые места от дьявольской расы, отвоюйте их для себя. – Густые седые брови брата Ордерикуса распрямились. Его голос зазвучал доверительно: – Знайте, дети мои, что на земле Израиля реки текут молоком и медом. Иерусалим, Золотой город, ожидает вас. Многие неописуемо богатые города снова мечтают о христианских владыках. Разве не там жил и умер за нее наш Господь Иисус Христос? Так отправляйтесь же в путь во имя Бога. И ничего не бойтесь. Урбан Второй, святой отец, приказал охранять ваши скудные владения. Даже когда вы лишите детей Сатаны их сокровищ и, завоевав спасение, вернетесь домой, одетые в золотые одежды, украшенные бриллиантами. Сэр Вольмар сглотнул слюну и облизал губы. – Не бойтесь смерти, дети мои. Скорее приветствуйте ее. – Голос говорящего вновь набирал силу. – Запомните: его святейшество объявил, что если кто-нибудь из крестоносцев на пути в Иерусалим лишится жизни, то будет освобожден от всех грехов. Я уполномочен предоставить вам такую индульгенцию. Путь в Иерусалим, собратья-христиане, недолог. Борьба скоротечна, а награды вечны. К оружию, доблестные мужи христианского мира! В поход против неверных! Лучше пасть в сражении, чем предать Гроб Господень и стать свидетелями конца христианства на Востоке. И пусть богатые вооружат бедных, – продолжал бенедиктинец. – А богатым поможет сила более мощная, чем богатство. – Старый монах понизил голос; чтобы услышать его следующие слова, каждый из присутствующих напряг слух. – Боже! Я вижу, крестоносцев ведет ангел с пылающим мечом. Он поможет армии Христа победить и даст воинам вечное спасение… В толпе послышались голоса читающих исповедальную молитву – общее признание грехов. Постепенно к ним присоединились все собравшиеся вокруг холма. Многие плакали… Розамунда, опустившись на колени в тени от креста, наблюдала за происходящим. Уголком глаза она видела, как статный рыцарь с грубым лицом выхватил свой нормандский меч с рукояткой в форме красивейшего латинского креста. Воткнув его в землю, он склонил голову на руки, крепко сжимавшие рукоятку. Три монаха в унисон запели «Dieu lo vult! Dieu lo vult!» Сэр Тустэн и другие рыцари стали им подпевать. Даже сэр Вольмар, присоединившись к ним, зашевелил усиками, похожими на крысиные хвосты. Крики «Dieu lo vult!» звучали все громче. Испуганные голуби и ласточки в страхе разлетались во все стороны. Возбужденные боевые кони, фыркая и прижимая уши, шарахались и рвались с привязи. Даже самые отупелые крепостные, которые почти ничего не поняли из сказанного братом Ордерику-сом, послушно поддержали своими голосами священный клич. Брат Ордерикус мановением руки призвал собравшихся к тишине. – Готовы ли вы умереть за освобождение Святой Земли? – спросил он. – Готовы! – потрясая оружием, вопили люди. – Понесете ли знамя Христа без страха в битве против неверных? Ответом был могучий рев толпы. Захваченную общим возбуждением Розамунду сотрясала дрожь. – Тогда вперед на Священную войну, сыновья мои! – заключил проповедник. В голове у сэра Эдмунда вновь и вновь звучали рассказы об изуверствах, совершаемых турками: осквернение и разрушение христианских церквей, пытки и издевательства над пилигримами и пленниками, насилия над христианками и их порабощение. Боже, как смеет эта темнокожая раса богохульников причинять такие страдания последователям благородного Господа Иисуса? Всем этим ужасным жестокостям должен быть положен конец. И как можно скорее. Сэр Тустэн между тем достал из заплечного мешка своего оруженосца несколько длинных алых лент. Одной рукой он стал размахивать ими высоко над головой, а другую руку прижимал к эмблеме, пламенеющей на его белом плаще. – Кто из вас, милорды, станет носить священный крест? Кто присоединится к воинству Бургундии, Прованса, Северной Нормандии, Брабанта и Лотарингии? Прежде чем подумать, что он делает, Эдмунд де Монтгомери вскочил на ноги и бросился вперед. Приблизившись к брату Ордерикусу, он пал перед ним на колени. – Клянешься ли ты выступить с армией Господа? – громогласно вопросил бенедиктинец. – Даешь ли обет не уклоняться от беспощадного боя с неверными, пока не будет отвоеван Иерусалим? – Клянусь! – выкрикнул Эдмунд. – Иди же, сын мой, – продолжал проповедник, – и доблестно сражайся за дело Бога. Под приветственные возгласы проповедник повязал накрест две полосы красной материи вокруг левого плеча Эдмунда. Между тем рыцари один за другим делали шаг вперед, передавая копья и щиты своим слугам. На месте остались только два старых, немощных рыцаря. При виде такой картины темное лицо сэра Вольмара, казалось, немного прояснилось. Поцеловав распятие проповедника, эти сеньоры, которые враждовали годами и совсем недавно убивали друг у друга отцов, братьев и сыновей, обнимались и, плача, просили друг у друга прощения. Затем три монаха начали обходить толпу. Выслушав клятву служить верно, они прикрепляли к одежде рыцарей скрещенные полоски красной материи. Простые люди воспринимали это с радостной готовностью. От этого похода все они ожидали благоприятных перемен в их теперешнем безнадежном и жалком существовании. К тому же почти все они считали, что Иерусалим располагается не далее чем в неделе или, в крайнем случае, в двух неделях пути. И вдруг иссохший старик пастух, склонившись над посохом, пронзительно закричал. Корявым пальцем он указывал на болото, над которым все еще клубился утренний туман. – Видение! – кричал старик. – Смотрите! Вон там лежит Иерусалим! Видите стены, башни и храмы Священного города? Видите толстые стволы смоковниц, перед которыми течет медовая река? – Я вижу! Вижу! – неслось со всех сторон. Возбуждение толпы росло. Розамунде под воздействием этого возбуждения тоже мерещилось, что в клубах тумана сияют церковные купола… – Я вижу главу небесных сил, готового вести нас вперед! – завопил сэр Вольмар, пристально всматриваясь в небо из-под густых бровей. – Вы видите ангела воителей Гавриила, – объявил брат Ордерикус. – Он поведет вас к победе. А если вам придется пасть в битве или умереть в пути, приближенные к нему ангелы вознесут вас к неземному блаженству. Глянув через плечо, Эдмунд заметил усмешку на лице у сэра Тустэна. Однако, поскольку у ветерана был всего один глаз, Эдмунд не понял, то ли тот хитро подмигивал, то ли просто моргал… – Неплохая работенка, – посмеиваясь, проговорил Тустэн, возвращая оруженосцу пустой заплечный мешок. – Слава Богу, к отряду Сан-Северино мы добавим немало стоящих клинков. Герт Ордуэй добрался до Песто как раз в тот момент, когда брат Ордерикус и его сотоварищи заканчивали свои увещевания. Он, конечно, заметил толпу, окружившую близлежащий бугор, и немедленно решил узнать, что там происходит. Впереди Герта, прихрамывая, плелись два его связанных пленника. Это были крестьянские юноши, за которых он рассчитывал получить неплохие деньги с какого-нибудь торговца рабами. Если, конечно, такое цивилизованное заведение существовало в этой отдаленной, неведомой стране. Герт Ордуэй застиг парней врасплох: они поили скот у заросшего камышом пруда. К его удивлению, они не оказали ему никакого сопротивления. При первом взмахе топора бросились ему в ноги и стали просить о пощаде на непонятном языке. Конечно, Герт понимал, что эти пленники не представляли собой ничего особенного. Простые черномазые парни, жидконогие и узкогрудые. Однако сама возможность их продать поднимала его в собственных глазах: ему казалось, что он таким образом встал на путь восстановления былой мощи, утраченной танами Суссекса. Раза два в год торговцы и крестьяне Суссекса, рискуя своими жизнями и товарами, посещали ярмарки в Винчестере и Хоршеме. Там всегда можно было найти торговцев рабами и крепостными. Обычно они выставляли на продажу бедняг-саксонцев, захваченных во время восстаний, или попавших в плен датских, ирландских и арабских пиратов. Протискиваясь сквозь колыхавшуюся толпу босоногих, дурно пахнущих крестьян, одетых в овчинные куртки или тяжелые шерстяные плащи, Герт покрепче ухватил ремни, на которых вел пленников. У подножия холма Герт приостановился и, навострив уши, попытался уловить, о чем речь. Из слов брата Ордерикуса он почти ничего не понял. Но когда один из монахов стал переводить его слова на нормано-французский язык, он смог достаточно хорошо во всем разобраться. Вскоре он стал слушать с интересом. Особенно ту часть проповеди, где говорилось о невообразимых богатствах, которые предстояло отвоевать у неверных. Подгоняемый любопытством, Герт Ордуэй протискивался вперед. Наконец он смог уже хорошо разглядеть всю толпу, развевающиеся флаги и нескольких вооруженных рыцарей, окруживших деревянный крест. Внезапно кудрявый оруженосец весь напрягся. Святой Олаф! Где-то там, в толпе, солнечный луч высветил знакомое золотое пятно, очень похожее на волосы леди Розамунды. Герт поспешно перекрестился, желая убедиться, что это не призрак. Но нет. Слава Богу, это действительно была она, с ее прямой спиной, статной фигурой и высоко поднятой головой! Из уст оруженосца вырвался крик радости, потонувший в общем шуме: рядом с сестрой, возвышаясь на полголовы над самыми высокими рыцарями, стоял сэр Эдмунд де Монтгомери. Герт непременно бросился бы к нему со слезами радости на глазах – ведь саксонцы не были склонны скрывать свои чувства, но в этот самый момент говоривший, возвысив голос до крика, призвал к оружию. Ответом ему был общий вопль «Dieu lo vult!». Толпа задвигалась. Все мужчины и женщины вокруг Герта начали падать на колени, воздевать руки, громко каяться в своих грехах. Герта тоже увлекли слова проповедника, сулившего земные богатства, а также спасение души. И он был так поглощен признанием своих грехов и обещаниями их отпущения, что оба пленника, воспользовавшись случаем, избавились от своих пут и исчезли. С сильно бьющимся сердцем и сияющими светлыми глазами наблюдал саксонец, как его законный господин, встав на колени, принял две полосы алой материи. Несмотря на отсутствие у бывшего графа богатых доспехов и оружия, выглядел он очень вну- шительно… Однако пробраться к хозяину – не без помощи своего топорища – саксонец сумел лишь по окончании проповеди. Представ наконец перед своим господином, он бросился на колени и запечатлел смиренный поцелуй на его руке.
– Слава Господу Богу, это Герт! – воскликнул Эдмунд и, позабыв обычай, поднял юношу с колен и радостно обнял его. – Как ты сюда попал? – взволнованно спросил он.
– По суше вдоль берега, милорд, – блаженно улыбаясь, пробормотал оруженосец. – Я захватил в плен пару бродяг, хотел продать их как крепостных, но они сбежали от меня в толпе.
– Что за чудо? – раздался глубокий, мягкий голос девушки.
И снова Герт бросился на колени, на этот раз, чтобы коснуться губами руки леди Розамунды. А она гладила его курчавую соломенную голову с такой же нежностью, как гладила бы голову любимой собаки. А глаза эсквайра, устремленные вверх, лицезрели изумительную, ласковую улыбку, которую он так ценил с момента, как впервые увидел сестру графа в замке Арендел.
Розамунда, расчувствовавшись, твердила хрипловатым от волнения голосом:
– Дорогой Герт, я поставлю свечу в честь святого Христофора, который помог тебе спастись от жестокого моря.
шительно… Однако пробраться к хозяину – не без помощи своего топорища – саксонец сумел лишь по окончании проповеди. Представ наконец перед своим господином, он бросился на колени и запечатлел смиренный поцелуй на его руке.
– Слава Господу Богу, это Герт! – воскликнул Эдмунд и, позабыв обычай, поднял юношу с колен и радостно обнял его. – Как ты сюда попал? – взволнованно спросил он.
– По суше вдоль берега, милорд, – блаженно улыбаясь, пробормотал оруженосец. – Я захватил в плен пару бродяг, хотел продать их как крепостных, но они сбежали от меня в толпе.
– Что за чудо? – раздался глубокий, мягкий голос девушки.
И снова Герт бросился на колени, на этот раз, чтобы коснуться губами руки леди Розамунды. А она гладила его курчавую соломенную голову с такой же нежностью, как гладила бы голову любимой собаки. А глаза эсквайра, устремленные вверх, лицезрели изумительную, ласковую улыбку, которую он так ценил с момента, как впервые увидел сестру графа в замке Арендел.
Розамунда, расчувствовавшись, твердила хрипловатым от волнения голосом:
– Дорогой Герт, я поставлю свечу в честь святого Христофора, который помог тебе спастись от жестокого моря.
Глава 8 ГРАФ ТЮРЖИ
Граф Тюржи Второй, сын Тюржи де Берне, того самого отважного авантюриста, который помогал Роберу Гюискару завоевать Кампанию, Калабрию, а позднее и всю Сицилию, стоял на зубчатой стене своего замка Сан-Северино. Он с недовольством взирал на холмистую и малонаселенную равнину, расстилавшуюся вокруг зелено-голубым пятном. Ему было невыразимо скучно. До слуха Тюржи время от времени доносилось жужжание спускаемой тетивы – это молодые оруженосцы усердно практиковались на стрельбище. В другой части двора четверо вспотевших краснолицых рыцарей наносили друг другу удары обтянутыми войлоком булавами. На верхнем ярусе южной башни замка появилась леди Аликс и две прислуживающие ей дамы. Они образовали колоритную группу, усевшись за работу над многоцветными коврами, предварительно натянутыми на огромные квадратные рамы длинноногими юнцами из числа придворной челяди. Придерживая руками юбки, леди рассаживались на трехногих табуретах, и яркие солнечные лучи высвечивали различные пятнышки и пятна на одеждах. Подозрительные темные тени проступали у них на шеях и возле ушей. Они исчезнут лишь поздней теплой весной, когда дамы смогут принять – раз в полгода – ванну в огромном деревянном чане. Время от времени молодая Аликс де Берне задумывалась над слухами о том, что в окрестностях Сан-Северино находятся какие-то руины, среди которых есть любопытные сооружения. Там, как гласило предание, древние римляне могли мыться не два или три раза в год, а почти каждый день! Не то чтобы Аликс в это верила. Каждому известно, что человеку вредно мыться чаще одного раза в месяц. Зажав в пальцах специальную иглу, Аликс взглянула на леди Бланш, довольно глупую, но милую молодую женщину, у отца которой было небольшое владение к востоку от Мальфи. Чего ради она таращит свои бараньи глаза на брата Аликс Робера? Отец все заметил, и ему это очень не понравилось. Если Бланш не изменит своего поведения, ее отошлют обратно в грязный маленький городишко, откуда она и прибыла. – О, Аликс, – вздохнула Бланш, потягиваясь с кошачьей грацией, – разве такой славный день не достоин быть воспетым твоим менестрелем? Леди Элинор из Агрегенцы, младшая из двух прислуживавших женщин, скорчив недовольную мину, все же поддержала это предложение, и на поиски музыканта отправили одного из слуг. В глубине души Аликс сознавала, что как трубадур бедняга Ален не был выдающимся артистом. Она никогда бы не стала поддерживать отца в его намерении держать при дворе этого юношу. Но графиня Поликастро, их южная соседка, недавно обзавелась менестрелем. Чего же ради замку Сан-Северино отступать в тень перед меньшим графством? Алена стоит сохранить. Хоть пел он и неважно, но лучше плохой менестрель, чем никакой. Затем мысли леди Аликс обратились к Дрого из Четраро, другому соседу, который скоро станет гостем Сан-Северино. Дрого. Игла Аликс застыла над ковром, а ее гладкие и очень белые плечи покрылись гусиной кожей. Чем страшит ее встреча с ним? Дикий Вепрь из Четраро, как его называли во всей округе, был известен своей храбростью и необузданностью. Однако говорили также, что по отношению к понравившимся ему лицам он вел себя безукоризненно, его манеры просто очаровывали. Нет сомнения, что внушающий страх сосед заживо сдирал кожу со своих пленных врагов или подвешивал их за подбородок на железном крюке, вбитом в стену, обрекая на мучительную смерть. Но ведь почти каждый сеньор поступал так же или еще хуже. Возможно, размышляла молодая светловолосая девушка, которая вскоре вступала в свой восемнадцатый год, им повезло: ведь Дрого и ее отец оба находятся в вассальной зависимости от герцога Боэмунда Тарантского и потому не решаются вторгаться во владения друг друга. Менестрель, худосочный, черноволосый юнец, одетый в тунику явно не по размеру, появился с заискивающей улыбкой на устах. Он отвесил глубокий поклон дамам, а затем по сигналу леди Аликс уселся, установил лиру и начал петь:К тебе, кто так красива и мила, Чей лик светлее солнечного дня, Взываю: о взгляни же на меня.
Голос у бедного Алена был жалкий. Даже хуже, чем у ее брата Робера, решила Аликс. В конце концов, ей не пришлось долго страдать. Едва Ален добрался до конца куплета, она жестом приказала ему замолчать. Подняв глаза, она увидела, что леди Элинор встала со стула, указывая на покрытую туманом долину Сан-Северино: – Кажется, констебль возвращается? – с полувопросительной интонацией произнесла она. На торговой площади Сан-Северино появилась небольшая колонна вооруженных людей. Их шлемы и наконечники пик ярко отсвечивали на солнце. День был ясный, поэтому вскоре стали различимы цвета флажков, а тем более зеленый с желтым флаг сэра Тустэна. – У тебя глаза как у кречета, – рассмеялась Аликс, склоняясь над своей вышивкой. – Я надеялась, что первой увижу группу сэра Тустэна. Вскоре остроглазая девушка из замка Агрегенца взволнованно воскликнула: – Аликс! Вместе с людьми сэра Тустэна едет женщина! – Женщина? Ты в этом уверена? – переспросила Бланш. – Разве ты не видишь, как развевается ее юбка? Она едет между сэром Тустэном и каким-то странным рыцарем. Судя по всему, он высок и благороден, – излагала результаты своего наблюдения леди Элинор. Три женские накидки – голубая, желтая и темно-зеленая затрепетали, когда их обладательницы перегнулись через парапет, а волосами дам, перевязанными у каждой двойной тесьмой, начал поигрывать ветер. – Какой высокий незнакомец! И какой широкоплечий! – заметила Аликс, рассеянно поправляя венок из серебряных листьев, охватывавший ее очень светлые волосы. Медленно, в облаке желто-белой пыли, кавалькада приближалась к надвратной башне Сан-Северино. – Брату Ордерикусу, – воскликнула леди Бланш, – удалось убедить по крайней мере одного рыцаря предпринять странствие во имя Бога. Видите алый крест на плече незнакомца? Аликс де Берне ничего не ответила. Ее внимание было сосредоточено на стройной женщине, которая с такой легкостью и изяществом держалась в седле. Кто же эта девушка с медно-рыжими волосами, такими же длинными, как ее белокурые локоны? Дочь графа Тюржи протяжно вздохнула и нахмурилась. Хорошо, если посланная Богом женщина не слишком красива. Аликс де Берне очень нравилась ее роль первой красавицы графства. Между тем Розамунда с тревогой всматривалась в квадратную серую башню замка Сан-Северино, выделявшуюся на фоне белых облаков, скользящих по лазурному небу. Бланш из Мальфи выглядела, конечно, неплохо, несмотря на свое глуповатое лунообразное лицо Ее алый ротик был, пожалуй, слишком уж мал, глаза, правда, большие, но чересчур светлые, и к тому же она их все время таращила, глядя по сторонам. Черты лица у Элинор из Агрегенцы, в общем, правильные, но ее телосложение с точки зрения норманнов было далеко от идеала. К тому же рот великоват, а брови, увы, сливаются в одну линию. Под массивной надвратной башней трубач сэра Тустэна затрубил в рог, и эти звуки заставили рыцарей и ратников взяться за оружие, а на сторожевой башне в ответ было поднято красно-желтое знамя графа Тюржи. Подруги леди Аликс все еще смотрели с любопытством на прибывших, но сама она откинулась назад с внезапным предчувствием, что появление незнакомки усилит разлад, и без того уже имеющий место в замке Сан-Северино. Губы Аликс недовольно сжались, и резкий вздох со свистом вырвался сквозь ее белые и ровные зубы. Девушка на лошади оказалась не просто привлекательной. Даже в клубах дорожной пыли и несмотря на бесформенное платье, надетое на ней, было ясно, что эта стройная и статная девушка очень красива.
Глава 9 ПРАЗДНИЧНАЯ ТРАПЕЗА
Дым от очагов, расположенных по обоим концам главного зала замка Сан-Северино, затруднял дыхание, ел глаза. У Герта Ордуэя они слезились. Холодный послеполуденный ветер с Апеннин, казалось, выгнал из замка все весеннее тепло. Яростные порывы трепали матерчатые занавеси, прикрывавшие очень узкие незастекленные окна – по существу, бойницы для лучников. Ветер громко шуршал тростником, разбросанным по каменному полу зала, флаги-гонфалоны графа Тюржи, его сыновей и их главных вассалов трепетали от внезапных порывов. Все леди отчаянно дрожали, несмотря на плотные платья и тяжелые шерстяные плащи. У обеденного стола Герт позаботился занять место непосредственно за спиной своего господина. Молодой саксонец приближался к двадцати годам и считал, что уже слишком взрослый, чтобы разносить кубки. Однако поскольку паж его господина утонул, у него не оставалось выбора… К тому же кто-то должен быть наготове, если невзначай возникнет небольшая ссора. Герт не терял бдительности. Яркие блики то и дело вспыхивали на его волосах от света факелов, вставленных в железные канделябры. Факелы немилосердно трещали и добавляли копоти к дыму из очагов, плывущему по главному залу. Стол Т-образной формы, составленный из многих досок, помещенных на козлы, совсем недавно был расставлен для трапезы. В плохую погоду зал использовали для физических упражнений. Герт внимательно рассматривал лица сидевших за этим праздничным столом, во главе которого поместился седобородый граф Тюржи. Леди Розамунда, как всегда спокойная, но с интересом наблюдавшая за всем происходящим, занимала место справа от него. Молодой саксонец довольно усмехнулся. В казармах оруженосцев пронесся слух, который произвел настоящий фурор: этой, не имевшей ни единого пенни женщине предоставили место, которое обычно занимала леди Аликс. Справа от Розамунды восседал сэр Робер, мускулистый, стройный сын графа Тюржи. Он бесстрастно запихивал пищу себе в рот и говорил только односложно. В начале обеда разговоров вообще было мало. Раздавались лишь звуки усердного жевания, чавканье да порою громкая отрыжка. Сэр Тустэн, пользовался при еде кинжалом, то и дело отрезая кусок жареного мяса, который он затем перекладывал свободной рукой на ломоть черствого хлеба. Рядом с ним сидел сэр Хью, старший сын сэра Тюржи. Дальше – как всегда оживленная леди Бланш, а за ней безземельный рыцарь, который поклялся в преданности Сан-Северино в обмен на оружие, доспехи, строевую лошадь и содержание. Следующей по порядку сидела смуглолицая леди Элинор, а возле нее украшенный безобразной родинкой знатный дворянин, который имел небольшое феодальное владение в районе Салерно. Слева от графа Тюржи сидела его дочь Аликс. Ее светло-голубые глаза покраснели от дыма. У всей компании дым вызывал кашель. За Аликс, с удовольствием наблюдая, как та самым деликатным образом слизывает со своих пальцев густой соус, занимал место бывший граф Аренделский. Слева от Эдмунда быстро набивала едой рот скромная и голодная супруга заезжего вассала. При этом щеки ее раздувались, как у белки. Она намеренно не обращала внимания на капитана из охраны замка. Этот неотесанный и грубый человек без левой руки жадно набрасывался на мясо и вино. Таким образом, все общество было поглощено процессом набивания ртов. Многочисленные яства вносили в зал мрачные темнокожие сарацинские рабы. Довольно часто кто-нибудь из стражников бросал кость или кусок жира через плечо, вызывая шумную грызню среди любимых охотничьих собак, как обычно присутствовавших в обеденном зале. Лишь немногие из них держались в стороне, зализывая раны, полученные в то утро во время охоты на кабанов. Какой длинный день, подумал саксонец. Вначале он сопровождал своего господина во время охоты на дикого кабана в густых дубовых и ореховых лесах у подножия холмов. Затем участвовал и вместе с сэром Хью и сэром Эдмундом в поездке вниз по долине к месту строившейся на горном перевале, ведущем в Четраро, сторожевой башни. Герт ничуть не удивился, заметив, как леди Аликс подала знак Алену отрезать крылья и ножки у фазана. Когда он это сделал, она набросилась на тушку с непосредственной деловитостью голодной простолюдинки. Следовало ожидать, что и на нежном округленном подбородке леди Розамунды заблестят капли растопленного жира – без этого не высосешь мозг из говяжьей кости, искусно расколотой перед очагом рабом с грустными глазами. По сигналу своего господина Герт подбежал к деревянному чану и зачерпнул чашу горячей воды. Он предложил ее леди Розамунде, которая приняла ее и прополоскала рот. Повернувшись, она вполне элегантно выплюнула через плечо воду на пол, застланный камышом. Наконец знатные люди, наполнив до отказа желудки, слизнули последние капли жира со своих пальцев и расстегнули широкие пояса. Затем вложили в ножны свои кинжалы… При особенно сильном порыве ветра граф Тюржи кивнул своему оруженосцу и приказал ему поправить плащ, прикрывавший его искалеченную руку. Затем граф повернулся к дочери. – Когда же ты, ленивая девочка, – с упреком сказал он, – изготовишь, наконец, покрывало от ветра, которое ты обещаешь закончить со дня святого Михаила? Аликс потупила взор. – Прошу прощения, сэр. На следующей неделе оно будет закончено, – ответила она и бросила искоса взгляд на широкоплечего Эдмунда де Монтгомери; он привлекал внимание дам, несмотря на отсутствие каких-либо украшений и простую коричневую тунику. И вдруг через заваленный объедками и забрызганный стол Хью обратился к Розамунде: – Позвольте узнать, миледи, что вы почерпнули из проповедей отца Ордерикуса в Песто? Англо-норманнская девушка с надлежащей скромностью опустила глаза. – Слова этого святого человека были очень трогательны и вдохновенны, милорд, и я удивлена, что вы до сих пор не носите такой же красный крест, как сэр Тустэн и мой брат. – На вспыхнувшем лице Розамунды промелькнула легкая, но вызывающая улыбка. – Возможно, я ошибаюсь? Наверное, вы просто еще не слышали о призывах святого отца выступить против неверных? Эдмунд бросил на сестру тревожный взгляд. Чума ее побери за бестактные замечания! За прошедшие несколько дней она, конечно, должна была узнать, что темноволосые сыновья графа Тюржи на ножах друг с другом, поскольку оба хотели обрести крест, но один из них должен был остаться, чтобы охранять Сан-Северино. Правда, папа Урбан Второй посулил неприкосновенность собственности отправившегося в поход крестоносца. Но само собой разумеется, что на неспокойной земле Италии найдется немало никому не подчиняющихся людей. Считая себя проклятыми без надежды на спасение, они не постесняются наброситься на слабозащищенную крепость. Молодой Робер, высокий, но все же не такой могучий, как его суровый старший брат, поднялся на ноги. – Сир! – перекрывая рычание охотничьих собак, не поделивших большую кость, громко обратился он к графу. – Поскольку Хью ваш наследник, я заклинаю вас разрешить мне отправиться сражаться за Гроб Господень. – В его голосе звучало сильное душевное напряжение. – Вы ведь не раз признавали, что Хью превосходит вас в способности управлять Сан-Северино. Мой достойный старший брат прекрасно может оценить лошадь, корову или земельное владение в звонкой монете… Стул Хью с шумом отлетел назад. – Бог свидетель, что ты дерзкий мальчишка! Как ты смеешь называть меня, знатного дворянина, торгашом? Ты, который не научился еще как следует владеть копьем! Да турки перережут тебе глотку в первой же схватке! – Бесстыдно лжешь, самонадеянный хвастун! – зарычал в ответ младший брат, бросаясь вперед и обнажая кинжал. – Тихо, будьте вы прокляты! – взревел старый граф. – Заткнитесь оба! Иначе вам придется охлаждать свой пыл в моей подземной темнице! Робер, убери клинок! – приказал он. Когда Хью подался вперед, зарычав, как медведь, Эдмунд крепко схватил молодого человека за руку и удерживал до тех пор, пока два рыцаря не встали между Хью и его разъяренным младшим братом, которого пытался успокоить сэр Тустэн. – Ради всего святого, разведите их! – вскрикнула леди Элинор, которая весь вечер не сводила глаз с орлиного лица молодого Робера. Никак не желая успокаиваться, братья раскачивались в густом дыму, отшвыривая то одного, то другого из тех, кто пытался их утихомирить. Такие внезапные, опасные и бессмысленные стычки были обычным делом в среде всегда нетерпеливых и горячих норманнов. – Позовите сержантов! – приказал граф Тюржи, терпение которого лопнуло. Розамунда сидела совершенно спокойно, разглядывая зелеными глазами лезвие кинжала сэра Хью. Она сохраняла невозмутимость, будто все, что происходило, – не более чем учебная борьба. – Оставьте, сэр Хью! – кричал констебль. – Во имя Господа, сохраните свои удары для почитателей проклятого Мухаммеда. Вбежали сержанты. Их каски и кольчуги намокли от дождя и блестели. Они быстро выстроились в два ряда, образовав живой щит, разъединивший ожесточенных братьев. Граф Тюржи с облегчением перевел Дыхание, готовясь отчитать сыновей, когда снаружи послышался звук трубы. – Что, черт возьми, это означает? – ощетинился старый граф. – Это герольд, милорд, – объяснил офицер охраны. – Он требует немедленно допустить его к вам. – Он просит или требует, парень? – вмешался сэр Робер, убирая кинжал. – Требует, милорд, от имени своего господина Дрого из Четраро. – Пусть эта нечестивая собака хорошенько попросит допустить его, иначе он просидит у ворот, пока не сгниет. Все еще тяжело дыша, сэр Хью отбросил с глаз тяжелую прядь темных волос. – Да смилуется Бог над невежеством этого ломбардца. Вепря нужно оскопить, и мы это сделаем.Глава 10 ДИКИЙ ВЕПРЬ
Еще задолго до появления внушавшего всем страх лорда из Четраро ратники гарнизона Сан-Северино начали заниматься приведением в порядок своего оружия, доспехов, седел и конной сбруи. Они хотели выглядеть вполне готовыми к бою, оснащенными и вооруженными до зубов. Опыт оруженосца и кузнечное мастерство очень пригодились Герту Ордуэю. Ему пришлось потеть с рассвета до последних лучей солнца, проникавших в мрачные залы замка. Умение кузнеца теперь оказалось большим преимуществом: заработков Герта хватало, чтобы обеспечивать нужды безденежных сэра Эдмунда и его милой сестры. Молодой саксонец испытывал глубокую печаль, замечая подавленное состояние бывшего графа Аренделского, у котороговсе еще не было ни оружия, ни доспехов, ни боевого коня. Чтобы приобрести все необходимое для похода, у Эдмунда не было средств. В процессе ратных учений жизнерадостный, курчавый оруженосец сэра Эдмунда быстро проявил себя по крайней мере как ровня самым сильным эсквайрам из Сан-Северино. Не умея хорошо владеть копьем, Герт чаще применял тупой меч или обернутую войлоком булаву, в результате чего многие сильнейшие эсквайры оказывались поверженными ниц, оглушенными, истекающими кровью на мостовой двора. А в упражнениях с боевым топором вообще никто не мог ему противостоять. Вместе с тем, Герт Ордуэй вынужден был признать, что не обладал умением обращаться с лошадьми. Итало-норманнские юноши делали это гораздо лучше. Поэтому Герт усердно занялся изучением сложного процесса обучения боевых коней, которые брыкались, ржали и кусались в конюшнях Сан-Северино. Полезные сведения он получил от конюхов из числа обращенных в рабство неверных и от захваченного в плен византийского катафракта, то есть воина, служившего в тяжелой кавалерии. Ему надолго запомнился тот вечер, когда несколько молодых боевых коней были заперты на ночь в конюшне, а мусульманские рабы притащили туда овцу и закололи ее прямо перед их стойлами. – Большинство лошадей отроду боится крови и ее запаха, – пояснял пленный катафракт. – Их нужно приучать к виду крови, иначе в сражении с ними не управишься. У молодых жеребцов побелели глаза, они фыркали, ржали и пытались разнести свои стойла. Между тем прошедшие обучение боевые кони стояли спокойно и лишь изредка вздрагивали при виде крови. Сарацинские конюхи поведали Герту, что жеребенок, которому предстоит стать боевым конем рыцаря, должен появиться на свет в стенах человеческого жилья. Арабы традиционно считают, что рожденный в этих условиях жеребенок сразу привыкает к людям, не боится их и его легче приручать. Молодому англо-саксонцу было поучительно наблюдать, как дрессировали диких молодых жеребцов, добиваясь, чтобы они не обращали внимания на кобыл. Многие добрые рыцари, рассказывал поседевший старший конюх графа Тюржи, жизнью заплатили за любовные влечения своих коней в опасные моменты сражения. После того как кони оказывались обузданными и оседланными, их начинали учить, как вести себя в сражениях: стоя на задних ногах, передними сбивать пеших солдат и более низких всадников, а потом растаптывать поверженных врагов и рвать их зубами. Некоторое затишье наступило в семье де Берне после того, как граф Тюржи объявил гарнизону, собравшемуся во внутреннем дворе, что отряд Сан-Северино поведет в Святую Землю сэр Хью. Он поддержит кроваво-красное знамя герцога Боэмунда. Услышав такое решение, молодой Робер вновь пришел в ярость и поклялся искалечить своего брата на турнире так, что тот не сможет скакать верхом. На это Хью просто рассмеялся и продолжал оказывать внимание леди Розамунде де Монтгомери. Красивая и сдержанная молодая леди не подавала никакого повода судить, приветствует ли она поползновения наследника Сан-Северино, и, чтобы подразнить его, девушка льстила сэру Тустэну, проявляя интерес к его рассказам о кампаниях, в которых он сражался на краю света. Много лет назад сэр Тустэн поступил в качестве искавшего приключений рыцаря на службу к знаменитому Русселю де Байолю. Руссель де Байоль – норманнский авантюрист, наглый и алчный, как и Робер Гюискар. Лет сорок назад он был настолько могуществен, что возвел на престол, а затем и низверг византийского императора. Завоевал для себя огромные владения. Позднее, однако, по рассказам одноглазого рыцаря, счастье изменило де Байолю. Долгое время он был в заточении и умер в муках: его отравили вежливо улыбавшиеся гости, уверявшие, что бежали от жестокости нового басилевса взошедшего на трон в Константинополе. К рассказам ветерана о героических делах и опасностях Розамунда прислушивалась с неподдельным интересом и вниманием, повергая Хью в неистовую ревность. Примерно так же вела себя и леди Аликс. Она почти не сдерживала своих девичьих чувств. С того самого момента, когда медноволосый англо-норманн впервые ей улыбнулся, стройная дочь графа Тюржи стала задерживать дыхание, опускать свои большие голубые глаза и краснеть при каждом его появлении. Она старалась при любой возможности подойти к нему поближе, демонстрируя явный интерес к его прошлым подвигам и планам на будущее. Что касается сэра Эдмунда, то вначале его просто забавляло откровенное внимание со стороны этой красавицы. Постепенно ее настойчивый к нему интерес захватил молодого графа. Тем более что эта милая девушка пела как ангел Божий. Аликс вдохновила его на сочинение оды в ее честь, которой она горячо аплодировала, хотя пел Эдмунд еще хуже, чем бедняга Ален. Однако именно Розамунда правильно оценила этот скоропалительный роман. Сколько бы сэр Хью и его брат ни вздыхали по ней, сколько бы ни наскакивали друг на друга, как молодые петухи, она понимала, что роман этот ничем не закончится. Невозможно, чтобы граф Тюржи позволил любому из своих сыновей или дочери вступить в неравный брак с оставшимися без крова и средств чужестранцами. И когда однажды вечером Розамунда с братом поднялись на вершину башни, она обратилась к нему с предостережением. – Хотела бы сказать одно слово мудрому и любимому брату, – начала девушка. – Не уделяй слишком много внимания Аликс. Это ни к чему не приведет. – Почему? – резко спросил он. – Девица обожает меня, и, думаю, я тоже начинаю влюбляться. – В этом я, увы, не сомневаюсь, – со вздохом сказала Розамунда, – но жениться на ней тебе все равно не разрешат. Бывший граф замедлил шаг и обернулся к сестре. – Если я захочу жениться, Аликс де Берне непременно окажется на моем брачном ложе, – сумрачно пообещал он. – Невзирая на графа Тюржи с его нищенски одетыми сподвижниками! Этим голодным итальянским головорезам следовало бы посмотреть на богатые поля, рыболовные хозяйства и высокие леса Арендела. – Они ничего о них не знают, и это их нисколько не заботит, – напомнила ему Розамунда. – Нет, старый де Берне не допустит никаких бракосочетаний ни с тобой, ни со мной. Какие земли мы могли бы добавить к его владениям? Никаких. Поэтому гораздо полезнее для нас обратить внимание на то, как добыть оружие, кольчуги и коней для тебя и для Герта Ордуэя.Ежедневные ратные учения проводились обычно во дворе замка Сан-Северино или на ровном лугу за его стенами, где лошади могли скакать во весь опор. При любой возможности Эдмунд принимал в них участие на лошади, заимствованной у сэра Хью, и с оружием, которое ему одалживал граф Тюржи. Постепенно необычайная сила англо-норманна и его выносливость стали обращать на себя внимание. И даже вызывать зависть. Многие ли из этой итало-норманнской знати могли поднять с земли жеребенка-стригунка и держать его в воздухе так долго, как захочется? Многим ли удавалось с такой точностью и так далеко метать легкий боевой топор? Этот медноволосый юноша мог часами работать самыми тяжелыми мечами и булавами, а после этого еще" взобраться на высокую стену с тяжелым щитом за плечами. После того как другие знатные лица замка отправлялись в свои помещения, Эдмунд и его оруженосец предавались во дворе другим физическим упражнениям. Они бросали и ловили тяжелые камни, пока их мышцы не начинали потрескивать, а воздух они уже вдыхали жадными глотками. Сэр Эдмунд, однако, остерегался участвовать в прямом противоборстве с мускулистыми сыновьями графа Тюржи. В душе он был убежден, что в любое время может победить мощного молодого сэра Робера, на которого Розамунда начинала взирать со все возрастающим интересом. Но одержать верх над сэром Хью, ставшим вдвойне опасным из-за своей безнадежной страсти к Розамунде, могло оказаться делом очень трудным. Он был опытным бойцом, участвовал в сражениях не только в Сицилии, но и на севере Италии.
Наконец наступил день, когда часовой, проводивший дни и ночи на верху сторожевой башни Сан-Северино, оповестил, что к югу по долине Виа-Салерно движется многочисленная кавалькада. Незамедлительно загремели трубы, и гарнизон бросился собирать оружие и доспехи. У наблюдателей на укреплениях графа Тюржи буквально дух захватило, когда они насчитали не менее пятнадцати вооруженных до зубов рыцарей и вдвое большее число эсквайров. Все они следовали за оранжевым с черным знаменем барона Дрого. За ними в облаке белесой пыли скакало не менее шестидесяти верховых сержантов и ратников, а также длинная Цепочка запасных коней. Подобно звездам на спокойной поверхности пруда отсвечивали вдоль узкой дороги, расширявшейся к надвратной башне, наконечники копий и переливались на солнце пестрые флаги. Теперь всем на крепостном валу уже было ясно, что слуги барона Дрого гонят вьючных животных к лугу, расположенному под стенами замка. Там, несомненно, будет разбит лагерь Дикого Вепря из Четраро. После того как трубачи на башне над воротами протрубили несколько раз, двести воинов Сан-Северино в доспехах и с оружием в руках выстроились во дворе замка. Их ряды, заметил сэр Эдмунд, были не столь уж впечатляющими. Уж очень замызганными выглядели эти итало-норманны и их соседи из Ломбардии. Сэр Хью и его брат, причем на первом красовался алый крест, выехали за ворота, чтобы приветствовать высокопоставленного гостя. Когда до надвратной башни оставалось примерно с четверть мили, барон Дрого вонзил шпоры в бока своего прекрасного серого коня и поскакал к замку. Личный рог графа Тюржи в этот момент оглушительно заревел. С любезной улыбкой на лице Хью двинулся навстречу Дрого, чтобы предложить соседу руку со снятой в знак приветствия перчаткой. Эдмунд, стоявший вместе с сестрой на башне, отметил, что никогда еще не видел лица столь живого, красивого и жестокого, как у Дрого. Впечатления Розамунды де Монтгомери были во многом схожи с впечатлениями брата. Физиономия лорда из Четраро отливала бронзой, аккуратные усики и раздвоенная короткая борода были иссиня-черными. Знаменитый борец мог в определенной степени даже понравиться: волевое лицо с крупным, чуть горбатым носом, хорошо очерченные яркие губы. В левом углу рта – небольшой шрам. Широко расставленные ярко-голубые глаза барона из Четраро смотрели испытующе. Все говорило о его происхождении от тех тевтонских варваров, которых прозвали длиннобородыми и которые много веков назад окончательно завершили разрушение имперского Рима. – Почему я не вижу графа Тюржи? – услышала Розамунда недовольный вопрос Дрого, когда обутые железом копыта его коня застучали по камням двора. – Разве Тюржи умер, что для встречи дружественного соседа вышли только его сыновья? Молодой сэр Хью покраснел до корней волос. – Состояние раны моего благородного сира недавно ухудшилось, – поспешно объяснил он. – Поэтому нам с братом выпала честь препроводить нашего доблестного соседа в Сан-Северино. От взгляда барона Дрого ничто не могло укрыться. Он мгновенно оценил военную силу замка Сан-Северино. И даже довольно нагло потребовал, чтобы ему разрешили осмотреть оружейный склад. Однако такой привилегии граф Тюржи отказался его удостоить. По каким-то, очевидно одному ему известным причинам, граф Тюржи медлил с представлением своего могущественного гостя дамам. Поэтому несколько часов после прибытия ломбардца ушли на обмен любезностями и осмотр замка, а всю ночь высокого гостя развлекали две доставленные к нему четырнадцатилетние крестьянские девочки. И только утром сэр Хью провел гостя на вершину южной башни. Розамунда сразу почувствовала странное возбуждение и одновременно отвращение к этой широкоплечей фигуре в плаще из зеленого венецианского шелка, обшитого золотым галуном. Так вот он какой, этот легендарный любимец фортуны, безжалостный искатель власти и прославленный соблазнитель женщин, вне зависимости от их возраста и положения Розамунда сразу поняла, почему, если верить слухам, этому суровому дворянину не составляло труда завоевывать сердца милых и добропорядочных невест.
Без сомнения, этот человек вызывал непреодолимое физическое влечение. Розамунда бросила взгляд на Аликс: заметила ли она обращенное на нее внимание гостя? Но этого она так и не могла понять. Глаза Аликс ничего не выражали, а мелкие, но правильные черты ее лица оставались застывшими, как у мраморного бюста какой-нибудь знатной римлянки. – Леди Аликс де Берне, – произнес Хью. – Сестра, это наш сосед из Четраро. Конечно, ты слышала о его… доблести? – Конечно, – тихо ответила Аликс. – Кто же не слышал об удали нашего соседа… в самых разных положениях? Одетая в простое голубое камлотовое платье, отороченное полосками малинового с серебряной ниткой шелка, дочь графа Тюржи с застывшей на губах искусственной улыбкой неподвижно сидела на скамье. – Добро пожаловать в Сан-Северино, милорд из Четраро, – проговорила она и опустила глаза. – Я надеюсь, что вам у нас понравится. Широко расставив ноги и положив левую руку на золоченую рукоятку длинного кинжала, Дикий Вепрь из Четраро стоял и смотрел сверху вниз на хрупкую фигурку девушки. – Миледи, поскольку я намерен получить полное удовольствие от этого визита, то чем больше времени я проведу в вашем обществе, тем большей будет моя радость, – заявил он громким, но не лишенным приятности голосом. – А это леди Бланш, – продолжал Хью, – дочь сэра Джеффри из Мальфи… Леди Элинор из Агре-генцы. К сожалению, она лишилась роди… Старший сын графа Тюржи замолк на полуслове. Дрого из Четраро пристально и смело разглядывал Розамунду де Монтгомери, в то время как она задумчиво блуждала взглядом по долине и порывы ветра шевелили ее прекрасные золотистые волосы. – Клянусь Вакхом ! – достаточно громко произнес барон из Четраро. – Поразительная красота! – Он резко развернулся к сэру Хью: – Почему же вы так долго не представляли меня такой очаровательной леди? Все находившиеся на вершине башни замерли в ожидании. Было видно, как вздернулся подбородок леди Розамунды, а ее немигающий взгляд встретился с глазами ломбардца. Яркий румянец выступил на шее и лице девушки. – Леди Розамунда де Монтгомери, – поспешил сказать сэр Хью. – Она и ее брат, сэр Эдмунд, гости моего отца. Не обращая внимания на сына хозяина замка, Дрого подошел к Розамунде так близко, что его покрытое шрамами, грубое лицо закрыло ей все поле зрения. – Где же находится владение вашей семьи? В Бургундии? В Лотарингии? В Нормандии? – наклоняясь все ближе, спрашивал он. – В настоящее время нигде, – ответила она бесстрастно. – Мы с братом беженцы… из Англии. – Ваш брат – тот высокий парень, который объявляет себя графом Аренделским? – уточнил барон из Четраро. – До недавнего времени он и был графом, – подчеркнула Розамунда, не в силах оторвать взора от его гипнотизирующих темно-голубых глаз, буквально впившихся в ее глаза. – Мы лишились владений и зависим сейчас от щедрости графа Тюржи. Высокая темноволосая фигура в зеленом с золотом недовольно хмыкнула: – Жаль. Столь выдающаяся красота, как ваша, заслуживает большого богатства. Боюсь, что вам будет трудно подыскать в этих местах подходящего мужа. – Милорд, – гордо возразила Розамунда, – я не помню, чтобы спрашивала ваше мнение по этому вопросу. – Затем она медленно повернулась и отошла в сторону, остановившись возле неоконченного гобелена. Под изумленные взгляды всех присутствующих Дикий Вепрь последовал за ней через всю верхнюю площадку башни. – Сегодня вечером, миледи, – сказал он, положив руку на ее работу, – я устраиваю праздник в своем шатре. Для вас я оставлю почетное место. – Он повернулся к остальным присутствующим и обнажил крупные и очень белые зубы в удивительно покоряющей улыбке: – Я ожидаю и всех других леди. Сан-Северино был нанесен такой грубый удар, что с лица Аликс мгновенно исчезла улыбка, а Хью в гневе ухватился за рукоятку своего кинжала. В конце концов, разве не ясно, что ломбардец приехал сюда с явным намерением подыскать себе третью жену и заключить союз с Сан-Северино? Вместе с Четраро эти владения были бы равны герцогству, такому же, как унаследованное Боэмундом. Хорошо еще, подумал Хью, что Эдмунд де Монтгомери со своим взрывчатым нравом не присутствовал при этой сцене. И он предложил гостю перейти на арену для турниров. – Нет. Я хочу заняться соколиной охотой, – заявил Дрого, – и желал бы, чтобы леди Розамунда сопровождала нас. Голос сэра Хью прозвучал словно удар меча по точильному камню: – В этих местах наилучшее время для подпуска соколов – вечер. Вам, милорд, это должно быть известно. – В самом деле? – вспыхнул ломбардец. – Клянусь Вакхом, я занимаюсь соколиной охотой, когда к тому расположен. Аликс не ожидала от своего вспыльчивого брата такого самообладания. Быть может, он боится этого наглеца? Едва ли. Нет. Он просто добивается одобрения Розамунды. – Милорд, никто не может запретить вам выезжать с вашими соколами и собаками, когда вы того пожелаете. – Он заглянул Дрого в глаза. – Но во всем Сан-Северино не найдется такой никудышной птицы, чтобы ее запускали во время дневной жары… – Вот как? – удивился гость. – Ну, мои птицы, наверное, покрепче и могут летать в любое время… Хью перевел дыхание и украдкой глянул на Розамунду. – Милорд, сир ожидает вас на арене для турниров. Дрого заколебался. Затем согласно кивнул и последовал за сэром Хью вниз по винтовой каменной лестнице. Когда шум их шагов замолк, Аликс в весьма красочных выражениях стала поносить поведение Дрого из Четраро. Вначале это поразило Розамунду де Монтгомери, а потом начало ее забавлять. Умолкнув на некоторое время, Аликс посмотрела в сторону лестницы. – Молю Бога, чтобы мой сир понял, что меня не заставить выйти замуж за этого разбойника из Ломбардии. – Ну а мне кажется, что барон довольно хорош собой. – Бледное лицо Бланш вспыхнуло. – Разве никто из вас не заметил его гордой осанки? Для любой девушки покровительство такого выдающегося человека означает быть защищенной… – Защищенной и умерщвленной! – поправила Аликс сдавленным голосом. – Умерщвленной? – переспросила Розамунда. – Что означают ваши слова? – Этот невежественный тип в свои тридцать лет уже дважды овдовел. Половина или большая часть его огромного владения приобретена посредством браков. Разве не странно, что обе его жены погибли, после того как были признаны права Дикого Вепря на их наследственные земли?
Глава 11 БАРОН ДРОГО РАЗВЛЕКАЕТСЯ
Пурпурный шатер барона Дрого был разбит роем слуг из Четраро у подножия огромного каменного монолита, на котором возвышался замок Сан-Северино. Место, где расположился хозяин, в полном беспорядке окружали палатки его рыцарей-вассалов и обнесенные частоколом стойла для боевых коней и вьючных лошадей. На закате в лагере, в клубах едкого дыма, закипела работа. Длинноволосые, оборванные прислужники метались между шатром и кучей раскаленных углей, на которой медленно вращалась туша молодого быка, принимавшая постепенно красно-коричневый оттенок. Внутри шатра барона землю покрывали коврами. Изрядно изношенные во многих кампаниях, они все же оставались принадлежностью лишь очень богатых людей. Вокруг двойного ряда сооруженных на козлах столов были расставлены скамьи. Вечер был безветренный, спокойный. С каменистых холмов за торговыми рядами Сан-Северино явственно доносился лай пастушеских собак. Вплотную к шатру были установлены две бочки крепкого тосканского вина. Позднее они будут помещены на двухколесные тележки. Бочонки с менее благородными напитками, уже раскупоренные, предназначались для обслуживания сержантов и ратников из Четраро. Местные жители, достаточно смелые, чтобы приблизиться к лагерю ломбардцев, заметили весьма многозначительную деталь: на, казалось бы, мирных приезжих были надеты кольчуги. Привязанные к кольям боевые кони перебирали ногами и храпели. В сгущавшихся сумерках на дороге, спускавшейся от замка, появились ряды мерцавших факелов. Они медленно приближались к лагерю барона. Как только гости из замка Сан-Северино и их многочисленные стражники появились на лугу, навстречу им выехал Дрого со своими вассалами, чтобы провести прибывших через лагерь к своему шатру. Проезжая между палатками лагеря, сэр Эдмунд де Монтгомери убедился в том, что их обитатели уже выпили значительное количество вина. Не только высокий хозяин, но и большинство из его окружения говорили громко и вели себя достаточно развязно, разражаясь хохотом по малейшему поводу. Естественно, что после такого количества выпитого вина звучали здесь и язвительные замечания в адрес обитателей замка, и воинственные выкрики. И если пока не возникло еще открытых столкновений, то, видимо, лишь потому, что Дикий Вепрь приказал своим соратникам быть более сдержанными. Это была элементарная предосторожность. Ведь хорошо подготовленные ратники графа Тюржи по численности втрое превосходили его силы. Сэр Хью и его брат, гибкие молодые пантеры, испытывали чувство тревоги, когда помогали леди Аликс и двум прислуживающим ей леди выйти из неудобных носилок, доставленных двумя мулами. Что же касается Эдмунда де Монтгомери, то он чувствовал себя более свободно и уверенно: его сестра хотя и выглядела свежей, как роза, в честь которой и была названа, вдруг пожаловалась на недомогание. Таким образом она избежала приезда в лагерь ломбардца. Слезая с позаимствованного боевого коня, бывший граф внимательно осмотрелся вокруг. – Послушай, Герт, а ты что думаешь об этих северянах? Молодой саксонец осуждающе улыбнулся: от лагерных костров доносились ругань, грубые шутки, взрывы хохота. – Грязные и непристойные, как всегда, милорд, – ответил оруженосец. – Эти негодяи решительны и хорошо вооружены. – И добавил вполголоса: – Я чувствовал бы себя лучше, милорд, если бы на вас под плащом была рубашка с железными бляхами. – Господи, если бы она у меня была! – откликнулся Эдмунд. – Ведь вся одежда, которая на мне, взята взаймы. Отвратительный воздух внутри шатра ударил вошедшим в нос. Он был не только жарким и пропитанным дымом, но полон запахов несвежей пищи и пота давно не мытых тел. В свете пылавших факелов трое прислужников играли на похожих на арфу инструментах. Их жалобное побрякивание, однако, почти терялось в завываниях охотничьей собаки, привязанной к центральной опоре шатра. Ко всеобщему удивлению, банкет барона Дрого начался довольно чинно. Своевременно появлялись слуги, склонявшиеся под тяжестью боевых щитов, нагруженных дымящимися кусками говядины и свинины. Разносили также десятки скверно приготовленных индеек, уток и гусей. Они были зажарены целиком, включая головы. В позолоченном, ладно сбитом кресле справа от барона Дрого восседала леди Аликс. Ее тонкая красота резко контрастировала с массивным лицом и беспокойными глазами хозяина. Барон по случаю торжества был одет в черную с желтыми полосами шелковую тунику, и даже повесил на шею две длинные золотые цепи. Рядом с другими леди из Сан-Северино сидели знатные ломбардские рыцари. Эти бравые молодцы были в туниках до колен, отороченных мехом. Ниже виднелись панталоны из белого полотна. Обуты они были в короткие сапоги из мягкой кожи, первоначально окрашенные в красный, желтый или голубой цвета. Сейчас они были уже достаточно стоптанными, запыленными и все в пятнах конского пота. И вот Дикий Вепрь громко обратился к сэру Тустэну: – Я слышал, сэр рыцарь, что вы сражались среди византийцев? – Да, милорд, – сумрачно ответил одноглазый ветеран. – Однажды я служил под знаменами Русселя де Байоля. – В таком случае вы должны были сражаться у Манзикерта? – предположил ломбардец. – Нет, милорд, мы, франки, были, заняты осадой Чилиата, когда султан Aлп Арслан из-за предательства турецких наемников на службе Византии разгромил императора Романа Диогена. Так были потеряны самые богатые провинции Византийской империи… – В этом-то и заключается главная слабость византийцев, – сообщил Дрого леди Аликс. – Они нанимают варваров… вроде нас, – закинув голову назад, он засмеялся, – чтобы изгнать турок, сарацин, славян и прочих из пределов своей разваливающейся империи. Аликс подняла тонкие брови. – Но, милорд, разве турки и сарацины – не один и тот же народ? Барон Дрого бросил мозговую кость своему разносчику чаш. – Нет, миледи, – возразил он. – Сарацины – это арабы той же длинноносой и темнокожей породы, что евреи и армяне. Турки, или сельджуки, как их называют в Константинополе, подобно нам – белые люди. В массе своей некрасивые, но с прямыми носами и часто с серыми или голубыми глазами. Эти жаждущие крови дикари хоть и очень смелые, но, клянусь Вакхом, они не смогут противостоять Ударам франкской кавалерии. – Их султаны не так глупы, чтобы пускаться в подобные авантюры, – прорычал сэр Тустэн, сверкнув единственным глазом. – Мне вспоминается лишь один такой случай. Это произошло в 1072 году во время знаменитой битвы… на мосту Зомпи. Тогда нам удалось сокрушить турок, загнав их в теснину. Барон из Четраро рассмеялся: – Я видел турецких наемников, когда сражался в Фессалии под знаменами герцога Боэмунда, и могу сказать, что неверные, независимо от их породы, довольно трусливы. – Мускулистыми руками он разломил большой каравай хлеба. – Все равно жаль, что их остатки были изгнаны из Сицилии. Это было хорошее место для обучения молодых рыцарей. Глотнув еще вина, он неуверенным движением повернулся к Аликс де Берне и пробормотал что-то по-гречески. Герт, стоявший позади, увидел, что его господин усмехнулся. Сэр Эдмунд стыдился своего неплохого, хоть и далекого от совершенства знания этого языка. – Полагаю, что вы произнесли комплимент, милорд? – спросила Аликс. – Я не поняла ни слова. Сэр Тустэн усмехнулся и пояснил: – Думаю, что его замечание относилось к совершенству формы вашей груди, миледи. Многообразие яств и их неимоверное количество поражали. Однако прислужники были столь неловки и неуклюжи, что часто расплескивали соус на голые доски стола или обливали женские платья. Внезапно в дальнем конце стола возник шум. В воздухе повисли ругательства, сверкнула сталь. Какой-то рыцарь из Сан-Северино и другой, с севера, стояли, раскачиваясь и уставившись друг на друга. – Эй, вы там! Остерегитесь! – закричал Дрого. – Лейте кровь в другом месте… не хватало еще испортить мои ковры! И тут впервые подал голос Эдмунд: – Они не должны биться, милорд. Ни здесь, ни в другом месте… – Почему? – обернулся к нему хозяин шатра. – У обоих на плече крест. Они давали клятву никогда не нападать друг на друга… – К дьяволу таких благочестивых дураков! – зарычал Дикий Вепрь из Четраро на Эдмунда.- Прибереги свои советы для себя, безземельный попрошайка! С пылающим лицом англо-норманн вскочил на ноги. Он бросился бы на обидчика с обеденным кинжалом, если бы Герт и сэр Робер не схватили его с двух сторон за руки. – Успокойтесь, милорд! – уговаривал оруженосец, когда они покатились по ковру. – Он пьян и дразнит вас. Вы же не вассал графа Тюржи! – Тогда пусть он придержит свой язык, – дрожа от ярости, промолвил англо-норманн. – Оставь, друг Эдмунд, – наклонившись, прошептал младший сын графа Тюржи. – Этот Дрого – самый опасный среди тех, кто владеет мечом в этой части Италии. Он в одиночку удерживал мост близ Капуи, сражаясь против двадцати крепких ратников. И зарубил шестерых из них до того, как остальные бросились бежать… – Чума возьми этого ломбардского негодяя, – пробурчал Герт. – В прошлом году я был свидетелем, как меч моего лорда «Головоруб» рассек облаченного в доспехи датского пирата от шеи до поясницы. Граф один очистил от бандитов палубу проклятого судна. Я видел также, как он валил с ног или сбрасывал с коней самых доблестных рыцарей Англии. Я видел… – Замолчи, Герт, – прервал его Эдмунд. – Моя чаша нуждается в том, чтобы ее наполнили заново… Напрасно длинноволосый менестрель пытался разрядить обстановку, исполняя всеми любимую «Песнь о Роланде». Никто его не слушал. Леди, оставаясь на своих местах, были растерянны и напуганы. Между тем перепалка разгоралась. Голоса делались все громче. То здесь, то там перепившего участника торжества начинало тошнить прямо на полог шатра. Но это не мешало продолжать пиршество. В довершение всего пара привязанных поблизости жеребцов улучила время для шумной схватки между собой. Это, в свою очередь, вызвало переполох среди собак, поднявших ужасный лай. Леди Аликс, зажав руками уши, умоляюще посмотрела на сэра Хью. Но крупный темнолицый молодой рыцарь, видимо, свыкшийся с подобной какофонией, продолжал как ни в чем не бывало разговаривать с главным оруженосцем барона Дрого. Когда в конце концов установилось некое подобие порядка, хозяин встал и громко потребовал еще вина. И в эту минуту он впервые заметил отсутствие Розамунды де Монтгомери… – А где же ваша милая заморская гостья? – резко спросил он у леди Аликс, пощипывая свою черную раздвоенную бородку. – Кажется, я приглашал ее на праздник? Побледневшая Аликс опустила глаза. – Леди Розамунда сообщила о своем недомогании, милорд, и просила принести вам свои извинения. Из-под усов барона Дрого блеснули белые зубы. – Как посмела эта белолицая английская шлюха отказать мне? – сказал он по-гречески. Говорил он негромко, но достаточно внятно и с угрозой в голосе. Эдмунд, сэр Тустэн и другие, понимавшие этот язык, схватились за кинжалы. Огромным прыжком Эдмунд перескочил через стол, опрокидывая прислужников вместе с яствами и напитками, которые они разносили. И прежде чем барон Дрого успел выпрямиться на своем троне, пальцы правой руки Эдмунда сомкнулись на орлином носе ломбардца. Эдмунд так яростно стал трепать обидчика, что его длинные серьги раскачивались как миниатюрные качели. – . Спокойно! Спокойно! – призывал сэр Хью, вскочив на скамью. – Помните, что здесь вы подчиняетесь законам моего отца! И поскольку сподвижники графа Тюржи безнадежно уступали в численном отношении северянам, кинжалы один за другим опустились в ножны. Затаив дыхание, все наблюдали, как Дикий Вепрь из Четраро вытирал рукавом кровоточащий нос. – Ну, ты, поганая собака, – процедил сквозь зубы Эдмунд, обращаясь к барону Дрого, – пнуть тебя по яйцам, чтобы заставить извиниться? – Но что сказал Дикий Вепрь? – спрашивал сэр Хью. Сэр Тустэн, перекрывая шум, пояснил: – Он назвал на греческом языке леди Розамунду шлюхой. С большим трудом рыцарям графа Тюржи удалось сдержать сэра Хью и его брата. – Бог свидетель! Тебе, красноносая ломбардская свинья, придется мне ответить, – ревел Хью, прорываясь, словно безумный, сквозь визжащих женщин и перевернутые скамьи. – У меня есть право на смертный бой! -.прокричал Эдмунд. Его медные волосы пылали пламенем в свете факелов. Кругом слышались топот и взволнованные голоса желавших узнать, что произошло. С искаженным ненавистью лицом Дрого внезапно плюнул кровавой слюной англо-норманну в лицо. – Завтра, безземельная собака, я зарублю тебя, – прорычал он. – Нет! – Голос сэра Хью перекрыл шум. – Этот поединок может состояться только через два дня, если будете пешими, и через пять дней, если будете сражаться на конях. – Почему это? – недовольно крикнул северянин. Наследник Сан-Северино оглядел распаленные вином лица окружающих. – Этого чужеземца постигло несчастье, и поэтому он не имеет собственного оружия, доспехов и боевого коня. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к коню и оружию, которые я ему одолжу. Южные рыцари были поражены: когда этот англо-норманн потерпит поражение, что произойдет почти наверняка, одолженные доспехи, оружие и боевой конь – целое богатство – будут потеряны. Вместе с его жизнью. – Эй, ты! – огрызнулся Дрого. – Вооружать против меня эту безземельную собаку, по-моему, жест недружественный со стороны Сан-Северино. Я этого не забуду! В конце концов нетерпение Дрого, желавшего как можно скорее напасть на своего врага, было удовлетворено. Присутствующие приняли решение, что противоборцы будут сражаться через два дня пешими. Сэр Тустэн, задумавшись, мрачно покачал головой. Ему было известно, что Дрого был сильнейшим бойцом и блестяще владел мечом. О боевых способностях англо-норманна он не знал ничего, за исключением некоторых наблюдений на ристалище Сан-Северино.Глава 12 НА ЗУБЧАТОЙ СТЕНЕ
Среди разнообразных видов деятельности в замке Сан-Северино лавки лучника и кузнеца-оружейника не имели себе равных по значению. В первой изготавливали нормандские луки, приделывали наконечники и перья на сотни стрел. В другой ковали новые или чинили старые пики, клинки и шлемы. Но у Озрика, достаточно умелого главного кузнеца графа Тюржи, не хватало мастерства выковать тяжелый трехфутовый рыцарский меч с клинком столь же широким в конце, как и у рукоятки. Во всей Италии лишь немногие сарацинские рабы владели искусством ковать крепкие и надежные клинки, такие, какой был у «Головоруба». Герт Ордуэй, работавший в кожаном фартуке у наковальни, сделал передышку. Его обнаженные мускулистые плечи блестели от пота. В ушах непрестанно звучал монотонный скрип гигантских мехов, которые приводил в движение сумрачный помощник мастера Озрика. Рейнульф, обычно молчаливый эсквайр, оружейный мастер сэра Хью, пришел осмотреть творение рук Герта – тяжелое оружие из закаленного железа почти двух футов длиной. Его головка была глубоко погружена в раскаленные угли кузнечного горна. Это оружие вскоре превратится в булаву, ручку которой обернут сыромятной кожей. Диаметром в два дюйма, это изделие заканчивалось увесистым наконечником, или головкой. Иногда ударной части булавы придавалась пятиконечная форма или же форма сердца, – словом, такая, удар которой мог сокрушить и шлем и покрытую им голову. Булава, над которой трудился Герт, уже весила около пятнадцати фунтов и должна была стать еще тяжелее, когда Герт прикует к ней ниже головки широкий крюк. Наблюдавшие за его работой недоверчиво усмехались. Где это видано, чтобы к булаве приделывали крюк? Он нарушит баланс оружия. Посмеиваясь про себя, Герт вытащил большими щипцами тот самый крюк из воды и поместил его в раскаленные древесные угли. Усмехнувшись, Ордуэй произнес на ломаном нормано-французском языке: – Подождите, и вы убедитесь, что каждый умный норманн может чему-то научиться… У мастера Озрика юнец с льняными волосами пока еще явно не вызывал доверия. И когда Герт сунул булаву в пламя горна, он недовольно проворчал: – Не перегрей металл, глупец. Ты испортишь края головки. Герт не встревожился – в Англии острым краям булавы не придавали особого значения. Ценился лишь баланс и вес головки этого оружия. Наконец раскаленный добела крюк был прикреплен к булаве. Герт приподнял ее, повертел вокруг себя и удовлетворенно кивнул. Баланс оружия не был существенно нарушен. – Какое же применение твой господин может найти этому нелепому крюку? – презрительно осведомился эсквайр Рейнульф. – Поживешь – узнаешь. – Да, сэру Эдмунду понадобятся преимущества, – продолжал оружейный мастер. – Этот Дрого сильнее самого Сатаны. В прошлом году все видели, как он одним ударом меча начисто снес голову быку. – Но вы не видели милорда на поле брани. У него силы на десятерых. – Герт сделал вид, что сообщает это по секрету. И с раскрасневшимся от жара горна лицом Ордуэй сунул еще светившуюся багровым цветом булаву в воду. Густые клубы пара взметнулись к почерневшему от сажи потолку кузницы. Потом саксонец бросил свое изделие в чан с маслом. Когда оружейный мастер отошел, чтобы заняться своим ужином, состоявшим из черного хлеба и чечевицы, сваренной в оливковом масле, Рейнульф, глубоко вздохнув, мрачно сплюнул в горн. – Не говори своему лорду, что сэр Хью уже сожалеет о том, что рискнул своим вторым боевым конем, оружием и доспехами, – посоветовал он Герту. – У него нет оснований для беспокойства, – ответил тот. – Надеюсь. А знаешь ли ты, саксонец, на каких условиях мой хозяин одолжил твоему все это? Герт тряхнул светлыми кудрями. – Если твой господин будет побежден, – пояснил Рейнульф, – и Дикий Вепрь сохранит ему жизнь, тогда сэр Эдмунд должен будет поклясться служить Сан-Северино в качестве безземельного вассала до тех пор, пока его не освободят от клятвы. Однако я уверен, что Четраро убьет его. – Мой лорд одержит верх, – заявил Герт. – И будь ты проклят, если сомневаешься в этом, норманнская лиса. – Но если твой господин будет повержен? Что тогда, саксонец? – Что ж, – помедлив, ответил Ордуэй, – мне придется служить у сэра Хью. Герт, ясное дело, не заикнулся о своем стремлении восстановить былую славу дома Ордуэй и заполучить владения, равные землям, утраченным при Гастингсе.Уже два часа сэр Эдмунд де Монтгомери стоял на коленях перед парой канделябров, тускло освещавших алтарь маленькой темной часовни замка Сан-Северино. Его колени нестерпимо ныли от холода каменного пола. Тяжело вздыхая, он умолял Святую Деву и святого Михаила дать силу его руке. Прорывавшийся сквозь узкое оконце ветер погасил одну из свеч, мерцавших перед старинным византийским распятием из позолоченного серебра и ветхой дароносицей в виде черного пальца какого-то местного святого. Бедная часовенка была местом, лишенным малейшего удобства. Впрочем, как и вся эта типично норманнская крепость. Вообще, Эдмунду до сих пор немногое удалось увидеть. Эпидемии чумы, землетрясения, кровавые междоусобицы несли с собой смерть и опустошения. И лишь руины некогда богатой и густонаселенной римской провинции Калабрия запечатлелись у него в памяти. Последнюю молитву Pater Noster Эдмунд де Монтгомери произносил, сохраняя коленопреклоненную позу. Склонив голову и сжатые руки перед своим стихарем крестоносца, украшенным ярко-алым латинским крестом, молодой человек ничего не замечал вокруг. И вдруг он услышал шаги. Вздрогнув от неожиданности, Эдмунд резко повернулся: Аликс де Берне подходила к нему, держа в каждой руке горящую свечу. Вслед за ней шла Розамунда, необычайно красивая при свечах. Группу замыкала плотная фигура сэра Хью. В полном молчании преклонив колени и опустив головы, вошедшие начали, перебирая четки, читать молитвы. Благоговейную обстановку часовни нарушали только доносившиеся со двора замка голоса крепостных, задевавших молодых прислужниц, лай собак да частые удары молота по наковальне. Наконец леди Аликс поднялась с колен. – На вас снизошло милосердие? – мягко спросила она. – Да, миледи. Отец Анджело принял мою исповедь. Он уехал после третьей стражи. – Ваши молитвы, друг Эдмунд, должны быть услышаны, – пророкотал сэр Хью, – хотя бы ради этого ужасного холода и полного отсутствия человеческих условий в этой святыне. Бр-р-р! Пойдемте же поднимемся на зубчатую стену, на солнышко, пока колокол не призвал нас к трапезе. Наследник графа Тюржи пристально посмотрел на брата леди Розамунды и, к своему удивлению, обнаружил незнакомое умиротворение на лице, обычно возбужденном и гордом. Как мило выглядит чужеземная девушка в этой бледно-голубой накидке, думал Хью де Берне. Ее косы, ниспадавшие до талии и перевязанные голубой тесьмой, отливают красноватым золотом в отблеске свечей. Украшением ей служил простой венок из весенних цветов, спускавшийся на темные брови. На Розамунде это нехитрое украшение казалось сделанным из драгоценных камней и серебра. Молодая женщина олицетворяла собой ту чистоту и благородство, которое посвященные в рыцари юноши присягали защищать, если понадобится, ценою собственной жизни. В сумерках по стене замка Сан-Северино прогуливались все четверо: леди Аликс, сэр Хью, Розамунда и Эдмунд – и ждали приглашения к ужину, а пока восхищались причудливыми тенями, упавшими на окружавшие замок холмы. Неожиданно Розамунда остановилась и подняла руку. Тогда и все остальные услышали зловещие звуки. На лугу у подножия замка слуги вбивали в землю ряды кольев, обозначая прямоугольник для завтрашней смертельной схватки. Каждый удар топора отдавался в сердце Аликс де Берне. Ах, если бы только это не был поединок с Диким Вепрем из Четраро! Оставшись наедине с сэром Хью, Розамунда обратилась к нему: – В своих молитвах, милорд, мы с братом всегда будем вспоминать вашу щедрость. Мы благодарны за то, что в час нужды вы одолжили Эдмунду оружие и коня… – Я жажду не ваших молитв, дорогая, а вас самих. – Хью схватил ее прохладную и нежную руку и, опустившись на одно колено, запечатлел на ней долгий поцелуй. – Но это, сэр Хью, даже при моем желании невозможно. Ваш благородный отец никогда… – смутившись, залепетала Розамунда. – Если сир откажется принять вас без приданого, – горячо воскликнул старший сын графа Тюржи, – тогда, клянусь Гробом Господним, я мечом добуду его для вас! О прекрасная Розамунда, – продолжал молодой итало-норманн прерывающимся от волнения голосом, – в течение месяца я отвоюю для вас владения той самой ломбардской свиньи, с которой завтра предстоит схватиться вашему брату. В день нашей свадьбы оно будет присоединено к нашему графству. – Вы оказываете мне честь, благородный сэр. Я не достойна ее, – смутилась Розамунда. – Однако не забываете ли вы кое о чем? – Что вы имеете в виду? – спросил Хью. – Как же вы можете завоевать для меня такое владение, сэр Хью, если поклялись отправиться в странствие во имя Бога? – Провались он, этот крестовый поход! – с горечью вскричал Хью. – Ваша красота заставила меня забыть обет крестоносца. Тогда я… – Вы отправитесь вместе с герцогом Боэмундом, – твердо сказала Розамунда, – иначе я не смогу оценить вас по достоинству. – Но, прекрасная Розамунда, я ни о чем не могу думать, кроме вас! – Должны, сэр рыцарь. Ради своей чести, должны! Позднее, возможно, мы поговорим о том, как отвоевать для меня владение. Розамунда отвернулась и оперлась о парапет. Над сторожевой башней с криками кружилось воронье. – Сколько человек, по-вашему, мессир, встанут под знамена Сан-Северино для участия в походе? – Не менее сотни хорошо вооруженных рыцарей, сержантов и, ратников. И, очевидно, вдвое большее число крепостных крестьян с топорами и пиками. – Густыесветлые брови молодого норманна сдвинулись. – Невеселое это дело – взывать к черни. – Почему же? Разве они не имеют права на спасение? – Только святой Джон знает, сколько крестьянских хозяйств останется без присмотра, – задумчиво заговорил Хью. – Сколько плодородных полей останутся неубранными только потому, что толпа глупых, необученных крестьянских парней, прислушавшись к посулам брата Ордерикуса о спасении… и предвкушая возможность пограбить… – Насупившись, он бросил взгляд во двор. – Многие хозяева в этой местности уже бросили свои хозяйства, чтобы разлететься, как саранча, в разные стороны без ясной цели и без руководства… – Значит, крестоносцы начали собираться? – Ну да. Только вчера монах из монастыря в Капуе рассказывал отцу Анджело, что огромные отряды крестоносцев собираются за горами, известными как Альпы. – Казалось, молодой человек переживал внутреннюю борьбу. Голос его звучал напряженно. – Монах не мог назвать эти дальние страны и их суверенов. Если этот человек и другие странники не лгут, то еще до выпадения снега все христиане двинутся к Византии… – Византии? – Розамунда в изумлении подняла брови. – Но разве ваша цель не Иерусалим? Сэр Хью раздраженно провел рукой по своим длинным, до плеч, каштановым волосам. – Именно он, миледи, но прежде чем наступать, христианские армии должны сойтись в Византии, или в Константинополе, как некоторые называют этот город. Это наиболее подходящее место, как считает сэр Тустэн. Он ведь долго служил у восточно-римских императоров и, полагаю, знает, что говорит… Дорогая леди, – продолжал сэр Хью, его широкое молодое лицо напряглось. – У меня есть предложение, которое я прошу вас хорошенько обдумать. – Было бы крайне невежливо не поступить именно так. Пожалуйста, говорите. – Не отправитесь ли вы с нами в поход? – умоляющим голосом произнес он. – Нет, не смотрите на меня так удивленно. Говорят, что многие знатные дамы дали обет стать пилигримами не только для того, чтобы спасти свои души, но и ради своих мужей. Розамунда широко раскрыла глаза, отступив на шаг. – Мужа? Вы так сказали? А слышал ли ваш отец и повелитель о подобном вашем предложении? Взгляд будущего графа Сан-Северино грустно скользнул по раскинувшимся внизу садам и полям, оживленным цветением весны. – Нет, дорогая леди. Ему я еще ничего не поведал о глубине моей любви к вам. – И лучше не делать этого, сэр Хью, хотя я и хорошо отношусь к вам. О помолвке сейчас не стоит говорить. Казалось, что ее красивое лицо излучает слабый свет. – Но все же, – голос Хью стал более глубоким, на скулах проступили желваки, – она должна скоро состояться, и состоится. С самого вашего приезда в Сан-Северино ваши красота и грация мучают меня даже во сне. Розамунда внимательно взглянула на него: – Что вы хотите этим сказать? Да, я считаю вас храбрым и достойным рыцарем, и я верю вам. Но вы не должны проявлять открытого неповиновения вашему отцу, который был так щедр к моему брату и ко мне. – Мой сир беспредельно тщеславен и алчен, – проворчал Хью, глядя в сторону. – Даже теперь он вынашивает тайные планы, как превратить свое владение в княжество. Это было бы легко устроить, если бы ваш брат зарубил Дикого Вепря. – Он подошел ближе к Розамунде и, сжав кулаки, прошептал: – Подарите мне свое сердце, прекрасная Розамунда, и я найду достойный выход из положения. – Нет, вы должны запастись терпением, милорд, – мягко возразила девушка. – Помните, что еще многое предстоит сделать, прежде чем вы отправитесь в поход во имя Бога, и я прошу вас не слишком отдаваться своему влечению ко мне. – Влечению, – вспылил Хью. – Я обожаю вас… люблю так, что это невозможно выразить. Как только война против неверных будет выиграна, вы вернетесь, чтобы стать графиней Сан-Северино, и это произойдет через несколько месяцев. Эти турки, что бы ни говорил одноглазый Тустэн, ни в коем случае не выдержат натиска франкской кавалерии! – Через несколько месяцев? – Очаровательные губки Розамунды раскрылись. – Скажите же, милорд, как долог путь до Иерусалима? Он нетерпеливо пожал плечами: – Несколько недель, самое большее – два или три месяца. И конечно же мы сразу возьмем штурмом Священный город. – Почему вы так уверены? – Разве брат Ордерикус не обещал, что небесные легионы будут сражаться на нашей стороне? – Да, но все же не мудрее ли подготовить себя к длительной и трудной кампании? – Розамунда спокойно запахнула накидку. – А теперь, милорд, не перейти ли нам в обеденный зал? Она пошла по зубчатой стене, над которой уже парили на своих бесшумных шелковистых крыльях многочисленные летучие мыши, но Хью де Берне сжал ее запястье. На его лице появилось выражение гневного подозрения, столь характерное для норманнов. – Вы отталкиваете меня ради другого? – Отпустите мою руку, – холодно сказала Розамунда. – Вы роняете свое достоинство. Хью тряхнул головой и все еще не отпускал руку девушки. – Ха! Вот в чем дело! Я часто видел вас вместе с моим братом Робером. Вы даже пели, чтобы Доставить удовольствие этому неумытому молокососу! Неожиданным и на удивление сильным движением Розамунда высвободила запястье. – Если бы это было так, я бы вам ничего не сказала. Идемте, милорд, вечер становится прохладным. – Приподняв юбки, она быстро двинулась вперед, не останавливаясь, чтобы выслушать извинения сэра Хью.
А чуть дальше у парапета, в месте, незаметном для часовых, леди Аликс в свете заходящего солнца, которое окрасило ее белокурые локоны в нежно-розовый цвет, задержав шаг, указала на север со словами: – В том направлении лежат владения вашего врага. – Она негромко рассмеялась. – Милосердная Дева Мария! Разве я забуду когда-нибудь выражение лица Дикого Вепря, когда вы схватили его за нос? О, Эдмунд, если бы вы могли с такой же легкостью завоевать его земли! Англо-норманн беспомощно развел руками: – Но как, миледи? Какие у меня сподвижники? Единственный эсквайр, и я даже его одного не могу накормить и вооружить. Аликс придвинулась к Эдмунду ближе и похлопала его по руке. Боже! Какие мышцы она ощутила. Эта рука была толще бедра тех жалких крепостных, которые встречались ей, когда она проезжала по владениям своего отца. – Не опасайтесь. Скоро вы сможете завоевать владения – если не в трудном бою, то с помощью хитрости. Именно так здесь приобретались состояния с тех пор, как первые норманны появились в этих местах в качестве паломников. Сначала их нанимали для защиты различных владений, а затем они оседали тут и вскоре сами становились властителями. – Полные губы Аликс дрогнули. – О, Эдмунд! Когда вы вступите на ристалище, я переживу тысячу смертей. Я буду молиться за вашу победу так, как никогда раньше не молилась. – А вы действительно страшитесь за меня? Почему? – Эдмунд внимательно всмотрелся в женское лицо, освещенное вечерней зарей. Пальцы Аликс сжали его предплечье. – Если бы только у вас были ваш собственный меч, булава и щит! Я была бы спокойнее. Я знаю, что ваша сила и уменье далеко превосходят все то, чем обладает обыкновенный человек… – Почему вы так говорите? – с волнением спросил Эдмунд. – Я не была бы дочерью графа Тюржи, если бы не могла определить, хорошо ли выковано оружие и хорошо ли объезжен конь. – Голос Аликс звучал подобно низкому регистру виолы. – Много раз я видела, как вы продолжали вращать тяжелым мечом, после того как самые сильные из наших рыцарей были вынуждены прекратить это занятие. Я наблюдала, как вы и ваш оруженосец словно мелкой галькой перебрасывались огромными камнями… – Я сделаю все от меня зависящее, – заверил Эдмунд с застенчивой улыбкой. – Во-первых, потому что вступаю в бой, чтобы поддержать доброе имя чистой и добродетельной девушки. Во-вторых, я хочу наказать Четраро, потому что его манеры не свойственны порядочным людям. В-третьих, я не имею права потерять броню, коня и оружие, которые ваш брат так щедро мне предоставил. Огромные голубые глаза Аликс широко распахнулись. – Коня? Но… но я думала, что вы будете биться пешими! – Так и будет, красавица Аликс. – Он придвинулся ближе, прикрывая Аликс своим плащом от холодного бриза с Аппенин. – Сэр Хью был прав. Он не советовал мне сходиться с таким грозным противником верхом на незнакомом мне чужом боевом коне. Но хотя мы и будем сражаться пешими, все равно боевой конь останется про запас. И последнее, моя милая леди. У меня нет ни малейшего желания умереть завтра утром… слишком многое мне еще предстоит совершить. – Совершить? – Аликс еще шире открыла глаза. – Да. Я не имею представления, где расположены земли неверных, – признался он. – Я не знаю, как там, на краю света, ведутся войны. Но сэр Тустэн утверждает, что все там сильно отличается от наших обычаев. – Огромная фигура англо-норманна, казалось, еще выросла на фоне вечернего неба. – И все же я, дорогая моя леди, обещаю: я найду возможность создать отряд, который и поведу в бой за спасение Гроба Господня. Затем, когда наше победное знамя снова взовьется над Иерусалимом, я отвоюю у неверных богатое плодородное владение для себя и моих будущих наследников. Дрожащими пальцами Аликс поглаживала его широкую мужественную руку. – Вы совершите все это! – воскликнула она. – Всем сердцем я верю в это. – Она вздохнула и посмотрела вдаль, на равнину, где уже заплясали огни лагерных костров четрарцев. А он перебирал в уме обрывки сведений, которые ему удалось узнать о боевых приемах его противника. Он сознавал, что предстоит столкнуться с соперником, намного более опасным, чем те, которые ему встречались раньше. Эдмунд уже не был уверен, что его чрезвычайная сила обеспечит ему победу. К тому же его беспокоила возраставшая озабоченность молодого Герта, который, пообщавшись с оруженосце?." из лагеря барона, услышал рассказы об удивительной выносливости Дикого Вепря и его способности одинаково хорошо биться любой рукой. Хорошо еще, размышлял Эдмунд де Монтгомери, что завтрашний смертельный бой начнется с мечей. Что же до использования булав, то он твердо знал, что нельзя позволить противоборству продолжаться до тех пор, когда их применение станет неизбежным. Меч всегда был его любимым оружием, хотя не менее хорошо он владел и копьем. От этих мыслей Эдмунда вернуло к действительности пожатие пальцев Аликс де Берне. – Я не знаю, о чем вы задумались, дорогой лорд, – тихо сказала она, – но знаю вот что: если завтра, избави Бог, вы будете побеждены, клянусь перед распятием, остаток жизни я проведу в монастыре. Эдмунд сжал ее руку, жесткое выражение его лица смягчилось. – Не говорите так. Есть много рыцарей, более достойных, чем я. – Нет, милорд. Я тверда в своем намерении, – повторила Аликс. Затем, прежде чем Эдмунд догадался о ее намерениях, обвила рукой его шею и страстно прижалась губами к его губам. – Всю ночь я буду молиться, милорд. И не только о том, чтобы вы избавили нас от Дрого, но и о том, чтобы вы остались живы, смогли выступить против неверных и… чтобы вернулись взять меня в жены…
Глава 13 НА РИСТАЛИЩЕ
День обещал быть ясным. Еще за полчаса до восхода солнца в коридоре, ведшем в плохо обставленную комнатушку, где отдыхал бывший граф из Арендела, послышались осторожные шаги. Англо-норманн лежал, растянувшись на соломенном тюфяке, подложив руки под голову. Широко раскрытыми глазами он уставился в потолок, словно разглядывая грубо обтесанные балки перекрытия. Быть может, это был его последний рассвет. А может, сегодня он сделает первый важный шаг к восстановлению богатств семьи де Монтгомери… В каморку вошел молодой сэр Робер, вооруженный с головы до ног. – Завидное хладнокровие, – сказал он, глянув на Эдмунда. – Будь я проклят, если бы смог уснуть перед встречей с Диким Вепрем на ристалище. Эдмунд высвободил ноги, отбросив покрывало из волчьих шкур, и встал. Его нижняя полотняная рубашка отяжелела от испарины. Вслед за Робером появился Герт Ордуэй. Он принес деревянную чашу с горячим супом и большой ломоть хлеба. Следом прибыл необычно мрачный сэр Хью. За ним шли два эсквайра, сгибавшиеся под тяжестью данного взаймы оснащения. Сир желает вам победы, – сообщил сэр Хью, и лицо его прояснилось. – А еще он просил меня сказать, что, если вам удастся избавить нашу местность от этой ломбардской свиньи, он дарует вам Лукано. Владение, конечно, небольшое, но оно известно хорошо укрепленной башней и двумя процветающими деревнями. – Искренне благодарю достойного и щедрого сира, – ответил Эдмунд и проглотил суп в два приема. Потом он наклонился и позволил Герту надеть на себя подбитую войлоком кожаную куртку, которую обычно носили под кольчугой. Надел краги, достигавшие колен. Рейнульф принес одну из лучших кольчуг сэра Хью. Он хотел помочь Эдмунду надеть ее, но Герт не допустил этого. – Никто, кроме меня, не будет готовить моего лорда к бою, – решительно заявил он и взялся за длинную, до колен, кольчугу, имевшую с обеих сторон разрезы до самых бедер. Англо-норманн почувствовал себя увереннее со знакомыми ему двадцатью фунтами железа на плечах. Когда же на ногах у него появились подкованные железом башмаки с парой блестящих шпор, он довольно рассмеялся. – Туже, еще потуже, Герт, – приказывал он, когда на нем закрепляли широкий, покрытый железными бляхами пояс для меча. – Святой Михаил и святой Олаф помогут вам добиться победы, милорд, – твердил Герт. – Вы уложите этого Дикого Вепря, как вы это сделали с великаном-датчанином на острове Уайт. Затем сэр Робер подозвал к себе своего эсквайра и взял у него плащ из светло-голубого полотна. – Это посылает моя сестра и просит, чтобы вы надели его из любезности к ней. Сосредоточенные, с необычайно серьезными лицами знатные люди Сан-Северино собрались вокруг. Они хотели убедиться, что данная взаймы кольчуга пришлась впору и ее складки не мешают движениям. – Думается, молодой Ордуэй, ты мог бы подрезать покороче волосы своему господину, – предложил сэр Хью. – При такой длине они будут сбиваться и перегреют ему голову. – Самое лучшее, если вам удастся покончить с ломбардцем своим мечом, – высказался сэр Тустэн. – Да, – согласился капитан стражи, – говорят, что в употреблении булавы этот Дрого не имеет себе равных… Не забывайте, милорд, что он одинаково хорошо управляется с оружием любой рукой. Вскоре группа всадников Сан-Северино в полном боевом облачении выехала из ворот замка. Слышались обычные грубые шутки и предсказания, взрывы громкого смеха. За всем этим с надвратной башни наблюдали возбужденные и взволнованные дамы. Все всадники держали в руках копья, украшенные яркими разноцветными флажками. Все были вооружены длинными нормандскими мечами на изготовку, так как противоборства часто превращались в жестокие всеобщие схватки. Многие воины в остроконечных шлемах с носовыми пластинами не любили боевые топоры. Вместо этого они были вооружены булавами, торчавшими из-за туго перетянутых поясов. Грозная, немало повидавшая компания медленно продвигалась вниз к лугу для ристаний; не было ни ярких султанов из перьев, ни нарядных лошадиных чепраков, ни богато украшенных плащей на всадниках. Это были несгибаемые воины, всегда готовые к смертному бою. Сэр Тустэн, поблескивая на утреннем солнце своим единственным глазом, ехал слева от Эдмунда, а сэр Хью – справа. – Пока ваш противник будет сражаться со щитом в руках, – наставлял Эдмунда ветеран, – не ждите от него больших подвохов. Но как только он отбросит в сторону свое прикрытие и освободит обе руки… будьте настороже! Известие о предстоящей схватке распространилось быстро и довольно далеко. Вокруг ристалища уже собралась толпа зрителей. Здесь был весь гарнизон замка Сан-Северино, не считая нескольких инвалидов, которых оставили сторожить ворота. И уж конечно все окружение барона Дрого. Немного в стороне стояли загорелые крестьяне и пастухи в шерстяных плащах и круглых островерхих шапках, которые носили в этой местности уже свыше тысячи лет. Съехались и многие местные рыцари и арендаторы их земель со своими дамами, сопровождаемые толпами полуголодных крепостных. Вместе со своими собаками последние покорно брели в пыли, поднятой лошадьми их господ. Сосредоточенный и подтянутый Эдмунд окинул взором луг. С юга подул сильный ветер, затрепетали, захлопали чувствительные к погоде хоругви и флажки. Момент, который следовало бы запомнить. Наконечники копий уже мелькали у обоих входов на ристалище… Граф Тюржи, изрыгая проклятия всему на свете, все же позволил доставить себя из замка на конных носилках. Вокруг него собралась группа облаченных в броню соратников. Эти люди участвовали вместе с ним во многих битвах. Вместе с другими знатными дамами Сан-Северино Аликс и Розамунда прошли на башню над воротами. Они хотели хотя бы издали посмотреть на предстоящее единоборство. Полные и яркие губы Розамунды дрогнули, когда она увидела брата, слезавшего с коня у западного входа в ристалище. На фоне зазеленевшей весенней травы его зелено-голубой плащ не так выделялся, как алый, в который был одет Дрого из Четраро. Незнакомое щемящее чувство нарастало в груди Розамунды. Почему же она, вопреки собственному желанию, чувствовала себя такой встревоженной при виде алого плаща? Над толпившимися на лугу людьми летали голуби, а чуть в стороне высоко в небо взвился жаворонок и пел от счастья, не обращая внимания на то, что внизу с минуты на минуту должен был начаться жестокий бой… Эдмунд сохранял спокойствие. Склонив голову, он позволил надеть себе тесную шапку и туго привязать ее холодными промасленными тесемками к шее. Затем Герт передал ему тяжелый шлем с предохранявшей нос пластиной, которая могла сослужить ему хорошую службу. – Лучше отбросьте ножны, – вполголоса посоветовал сэр Тустэн. – Они тяжелые, а пользы от них в этом деле никакой. Герт передал своему господину булаву, над которой он так старательно трудился. Ее рукоять была теперь обтянута сыромятной кожей, а через круглое отверстие на конце был пропущен ремень. Широкий крюк, прикованный к булаве, ярко засверкал, когда Эдмунд, напрягая мышцы, несколько раз взмахнул над головой увесистым оружием. Потный от волнения сэр Хью протянул Эдмунду меч с тяжелыми латунными предохранителями, укрепленными над рукояткой. Хотя он был тяжелее большинства таких мечей, все же ему недоставало не менее трех фунтов до убийственного веса «Головоруба». Лезвие, однако, было крепким и уравновешено металлическим утолщением у хвостовика. Считалось, что в нем содержится ноготь святого Ансельмо. Полностью оснащенный и вооруженный сэр Эдмунд де Монтгомери обвел взглядом ристалище и отыскал своего врага, также окруженного рыцарями и эсквайрами. Среди них ярко выделялся плащ ломбардца. Можно было хорошо различить каштановые волосы, темную бородку и усы Четраро: тот пока еще не надел подшлемника и шлема. Стараясь подавить волнение, Эдмунд оглянулся. О как приятно было увидеть знакомые лица вокруг Герта. Генри, Зуберт, Озрик, Ральф… Он увидел всех тех молодых людей, которых знал как оруженосцев и молодых рыцарей. Никогда еще он не испытывал такого тревожного состояния, но все равно, с Божьей помощью, он покажет этим чужеземцам, какой доблестный воин прибыл из Арендела. Ему вспомнились многочисленные подвиги его отца, рыцаря, странствовавшего тогда среди бургундцев, дикого народа, населявшего земли к югу от Нормандии. И все же старому сэру Роджеру никогда не доводилось бывать в более чужеродном окружении, чем то, в котором очутился его сын. Слава Богу, думал Эдмунд, скоро все начнется. Вероятно, сегодня перед боем не прозвучат фанфары, не будет скрещивания копий и бравого гарцевания коней. Не присутствуют и дамы, размахивающие платками и подбадривающие рыцарей громкими возгласами. Ристалище, как с удовольствием отметил Эдмунд, неплохое. Оно представляло собой зеленый и ровный квадрат стороной примерно тридцать футов, окруженный забором из свежесрубленных бревен. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоить сердцебиение, Эдмунд окинул взором уродливую серую массу замка Сан-Северино. Розамунда и леди Аликс, наверное, наблюдают за ним с башни. О чем же думает Аликс, когда приближается «момент истины»? Эдмунд невольно вытянул меч в направлении отдаленной крепости. Затем торжественно поцеловал крестообразное пересечение его рукоятки и предохранителей. По сигналу графа Тюржи трубач поднял рог Сан-Северино и оглушительно затрубил. Плохо обученные вьючные лошади шарахнулись в сторону и заржали. Объезженные боевые кони не испугались и словно бы вообще не обратили на громкие звуки рога никакого внимания. Как только трубные звуки умолкли, окружавшие Эдмунда рыцари поспешно вскочили на коней и схватились за копья, которые держали наготове их эсквайры. Если это единоборство перейдет в общую схватку, они с радостью готовы принять в ней участие. Многие недели Эдмунд не испытывал такого радостного возбуждения, как в момент, когда отсалютовал графу Тюржи и смело вступил в огороженное пространство. Лазурно-голубой подарок Аликс развевался у его колен. Ремень щита покоился на левом плече. Но вот раздались пронзительные крики зрителей. Под прикрытием большого, тщательно отполированного щита с рельефным украшением в центре появился барон Дрого из Четраро. Оснащение ломбардца, как заметил Герт в пылу нетерпеливого ожидания, было сходно с оснащением его господина. Исключение составляла тяжелая кожаная сумка, прикрепленная к поясу барона. Каково ее назначение? Из толпы зрителей неслись крики нетерпеливого ожидания. Расстояние, отделявшее бойцов в алом и голубом, неуклонно сокращалось. Барон Дрого обнажил меч и издал боевой клич: «Четраро! За Четраро!» Эдмунд прокричал: «Святой Михаил за Монтгомери!» – и начал приближаться к своему противнику. Он был не столь грузным, как его враг, и, вероятно, более свободен в движениях. Сверкая глазами, ломбардец задержал шаг, чтобы встретить приближавшегося Эдмунда. Затем широко размахнулся мечом. Но прежде чем ломбардец нанес удар, граф ловко закрылся щитом, увернулся от удара и в свою очередь направил удар противнику в лицо, но не достиг желаемого успеха. Зрители замерли, когда ломбардец, отпрянув назад, нанес Эдмунду ужасный удар. Его клинок глубоко вошел в окованный железом деревянный щит графа. Англо-норманн сделал встречный выпад, и боец в алом, взревев, отступил на шаг: меч его противника надвое рассек его щит. Все внимание Эдмунда сосредоточилось на сверкающих глазах Четраро и его красном лице. Но Эдмунд недооценил подвижности ломбардца. Тот снова бросился на него. – Вот тебе… иноземный болван! – Четраро нанес резкий удар мечом, и Эдмунду едва удалось его парировать. Скрежет и звон столкнувшихся клинков громко разнеслись над лугом. Толпа замерла в напряженном ожидании… Бой продолжался. И вдруг подбитая железом подошва Эдмунда поскользнулась на пучке влажной травы. Он упал на колено. Хозяин алого плаща испустил дикий вопль и ринулся вперед, стремясь воспользоваться преимуществом. Но Эдмунд успел вовремя прикрыться щитом. Ошеломленный происшедшим, испытывая острую боль в плече, он тем не менее поднялся на ноги. Ему удалось уклониться от следующего удара ломбардца. Удача ободрила Эдмунда. Острие его меча сотрясло грудь противника, который уже дышал, как загнанный пес. Однако ломбардец снова кинулся в атаку, на этот раз нанося горизонтальные удары. Эдмунд, пытаясь отразить их, вновь потерял равновесие. Второй удар пришелся по его щиту, верхний ремень которого сорвался с его руки. – Брось щит! Освободись от него! – крикнул сэр Тустэн, перекрывая шум толпы. Очевидно, так и следовало сделать. Поэтому Эдмунд стал медленно отступать по ристалищу, парируя удары и пытаясь сбросить поврежденный щит. – Стой! – вопил Дикий Вепрь. Пятна похожей на пену слюны покрывали его бороду и обвисшие усы. Наконец Эдмунду удалось оторваться от него. Схватив меч Хью обеими руками и испустив боевой клич, Эдмунд ринулся в атаку. Обеими руками он обрушил на щит противника такой удар, что ломбардец отлетел назад, а кони вокруг ристалища захрипели, услышав знакомый звон оружия. Отчаянно ругаясь, всадники пытались успокоить лошадей. К счастью, Дрого не сразу понял, какое преимущество в движениях получил его враг, отбросив щит. Обеими руками было легче размахивать мечом и наносить тяжелые удары. Зрители из Сан-Северино разразились ликующими криками одобрения, когда Эдмунд, их боец, рассек пополам щит Дикого Вепря. В эту минуту молодой граф услышал клич: «Святой Михаил за Монтгомери!», которым Герт подбадривал хозяина. И Эдмунд почувствовал, что он не одинок, сражаясь в окружении иноземцев. С яростью, удвоенной уважением к силе и ловкости друг друга, противники кружили по поляне, кидаясь друг на друга, как заводные. Загорелые лица, наблюдавшие за ристалищем, напряглись в ожидании финала. Тустэн бросил тревожный взгляд на Герта: молодой загорелый саксонец начал заметно бледнеть. – Моему господину пора брать верх, – волнуясь, бормотал он. – Терпение, – пытался успокоить его ветеран. – Лучше подскажи своему лорду, чтобы он остерегался неожиданностей. Оруженосец кивнул, но начал ощупывать тот топор с короткой ручкой, которым мог владеть с убийственной силой. Измотанный и усталый, как никогда раньше, Эдмунд сражался, применяя все свое умение. Подобное единоборство давно уже должно было закончиться. Один из противников пал бы мертвым. В противном случае он на коленях умолял бы даровать ему жизнь за выкуп. Но бой не кончался. Эдмунд тяжело дышал, пот заливал ему глаза, влажные руки менее крепко сжимали рукоять меча. Ему казалось – ломбардец неутомим. Действительно, его удары все труднее было парировать, тогда как собственные мышцы начали гореть и дрожать мелкой дрожью. Между тем мертвенно-бледная Аликс кинулась на колени на башне. Она молилась, обещая дорогие приношения святому Михаилу, патрону Эдмунда, если только ее избранник одержит верх. Что касается Розамунды, то, перегнувшись через парапет башни, сжав губы в прямую бескровную полосу, она с глубоким волнением следила за каждым движением фигурок в алом и голубом, передвигавшихся далеко внизу. – О Боже, смилуйся над ними обоими! – молила она. Ломбардец наносил удар за ударом быстро и с большой точностью. И Эдмунду требовалось все его умение и ловкость. И вдруг, перекинув меч в левую руку, Дрого ухватился за тяжелую сумку, прикрепленную к поясу. И если бы не внезапный предостерегающий крик сэра Тустэна, с Эдмундом де Монтгомери было бы покончено… – Закрой глаза! – закричал Эдмунду одноглазый ветеран, и в ту же секунду у молодого графа, готовившегося к заключительному обмену ударами, свет померк в глазах. Он поспешно отпрянул в сторону, но несметное количество твердых частиц ударилось о его щеку. Песчинки проникли в глаза, вызывая острую боль и слезы, и, если бы не предупреждение сэра Тустэна, ослепленный Эдмунд стал бы легкой добычей для острого меча ломбардца. Ярость от коварства бесчестного врага помогла Эдмунду собраться с силами. В то же время горький опыт заставил быть более осмотрительным. Он понимал, что, пока не сможет совершенно четко видеть своего врага, лучше всего запастись терпением и просто парировать удары. Однако его подстерегала еще одна беда: его меч сломался – отлетела половина клинка. Изумлению зрителей из Сан-Северино не было предела. Никто из них еще такого не видел. Победоносный крик, вырвавшийся из уст Дрого, тотчас же замер. Взревев, как разъяренный бык, его противник нанес Дрого удар зазубренным обрубком своего оружия. Он пришелся на незащищенный участок лица ломбардца. Дрого начал отступать, в то время как Эдмунд продолжал наносить все новые удары своим укороченным оружием. Затем с силой вырвал из рук ломбардца его меч и швырнул его за пределы ристалища. – Булава, милорд! Возьмите булаву! – завопил Герт. Воин в алом одеянии, хотя и был ошарашен таким оборотом дела, не сдавался. Напротив, испустив яростный крик, начал делать круги, размахивая булавой, увенчанной пятиконечной головкой. Сэр Хью и сэр Тустэн обменялись взглядами. Они оба прекрасно понимали, что, если булава одного из сражающихся опустится на шлем другого, она его расколет и мозги несчастного окажутся на траве. В лучшем случае побежденный навсегда лишится руки, так как плечо и рука его будут раздроблены.
Эдмунд с тоской вспомнил о своем щите. Он знал, что не умеет с такой сноровкой обращаться с булавой, как с мечом или копьем. Поэтому попытался, уворачиваясь, избежать удара увесистой булавы ломбардца.
Под нараставшие выкрики толпы бойцы обменялись первыми страшными ударами. Со стороны северян посыпались язвительные насмешки. Эдмунд остро ощутил, что должен либо быстро победить, либо проиграть. И он пошел на маневр: притворился теряющим силы, отскочил в сторону и начал отступать… Оказавшись позади четрарца, англо-норманн размахнулся и погрузил крюк своей булавы в щель между завязками подшлемника, защищавшего шею противника. Эдмунду удалось опрокинуть врага навзничь. Когда тот попытался подняться, Эдмунд нанес удар по его шлему и снова опрокинул Дрого. Теперь уже ломбардец лежал неподвижно, и только его ноги подергивались, как у быка под топором мясника.
Судорожно глотнув воздух, Эдмунд склонился над грудью врага и занес кинжал над его лицом.
– Убей его, – заклинал Герт. – Убей грязную свинью!
– Убей его! – дружно кричали сан-северинцы, приводя в боевую готовность свое вооружение. Соратники ломбардца тем временем спешно поднимали на плечи свои щиты и плотнее смыкали ряды.
К немалому удивлению Эдмунда, Дрого не потерял сознания. Хотя его налитые кровью глаза и казались неподвижными и невидящими, он все же выдавил из себя:
– Пощади… лорд… даруй мне жизнь.
– Ты… признаешь… ложь? – цедил сквозь зубы Эдмунд. – Будешь… просить у леди извинения.
Темные глаза ломбардца, казалось, готовы были вылезти из орбит при виде занесенного над ним клинка.
– Да, сэр Эдмунд… не убивайте меня. У меня… слишком много грехов… чтобы встретить смерть, – прохрипел он.
Сквозь пелену пота, застилавшую глаза, Эдмунд бросил взгляд туда, где стояли носилки графа Тюржи, охраняемые его сыновьями. На груди Хью пылал крест.
– Тебе будет сохранена жизнь, – пообещал Эдмунд, – но при одном условии.
– Назови его! – Из груди поверженного бойца вырывались булькающие звуки.
– Поклянись предпринять путь во имя Бога и взять на себя обет крестоносцев! – выпалил Эдмунд.
– Как Бог мне судья, я… готов! – прохрипел побежденный рыцарь.
Раскачиваясь от усталости, с гудевшей, как пустой котел, головой, Эдмунд стоял над телом поверженного противника.
Только теперь Эдмунд де Монтгомери заметил, что толпы закованных в железо людей с обеих сторон хлынули на ристалище. Раздались призывные звуки горна, и все собравшиеся подняли головы. Обмениваясь рукопожатием с сэром Хью, Эдмунд увидел, что выражение его лица вдруг изменилось.
– Бог мой! Прибыл Боэмунд фиц Танкред.
Небольшая группа превосходно вооруженных рыцарей подъезжала к ристалищу. Ее приближение в разгар противоборства было просто никем не замечено.
Сэр Робер, скинув шлем, низко поклонился, сидя в седле. Спешенные рыцари и сержанты пали на колени, когда в огражденное пространство въехал массивный всадник в плаще алого и черного бархата. Не говоря уж о торжественном наряде, вновь прибывший с его ярко-рыжими волосами представлял собой очень колоритную фигуру. Подобной бывшему графу Аренделскому еще не доводилось видеть.
– Добро пожаловать в Сан-Северино, милорд герцог! – поспешил приветствовать нового гостя граф Тюржи из-за позолоченных кожаных занавесок носилок. – Трижды добро пожаловать, – продолжал он. – Видит Бог, я не заметил вашего приближения и не был заранее предупрежден о вашем приезде.
Боэмунд, герцог Тарантский, громко рассмеялся, направив своего прекрасного серого коня прямо к носилкам.
– Всемогущий Бог! Тюржи, мой давний соратник, – снисходительно гудел он, – мог ли ты предложить мне лучшую встречу, чем это живописное сражение. Клянусь Богом, это была самая искусная потасовка. Такой я не видел уже очень давно…
Сэр Хью и его брат, покинув коней, поспешили поцеловать широкую, веснушчатую руку герцога.
– Мы всегда готовы смиренно услужить вам, милорд, – громко заверил Робер. – Бога ради простите нам неумышленную неучтивость.
– А почему бы и нет, – прогремел их широкоплечий сюзерен. – Никто из вас не заметил бы и приближения отряда ангелов! Тюржи, – обратился к своему вассалу герцог Тарантский, – пошли немедленно за тем могучим рыцарем, который так доблестно проявил себя в бою.
расколет и мозги несчастного окажутся на траве. В лучшем случае побежденный навсегда лишится руки, так как плечо и рука его будут раздроблены.
Эдмунд с тоской вспомнил о своем щите. Он знал, что не умеет с такой сноровкой обращаться с булавой, как с мечом или копьем. Поэтому попытался, уворачиваясь, избежать удара увесистой булавы ломбардца.
Под нараставшие выкрики толпы бойцы обменялись первыми страшными ударами. Со стороны северян посыпались язвительные насмешки. Эдмунд остро ощутил, что должен либо быстро победить, либо проиграть. И он пошел на маневр: притворился теряющим силы, отскочил в сторону и начал отступать… Оказавшись позади четрарца, англо-норманн размахнулся и погрузил крюк своей булавы в щель между завязками подшлемника, защищавшего шею противника. Эдмунду удалось опрокинуть врага навзничь. Когда тот попытался подняться, Эдмунд нанес удар по его шлему и снова опрокинул Дрого. Теперь уже ломбардец лежал неподвижно, и только его ноги подергивались, как у быка под топором мясника.
Судорожно глотнув воздух, Эдмунд склонился над грудью врага и занес кинжал над его лицом.
– Убей его, – заклинал Герт. – Убей грязную свинью!
– Убей его! – дружно кричали сан-северинцы, приводя в боевую готовность свое вооружение. Соратники ломбардца тем временем спешно поднимали на плечи свои щиты и плотнее смыкали ряды.
К немалому удивлению Эдмунда, Дрого не потерял сознания. Хотя его налитые кровью глаза и казались неподвижными и невидящими, он все же выдавил из себя:
– Пощади… лорд… даруй мне жизнь.
– Ты… признаешь… ложь? – цедил сквозь зубы Эдмунд. – Будешь… просить у леди извинения.
Темные глаза ломбардца, казалось, готовы были вылезти из орбит при виде занесенного над ним клинка.
– Да, сэр Эдмунд… не убивайте меня. У меня… слишком много грехов… чтобы встретить смерть, – прохрипел он.
Сквозь пелену пота, застилавшую глаза, Эдмунд бросил взгляд туда, где стояли носилки графа Тюржи, охраняемые его сыновьями. На груди Хью пылал крест.
– Тебе будет сохранена жизнь, – пообещал Эдмунд, – но при одном условии.
– Назови его! – Из груди поверженного бойца вырывались булькающие звуки.
– Поклянись предпринять путь во имя Бога и взять на себя обет крестоносцев! – выпалил Эдмунд.
– Как Бог мне судья, я… готов! – прохрипел побежденный рыцарь.
Раскачиваясь от усталости, с гудевшей, как пустой котел, головой, Эдмунд стоял над телом поверженного противника.
Только теперь Эдмунд де Монтгомери заметил, что толпы закованных в железо людей с обеих сторон хлынули на ристалище. Раздались призывные звуки горна, и все собравшиеся подняли головы. Обмениваясь рукопожатием с сэром Хью, Эдмунд увидел, что выражение его лица вдруг изменилось.
– Бог мой! Прибыл Боэмунд фиц Танкред.
Небольшая группа превосходно вооруженных рыцарей подъезжала к ристалищу. Ее приближение в разгар противоборства было просто никем не замечено.
Сэр Робер, скинув шлем, низко поклонился, сидя в седле. Спешенные рыцари и сержанты пали на колени, когда в огражденное пространство въехал массивный всадник в плаще алого и черного бархата. Не говоря уж о торжественном наряде, вновь прибывший с его ярко-рыжими волосами представлял собой очень колоритную фигуру. Подобной бывшему графу Аренделскому еще не доводилось видеть.
– Добро пожаловать в Сан-Северино, милорд герцог! – поспешил приветствовать нового гостя граф Тюржи из-за позолоченных кожаных занавесок носилок. – Трижды добро пожаловать, – продолжал он. – Видит Бог, я не заметил вашего приближения и не был заранее предупрежден о вашем приезде.
Боэмунд, герцог Тарантский, громко рассмеялся, направив своего прекрасного серого коня прямо к носилкам.
– Всемогущий Бог! Тюржи, мой давний соратник, – снисходительно гудел он, – мог ли ты предложить мне лучшую встречу, чем это живописное сражение. Клянусь Богом, это была самая искусная потасовка. Такой я не видел уже очень давно…
Сэр Хью и его брат, покинув коней, поспешили поцеловать широкую, веснушчатую руку герцога.
– Мы всегда готовы смиренно услужить вам, милорд, – громко заверил Робер. – Бога ради простите нам неумышленную неучтивость.
– А почему бы и нет, – прогремел их широкоплечий сюзерен. – Никто из вас не заметил бы и приближения отряда ангелов! Тюржи, – обратился к своему вассалу герцог Тарантский, – пошли немедленно за тем могучим рыцарем, который так доблестно проявил себя в бою.
Глава 14 БОЭМУНД, ГЕРЦОГ ТАРАНТСКИЙ
Глазами, еще слезящимися от песчинок, попавших под веки, сэр Эдмунд де Монтгомери разглядывал бородатую фигуру верхом на высоком коне. Герцог Боэмунд очень прямо сидел в седле. При первом же взгляде англо-норманн обнаружил, что густые вьющиеся волосы у герцога еще более огненно-рыжие, чем у самого Эдмунда, и подстрижены довольно коротко – на одном уровне с ушами. Из-под полей плоской шляпы из небесно-голубой кожи смотрели небольшие, но проницательные голубые глаза. Застигнутый врасплох, Эдмунд чувствовал себя неловко, сознавая, что лицо его покрыто потом, а руки все еще дрожат мелкой дрожью. Но это все же не помешало ему рассматривать всадника. Живота у герцога не было, узкие бедра и недостаточно развернутая грудь составляли контраст массивным плечам и очень мускулистой шее. Морщинки у рта, с одной стороны, свидетельствовали о чувстве юмора, но с другой – указывали на его жестокость. – Мне говорили, сэр рыцарь, что родом вы с отдаленного острова, называемого Англией? – проговорил Боэмунд скрипучим гортанным голосом. – Наслышан, что англичан много и в стране моего уважаемого врага, Алексея из Романии. Кого вы считаете своим законным господином? – поинтересовался, герцог. Стараясь дышать ровнее, Эдмунд объяснил, что он сейчас не находится в вассальной зависимости. – Хорошее дело. Не правда ли, ваша светлость? – Герцог обернулся к округлой фигуре с позолоченным крестом епископа. На взгляд Эдмунда, этот человек больше был похож на воинственного барона, чем на прелата Святой Церкви. – Сэр рыцарь, – обратился к Эдмунду Боэмунд, – я бы охотно наградил такого доблестного воина. Воистину нечасто можно видеть столь ожесточенную и достойную схватку. – Он подозвал своего эсквайра: – Жиль! Одари этого благородного человека кинжалом, который возьмешь в моем дорожном сундуке. Это сарацинский клинок с украшенной аметистами рукояткой. Герцог Боэмунд с медвежьей силой пожал победителю руку. Затем, пришпорив, развернул коня, чтобы оказаться перед Дрого из Четраро, у которого изо рта еще стекала струйка крови. Эсквайр поддерживал своего господина. – Бог мой! Ведь это Дрого, мой бывший лейтенант, мы вместе провели немало времени в Фессалии! – воскликнул он. – Клянусь, никогда не поверил бы, что тебя можно победить. Не успев еще толком прийти в себя, ломбардец тяжело упал на колено и поцеловал мощную руку Боэмунда. – Милорд, мне горько от сознания, что именно вам довелось увидеть мое единственное поражение. – Он поднял багровое, все в кровоподтеках лицо и с трудом изобразил на нем улыбку. – Но, сэр, я признаю, что побежден в справедливом бою. – Ну что же, мой старый соратник, я рад этой встрече, – доброжелательно произнес герцог, – поскольку я намеревался посетить владение, которым ты управляешь от моего имени. Барон Дрого покорно склонил голову и произнес: – Я полагаю, господин мой герцог не получал лживых докладов, бросающих тень на преданность Четраро? Герцог поджал тонкие губы широкого рта. Глаза испытующе глянули на Дрого. – Были слухи, что недавно ты развязал незаконную войну против соседей, которые, как и ты, мои вассалы! И почему же ты не возложил на себя крест, раз я подал тому пример? Темные глаза Дрого беспокойно забегали. Он уклонился от ответа на первый вопрос. – Нет, господин мой герцог, я поклялся предпринять это так называемое странствие во имя Бога. – Да, – сухо заметил сэр Тустэн, – после того, как английский рыцарь приставил тебе кинжал к горлу. – Ты принял обет крестоносца? Что ж, когда и при каких обстоятельствах, уже не имеет значения. – Герцог Боэмунд усмехнулся. – А теперь соблюдай свой обет, барон Четраро. Иначе я сотру в порошок и тебя и твою крепость. Дрого сплюнул кровь и вытер подбородок. – Как и в Греции, мой лорд, я всегда буду верно служить вам по мере сил.В замке Сан-Северино развернулись лихорадочные приготовления. Непросто было развлекать внушавшего всем страх сюзерена Кампании, Апулии и Калабрии. Он и его сводный брат, Роджер, после ожесточенных споров поделили владения отца. Жестокий старый Робер Гюискар отбил эти земли у арабов, византийцев и различных итальянских государств. Когда в большом зале замка Сан-Северино герцог Боэмунд и его приближенные уселись за праздничные столы, барон Дрого был среди них. Заметно пострадавший и прихрамывавший, он тем не менее вел себя на удивление жизнерадостно и приветливо. В окружении герцога Боэмунда находились заслуженные воины: братья Ричард и Рейнульф из Принципата, граф Уильям из Апулии и Жирар, веселый, большеносый епископ из Ариано. Он прекрасно умел управляться как с булавой, так и с мечом – оружием, запрещенным для всех служителей церкви. Этот отпрыск древнего рода, как заметил герцог Боэмунд, был весьма практичным клириком, полагая, что там, где не подействует проповедь, булава в состоянии помочь укрепить веру. Под воздействием третьей чаши малаги, приправленной специями, шутки Боэмунда фиц Танкреда сделались еще острее, а его подтрунивание над Дрого стало более язвительным. Должно быть, сам святой Михаил побудил Эдмунда заставить Дрого присоединиться к крестовому походу! Да, конечно, за это следует поблагодарить святого покровителя. Ведь с его помощью не только удалось заполучить ценного рекрута для армии Креста Господня, но и обезопасить Сан-Северино на то время, пока его защитники будут отсутствовать, отправившись в Святую Землю, лежащую где-то далеко. Только те, кому пришлось воевать в чужих землях, как, к примеру, герцог Боэмунд, сэр Тустэн и Дрого, да и то очень смутно – и каждый по-разному, – представляли, где находится Иерусалим. Во время пиршества Эдмунд мало общался с окружающими, однако не в силу врожденной скромности – такая черта не была свойственна норманнам. Он все еще чувствовал себя слабым: от удара булавой по шлему болела и гудела голова, а от удара, расколовшего щит, ныли плечо и в особенности рука. И все же Эдмунд испытывал большое удовлетворение. Разве не стал он теперь хозяином серого боевого коня Дрого, владельцем прекрасного, хорошо обученного животного, не говоря уже об отличной кольчуге и высшего качества вооружении? Уже подали огромный окорок оленины, когда герцог Боэмунд постучал по столу, призывая к тишине. Он стучал до тех пор, пока епископ из Ариано не отодвинул с неохотой деревянную чашу, которую собирался выпить. – Тише вы, жадные глотки! – Боэмунд поднялся на ноги. Сверкнули бриллианты ожерелья, надетого поверх темно-зеленой туники, – это украшение было скопировано с древнеримского саркофага. Герцог вертел из стороны в сторону львиной головой, стараясь держать в поле зрения всех собравшихся. – Я хотел бы поставить вас в известность, что намерен созвать всех своих вассалов в Бари, – заявил он, – в конце августа, когда урожай уже будет убран. Поднялся радостный шум. Сообщение, что выступать придется лишь после уборки урожая, подняло ДУХ и у владевших землей рыцарей, и у арендаторов. Ведь последние были воинами-крестьянами, которые, находясь на военной службе, могли выплачивать своим землевладельцам деньги за аренду их полей, лесов и виноградников. Герцог Боэмунд нахмурился: – Да будет вам известно, милорды, что большой отряд уже отправился к Иерусалиму… – Под чьим руководством? – спросил сэр Хью. – Под водительством святого и красноречивого, но, опасаюсь, мало сведущего человека. Он называет себя Петром Пустынником. – Почему же «мало сведущего»? – поинтересовался сэр Тустэн. Прелат пожал плечами. – Потому что последователи этого Пустынника не представляют собой подлинной армии. Это – разного рода сброд: мошенники, воры, разбойники, лжемонахи, блудницы и большое число беглых крепостных. Окружает Петра Пустынника кучка руководителей, не имеющих ни малейшего представления о военном искусстве. Лучший из них, как мне говорили, – Вальтер Голяк, бедный франкский рыцарь, не имеющий собственных сподвижников. – Все в зале внимательно прислушивались к словам прелата. – По последним сведениям, этот отряд, подобно заблудшей овце, двигался к Византии вдоль большой реки под названием Дунай. Но я думаю, что лишь немногие из паствы Пустынника достигнут когда-либо столицы императора Алексея. Герцог Боэмунд водрузил себе на голову позолоченный венок, который на взгляд некоторых слишком уж напоминал королевскую корону, и снова встал. – Послушайте и постарайтесь понять, почему мои вассалы отправятся в святое паломничество в числе последних. Наша дорога в Византию самая короткая. А потому, чтобы прибыть туда раньше других армий христианства, мы должны выйти из Бари в конце сентября или в начале октября.
Глава 1 5 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Эскорт герцога Тарантского был немногочисленным, и путешествовал он в спешке, поэтому решили не разбивать лагерь, а устроиться в замке Сан-Северино. Там герцог мог спокойно принимать заверения в верности со стороны вассалов со всей округи. Эдмунд скоро понял мотивы этого поспешного объезда Кампании и действительные причины отсрочки выступления из Бари. Перед тем как влиться в крестовый поход, Боэмунд, весьма подозрительный, решил избавиться от тех своих вассалов, которые не прочь были бы признать своим сюзереном его брата. Несмотря на боль в старых ранах, граф Тюржи показывал пример преклонения перед герцогом и всячески демонстрировал ему свою верность. Большинство из местных феодалов уже прикрепили алый крест к своим изношенным плащам и теперьвозлагали свои руки на огромные, загорелые лапищи Боэмунда, признавая его своим законным господином и сюзереном. При прощании Дикий Вепрь был очень любезен. Барон Дрого еще раз принес феодальную присягу, затем собрал своих сподвижников и свернул лагерь. Перед отъездом темнобровый ломбардец смиренно просил прощения у леди Розамунды. Все с удивлением заметили, что при этом он поцеловал край ее платья и поклялся совершить в ее честь великие дела. В ответ она лишь бросила на него холодный, отчужденный взгляд. Сэр Тустэн обратил на это внимание и решил удвоить бдительность. Конечно, Дикий Вепрь не мог измениться за одну ночь, и когда-нибудь Сан-Северино может дорого заплатить за понесенное им здесь поражение. Дикому Вепрю удалось также очень правдоподобно изобразить глубокий восторг по отношению к целям крестоносцев. Он даже вспомнил два-три анекдота, связанных с его прежней службой под знаменами Боэмунда. Набрался смелости попросить у сэра Робера совет, как лечить молодого боевого коня, раненного соседом на линии пикета. Утром, когда барон Дрого выехал, наконец, в свое владение, Эдмунд де Монтгомери, изнуренный, с болью в каждом суставе, сладко храпел в своей постели. И только почти в полдень Герт Ордуэй решился разбудить его, сообщив, что леди Розамунда уже тревожится по поводу его отсутствия. – Попросите мою сестру проявить терпение, – спросонок пробормотал он, – и скажите, что я вполне здоров. И только после того как ему в лицо плеснули водой, он окончательно проснулся, надел нижнюю тунику и уже начал причесывать волосы, когда услышал легкие шаги. Они раздавались за занавеской, отделявшей место, где он спал, от остальной части длинного и мрачного зала. К его изумлению, шаги принадлежали леди Аликс. Она поспешила к нему, с тревогой и озабоченностью рассматривая багровую вмятину у него между глаз, оставленную носовой пластиной шлема. При виде этой красивой женщины в обтягивающем красном платье, подчеркнувшем прелестные изгибы фигуры, сердце Эдмунда учащенно забилось. Аликс появилась словно дивное видение, освещенное через бойницу лучом утреннего солнца. Такая чистая и ясная, она напомнила Эдмунду ангелов, изображения которых он видел в аббатстве Гластонбери. Замерев, Эдмунд наслаждался очертаниями гибкой фигуры Аликс де Берне, серебристо-золотым блеском ее длинных локонов, возбуждающими очертаниями ее ярко-розовых губ. – Я ваш покорный слуга, миледи, – наконец вымолвил он. – Но я думал, что это моя сестра?… – Она отправилась на кухню вместе с вашим медведем-эсквайром. Они готовят завтрак, достойный столь знаменитого паладина. – Аликс приблизилась с распростертыми руками. – О, Эдмунд! Вам не понять глубину моей гордости за вашу победу! – Но, право же, милая Аликс, я не заслуживаю вашей глубокой заботы. Эдмунд почувствовал себя неловко, кровь бросилась ему в лицо. Почему же там, дома, ни одна из дев, многие из которых были столь же чисты и добродетельны, а может, и более добродетельны, чем дочь графа Тюржи, не заставила его сердце биться так сильно? – Отчего ваш взгляд так серьезен? – ласково спросила Аликс. – Разве вы забыли, дорогой милорд, что теперь вы больше не безземельный рыцарь? – Безземельный? Но я, разумеется, лишен земли. Проклятый Руфус завладел всем, что я когда-либо имел… Аликс сделала недовольную гримаску. – Нет, после такой блестящей победы вы стали лордом Лукано. Конечно, это одно из самых бедных владений моего отца… О, Эдмунд, как изумительно умно и благородно вы обошлись с Дрого из Четраро. Теперь он отправится в странствие во имя Бога и не сможет напасть на Сан-Северино, пока не будет отвоеван Иерусалим. К тому времени мы уже будем готовы его встретить. Вы и я. Позабыв о том, что он не брит, а его темно-рыжие волосы не расчесаны, Эдмунд упал на колено и прижал ее руку к своим губам со словами: – Вам, демуазель де Берне, я отныне и навсегда посвящаю свою преданную службу, Свой меч и свое сердце… – Поверьте, мой храбрый рыцарь, даже приглашение в Божий Рай не вызвало бы в моем сердце более горячего отклика. Аликс погладила его спутанные волосы, затем кинулась в его распростертые объятия с такой же грацией и легкостью, с какой самка оленя вступает в чащу… Шум приближающихся по каменному полу коридора шагов заставил их, смущенных и покрасневших, отпрянуть друг от друга. – Скажем же «не сейчас» нашей любви, – прошептала она, сияя улыбкой. – Мне нужно время, чтобы уговорить отца одобрить наши намерения. – И добавила уже с грустным выражением: – Если, конечно, это когда-нибудь будет возможно… любовь моя… Жадным глотком Боэмунд фиц Танкред осушил кубок из позолоченного серебра. Положил на колено слуге ногу в пыльном башмаке, чтобы тот разул хозяина. Тут же, на переносной подставке, спокойно сидел его любимый кречет – Челеста. Нахохлившись, птица перебирала клювом перья, изредка поглядывая на окружающих блестящими темными глазами. – Жиль, сними у нее колокольчики со спины, – приказал герцог. Главный сокольничий тем временем возился с тремя серебряными колокольчиками, прикрепленными к хвостовым перьям кречета. Их привязывали там, чтобы Челеста не поддалась искушению улететь на охоту самостоятельно. Изящная птица испустила крик протеста и угрожающе защелкала клювом, когда сокольничий осторожно надел ей на голову колпачок, украшенный красными и черными перьями. – Разве найдешь более приятное развлечение в столь унылой местности? – задал вопрос Жирар, епископ Ариано. Он поставил на место свою чашу, вытер рот и снял с левой руки, защищенной рукавицей, быстрого ястреба средней величины. Всем было известно, что как священнослужитель этот человек не имел права запускать в полет такую птицу. Он мог использовать только ястреба-перепелятника. Герцог же Боэмунд должен был охотиться со скальным кречетом. Благородный северный кречет предназначался только королям, а орла мог пускать в полет только император. Боэмунд нарушил традицию скорее всего намеренно, давая тем самым понять, что не признает вассальной зависимости ни от кого, кроме как от Папы Римского. Сэр Тустэн, Рейнульф из Принципата и прочие знатные лица охотились с крупными соколами, а простые рыцари – с ястребами. Звучно пережевывая хлеб, Боэмунд склонился над своей птицей, чтобы проверить, нет ли у нее небольших ранок или сломанных перьев. Удостоверившись, что птица невредима, он отдал распоряжение Жилю отнести ее в клетку. – Прихвати также птичку его преосвященства, – добавил он. – И проверь, в достатке ли у них свежая пища. Передавая свою птицу, епископ едва удержался от ругательства. Его распирала злобная зависть от сознания, что ему приходится охотиться с ястребом, уступающим по своим качествам кречету. Про себя епископ дал обет, что, когда крестоносцы достигнут Малой Азии, он заведет птицу себе по вкусу. Кубки снова были наполнены. Отхлебнув вина, Боэмунд устремил проницательный взгляд на одноглазого ветерана. – Что сказал бы граф Сан-Северино, если бы я попросил вас кое-что разведать для меня? На изуродованном лице констебля промелькнула невеселая улыбка. – Думаю, милорд, он ругался бы как бешеный, лишившись констебля. Однако вассал не может отказать в просьбе своему сюзерену. – Я не хотел бы доставлять кому-либо неприятность. Но вы, милорд Дивэ, именно тот человек, который сможет осуществить трудную и опасную миссию, имеющую целью узнать подлинные намерения императора по отношению ко мне. – Боэмунд подмигнул сэру Хью, и все вокруг дружно захохотали. – Я сомневаюсь, – продолжал он, – что наш союзник Алексей Комнин действительно простил, что мы штурмовали Корфу, Авлону и Дураццо. Епископ Жирар подавился ехидным смешком. – Не в большей степени, чем вы простили Алексея за то, что он нанял венецианцев в помощь своим туркополам, чтобы изгнать вас из Кастории. – О раны Божьи! – мгновенно вскипел Боэмунд. – Как вы посмели упомянуть Касторию? Разве я виноват, что наши местные властители разбежались как зайцы? Рейнульф из Принципата подался вперед, готовый встать между герцогом и не в меру веселым и ничуть не испугавшимся прелатом. – Осторожнее, Жирар! Не слишком рассчитывай на свое церковное облачение и на тонзуру. Его перебил жесткий голос сэра Тустэна: – Милорд герцог, могу я внести предложение? – Пошел прочь! Чего таращишься, как проклятая одноглазая сова! – взревел Боэмунд. – Думая о вашем посольстве в Византию, я вспомнил о знатном человеке, находящемся сейчас, – продолжал ветеран, – в Сан-Северино. Он не только говорит и пишет на французском и латинском языках, но также, – Тустэн сделал паузу, чтобы усилить впечатление, – располагает широкими, если и не превосходными знаниями греческого языка. – Ну? И что из этого? – фыркнул Боэмунд фиц Танкред, побледнев. – Следует ли мне напоминать вам, – невозмутимо продолжал одноглазый ветеран, – что воздух Константинополя часто оказывается смертоносным для… ну, посетителей из непопулярных владений? Предположим, что мне, вашему единственному эмиссару, случится испить из отравленной чаши или откусить не того граната на каком-нибудь византийском празднике? Кто же тогда станет собирать сведения относительно наилучшего пути для вашей армии? – Он сделал еще одну паузу. – Или выполнять какие-либо другие ваши поручения? – Хм, вы в чем-то правы… – Боэмунд откинулся всем своим грузным телом на спинку кожаного кресла, которое затрещало в знак протеста. – Ну и кто же этот парень? Такой знаток языков не может быть знатного происхождения, – заключил он. – Милорд герцог, – поспешил с ответом ветеран, – это не кто иной, как победитель во вчерашнем единоборстве. – Рыжеволосый англичанин? – удивился Боэмунд. – Покарай меня Бог, если бы я мог себе представить, что этот парень получил достаточное образование, чтобы сосчитать до пятнадцати! – Заблестевшие глазки Боэмунда пронзали ветерана подобно клинкам кинжала. – Это правда? – Как и то, что я стою здесь перед вами, милорд. Однако этот иноземец весьма стыдится своих знаний, достойных неблагородного писаря. – Вероятно, я все же не пошлю его в Византию. Но он может оказаться полезным во время похода как переводчик. – Боэмунд расплылся в любезной улыбке. – Иди же, попроси его немедленно явиться. И прими мою благодарность, друг Тустэн. Вскоре сэр Эдмунд де Монтгомери был оторван от того блаженного состояния, в котором пребывали он и Аликс, прогуливаясь рука об руку по зеленым, усыпанным цветами берегам кристально-чистого ручейка. Увидев сэра Тустэна, Эдмунд поинтересовался соколиной охотой. – Жалею, что не сопровождал вас, – учтиво сказал он. – Обожаю это занятие. – Поохотились успешно, добыли дюжину уток и, возможно, вдвое большее число цапель и зайцев, – с удовлетворением сообщил ветеран, но тут же сделался серьезным. – Милорд герцог желает немедленно переговорить с вами, – сказал он уже более жестким тоном. – Это может пойти вам на пользу. Боэмунд, перебирая толстыми пальцами свою редкую каштановую бородку, внимательно разглядывал огромного мускулистого человека, вытянувшегося перед ним. – Я слышал, сэр Эдмунд, что вы свободны от присяги, – произнес он после некоторого раздумья, – и поэтому можете принять предложение, которое я собираюсь вам сделать. Действительно это так? – Так, милорд герцог. – Тогда вы должны присягнуть мне на верность. Затем, если я приму такое решение, вы будете сопровождать нашего мудрого и доверенного друга, сэра Тустэна, в его деликатной миссии в Византию. Необходимо восстановить… мои отношения с императором. – Боэмунд бросил холодный взгляд на епископа из Ариано, предостерегая его от упоминания Кастории. – Я должен определенно знать, какой прием меня ожидает, когда я буду у ворот столицы Алексея Комнина. Эдмунд попытался заговорить, но герцог предостерегающе поднял широкую руку. – Мне известно, что вы лишились богатства, и я готов включить вас в особый отряд знатных людей, которые охраняют во время боя мое личное знамя. Как один из их числа, вы, разумеется, получите свою долю добычи. Далее я хотел бы… – Ваша светлость немного ошибается, – вставил-таки Эдмунд. – С прошлого вечера я уже больше не безземельный. Я стал сеньором Лукано. Боэмунд разразился типичным для него хрюкающим смехом: – Лукано! Вы считаете этот разросшийся свинарник владением? У меня на службе вы завоюете владения во сто крат большие. – Затем, нахмурившись, герцог спросил, принес ли Эдмунд присягу старому Тюржи. – Еще нет, милорд. – Хорошо, что вы не связаны с ним службой. Ну, и каков же ваш ответ, сэр рыцарь? – Широкая улыбка осветила круглое лицо герцога, отмеченное множеством небольших сине-багровых шрамов. – Да говорите же! – выпалил лысый Рейнульф. – Насколько я помню, немногие молодые рыцари удостаивались такой чести… Эдмунд растерянно переводил взгляд с епископа из Ариано на Ричарда из Принципата, затем на сэра Тустэна, которого он считал своим ближайшим другом в этой чужой стране. И вдруг перед его мысленным взором возник образ Аликс де Берне. Аликс! Что, если еще до того, как носители креста отбудут в Бари, граф Тюржи даст свое согласие?… Ведь его будущий зять снова стал знатным лицом с собственным владением, правда очень маленьким. А теперь он сможет быстро расширить это первоначальное владение, как это сделал сам граф Тюржи и многие другие норманнские авантюристы… – Давай же, давай, молодой сэр, – поторопил его Жирар из Ариано, поглаживая большой, серебристо-золотой крест, висевший на его облачении из мягкой коричневой шерсти. – Соглашайся! Неумно с твоей стороны заставлять ждать законного государя. И тут Эдмунд упрямо мотнул головой. – Прошу прощения у вашего преосвященства, – сказал он, – но герцог Тарантский не является моим законным государем. – Глубоко вздохнув, Эдмунд прямо посмотрел в проницательные глаза Боэмунда. – Я благодарен вам, милорд, за незаслуженную честь, которую вы мне оказали. Но не намерен покидать Сан-Северино до тех пор, пока его вассалы не отправятся в путь ко Гробу Господню. Поэтому, милорд герцог, я не могу принять ваше щедрое предложение. Оттолкнув кресло и отшвырнув кубок с рубиновым вином, Боэмунд вскочил на ноги. – Что?! – заревел он. – Ты, злосчастный беглец, в самом деле отказываешься от места в моей постоянной охране? Мужчины впились друг в друга глазами. Затем Эдмунд ровным голосом подтвердил: – Да, отказываюсь. Воспользоваться вашим предложением мне не позволяет совесть. Однако я… – Голос юноши затерялся в невообразимом шуме, поднятом окружающими, ошеломленными его неповиновением воле герцога. Ярость герцога Боэмунда становилась опасной. Многие эсквайры и молодые рыцари поспешно расходились. – Да простит тебе Бог твою глупость! – овладев собой, сказал герцог. – Знай, предложения, которое я сделал тебе, ожидали многие заслуженные капитаны в течение долгих лет. Ярость герцога уступила место безразличию. Повернувшись к чаше с каштанами, он начал очищать их своими корявыми пальцами. – Убирайся долой с моих глаз, англичанин. Твое счастье, что сегодня я в добром настроении…Глава 16 НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
В долине Сан-Северино бушевал ураган. Порывы ветра гнали по небу тяжелые дождевые тучи. Закрывая луну, они погружали комнатенку Эдмунда де Монтгомери во мрак. Лишь изредка, прорвавшись сквозь тучи, лунные блики плясали на потолке. Во дворе выла истосковавшаяся по любви собака. Бывший граф Аренделский в подавленном состоянии лежал без сна на соломенном матрасе в грубой деревянной раме. Какую нежность и какое внимание Аликс чувствовал он во время их обычной прогулки на башне замка! Крепость постепенно возвращалась к нормальной повседневной жизни. Оба беспокойных гостя уехали. Боэмунд, прощаясь со старым графом, упомянул, что направляется в укрепленный город Потенца. В его окрестностях ему принадлежало несколько важных владений. Англо-норманн задавался вопросом, действительно ли граф Тюржи изменил к нему свое отношение после победы в смертельном бою. Было ли это лишь игрой его воображения, или стареющий владелец Сан-Северино стал смотреть на него более благосклонно? Сегодня за ужином он явно был в удивительно хорошем настроении… …Розамунда, как обычно, сидела очень прямо и проявляла сдержанность. Судя по отсутствующему взгляду, девушка явно погрузилась в свои затаенные мысли. Она откусила лишь маленький кусочек холодного пирога с дичью, а затем, забыв о еде, сидела в глубокой задумчивости и, естественно, не обращала никакого внимания на сэра Хью, который, наклонившись над своим блюдом, неотрывно смотрел на нее. Несколько раз Хью глубоко вздыхал, одновременно ковыряя указательным пальцем в зубах. Робер де Берне также пожирал глазами ее нежное, красивое лицо. Он все время приподнимался, желая привлечь к себе ее внимание, много и громко смеялся, бросал на камышовый настил кости своей люби-Мой охотничьей собаке. …Когда лунный свет снова залил комнату, Эдмунд приподнял голову и посмотрел в сторону Герта, который, завернувшись в плащ, растянулся у порога, как это и полагалось знающему свое место оруженосцу. Удостоверившись, что Герт спит, Эдмунд лег на спину, прикрылся плащом из грубой шерсти и в сотый раз задал себе вопрос: правильно ли он поступил, столь резко отказавшись от предложения Боэмунда? Конечно, отказ сражаться под знаменем герцога не поможет осуществлению его желаний. И в то же время он нажил себе врага в лице очень влиятельного государя. Боже, как рассвирепел герцог! Жилы на его бычьей шее натянулись, как веревки. Эдмунд беспокойно перевернулся на бок и ругнул про себя собаку, которая выла внизу. Правильный ли, надежный путь восстановления своего состояния он выбрал? Обдумывая происшедшее, Эдмунд вынужден был признать, что подлинного богатства и осуществления планов возможно достигнуть лишь при покровительстве герцога. А как Боэмунд обозвал Лукано? Разросшимся свинарником. С другой стороны, если бы он отправился в Византию, то потерял бы возможность получить согласие графа на бракосочетание с Аликс. Но он завоюет себе в жены Аликс де Берне, чего бы ему это ни стоило. Для того чтобы укрепиться в своем решении, Эдмунд представил себе, как белокурая красавица Аликс станет хозяйкой его владения, как она будет сопровождать его на соколиную охоту, оставив дома целый выводок веселых ребятишек с взъерошенными головками. Должно быть, предавшись мечтам, он задремал, так как сильно вздрогнул, когда чья-то рука легла на его плечо. Голос Герта настоятельно нашептывал ему на ухо: – Милорд! Милорд! Вставайте! Меня только что предупредили, что сэр Хью тайком пробирается к спальне леди Розамунды… – Невероятно! Сэр Хью – благородный рыцарь, – воскликнул Эдмунд. – Возможно, – бормотал в отчаянии Герт. – Но разве милорд не заметил сегодня за обедом, как сэр Хью вздыхал и горящими глазами смотрел на красоту миледи? – Да. Это я заметил. Эдмунд сорвался с постели. Высокий, проворный и почти голый, если не считать широкого длинного одеяния, в котором он спал в теплое время года. – Кто сказал тебе это? – Один оруженосец. Он исчез, прежде чем я смог хорошенько его рассмотреть, – шептал Герт, испуганно тараща глаза. Около своего тюфяка Эдмунд нашел булаву, которой сразил Дрого, и босиком, бесшумно, словно призрак, устремился по длинному темному проходу. Опасаясь поднять тревогу, которая могла бы навсегда опорочить имя сестры, Эдмунд в замешательстве остановился перед кожаной занавеской у прохода в покои Розамунды. Граф прислушался. Занавеска слегка раскачивалась. Был ли причиной тому ветер или человек? Он слышал, как Герт, мягко ступая, приблизился к нему. У саксонца в руках был топор для метания с широким лезвием. И Герт, конечно, вошел бы в покои, если бы Эдмунд не остановил его взмахом руки. Задержав дыхание, англо-норманн отодвинул занавеску и, держа булаву наготове, вошел в спальню. Какой-то внутренний голос предупредил его об опасности. Эдмунд развернулся, и луна, внезапно выглянувшая из-под облаков, осветила клинок, направленный на его горло. Едва успев отразить удар булавой, Эдмунд обрушил свое оружие на непрошеного гостя. Удар оказался достаточным, чтобы уложить вторгнувшегося без чувств на камышовый пол. Звон упавшего на пол кинжала, а затем и глухой звук падения человеческого тела потонули в шуме внезапно начавшегося дождя. Наклонившись над телом поверженного, Эдмунд краем глаз увидел, как Розамунда, проснувшись, медленно приподняла голову. – Не поднимай шум. Это я, Эдмунд, – предупредил ее брат. Девушка протерла глаза, что-то невнятное пробормотала и села. И вдруг заметила тело, лежавшее у ног брата… Судорожно прижав пальцы к губам, чтобы не закричать, Розамунда на мгновение будто застыла. Затем с ужасом прошептала: – Эдмунд, что здесь произошло? – Сейчас нет времени объяснять. С безумно колышущимся сердцем Эдмунд положил булаву и, приказав Герту сторожить проход, перетащил окровавленное тело на лунный свет. Как же мог Хью де Берне забыть рыцарские обеты и решиться на такой отвратительный поступок? – Кто?… О, Эдмунд, этого не может быть! Глаза Розамунды расширились от ужаса и удивления. Бывший граф решительно выпрямился. Он уже четко представлял, что сейчас нужно делать. Одна мысль обожгла его. Несмотря ни на какие смягчающие обстоятельства, факт оставался фактом: он убил наследника Сан-Северино. Пощады ему не будет. Либо разгневанный гарнизон растерзает его на части, либо он погибнет от изощренных пыток. – Надень темный плащ и сразу выходи, – шепотом приказал он оцепеневшей сестре. – Мы должны бежать… – Но почему, Эдмунд? – только и могла она прошептать. – Ведь ты поступил достойно… – Ты думаешь, что старый граф примет это во внимание? – нетерпеливо бросил Эдмунд. Мгновение он прислушивался, но до него доносилось только тяжелое дыхание Герта. В воздухе стоял тошнотворно-сладкий запах крови. Тревоги никто не поднял. Поэтому все трое укрылись в комнатушке Эдмунда. Граф схватил Герта за руку и приказал ему пробраться в оружейный зал. – Возьмешь небольшую кольчугу, которая подошла бы леди Розамунде, маленький шлем с подшлемником… и меч. – Третий оруженосец сэра Роберта мал ростом, – прошептал Герт. – Хорошо. Бери все это, а также его кожаные штаны, – негромко наставлял Герта Эдмунд. – Вооружись и сам… потом мы пойдем на конюшню. Если встретишь стражу, объясни, что граф Тюржи поручил мне отвезти важные сведения лично герцогу Боэмунду. Скажи также, что я выезжаю в сопровождении двух оруженосцев… Когда шаги эсквайра замерли в отдалении, Розамунда подошла к брату и ждала указаний. Эдмунд нисколько не удивился ее мужеству: даже совсем маленькой девочкой она поражала всех своей выдержкой. Он поискал с трудом отвоеванный подшлемник сэра Дрого, кольчугу и другие доспехи. Розамунда, дрожащая в ночной рубахе из грубого полотна, молча помогла брату надеть башмаки и кольчугу. Затем, нагнувшись, закрепила шпоры. Время от времени Эдмунд внимательно прислушивался, но, кроме храпа знати в соседних комнатушках, не слышал ничего. Теперь он стоял в полном боевом облачении с мечом Дрого, прикрепленным у левого бедра. Завоевавшая победу булава повисла с правой стороны. Лицо у графа было серьезное и напряженное. – Розамунда, я понимаю, то, о чем я готов тебя просить, граничит с безумием, – начал он взволнованно. – Но… я должен переговорить с Аликс. Ты сможешь привести ее? Розамунда на минуту заколебалась. – То, о чем ты просишь, и в самом деле безумие, – сказала она. – Тебе так необходимо говорить с ней? – Для меня нет ничего важнее жизни. Не задавая больше никаких вопросов, девушка исчезла, накинув темный плащ поверх ночной рубашки. Эдмунд ждал, осматривая через маленькую бойницу залитые лунным светом двор, башни и зубчатые стены замка Сан-Северино. Ни единого огонька не светилось в казармах сержантов. Спокойно вела себя и внутренняя охрана. Часовые, очевидно, подремывали на стенах, упершись копьями в каменную кладку. При звуках легких шагов Эдмунд быстро обернулся, однако руку держал на булаве. К нему поспешно приближалась Аликс де Берне. По сравнению с Розамундой, девушка была очень миниатюрна. По плечам рассыпались роскошные волнистые волосы. – О, мой любимый! Мой любимый! Как ужасно то, что случилось! – с этими словами, с глазами, расширенными от ужаса, она бросилась к нему в объятия. Нежно поцеловав ее, Эдмунд пробормотал: – Один из домочадцев вашего отца вторгся в спальню моей сестры. Мы боролись, и я убил его. – Но кто? Кто посмел вести себя так недостойно? – сдавленным голосом спросила Аликс. Он приподнял ее лицо, жадно всматриваясь в ее глаза. – Этого я тебе не скажу. Не сейчас, – быстро заговорил он. – Знай только, что мы с Розамундой должны бежать, спасая свою жизнь. Пожалуйста, не пытайся больше меня расспрашивать… – И вы действительно должны покинуть Сан-Северино? Правда, мой отец и повелитель суров, но он настолько же и справедлив… когда не в дурном состоянии духа. Эдмунд крепко прижал к себе Аликс. – Мы должны уехать, любимая. Когда узнаешь, кто совершил нападение, постарайся не возненавидеть меня. – Как я могу возненавидеть тебя? Ведь ты снова защищал честь своей сестры! – горячо шептала девушка. – Никогда не смогла бы я тебя осудить. Даже если бы мой брат попытался обесчестить твою сестру. Куда же вы отправитесь? – Мы попытаемся присоединиться к герцогу Боэмунду. Когда он узнает правду, то, я уверен, простит меня и оградит нас от мести. – Тогда я поеду с вами, – умоляюще и одновременно решительно сказала Аликс. – Я думал об этом, – заверил он. – Но это невозможно. Могут подумать, что я соблазнил тебя. И тогда у меня не останется никакой надежды на справедливость… Разразившись сдавленными рыданиями, обезумевшая от горя, девушка обхватила руками его закованную в железо грудь. – Эдмунд! О, Эдмунд! – всхлипывая, твердила она, страстно прижимаясь к нему. – Что будет со мной, если ты меня покинешь! – Потерпи, пока я пришлю за тобой, – прошептал англо-норманн. – Я это сделаю как можно скорее. Доверься мне, любимая. И знай, что каждый миг нашей разлуки для меня будет вечностью. – Он поцеловал ее. И нежно высвободился из ее объятий. – Буду верить в тебя, душа моя, – вытирая слезы и трепетно улыбаясь, сказала Аликс, – как и ты веришь в меня. Призываю в свидетели Бога и тебя, Дорогая Розамунда: пока бьется мое сердце, я никогда не стану женой другого. Я буду принадлежать только Эдмунду де Монтгомери. Да хранит тебя Бог, обожаемый мой! – Иди же, Аликс, быстрее, быстрее, – нервничала Розамунда. – Я слышу шаги Герта. Бросив на Эдмунда последний, разрывающий сердце взгляд, леди Аликс покинула каморку и растворилась в темноте… Когда она удалилась, Эдмунд обнажил кинжал и схватил прядь волос сестры, свисавших до самой, талии. – Я укорочу их. – Это необходимо? – Да. Такую массу волос не спрячешь в подшлемник. Видит Бог, что это необходимо. Двумя быстрыми взмахами клинка он отсек золотисто-рыжие волосы девушки. При всем своем хладнокровии Розамунда не могла удержаться от слез. Наконец появился Герт. Босой, но уже в шлеме и в кольчуге. В руках он держал необходимое снаряжение. Со стен крепости донеслись голоса перекликавшихся часовых. – При первых признаках рассвета мы попытаемся выбраться отсюда, – сообщил Эдмунд.- – А пока, Герт, иди в конюшню. Оседлай боевого коня, которого я получил в награду за победу, а также сильных верховых лошадей для Розамунды и для себя. Время тянулось медленно. Две фигуры в кольчугах, затаив дыхание, поджидали благоприятного момента в комнатушке Эдмунда. Покинуть ее сразу означало бы вызвать подозрение у стражи. Предрассветный же выезд рыцаря с двумя оруженосцами был обычным делом. При удаче и некотором нахальстве бегство могло сойти благополучно. Эдмунд рассчитал так, чтобы их отъезд совпал по времени с последней сменой караула, когда двор будет заполнен зевающими, кашляющими и отхаркивающимися ратниками. Когда англо-норманн и его сестра уверенно прошли в конюшню, там уже толпились заспанные оруженосцы. Они чистили и кормили коней своих господ. Один из них сделал замечание Герту, подтягивавшему подпруги у тяжелого седла Громоносца, как Эдмунд назвал серого боевого коня, полученного в качестве выкупа у Дрого. – Подготовь других верховых лошадей, – приказал Эдмунд и взял поводья своего жеребца; граф все время внимательно следил за оруженосцами, среди которых виднелся один особенно стройный. Звезды померкли, и небо начало белеть, когда лошади под негромкое позвякивание закрепленных справа от седел щитов были выведены из конюшни. Герт прихватил три копья из оружейного зала. Все трое вскочили на коней, пытаясь сдержать ржание животных, обрадованных возможностью дышать прохладным, чистым воздухом после кислой вони конюшни. Волей-неволей всадникам пришлось осадить коней перед надвратной башней: нужно было подождать, когда поднимут перекидной мост. Привратник пристально всмотрелся во всадников. Узнав Эдмунда, он приветствовал победителя в недавнем единоборстве и приказал открыть ворота. – Куда держите путь, милорд? – прокричал он. – На Венозу, – ответил Эдмунд, заставив своего жеребца податься в сторону, с тем чтобы немного оттеснить привратника. Благодаря такому маневру стройный оруженосец проехал слегка вперед в густую тень. Массивная железная решетка медленно поползла вверх, и казалось, она никогда не поднимется настолько, чтобы трое беглецов могли проехать. Между тем из главной башни замка послышался шум, раздались тревожные голоса. Переполох и шум нарастали. Где-то на стене затрубили в рог. Опустив копье и низко склонившись над передней лукой, Эдмунд рванулся вперед так быстро, что один из зубцов решетки задел его шлем. Розамунда потеряла свое копье, не сообразив вовремя пригнуться. Поднимая пыль, три всадника понеслись вниз по каменистой дороге по направлению к торговой площади Сан-Северино…Глава 17 ПОГОНЯ
Сторожевые псы возле крытых соломой домишек вокруг торговых рядов, едва завидев лошадей, подняли дикий лай. Сэру Эдмунду пришлось там задержаться, чтобы расспросить о дороге на Венозу и дать возможность Герту подтянуть подпругу у коня Розамунды. Девушка прекрасно держалась в седле благодаря долголетней практике верховой езды во время соколиной охоты в Суссексе. Розамунда со страхом оглядывалась на замок, теперь уже полыхавший огнями. Просунув руку под кольчугу, девушка подтянула полотняную ленту, поддерживающую ее грудь, что помогало легче переносить скачку галопом. – Они уже кинулись в погоню, – предупредил Герт. – Я вижу факелы у самых ворот. Сонный владелец таверны указал им дорогу в Венозу. Эдмунд, выслушав его, поинтересовался, куда ведет другая дорога, не ошибся ли он, указав им путь. Ведь они едут с поручением от самого графа Тюржи. – О нет, милорд, – заверил владелец таверны. – Та дорога ведет в Потенцу, до которой целый день езды. Узнав, таким образом, все, что хотел, и сбив с толку человека, с которым говорил, Эдмунд заставил своих спутников выехать из деревни размеренным шагом. Пришпорил своего Громоносца он только тогда, когда они уже были на дороге. Жеребец перешел на бешеный галоп, характерный для мощных строевых лошадей. Холодный ветер хлестал всадникам в лицо и развевал вымпелы на двух высоко поднятых копьях. Вскоре Эдмунд перешел на рысь, поскольку его конь не мог долго нести с такой скоростью своего тяжеловооруженного господина. Этих мощных и тяжелых лошадей выращивали ради боевых целей. Одним своим весом такой конь мог опрокинуть меньшую по размерам лошадь вместе со всадником. Отъехав примерно с милю от торговых рядов Сан-Северино, Эдмунд с тревогой оглянулся. Он убедился, что погоня была организована удивительно быстро. Колонна всадников – он насчитал их около тридцати – уже преодолела полпути от замка до деревни. – Осторожно, милорд, – крикнул Герт, – ваш конь уже весь в мыле. Может, бросить щиты? – Разумно, – тяжело дыша, поддержала его Розамунда. Она все еще прямо держалась в седле, но ее слишком большой шлем все время съезжал на одну сторону. – Против такого числа ратников от щитов не будет пользы, – добавила она. Эдмунд кивком выразил согласие. И, переезжая через старинный мост, они побросали свои щиты в темную воду. Галопом мчались всадники по древней насыпи, пересекавшей широкое болото, поросшее камышом и осокой, с блестящими оконцами воды. Однако их поджидала страшная опасность. Не успев еще съехать с насыпи, они увидели десяток верховых, поднимавшихся на нее с дальнего конца, примерно в полумиле от них. Причины столь быстрого приближения погони были ясны: блики утреннего света не отражались ни от одной из фигур, так как преследователи не надели доспехов. Они полагались на свое численное превосходство над беглецами. Устав от шлема, сползавшего ей на глаза, Розамунда немедленно забросила его в чащу, а затем освободилась от подшлемника. Короткие волосы девушки во все стороны разметал ветер. Тревога охватила Эдмунда, когда он убедился, что его Громоносец с каждым шагом ступает все тяжелее. Он также заметил, что Розамунда начала сползать с седла, в отчаянии цепляясь за его высокую переднюю луку. Устала и кобыла Герта, который скакал довольно далеко позади. Оценив ситуацию, Эдмунд окинул взором окружающую местность. Впереди он увидел поросшую лесом горную гряду. – Пришпорьте лошадей! – крикнул он через плечо. – Не жалейте их! И помните, что бы ни случилось, мы должны держаться вместе! Слава Богу, что дорога ведет в тот лес. Действительно, слава Богу! Какой ужасной была бы их судьба, если бы, попав в плен, они предстали связанными перед внушающим страх господином Сан-Северино. Внезапно Розамунда, сильно перегнувшись через луку седла, потеряла равновесие и начала неуклюже сползать с него. Однако, стиснув зубы, отчаянным рывком ей все же удалось подхватить провисшие поводья. Преследователи мчались вслед за ними не более чем в нескольких сотнях шагов. Они скакали налегке, и лишь кожаные камзолы служили им защитой. Нырнувшая под сень густых деревьев дорога делала резкий поворот и огибала скалу, размеры которой могли бы озадачить даже инженеров античного Рима; затем она сворачивала еще раз, обходя небольшой водопад. Из-за этих поворотов преследователи потеряли беглецов из виду. Тут Эдмунд заметил в зарослях козью тропу, и все трое всадников устремились по ней. – Помедленнее… – задыхаясь, проговорил Эдмунд. – Старайтесь не оставлять заметных следов, когда мы свернем с дороги. Молитвенно заклиная, чтобы железные лошадиные подковы не срывали мох с камней, англо-норманн углубился в заросли, достаточно густые, чтобы скрыть беглецов. – Опусти копье… дурак! – прошипел он Герту. – Слезай с лошади… пригни ей голову. И ты тоже, Розамунда. Вряд ли их измученные лошади были в состоянии заржать, однако на всякий случай путники прижали им уши и пригнули головы. Эдмунд и Герт еще в юности узнали: лошадь, чтобы заржать, должна поднять голову. – О Боже, скорее бы осела пыль, – пробормотал Герт. Топот лошадей преследователей звучал все громче и громче. Эдмунд, закусив губу, весь напрягся. Розамунда крепче обняла шею своей лошади и еще ниже опустила ее голову. Погоня приближалась к тому месту, где козья тропа пересекала древнюю дорогу… Притаившись в зарослях ольхи, Эдмунд со спутниками отдали себя в руки Провидению… Но двенадцать или пятнадцать всадников, не заметив тропы, с ходу проскакали мимо чащи. Последние ли они в погоне? И сколько времени потребуется людям из Сан-Северино, чтобы обнаружить, что дорога впереди пуста? – Ведите лошадей в поводу, – прошептал Эдмунд, затем, опустив копье, повел своих спутников в глубь влажного леса по достаточно грязной дороге. К счастью, загнанный Громоносец шел тихо, и только ветки слегка шелестели, задевая его могучую спину. Пройдя таким образом двести ярдов, Эдмунд счел возможным вновь сесть на лошадь. Его спутники сделали то же самое. Как только приспешники графа Тюржи обнаружат, что беглецов впереди них нет, они несомненно вернутся в поисках тропы. Обливаясь потом, все трое, пришпорив лошадей, поскакали вдоль высокой гряды. Затем съехали в тихую золотисто-зеленую лощину. Там у ручья Эдмунд остановился. Как и следовало хорошему предводителю, он похвалил своих спутников, сказал, что гордится ими и верит в их мужество. – Позвольте лошадям сделать по пять глотков. Не более, – посоветовал он и спрыгнул на землю. Заметив, что Розамунда теряет силы, англо-норманн наполнил свой шлем холодной ключевой водой и поднес его к покрытым пылью губам сестры. Розамунда пила жадными глотками. Затем, к удивлению мужчин, выплеснула остатки воды на свою взъерошенную рыжую голову. – Хорошо, – слабо улыбнулась она. – Как выдерживают мужчины тяжесть кольчуги и духоту из-за кожаной рубахи? – с участием спросила она брата. Из раскинувшейся внизу долины доносились слабые, диссонирующие звуки древнегреческого инструмента – волынки, который римские легионеры завезли в Британию вместе с банями, фазанами и павлинами. – Скажи мне, Герт, – обратился к оруженосцу Эдмунд. – Кто предупредил тебя о намерении сэра Хью? – Думаю, какой-то эсквайр. – И чей же он оруженосец? – пытался уточнить граф. Герт напряженно заморгал, потом покачал светловолосой головой. – Я не могу припомнить, милорд, – с сожалением сказал он. – Попытайся, Герт. Это очень важно, – настаивал Эдмунд. – Не могу, – повторил юноша, покраснев от напряжения. – Но он сказал правду. Шел уже слабый дождь, когда час спустя беглецы выбрались на дорогу. Если Эдмунд правильно рассчитал, дорога должна была вывести их к городу Потенца. Ожидало ли их там милосердие герцога Боэмунда Могучего? Эдмунд не был в этом уверен.Глава 18 ЧИТТА ПОТЕНЦА
Серебристый дождь продолжал сыпаться из свинцовых туч. Он накрыл сверкающей пеленой широкую равнину, где многие века назад был построен город-крепость Потенца. Его башни и какие-то строения с красными черепичными крышами за крепостными стенами окружены были живописной речкой. Въехав на вершину лесистого холма, три промокших и забрызганных грязью всадника придержали коней: необходимо было осмотреться. Все вокруг укрывала дымка. Розамунда страдальчески сжала губы: девушка жестоко страдала от боли. Бедра, ягодицы, все ее тело нестерпимо ныло от долгой скачки по едва приметным тропам, протоптанным скотом параллельно римской дороге между Салерно и Потенцей. К тому же англо-норманнская девушка страдала еще и от холода, когда усталых лошадей не удавалось заставить двигаться рысью. Брат с тревогой наблюдал, как убывают силы его сестры. И все же граф был вынужден отклонить предложение следовать более легкой, но опасной дорогой. Поэтому прошлой ночью беглецы остановились на ночлег в жалкой хижине пастуха. Словно вспугнутая стайка птиц, пастух, его жена и дети, всполошившись, исчезли в лесу. То, что в спешке они оставили даже свою скудную пищу, говорило об их горьком опыте в общении с людьми в железных одеяниях. Таким образом, близнецы и их спутник провели ночь не под дождем. И все же они чувствовали себя неуютно, поскольку в хижине не было даже очага, а тучи мух, привлеченных запахом конского и человеческого пота, просто одолевали их. Теперь же, остановившись на вершине холма, беглецы, замерев в тревожном молчании, разглядывали красные крыши Потенцы. Утомленные лошади стояли, понурив головы. Когда дождь почти прекратился, оруженосец с глубоким вздохом заметил: – Милорд, мне кажется, я вижу лагерь герцога близ города. И он был прав. Сквозь дымку проступало множество небольших округлых палаток, сгрудившихся возле четырех больших шатров, в беспорядке разбросанных по поляне. Вечер был слишком туманным, чтобы можно было различить принадлежность знамен, развевавшихся на копьях перед палатками. Поэтому Эдмунд не сразу опознал желто-зеленую хоругвь, принадлежащую сэру Тустэну де Дивэ. Эдмунд, рассеянно смахнув с лица капли дождя, сдвинул назад тяжелый шлем. – Дай-то Бог, чтобы герцог Боэмунд принял меня лучше, чем я мог бы ожидать, – в задумчивости прошептал граф-беглец. Розамунда слабо улыбнулась, отжимая свои мокрые рыжие локоны. – Быть может, лучше нам с Гертом первыми войти в лагерь и найти сэра Тустэна? – нерешительно предложила девушка. – Об этом не стоит и думать, – решительно заявил Эдмунд. – Пока вы будете бродить по лагерю в поисках констебля, ратники наверняка поймут, что ты женщина, – пояснил Эдмунд. – Тогда ничто не обеспечит тебе безопасность. Нет, мы попытаемся проникнуть в лагерь герцога все вместе. А поэтому – в путь. Будем молить Бога, чтобы дождь загнал в укрытие все пикеты. Герт кивнул и взял на изготовку свой боевой топорик. Замыкая кавалькаду, он направил свою кобылу вниз по засыпанной листьями и залитой водой тропе. Дождь усилился. За его серебристой завесой скрылся не только город Потенца, но и лагерь Боэмунда. Вскоре всадники въехали на широкий зеленый луг, где паслись лошади герцога и его сподвижников. Эдмунд чувствовал все большую гордость за свою мужественную сестру, сидевшую прямо в седле, невзирая на боль и усталость. Проезжая через внешнюю линию палаток огромного лагеря Боэмунда, бывший граф понял, что только небольшое число из собранных там сил могло сопровождать герцога в Сан-Северино. Эдмунд не удивился, что стража не остановила трех всадников. Это было вполне обычно для недисциплинированных нормандских дворян. Ратники и сержанты были поглощены азартными играми или дремали, пригревшись у шипевших от дождевых капель лагерных костров. Осторожные расспросы привели наконец беглецов к той самой изношенной палатке, в которой они много недель назад укрывались в Песто и провели ночь после своего отъезда из Агрополи. Лагерь, как с отвращением заметила Розамунда, наполняли острые запахи грязного холста, дыма, лошадиного помета и человеческих экскрементов, так как и люди и животные опорожнялись в любом месте, едва почувствовав потребность облегчиться. Один из эсквайров сэра Тустэна первымузнал всадников, решительно слезавших с лошадей перед пологом палатки его господина. Вытаращив глаза от удивления, молодой человек наблюдал, как высокий бывший граф помогал спешиться очень тонкому и изящному оруженосцу. Узнав, наконец, леди Розамунду, эсквайр бросился на одно колено, чтобы поцеловать ее забрызганную грязью руку. – Твой господин здесь? – Потное и небритое лицо Эдмунда напряглось, выступавшие на скулах желваки решительно заходили. – Нет, милорд, но он недалеко. Может быть, позвать его? – ответил эсквайр. – Пожалуйста, позови, – попросил Эдмунд. – Ну, слава Богу! – Единственный глаз старого рыцаря так и засиял, когда он появился, чтобы встретить трех несчастных, которые с тревогой ожидали его под пологом палатки. Сэр Тустэн направился прямо к Розамунде. – Как замечательно, миледи, так скоро встретить вас снова, – любезно проговорил он. Когда же повернулся к Эдмунду, радостное выражение исчезло с его изуродованного лица. – А что вам здесь нужно, милорд? – сурово сказал старый рыцарь. – При сложившихся обстоятельствах приехать в лагерь герцога Боэмунда – просто дерзость. – Значит, герцог Боэмунд все еще не остыл от гнева из-за моего отказа поступить к нему на службу? – Да, он впадает в ярость при одном лишь упоминании вашего имени. Только вчера вечером, когда заговорили о вашем отказе, он запустил кубком через стол. – Ветеран стиснул руку Эдмунда. – Послушайте моего совета, покиньте лагерь. Поспешите обратно в Сан-Северино. – Но, сэр Тустэн, – вскрикнула Розамунда, – мы не можем этого сделать! – Правда? И что же вам мешает? Старик замолк, так как увидел, что Розамунда начала оседать на землю. Герт Ордуэй попытался ее поддержать, но колени девушки подогнулись, и она бы упала, если бы ей на помощь не подоспел брат. Сэр Тустэн приказал слугам подогреть вино и еду. Розамунда сделала пару нерешительных шагов и как подкошенная упала на затоптанный навоз. Бывший граф поднял ее, молча перенес внутрь палатки и положил на ложе. Явно расстроенный, сэр Тустэн накинул на стройную фигуру девушки покрывало из волчьих шкур и уселся рядом с ней, бережно растирая ей запястья. Это последнее, что увидел Герт перед тем, как отправиться снова под дождь. Он должен был провести трех верховых лошадей через линию пикетов на луг. – Не лучше ли снять с миледи кольчугу и прочее снаряжение? – предложил Тустэн. – Они промокли до костей. Я посторожу у входа. Когда палатка опустела, Эдмунд соорудил грубый занавес из плащей, натянутых между воткнутыми в землю копьями. Затем помог Розамунде снять проржавевшую кольчугу, кожаную рубашку, краги и окровавленные штаны. Только тогда Эдмунд увидел и по-настоящему понял, какие нечеловеческие пытки претерпела его сестра, не проронив ни единой жалобы. Кожа на бедрах и ягодицах была стерта до крови. Он не стал предпринимать попытки поднять почти бесчувственную девушку, а лишь неумело умыл ей лицо и руки. Потом он завернул ее прекрасное тело в накидку из чистого белого полотна. Розамунда лежала бледная, похожая на мраморную статую с крышки античного саркофага. Измотанная девушка мгновенно погрузилась в сон. Только тогда бывший граф подозвал сэра Тустэна и принял чашу горячего вина – такого горячего, что оно обожгло ему горло и мгновенно разгорячило кровь. Один из слуг подал Эдмунду миску с тушеной зайчатиной, и рыцарь с наслаждением съел ее с острым соусом и с большими ломтями хлеба. Сэр Тустэн, тактичный, как всегда, выпроводил слуг из палатки. Затем, усевшись за неимением стула на конское седло, выслушал рассказ англо-норманна о несчастье, которое постигло его в замке Сан-Северино. – Вот и вся история, мой добрый друг, – заключил Эдмунд. – И это, клянусь моей рыцарской честью, совершенная правда. Хотелось бы знать, что думаете вы об этом? – с надеждой спросил он одноглазого ветерана. – Никогда бы не подумал, что сэр Хью способен забыть о чести, – задумчиво ответил старик. – Хотя все видели, что красота леди Розамунды сводила его с ума. Как, впрочем, и его младшего брата. – А что же нам теперь делать? Несколько минут, покусывая губу и задумчиво пощипывая усы, одноглазый рыцарь размышлял. – Если бы вы не поторопились отказаться от предложения герцога Боэмунда, я думаю, он бы укрыл вас от гнева графа Тюржи… особенно учитывая, что вы защищали честь леди. – Сэр Тустэн бросил обеспокоенный взгляд на потрепанные плащи, которыми Эдмунд отгородил место, где лежала сестра. – Однако теперь… – Молю вас, продолжайте. – Давно небритый Эдмунд оторвал взор от миски, зажатой между коленями, и умоляюще посмотрел на старого Тустэна. Сэр Тустэн только пожал плечами под накидкой, отороченной вытертым мехом рыжей лисы. – Могу только сказать, что милорд герцог – человек дальновидный и справедливый, хотя и подвержен внезапным переменам настроения. Он так же верен друзьям, как и беспощаден к тем, кто вызывает у него гнев. Едва ли он относит вас к числу своих друзей. Поэтому вам придется предстать перед Боэмундом на свой страх и риск. Эдмунд обтер рот рукой и поднялся. – Тем не менее я рискну переговорить с милордом герцогом, – решительно произнес он. – Тогда вам лучше подождать. Сейчас он принимает свою вечернюю трапезу, – посоветовал ветеран. – Подобно большинству людей, с полным желудком он менее подвержен гневу. – Сэр Тустэн покачал головой. – Увы, мой друг. Я сомневаюсь, что герцог будет к вам милостив.Глава 19 ПРИГОВОР
К заходу солнца дождевые тучи рассеялись. Последние лучи высветили мокрые палатки и грязную территорию лагеря. Угасающее светило стало также свидетелем казни двух упрямых землевладельцев. Из упрямства они отказывали в гостеприимстве Боэмунду или любому другому властителю, за исключением герцога Роджера фиц Танкреда, правившего, увы, в отдаленном Палермо. Обезглавленные трупы в назидание всем были выброшены в широкую грязную канаву, а лохматые кровоточащие головы насажены на копья и выставлены у входа в шатер рыжего герцога. Боэмунда раздражала вынужденная бездеятельность в течение всего дня. И он удалился, желая исправить настроение, в светлую и относительно хорошо пахнущую палатку Сибиллы, графини Корфу. Его массивная туша возлежала на животе, растянувшись по диагонали на покрытом шелком ложе красавицы. Сюзерен Таранто, Апулии, Калабрии и Кампании беспокойно ерошил свои коротко подстриженные пламенно-рыжие волосы. Одновременно герцог любовался грациозными движениями своей нынешней фаворитки. Нежно напевая, она пристально изучала в зеркале из хорошо отполированного серебра свое тонкое, пикантное смуглое лицо, окаймленное блестящими иссиня-черными локонами. Сибилле Бриенниус есть чем гордиться, размышлял герцог. Какая другая женщина во всей Италии могла бы похвалиться такими красивыми бархатистыми глазами, такими алыми от природы губами или такими крохотными плоскими ушками? Совершенно очаровательной была и маленькая голубоватая родинка у левого глаза. В данную минуту Сибилла искусно укладывала волосы спиралями над каждым ухом. Эти завитушки подчеркивали изящные очертания ее высокого лба. Свою прическу она дополнила небольшими заколками с рубиновыми головками и завершила венком из золотых оливковых листьев, надвинув его почти на тонкие черные брови. Постоянно нуждаясь во внимании, Сибилла кокетливо повернулась на стуле к герцогу. Он, как ей показалось, полностью был поглощен раскалыванием грецких орехов, и с лица Сибиллы исчезло веселое выражение. – Что же это, милорд? Вы даже не хотите оценить мои усилия доставить вам удовольствие? – капризно спросила она. – Я употребила все свое искусство, чтобы сократить этот паршивый, бесконечный день… Боэмунд довольно кивнул: – Ты доставила мне много удовольствий, моя маленькая греческая голубка. Я кажусь тебе расстроенным лишь потому, что меня гложет вопрос… – Он сделал паузу. Лицо его покраснело, когда миниатюрная, грациозная женщина приблизилась к нему, мягко ступая по пышному турецкому ковру. – Как же я двинусь- в священный поход, – продолжал Боэмунд, – оставив позади себя своего возлюбленного брата Роджера Подсчитывающего. Стройная Сибилла, исключительно привлекательная в обтягивающем фигуру малиновом шелковом платье, уселась перед столиком, раскрыла маленькую изукрашенную коробочку и, пользуясь кроличьей лапкой, принялась искусно наводить румяна на свои гладкие золотисто-коричневые щеки. – Сколько же войск мой господин считает необходимым оставить дома как напоминание возлюбленному сводному брату о том, что земли крестоносца не должны подвергаться нападениям? – Могу выделить самое большее семь или восемь сотен надежных мечей, – недовольно проворчал герцог. – Думаю, этого достаточно, чтобы предостеречь его от нарушения моих границ. Темные бархатистые глаза графини расширились. – Достаточно ли будет таких небольших сил? – засомневалась она. – Кто знает? Роджер всегда был осторожен. Он предпочитает обретать при помощи переговоров то, что не может завоевать в битвах, – пояснил герцог. Отодвинув ковер, прикрывающий вход в палатку, появился слуга. Он объявил, что вечерняя трапеза готова. – Прекрасно. Я готов съесть тушеного зайца целиком, вместе со шкуркой и когтями, – громко захохотал Боэмунд. Он шустро соскочил с шелкового ложа. Подобная быстрота движений всегда огорчала, а часто и раздражала красавицу Сибиллу. Подскочив к женщине, он повалил ее, и она, как птица, забилась в его могучих руках. Покрывая ее жадными поцелуями, герцог не обращал внимания на жалобы, что он привел в беспорядок ее одежду и прическу. Положив руку на ее небольшую, но удивительно пропорциональную грудь, он усмехнулся: – Я и теперь кажусь тебе рассеянным… потерявшим интерес к твоим чарам? Погоди, я сейчас… – Нет, во имя Неба, пощади! Рыжеволосый увалень! Не посягай на меня сейчас! Я умираю от голода! Поставив женщину на ноги, герцог снова нахмурился. – Делай что хочешь. Я задержусь на совете. Но не вздумай уснуть… – Благодарю Бога за небольшую передышку, – вздохнула Сибилла, подымая упавшую с головы заколку. – Я уже вся в синяках с головы до пят. И все из-за твоей медвежьей небрежности. – Медвежьей? О Боже! Прошу прощения. Я не хотел сделать тебе больно, моя овечка. Рассмеявшись, она лукаво поглядела на него из-под длинных, черных локонов: – Ты не в состоянии понять, насколько силен, мой милый нормандский варвар! Впрочем, и я не жалуюсь всерьез. – Ее красиво очерченные губы медленно раскрылись, в нежной улыбке блеснули белые зубы. – Мне иногда даже нравится твоя грубость… – Что ж, куколка, пойдем к праздничному столу. Мои лорды заждались. Гребнем Сибиллы герцог Боэмунд привел в порядок свои растрепанные волосы, расчесал усы и короткую рыжую бородку. Наконец надел зеленую бархатную тунику без рукавов, отороченную мехом куницы, и повесил на шею тяжелую золотую цепочку с ладанкой. За столом из простых деревянных досок их ожидала дюжина массивных, закаленных мужчин в туниках. Они слегка поклонились своему сюзерену, а затем, без дальнейших проволочек, принялись за еду. Вся компания, в которой графиня Корфу была единственной представительницей прекрасного пола, уже деловито набивала рты большими кусками жаркого из дикого кабана, когда появился сэр Тустэн. Седой ветеран вначале вгляделся в огромную фигуру, сидевшую во главе стола. Затем более внимательно оглядел остальных сотрапезников. Кто же из них предатель? То, что в окружении Боэмунда есть византийский агент, Тустэн раскрыл совсем недавно. Случайно услышал разговор на греческом языке между какими-то тенями на палатке. К сожалению, одному из собеседников удалось улизнуть, в то время как другой был сражен сэром Тустэном. Обыскав тело, обнаружили важный документ. Написанный на греческом языке, он содержал не только план предстоявших, передвижений герцога, но и сведения о его войсках, недоступные для рядовых рыцарей или сержантов. Кто же этот предатель? Боэмунд сразу заметил одноглазого рыцаря, подошедшего к столу. Откинув львиную голову, он вместо приветствия разразился своим обычным громоподобным смехом. – Что привело тебя сюда, мой доблестный сэр? – продолжая смеяться, спросил Боэмунд. Сэр Тустэн мгновенно решил пока не затрагивать вопроса о предательском письме. Огласка могла насторожить шпиона. – Милорд, в ваш лагерь прибыл знатный человек, которого я не решаюсь вам представить. Однако знаю: он горит желанием поступить на службу к вашей светлости. Герцог откинулся на спинку кресла и острием кинжала вытащил кусок мяса, застрявший у него между зубами. – И кто же этот знатный человек? Я его когда-нибудь встречал? – заметно озадаченный, спросил герцог. – Да, милорд, этот рыцарь одержал победу над Дрого из Четраро. – Тот невоспитанный парень, который проявил такую прыть в Сан-Северино? – Да, милорд. Боэмунд нахмурился. – Клянусь гвоздями распятия, – презрительно выпятив губы, воскликнул он. – Не знаю, как посмел дерзкий плут посетить мой лагерь? – И все же, милорд герцог, сэр Эдмунд де Монтгомери униженно просит выслушать его. – Пусть убирается, – оборвал ветерана Боэмунд. – Знать его не хочу! Слова застревали в горле у сэра Тустэна, но он настойчиво продолжал: – Прошу меня простить. Но, милорд, вы ведь сами знаете, что этот иноземец – отважный боец. Не много найдется таких опытных воинов, готовых служить вам. Тяжело сопя, Боэмунд уставился на стоявшего перед ним старого воина. Затем, после долгой паузы, прорычал: – Приведи сюда этого парня. Я покажу ему, как я его презираю, и прогоню с глаз долой. Боэмунд продолжал браниться. Наконец княгиня Сибилла поднялась и, похлопав его по руке, подарила ему милую улыбку. – Пожалуйста, не горячитесь, – проворковала она. – Вспомните, какие муки вы испытывали в прошлый раз. – Тише! Бога ради! Я покажу вам, как обращаться с… Герцог внезапно умолк. В неясном свете факелов, которые держали слуги, к нему приближались две фигуры в кольчугах. По шатру пронесся шепот удивления. Собравшиеся увидели – меньшая из двух фигур принадлежала красивой молодой женщине. Рыцари ступали уверенно, с высоко поднятой головой. Опершись руками о стол, Боэмунд резко подался вперед. Он, конечно, и раньше видел Розамунду де Монтгомери. Однако ему было трудно узнать в стройной амазонке молодую женщину, которая с таким изяществом прошла перед ним в замке Сан-Северино. Сэр Тустэн затаил дыхание, когда близнецы остановились перед обеденным столом герцога. Как полагалось опытным придворным, они слегка поклонились. Ветеран также заметил, как, прищурившись, княгиня Сибилла бросала оценивающие взгляды на рыжеволосого скуластого гиганта. Это озадачило ветерана. Неужели экзотическая дама проявила интерес к бывшему графу? – Ну что, сэр? – рявкнул Боэмунд. – Зачем ты искал встречи со мной? Ведь ты только что пренебрег службой у меня? Эдмунд с трудом сдержал свой пылкий нрав, присущий большинству норманнов. – Милорд герцог, – начал он как можно сдержаннее. – Возникли новые обстоятельства. Они заставили меня пересмотреть мое решение. Я готов служить под вашими знаменами… – Ты действительно передумал? – Боэмунд вновь рассмеялся, недоверчиво покачивая мощной головой. – Вы слышите, мои вассалы, сколь ловок и красноречив этот иноземец? Говорит не хуже какого-нибудь курносого писаря. Он потряс кулаком перед носом Эдмунда. Тем, кто хорошо его знал, было ясно, что герцог вот-вот впадет в неистовую ярость. Такие его приступы не раз заканчивались смертью его врагов… и, увы, большими неприятностями для друзей. – Видит Бог, я не возьму тебя на службу! Боэмунд не предлагает свое покровительство дважды! – прохрипел герцог. И тут Розамунда в своей простой полотняной зеленой накидке бросилась на колени. Девушка подняла на герцога ясные зеленоватые глаза и в мольбе сложила руки. – По праву девушки из знатного рода, прошу вас оказать мне милость, милорд герцог! – с чувством воскликнула она. – Да. Вы имеете право просить. Но почему я должен соглашаться? – проворчал герцог уже более миролюбиво и потрогал медальон на своей шее. Похорошевшая Сибилла с трудом оторвала взор от могучего златокудрого рыцаря. Наклонившись к Боэмунду, она что-то горячо зашептала ему на ухо. Дважды с раздражением отрицательно покачав головой, герцог наконец все же согласно кивнул. – Графиня Корфу просит, чтобы я вас выслушал. Поэтому говорите, миледи, но покороче. – Милорд герцог, ваш гнев справедлив, – вскинув огромные светлые глаза, начала девушка. – Но я прошу, не отвергайте доблестного рыцаря. Когда мой брат принесет вам присягу и поклянется в верности, вы обретете преданного вассала. Он будет до самой смерти охранять вас и самоотверженно биться за ваше дело. Розамунду поддержал сэр Тустэн. – Вы должны узнать, – сказал ветеран, подняв искалеченную руку, – как повел себя этот молодой человек, пресекая злодеяние, которое чуть не произошло после вашего отъезда из замка Сан-Северино. И тогда, я уверен, ваше справедливое сердце откликнется и вы простите Эдмунду его недальновидный отказ. Удивленный Боэмунд вновь откинулся в кресле. Однако его внимание было приковано не к грубому лицу ветерана, а к хрупкой фигурке, преклонившей перед ним колени. Это была женщина редкого обаяния! При соответствующем положении и одеждах изящная молодая леди с такими прекрасными глазами вполне смогла бы соперничать с графиней Корфу. Заметив, что рука Боэмунда вновь легла на ладанку, сэр Тустэн вздохнул с облегчением. Этот жест указывал: к герцогу возвращается хорошее настроение. И снова графиня Сибилла с лукавым блеском в огромных глазах наклонилась к нему. И снова что-то зашептала… В развевающейся голубой мантии, окаймленной золотой лентой, Боэмунд обошел обеденный стол, готовый помочь Розамунде встать. – Я удовлетворю вашу просьбу, прелестная демуазель… при одном условии. – Герцог обвел взглядом замолкших зрителей и миролюбиво усмехнулся. – Возьму я вашего брата к себе на службу. Но прежде он должен доказать, что владеет копьем так же хорошо, как мечом и булавой. – Благодарю вас! – радостно воскликнул Эдмунд, ведь копье было его излюбленным оружием. – Против кого же придется мне сражаться? Боэмунд повернулся к епископу из Ариано, который с явным удовольствием занимался флаконом крепленого фалернского вина. – Я думаю, Жирар, с кем же ему встретиться? Нужно найти ему достойного противника. – Пусть этот дерзкий чужеземец попробует одолеть графа Рейнульфа из Принципата. И тогда, быть может, заслужит ваше прощение, сын мой. – Хорошо сказано! – вдохновился Боэмунд. – А ты, кузен Рейнульф? Согласен ты уладить это дело для меня? Все головы повернулись к невысокому человеку мощного телосложения с грубой, покрытой шрамами физиономией. Сэр Тустэн тяжело вздохнул. Какого дьявола этот подвыпивший епископ назвал самого искушенного в рыцарских поединках бойца, самого отчаянного из всех находящихся на службе у Боэмунда рыцарей? Прищурив холодные, стальные глаза, граф Рейнульф недовольно глянул на кривоногого человечка. – Благодарю вас, милорд епископ, – сказал он. – Возможно, мы оба с честью закончим такую встречу. – И, повернувшись к своему сюзерену, напомнил: – Ведь мы с вами оба были свидетелями смертельного поединка этого знатного юноши. – Значит, завтра утром, – отрезал герцог. – Я думаю, нас ждет хорошее развлечение. – Завтра утром? – воскликнула Розамунда. – О нет, милорд герцог. Заклинаю вас, не так скоро. – Почему же нет? – спросил Боэмунд с явным Удивлением. – Боевой конь моего брата очень устал. Впрочем, как и сам Эдмунд, хотя он и станет это отрицать. – Да, нужно отложить до следующего дня, – пробормотала графиня Сибилла. – Мне кажется, тогда зрелище будет более внушительным. Не отрывая взгляда от герцога, Эдмунд распрямился во весь свой рост в шесть футов и два дюйма. – Милорд, я буду готов к завтрашнему дню. Ночной отдых полностью восстановит силы и моего коня, и мои собственные. Герцог довольно усмехнулся: – Пусть так. Готовься, чужеземец, и молись твоему святому покровителю. Проси у него, чтобы завтра в полдень твой боевой конь и все снаряжение не оказались в лагере кузена Рейнульфа.Глава 20 ПОЕДИНОК
Рассказы о недавнем единоборстве высокого англо-норманнского рыцаря с Дрого передавались из уст в уста. Поэтому, прослышав о новом поединке на ристалище, собралось множество людей, хотя смертельной схватки и не предвиделось. Противники должны были использовать копья с тупыми наконечниками. Толпы жителей из Читта Потенцы в сопровождении коренастых жен и крикливого потомства брели из города. Столь выдающееся событие не часто нарушало скуку их повседневного существования. Поглаживая широкую грудь Громоносца, Герт внимательно смотрел по сторонам. На этот раз, как ему показалось, было значительно больше доспехов и ярких вымпелов, чем во время прошлой схватки. Оруженосца удручало, что боевой конь его господина был далеко не в лучшей форме. Жеребец не рыл землю копытами, не фыркал, как бывало раньше… Площадка для турнира была окружена двойным рядом кольев, вбитых в мокрую от дождя торфяную насыпь длиной в сто ярдов. Для именитых зрителей и дам были поставлены складные кресла. Там находилась и Розамунда. Короткая стрижка девушки и слухи о происшествии в замке Сан-Северино, которые начали распространяться, привлекли к ней особое внимание. Разношерстная, дурно пахнущая толпа глазела на стройную красавицу, будто на какое-то удивительное существо из невиданного мира. Между тем сестра Эдмунда внимательно наблюдала, как двое соперников, вскочив в седла, заботливо прилаживали свои щиты. Эдмунд, бросивший свой щит во время бегства, собирался воспользоваться простым нормандским круглым щитом, который ему дал сэр Тустэн. Поскольку исход соревнования должно было определить умение владеть копьем, противники не имели ни мечей, ни булав. Взобравшись на лошадь, Эдмунд с глубоким вздохом поднял глаза к лазурному небу: он вспомнил прозрачно-голубые глаза Аликс де Берне… «Дорогая возлюбленная, – беззвучно молил он, – дай своему рыцарю силу и подари ему победу. Помоги ему продвигаться по намеченному пути, чтобы как можно скорее он добился тебя». Осмотрев длинную торфяную насыпь, Эдмунд взвесил свои шансы на успех и счел их весьма средними. Сам Эдмунд, выспавшись, восстановил свои силы. Но его заботил боевой конь: он не грыз узду и не бил копытом. И это неудивительно. Ни один боевой конь не способен безнаказанно проскакать такое расстояние без пищи и воды, без ухода и отдыха. – Аликс, я вступаю в бой за тебя… только за тебя, – тихо сказал Эдмунд, принимая из рук Герта шлем. Увы, на щите Монтгомери не было никакого символа, даже отдаленно напоминающего леопарда. Между тем отец Эдмунда, как и его неграмотный дед, Упорствовал в убеждении, что в битве серебряный леопард служит для всех де Монтгомери самым надежным талисманом. Эдмунд с особой заботливостью поправил удерживающую щит перевязь на правом плече. Затем сказал Герту, чтобы тот удлинил седельные ремни – во вре- мя кампании против кельтов в Девоне он обнаружил, что, хотя короткие ремешки седла более удобны при долгой езде, в бою удлиненные ремни обеспечивают всаднику большую устойчивость и маневренность.
Сэр Тустэн передал ему копье с тупым наконечником, покрытое красной и белой краской. Вручил со словами:
– Вам не следовало бы рисковать и вступать в бой слишком рано, однако я заметил, что граф Рейнульф опускает свое копье раньше, чем большинство рыцарей. Надеюсь, вам все же удастся одержать над ним верх.
Голубые глаза Эдмунда сверкнули по обе стороны защитной планки.
– Искренне благодарю вас, сэр, – сказал он, – а если я потерплю неудачу, пожалуйста, передайте леди Аликс, что я навечно предан ей. И прошу вас позаботиться о благополучии моей возлюбленной сестры.
Как только герцог Боэмунд и его приближенные вывели своих коней к центру ристалища, туда был вызван маленький коренастый граф Рейнульф. Его боевой конь заржал, порываясь ускакать от конюхов, державших его за узду.
Герт сделал последнее и совершенно излишнее Добавление к сбруе Громоносца – перетянул его грудь широким ремнем, предназначенным для того, чтобы поддержать седло в момент удара копьем. Затем пробормотал: «Да хранит вас, мой лорд, святой Олаф. Бог знает, что будет со мной, если он этого не сделает».
По знаку рыжего герцога один из воинов громко протрубил в рог, который так часто звучал при победах над сарацинами в Сицилии и над Византией во время незабываемой кампании 1084 года.
Рядом с графиней Сибиллой – в своих богатых одеждах, украшенных каменьями, она была прекрасна, как языческая богиня, – сидела на возвышении смертельно бледная Розамунда. Дочь старого Роджера де Монтгомери заставила себя улыбнуться, хотя никогда еще не испытывала такой щемящей тревоги за брата.
Наконец Боэмунд, чуть наклонившись в седле, взмахнул рукавицей. Раздался пронзительный крик. При повторных звуках рога Эдмунд опустил копье, метя в голубой щит графа. Затем длинные шпоры вонзились в бока Громоносца. Сорвавшись с места, конь понесся по зеленому лугу.
Аликс! Эдмунд думал о ней постоянно, думал даже сейчас, когда перед глазами мелькали желтые столбы, отделявшие ристалище от зрителей. Эдмунд глянул поверх щита, и ему показалось, что его соперник становится все больше и больше. Он постарался сосредоточиться на голубом щите, за которым маячили широкие плечи. Теперь уже были различимы серые глаза графа Рейнульфа, сверкавшие по обе стороны носовой пластины.
В следующее мгновение он почувствовал страшный удар – копье графа Рейнульфа едва не выбило его из седла. Его же собственное копье лишь скользнуло по щиту противника. Эдмунд осадил коня и, развернувшись, поскакал обратно к краю ристалища.
Отсалютовав обломком копья герцогу Боэмунду, Эдмунд глянул в сторону сэра Тустэна. Единственный глаз того пылал гневом.
– Будьте вы прокляты за свою глупость! Почем вы не отклонились, как я вам советовал?
– Забыл, – пробормотал Эдмунд; он все еще не оправился от удара графа Рейнульфа.
Ему передали новое копье, и тотчас же протрубил рог. Эдмунд снова изготовился к бою. На сей раз он не забыл о совете сэра Тустэна, однако, потрясенный предыдущим ударом, не успел вовремя отклониться. Ему казалось, что голубой щит надвигается на него со скоростью летящего дротика. Потом перед его глазами промелькнула ослепительная вспышка, и он, теряя сознание, грянулся оземь.
Случилось невероятное: впервые после посвящения в рыцари Эдмунд де Монтгомери был выбит из седла, потерпел поражение. В этот страшный момент он потерял все; он и его сестра снова стали нищими странниками. И хуже всего то, что свидетелями его поражения были самые могущественные рыцари Южной Италии.
мя кампании против кельтов в Девоне он обнаружил, что, хотя короткие ремешки седла более удобны при долгой езде, в бою удлиненные ремни обеспечивают всаднику большую устойчивость и маневренность.
Сэр Тустэн передал ему копье с тупым наконечником, покрытое красной и белой краской. Вручил со словами:
– Вам не следовало бы рисковать и вступать в бой слишком рано, однако я заметил, что граф Рейнульф опускает свое копье раньше, чем большинство рыцарей. Надеюсь, вам все же удастся одержать над ним верх.
Голубые глаза Эдмунда сверкнули по обе стороны защитной планки.
– Искренне благодарю вас, сэр, – сказал он, – а если я потерплю неудачу, пожалуйста, передайте леди Аликс, что я навечно предан ей. И прошу вас позаботиться о благополучии моей возлюбленной сестры.
Как только герцог Боэмунд и его приближенные вывели своих коней к центру ристалища, туда был вызван маленький коренастый граф Рейнульф. Его боевой конь заржал, порываясь ускакать от конюхов, державших его за узду.
Герт сделал последнее и совершенно излишнее Добавление к сбруе Громоносца – перетянул его грудь широким ремнем, предназначенным для того, чтобы поддержать седло в момент удара копьем. Затем пробормотал: «Да хранит вас, мой лорд, святой Олаф. Бог знает, что будет со мной, если он этого не сделает».
По знаку рыжего герцога один из воинов громко протрубил в рог, который так часто звучал при победах над сарацинами в Сицилии и над Византией во время незабываемой кампании 1084 года.
Рядом с графиней Сибиллой – в своих богатых одеждах, украшенных каменьями, она была прекрасна, как языческая богиня, – сидела на возвышении смертельно бледная Розамунда. Дочь старого Роджера де Монтгомери заставила себя улыбнуться, хотя никогда еще не испытывала такой щемящей тревоги за брата.
Наконец Боэмунд, чуть наклонившись в седле, взмахнул рукавицей. Раздался пронзительный крик. При повторных звуках рога Эдмунд опустил копье, метя в голубой щит графа. Затем длинные шпоры вонзились в бока Громоносца. Сорвавшись с места, конь понесся по зеленому лугу.
Аликс! Эдмунд думал о ней постоянно, думал даже сейчас, когда перед глазами мелькали желтые столбы, отделявшие ристалище от зрителей. Эдмунд глянул поверх щита, и ему показалось, что его соперник становится все больше и больше. Он постарался сосредоточиться на голубом щите, за которым маячили широкие плечи. Теперь уже были различимы серые глаза графа Рейнульфа, сверкавшие по обе стороны носовой пластины.
В следующее мгновение он почувствовал страшный удар – копье графа Рейнульфа едва не выбило его из седла. Его же собственное копье лишь скользнуло по щиту противника. Эдмунд осадил коня и, развернувшись, поскакал обратно к краю ристалища.
Отсалютовав обломком копья герцогу Боэмунду, Эдмунд глянул в сторону сэра Тустэна. Единственный глаз того пылал гневом.
– Будьте вы прокляты за свою глупость! Почем вы не отклонились, как я вам советовал?
– Забыл, – пробормотал Эдмунд; он все еще не оправился от удара графа Рейнульфа.
Ему передали новое копье, и тотчас же протрубил рог. Эдмунд снова изготовился к бою. На сей раз он не забыл о совете сэра Тустэна, однако, потрясенный предыдущим ударом, не успел вовремя отклониться. Ему казалось, что голубой щит надвигается на него со скоростью летящего дротика. Потом перед его глазами промелькнула ослепительная вспышка, и он, теряя сознание, грянулся оземь.
Случилось невероятное: впервые после посвящения в рыцари Эдмунд де Монтгомери был выбит из седла, потерпел поражение. В этот страшный момент он потерял все; он и его сестра снова стали нищими странниками. И хуже всего то, что свидетелями его поражения были самые могущественные рыцари Южной Италии.
Молча, плотно сжав губы, перекинула Розамунда через седло Громоносца кольчугу своего брата. Герт же, не скрывая слез, прикрепил к луке меч, булаву и щит. Затем, подобрав поводья коня, побрел прочь от палатки сэра Тустэна, побрел под улюлюканье слуг и пажей. Саксонец прекрасно знал дорогу к тому месту, где в свете июньского солнца гордо развевался зеленый с красным вымпел графа Рейнульфа. Сжав кулаки, Розамунда смотрела, как уходил оруженосец. Затем, с холодным презрением взглянув на шутников, удалилась в палатку сэра Тустэна. И увидела, что седовласый хозяин палатки, прикладывая к лицу Эдмунда влажную ткань, пытается остановить кровотечение из носа и горла. – Если бы ваш конь был посвежее, вы могли бы избежать второго удара графа Рейнульфа, – говорил старый рыцарь. – Не вините коня, – пробормотал Эдмунд и сплюнул на земляной пол красную слюну. – Это было благородное животное. Ошибка целиком моя. – Дорогой брат, – сказала Розамунда, опускаясь около него на колени и прижимая к своей щеке его грязную окровавленную руку, – даже твое поражение было более достойным, чем победы многих… Он жестом заставил ее замолчать. – Премного благодарен, дорогая сестра, но тем не менее случилось непоправимое: Эдмунд де Монтгомери выбит из седла. Девушка упрямо покачала головой; ее короткие волосы разметались по плечам. – Но до этого ты выдержал натиск лучшего бойца из окружения герцога Боэмунда. – Наклонившись, она поцеловала брата в лоб. – Держись, не сдавайся. Мы снова соберемся с силами и восстановим славу нашего имени. Да и не так все плохо… Ведь у нас остались еще две лошади. И у меня сохранилась твоя старая кольчуга. Сделав над собой усилие, раненый рыцарь улыбнулся: – Эта твоя кольчуга могла бы подойти мне, когда я был зеленым юнцом. Но теперь… Что это? – Он умолк, прислушиваясь к взволнованным голосам недалеко от палатки. Сэр Тустэн вскочил на ноги и обнажил меч. – Клянусь Гробом Господним, сэр Эдмунд, – рявкнул он, – никто не посмеет вытащить вас из моей палатки… даже Боэмунд собственной персоной. Подозвав эсквайра, он распорядился загородить вход в палатку. Но вместо враждебно настроенных ратников у входа появился рыжеволосый молодой гигант в белом плаще крестоносца, обратившийся к Эдмунду со следующими словами. – Милорд, – сказал он, – не могли бы вы приблизиться к выходу? – Он не должен покидать мое жилище, – ответил за раненого сэр Тустэн. – Вы меня не поняли, сэр рыцарь, мое дело может быть завершено здесь, – улыбнулся незнакомец. Эдмунд с трудом поднялся; он вынужден был опираться на толстую палку, поданную ему оруженосцем. Боже! Какая боль пронизала его покрытую синяками спину, когда он попытался выпрямиться. Выглянув из палатки, Эдмунд увидел своего коня в полном снаряжении. Рядом стояли двое пажей, державшие в руках кольчугу, шлем и оружие, которые он проиграл графу. – Милорд, – громко возвестил молодой рыцарь, – граф Рейнульф из Принципата полагает, что поступил бы бесчестно, если бы согласился принять вооружение благородного рыцаря, который, сознавая, что вступает в бой в неблагоприятных для него условиях, все же показал себя с наилучшей стороны. Поэтому граф отказывается принять знаки своей победы и просит вас и вашу сестру оказать ему честь и пожаловать нынешним вечером в его шатер.
Глава 2 1 БАРИ, АВГУСТ 1096 ГОДА
В лазурной гавани Бари в графстве Апулия, под защитой древнего форта, над которым красовалось знамя герцога Боэмунда, стояла на якоре венецианская галера. Удлиненные контуры судна свидетельствовали о счастливом сочетании скорости и устойчивости. Судно «Святой Лев», хотя и торговое, находилось под надежной защитой. В эти тревожные времена никто не рискнул бы выйти в море без достаточного количества воинов на борту. Направляясь из Венеции в Константинополь, «Святой Лев» обогнул восточное побережье Италии и после захода в Бари должен был обойти мыс Салентина и причалить к Таранто. После стоянки в этом оживленном порту судну надлежало пересечь Адриатику, дабы войти в относительно безопасные воды одряхлевшей Византийской империи, живущей воспоминаниями о былом величии. День был тихий и жаркий, настолько жаркий, что многие рыбаки вернулись с моря раньше обычного; они подогнали свои лодки к причалу и устроились отдыхать в тени их залатанных коричневых парусов. Даже раскормленные портовые чайки, утомившись летать, опустились на воду. Стоя на зубчатых стенах крепости Боэмунда, высившейся неподалеку от Бари, три рослых норманна рассматривали тихую гавань и охранявший ее форт. Рыжеволосый герцог повернулся к своему не менее рыжеволосому собеседнику. – Недели через три, сэр Эдмунд, ты войдешь в пролив, называемый греками Геллеспонтом. Затем пройдешь в Мраморное море и, если того пожелает Бог, еще через несколько дней причалишь в заливе Золотой Рог, который, как мне говорили, и является портом Константинополя. – Он сплюнул через парапет, нахмурился. – Много лет тому назад я мечтал править в этом богатом и славном городе, но Бог решил иначе. Но все равно, запомните оба, – голос его зазвенел, а его челюсть упрямо выдвинулась вперед, – в один прекрасный день я добьюсь своего и взойду на престол Византии. Сэр Тустэн рассеянно оглядывал многочисленные жилища под черепичными крышами, видневшиеся между кронами сосен и кедров. – Могу заверить вас, милорд: мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выполнить свой долг и представить вам отчет об истинных намерениях Алексея Комнина. Эдмунд де Монтгомери взглянул на длинную, окрашенную в красный цвет галеру, на которой еще до заката он, его сестра, сэр Тустэн и милая, томная и загадочная леди, известная как графиня Сибилла, поплывут к величайшей метрополии христианского мира. Эдмунд невольно склонялся к мысли, что все эти недели, затраченные на восстановление его смутных знаний иностранных языков, были проведены не зря, хотя и не приличествовало рыцарю признавать, что он умеет читать и писать. – Если бы я владел искусством правописания, – заявил однажды сэр Тустэн, – то уже сейчас бы правил на южных берегах Понта Эвксинского . – Каким же образом? – Один бесчестный переводчик, заметьте, переводчик – тот, кто может читать и писать на чужом языке, в то время как толмач лишь говорит на нем, – посоветовал мне поставить свою метку на пергаменте, который, вместо передачи мне владения, обещанного Михаилом Седьмым, обязывал меня служить его величеству еще шесть долгих лет… и за малое вознаграждение. Но прежде чем закончилась моя служба, басилевс, или император, как мы на западе называем такого властителя, был сброшен с трона, и я не получил даже обещанного мне вознаграждения. Поэтому, друг мой, постарайтесь владеть пером так же, как мечом, если не хотите потерять за столом переговоров то, что вы добыли в кровавом бою. К счастью, за месяц до этого сэр Тустэн нашел преподавателя, толстого веселого торговца вином, который за несколько обильных обедов согласился натаскать старого рыцаря и его рыжеволосого друга в греческом языке. Стоя под палящими лучами полуденного солнца, Эдмунд размышлял о том, что ожидает его в Константинополе, – где бы он ни находился, этот город. Ему вспоминался вечер, когда Боэмунд высказался следующим образом: «Между прочим… Знаете ли вы, для чего я посылаю в Константинополь двух эмиссаров? Для того, чтобы хоть один из них уцелел, если другому суждено умереть». Рыцари присели в тени невысоких сосен; их раскидистые кроны, напоминавшие огромные зонты, благоухали под жаркими солнечными лучами. Все трое думали об одном и том же – впрочем, в этом не было ничего удивительного. В самом деле – удастся ли захватить Иерусалим? И если удастся, то какой ценой? Что такая победа могла бы дать христианам? Можно ли хоть в чем-то верить хитрым византийцам и их наемникам? Внезапно Эдмунд оживился: – А сколько воинов рассчитываете вы, мой герцог, иметь под своим началом, когда пойдете на Иерусалим? Боэмунд разразился громким смехом. Пощипывая свою короткую рыжую бородку, он сказал: – Если говорить начистоту, то последние сообщения из Сицилии разочаровывают. В данный момент я смог бы повести не более десяти тысяч; ратников. Поэтому я разослал посланников к не слишком враждебно настроенным ко мне правителям, владения которых лежат к северу от моего герцогства. Если удастся убедить их последовать за моим штандартом, наше войско может увеличиться на треть. Сэр Тустэн разомкнул свои тонкие губы. – Помолимся Святой Деве, чтобы под вашим командованием выступило не менее двадцати тысяч крестоносцев, милорд. – Он озабоченно покачал головой. – Но боюсь, слишком многие из них заболеют или потеряют интерес к походу. И, конечно, немало рыцарей погибнет в мелких стычках по дороге к Константинополю. – Вы мудрый воин, – кивнул герцог. – Буду удивлен, если доберусь до Византии, сохранив хотя бы две трети своего отряда. Затем Боэмунд поручил старому рыцарю осмотреть подношения, предназначенные византийским; чиновникам. Как только тот скрылся в замке, герцог пригласил Эдмунда пройти с ним в небольшое помещение с каменным полом. Опустившись в огромное кресло, Боэмунд сказал: – А теперь, сэр Эдмунд, раз уж ты стал моим вассалом, присягнувшим мне на верность, выслушай внимательно совет, который я собираюсь тебе дать. От этого, возможно, зависит твоя жизнь… – Да, милорд… – Силуэт англо-норманна четко вырисовывался на фоне узкого окна, в которое врывался освежающий ветерок; скрестив на груди руки, рыцарь приготовился слушать. – Ты, быть может, уже знаешь, что графиня Сибилла лишь наполовину итальянка, а по отцовской линии происходит из очень древней и знатной семьи Бриенниус. – Герцог с едва заметной усмешкой взглянул на Эдмунда. – Моя милая подружка с Корфу хотела бы, чтобы я поверил, будто она всегда блюдет мои интересы, и я дал ей понять, что если мой поход закончится благополучно, то она станет герцогиней. – Боэмунд сплюнул на каменный пол. – Так вот, мы оба лгали, – продолжал он. – Я подозреваю, что ей платит Византия. Что ни говори, а император – величайший хитрец. К сожалению, приходится это признать. Увы, я пока не в силах доказать, что графиня в сговоре с Алексеем… Это надлежит сделать тебе и сэру Тустэну. И скажу тебе откровенно, – он подмигнул совсем по-мальчишески, – я скорее обращусь в мусульманство, чем сделаю эту леди своей герцогиней. – Он пристально взглянул на Эдмунда. – Полагаю, тебе теперь ясно, что не случайно я уговорил твою очаровательную сестру сопровождать графиню Сибиллу в качестве ее придворной дамы? – Да, теперь я понимаю, мой герцог. Но раньше мне это не приходило в голову… Боэмунд с удивлением посмотрел на собеседника: – Тогда тебе следует об этом подумать. Если вы хотите остаться в живых, не доверяйте никому. У тебя совсем не тупая голова, сэр рыцарь, так что пошевеливай мозгами и не будь нормандским простаком, У которого одни сражения на уме. – Затем герцог из Таранто переменил тему разговора. – Скажи-ка мне, я заблуждаюсь или леди Розамунда действительно вспыхивает при всяком упоминании о четрарце? Она что, ненавидит его? Или, возможно, испытывает влечение к этому беспокойному выходцу из Ломбардии? Англо-норманн невольно потупил взор. – Какое может быть влечение?… Ведь этот человек ее оскорбил… и едва не лишил меня жизни. – На высоких скулах Эдмунда выступил легкий румянец. – Я запомню ваши слова, мой герцог. Но уверен: такого быть не может. – Возможно, ты прав, – кивнул Боэмунд. – Что ж, вернемся к нашим делам. Мой казначей выдаст тебе кошель, чтобы вам было чем расплачиваться по прибытии в Византию. Но предостерегаю. – Герцог лукаво взглянул на Эдмунда. – Тебе будет нетрудно избавиться от этих денег, если все, что рассказывают о тамошних женщинах, окажется правдой. Увы, кошель не очень-то увесистый, но ты, наверное, и сам успел заметить, что мои владения неплодородны и мало населены. К тому же мне приходится платить за снаряжение… Я беден, сэр Эдмунд, беден! Герцог откинулся на спинку кресла. -Глаза его грозно сверкнули. – Вот почему я хочу отвоевать у неверных христианские земли! И я своего добьюсь! Не сомневайтесь, сэр рыцарь. Боэмунд поднялся, подошел к Эдмунду и похлопал его по плечу. – При всех наших разногласиях, сэр рыцарь, я очень высоко ценю тебя, поэтому на борту галеры ты найдешь от меня подарок – кольчугу без рукавов из тонких, легких, но крепких стальных колец. Носи ее, где бы ты ни оказался. И самое главное: пуще всего остерегайся яда! Если у тебя возникнут какие-либо подозрения, ссылайся на переполненный живот или настаивай на особой чести обменяться кубками с твоим хозяином. Никогда не засыпай без того, чтобы твой оруженосец или другой доверенный слуга не бодрствовал рядом с тобой. – От всего сердца благодарю вас за подарок, милорд. И обещаю, что во всем буду следовать вашим мудрым советам. – Что ж, посмотрим, как ты справишься со своей миссией, – внезапно помрачнев, пробормотал герцог. – А теперь поговорим о сэре Тустэне. Я высоко ценю его услуги, ценю его прекрасные знания Византии и византийцев. Но все же я никогда не смогу полностью довериться человеку, который служил у Русселя де Байоля и который когда-то был на дружеской ноге с моим врагом Алексеем Комнином. – Значит, сэр Тустэн служил византийцам? – Наверняка. После того как его господин де Байоль был отравлен. Поэтому будь начеку, не своди с него глаз. Герцог с усмешкой пощипывал бородку. А ведь многие принимали его за честного, но тупоголового норманна – вроде безмозглого паладина по имени Роланд из Ронсеваля. Подумать только, какое легкомыслие – позволить врагу заманить себя в ловушку! Но менестрели восхваляют этого Роланда в бесчисленных балладах, потому что бедный дурень геройски погиб. Герцог положил руку на плечо бывшему графу. – Послужи-ка мне преданно, сэр Эдмунд, и награда превзойдет все твои ожидания. В качестве моего вассала ты будешь править богатыми городами и землями, намного большими, чем те, которые ты потерял в Англии. Минуту-другую эти столь схожие внешне люди твердо смотрели друг другу в глаза. Наконец Боэмунд сказал: – И еще одно, последнее предостережение. Остерегайся византийских женщин даже больше, чем их мужчин, но и не заблуждайся в отношении последних. Эти восточные римляне, как они себя называют, сметливы в бою и очень храбры, когда захотят, – вопреки своим завитым и намасленным волосам, шелковым одеждам и роскоши их жилищ, с которой тебе еще предстоит познакомиться. Иди же добудь мне веские доказательства предательства Сибиллы. Тебе это будет нетрудно, учитывая то впечатление, которое ты на нее произвел. – Впечатление?… Милорд, конечно, шутит? – И не думаю, – отрезал тот. – Сибилла тоскует по твоим объятиям, как сука во время течки по матерому кобелю. А ты по ней? – Ни в малейшей степени, милорд, – ответил Эдмунд. – А почему? Разве она не самая лакомая красотка, когда-либо согревавшая постель воина? – Она очень мила, милорд, – улыбнулся Эдмунд. – Но в замке Сан-Северино меня дожидается нежная и несравненная леди Аликс де Берне. С ней я обменялся клятвами, и ничто в мире не заставит меня нарушить слово. Боэмунд расхохотался: – Не похваляйся раньше времени, доблестный рыцарь. Тызнаешь только неуклюжих и грубых франкских женщин. В том величественном и прекрасном городе, куда ты направляешься, ты повстречаешь женщин знатных и не очень, которым ничего не стоит освободить честного, но простоватого рыцаря от брачных обязательств. Готов с оружием в руках доказать правоту моих слов!Книга вторая ВИЗАНТИЯ
.Глава 1 ГОРОД КОНСТАНТИНА
Существовавший уже почти восемь веков город, основанный Визасом из Мегары на фракийской стороне пролива Босфор , величественно раскинулся на полуострове, там, где воды Босфора сливаются с Пропонтисом, который также называют Мраморным морем. Даже самые бывалые путешественники бросали изумленные взгляды на желтовато-серые каменные стены, снабженные высокими башнями, стоящими на расстоянии полета стрелы одна от другой. Эти стены протяженностью в шестнадцать миль окружали Константинополь с его бесчисленными роскошными виллами, ряды которых начинались у самой полосы прибоя и взбирались все выше по холмам. На тонком кончике Золотого Рога, как назывался полуостров, стояли огромные дворцы, а над всеми ними высился словно парящий в небе купол Святой Софии – памятник величию Юстиниана Первого и гению его архитекторов. Расположенная на оживленном торговом перекрестке тогдашнего цивилизованного мира, Византия в гораздо большей степени, чем ее имперский предшественник Рим, могла претендовать на звание «пупа земли». А город Константинополь, коему еще в течение пяти веков суждено было оставаться центром христианства, город этот походил на остров, на который один за другим накатывались грозные валы – вторжения варваров. После месячного пребывания в Византии Эдмунд де Монтгомери начал понимать, в каком плачевном положении находилась империя. Ведь на просторах Азии, сразу за узким проливом Босфор, уже носились турецкие всадники, которые вот-вот могли проникнуть за городские стены и фактически уже вступили в пригороды Хризополя. От графа Мориса Склера, седого и хромого ветерана, который в 1072 году участвовал в закончившейся катастрофой битве у Манзикерта в Центральной Анатолии, он узнал о смертельной борьбе между императором Романом Диогеном и Алп Арсланом, предводителем сельджукских орд. После поражения при Манзикерте самые богаты и густонаселенные области – наилучшие места для вербовки воинов – были утрачены, и с тех пор турки-сельджуки, вихрем носившиеся на своих быстроногих лошаденках, стали безжалостно опустошать западную часть Малой Азии и в конце концов захватили Иерусалим и большой, окруженный мощными стенами город Антиохию. Однако там они задержались, так как вышли к землям, которые находились под властью сарацинов, также последователей Мухаммеда. Турецкие орды, ведомые Алп Арсланом и его наследниками, Яги Сияном и Кылыдж Арсланом, по лучившим кличку Красный Лев, разоряли богатейшие провинции империи, вырубали фруктовые сады и оливковые рощи, стирали с земли не только деревни, но и города. Граф Морис уверял, что можно много дней скакать по когда-то богатому и цветущему анатолийскому плато и не встретить человеческого жилья, если не считать таковым зловонные палатки из козьих шкур – турецкий кочевой лагерь. Эдмунд, по-прежнему восторгавшийся чудесным городом Константинополем, теперь уже, однако, не глазел на все с открытым ртом, точно саксонский простак на придорожной ярмарке. Он начал внимательно присматриваться к людям, сновавшим по узким и грязным улочкам, и вскоре, с помощью сэра Тустэна, научился распознавать различные группы населения, например, наемников, которые охраняли город; в полном вооружении, в иноземных одеждах, они слонялись по улицам и скорее напоминали хозяев города, чем наймитов империи. Среди этих варваров, защитников Византии, были и выходцы из Центральной Азии. Невероятно уродливые, они выделялись высокими скулами, приплюснутыми носами, узкими глазами и пучками сальных волос. Еще более многочисленными были турки-сельджуки; кривоногие и беспокойные, они в большинстве своем происходили из племен, враждебных Арслану. Таких варваров редко можно было увидеть пешими – они обычно разъезжали на своих приземистых лошаденках. На службе у Алексея Комнина были и представители других диких племен – болгары, словены, печенеги, половцы и многие другие. Эдмунд старался научиться распознавать все эти варварские народы, так как сэр Тустэн как-то заметил, что от этого, возможно, будет зависеть его жизнь. Расталкивая толпу, с высокомерным презрением к азиатским «собратьям по оружию» проходили кавалеристы императорской гвардии. Среди них особо выделялись неуклюжие светловолосые саксонцы, а также варяги. Эти последние, как объяснили Эдмунду, относились к северному народу, который в течение нескольких поколений двигался с Финского залива через земли руссов к Черному морю.Эдмунда особенно заинтересовали многочисленные франкские наемники, которые отчаянно подыскивали себе занятие, обивая пороги военного министерства. Свирепые, невежественные и алчные, именно они, по словам сэра Тустэна, эти люди в рубашках, покрытых железными бляхами, никому не уступали в бою и проявляли завидную преданность, когда им регулярно платили. На небольших и грязных рынках, остро насыщенных запахами пряностей, ковры, ткани, драгоценности и благовония с Ближнего Востока лежали рядом с янтарем, мехами и полотном из Западной Европы. Торговля шла по крайней мере на полусотне языков и диалектов, большинство из которых было непонятно даже одноглазому ветерану. Греческий язык, к счастью наиболее распространенный, был доступен сэру Эдмунду. Конечно, то здесь, то там до него долетали обрывки разговоров на нормано-французском, итальянском и саксонском. Бывший граф, потряхивая рыжей шевелюрой, часто протирал глаза, осматривая мощные двойные стены протяженностью в четыре с половиной мили, которые защищали столицу Византии со стороны суши. Он все еще краснел при воспоминании о своем упрощенном представлении, будто замок Сан-Северино является вершиной инженерного искусства. Даже теперь ему казалось, что он, проснувшись однажды, воочию убедится, что все чудеса, поразившие его здесь, в действительности лишь плод его живого воображения. Тем не менее он в благоговейном трепете взирал на колоссальную статую Константина Великого, который в 324 году после Рождества Христова перевел столицу империи из Рима в город Византии. Еще более захватывающее зрелище представлял собой ипподром, огромный каменный монолит, вмещающий более пятидесяти тысяч человек, что больше всего населения Суссекса. Глядя на ряды каменных скамей, вздымавшихся все выше и выше к небесам, он задавался вопросом: не игра ли это воображения под влиянием какого-нибудь дурмана. Осмотр огромных правительственных зданий, роскошных дворцов и бесчисленных церквей рождал в его неискушенном разуме недоверие и амбиции.
По пути к вилле графа Мориса Склера в квартале Августеон двое норманнов зашли на базар, где торговали тощие крючконосые торговцы с большими черными, неспокойно бегающими глазами. – А к какому народу принадлежат эти люди? – поинтересовался Эдмунд, отметив их тщедушное телосложение и неизменно маленькие руки и ноги. – Эти расторопные и шумливые торговцы, – объяснил сэр Тустэн, – арабы или сарацины. Неверные. Почитатели Мухаммеда. – Неверные! Что же эти богохульные собаки делают здесь в качестве свободных людей? – Пальцы Эдмунда сжались на рукоятке меча. – Оставьте, если не хотите, чтобы с вас заживо содрали кожу, – бросил одноглазый рыцарь. – Здесь всегда соблюдали закон, по которому купцы любой расы или верования могут свободно торговать в пределах городских стен. Если, конечно, они не нарушают мира в империи. Удивление Эдмунда еще более возросло, когда на этот базар ворвался небольшой отряд легкой кавалерии. – темнолицые, узкобедрые воины, над головами которых раскачивались копья, увенчанные пучками окрашенных красной краской конских волос. Они были вооружены странными на вид изогнутыми мечами, а за их широкие кожаные пояса было засунуто по нескольку кинжалов. У каждого из этих свирепого вида варваров был круглый щит и конический шлем из серой стали с золотой насечкой. Шлемы, как заметил Эдмунд, поддерживались тесемками из белого полотна, туго обвязанными вокруг головы воина. Всадники сидели на высоких, обтянутых овчиной седлах и использовали такие короткие стремена, что их бедра принимали горизонтальное положение. – Смотрите же хорошенько, друг Эдмунд, – последовал совет ветерана. – Это и есть туркополы, кровные братья турок, с которыми мы вскоре столкнемся в бою. Взгляните, как легко они носят оружие и как быстры их лошади. Припомнив проповеди брата Ордерикуса, Эдмунд нахмурился, наблюдая, как эти конники весело болтают между собой. При виде двух франков, возвышавшихся над толпой, один из туркополов выкрикнул обидное замечание, на которое сэр Тустэн ответил с такой быстротой и легкостью, что варвары вначале приняли рассерженный вид, а затем расхохотались. Путь сэра Тустэна теперь пролегал через несколько шумных аллей, на которых венгры, копты и евреи в грязных шубах и желтых кафтанах протягивали руки к белым мантиям крестоносцев, предлагая различные товары – вышивки, резные вещи из слоновой кости и душистого сандалового дерева. Толпа торговцев становилась настолько плотной, что вскоре оба норманна были вынуждены обнажить мечи, чтобы обеспечить себе проход. Особо досаждали гнусаво причитающие нищие, на удивление отвратительные слепцы, часто однорукие или одноногие. Тустэн пояснил, что это следствие судебного приговора: отсечение конечностей служит здесь распространенным наказанием даже за мелкие преступления, но к ослеплению обычно приговаривают подозреваемых в предательстве, дезертирстве или шпионаже. Одетые в живописные лохмотья попрошайки назойливо тянули к прохожим свои тощие руки; вонь от их покрытых язвами тел была почти невыносимой. Несколько раз норманны проходили мимо валявшихся без движения тел в забитых грязью канавах. – Что с ними? – спросил англо-норманн. – Это какой-то трюк? – Нет. Эти бедняги умерли от болезни или, что еще вероятнее, от голода. Они будут лежать, покуда завтра не появятся чистильщики улиц. Вид группы полуголых, похожих на волчат детей, которые играючи выковыривали глаза мертвецу заостренными палками, показался Эдмунду таким тошнотворным, что он отошел в сторону и столкнулся с цепочкой косматых вьючных верблюдов, которых погоняли иссиня-черные нубийцы. Умудренные опытом пешеходы быстро отходили в сторону, опасаясь быть укушенными этими дурно пахнущими животными с печально известным неустойчивым нравом. Подлинным удовольствием было вступить, наконец, в квартал Августеон, куда густой гомон рынков и базаров долетал лишь как легкий шелест. Вершины величественных кедров, сикомор с оголенными ветвями, -рожковых деревьев и багряника четко проступали над высокими белыми стенами строений, покачиваясь от холодного бриза с Мраморного моря. Вскоре ветер стал таким холодным и пронизывающим, что оба рыцаря плотно закутались в свои плащи. Вилла влиятельного в политических кругах патриция графа Мориса Склера оказалась небольшим, лишенным пышности строением, но была исключительно удачно расположена на небольшом холме, с которого открывался вид на сапфировую голубизну Мраморного моря. В море как раз выходила длинная быстроходная сторожевая галера, охранявшая побережье от сарацинских пиратов. Ее восемнадцатифутовые весла Ритмично подымали яркие брызги, когда она проплывала мимо причаленного императорского парусника. Было четко видно каждую деталь этой большой триремы, даже деревянного дракона на ее носу. Через него, пояснил сэр Тустэн, можно выпускать исключительно секретное вещество, известное как «греческий огонь» – зажигательную жидкость, которую нельзя потушить водой. Сэр Тустэн постучал в небольшую калитку, проделанную в широких, утыканных гвоздями воротах. Калитка открылась, и в проеме появился остроскулый сторож с желтоватым лицом и косящими глазами. – Половец, – пробормотал Тустэн и, перебросив плащ через плечо и поправив свой меч, вступил на-дорожку. Графа Мориса Склера и его жену, армянку с глазами, напоминающими терновые ягоды, которая лет пятнадцать назад, вероятно, была исключительно хороша, они застали в небольшом, обнесенном стеной садике – супруги кормили хлебом голубей, которые топтались у их ног. Знакомясь с виллой, Эдмунд не переставал восхищаться спокойной прелестью маленького дворика, в центре которого находился небольшой круглый водоем; на гладкой воде плавали теперь уже побитые морозом кувшинки. Граф Морис, в левом бедре которого остался наконечник турецкой стрелы, поднялся с кресла с некоторым трудом. Поприветствовав гостей с изысканной вежливостью, он жестом дал понять слугам, что они могут внести стаканы с медом, приправленным лепестками роз или фиалок и смешанным с водой. День был настолько прохладный для начала зимы, что византиец набросил отороченный мехом плащ на свою ярко-зеленую тунику, расшитую золотом. В остроконечной бородке графа Мориса просвечивала проседь, но его темные глаза на классическом греческом лице светились живо и молодо. Графиня, поднявшись вслед за мужем, улыбнулась посетителям и, сопровождаемая женщиной-прислужницей, медленно удалилась в глубину садика и исчезла. Чуть прихрамывая, граф Морис сделал небольшой круг по садику, внимательно разглядывая каждый куст, хотя большинство из них уже сбросило листья. – Аа-а, Морис, вы не изменились, – улыбнулся сэр Тустэн. – Вы, как всегда, подозрительны… и осторожны. – Потому-то, дружище Тустэн, я все еще жив, в то время как немало других отправилось стучаться в ворота рая, – заметил византиец. – Итак, не получили ли вы какого-нибудь сообщения от вашего государя? По Священному дворцу ходят слухи о продвижении герцога Боэмунда. – Нет еще, – отвечал старый воин. – Я начинаю опасаться, что его курьеры перехвачены. Вам ведь прекрасно известно, что император не очень-то жалует человека, который едва не лишил его трона одиннадцать лет назад. Темная голова патриция склонилась в согласном кивке. – Это вполне могло случиться. Но скажите мне, удобно ли вам живется у двоюродной сестры графини Сибиллы Евдокии? – Удобно и приятно. Одноглазый норманн усмехнулся, бросив косой взгляд на Эдмунда; тот покраснел и притворился, что наблюдает за полетом голубей, которые кружили над садом, создавая приятную музыку с помощью тонких серебряных трубочек, прикрепленных к их крыльям. – Дело в том, что леди Сибилла жаждет внимания моего друга и выполняет его малейшее желание. Граф Морис повернулся к своему высокому, рыжеволосому гостю. – А как поживает ваша сестра, сэр Эдмунд? – вежливо поинтересовался он. – Надеюсь, леди Розамунда не находит нашу зиму слишком суровой? – В Англии зимы еще холоднее, милорд. Другое дело, что нам непривычно в ваших роскошных жилищах. Возможно, скоро мы подыщем себе дом попроще. У венецианских торговцев, которые проживают в Пере, по другую сторону Золотого Рога. – Вот как? Значит, вам не по душе дворец Бардас? – Не то чтобы не по душе, – сказал Эдмунд, сразу вспомнив про стальную кольчугу под своей туникой. – Вот только куда бы мы с сестрой ни пошли, везде за нами следят. Даже сейчас, я уверен, какой-нибудь шпион торчит у ваших ворот. Византиец поджал губы. Потом заметил: – В Константинополе все привыкли к слежке, осуществляемой круглые сутки. В вашем же случае без слежки никак не обойтись, поскольку все из партии Алексея Комнина знают, что вы вассал герцога Боэмунда Могучего. – Что? Откуда это стало известно? Мы с сэром Тустэном заявили, что мы – свободные рыцари, ищущие того, кто стал бы нам платить за службу. Веселый смех сорвался с уст тучного человека в зеленом, отороченном мехом плаще. – Дюжина доносчиков переговорила с владельцем вашего судна и его командой еще до того, как оно причалило. Они узнали о вас все. Или почти все. В самом деле, сэр Эдмунд, не можете же вы предполагать, что византийский двор не знает, зачем вы здесь, и не знает, что вы гостите у принцессы Евдокии вместе со знаменитой, – он улыбнулся, – графиней Сибиллой? Белая мантия крестоносца, в которую был облачен Эдмунд, вспыхнула на солнце, алый крест на ней запламенел, когда он поднялся на ноги, свирепо сверкая глазами. – Значит, никто не верит, что мы с сэром Тустэном относимся к рыцарям, не имеющим господина, что мы здесь в поисках заработка? Острая бородка графа Мориса стала раскачиваться из стороны в сторону, а смех его был столь громкий, что две серые ангорские кошки в испуге бросились в кусты. – Нет, никто не верит, – сказал он наконец. – Полагаю, что у сэра Тустэна не возникало в этом отношении никаких иллюзий? – Конечно нет, – кивнул бывший констебль из Сан-Северино. – В Византии просто принято, чтобы приезжие предлагали какое-нибудь безобидное объяснение своего присутствия. – Он принял серебряный кубок с подноса, принесенного из виллы высоким нубийским рабом. – Скажите мне, Морис, вы по-прежнему преданы императору? – Ваш проклятый острый франкский язык навлечет на вас беду, – недовольно проговорил византиец. – Неужели вам так трудно проявлять сдержанность? – Чрезвычайно трудно. Так что ж, у вас имеются разногласия? – Бывший император Никифор мой кузен со стороны матери. Мы были воспитаны как братья. Можно ли ожидать, что я забуду, какое жалкое существование он влачит теперь… Слепой монах с обритой головой, заточенный в одном из монастырей на острове Принкипо. – Глаза графа гневно сверкнули. – Весь мир считает Алексея Комнина узурпатором, который восстал против человека, пригревшего его и поверившего ему! – Но разве не найдутся и такие, которые поклянутся, что, сделав это, Алексей спас империю от гибели? – проговорил Тустэн. Граф Морис раздраженно подергал свою короткую бородку, и благоухающее масло из нее увлажнило его накрашенные ногти. – Такое возможно. Никифор был слаб и непостоянен. И тем не менее диадема по праву принадлежит не Алексею, и я бы… – Он осекся, затем поспешно добавил: – Забудьте о моих последних словах, сэр Эдмунд, прошу вас! Мне ни к чему пурпурное одеяние. Опасно иметь кровь семьи Ботаниатов в своих жилах, настолько опасно, что Гордиан Ботаниат, один из моих кузенов, распорядился оскопить своего старшего сына, чтобы тот не был ослеплен или убит сторонниками Комнина. Со стороны города из-за высокой белой стены раздались трубные звуки фанфар и глухой бой барабанов. Тустэн вопросительно взглянул на хозяина. – Сейчас не время для смены караула. Что же это означает? – О, это прибыл тщеславный и напыщенный франкский властитель, именующий себя Хью Великим из Вермандуа и утверждающий, что является братом короля Франции. Теперь его со всеми почестями провожают в Львиный дворец. – А каковы речи этого франкского принца? – осторожно поинтересовался Эдмунд. – Его речи – речи пустозвона… Вы, должно быть, читали письмо, которое он направил нашему христолюбивому императору? – Граф Морис захихикал, ощупывая пальцами золотую с эмалью брошь у своего горла. – Могу процитировать самую любопытную часть его письма. «Знайте же, о цезарь, что я являюсь господином над всеми королями, поэтому готовьтесь принять меня в соответствии с моим высоким положением!» Этот Хью из Вермандуа привлекает к себе внимание в Священном дворце не из-за своих больших претензий, а потому что прибывает первым из крестоносцев, – пояснил граф Морис. – Другие отряды, насколько нам известно, идут через Грецию. Герцог Готфрид Бульонский со своими германцами и лотарингами вчера отбыл из Фессалоник, а за ними в нескольких днях пути следует Робер, называемый герцогом Нормандским. Другой Робер, граф Фландрский, также должен прибыть сюда до Рождества Христова. – Отливающие сталью серые глаза византийца глянули на Эдмунда. – А когда сподвижники графа Боэмунда рассчитывают увидеть купол Святой Софии и стать лагерем под нашими стенами? Сэр Тустэн заговорил еще до того, как его спутник сообразил, что отвечать: – Многое, мой друг, зависит от прибытия судов, нанятых у ненадежных венецианцев, которые, как вы знаете, являются союзниками императора. – Знаю, – нахмурился граф Морис. – А насколько продвинулся на восток граф Раймонд Тулузский, которого иногда величают Сент-Жилем, со своим отрядом провансальцев? Здесь поговаривают, что они сильно отстают от остальных. Так ли это? Тустэн пожал плечами: – Император лучше осведомлен, чем мы сами… – Будем надеяться, что они не рассеются по пути, поскольку у Раймонда самое большое войско, – заметил граф. Англо-норманн сидел во вращающемся кресле с вытянутым от напряжения лицом, отчаянно пытаясь понять подоплеку беседы. Почему в этой Византии все так сложно, непонятно? И никто не говорит прямо, открыто, без подвохов. Почему? Византиец поднялся, подошел к мраморной скамейке и поднял с нее алый шерстяной плащ, окаймленный серым мехом. Затем окинул рассеянным взглядом свой маленький дворик. Наконец, повернувшись к гостям, пробормотал: – Вам следует передать герцогу Боэмунду следующее: он должен поторопиться, насколько это в его силах, и подойти к городу еще до того, как подтянутся другие отряды франков. Император намерен Держать гостей-крестоносцев подальше друг от друга и переправлять в Малую Азию каждый отряд, как только он подойдет. Император содрогается при мысли, что франки могут объединиться и осадить его столицу. – Горькая улыбка тронула толстые губы графа Мориса. – Не то чтобы западных властителей не ожидает теплый прием… Напротив, первые из прибывших могут рассчитывать на исключительно богатые подношения. Поэтому пусть Боэмунд Могучий поторопится. Ведь он – небогатый человек, а его вассалы настойчиво требуют подарков. Эдмунд с удивлением воззрился на графа. Чего только не знали эти сладкоречивые греки о своих союзниках франках?… – Алексей Комнин предоставит возможность объединиться вашим закованным в броню воинам только за пределами Константинополя, в Азии, откуда им и предстоит выступить против орд Кылыдж Арслана, которого называют Красным Львом ислама. Сэр Тустэн сплюнул на мраморный пол. – Значит, крестоносцам придется сражаться, чтобы отвоевать утраченные императором области в Малой Азии? – Именно так. Ожидается, что они истощат свои силы в битвах, нужных Алексею, тогда ему будет легче подчинить оставшихся своей воле. – Но мы идем для того, чтобы освободить Гроб Господень и изгнать неверных из Иерусалима! – вспылил Эдмунд. – Вне всякого сомнения. – Крупный бриллиант, вставленный в ленту, стягивающую густые черные волосы византийца, вспыхнул, когда он энергично кивнул головой. – Это дело Боэмунда. Пусть позаботится, чтобы франки не оказались пешками в игре нашего императора. – В смехе графа зазвучали металлические нотки. – Из всех ваших франкских тугодумов только герцог Боэмунд может противопоставить вероломству вероломство и обман обману.
Глава 2 ГИДЕОН ИЗ ТАРСУСА
Красивый маленький дворец Деспоины Евдокии, служивший во времена правления Михаила VI императорской резиденцией, был расположен на вершине холма фасадом к Золотому Рогу и окружен новыми роскошными дворцами. Розамунде де Монтгомери и ее брату сводчатые коридоры этого здания на первых порах казались бесконечными. Сейчас, в середине ноября, здесь частенько бывало холодно, несмотря на красивые бронзовые жаровни, день и ночь горевшие в каждой комнате. Дворец Евдокии представлялся гостям чудом красоты, роскоши и удобства, и теперь Розамунда невольно вздрагивала, как только ей на память приходили покрытые камышом каменные полы и незастекленные бойницы, служившие окнами в замке Арендел. Вне всякого сомнения, дворец Бардас был райским местом: повсюду чистота, душистые свежие запахи – особенно на женской половине, куда не мог входить ни один мужчина, – все это производило на англо-норманнскую девушку огромное впечатление. И еще бани! Высокая рыжеволосая дочь Роджера де Монтгомери сначала категорически отказывалась присоединиться к другим женщинам, посещавшим совершенно удивительные термы со стенами из черного и желтого мрамора. Там находились узкие водоемы, называемые ваннами, из бронзовых кранов которых текла чистая вода – и сильно горячая, и холодная как лед. Здесь графиня Сибилла, ее кузина Деспоина Евдокия и их подруги значительную часть дня предавались блаженному безделью, будучи бесстыдно обнаженными. Больше всего они любили растянуться на мраморных скамейках, предоставив свои гладкие, хорошо сложенные тела ловким рукам странных бесполых созданий, называемых евнухами, чтобы эти несчастные мужчины, лишенные мужского естества, их массировали. У англо-норманнской девушки перехватило дыхание, когда Сибилла, потеряв, наконец, терпение, сорвала с нее одежды, еще свежие после недельной носки, и буквально втолкнула ее в теплую ванну. Она громко кричала и колотила ладонями двух черных бесполых созданий – боролась, как рыжая дикая кошка, пока смех Деспоины и ее подруг не сделал дальнейшие протесты бесполезными и нелепыми. Даже теперь она бы не призналась, насколько ей понравились соприкосновение ее тела с теплой и проточной водой, а также массирование ее белой кожи каким-нибудь черным слугой, чьи руки были столь же невинны, как и руки маленького ребенка. Какое же количество прислуги, от суровых славянских варваров, охранявших дворец, до бесчисленных рабов – поварят, судомоек, уборщиков, массажистов и пажей – включало хозяйство Деспоины? Прислуга Бардаса, должно быть, насчитывала не менее двух сотен человек. Деспоина Евдокия, маленькая живая женщина лет сорока, была вдовой и не имела родственников-мужчин, поскольку, к своему несчастью, клан Бардас поддерживал печальной памяти свергнутого императора. С самого начала Розамунда чувствовала, что стала предметом всеобщего интереса как в самом дворце, так и со стороны тех, кто в него приходил. Все говорили о ее горделивой осанке, о гладкой и белой как мрамор коже. Кроме того, она несла свою голову выше, чем самая высокая из этих нервных, мягкотелых византийских дам. Тот факт, что она, женщина благородного происхождения, не только умела скакать на лошади, но также стреляла из лука и участвовала в соколиной охоте, вызывал у этих жеманных красавиц изумление и зависть. Более того, она собственными руками могла приготовить еду; была достаточно сильна, чтобы одним ударом сбить с ног неосторожного слугу. Ее роскошные золотисто-красные волосы, теперь уже подросшие, также волновали обитательниц дома, большинство из которых были брюнетками. С горечью дочь графа из Арендела обнаружила, что ее знания греческого языка были очень ограниченны, сводились к нескольким фразам, которые она выучила в Бари и еще раньше – на борту несчастной галеры «Сан-Джорджо». Но в последнее время эти знания быстро пополнялись благодаря ее хорошей памяти и превосходному слуху. С самого ее приезда в столицу императора Алексея жизнь представлялась ей сном наяву, прекрасным и приводящим в смущение. Розамунда отчаянно искала какую-нибудь опору, так как была совершенно беспомощной в новой обстановке, если только рядом не оказывалось брата, сэра Тустэна или Герта с его собачьей преданностью. С балкона гинекея она рассматривала сады, украшенные статуями и фонтанами, прекрасные даже в это время года. Где-то неподалеку отсчитывали время водяные часы, в которых три серебряных шарика под воздействием особого приспособления падали на поверхность медного гонга. Кажется, скоро вернется Эдмунд? Тревога Розамунды с каждым днем нарастала, – брат все больше времени проводил за пределами дворца. Разное могло случиться с Эдмундом, таким неопытным, напуганным сложностью жизни в этом огромном метрополисе с населением свыше миллиона разноязычных людей. Подшивая тесьму к своей лучшей домашней накидке, она изумлялась настойчивости, с которой византийцы, греки по своей национальной принадлежности и языку, держались за внешние атрибуты жизни, свойственные давно исчезнувшей Западной Римской империи. Хотя едва ЛИ кто-либо из них пользовался теперь латинским языком – разве что при официальной переписке. Впрочем, надписи на многих монументах также выполнялись на этом языке. Еще более поразительными для англо-норманнов, да и для всех франков, были плохо скрываемые враждебность и недоверие, с которыми эти греческие ортодоксальные христиане относились к римской церкви; порою даже казалось, что византийцы больше уважали языческие верования, нежели религию западных христиан. С того места, где сидела Розамунда, бросая взгляды на длинный и довольно узкий залив Золотой Рог, ей были видны сотни судов, стоявших на якоре или привязанных к постоянно перегруженным причалам. Она научилась распознавать всевозможные конструкции кораблей: дромоны, византийские военные суда, ходившие и под веслами, и под парусами; венецианские, генуэзские, пизанские галеры и галеоны. Стояли у причалов и красивые каики с коричневыми парусами, и стройные фелюки, прибывшие с Кипра или Родоса. Хотя на многих морских судах отсутствовали палубные надстройки, на итальянских кораблях обычно возвышались на носу и на корме боевые помосты. Такие оборонительные сооружения предназначались для защиты стрелков из лука и метателей дротиков. – Устаешь ли ты когда-нибудь любоваться портом, моя дорогая подруга? Розамунда вздрогнула и выронила рукоделие, – так тихо взошла на балкон Сибилла, графиня Корфу. Сегодня ее томная миловидность подчеркивалась халатом из тяжелого желтого шелка, расшитого золотом и подпоясанного алым кушаком. Черная мушка у левого глаза никогда не казалась такой привлекательной, а губы – столь чувственными. Англо-норманнская девушка смущенно рассмеялась и поднялась. – Мне вспомнилось, что Бари когда-то казался мне большим городом! Я все еще не могу привыкнуть к этим восточным чудесам. – Ваш благородный брат, – заметила Сибилла, усаживаясь на широкий парапет из белого мрамора с алыми прожилками, – вроде бы несколько быстрее приспосабливается к нашему образу жизни. – Оно и неудивительно! – ответила Розамунда. – Разве он не обладает свободой бродить по городу, в то время как мы, бедные женщины, можем только от случая к случаю выбраться из дома, и то лишь под охраной и в носилках. Сибилла нахмурилась: – Это так, потому что так и должно быть. Хотела бы ты, чтобы на тебя набросились и утащили в вонючий публичный дом на Женской улице? Ведь из-за наплыва отчаявшихся и обнищавших беженцев из завоеванных турками областей наш город превратился в обитель преступников. Городская стража только притворяется, что поддерживает порядок. – Возможно, вам, греческим женщинам, следует проявлять осторожность, но я-то могу за себя постоять, – возразила Розамунда. – Но скажи мне, Сибилла, что слышно о намерениях герцога Боэмунда и его местонахождении? Графиня кокетливо поправила свои блестящие иссиня-черные волосы, затем резко повернулась, чтобы посмотреть, чем закончится ссора, возникшая между евнухами Деспоины, облаченными в оранжевые одеяния. – Пока ничего не известно, – сказала она, – но завтра нам многое станет ясно. Голубые глаза Розамунды расширились. – Как же ты это узнаешь? – удивилась она. – Не ломай по этому поводу себе голову, – последовал ответ. – Дело в том, что галера из Бриндизи только что вошла в Дарданеллы. – Но, во имя Христа, как могла ты об этом узнать? С помощью колдовства? Сибилла звонко рассмеялась: – Нет, моя дорогая простушка. Разве ты никогда не замечала, что в ясные дни на той стороне Босфора, на холме, мигает огонек? – Я уже давно заметила такие огоньки на нескольких холмах, – призналась Розамунда, снова почувствовав себя бесконечно наивной и неразумной. – Я думаю, что солнечный луч попадает на щит проходящего мимо солдата. Сибилла машинально поправила свой браслет с изумрудами и топазами. – Такое мигание вовсе не случайно. Это наш солнечный телеграф, который при хорошей погоде передает сообщения на сотни лиг. Таким образом наш император узнает, как идут дела в самых отдаленных областях. Стая галок, которые с хриплыми криками летели к своим гнездилищам в развалинах древнего дворца, разрушенного во время городских волнений, бросила подвижные тени на газоны под балконом. – Значит, ваш император, – задумчиво проговорила Розамунда, – незамедлительно узнает, когда и где высадится наш сюзерен? Сибилла с внезапным подозрением взглянула на высокую рыжеволосую девушку, такую, казалось, неопытную и наивную. – Наверняка узнает. Но в эти темные зимние дни наш гелиограф становится все менее и менее полезным. В отдалении послышались приветственные крики, а затем звуки многих фанфар, эхом отразившиеся ОТ больших зданий, окружающих дворец Бардас. – Скажи мне, в чем причина такого шума? – Розамунда свернула свое шитье и сложила его в холщовую сумку. – Ты же знаешь все, что происходит. – Сказать, что я знаю даже немногое из того, что делается кругом, значит бессовестно польстить мне, но на сей раз я действительно знаю, что франкский принц по имени Хью, который величает себя братом короля франков, прибыл к городским воротам и его собираются принять во дворце императора. Сегодня на ипподроме состоится показательное сражение и фейерверк, которые должны произвести впечатление на самонадеянного, но простоватого варвара. Через два дня моя кузина Деспоина будет принимать его здесь. Об этом уже есть договоренность. Приходилось ли тебе видеть настоящего франка? Я имею в виду выходца из самого центра провинции, которая во времена римлян называлась Галлией. – Я никогда не встречала людей, которые называются лотарингцами, фламандцами, германцами или провансальцами. Изящный носик Сибиллы сморщился в знак неодобрения. – Тебя можно поздравить. Все эти франкские воины неотесанны, невежественны и столь же злобны, как голодные медведи. И тем не менее я постараюсь как можно лучше принять гостей-франков. Когда они уходили с балкона и легкая дымка уже закрывала Золотой Рог, Сибилла порывистым движением схватила Розамунду за руку. – Скажи мне, дорогая подружка, каковы впечатления твоего брата от жизни в этом городе и что он думает о нас? Я хотела сказать – о византийцах… – поспешно добавила Сибилла.Покидая виллу графа Мориса, сэр Тустэн предложил: – Мы можем произвести благоприятное впечатление, если посетим торжественное богослужение в Святой Софии. – Но разве это не церковь греков-раскольников и еретиков? – изумился Эдмунд. – Это так, потому и важно, чтобы нас там увидели. Возможно, нам удастся лицезреть Алексея Комнина, равного апостолам христианнейшего государя Византии. По пути к собору двое норманнов проходили запруженную народом площадь с высокой, сильно пострадавшей от времени ионической колонной, – это было все, что осталось от какого-то языческого храма. Осматриваясь кругом, Эдмунд с изумлением заметил множество людей, взгромоздившихся на обломки каменной кладки и явно чего-то ожидающих. В непосредственной близости от него стояли длиннобородые монахи греческого вероисповедания в черных одеяниях, а также нищие, наемные солдаты и даже патриции в белых, отороченных алым одеждах. Вскоре Эдмунду стало ясно, что большинство этих зевак посматривает куда-то вверх, и, проследив за их взглядами, он заметил, что на капители древней колонны скорчилась седая, одетая в лохмотья фигура. Очевидно, человек наверху занимал этот свой «насест» уже многие месяцы, если не годы – настолько густо была покрыта темно-коричневыми пятнами и подтеками прекрасная колонна. Выделяясь темным контуром на бронзово-голубом вечернем небе, это создание внезапно поднялось на ноги и подняло срои худые, как палки, руки, чтобы образовать крест. Относительная тишина воцарилась на площади. Люди падали на колени, сжимали руки и устремляли взгляды на развевающиеся в беспорядке пряди волос и всклокоченную бороду того, кто стоял наверху, сурово поглядывая на толпу. – Тихо, вы все! – прокричал высокий молодой парень с серебряной бляхой императорской гвардии на груди. – Святейший Гидеон из Тарсуса готовится произнести пророчество. Эдмунд укрылся в проеме какой-то двери, но его ярко-голубой плащ, должно быть, привлек внимание «святого», поскольку тот указал на англо-норманна и что-то выкрикнул на непонятном языке. – Выходите вперед, тупоголовые варвары! – завизжал кто-то по-гречески. – Святой заметил вас. – И ясно – почему! – захихикала молодая ярко накрашенная женщина, приближаясь к Эдмунду походкой вразвалку, очевидно пытаясь казаться соблазнительной. – Клянусь распятием! Где еще можно узреть франка с такими медными волосами, небесно-голубыми глазами и чреслами, достойными ложа Венеры? Это бледное создание, подражающее ужимкам опытной шлюхи, показалось Эдмунду таким забавным, что он разразился смехом. Девица протиснулась к нему поближе и распахнула поношенное желтое платье, обнажив маленькие незрелые груди. – Твоя, вся твоя, мой господин, и всего лишь за визант. – За визант? – воскликнул густобородый прохожий. – О Христос! Ты могла бы, Хлоя, повертеться под ним и за медный тартарон! – Врешь! Я никогда не отдаюсь меньше чем за серебряный динарий! Уличная девка с большими глазами и сальными патлами, ниспадающими на ее тощие плечи, казалось, изнывала от страсти. Она уцепилась за рукав Эдмунда и уставилась ему в лицо. – Вкуси меня господин! Пойдем ко мне! Мое уменье превращает мальчишек в мужчин, а мужчин – в мальчишек. – Тихо, ты, мерзкое отродье! – прозвучал голос столпника с колонны. – Тихо, ты, нарядный франк, облачившийся в одеяние нашего Господа и тем самым оскверняющий его! Эдмунд покраснел, поднял взор на неописуемо неопрятную фигуру, возвышавшуюся футах в шестидесяти над ним, и заметил свисавшую с площадки деревянную бадью, с помощью которой столпник поднимал наверх пищу, приносимую его почитателями. – Пусть чума поразит проклятого негодяя! – взревел норманн. – Когда он говорит, что я недостоин носить плащ крестоносца, он лжет, оскверняя свою пасть. – Бога ради, сохраняй спокойствие! – вмешался Тустэн, заметив настороженные, даже угрожающие взгляды, устремленные на его спутника. – Такие монахи-столпники обладают огромной властью. Толпа боится их, как рогов дьявола. Шлюха запрокинула голову, провизжала что-то на непонятном языке в сторону возвышавшегося на колонне пугала и бросилась в толпу. Но прежде чем исчезнуть, она на мгновение обернулась, чтобы послать воздушный поцелуй рыжеволосому франку. Встревоженный возраставшей враждебностью толпы, Эдмунд обнажил свой меч и в сопровождении Тустэна отступил дальше в проем двери. – Мир вам, дети мои! Пусть шлюха убирается в свой притон! – прокричал столпник и опустился на четвереньки, чтобы лучше видеть происходящее внизу. – А ты, рыжий, выходи и не бойся. Гидеон из Тарсуса взглянет на тебя и, быть может, предскажет твою судьбу. Толпа отступила, оставляя двум норманнам свободное место, где они встали, широко расставив ноги, с обнаженными мечами в руках. Теперь юродивый заговорил по-гречески; он молился, а когда закончил молитву и толпа начала подыматься на ноги, указал своим костлявым пальцем на бывшего графа. – Взгляни же на меня, несчастный беженец из страны англов, и внемли! – закричал он. – Вот что я тебе предрекаю: в стране Израиля ты найдешь гробницу! Толпа загудела, но тотчас же смолкла, когда Эдмунд прокричал в ответ: – Но ведь каждый человек когда-нибудь находит свою могилу! – Я сказал гробницу, норманский дурень, а не могилу! – закричал Гидеон из Тарсуса, и его седая борода задралась вверх, как у козла. – Прислушайся же хорошенько к моим словам! Слабый стон пронесся над площадью; многие осеняли себя крестом в ожидании прорицаний, которыми славился Гидеон. Столпник внезапно выпрямился и высоко поднял обе руки над своей косматой головой: – Льва и Орла Леопарду не стоит опасаться. Но Соловей и Вепрь приближают его погибель. Свое предсказание столпник завершил стенаниями и воплями. Потом он уселся, скрестив ноги, на своем пьедестале и накрыл голову рваным плащом, уже не обращая ни малейшего внимания на толпу внизу. «Льва и Орла Леопарду не стоит опасаться. Но Соловей и Вепрь приближают его погибель», – эти слова звучали в ушах Эдмунда. – Пойдем, – убеждал его Тустэн, – не то опоздаем к торжественному богослужению. Двое норманнов начали подниматься к величественному храму Святой Софии, при одном взгляде на который дух захватывало, и вдруг Эдмунд почувствовал, что его дергают за плащ. Бросив взгляд через плечо, он с удивлением узнал уличную девку по имени Хлоя. – Пожалуйста, знатный рыцарь, – прошептала она, – я ничего не ела с утренней зари, и я… я… Жажду ваших объятий. Я… – Убирайся, паршивая уличная кошка! – Сэр Тустэн дал девчонке шлепок, от которого она свалилась на грязный булыжник. Она лежала тихо, сонно моргая глазами, и с таким несчастным видом, что Эдмунд сжалился над ней. Покопавшись в своем кошельке, он вложил в грязную ручонку жалкого создания серебряный динарий, с которым ему очень нелегко было расстаться. Потаскушка захлопала глазами. Затем взглянула Эдмунду в лицо: – А… динарий? Ах, благородный господин, я лгала. У меня нет жилья, нам придется поискать местечко под арками ипподрома.- – Нет. Купи себе чистую одежду, еду и вымойся. Видит Бог, что ты в этом отчаянно нуждаешься. Когда они влились в людской поток, устремившийся к знаменитому храму, воздвигнутому Юстинианом Первым, Тустэн с отвращением фыркнул: – Черт бы подрал твое добросердечие! Эта шлюшонка плетется за нами. Эдмунд оглянулся и увидел Хлою, юркнувшую за проезжавшую мимо повозку. Она все еще бродила у собора Святой Софии, когда оба рыцаря покидали это величественное здание.
Глава 3 КУРЬЕР
На почтительном расстоянии от красивых бронзовых ворот, ведущих во дворец Бардас, притаился человек с грубыми чертами лица, одетый как моряк. Когда сэр Тустэн и его спутник проходили мимо, он выпрямился ивполголоса произнес: – Пожалуйста, задержитесь у портала, милорды. У меня для вас известие. Вскоре, следуя за кривоногим незнакомцем в пропитанном солью плаще, они зашли в узкий проулок между домами. Там они остановились. – Кто из вас сэр Эдмунд де Монтгомери? – спросил кривоногий. – Я. А кто вы такой и что вам нужно? – Сэр Уго из Палермо. Я приехал по указанию герцога Боэмунда, – сообщил незнакомец громким шепотом. – Покажите мне кольцо, которое некогда было вручено вам. Установив, к своему удовлетворению, тождественность орнамента, сэр Уго провел рыцарей в уютную винную лавчонку, в которой в это время не оказалось ни одного посетителя. Тем не менее сэр Уго внимательно осмотрел помещение и лишь после этого уселся спиной к стене. – Как же вы добрались сюда? – спросил сэр Тустэн. – Судном из Бари. Единственный глаз старого рыцаря подозрительно уставился на посланца. – Как же так? Уже много дней в Золотой Рог не прибывало ни одного судна с Запада. Сэр Уго едва заметно улыбнулся: – Возможно, так оно и есть. Но прошлой ночью, когда венецианская галера, на которой я плыл, вышла в воды Галлиполи, я сошел на берег и дал взятку капитану посыльной галеры императора. Капитан и доставил меня сюда. – Он ухмыльнулся, явно довольный собой. Эдмунд задумался. – А как продвигаются приготовления моего государя? – спросил он наконец. – Спешат ли явиться его рыцари и вассалы? Негромкая брань сорвалась с уст сэра Уго. Он отвел глаза, сгорбившись над столом. – Было слишком много опасных проволочек. Когда я уезжал, вассалы все еще задерживались, а от многих и вовсе не поступало никаких известий. – Как же тогда? – допытывался Эдмунд. – Значит, герцогу придется отложить переправу через Адриатику? Курьер опасливо осмотрелся. Затем наклонил свою лохматую голову: – Придется отложить по крайней мере на месяц. – На месяц?! – рявкнул Тустэн, потирая веко, закрывшее потерянный глаз. – Да, к сожалению… – И чем грозит такая задержка? – спросил Тустэн. – Другие западные властители прибудут задолго до герцога Боэмунда. – И тогда? – Эдмунд подался вперед. – Тогда император Византии получит возможность направить значительную часть своих войск для действий в Фессалии! Все трое понизили голос, так как в лавку забежала маленькая девочка. Она взглянула на рыцарей своими ясными глазами и исчезла за украшенной бусинами занавеской. – Вы хотите сказать, что Алексей Комнин замышляет напасть на нашего герцога? – с сомнением в голосе спросил Эдмунд. – Они старые враги, – напомнил Тустэн, – и император как чумы боится герцога Боэмунда. Сэр Уго пожал плечами: – Я не утверждаю, что дело обстоит именно так. Только милорд полагает, что было бы лучше, если бы император не узнал о намеченной им дороге – через горы Греции. – Весьма разумная предосторожность, – заметил Тустэн. Сэр Уго сделал большой глоток прекрасного вина, и кадык его ритмично задергался. Причмокнув губами, он принялся что-то нащупывать под своей коричневой туникой из грубой шерсти. На нем не было ни плаща крестоносца, ни даже стальной ермолки. На голове у него была надета кожаная шапка моряка с наушниками, которые в случае бурной погоды можно было завязать под подбородком. Наконец он вытащил из-под туники плотный свиток пергамента, испещренный аккуратными строчками латинских слов. Щуря глаза из-за слабого освещения, Эдмунд не без труда прочел послание. – Ну? – нетерпеливо спросил одноглазый ветеран. – Что пишет милорд? Эдмунд набрал в легкие побольше воздуха, собираясь читать вслух, но вдруг умолк и взялся за чашу с вином, опасливо покосившись на дверной проем, мимо которого проходили стражники; они громко топали, гремели оружием и распевали песню, изрядно сдобренную сквернословием. Эдмунд вздрогнул, будто его укусила оса. Стражники пели на англо-саксонском языке. Через дверной проем он увидел рослых наемников – все они были людьми среднего возраста. Будучи слишком пожилыми для серьезных боевых действий, они тем не менее вполне подходили для внутренней охраны. Если бы только здесь был Герт! Увы, веселый молодой оруженосец перебрался на азиатский берег в поисках подходящего пастбища для Громоносца. – Что это за варварский язык? – спросил сэр Уго. – Язык моей матери, – бросил Эдмунд и тотчас прикусил язык. Ведь он называл себя норманном… – После завоеваний Англии Вильгельмом Ублюдком , пояснил сэр Тустэн, – в Константинополе появилось множество безземельных саксонских дворян, вынужденных податься в наемники. Теперь многие из их сыновей служат в войсках императора. – Старый рыцарь помолчал, затем взглянул на Эдмунда. – Так какую же дорогу избрал наш государь? – Здесь говорится, что герцог Боэмунд, высадившись в Дураццо, как можно скорее направится в глубь материка. Он намерен провести свои войска вверх по реке Апсас. Вот только где же она находится, эта река? – Англо-норманн вопросительно поднял свои рыжие брови. – Я хорошо знаю Апсас, – проговорил сэр Уго, – поскольку во время войны герцога Роджера Ласки с Алексеем я вел по этой долине колонну латников. Это бедная, разоренная страна, но она становится вдобавок опасной, когда вступаешь в горы Граммос. Там немногие бойцы, укрывшись на перевалах, могут уничтожить множество врагов. – А есть ли известия от других франков? – полюбопытствовал Эдмунд. – Об их намерениях ведают одни лишь святые, – промычал сэр Уго, переламывая ломоть хлеба своими выпачканными смолой ручищами. – Но очевидно, – продолжал он, – что герцог, называющий себя Готфридом Бульонским, и граф Парижский идут во главе большого войска где-то… в пределах Византии. И, следовательно, они должны быть здесь первыми. – Уго зевнул, сладко потянулся. – Ну, а я… я должен завтра узнать, что вы успели выведать для герцога, а затем взойду на судно, идущее в Бари. Только где мне остановиться? – В гостинице «Космос» в генуэзском анклаве по ту сторону Золотого Рога, – предложил сэр Тустэн. – Готовят там неплохо, – он усмехнулся, – а прислужницы чисты, дешевы и приятны. – Благодарю вас. А где же мы встретимся завтра? – На берегу моря, рядом с имперским арсеналом, есть таверна «Сеть и трезубец», – ответил Тустэн. – Это место для нас подходящее, как, впрочем, и любое другое. Эдмунд поднялся, протягивая посланцу руку. – Сэр Уго, боюсь, что мне нужно вас покинуть. Я уже опаздываю во дворец. – Так идите же, – сказал сэр Тустэн, – непростительно сердить графиню Сибиллу. При подъеме на холм Эдмунду вспомнились слова Гидеона из Тарсуса. Какого дьявола? Что хотел сказать юродивый монах, когда толковал о зверях и птицах? Что за вепрь? Что за соловей? Бывший граф Аренделский вдруг ощутил холодный порыв ветра. Запахнул поплотнее плащ. И вновь вернулся к своим мыслям. Дрого из Четраро!… Он давно уже перестал думать о своем бывшем противнике. Странно, как походило породистое лицо ломбардца на морду разъяренного вепря… – Чума возьми мою тупую нормандскую голову, – проворчал Эдмунд. – Почему же я не спросил сэра Уго о вассале из Сан-Северино? Аликс! Он замедлил шаг у ворот, где стояли на страже двое вооруженных славонцев, освещенных луной. Луна… Эдмунду захотелось обратиться мыслями к светлой красоте Аликс де Берне. И вдруг Эдмунд услышал мягкий шелестящий звук – топоток босых ног, поспешающих следом за ним. Развернулся – и узнал молоденькую потаскушку, тотчас же спрятавшуюся за кустом олеандра. Это была Хлоя. Опять… Почему это жалкое создание преследует его? Он несколько раз окликнул ее, но тщетно, она не отвечала. С длинным мечом у бедра англо-норманн взошел по мраморным ступеням дворца.Глава 4 ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПИР
В большом приемном зале дворца Бардас было необычно шумно и многолюдно. По приказам мажордома, отдаваемым на греческом языке, рабы накрывали двойной длинный стол. Были расставлены скамьи и стулья для многочисленных франкских гостей – им в этот вечер предстояло сидеть, а не возлежать, как то было принято по обычаям древних римлян. Сэр Эдмунд встретился с графиней Сибиллой на широкой лестнице. Лучезарно милая в своем платье из тонкого как паутина шелка цвета аметиста, она поспешила ему навстречу. – Вы запоздали с возвращением, милорд, – с упреком в голосе сказала Сивилла. С нарочитой небрежностью она поправила шелковый шарфик, чтобы лучше оттенить ожерелье из золота и аметистов, сверкавшее на ее белой полуоткрытой груди. – Что задержало вас? Эдмунд покраснел. Замер в нерешительности. – Сэр Тустэн и я… мы выпили вина на вилле у, графа Мориса. – Ах так… И что же вы узнали от Мориса Склера? Скоро ли подойдет войско герцога Готфрида Бульонского? И снова замешательство охватило Эдмунда. Что отвечать? Как себя вести в этом загадочном и непостижимом городе? – Мы говорили о другом, – пробормотал Эдмунд. Губы Сибиллы растянулись в улыбке. – О чем же? – О раздорах среди неверных. Похоже, что в последнее время последователи Мухаммеда разделились на партии и живут во вражде и страхе друг перед другом подобно нашим герцогам, графам и баронам. – Да, конечно… после смерти в 1092 году великого султана Малик-Шаха его наследники, Арслан и Кербога, стали заклятыми врагами. И в то же время оба ненавидят и презирают эмиров Алеппо и Мосула, так же как и султана Египта. Сибилла закусила губу и придвинулась к рыцарю так близко, что у того голова закружилась от благоухания ее духов. – А теперь скажите мне, – продолжала она вкрадчиво, – почему вы предпочитаете разговаривать со скучным стариком? Почему избегаете меня?. – Но мы с сэром Тустэном просто задержались… Потому что были на службе в главном соборе. – О, Эдмунд!… – Сибилла схватила его за руку и увлекла в маленькую боковую комнату. – О, Эдмунд, Эдмунд! Выслушайте мое предостережение. Этот граф Морис из известной семьи Склеров… он смертельный враг Комнинов. Тайный враг… часто бывать у него, – она передернула своими напудренными плечами, – значит вызвать недовольство в Священном дворце. А ведь император и без того предубежден против лорда Боэмунда… Будьте же осторожны, о достойнейший рыцарь, ради меня… Еще до того как Эдмунд смог предугадать это, Сибилла обвила своими прохладными руками его шею, притянула к себе рыжую голову и подарила ему столь жаркий поцелуй, какого он еще ни разу не получал. Он еще долго стоял, ошеломленный, – уже после того, как аметистовое ожерелье графини исчезло из виду… Все еще взволнованный этим происшествием, Эдмунд прошел в свой покой сменить нижнюю тунику; благодаря щедротам Боэмунда он подобрал себе скромный гардероб. Особенно же ему нравилась новая туника, которую он в тот вечер намеревался надеть впервые. Выкроенная из какой-то блестящей зеленой ткани, туника светилась и сверкала на солнце. Подвернув концы ее рукавов, поправив ворот, он посмотрелся в серебряное зеркало. Какая жалость, что ему придется облачиться еще и в плащ крестоносца! К своему поясу англо-норманн прицепил изящный кинжал, а с другой стороны – как бы в качестве противовеса – маленькую, покрытую эмалью коробочку, содержащую порошок, который, по словам Тустзна, мог служить противоядием от любого яда. Под туникой же он ощущал ободряющую тяжесть той прекрасной, стальной кольчуги, которую на прощание подарил ему герцог Тарантский. Теперь Эдмунд был готов отведать византийских яств. На узкой улице за стенами дворца раздался топот лошадей и громкий говор грубых голосов; говорили на французском и на итальянском. Очевидно, при- был Хью Великий, огненно-рыжий брат короля Франции со своей свитой. Эдмунд решил поторопиться. Он прошелся гребнем сандалового дерева по своим волосам цвета меди, уже отросшим почти до плеч, и вышел в коридор, чтобы встретить сестру.
Никогда еще Розамунда де Монтгомери не выглядела столь прекрасной, столь статной, как в этом платье желтого цвета, украшенном зеленой шелковой лентой. Прислужницы Деспоины совершили чудеса с волосами английской девушки, ставшими опять довольно длинными, но все же короче тех доходящих до талии локонов, которыми она пожертвовала в замке Сан-Северино. Теперь в волосах ее сверкала диадема филигранного серебра, которая, казалось, парила над потоком мелких завитков.
Эдмунд подошел к сестре, потрепал ее по подбородку и гордо улыбнулся.
– Видит Бог, дорогая сестрица, все эти восточные красавицы по сравнению с тобой точно павы по сравнению с соколом.
Розамунда ласково коснулась загорелой щеки брата.
– А ты, милый братец, обнаружишь, что все женщины закудахчут вокруг тебя… в дополнение к леди Сибилле. – Розамунда лукаво улыбнулась.
У подножия широкой лестницы из черного мрамора, рядом с бассейном, в котором резвились пестрые рыбки, раздался гул голосов и топот слуг, бросившихся встречать гостей.
Из-за нескольких сильных заморозков вокруг было сравнительно немного цветов, но зато повсюду пылали сотни многоцветных свечей, освещавших великолепное убранство зала.
Гостей было человек двадцать, и среди них, кроме франков, такие знаменитые византийские полководцы, как Мануэль Бутумит, великий примицерий Татиций и еще двое стратегов из императорских армий. На всех четверых византийцах были латы из серебра с прекрасной гравировкой и позолотой, плащи из тирского пурпура, котурны из позолоченной кожи и классические походные юбки давно исчезнувших западноримских легионеров.
Все эти восточные люди были смуглолицы, но сероглазы или даже голубоглазы. Бегло говоривший на французском и итальянском языках, Мануэль Бутумит представил франков Деспоине, блестящей миниатюрной фигурке в кремовом шелке. Талию украшали золотые пряжки, усыпанные драгоценными каменьями. Многоцветными камнями были украшены и ее браслеты.
Восседавшая на возвышении Деспоина на певучем латинском языке приветствовала неуклюжих, одетых в меха чужеземцев; от них пахло кожами и лошадьми; казалось, они принесли с собой холодный северный воздух, бодрящий и побуждающий к действию.
Эти франкские варвары, как подумала Евдокия, прибыли из стран, о которых она мало знала, за исключением того, что земля там бывает покрыта снегом пять месяцев в году и что их владения когда-то являлись провинциями Западной Римской империи.
Она могла даже припомнить названия некоторых из них – Арморика, Бельгика, Аквитания, Гельвеция и Нарбонензис. Как типичная византийская патрицианка, хозяйка дворца Бардас презирала этих невежественных рослых людей, горячих, неугомонных и более всего на свете почитающих грубую физическую силу.
Из опыта общения с некоторыми франкополами – предводителями западноевропейских наемников – она знала, что эти надменные звероподобные варвары называют себя «знатными людьми», но предпочитают не что иное, как только свински напиться, побить посуду, а потом убивать друг друга из-за какого-нибудь мелочного «вопроса чести».
Но ни один из этих франков, чванливо расхаживавших по залу в своих широких плащах из медвежьих, лисьих или волчьих шкур, даже не подозревал о мыслях Деспоины. С накрашенными губами, сложенными в обворожительную улыбку, она протягивала свою ухоженную руку с превосходным маникюром для поцелуя этим грубым, заросшим щетиной крестоносцам, которые с детским изумлением рассматривали убранство этого не столь уж роскошного, по византийским понятиям, дворца.
Неизбежно потребовалась помощь сэра Эдмунда как переводчика. Он с неохотой покинул Розамунду и вышел вперед, возвышаясь над византийцами и большинством франков. И тут какой-то франк вскрикнул так громко, что брат короля Франции стал озираться. И как эхо этого возгласа прозвучал протяжный вздох Розамунды. Эдмунд же, не веря собственным глазам, уставился на массивную фигуру рыцаря, который когда-то наседал на него со смертным приговором во взгляде. Дрого из Четраро с просиявшим лицом проталкивался сквозь группу франкской знати.
– Леди Розамунда! Клянусь святым распятием, это леди Розамунда!
Она негромко ахнула и тотчас же прижала кончики пальцев к губам. Сибилла смотрела на происходящее без всякого выражения во взгляде.
К величайшему удивлению Эдмунда де Монтгомери, ломбардец бросился к нему с радостным ревом:
– Видит Бог, это мой доблестный победитель из Сан-Северино! Приветствую!
Изрядно озадаченный, Эдмунд пожал протянутую руку своего бывшего противника. Затем проговорил:
– Добро пожаловать в Константинополь, сэр Дрого.
Множество смутных догадок промелькнули в голове у Эдмунда. Если учесть столь сердечное приветствие от потерпевшего поражение противника, возможно ли, что именно он подослал в Сан-Северино того оруженосца? Наверное, уже в сотый раз Эдмунд вспоминал события того незабываемого вечера. Почему сэр Хью явился вооруженным в комнату Розамунды? Этот вопрос не давал ему покоя. Любопытно также и то, что оруженосец не хотел назвать себя. Эдмунд всматривался в красивое и жестокое лицо Дрого, тщетно пытаясь обнаружить в нем признаки коварства.
– Когда я узнал, что вы поклялись идти в поход с герцогом Боэмундом, – говорил, посмеиваясь, синьор из Четраро, – я сказал, что поступил бы точно так же, но я сгорал от нетерпения и отправился с тем, кто уже находился в пути. Поэтому мой вымпел следует за знаменами Хью Вермандуа…
Дрого говорил, а его темно-синие глаза внимательно разглядывали византийских дам, вернее, их драгоценности и пышные платья, а затем остановились на высокой фигуре Розамунды. Зубы Дрого сверкнули белизной.
– Я в восторге, милорд! Счастлив видеть, что очаровательная леди Розамунда решила сопровождать вас. Полагаю, – добавил он, понизив голос, – что вы окажете мне честь и вновь представите вашей сестре. Мне хотелось бы поправить дело. Я имею в виду недостаточную любезность с моей стороны в прошлом.
Эдмунд колебался, не зная, что и думать. Действительно ли Вепрь изменил свое отношение к нему? И все-таки какую роль он сыграл в том деле с Хью де Берне? Следующие слова ломбардца помогли Эдмунду принять решение.
– К тому же, достойный сэр, у меня есть известия из Сан-Северино. Правда, это новости двухмесячной давности, но все же такие, о которых вы, быть может, еще не знаете.
При первой же возможности Эдмунд отвел Дрого в сторону и проговорил с волнением в голосе:
– Скажите, как поживает леди Аликc?
Прежде чем Дрого успел ответить, к ним тяжелой поступью подошел стратег Бутумит. В жилах этого могучего воина армянского происхождения, должно быть, текла и кровь западноримских патрициев, так как он не был ни смуглолиц, ни толстогуб, нос же имел большой и крючковатый.
– Ее светлость, госпожа Деспоина, просит вас, милорд, чтобы вы согласились быть переводчиком в ее беседе с его высочеством братом короля Франции.
У Эдмунда не было выбора, пришлось подчиниться. Он прошел к покрытому зеленым бархатом возвышению, где восседали две столь различные фигуры. У Хью Вермандуа были прекрасные длинные волосы, цветом своим напоминавшие золотые слитки в имперском казначействе. При этом внешность его – прямой длинный нос, маленькие, узко посаженные светло-голубые глазки, широкий подбородок и мясистые, красные губы – свидетельствовала о сладострастии, надменности и безграничной жестокости.
Переводя тонкую и убедительную лесть, адресованную Деспоиной Евдокией гостям, и неуклюжие грубые шутки франка, Эдмунд уголком глаза заметил, что барон Дрого неуклонно прокладывает себе путь к Розамунде. Затем он увидел, как ломбардец, остановившись перед его сестрой, отвесил глубокий поклон, а та ответила ему холодной улыбкой.
Но вот на покрытое зеленым бархатом возвышение поднялся граф Болдуин Эно. Этот коренастый, могучего телосложения франк с почти начисто отрубленным ухом и обезображенной левой стороной лица говорил по-французски с таким сильным акцентом и так глухо, что было трудно уловить даже половину сказанного им. К счастью, вскоре после его появления мажордом Бардаса под звуки фанфар объявил, что пиршественный стол ожидает гостей. И тотчас заиграла струнная музыка и распахнулись занавески из узорчатой ткани голубого и золотистого цвета. Разинув рты, в немом изумлении взирали франкские рыцари на великолепие приемного зала, облицованного красным мрамором и освещенного сотнями свечей.
был Хью Великий, огненно-рыжий брат короля Франции со своей свитой. Эдмунд решил поторопиться. Он прошелся гребнем сандалового дерева по своим волосам цвета меди, уже отросшим почти до плеч, и вышел в коридор, чтобы встретить сестру.
Никогда еще Розамунда де Монтгомери не выглядела столь прекрасной, столь статной, как в этом платье желтого цвета, украшенном зеленой шелковой лентой. Прислужницы Деспоины совершили чудеса с волосами английской девушки, ставшими опять довольно длинными, но все же короче тех доходящих до талии локонов, которыми она пожертвовала в замке Сан-Северино. Теперь в волосах ее сверкала диадема филигранного серебра, которая, казалось, парила над потоком мелких завитков.
Эдмунд подошел к сестре, потрепал ее по подбородку и гордо улыбнулся.
– Видит Бог, дорогая сестрица, все эти восточные красавицы по сравнению с тобой точно павы по сравнению с соколом.
Розамунда ласково коснулась загорелой щеки брата.
– А ты, милый братец, обнаружишь, что все женщины закудахчут вокруг тебя… в дополнение к леди Сибилле. – Розамунда лукаво улыбнулась.
У подножия широкой лестницы из черного мрамора, рядом с бассейном, в котором резвились пестрые рыбки, раздался гул голосов и топот слуг, бросившихся встречать гостей.
Из-за нескольких сильных заморозков вокруг было сравнительно немного цветов, но зато повсюду пылали сотни многоцветных свечей, освещавших великолепное убранство зала.
Гостей было человек двадцать, и среди них, кроме франков, такие знаменитые византийские полководцы, как Мануэль Бутумит, великий примицерий Татиций и еще двое стратегов из императорских армий. На всех четверых византийцах были латы из серебра с прекрасной гравировкой и позолотой, плащи из тирского пурпура, котурны из позолоченной кожи и классические походные юбки давно исчезнувших западноримских легионеров.
Все эти восточные люди были смуглолицы, но сероглазы или даже голубоглазы. Бегло говоривший на французском и итальянском языках, Мануэль Бутумит представил франков Деспоине, блестящей миниатюрной фигурке в кремовом шелке. Талию украшали золотые пряжки, усыпанные драгоценными каменьями. Многоцветными камнями были украшены и ее браслеты.
Восседавшая на возвышении Деспоина на певучем латинском языке приветствовала неуклюжих, одетых в меха чужеземцев; от них пахло кожами и лошадьми; казалось, они принесли с собой холодный северный воздух, бодрящий и побуждающий к действию.
Эти франкские варвары, как подумала Евдокия, прибыли из стран, о которых она мало знала, за исключением того, что земля там бывает покрыта снегом пять месяцев в году и что их владения когда-то являлись провинциями Западной Римской империи.
Она могла даже припомнить названия некоторых из них – Арморика, Бельгика, Аквитания, Гельвеция и Нарбонензис. Как типичная византийская патрицианка, хозяйка дворца Бардас презирала этих невежественных рослых людей, горячих, неугомонных и более всего на свете почитающих грубую физическую силу.
Из опыта общения с некоторыми франкополами – предводителями западноевропейских наемников – она знала, что эти надменные звероподобные варвары называют себя «знатными людьми», но предпочитают не что иное, как только свински напиться, побить посуду, а потом убивать друг друга из-за какого-нибудь мелочного «вопроса чести».
Но ни один из этих франков, чванливо расхаживавших по залу в своих широких плащах из медвежьих, лисьих или волчьих шкур, даже не подозревал о мыслях Деспоины. С накрашенными губами, сложенными в обворожительную улыбку, она протягивала свою ухоженную руку с превосходным маникюром для поцелуя этим грубым, заросшим щетиной крестоносцам, которые с детским изумлением рассматривали убранство этого не столь уж роскошного, по византийским понятиям, дворца.
Неизбежно потребовалась помощь сэра Эдмунда как переводчика. Он с неохотой покинул Розамунду и вышел вперед, возвышаясь над византийцами и большинством франков. И тут какой-то франк вскрикнул так громко, что брат короля Франции стал озираться. И как эхо этого возгласа прозвучал протяжный вздох Розамунды. Эдмунд же, не веря собственным глазам, уставился на массивную фигуру рыцаря, который когда-то наседал на него со смертным приговором во взгляде. Дрого из Четраро с просиявшим лицом проталкивался сквозь группу франкской знати.
– Леди Розамунда! Клянусь святым распятием, это леди Розамунда!
Она негромко ахнула и тотчас же прижала кончики пальцев к губам. Сибилла смотрела на происходящее без всякого выражения во взгляде.
К величайшему удивлению Эдмунда де Монтгомери, ломбардец бросился к нему с радостным ревом:
– Видит Бог, это мой доблестный победитель из Сан-Северино! Приветствую!
Изрядно озадаченный, Эдмунд пожал протянутую руку своего бывшего противника. Затем проговорил:
– Добро пожаловать в Константинополь, сэр Дрого.
Множество смутных догадок промелькнули в голове у Эдмунда. Если учесть столь сердечное приветствие от потерпевшего поражение противника, возможно ли, что именно он подослал в Сан-Северино того оруженосца? Наверное, уже в сотый раз Эдмунд вспоминал события того незабываемого вечера. Почему сэр Хью явился вооруженным в комнату Розамунды? Этот вопрос не давал ему покоя. Любопытно также и то, что оруженосец не хотел назвать себя. Эдмунд всматривался в красивое и жестокое лицо Дрого, тщетно пытаясь обнаружить в нем признаки коварства.
– Когда я узнал, что вы поклялись идти в поход с герцогом Боэмундом, – говорил, посмеиваясь, синьор из Четраро, – я сказал, что поступил бы точно так же, но я сгорал от нетерпения и отправился с тем, кто уже находился в пути. Поэтому мой вымпел следует за знаменами Хью Вермандуа…
Дрого говорил, а его темно-синие глаза внимательно разглядывали византийских дам, вернее, их драгоценности и пышные платья, а затем остановились на высокой фигуре Розамунды. Зубы Дрого сверкнули белизной.
– Я в восторге, милорд! Счастлив видеть, что очаровательная леди Розамунда решила сопровождать вас. Полагаю, – добавил он, понизив голос, – что вы окажете мне честь и вновь представите вашей сестре. Мне хотелось бы поправить дело. Я имею в виду недостаточную любезность с моей стороны в прошлом.
Эдмунд колебался, не зная, что и думать. Действительно ли Вепрь изменил свое отношение к нему? И все-таки какую роль он сыграл в том деле с Хью де Берне? Следующие слова ломбардца помогли Эдмунду принять решение.
– К тому же, достойный сэр, у меня есть известия из Сан-Северино. Правда, это новости двухмесячной давности, но все же такие, о которых вы, быть может, еще не знаете.
При первой же возможности Эдмунд отвел Дрого в сторону и проговорил с волнением в голосе:
– Скажите, как поживает леди Аликc?
Прежде чем Дрого успел ответить, к ним тяжелой поступью подошел стратег Бутумит. В жилах этого могучего воина армянского происхождения, должно быть, текла и кровь западноримских патрициев, так как он не был ни смуглолиц, ни толстогуб, нос же имел большой и крючковатый.
– Ее светлость, госпожа Деспоина, просит вас, милорд, чтобы вы согласились быть переводчиком в ее беседе с его высочеством братом короля Франции.
У Эдмунда не было выбора, пришлось подчиниться. Он прошел к покрытому зеленым бархатом возвышению, где восседали две столь различные фигуры. У Хью Вермандуа были прекрасные длинные волосы, цветом своим напоминавшие золотые слитки в имперском казначействе. При этом внешность его – прямой длинный нос, маленькие, узко посаженные светло-голубые глазки, широкий подбородок и мясистые, красные губы – свидетельствовала о сладострастии, надменности и безграничной жестокости.
Переводя тонкую и убедительную лесть, адресованную Деспоиной Евдокией гостям, и неуклюжие грубые шутки франка, Эдмунд уголком глаза заметил, что барон Дрого неуклонно прокладывает себе путь к Розамунде. Затем он увидел, как ломбардец, остановившись перед его сестрой, отвесил глубокий поклон, а та ответила ему холодной улыбкой.
Но вот на покрытое зеленым бархатом возвышение поднялся граф Болдуин Эно. Этот коренастый, могучего телосложения франк с почти начисто отрубленным ухом и обезображенной левой стороной лица говорил по-французски с таким сильным акцентом и так глухо, что было трудно уловить даже половину сказанного им. К счастью, вскоре после его появления мажордом Бардаса под звуки фанфар объявил, что пиршественный стол ожидает гостей. И тотчас заиграла струнная музыка и распахнулись занавески из узорчатой ткани голубого и золотистого цвета. Разинув рты, в немом изумлении взирали франкские рыцари на великолепие приемного зала, облицованного красным мрамором и освещенного сотнями свечей.
Пока большинство гостей не высыпали во внутренний двор и не стали во весь голос подзывать своих верховых лошадей, Эдмунд не мог покинуть свое место между графиней Сибиллой и Примицерием Татицием, командовавшим осадными машинами империи. Не мог, ибо одно обстоятельство весьма тревожило его. Не обращая ни малейшего внимания на графиню Сибиллу и хозяйку дворца, Дрого, как всегда бесцеремонный, впивался голодными глазами в леди Розамунду де Монтгомери, сидевшую в некотором отдалении от него. Это могло бы и не встревожить бывшего графа, если бы его сестра несколько раз не встречала взглядов ломбардца загадочной полуулыбкой. Впрочем, Эдмунда беспокоило еще и странное поведение Сибиллы, вернее, ее отказ сообщить, каким образом она узнала о прибытии сэра Уго, курьера герцога Боэмунда. На его настойчивые расспросы графиня отвечала лишь шутливым взглядом из-под густо накрашенных век. Позднее она шепнула ему: – Должна вас увидеть, как только эти напившиеся грубияны… я хотела сказать, эти сверх меры возбужденные благородные рыцари уберутся отсюда. Когда, наконец, представилась возможность выбраться из зала, Болдуин Эно и еще несколько человек из франкской знати, слишком пьяных, чтобы забраться на лошадь, были уложены спать во дворце Бардас. Эдмунд же со слегка тяжелой от многих чаш темно-золотого вина с острова Лесбос головой направился по центральному коридору, заглядывая в небольшие комнаты, попадавшиеся ему на пути. И вдруг в одной из них увидел Розамунду. Девушка сидела на диване, закрыв лицо руками. Она горько плакала. Напротив нее, широко расставив ноги и стиснув руки за спиной, стоял барон Дрого. Казалось, что он разглядывает жаровню, пламя которой освещало комнату. Его спокойный и даже умиротворенный взгляд свидетельствовал о том, что девушке не угрожает насилие, поэтому Эдмунд убрал руку с рукоятки кинжала, который он уже было наполовину обнажил. Дрого же, заслышав шаги, медленно обернулся с горькой улыбкой на покрытом шрамами лице. – Весьма сожалею, сэр Эдмунд, но я был вынужден передать этой леди те известия из Сан-Северино, о которых я вам говорил. Мне очень жаль, что мои новости столь неприятны, ведь я хотел бы заслужить вашу дружбу. Эдмунд стремительно – полы его плаща взметнулись за спиной – вошел в комнату. – Прежде чем говорить о дружбе, сэр рыцарь, не ответите ли вы мне на один вопрос? Розамунда подняла на брата заплаканные глаза. – Он уже сделал это, – сказала она. – И дал свое рыцарское слово, что не знает, кто послал того оруженосца. – Это действительно так? – Голос Эдмунда прозвучал как удар борта галеры о скалу. Рука коренастого темноволосого ломбардца медленно поднялась вверх. – Клянусь честью, мне ничего об этом не известно. Я действительно не ведаю, кто замыслил такое злодеяние. – Но разве вы не оставили в замке оруженосца Для присмотра за хворым конем? – Оставил. Но то был простоватый парень, бесхитростный, как солнечный свет. – Большие, темно-синие глаза ломбардца пристально взглянули на Розамунду. – Вам следует искать злоумышленника в другом месте… – Где же, например? – спросил Эдмунд. – А мне казалось, вы более наблюдательны… Неужели вы не заметили, как часто младший брат сэра Хью заглядывался на вашу сестру? И вы ведь знали, что сэр Робер ненавидит своего старшего брата? Выводы были столь очевидны и все же столь неожиданны, что Эдмунд на короткое время лишился дара речи. Мысленно возвратившись в прошлое, он припомнил, что Герт был не вполне уверен относительно личности промелькнувшего как тень посланца. Англо-норманн шагнул к ломбардцу: – Простите мне мои подозрения, Дрого из Четраро. Мне следовало бы знать, что такой достойный воин, как вы, не способен на вероломство. После крепкого рукопожатия Дрого, однако, не отпустил руку Эдмунда. – Нет, сэр рыцарь, не отходите… Раз уж я жму вашу руку, то, пожалуйста, выслушайте меня. Новый приступ рыданий вырвался из груди Розамунды: – Рана сэра Хью оказалась не смертельной. – Это отлично, но как здоровье сэра Хью? Он поправился? – Не совсем. Он потерял дар речи, а его правая рука неподвижна. Но самое плохое – в его голове бродят разные странные и буйные фантазии, порой слугам приходится удерживать его силой. – Да простит меня Бог! – пробормотал Эдмунд. – Ведь это моя рука нанесла ему тяжелое ранение. – Тебе еще предстоит узнать наихудшую новость, – всхлипнула Розамунда. – Пойди сюда, брат мой, и сядь возле меня. – Наихудшую? Что может быть хуже услышанного? – Сэр Дрого сообщает плохие вести относительно твоей возлюбленной. Плечи Эдмунда сковало холодом. – Она… Аликc мертва? – Нет, она ушла в монастырь и готовится принять обет. Кровь прилила к голове Эдмунда. Невидящими глазами смотрел он на мощную фигуру Дрого. – От кого вы узнали об этом? – От епископа из Беневенто, он рассказал, что леди Аликc де Берне два месяца назад явилась в монастырь Святой Урсулы близ Беневенто. – Дрого положил руку на неподвижные плечи Эдмунда. – Проклинаю ту минуту,, когда вынужден говорить столь жестокие вещи. Он пересек музыкальную комнату, готовясь отвесить глубокий поклон Розамунде. Она сидела прямо, слезы текли по ее щекам. – Полагаю, леди Розамунда, что вы сможете принять меня в лучшие времена. Ответ Розамунды прозвучал весьма сдержанно: – Если я пожелаю увидеть вас снова, сэр рыцарь, вы будете извещены об этом. Если бы Эдмунд де Монтгомери не был погружен в глубокий транс, он бы несомненно заметил, как вспыхнуло лицо барона. Дрого не привык получать столь небрежный ответ от дамы, даже если она так красива, как Розамунда.
Глава 5 БИБЛИОТЕКА
Во дворце Бардас все замерло, было так тихо, что явственно слышалась даже команда сержанта охраны, сменявшего караул на улице. Эдмунд де Монтгомери, сидя в кресле в глубоком раздумье с опущенной на грудь головой, невидящим взором уставился в пламя жаровни. Аликc в монастыре! Аликc в голой и тесной келье. Аликc – послушница, ее нежное тело в тяжелом белом облачении. Аликc, отрезанная от тепла и всех радостей жизни на земле. Почему Аликc де Берне сделала такой фатальный шаг? Почему? В его ушах ясно, как будто они были только что произнесены, звучали ее слова: «Я буду верить тебе, моя единственная любовь, как ты веришь мне. Призываю Господа Бога в свидетели того, что, пока я живу, не стану больше ничьей женой. Ни единого человека. Только Эдмунда де Монтгомери». Пальцы его сжали деревянные подлокотники в форме львиных голов. Так вот что значила ее клятва – ни единого человека, кроме Эдмунда де Монтгомери. Ни единого человека. Она и не выйдет ни за одного человека, но станет невестой Христа. Снова ему вспомнился тот вечер на зубчатой стене Сан-Северино. Он так ясно представлял себе ее милое лицо, освещенное звездами, мягкое и теплое прикосновение ее губ. Нет, он не может ее упрекнуть в нарушении верности слову, но образ Аликc, запечатленный в его памяти на фоне каменной стены, побуждал каждую клетку его тела восстать против свершающегося. Что же делать? Что предпринять? Поискать судно, плывущее в Италию, и вернуться в Сан-Северино прежде, чем голова Аликc лишится копны золотистых локонов, которые он так любил гладить. Предотвратить минуту, когда она навсегда заключит брачный союз с самым великим Владыкой всего сущего? Эдмунд задыхался от отчаяния. Но мог ли он вернуться, не поступившись честью? Обет крестоносца должен быть выполнен. Кроме того, леди Аликc никогда не вернулась бы в мир ради свадьбы с нарушившим свою клятву рыцарем, душа которого обречена на вечные муки. И тем не менее… все его существо взывало к любимой, рыдало по хрупкой красоте Аликc, по незаменимой прелести ее присутствия. – Это лишено смысла, – пробормотал он, не замечая маленькую мышку, которая выбежала погреться у жаровни. – Нет. О возвращении нельзя и помышлять. У герцога много врагов, а эти византийцы столь же ненадежны, как летний шквал над рекой Арен. Рыжая голова в задумчивой печали склонилась еще ниже, а глаза Эдмунда уже стали слипаться, когда он неожиданно заметил, что мышь готова обратиться в бегство. Отклонившись в сторону, он извлек кинжал, но в эту секунду на его плечо легла мягкая рука. Нет, это был не убийца – маленькая гибкая фигурка в разлетавшемся платье аметистового цвета возникла перед ним. – Уберите ваш смертоносный клинок, милорд. Черты Сибиллы, всегда отличавшиеся классической красотой и нежностью, казались мягче обычного. Возможно, потому, что она с особой тщательностью и искусством нанесла белила и румяна на лицо, умело подчеркнув его очарование. – Как вы опрометчивы, франк. Я могла бы уже давно заколоть вас, если бы захотела. – В шутку она похлопала по тонкому стилету, торчащему у нее за желтым шелковым поясом. – Право, сэр Эдмунд, когда же вы научитесь остерегаться? И не поворачиваться спиной к незапертой двери? Он пожал плечами: – Возможно, было бы лучше, если бы вы отправили меня к праотцам. Выражение лица молодой женщины вдруг изменилось. – Я довольно долго стояла у вашего кресла, наблюдая всю глубину вашей печали, и сердце мое защемило от жалости. Что за прискорбные известия вы получили? – Она стала на колени рядом с ним. – Не бойтесь, Эдмунд, довериться мне. Я могу быть чрезвычайно благоразумной… если решу именно так поступать, – добавила она, загадочно улыбнувшись. – Это личное горе, и не такое, которое вы могли бы понять, – ответил он, распрямляясь и вытягивая затекшие от длительного сидения ноги. – Не будьте так уверены. Я… что ж, за свои двадцать восемь лет мне пришлось многое видеть и, возможно, многому научиться. Например, могу поклясться, что в настоящий момент вы крайне нуждаетесь в утешении. Пройдемте со мной в личную библиотеку Евдокии. Там горит уютный огонь. Возможно, рассказ о горе развеет вашу печаль. Она с нежностью сомкнула свою руку на его руке, и на ее шее сверкнули бусы из венецианского стекла, подчеркнув темный глянец ее волос. – Я бы успокоила вас, может быть, дала бы вам совет, дорогой Эдмунд. Не выпить ли нам чашу вина, прежде чем отправиться на отдых? Прием ведь давным-давно закончился. Какой скучный и затянувшийся вечер! Почему это франки не способны на разговоры, не касающиеся войны, женщин или охоты? Безмолвно, как во сне, проследовал Эдмунд де Монтгомери за смутным силуэтом византийки – через холл в высокую бронзовую дверь с изображениями сцен из мифологии Древней Греции. Два больших кресла, обтянутых китайским шелком, стояли там, отбрасывая косые тени перед очагом, освещавшим стены, окрашенные в теплые алые тона. Потолок комнаты отсвечивал голубизной подобно летнему небу. На столике перед очагом находились изумительно выполненная ваза из венецианского стекла и кубки, более прекрасные, чем утренний туман, здесь же стояли блюда пирожных, фруктов и сыра. Пламя выхватило из полумрака волнующие контуры фигурки Сибиллы, а она, грациозно передвинув кувшин с вином, согревшийся перед очагом, наполнила два высоких кубка. Исходивший от них пар нес в себе запахи гвоздики и корицы. Не обращая внимания на возражения Эдмунда, она вручила ему кубок, а сама опустилась в кресло. Пламя смутно освещало ее персиковые щеки, маленький решительный подбородок и вздернутый носик. Помолчав несколько минут, Сибилла, отведя взор от пламени, нежным голосом спросила: – Не могли бы вы, Эдмунд, поведать мне, кто это тайно приезжал к вам и какие новости побуждают вас столь мрачно смотреть на мир? И хотя он перед этим решил ни за что не упоминать имени Аликc де Берне, к тому времени, когда византийка вновь наполнила его кубок, это намерение было как бы смыто потоком эмоций. И он услышал свой голос, повествующий о столь печальном для него событии. Сибилла слушала, устремив взгляд на огонь, и лишь ободряюще улыбалась, когда он делал паузы. Время от времени она подымалась, чтобы предложить сыр или бисквиты. Не говоря ни слова, она снова и снова наполняла его кубок. Ему казалось, что ее платье стало прозрачным… и что это милое, умное создание действительно понимает всю глубину его отчаяния. Барахтаясь в приятном потоке эмоций, он стал понимать, что краткие реплики собеседницы рассчитаны на то, чтобы вывести его из оцепенения, пробудить желание действовать. Графиня Сибилла, ставшая вдруг непреодолимо и неописуемо желанной, убеждала его, что жизнь коротка, а время быстротечно. Чего стоит оплакивание утраченной любви? Своим низким и мягко вибрирующим голосом она напоминала ему, что в Византии можно найти множество честных, знатных и богатых дам, причем без особых стараний со стороны столь знаменитого паладина, как он. Когда его голова с сомнением покачивалась, Сибилла поспешно добавляла: – Ни одна из них, конечно, не могла бы подняться до совершенств утраченной вами Аликc, но я знаю нескольких дам, которые многое бы отдали, чтобы стать хозяйками в тех огромных владениях, которые вы, безусловно, отвоюете у неверных. Помните же, Эдмунд, что вы полны жизненных сил и что не стоит печалиться об умершем прошлом. – Возможно, – промолвил он, расслабляясь в своем удобном кресле. Некоторое время спустя, когда он сидел, потягивая лесбосское вино и глядя на тонкую, освещенную пламенем фигурку женщины, такую миниатюрную в огромном кресле, им овладело приятное чувство отдохновения. – Сегодня мы слышали, – поведал он ей, что Кылыдж Арслан, великий турецкий султан, не только созвал своих вассалов со всех пределов владений, но также послал своего брата в качестве эмиссара к сарацинам на юг, убеждая их присоединиться к нему, чтобы уничтожить нас, едва мы вступим на равнины за горами. Я не знаю, как именуется эта провинция, но ведь у византийцев для нее, конечно, есть название. – Может быть, вы имеете в виду провинцию Каппадокию, или Космодион, или Опсикон?Он пытался запомнить эти названия, но безуспешно. – Не в этом дело, но говорят, что неверные налетят на нас как саранча, которая опустошила здесь все прошлым летом, а по численности они будут равны песчинкам на побережье. – А если даже и так, что из этого? – Сибилла придвинулась к нему на кресле, наклонясь вперед, платье ее распахнулось, обнажив нежные контуры грудей; увы, Эдмунд в это время теребил свои медно-рыжие кудри. – Чем больше их будет, тем выше честь победы, которая выпадет на долю доблестных рыцарей. Сколько бы их ни было, они не смогут противостоять ударам кавалерии франков. Мы отвоюем Гроб Господень. Графиня Корфу наклонилась еще ниже, ее огромные фиалковые глаза буквально впились в Эдмунда. – Конечно! Разве можете вы, крестоносцы, потерпеть неудачу? Разве вами не руководит такой мудрый и удачливый воин, как герцог Боэмунд Могучий? – Правда, правда, – бормотал он. – Из того, что я слышу и вижу… да сравните его хотя бы с этим жалким хвастуном из Вермандуа… Нет, ни одна армия христианского мира не сравнится с нашей. – Конечно, если только герцог прибудет до того, как другие западные властители, возбудив в нем страх и зависть, настроят нашего императора против него, – высказала свое мнение Сибилла, снова наполняя вином кубок воина. – Это легко было бы сделать, лишь напомнив нашему императору, что Боэмунд и Робер Гюискар, его отец, едва не захватили этот город. Так что прибудет ли он вскоре? Станет ли продвигаться к Константинополю по самой короткой дороге? Луч инстинктивной осторожности, вспыхнув в мозгу англо-норманна, тут же погас, растворившись в дурманящих парах, которые, казалось, подымались из кубка. Сибилла рассмеялась и поднялась, чтобы немного постоять перед пламенем, освещающим ее прелести. Небрежный взмах руки как бы отстранил расспросы красавицы. – Я не могу сказать вам этого. – Но вы же знаете, Эдмунд, драгоценный мой, конечно, вы должны это знать. Или нет? Возможно, милорд из Таранто недостаточно доверяет вам? – Это не так. Он очень верит мне. – Эдмунду становилось все труднее ясно выражать свои мысли. – Тогда не говорите ничего больше. Прошу вас. Пусть это доверие останется незапятнанным, – промурлыкала она, а затем, поднявшись с кресла, окружила его аурой благоуханий – Ваша туника такая толстая, а ваш плащ такой тяжелый – не удивительно, что вы потеете как деревенский жених! Разрешите мне расслабить вам воротник и пояс. Он едва понимал, что Сибилла уселась к нему на колени и одной рукой пытается расстегнуть серебряную брошь, закрепляющую воротник его туники. Испустив деланно испуганный возглас, она покачала головой – и благоухающие локоны скользнули по его лбу и подбородку. – Деспоина Евдокия, безусловно, огорчилась бы, Эдмунд, если бы узнала, что на ее прием вы надели рубашку из стальных колец. Ведь было так тепло, что вы, должно быть, чувствовали себя ужасно неудобно. – Да, – вздохнул он, стягивая С себя плащ и верхнюю тунику. – Такая рубашка становится со временем страшно тяжелой. Ощущение прохладных пальцев на его лбу, мягко проводящих по волосам, приятно волновало его. – Как странно, что ваши локоны и локоны моего друга из Таранто почти одного цвета. Но почему бы и нет? Ведь вы оба могучие воины. Он поднял глаза, глядя на освещенные контуры женского лица, которое все приближалось к нему, чувствовал зовущую теплоту ее легкого тела под тонкой нижней туникой. Как изумительно мягка была Сибилла и как легка. Ее голова теперь покоилась под его подбородком, пальцы их рук переплелись. – Вы даже не можете себе представить, как долго и как упорно я спорила с герцогом по поводу того, куда ему следует двигаться после того, как он переплывет Адриатическое море и снова вступит в Грецию. – Голос ее теперь был едва слышен. – Представляете? Он пренебрег моим самым искренним советом и настаивал на том, что поведет свою армию по Македонии через… дайте вспомнить… да, через Охриду и Додону. – Она еще теснее прижалась к его широкой, мускулистой груди. – А знали вы, что его армия в действительности отплывает не из Бари, как он говорил, а из Бриндизи? Его рука жадно потянулась к кубку. Глядя на колыхающиеся длинные полотняные занавески, прикрывавшие деревянные ставни окон библиотеки, он сделал большой глоток вина, согревший его, а затем окунулся в иное приятное ощущение – ее щека теперь прижимается к его щеке, нежная рука обвивается вокруг шеи, а плотные груди касаются его тела. – Вы не правы, прекрасная леди, – проговорил он сонно. – Милорд герцог планировал такой путь, но уже давно отказался от него… Треск углей в очаге остановил его. Освещенная огнем среди погруженной в сумрак библиотеки Сибилла задержала дыхание, а затем ее рука потянулась к пряжке на его поясе и расстегнула ее. – Давайте, – предложила она, улыбаясь ему прямо в глаза, – освободимся от этой отвратительной железной рубашки. Графиня Корфу оказалась такой проворной, что через несколько мгновений плотные стальные кольца со звоном упали на пол рядом с поясом, кинжалом и амулетом с противоядиями. Эдмунд сидел теперь с голой грудью, если не считать нижней туники из белого полотна. Она же снова уселась к нему на колени, начала пальцами щекотать ему ухо, а потом нежно его пощипывать. – Нет, это ты, наверное, ошибаешься, любовь моя, – продолжала она, – именно этой дорогой лорд Боэмунд и собирается следовать. Я в этом уверена. – Нет, – настаивал он заплетающимся языком, – он не пойдет следом за армией Франции, Фландрии и Бульона. Крестоносцы опустошат весь край, разгонят или возьмут в плен ее жителей, хотя они их братья-христиане. – Эдмунд облизнул губы, внезапно ставшие жесткими и сухими. – Говорю вам, что он высадится в Дураццо. – А потом? – Голос ее прозвучал равнодушно. – Линия продвижения проходит по реке Апсас до места, называемого Антипатрия. Так мне кажется. Потом вассалы спустятся еще по какой-то реке, не знаю ее названия. Как бы там ни было – она протекает между горой Боюс и горой Тимфе по пути к Элимее, а затем через Тирессу, Алорус, а оттуда к Фессалоникам. Понимаете? Он… великий руководитель, великий властитель. Оч-чень храбрый и знаменитый… – О, я так рада. Впрочем, моя любовь к нему истощилась. Вы, теперь только вы! Он рухнул на нее с таким пылом, что она закричала, а Эдмунд как в розовом тумане увидел, что она выскользнула из своих аметистовых одежд и прильнула к нему обнаженным серебристым телом. Затем в позыве страсти все остальное потеряло смысл. Задыхающаяся, в экстазе, все еще прерывисто дыша, Сибилла поднялась с кресла и облачилась в свои одежды. С тонким, шелестящим звуком стилет выскользнул из ножен. Не без колебания Сибилла подняла узкий стальной клинок на уровень его сердца. – Пьяный глупый франк! – промолвила она. – У тебя не должно остаться воспоминаний об этом! Подобравшись и выпрямившись, чтобы изо всех сил нанести удар, она на минуту застыла – никто не узнает, в этом циничном обществе никому нет дела до исчезновения какого-то рыцаря – но клинок отклонился в сторону. – О, Эдмунд, Эдмунд! Почему? Почему я осуждена на это чувство к тебе – грубому отродью варварства и дикости?
Глава 6 ШПИОНАЖ В ПОЛЬЗУ ПРИМОРСКОГО ДВОРЦА
Задолго до того, как поднялись Деспоина и ее одурманенные вином франкские гости, графиня Корфу вызвала носилки и эскорт стражников. Не оставив во дворце Бардас никаких следов своих намерений, она, уставшая и измученная, с отяжелевшим взглядом, распорядилась унести себя в час, когда еще заспанные и зевающие лавочники только открывают свои палатки, а изнуренные трудом уборщики улиц сгребают отовсюду мусор и отбросы. – В Приморский дворец. И без лишнего шума, – повелела Сибилла старшему над наемниками. Раскинувшись на подушках в носилках, Сибилла прислушивалась к щелканью бичей, ударами которых стражники расчищали проход через толпу крестьян и мелких торговцев, направлявшихся к торговым рядам Константинополя. Чувство удовольствия наполнило ее, едва занавески носилок ритмично закачались в такт шагам дюжих нубийских носильщиков, отобранных за их большой рост и широкую поступь.– Милорд! Милорд! Солнце уже высоко, а нам сегодня многое предстоит сделать. Широкое обветренное лицо Герта склонилось над Эдмундом де Монтгомери. Тот испустил стон. Никогда раньше не мучался он от такой страшной головной боли, даже когда получил тяжелый удар булавой по шлему. Он был потрясен, изумлен, обнаружив, что ничего практически не может вспомнить из того, что говорилось или делалось после того, как он вошел в библиотеку. Они с Сибиллой вели какой-то длинный разговор. Осушили не одну чашу с вином. Сладчайший Иисус! Что за дьявольская боль раскалывает ему череп! – Ты нашел подходящую конюшню для Громоносца? – Да, милорд, – усмехнулся Герт, поднося ему платье и медную лохань с ледяной водой, – но я не знаю, стоит ли оставлять вашего боевого коня в Хризополе. – Это почему? – пробурчал Эдмунд, поднимая мокрое лицо. – А потому, милорд, что на южном берегу Босфора нагло хозяйничают не только неверные, но и многие другие люди, оставшиеся без господ. Они лихие головорезы, эти вооруженные разбойники, недобитые прошлым летом ратниками Красного Льва. Многие сторонники Петра Пустынника и Вальтера Голяка избежали тогда верной гибели. Герт положил перед господином свежую тунику, тазик с бритвенными принадлежностями и стал затачивать нож для бритья на своем мозолистом крае собственной ладони. – Милорд, – заговорил он нерешительно, – я не знаю, как с этим быть. – С чем? – Когда я вернулся в город, ко мне без стеснения начала приставать молоденькая девчонка. – Это неудивительно. Ты у нас веселый плут, – машинально ответил Эдмунд, который все еще пытался припомнить события минувшей ночи; он слабо улыбнулся и сделал попытку подняться, но тут же вновь повалился на постель с болезненной гримасой. – Ну, и что же было с этой шлюшкой? – Она говорила не обо мне, а о вас, милорд. Эдмунд зевнул. – Обо мне? И что она собой представляет? – Ничего особенного. Несмотря на очень молодые годы, она раскрашена и одета как гулящая девка. – Да? И что же она тебе говорила? – Она слезно просила дать ей честную работу в этом дворце. Клялась, что лучше других может шить и вышивать. На этот раз Эдмунд сделал поистине гомерический зевок. – Это редкий случай, – сказал он. – Шлюха захотела честной работы. – Он с удовольствием искал повод отвлечься от мучительных сомнений и угрызений совести, которые все чаще возникали в его мозгу. – Ну и как же она выглядит, эта твоя… Герт Ордуэй поскреб свои жесткие соломенные волосы и самодовольно усмехнулся: – Это, скажу вам, лакомый кусочек, ее бы только получше отмыть. – А ты готов осуществить это? – Святой Олаф, нет! – выпалил молодой саксонец, подхватывая кожаную перевязь с латунными бляхами и с притворным вниманием изучая пряжку. – Не мог бы ты поговорить о ней с мажордомом Деспоины? Герт опустил глаза. – Она, милорд, очень молода и совершенно растеряна. Я ничего не знаю о ее прошлом, – пролепетал он, заметив, что Эдмунд поднял брови. – А ты передай просьбу этой девицы леди Розамунде, она могла бы устроить ее дела лучше, чем я. – Эдмунд вновь зевнул и потянулся к своей нижней тунике. – В конце концов, долг христианина поднять падшего, и если эта шлюха искренне хочет честно работать, моя сестра могла бы взять ее в прислужницы, при условии, конечно, что девчонка ничем не больна. Теперь, когда пол больше не плыл у него под ногами, Эдмунд натянул новые полотняные штаны и закрепил завязки на правом бедре. – Ну, я готов позавтракать яйцами, молоком и кусочком мяса. Саксонец вытаращил голубые глаза. – И это все, милорд? – Все. А теперь пойди на конюшню и прикажи приготовить мне коня. Готовься сопровождать меня. Я поеду из города в северном направлении, чтобы в окрестностях найти подходящее место для лагерной стоянки армии моего господина. – Значит, милорд, герцог скоро прибудет сюда? – Широкоскулое лицо Герта рассиялось, он выхватил булаву из подставки для оружия и начал победоносно размахивать ею. – Горю желанием выступить против слуг Сатаны. А вы слышали, милорд, что вчера натворили турки перед сторожевой башней на востоке от Хризополя? Заняв окрестности, они воткнули в землю сотню копий и на каждое насадили по христианскому младенцу. Они оставили после себя столько же ослепленных и оскопленных мужчин и еще больше женщин, изнасилованных и беспомощных, поскольку турки подрезали им главные сухожилия на ногах. – Видит Бог, эти зверства скоро прекратятся. Как только Герт удалился по делам, Эдмунд вышел на обдуваемый ветерком балкон, с которого открывался вид на порт. Он подставил свежему дыханию ветра свою голову и стоял, наслаждаясь прохладой. Но его не занимало передвижение изящных каиков, тупоносых рыбачьих лодок под черными парусами, фелюк с Кипра, Родоса, Крита и других островов, все еще находившихся под властью Византии. Ясно, размышлял он, что в первый раз в жизни он опьянел до потери памяти. Почему? Почему так случилось? Бывало, он выпивал значительно больше, но ему не было так плохо. Не его ли состояние тому причиной? Его отчаяние, вызванное тяжелыми мыслями об Аликc? К горлу подступила тошнота. Аликc! Нет! Он должен отбросить все мысли о ней, руководствоваться только рассудком и исполнить данный обет. Он не должен допускать мыслей о Сан-Северино. Заложив руки за спину, он тяжелыми шагами мерил балкон. Что он мог наболтать в полу бредовом состоянии прошедшей ночью? Как он ни старался, вспомнить не мог ничего – только очаровательное личико Сибиллы, обманчивую мягкость ее тела и ее гибких пальцев, расстегивавших его тунику. Свои вещи он обнаружил утром рядом с ложем. Как они попали в спальню, как он сам туда добрался? Он ничего не мог вспомнить, ровно ничего! Если бы рассудок его не был затуманен, память об Аликc де Берне сделала бы угрызения совести еще более жгучими. Теперь же он намеревался незамедлительно пойти на исповедь в придел часов ни, украшенный замечательными мозаиками в честь святого Михаила. Туда, для удобства франкских гостей Деспоины, был приглашен латинский священник, способный совершать все обряды Римской церкви. Да. Необходимо снять с себя тяжкую ношу, чтобы снова можно было без угрызений совести носит белую мантию с пламенеющим крестом. И как можно быстрее им с Розамундой нужно найти себе жилье у венецианцев в Пере на противоположном берегу Золотого Рога. Однако что он мог выболтать спьяну насчет пути следований войск герцога Боэмунда? Эдмунд яростно тер виски, стараясь восстановить в памяти картину происходившего, но так ничего и не мог припомнить. Звуки легких шагов по мозаичному полу коридора вернули его к действительности еще до того, как появилась Розамунда. Как ни странно, она выглядела свежей и отдохнувшей, будто не провела бессонную ночь во дворце Бардас. При одном взгляде на помятую и осунувшуюся физиономию брата она поспешила подойти к нему. Молча глядя на него, она старалась понять, как он принял известия из Сан-Северино. – До меня дошли прелюбопытные просьбы, заговорила она первая с коротким металлическим смешком. – Во-первых, мажордом Деспоины вручил мне послание, – она отвела в сторону глаза и откинула со лба рыжий локон, – от Дрого из Четраро с приглашением принять участие в торжественном богослужении в соборе Святого Спасителя в Коре. Это большая церковь между старыми и новыми стенами. А затем прибыть на прием во дворец субастократора. – Субас… что? Господи, что это за название? – фыркнул Эдмунд. – Идиотские греческие титулы длиннее, чем день без хлеба. Они смехотворны. Я горю желанием снова услышать простую норманнскую или саксонскую речь. Сестра пожала плечами: – Я не больше твоего знаю, кто такой субастократор. Наверняка это очень значительное лицо в этом огромном зловонном городе. И, очевидно, стоит на иерархической лестнице лишь чуть ниже, чем император или цезарь. – И ты примешь приглашение? – спросил брат. Розамунда опустила глаза на вышитые золотом шлепанцы из мягкой алой кожи. – Нет, я не думаю, дорогой брат. Барон из Четраро мне не по душе.
Приподняв указательным пальцем ее лицо, Эдмунд пристально взглянул в ее лучистые глаза. – Милая сестра, оставь свои хитрости для тех, кто не знает тебя так хорошо, как я. Тебе нравится этот могучий воин, – произнес Эдмунд без малейшей иронии, совершенно забыв, что сам одержал победу над ломбардцем. Розовые ямочки на щеках Розамунды стали еще глубже. – Чепуха! Признаю, что смелость этого парня меня занимает. Но и только. Я даже боюсь его. Дрого слишком нетерпелив, слишком груб и слишком высоко ставит свою собственную волю. Кроме того, он уже дважды вдовец. – Другие мужчины также теряли своих жен, – Рассмеялся Эдмунд и добавил более серьезно: – Смотри же, не подавай ложных надежд этому человеку. Он не медведь, на которого можно надеть ошейник. – Тем не менее, – спокойно сказала Розамунда, – я отклоню его приглашение. Сегодня вечером я собираюсь помолиться в маленькой латинской часовне, только что достроенной купцами из Пизы Мне хотелось бы зажечь там несколько свечей помолиться, чтобы сэру Хью стало лучше. Уже совсем собравшись уходить, англо-норманин обернулся. – Ты, кажется, назвала просьбу Дрого первой. Есть и еще что-то? – поинтересовался он. – Ты послал Герта просить, чтобы я проявляла расположение к какой-то шлюхе. – Ничего подобного! – вспыхнул брат. – Я только сказал, что он мог бы обратиться к тебе. Эту проститутку, совсем еще ребенка, я по глупости вчера днем облагодетельствовал мелкой монетой. В живых голубых глазах Розамунды промелькнула искра юмора. – В обмен на что? – лукаво спросила она. – Да ни на что. Я всего дважды видел это создание. В первый раз, когда слушал предсказание юродивого. И снова вчера вечером, когда она преследовала меня до самого дворца. – Очевидно, ты хотел бы ее увидеть и в трети раз? – поддразнила его сестра. – Мажордом Деспины Евдокии позволил ей войти во дворец… Через несколько минут появился кипрский евнух с отвисшим животом и плешивой, как валун, лоснящейся головой. Он приветствовал присутствуют по восточному обычаю, прижав руки ко лбу. – Уличная девка уже здесь, госпожа, – доложил он. По знаку Розамунды слуга удалился в своем же том балахоне. В дверь втолкнули девочку Хлою, чуть менее неряшливую, чем прежде, но все еще в изрядно заношенном голубом платье. Ее грязные ступни разъезжались на мраморном полу, но, к удивлению Эдмунда, она не проявляла никаких признаков застенчивости. Глаза ее, это он заметил впервые, были цвета густого коричневого эля. Они бегали по комнате, перескакивали с богатых занавесок на искусно высеченные бронзовые решетки у очага. Еще он заметил, что она, должно быть, приложила огромные усилия, чтобы отмыть отдельные участки своего тела. Кисти ее рук и лицо сияли чистотой в явном противоречии с серой грязью, покрывавшей плечи и шею… – Ну? – спросил Эдмунд добродушно. – Что бы ты хотела сказать моей сестре? – О господин мой! – с этим восклицанием маленькая проститутка бросилась к Эдмонду и обняла его колени. – Не велите прогнать меня на улицу. Клянусь, я буду честной и преданной служанкой для моей госпожи. Поверьте мне, я знаю, чего от меня ждут. Ее греческая речь была на удивление правильной и с верными ударениями. Она поползла к Розамунде на четвереньках, а затем распростерлась на полу, коснувшись его лбом. – Встань! – быстро сказала Розамунда. – В Англии мы ни перед кем не падаем ниц, кроме Бога и Святой Девы. Но маленькое тельце девушки оставалось распростертым на полу, пряди русых волос беспорядочно разметались по мозаике. – Кто ты такая? – Розамунда наклонилась и помогла просительнице подняться на ноги. – Откуда знаешь, что должна делать девушка-прислужница? – Когда-то у меня была собственная девочка-рабыня, – с горечью поведала та. – Нет, я говорю правду, госпожа моя, – поспешно заверила она, Уловив недоверие близнецов. – Я Хлоя Крозо. Мой отец был процветающим торговцем шелком из Никеи. Проклятые турки захватили наш город и вырезали всю мою семью. Осталась я одна. В тринадцать лет мой хозяин продал меня старому сарацину. Не буду утомлять господина и госпожу рассказами о том, что происходило со мной до тех пор, пока мне удалось спрятаться в корзине и удрать в этот город. Здесь меня ждала еще худшая жизнь под арками ипподрома. – Спрятав лицо в ладони, девушка горько заплакала. – Но почему же, – с любопытством спросил сэр Эдмунд, – ты решилась последовать за мной? – Потому, благородный господин, что вы были первым человеком, кто взглянул на меня с жалостью, а не с похотью или презрением. – Маленькая византийка подняла заплаканное, заострившееся лицо. – И ты готова навсегда бросить свое… свое занятие? – недоверчиво спросила Розамунда. – Клянусь Святой Девой, госпожа. Прибыв сюда, я не собиралась заниматься чем-то дурным. Но для слабой, одинокой девочки это было невозможно. Ведь нужно было жить… Не отдавая себе отчета в своих действиях, Эдмунд нагнулся, схватил ее за руки и внимательно посмотрел в чуть косые глаза. – Поклянись святыми мощами, – сказал он на плохом греческом языке, – что все, что ты нам рассказала, истинная правда! – О господин! Только предоставьте мне возможность… – Она опустилась на колени и снова припала к его ногам, прижимая свое лицо к его бедру с таким пылом, что на лице Эдмунда выступил румянец. Розамунда расхохоталась: – Ну, что ты скажешь? Взять мне эту Хлою в служанки? – Разумеется, если она тебе понравилась. Никогда в жизни брату и сестре не забыть, как вдруг переменилось выражение худого, бедного, с острым подбородком лица. – В час Страшного Суда, моя дорогая госпожа, – дрожащим голосом прошептала Хлоя, и слезы потекли у нее по щекам, – Всеведущий ангел вспомнит ваше милосердие. Я постараюсь, о, изо всех сил постараюсь угодить моей госпоже Розамунде. – Она запнулась. – И вам, сэр Эдмунд.
Глава 7 УЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА
Сэр Эдмунд де Монтгомери и его эсквайр не спеша возвращались с мессы в католической часовне Святого Льва, места богослужений, которое было устроено ради особо уважаемых западных торговцев и венецианских союзников императора. За несколько последних дней в Константинополе появилось множество вольных рыцарей и их беспокойных спутников, так что часовня всегда была переполнена. Эти воины, по их словам, прибыли в город, чтобы вступить в одну из шести армий франков. Теперь они собирались в столице Алексея Комнина. Главный гость, армия герцога Готфрида Бульонского, по слухам, насчитывавшая восемьдесят тысяч мечей, уже расположилась лагерем на расстоянии двухдневного перехода от города. Герт Ордуэй узнал от собратьев-саксонцев, служивших в императорской гвардии, что вассалы герцога Готфрида, следуя через Македонию, несколько раз схватывались с туркополами Алексея Комнина, но армия из Нижней Лотарингии в целом воздерживалась от грабежей в сельской местности, через которую проходила. Имелись также сообщения, что византийские офицеры по большей части встречали крестоносцев гостеприимно, хотя и с опаской. – А как поживает твоя протеже? – спросил Эдмунд, когда они в плащах, развевающихся на холодном зимнем ветру, шагали по городу; Эдмунда позабавило, что Герт залился румянцем до корней волос своей белесой шевелюры. – Хлоя вовсе не моя протеже, что хорошо известно милорду. Но говорят, что она хочет выучить наш язык, что старается выполнить любое желание леди Розамунды и притом очень мало ест. – Ну ладно, а теперь, когда она отмыта и одета в приличное платье, ты же не станешь отрицать, что Хлоя хорошенькая? – Голубые глаза Эдмунда лукаво блеснули. – Это верно, милорд, – выпалил саксонец, отталкивая в сторону проходившего мимо осла. – Кожа ее сияет чистотой и белизной, напоминая тот камень, которым украшены стены в зале приемов Деспоины. – Ты имеешь в виду алебастр? – Да, милорд, а волосы у нее мягкие, как пушок семян чертополоха, – болтал юноша, поправляя топор, висевший у него на боку. – Я обучаю ее саксонскому языку, поскольку миледи предпочитает говорить на нем в своих покоях. – Как это славно с твоей стороны, – усмехнулся Эдмунд, а тем временем его взгляд, устремленный вдоль улицы, заметил промелькнувший плащ крестоносца, а вскоре приблизился и одетый в этот плащ сэр Тустэн собственной персоной, разрезавший толпу, как нос боевой галеры разрезает волны. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять: произошло нечто чрезвычайно неприятное; единственный глаз ветерана сверкал словно раскаленный уголь. – Отпустите вашего оруженосца, – буркнул он, – и заходите ко мне. Сэр Тустэн отпер дверь своей маленькой, плохо освещенной комнаты, а затем повернулся к Эдмунду с потемневшим от ярости лицом. – Что случилось? Плохие известия от нашего сюзерена? – Проклятие! Герцога Тарантского предал болтливый язык человека, которому он бесконечно верил. Эдмунд схватился за меч. – Позвольте мне найти его и убить эту собаку! – Вам это не удастся, – зарычал ветеран, – если вы не примете на душу смертный грех самоубийства. – Самоубийства? – Холодный пот заструился по шее Эдмунда, стекая на грудь. – Вы полагаете, что я предал своего законного государя? Вы с ума сошли? – Нет, – последовал из сумрака жесткий ответ ветерана. – Но только два человека слышали, как сэр Уго, посланец моего государя, описывал новую дорогу, по которой пойдут вассалы из Таранто. Причем я точно держал свой рот на замке. Ночь в библиотеке! Догадка пронзила его, и Эдмунд тяжело опустился на трехногий табурет. – Да простит меня Бог! В пьяном виде… – Значит, вы не отрицаете своей вины? – Голос сэра Тустэна звучал в ушах Эдмунда словно охотничий рог из слоновой кости. – Как вы дошли до того, чтобы выдать тайны моего государя? В полном отчаянии Эдмунд поведал, что могло произойти в освещенной огнем очага библиотеке. Рассказав все, он вскочил, дико озираясь. – Остается только одно! – Что же именно? – Послать к нашему господину гонца с предупреждением, чтобы он ни при каких обстоятельствах не шел дорогой, о которой говорил. – Это легче сказать, чем сделать. Один Бог знает, где теперь искать герцога Боэмунда. О, Эдмунд! Эдмунд! Как могли вы оказаться таким неустойчивым, что попались в ловушку этой греческой ведьмы? Эдмунд снова рухнул на табурет. – Не могу этого понять. Должно быть, вести об Аликc лишили меня рассудка. И Сибилла воспользовалась случаем. – Знаете ли вы гонца, который смог бы в короткое время достигнуть Бари? – задал Эдмунд вопрос, не желая больше тратить времени на бесплодные рассуждения. – Да. Вчера я встретился с неким Вольфгангом из Амальфи, своим старым товарищем по оружию. Он достаточно силен и сведущ во многих языках. Если ему повезет, он сможет перехватить герцога Боэмунда в пути и предотвратить таким образом беду. – А не поехать ли мне самому? – воскликнул Эдмунд. Сэр Тустэн покачал своей побелевшей головой: – Нет, разве вы не знаете, что такое дороги Византии? Ступив за пределы городских стен, вы наверняка погибнете. Нет. О ваших последних передвижениях хорошо знают многие, так же как и о моих. У нас мало времени. – А как вам удалось узнать об этой моей… ошибке? – У графа Мориса не меньше хороших доносчиков, чем у любого другого политика в Константинополе. Они и сообщили ему, что графиня Сибилла рано утром посетила Приморский дворец, а вскоре после этого Мануэль Бутумит в спешке отправился в Львиный дворец. Вчера же, по их сведениям, секретные приказы были направлены византийским командующим в Дураццо и Фессалониках, то есть города, через которые должен пройти Боэмунд. Никто из нас не может пробраться туда, – добавил сэр Тустэн, медленно опустив на стол тяжелый кулак. – Придется положиться на удачу и сообразительность моего друга. Вольфганг из Амальфи получил указания, большую часть содержимого кошелька Эдмунда де Монтгомери и обещание еще больших наград, если его попытка завершится успехом. Однако следующим утром случилось непредвиденное. Заглянув в таверну «Золотой лебедь», Вольфганг из Амальфи получил там с полдюжины кинжальных ударов. Бедняга испустил дух еще до того, как сэр Тустэн узнал о происшествии. С болью в сердце услышал эту новость Эдмунд. Он сознавал свою ответственность за случившееся. Немедленно вызвав Герта, он велел ему облачиться в рубашку из стальных колец, которую подарил графу Боэмунд. – Распусти слух, – наставлял оруженосца Эдмунд, – что вскоре ты отправишься в Хризополь навестить моего боевого коня. Затем, когда саксонцы из охранников Бардаса будут сменяться, затеряйся среди них и жди возможности улизнуть. Будь осторожен, при необходимости настойчив и никогда не забывай, что от твоих действий зависит честь рода Монтгомери. Да направит твой путь наш Господь Иисус Христос. Две ночи спустя после отъезда Герта Эдмунд, вопреки предостережениям бывшего констебля Сан-Северино, настоял на своем посещении мастерской оружейника, чтобы проверить, как идет работа по изготовлению для него нового шлема со съемной носовой планкой. Такие шлемы носили туркополы. Только здесь Эдмунд понял, что преодолеть гнетущую тревогу за судьбу Герта Ордуэя можно, только занявшись каким-нибудь делом. Успокаивало лишь то, что саксонский оруженосец не вернулся обратно. К тому же доносчики графа Мориса Склера не слышали, чтобы какой-нибудь светловолосый юноша из числа варваров был найден мертвым… На завтра было запланировано посещение франкского войска, которое, в канун Рождества, прибыло в пригород Константинополя Перу. Сэр Тустэн, Эдмунд и граф Морис с эскортом намеревались нанести визит военачальнику франков в их лагерь на противоположном берегу Золотого Рога. Поговаривали о каких-то странных огненных вспышках среди потрепанных франкских палаток. Эти вспышки видели по вечерам и предполагали, что в кузницах что-то делают с раскаленной сталью. С башни, завершающей стену города, Эдмунд не раз с волнением наблюдал за водной гладью Рога настоящий лес пик и копий с белыми вымпелами крестоносцев. Идея выехать из города вместе с графом Морисом была превосходной. В качестве главного поставщика граф должен был вести переговоры с руководителями франков о закупках ими продовольствия и фуража. Эдмунд направил коня в узкую, мощенную булыжником улицу. Медленно проезжая в сгустившихся сумерках мимо домов зажиточных купцов, он думал о Розамунде. В последние дни она была такой озабоченной и хмурой. Может, сестра разделяла чувство стыда, охватившее брата? Не верила в успех миссии Герта? Почему Розамунда отклонила второе, еще более настойчивое приглашение Дрого из Четраро? Брат вспомнил свой разговор с сестрой. – На третий раз, – улыбнулась Розамунда, аккуратно подшивая кожаный назатыльник подшлемника брата, – я, быть может, выполню желание этого неукротимого ломбардца… – Если ты станешь ему потакать, дорогая сестра, он снова начнет приставать к тебе со своими домогательствами, – сказал Эдмунд. – Этот горячий парень вполне заслуживает прозвище Дикий Вепрь. Вепрь? Эдмунд снова вспомнил предостережение юродивого. Как он тогда сказал? «Льва и Орла Леопарду не стоит опасаться. Но Вепрь и Соловей приближают его погибель». Мог ли Гидеон из Тарсуса действительно предвидеть будущее? Чепуха! Полнейшая чепуха. И все же он упоминал Вепря, который, конечно, мог стать причиной его гибели под стенами Сан-Северино. Граф проезжал мимо какого-то тупика, когда оттуда донеслись беспорядочный топот ног, грубая брань и знакомые скрежещущие звуки ударов клинка о клинок. Направив коня в тупичок, бывший граф Аренделский увидел высокого молодого человека, облаченного в белые с красной окантовкой одеяния византийского патриция, на которого наседали шесть или восемь наемников. Совершенно пьяные, они замахивались на него дубинками и кинжалами, в то время как тонкий меч отбивавшегося юноши мелькал с поразительной быстротой. – На помощь! – позвал молодой византиец, медленно отступая к дверному проему.
Эдмунд без колебаний выхватил меч и ринулся в тупик. Граф навис над длинноволосым парнем в желто-голубом плаще так быстро, что тот еще не успел осознать опасность. Нападавшие неожиданно быстро развернулись, готовые во всеоружии встретить Эдмунда. Клинок Эдмунда опустился, и граф увидел ярко-красную струю, хлынувшую из шеи северянина. Однако в тот же миг один из наемников прыгнул ему на спину и буквально вырвал его из седла. Поднявшись кое-как на ноги, Эдмунд ударил ближайшего врага. Граф уже готовился нанести третий удар по беснующимся фигурам в крылатых шлемах, когда почувствовал пронизывающую боль в правом боку. Следующий удар дубинкой по стальной шапочке, которую он носил под остроконечной шляпой из окрашенной в голубое кожи, заставил графа зашататься.
Словно пораженный ударом ножа бык, англо-норманн рухнул на колени, перевернулся и без сознания завалился на грязную мостовую тупика…
– На помощь! – позвал молодой византиец, медленно отступая к дверному проему.
Эдмунд без колебаний выхватил меч и ринулся в тупик. Граф навис над длинноволосым парнем в желто-голубом плаще так быстро, что тот еще не успел осознать опасность. Нападавшие неожиданно быстро развернулись, готовые во всеоружии встретить Эдмунда. Клинок Эдмунда опустился, и граф увидел ярко-красную струю, хлынувшую из шеи северянина. Однако в тот же миг один из наемников прыгнул ему на спину и буквально вырвал его из седла. Поднявшись кое-как на ноги, Эдмунд ударил ближайшего врага. Граф уже готовился нанести третий удар по беснующимся фигурам в крылатых шлемах, когда почувствовал пронизывающую боль в правом боку. Следующий удар дубинкой по стальной шапочке, которую он носил под остроконечной шляпой из окрашенной в голубое кожи, заставил графа зашататься.
Словно пораженный ударом ножа бык, англо-норманн рухнул на колени, перевернулся и без сознания завалился на грязную мостовую тупика…
Глава 8 НА УЛИЦЕ КРЫЛАТОГО БЫКА
Розамунда де Монтгомери вытянула длинные ноги на жестких парчовых подушках носилок, укрепленных на лошадях. Прислушиваясь к резким уличным крикам и хлопанью бича, прокладывавшего путь носилкам в толпе, она с раздражением пожалела, что в Византии не принято, чтобы женщина благородного происхождения ездила верхом. Напротив Розамунды на подушках съежилась маленькая Хлоя. Пытаясь держаться прямо в раскачивающихся носилках, она крепко уцепилась за петлю для рук. За последние несколько дней во внешнем облике бывшей уличной девчонки произошли разительные перемены. За короткое время истощенная фигурка Хлои Крозо заметно округлилась. На ее заостренном личике появились даже признаки румянца. Ее волосы, когда их вымыли в пятый раз, приняли красивый каштановый цвет. Хозяйка и ее служанка вынужденно объяснялись на упрощенном греческом языке с отдельными англо-саксонскими словами, которых девочка знала уже немало – несомненно благодаря Герту и охранникам-саксонцам Деспоины. Последние три дня Розамунда боролась с возрастающим чувством неясного беспокойства. Ее тревожили продолжительные отлучки ее брата из дворца Бардас, хотя он просто выезжал с целью помочь наладить снабжение последователей Готфрида Бульонского. Лотарингцы, бароны с мрачными лицами, праздношатающиеся сержанты и ратники стальным потоком хлынули на древние римские дороги. Крестоносцы говорили на разных языках, большинство из которых казалось норманнам отвратительным на слух и, конечно, совершенно непонятным. Надменные и нетерпеливые, они были преисполнены фанатичного стремления незамедлительно атаковать ненавистных неверных. Многие из этих грубых и невежественных сеньоров, очевидно, не имели ни малейшего представления о расстояниях, которые им предстояло преодолеть. Поэтому они тащили с собой соколов, охотничьих собак и даже жен с детьми. Последние, естественно, во время столь длительного и утомительного путешествия постоянно болели, худели и теряли силы. Особенно страдали крестоносцы, которые не имели денег, а следовательно, никаких средств существования. К ним относились крепостные, слуги, свободные крестьяне, которые покинули свои угодья, чтобы взяться за топоры или вилы в надежде завоевать себе небесное спасение в Священной войне, которая, по их мнению, должна была закончиться как раз к следующему севу. – Моей госпоже сопутствовала удача, – улыбнулась Хлоя, – ей удалось очень быстро найти железную рубашку подходящего размера для моего господина Эдмунда. – Она красива и легка, – подтвердила Розамунда, но ее голос едва не потонул в топоте копыт и брани заспоривших о дороге всадников сирийского верблюда. – Однако она не убережет от франкской стрелы или меча. – И все же она может хорошо защитить от стрел и кривых сабель сельджуков, – поспешила Хлоя утешить хозяйку. – Они, как мне говорили, намного легче оружия франков. Моя госпожа, быть может, поищет еще, – быстро добавила Хлоя. – Вдруг удастся раздобыть более тяжелую кольчугу. – Чтобы я могла передать эту, легкую, оруженосцу сэра Эдмунда, когда тот вернется? – рассмеявшись, сказала Розамунда. – О нет! Нет! Я об этом и не думала, – смутившись, запротестовала Хлоя. – Просто в этой современной Гоморре слишком много острых ножей и дурных людей. А как думает моя госпожа, когда возвратится Герт Ордуэй? – То знают лишь святые. Ты, я вижу, совсем потеряла голову из-за этого белокурого увальня? – Я каждую ночь молюсь в дворцовой часовне, чтобы добрый святой Василий защитил его и помог ему вернуться… к своему господину. Выглянув из-за позолоченных занавесок, Розамунда убедилась, что ее носилки и эскорт заворачивают на улицу Крылатого Быка. Она была настолько узкая, что казалось, будто крыши стоявших вдоль нее домов соприкасаются, не пропуская вниз дневной свет. Носилки сопровождали четыре всадника от Деспоины. Они бранились и отчаянно хлестали направо и налево своими бичами. Однако это не помогало. Лошади, тащившие носилки, вынуждены были перейти на шаг и вскоре вообще остановились: цепочка косматых и скверно пахнущих верблюдов преградила им путь. Вокруг царила неразбериха, ругались мужчины, визжали женщины. Лошадей в изукрашенных попонах хватали за поводья, заставляли пятиться, припадая на задние ноги. Носилки опасно наклонились. Хлоя то и дело вскрикивала от страха. Розамунда ругалась по-нормански. Выглянув еще раз наружу, Розамунда была ошеломлена, увидев, что вся узкая улица запружена вооруженными людьми в остроконечных стальных шлемах. В большинстве это были викинги, но, как ни странно, некоторые выглядели как норманны! Розамунда заметила, что не только сопровождавшие ее всадники, но и нападавшие на них только делали вид, что ссорятся, хотя и размахивали мечами и орали во всю глотку. – Сражайтесь же, трусливые собаки! Защищайтесь! – закричала рыжеволосая дочь сэра Роджера де Монтгомери. – Даже я сделала бы это лучше вас! Внезапно занавески носилок отбросила чья-то сильная рука, и заглянувший внутрь светловолосый северянин обхватил Розамунду за талию. И как она ни отбивалась, словно попавшая в западню дикая кошка, ее вытащили из носилок через низкий дверной проем, украшенный в византийском стиле. – На помощь! – кричала девушка, пока чья-то потная рука не заткнула ей рот. Розамунда отчаянно кусалась, ощущая во рту соленый вкус крови. Наконец ее сильно ударили по щеке, и все поплыло у нее перед глазами… Теряя сознание, Розамунда услышала, как кто-то ревел по-нормански: – Хватайте эту шлюху служанку, а если она будет визжать, заколите ее! Через несколько часов в темную комнату, где в слепой ярости пребывала Розамунда де Монтгомери, были поданы еда и питье: тушеное мясо, приправленное луком-пореем, морковью и чесноком, и кувшин вина. Все, очевидно, франкского приготовления. Затем появилась полная желтолицая женщина в восточном одеянии. Она молча протянула Розамунде поднос, на котором покоилась изящная золотая диадема. Отблески свеч играли на нескольких жемчужинках в форме слезы и на множестве аметистов, рубинов и изумрудов. Розамунда, изрядно проголодавшаяся, прекратив бранить тупых, как быки, прислужников, под взглядом округлившихся от страха глаз Хлои принялась набивать рот по обычаям норманнов. Мясо после хорошо приготовленных блюд дворца Бардас казалось ей жестким и безвкусным. Уничтожая тем не менее кусок за куском, графиня поглядывала по сторонам. Как она уже успела заметить, стены комнаты были каменными, ее центральная часть увешана несколькими пахнувшими плесенью коврами, очевидно очень древнего происхождения. И как ни пыталась Розамунда осмыслить происшедшее, ей это не удавалось. Почему ее носилки оказались на улице Крылатого Быка? Чей это дом? Зачем она здесь? Ее похитили? Мурашки побежали у нее по спине при воспоминании о словах Сибиллы, говорившей о довольно частых исчезновениях хорошеньких девушек и молодых женщин. Бесконечная путаница и сложности жизни в Константинополе приводили ее в смятение и пугали. Может быть, это похищение по какой-то непонятной причине устроила Деспоина? Ее слуги явно не оказывали должного сопротивления… В раздражении Розамунда отодвинула в сторону тарелку. Ее тотчас подхватила Хлоя и отнесла в угол, где, скорчившись, как маленький зверек, стала поспешно засовывать остатки пищи себе в рот. Делала она это с помощью своеобразных трезубцев, сильно напоминавших миниатюрные остроги для ловли угрей. Осторожный стук в дверь отвлек Розамунду от размышлений. Она быстро вскочила и повернулась так резко, что ее ярко-зеленое хлопчатобумажное платье и нарядный плащ янтарного цвета плотно обвили фигуру. В дверях показались два широко улыбавшихся норманнских воина с факелами. За ними вошел богато одетый мужчина с тяжелой золотой цепью на шее. Отвесив глубокий, но неуклюжий поклон, он произнес на итало-норманнском наречии: – Будьте добры пройти со мной, прекрасная дама. – Ну уж нет, этого я не сделаю! Меня здесь держат насильно, – прозвучал звонкий, серебристый голос Розамунды и разнесся по увенчанному колоннами коридору, начинавшемуся сразу за дверью. – Тогда, миледи, как это ни печально, – объявил итальянец, – этим людям придется отнести вас куда приказано. Повелительный жест Розамунды остановил двух вошедших ратников. – Ведите, – холодно приказала она. – Но не смейте прикасаться ко мне своими грязными лапами. По сравнению с низким и некрасивым входом в здание внутренние помещения оказались удивительно просторными. Однако нигде не было видно признаков семейной жизни, словно в течение долгого времени здание пустовало. Воздух был затхлый, сильно пахло мышами. Пока Розамунда проходила по зданию, у нее возникло подозрение, что дом уже давно секвестрирован у одного из соперников правящего императорского дома. Наконец маленький кортеж остановился перед двойной дверью, обитой тиснеными бронзовыми листами с мозаичным орнаментом. Двери бесшумно распахнулись, и в коридор вырвался запах горящего свечного сала, смешанный с запахом ладана. Сделав четыре шага внутрь комнаты с низким сводчатым потолком, графиня внезапно остановилась. Посреди комнаты, широко расставив мощные ноги в белоснежном плаще с алым крестом крестоносца стоял Дрого из Четраро. Драгоценные камни на пальцах и на висевшей у него на шее цепи ослепительно засверкали, когда он, подавшись вперед хотел поцеловать ей руку. Но она ее быстро отдернула. – Добро пожаловать, – сказал он, – в дом Крылатого Быка. Хотя он и не принадлежит мне, он все же мой до тех пор, пока мне больше не понадобится. Сводчатый потолок комнаты поддерживали четыре массивные резные колонны, должно быть, весьма древние. То здесь, то там мерцали высокие свечи, дававшие больше света и меньше дыма, чем деревянные лучины, к которым оба они привыкли. Подобно статуям, за спиной барона из Четраро, вытянувшись, стояли четыре наемника-викинга. Они отличались таким же высоким ростом, как и бывший граф Аренделский. Алые плащи наемных стражников и их серебряные шлемы пылали и блестели при свечах, ослепляя великолепием. На стальных шапочках северян поблескивали металлические ястребиные крылья. Розамунда стояла, гордо выпрямившись, смело, глядя вперед, дерзко вздернув подбородок. Первоначальное чувство облегчения при виде знакомого лица ломбардца быстро уступило место гневу. Дрого сделал шаг вперед. – Почему вы не оказали мне честь и не надели диадему, которую я вам послал? – Я не желаю притрагиваться к подарку самонадеянного и бесчестного человека, которого я презираю. Лицо Дрого напряглось, любезная улыбка сменилась выражением жестокости. – Позаботьтесь о собственном благополучии, не говорите мне дерзких слов. Я такого не потерплю даже от женщины, – с угрозой в голосе сказал Дрого. – Теперь выслушайте. И слушайте внимательно. Мне пришлось вас захватить и доставить сюда только потому, что вы по глупости игнорировали мои вежливые и горячие просьбы. – Он попытался улыбнуться. – По правде говоря, никогда еще Дрого из Четраро так не унижался перед женщиной. Розамунда, ничуть не смутившись, смотрела ему прямо в глаза. – На этот раз мой брат не пощадит вас, – жестко сказала она. Дрого хрипло рассмеялся: – Вы забываете, что, верный обету крестоносца, он не может напасть на меня. К тому же у него для этого не будет и причины… при условии, что вы будете вести себя вполне разумно. Розамунду охватила такая ярость, что руки у нее задрожали, словно поток кипучей крови ее отца устремился в ее жилы. – Только трус способен так поступить! – с вызовом бросила в лицо ломбардцу графиня. С большим трудом Дрого сдержал себя, лишь слегка притопнув ногой в остроконечном алом башмаке. – Розамунда де Монтгомери, – сказал он с волнением в голосе. – Я вас люблю и прошу вашей руки для честной женитьбы. Вы станете хозяйкой пяти прекрасных и более богатых, чем Сан-Северино, поместий в Италии. А когда закончится война, клянусь, вы, как княгиня, станете управлять таким огромным владением, что его нельзя будет объехать верхом и за два дня. – Убирайтесь, – почти закричала Розамунда, гордо откинув голову назад. – Вам не удастся покорить меня, как пугливую крестьянскую девчонку. К удивлению графини, в ответ на ее слова лорд просто рассмеялся. – Теперь, видит Христос и его апостолы, – спокойно сказал он, блеснув голубыми глазами, – вы нравитесь мне все больше и больше, прекрасная Розамунда де Монтгомери. – И, обернувшись через плечо, ломбардец отдал какой-то приказ. Сразу же четверо слуг кинулись в глубину слабо освещенной низкой комнаты. Двое викингов встали у одной двери, двое – у другой. Там они замерли в ожидании, затаив усмешки в своих пышных русых усах. По следующему знаку хозяина один из северян резко распахнул находившуюся за его спиной дверь. Оттуда вырвался ослепительный сноп света. Изумленная и сбитая с толку Розамунда увидела небольшие покои. В глаза ей бросилась огромная постель, накрытая алым шелком под такого же цвета балдахином, и стол, на котором поблескивала богатая сервировка и высились груды всевозможных деликатесов. Трое слепых музыкантов настраивали свои инструменты. – Смотрите! – потребовал Дрого, сопровождая свои слова решительным жестом. – В этой комнате мы проведем нынешнюю ночь. – Сначала вам придется меня убить! – Розамунда не выглядела испуганной, а лишь холодной и дерзкой. – Сигурд! – позвал Дрого. Отворилась вторая дверь. – Вам ничего не видно с того места. – Ломбардец обхватил сильной рукой талию графини и притянул девушку к себе; сопротивляясь, Розамунда со всей силой юного тела пыталась нанести ему удар по голове, но другая рука Дрого удержала ее. – Что толку драться, кошечка без когтей? Теперь, дорогая миледи, загляните в другую комнату. Розамунда упиралась всем телом, но он без труда протащил ее по каменному полу к двери часовни. Свисавшие на цепях с потолка серебряные лампады наполняли ее облаками ароматного дыма, иконы, украшенные драгоценными камнями в золотых окладах, стояли перед алтарем. Перед распятием изумительной работы поджидали католический священник и двое псаломщиков. Последние негромко затянули псалмы. – Теперь, миледи, выбирайте, – улыбаясь, предложил Дрого. – Обменяемся ли мы перед отцом Григорием брачными обетами, или же мне придется просто перенести вас в другую комнату? С недоверием всматривалась Розамунда в глубь часовни. Не сон ли все это, не видение? Там, в глубине, живые ли это люди? Ведь они совершенно неподвижны… – Предупреждаю вас, Дрого, я не поддамся и не хочу иметь с вами дела! – пыталась сопротивляться Розамунда. – Ах, но вам придется, – сказал он внезапно осевшим голосом. – Вы должны это сделать. И вам нужно все решить в течение часа. Розамунда, вы должны были знать, что завоевали мое сердце в тот самый день, когда я увидел вас на башне в замке Сан-Северино. Взгляните на меня. – Положив руку ей на плечо, он повернул девушку к себе. – Взгляните на меня! – повторил он. – Можете ли вы поклясться перед Господом Богом, что действительно ненавидите меня? И никогда не испытывали ко мне ничего большего, чем мимолетное влечение? И было в нем что-то такое, какая-то особая, влекущая сила, было что-то в его повелевающем взгляде такое, что решимость покинула Розамунду. – Нет… Я… Я не могу поклясться в этом, – прошептала девушка. – Ну и?… – мягко настаивал Дрого. – Пройдем ли мы в часовню, прежде чем вернемся в спальню? – Помоги мне, Боже! – вырвалось у Розамунды, и ее милое личико побледнело. – Я собой не владею. Это какое-то колдовство, наваждение, но я признаю тебя моим господином и мужем, каким бы своевольным и жестоким ты ни был. – Положив обе ладони ему на грудь, она слегка отодвинулась от него. – Но если ты хоть раз изменишь мне, унизишь или предашь меня, – сказала она, гордо зардевшись, – я убью тебя. – Иного я и не ожидал. – Дрого из Четраро нагнулся и поцеловал ее руку, затем, предложив ей свою, провел Розамунду де Монтгомери вчасовню.Глава 9 ГРАФ ЛЕВ
Зима 1096-1097 годов оказалась необычайно суровой. Особенно для огромного войска крестоносцев. Доступ в город Константина иначе как группами по шесть – восемь человек для участия в богослужении в одной из сотен его церквей был им запрещен. Поэтому сподвижники герцога Готфрида, плохо одетые и истощенные, после короткой схватки у городских ворот с наемниками-печенегами были переправлены на азиатский берег. Лишь немногие важные графы и бароны были размещены в каких-то древних казармах. Огромное же большинство рыцарей мерзло в тонких палатках, в то время как их воины, оцепенев от холода, ютились в плохоньких хижинах или укрывались среди крутых холмов близ Хризополя. Положение усугублялось еще и тем, что стаи саранчи опустошили летом все поля. Тяжело было доставать продукты питания и фураж. И если бы имперские галеры не завезли зерно из-за Эгейского моря, многие и многие франки уже умерли бы от голода. Столкновения между вспыльчивыми франками и их союзниками-варварами, конечно, были неизбежны. Но еще чаще, вопреки обетам крестоносцев, западные бароны нападали друг на друга. Была и еще одна причина раскола и распрей среди крестоносцев. Нередко Алексею Комнину удавалось хитростью или подкупом заполучить клятву верности у вновь прибывших крестоносцев. Только немногие из них смогли противостоять обильным подаркам, лести и просто угрозам. Следуя примеру храброго, но недальновидного и пустого Хью из Вермандуа, многие знатные люди простодушно вставали на колени перед христолюбивым императором, завороженные блеском бриллиантов на его пальцах. Один за другим Готфрид Бульонский, Робер Фландрский, Болдуин и Юстас Булонские торжественно обещали восстановить правление Византии в любых захваченных провинциях или в городах, которые когда-то принадлежали империи! Эти неграмотные властители только много позднее узнали, к своему искреннему удивлению, что Византийская империя когда-то простиралась далеко на запад вплоть до Гибралтара и охватывала всю Италию и всю прибрежную часть Северной Африки, так же как Египет и Святую Землю! Тысячи проблем осложняли жизнь облаченного в пурпур, всегда терпеливого и с виду доброжелательного императора. В беломраморных залах просторного дворца Августеон всегда допоздна горел свет. Великий логофет, или военный министр, брат императора, чей авторитет еще поднялся с присвоением ему титула субастократора, и цезарь – главный трибун для всей империи, сидели в ожидании вестей из Фракии от Мануэля Бутумита. Этот способный и склонный к политическим интригам генерал был отправлен туда, чтобы поприветствовать, а затем и сопровождать к месту назначения прожорливых юных норманнов герцога Боэмунда Тарантского. Все получилось очень удачно, улыбались они. Прибывшие франки расположились в заснеженном лагере на азиатском берегу, где они могут драться между собой и грабить в свое удовольствие, не причиняя вреда столице империи. Между тем арсеналы Константинополя работали дни и ночи, чтобы экипировать византийскую армию, которая по весне должна была присоединиться к крестовому походу. Имперские офицеры, озабоченные набором ратников, уже проникали на холмы Греции и Македонии. Специальные эмиссары, снабженные тяжелыми сундуками с золотом, вели переговоры с некоторыми, облаченными в меха, независимыми главарями сельджуков и с мелкими султанами печенегов, рыскавших по северным берегам Черного моря. Поэтому непривлекательные, низкорослые варвары печенеги, словены и сельджуки тысячами пополняли войска христиан. Но среди них не было истинных христиан, а лишь поклоняющиеся луне язычники и мусульмане. Общими у них были только храбрость, зверская жестокость и неутолимая жажда наживы. Новости лишь изредка проникали в роскошную опочивальню, где выздоравливал Эдмунд де Монтгомери. Рана в спине, которой он легко мог избежать, если бы надел кольчужную рубашку Боэмунда, постепенно затягивалась. Однажды вечером бывший граф благодаря уходу греческих врачей почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы надеть на себя настоящую кольчугу. И тогда появился граф Лев Бардас. Это был, несомненно, самый красивый пожилой человек, которого англо-норманн когда-либо видел. В великолепном алом наряде с золотой брошью византиец подошел и, к немалому удивлению Эдмунда, преклонил свою благородную голову, чтобы запечатлеть на руке раненого горячий поцелуй. – Я поджидал, о доблестный рыцарь, пока силы вернуться к вам, – произнес пожилой патриций на нормано-французском языке с акцентом. – Мне хочется выразить вам благодарность. Однако мне не хотелось бы утомлять вас… Уловив изумление на лице англо-норманна, он улыбнулся. Затем, поколебавшись, спокойно уселся перед жаровней и протянул ноги в голубых гетрах к теплу. – Известно ли вам, кто я? – спросил он Эдмунда. – Быть может, вы мой хозяин, который управлял Анатолией? Разве не вы трижды предотвратили вторжение сарацинских армий? Все еще улыбаясь, патриций закивал головой: – Может, и так, сэр рыцарь. Да, это я. В те дни империя имела настоящую армию, не жалкое европейское отребье, но крепких воинов из азиатских провинций Каппадохии, Армении и Анатолии. Но кто же рассказал вам о моих малозначительных кампаниях? Несомненно, моя племянница Сибилла, – Уверенно заключил он. Эдмунд наклонил голову, и его рыжие, рассыпавшиеся по плечам волосы запылали в отблеске свечей. Ветеран приблизился к постели и опустился на колени. – Может быть, Сибилла рассказала, почему я считаю себя в неоплатном долгу перед вами? Граф Аренделский пожал плечами: – Она лишь упоминала о том, что я будто бы спас кого-то из ваших родственников от смерти. На него напали пьяные варяги. – Да уж, и в самом деле родственника, – засмеялся граф Лев. – Ваша доблесть сохранила жизнь моему единственному сыну Титу. – И старик с грустью добавил: – Тит Бардас, увы, единственный продолжатель моего рода. Теперь вы можете понять, почему я навсегда останусь вашим должником? – И где же ваш благородный сын? Я хотел бы поприветствовать его. – Сейчас его нет, к сожалению, в Византии. Он ждал целую неделю, пока вы поправитесь, но ваша рана заживала медленно, и он уплыл с заданием вербовать ратников в землях за Херсонской провинцией. Подали вино. Дружественная беседа длилась долго. И еще не один долгий холодный вечер они провели у огня за чашей с вином. Ветерану доставляло большое удовольствие посещать комнату своего гостя и обсуждать с ним победоносные кампании против неверных, а также полное поражение императора Романа Диогена от войск султана Алп Арслана. Он принес Эдмунду копии рукописей Льва Изауриана «Тактика» и «Военное искусство», написанных императором Маврикием почти пять веков назад. – Работы Изауриана, – серьезно пояснял граф Лев, – в действительности во многом основаны на работах Маврикия, поскольку он не предлагал никаких решающих изменений в организации или тактике армии, но только приспосабливал их к современным условиям. Эдмунд с интересом слушал графа Бардаса. Старик давал ему всевозможные мудрые советы, касающиеся ведения войны не только против турок и сарацинов, но и против франков. – А кого вы бы сочли вашим наиболее опасным врагом? – поинтересовался однажды Эдмунд. – франков? – Нет, – отрицательно покачал головой граф Лев. – Сарацины намного опаснее, хотя вам, франкам, невозможно противостоять в бою один на один. Нет такого римлянина, – сказал он, потому что, как ни странно, византийцы неизменно так себя называли, – пусть даже чрезвычайно храброго и отлично вооруженного, который бы выстоял против одного из ваших рыцарей, ведущего поединок верхом на хорошо обученном боевом коне. Граф Лев презрительно усмехнулся: – Клянусь Богородицей! Вы, франки, храбрые воины, но в военном отношении безграмотны! Нет, не краснейте от ярости, сэр Эдмунд. Увы, это правда. Верный способ победить франков, как мы знаем, это обратиться в бегство. Бежать до тех пор, пока ваши громоздкие кони, несущие крупных, вроде вас, мужчин, не будут измотаны. Как только франк спешится, его легко поразить стрелами или продержать подольше на солнцепеке, пока он не упадет в обморок в своей броне. – Но ведь бежать позорно! – выпалил Эдмунд. – По нашему кодексу рыцарской чести бегство равноценно трусости. – Значит, по-вашему, мудро наносить удары впустую, и, возможно, проигрывать сражение? – задал вопрос граф Лев. – А как же еще рыцарь может завоевать славу и почет? – Следовательно, личная слава предпочтительнее выигранной битвы? – терпение графа Льва истощалось. – Мы так считаем. – Вот потому-то значительно меньшая армия Алексея Комнина изгнала герцога Боэмунда из Греции. О, Эдмунд, Эдмунд, слушайте и не гневайтесь. Для того чтобы ваш крестовый поход имел успех, вам, франкам, следует поучиться дисциплине и тактике. В противном случае ваши кости усеют холмы и равнины Сирии. Одной храбрости для победы мало. А что касается вашей галантной рыцарской чепухи -забудьте о ней. Ни турки, ни мы сами не ценим доблести, которая не приносит победы! Раненый с трудом подавил подымавшееся в нем раздражение. – Так что же должны предпринять наши властители? – спросил он. – Они должны организовать свои силы в батальоны, обеспечить строгую дисциплину и планировать операции намного вперед. Нужно определить, какое понадобится снабжение, откуда брать все необходимое. Без этого ваша армия – это плохо вооруженные толпы. Подобно степным варварам, они никого не слушают, кроме главарей своих кланов. А есть ли у вас инженерный корпус? Нет. Разделены ли войска на части, каждая из которых имеет свои цвета и свой сигнал рога? Нет. А кто у вас следует за сражающимися, ухаживает за ранеными, сохраняя многих хороших солдат для будущих битв? Хуже всего то, что у вас, франков, нет заранее продуманной стратегии, при которой даже сильного противника можно вынудить сдаться без боя, лишив его пищи или воды. Граф Лев подал знак одному из рабов подбросить в жаровню древесного угля. Ночь становилась холодной, и пронизывающий ветер завывал в кипарисах под окнами. Пожилой человек вдруг подался вперед. Озорной огонек зажегся в глубине его проницательных серых глаз. – Вы удивляете меня, сэр Эдмунд. Большинство франков вызвали бы меня на смертный бой. Вы же, однако, терпеливо слушали мои нравоучения и советы. – В Италии, милорд граф, я познал горький вкус поражения, – медленно произнес Эдмунд. – И больше не хочу испытывать судьбу. Пожалуйста, продолжайте и расскажите, как нужно сражаться с неверными. – Все зависит от того, кто эти неверные. Старший собеседник поставил чашу с вином. – Когда вы упоминаете неверных, никогда не забывайте: они разделены на две главные категории. К первой относятся сельджуки, которых вы называете турками. Их орды, а они бесчисленны, как пески пустыни, из которой они появляются, обычно сражаются верхом. К счастью, они почти такие же дикие и недисциплинированные, как и вы, франки. Но им не хватает ваших стальных доспехов и по-настоящему тяжелого вооружения, а также боевых коней. Главное их преимущество – численность и маневренность войск. Каждый воин из этих дикарей идет на войну, имея не менее четырех лошадей. Лошади хоть и низкорослые, но очень выносливые. В ходе сражения воин-сельджук по несколько раз меняет коня. За счет лошадей неверный поддерживает и свою жизнь. – Неужели турки едят лошадей? – ужаснулся Эдмунд. Граф был поражен, ведь это было хуже, чем убийство и пытки пилигримов. – Едят своих лошадей? Нет, они любят своих животных, – пояснил собеседник. – При крайней необходимости они выпускают у них немного крови, смешивают ее с грубой пищей и тем обеспечивают себе отвратительное, но полезное питание. Нужно сказать, что для победы над кочевниками следует применять иную тактику, чем в сражениях с франками. Воюя с франками, нужно создавать видимость отступления, пока их ряды не смешаются, а затем расстреливать по одному. Что касается турок, нужно их преследовать, пока какое-нибудь естественное препятствие не вынудит их остановиться и вступить в бой. Тогда они не смогут противостоять нашей тяжелой кавалерии. – Ну а что произошло во время битвы у Манзикерта? – спросил Эдмунд, все еще недовольный оценкой, данной византийцем кодексу рыцарской чести. Бледное лицо графа покраснело. – Та битва была проиграна только из-за предательства Андроника Дука и дезертирства наших туркополов накануне сражения. – Каково же ваше мнение о сарацинах? – продолжил расспрашивать Эдмунд. – Как я уже говорил, сарацины – самые опасные противники. Их главное оружие – копья. Закованные в панцири, эти давние наши враги многое переняли из нашей тактики. И все же даже в заранее подготовленном сражении они не в силах нам противостоять. Их стрелы легче, кольчуги тоньше и лошади помельче. Однако, надеюсь, что вам никогда не придется встретиться с напором их копейщиков, которые являются лучшей кавалерией во всей Азии и Африке. – Граф Лев на минуту умолк, потом спросил: – Кстати, как продвигается изучение теоретического труда императора Льва «Тактика»? – Я полагал, что хорошо понимаю латынь, – смущенно признался Эдмунд. – Но, милорд граф, мне все же трудно читать эту «Тактику». К сожалению, многие из военных терминов этого автора мне не ясны и даже кажутся странными. – И тем не менее продолжайте, сэр Эдмунд. И хорошенько изучите эту работу, особенно главы, относящиеся к войне против сарацин. Благодаря милости Божией такие знания следующей весной могут спасти многих из вас от плена или смерти. – Или от бесчестия, – не мог не добавить Эдмунд. – Честь? – проговорил граф Лев Бардас. – Честь подобна монете, которую некоторые ценят по одной причине, другие по другой. – Византиец отхлебнул немного вина. Рассеянно расстегнул застежки в форме львиной головы на своем военном плаще. – Поверьте, хороший военачальник у нас предпочтет выиграть сражение, не убив ни одного врага, нежели потерять хоть одного человека из своих. Нет, не смотрите на меня с таким недоумением. Война не просто возможность снискать себе личную славу. Она также и не повод, чтобы погубить жизни как можно большего числа человеческих существ. – Граф Лев поднялся, дружелюбно кивнул. – Подумайте об этом, сэр Эдмунд. Надеюсь навестить вас завтра с хорошими новостями. Я частично рассчитаюсь таким образом со своим долгом благодарности… Как только граф Лев исчез в коридоре, бывший граф Аренделский, глубоко вздохнув, задумался. Что имел в виду старый военачальник, бросив при расставании слова о намерении рассчитаться со своим «долгом благодарности»? Нужно спросить об этом Сибиллу. Сменяя Розамунду и ее темноволосого супруга, она стала три раза в неделю навещать Эдмунда на вилле графа Льва. Пошевелив угли в жаровне, чтобы они давали больше тепла, Эдмунд стал лениво листать «Тактику». Однако скоро бросил это занятие и поднял глаза на прекрасную мозаику с изображением охоты на львов, которая покрывала две стены его комнаты. Во всей Англии не найдешь ничего подобного. Разве что случайно, на полу какой-нибудь Римской руины… Поразительно, думал он, как смог Дрого из ЧетРаро так быстро достигнуть взаимопонимания с его милой, но исключительно независимой сестрой. Святой Михаил! Ломбардец верно рассчитал, когда выдержка и такт должны уступить место смелости и напору. И он победил. Более того, Розамунда говорила о своем муже и смотрела на него с глубокой, но сдержанной нежностью. Можно ли поверить, что предыдущие жены неистового ломбардца умерли естественной смертью? Это возможно, ведь очень немногие женщины доживали до сорока лет. Если им удавалось выжить после эпидемий чумы, насылаемых Господом, чтобы держать человечество в смирении, то нередко вынашивание ребенка уносило их жизни. Постепенно Эдмунд, к своему удивлению, стал терпимее относиться к грубому зятю. Он даже стал испытывать нечто похожее на восхищение к этому неутомимому человеку, который прилагал все усилия, чтобы облегчить переход крестоносцев через Босфор. Дрого тем не менее оказался осмотрительным и почти совсем ничего не рассказывал о передвижениях франкских армий. Он старался также, чтобы Розамунды было поменьше возможностей разговаривать с братом. Поэтому Эдмунд ничего не узнал судьбе герцога Боэмунда. После нескольких посещений Розамунды Эдмунд пришел к заключению, что она вполне счастлива спокойна. По крайней мере в настоящее время. Находит удовлетворение, управляя мрачным старым домом на улице Крылатого Быка. Причем делает это таким же удовольствием и старанием, как когда-то содержала замок Арендел. Раза два он, правда, заметил на ее руках небольшие кровоподтеки и синяки. Однако, поскольку она ни на что не жаловалась, он сделал вывод, что это следствие слишком пылких занятий любовью. Выходило, что наибольшее количество известий Эдмунд получал от графини Сибиллы. Однажды, когда она вечером пела ему, Эдмунд внезапно обвинил ее в предательстве. И она, пораженная и разъяренная, пыталась объяснить, каким образом сведения об изменении маршрута герцога Боэмунда достигли Львиного дворца. – Зачем же обвинять себя, а не вашего прежнего друга Тустэна? – настаивала Сибилла. – С самого детства он был безземельным рыцарем, наемником, преданным тому, кто больше платит. – Он и теперь мой друг, – твердо сказал граф. Сибилла капризно выпятила алую губку. – А навестил ли он вас хоть раз после ранения? – Нет. Я уже задумывался об этом, – признался Эдмунд. – Не стоит размышлять, – решительно заявила Сибилла. – Вспомните, с каким отвращением я всегда относилась к этому одноглазому кисло-сладкому человеку! Позднее Дрого поведал, что этот ветеран неприметно покинул Константинополь и уехал в сторону Нароны. – Неудивительно, что он бежал, – отозвалась на это сообщение Сибилла. – Известно, что сэр Тустэн был близок к интригану-полупредателю графу Морису Склеру. И если этот Морис не поостережется, то окажется в темнице на острове Принкипо. Сэр Тустэн – опасный человек и с удовольствием вызывал бы осложнения между нашим христианнейшим императором и герцогом Боэмундом Могучим. Долгие часы Эдмунд обдумывал подобную возможность, изучая ее и так и сяк. Однако вынужден был признаться, что его нормандскому уму не угнаться за быстротой восточного рассудка. Один из евнухов в тускло-красном одеянии трижды ударил о пол перед дверью Эдмунда эбеновым Жезлом, отделанным золотом. – Графиня Сибилла Бриенниус, милорд, – провозгласил евнух. Не дожидаясь приглашения, Сибилла проскользнула в комнату, ее слегка косящие фиолетовые глаза сверкали от возбуждения. Должно быть, женщина явилась с какого-то важного приема: ее черные волосы были тщательно уложены, а на шее, руках и на груди сверкали в большем, чем обычно, количестве драгоценные камни. Не обращая внимания на евнуха, византийка обняла Эдмунда со страстью, которая в последнее время становилась все более откровенной. – Герцог Боэмунд высадился! – весело объявила она. – Час назад курьер из Фракии прибыл в военное министерство. – Она знаком приказала слуге выйти и закрыть дверь. Понизив голос, добавила: – Говорят, что император сильно взволнован и без передышки меряет пол шагами с момента, как получил это известие. – Где же высадился милорд? – поинтересовался граф. – Он вернулся к своему первоначальному маршруту, – шепнула Сибилла ему на ухо. – Высадил большую часть своих сил в Нароне, и вот теперь его войско движется в северном направлении к Тевалю. – Византийка просто вся дрожала от возбуждения. – Вот это сюрприз для всех во Львином дворце! При дворе были уверены, что герцог высадится там, где и все, пересекавшие Адриатическое море. Все еще немного согнувшись, Эдмунд дважды обошел комнату. – Значит, Боэмунд не воспользовался перевалом между горами Боюс и Тимфе? – Нет. Его вассалы быстро продвигаются к перевалу, который находится севернее. Эдмунд не понял, содержался ли оттенок разочарования в словах Сибиллы, поскольку она снова обняла его за шею. – О, это прекрасные новости. Значит, моя… то есть неосторожная болтовня Тустэна не принесла никакого вреда. Должно быть, Герту удалось пробиться! – с облегчением воскликнул граф. Тяжелое бремя свалилось с его плеч. И он в первый раз за все эти недели весело рассмеялся… В тот вечер от Сибиллы исходил какой-то особый, возбуждавший чувственность аромат. Обильнее обычного она использовала косметику. Впрочем, все это, вероятно, было связано с тем приемом, который она недавно покинула. Платье ее не имело ничего общего со старинной модой – сильно открытое, очень длинное, сшитое из полупрозрачного голубого шелка, усыпанного миниатюрными золотыми звездочками, кометами и другими астральными символами. – О, Эдмунд, сегодня вы выглядите гораздо лучше, вы почти поправились, – щебетала она. – Я впервые снова вижу румянец на вашем лице. – Сибилла опустилась на меховой коврик перед его постелью и принялась ласково перебирать рыжие кудри Эдмунда. Именно в это утро он немного подрезал их и опустил челкой на лоб по моде франков, введенной фатоватым графом Стефаном Блуа. – Мне кажется, – продолжала Сибилла, – что я вижу некоторые признаки любви… или нет? – Признаков будет еще больше, – намеренно заверил он ее, – если только я смогу точно узнать, что именно говорил в ту ночь в библиотеке Деспоины. – Я клялась уже тысячу раз, что не спрашивала, а вы не сказали ни слова о предполагаемом пути герцога Боэмунда! – поспешила напомнить Сибилла. Он провел ладонью по лбу. – Да, клялись и… и теперь я верю вам, милая леди. Византийка слабо вскрикнула и так крепко прижалась к нему, что Эдмунд ощутил соблазнительную Упругость ее груди у своего бедра. – О, Эдмунд! Эдмунд! Разве ты не замечаешь, как сильно, как искренне я полюбила тебя. Любовь моя к тебе как море глубока и столь же бесконечна. Впервые за многие недели кровь его вскипела, возбужденная ее женственностью и нежностью. – Но… но… заикаясь, шептал он, – ты… герцог Боэмунд… разве ты не была… Сибилла вздохнула и положила голову ему на колени. Он почувствовал, как напряглось ее тело. – Я стала наложницей милорда Боэмунда открыто и не стыдясь, – заговорила она, словно обращаясь к небольшой статуе языческой полубогини Психеи , – потому что он дал слово сделать меня герцогиней, как только отвоюет Амальфи у своего брата. Но свое обещание он нарушил, поскольку, приняв крест, не может сражаться со своим братом. По щекам Сибиллы покатились слезы. – Клянусь, Эдмунд, любимый мой, что, кроме него и моего мужа, который пал в битве против печенегов, в моей постели не было мужчин. Поверь мне! Ты должен верить мне! Рука Эдмунда скользнула по золотой булавке, поддерживающей ее волосы, потом он сжал пальцами ее подбородок. – Это правда? – Клянусь распятием! – воскликнула Сибилла. – Пусть Господь мой Иисус пошлет мне смерть, если я лгу! Женщина бросилась к нему и прижалась губами к его губам. Она осыпала поцелуями его повлажневшие запавшие глаза и осунувшиеся щеки, целовала их до тех пор, пока они не потеплели и не порозовели. Наконец она в изнеможении отпрянула от него, почти бездыханная и, естественно, порядком растрепанная. – Прости меня, Эдмунд! Я не должна была возбуждать тебя сейчас. Ты должен скорее поправляться и собирать в поход свой отряд… – Какой отряд? – удивился Эдмунд. – Разве мой дядя не сказал?… – Она запнулась. – Нет. О чем ты говоришь? Какой отряд? – Сегодня вечером, – нерешительно начала Сибилла, – мой благородный дядюшка Лев сообщит о своем намерении преподнести тебе достаточное количество золота. Его хватит, чтобы ты набрал отряд, который последует за твоим знаменем против сельджуков. – За моим знаменем? За изображением Серебряного Леопарда? – переспросил Эдмунд, совершенно озадаченный. – Да. И я молюсь, чтобы ты скорее поправился и повел этих людей на освобождение Иерусалима. Эдмунда де Монтгомери охватило ликование. Однако он быстро подавил свои восторги. – Но я не могу принять такой царский подарок. Я сделал то, что сделал бы любой рыцарь, – спас собрата-дворянина от смертельной опасности. Сибилла загадочно улыбнулась: – Чепуха. Ты же не хочешь, чтобы самонадеянный грубиян, твой зять, превзошел тебя? Здесь, в Константинополе, барон Дрого из Четраро уже собрал около сотни хорошо обученных вооруженных воинов. – Легко, как крылья мотылька, ее пальчики запорхали по его густым рыжеватым бровям. – Ты не можешь допустить, чтобы бывший граф Аренделский выступил против неверных без последователей и окружения. – Но… но ведь я поклялся в верности Боэмунду! Усевшись на край его постели, Сибилла глубоко вздохнула: – Ты просто лишился рассудка, если всерьез полагаешь, что Боэмунд возьмет тебя обратно к себе на службу. Тебя, которого он должен считать предателем! Поэтому будет умнее собрать отряд, который ты поставишь под знамя какого-нибудь достойного вождя, вроде графа Болдуина Булонского. – В том, что ты говоришь, есть смысл, – согласился Эдмунд, хотя ее слова: «Тебя, которого он должен считать предателем», удивили его. – И все же… я не могу по чести покинуть службу у своего господина до тех пор, пока он не освободит меня от моей клятвы. – Он это сделает, – заверила Сибилла, – ради меня. А я буду просить об этом. Ведь этот веселый плут мне задолжал…Глава 10 НАБОР РЕКРУТОВ
К середине марта в садах, раскинувшихся на террасах, поднимавшихся по холмам Константинополя, зацвели иудино дерево, абрикосы и миндаль. Степи на высоких азиатских берегах покрылись пестрым ковром ярких полевых цветов. К этому времени к Эдмунду полностью вернулись его былые силы. Теперь он уже мог проводить половину дня верхом и постепенно возобновлял свои военные упражнения. Однако пока он не считал себя готовым к верховой езде на Громоносце. Этот конь отъелся на тучных пастбищах за Хризополем и стал гладким, жирным и очень резвым. Эдмунд пока не мог размахивать тяжелым мечом или булавой более получаса. И все же было заметно, как он прибавлял в весе, и только багровый шрам повыше правого бедра указывал место ранения, из-за которого граф едва не лишился жизни. Чтобы было удобнее осуществлять задуманное, англо-норманн выбрал себе пристанище в покинутых казармах за городскими стенами в районе Галаты. Казармы были старые, не отапливались, их построили еще в царствование Феодосия Второго. Вокруг них толклись не имеющие господина ратники, рыцари и безработные наемники. Многие из них потянулись к появившемуся в казармах рыцарю. Один за другим принесли присягу и были зачислены в отряд графа тридцать пять закаленных ветеранов. Они были готовы сражаться под серебристо-голубым знаменем сэра Эдмунда де Монтгомери. Почерпнув много полезных знаний о военном искусстве на Востоке от графа Льва и внимательно изучив труды «Тактика» и «Военное искусство», Эдмунд эти знания использовал при отборе людей в отряд. А найти нужных людей оказалось труднее, чем он предполагал. К его удивлению, многие воины не имели ни земель, ни законных властителей… Многих Эдмунд определил как тайных дезертиров или разжалованных рыцарей, которые прибыли с запада за герцогом Готфридом, Робером Нормандским или другим властителем, участвующим в крестовом походе. Просьбы таких он отклонял. Осторожно, но решительно. К старым казармам приходили и некоторые бывалые рыцари, сражавшиеся за империю Алексея Комнина. Приходили и бывшие наемники-варвары, причем все как один опытные бойцы. Они потянулись сюда большими группами, как только по городу разнесся слух, что какой-то нормандский гигант готов платить большие деньги. Последние приходили пешком, были обычно голодными, но свирепыми и хорошо вооруженными. В течение двух недель Эдмунд опросил сотни претендентов. Но окончательные решения откладывал, Чтобы отсеять ненадежных и принять в отряд стоящих ветеранов. Сознавая, что не сможет совсем отойти от принятой франками практики боя, Эдмунд пытался совместить ее с военным искусством византийцев. И делал это с огромной энергией и напором франка. Однажды апрельским вечером 1097 года он дольше обычного задержался в казармах: он все еще проживал на вилле графа Льва и обычно там ужинал. Итак, обмакнув перо в кожаную чернильницу, Эдмунд занес в список последнее имя и тем завершил дело. Затем англо-норманн обдумал результаты своего подбора. Только пятеро рыцарей удовлетворяли его требованиям к физической выносливости, военным знаниям и, как он надеялся, к самостоятельным действиям. Следовательно, под знаменем Серебряного Леопарда выступят два франко-норманна, столько же итало-норманнов и молчаливый, но чрезвычайно сильный дворянин по имени сэр Этельм. Отец его, рассказывал этот саксонец, нес боевое знамя короля Гарольда у Сенлака, а впоследствии, после завоевания Англии норманнами, бежал из нее. Французских рыцарей он записал как Уильям Железная Рука и Гастон из Бона. Оба они претендовали на некоторые знания о проведении сражений, полученные на службе у Венеции. Два итало-норманна, Рейнар из Беневенто и Арнульфо из Бриндизи, участвовали в трудных боях под водительством графа Амори из Бари. Он не раз сражался с византийцами и терпел от них поражения. Эдмунд был рад вновь очутиться в окружении вооруженных людей, отдавать команды и слышать во дворе старых казарм знакомое ржание боевых коней. Теплый бриз щекотал его ноздри запахами тушеного мяса с луком, доносившимся из расположения его ратников. В качестве сержантов бывший граф зачислил трех загорелых византийцев из Анатолии. Все они раньше служили в тяжелой кавалерии императорской гвардии. Эти худощавые искусные конники могли стать превосходными разведчиками. Были в отряде Эдмунда и другие сержанты: пять итало-норманнов, норвежец и белокожий турок Торауг, принявший христианство. Этот жилистый, сероглазый человек считал себя настоящим христианином, а не скороспелым обращенным, поскольку был сыном капитана-сельджука, воспитанного в христианской вере. Эдмунд понимал, что знакомство этого Торауга не только с тактикой сельджуков, но и с географией утраченных империей провинций стоило дороже тех семи золотых византов, которые были ему уплачены. Норвежский сержант был коренастым рыжеволосым головорезом, называл себя Рюриком и пользовался репутацией самого выдающегося секироносца, когда-либо служившего в варяжской гвардии императора. Граф отдавал себе отчет в том, какие необъятные расстояния предстояло им пройти. Между тем у него не было тяжелых лошадей. Поэтому Эдмунд избегал выбирать слишком рослых и массивных ратников. Половина из них были викинги, а другая – надежные, послушные англо-саксы из того поколения, которое никогда не знало Англии. Но при этом все эти изгои сохраняли глубокую преданность туманному, далекому острову. Все сержанты должны были сами вооружиться для похода мечом, копьем и секирой. Кроме того, они должны были обзавестись кольчугой длиной до колен. По совету графа Льва, ратникам было приказано обзавестись более длинными и более мощными луками, чем те, которыми пользовались неверные. В дополнение к этому на случай рукопашного боя они Должны были иметь метательные топоры и обоюдоострые боевые секиры. Одной из самых главных забот сэра Эдмунда было приобретение подходящих верховых лошадей. Дело нелегкое, так как первые же из прибывших отрядов крестоносцев начисто прочесали сельскую местность и цена на лошадей выросла. Многие отчаявшиеся и обедневшие крестоносцы стали нападать на торговцев, гнавших табуны к Византии, и убивать их. Поскольку каждый из нанятых графом воинов должен был сам обеспечивать себя снаряжением, отряд Серебряного Леопарда собирался вместе только для завтрака и на закате. Тогда они закрывались в кишевших крысами казармах, надеясь оградить себя от ночных нападений банд дезертиров, головорезов и других подонков, изгнанных из войск Булони, Нормандии и Франции, а также и от всякого сброда, который вел когда-то Петр Пустынник. Торговцы в пригородах с ужасом ожидали появления прожорливых и необузданных итало-норманнов герцога Боэмунда. Византийцы боялись их больше, чем грозного войска графа Раймонда Тулузского. Его армия, самая большая из всех, по слухам, насчитывала до ста тысяч человек. Главным образом это были гасконцы, провансальцы и каталонцы. Они имели репутацию самых законченных мерзавцев во всем христианском мире. Из расположения отряда на вершине галатского холма хорошо были видны костры франков, уже ставших лагерем на азиатском берегу. Каждая переправа или возможное место высадки патрулировались дикими словенскими или турецкими наемниками императора. Они отгоняли небольшие группы крестоносцев, которые в сумерках пытались пересечь пролив. Часто это были малодушные люди, беглецы, пытавшиеся отыскать дорогу домой. Но большинство составляли воины, разочарованные скудным довольствием и однообразным пайком, выделяемым военным управлением империи. До слуха сэра Эдмунда вновь доносились знакомые звуки. Скрежет ножа о подметку, фырканье и топот вьючных лошадей, привязанных во дворе, и беззлобные перебранки его сержантов, занятых игрой в кости. Ставкой в игре могли быть костлявый фазан, украденный ягненок или козленок. Как и все наемники, они далеко не были ангелами и уже давно привыкли к пьянству и разбою. Сэр Уильям Железная Рука, очевидно, пил с сэром Рейнаром. Выкрикивая строфу за строфой из насыщенной сквернословием баллады, он наносил на побитые щиты грубый контур животного, похожего на белого леопарда. Подобные изображения в разных вариациях уже появились на щитах менее важных членов отряда. К тому времени, когда отряду нужно будет выступать в поход, Эдмунд надеялся, что на копье у него затрепещет квадратный вымпел, вышитый искусными руками Сибиллы. Подобную белую эмблему на голубом фоне, по мнению англо-норманна, было бы легко узнать даже при плохом освещении или в клубящейся пыли боя. Со двора доносилась ругань голодных бродяг, которых содержали его рыцари в качестве ко всему готовых личных слуг. Они заменяли сержантам оруженосцев, нанимать которых им было не по карману. Слышались также и визгливые голоса женщин, всегда появлявшихся в лагере для приготовления пищи, стирки и удовлетворения прочих потребностей мужчин. Эдмунд прикинул, что около ста человек нашли себе приют в этой части старых казарм. Выпрямившись на табурете, граф задумчиво глядел на молодой месяц, холодно мерцавший в небе над лагерем крестоносцев за Босфором. Тонкий серп месяца, как говорил ему Торауг, для последователей Мухаммеда означает то же самое, что и крест для христиан. Можно ли считать это дурным признаком? Эдмунд вздохнул и, взобравшись на свою кобылу, поскакал к переправе через Золотой Рог и дальше к вилле графа Льва. Он предвкушал удовольствие увидеть изображение серебряного леопарда, сделанное руками Сибиллы. Она непостижимая женщина: то веселая и искрящаяся, то хмурая и молчаливая! В тот вечер, когда Эдмунд обедал в обществе графа Льва и Деспоины Евдокии, Сибилла испытующе поглядела на Эдмунда. – Сегодня утром в Львином дворце был большой переполох, – сказала она. – Из-за чего? – растягивая слова, спросила Деспоина. – Может, Мария-аланка забеременела от негра? – Нет. Герцог Боэмунд оказался хитрее большинства норманнов, – последовал ответ. Седые брови графа Льва поползли вверх. – Что ты имеешь в виду? – Бутумит, между прочим, считает, что и численность людей герцога Тарантского втрое превышает десять тысяч. И сосредоточены они были не в одном порту, а в трех: в Таранто, Бриндизи и в Бари! Эти три группы высадились в различных точках Фракии, перевалили горы и соединились в Сересе. Так что если наш божественный император планировал встретить своего давнего врага в горах, то все равно две части войска Боэмунда должны были успешно пробиться через них. Деспоина Евдокия рассмеялась. Орудуя небольшим трезубцем, она положила в свой подкрашенный ротик кусочек грудки фазана. – Скажи мне, Лео, действительно ли император хочет уничтожить сына Робера Гюискара? К удивлению Эдмунда граф Лев покачал головой: – Конечно нет, поскольку Алексей Комнин рассчитывает, что эти итало-норманны нанесут неверным самые сильные удары. – Почему он так думает? – Потому что в течение многих лет они сражались с сарацинами в Сицилии и хорошо изучили их приемы ведения войны. Единственно, чего боится император, так это внезапной измены Боэмунда. Престарелый граф перевел взгляд на загорелого англо-норманна, который сидел напротив него за столом. – Полагаю, вы осведомлены, что во время осады Кастории герцог Боэмунд поклялся, что в один прекрасный день овладеет Константинополем и займет трон цезарей. – Нет, милорд, я этого не слышал, – в замешательстве сказал Эдмунд. – Да как же так! – возмутился престарелый военачальник. – Как это вы, франки, остаетесь в неведении по поводу таких важных вещей? – Поскольку все может случиться, – пробормотала Сибилла, – нельзя винить христолюбивого императора за то, что у него появляются дурные предчувствия. – Но, насколько мне известно, император больше не испытывает недоверия к Боэмунду, – спокойно заметила Деспоина. – А причина этого должна вас позабавить, сэр Эдмунд, – улыбнулась Сибилла и наклонилась, чтобы поставить свой матовый кубок, сделанный будто из речного тумана, при этом крупные жемчужины на ее воротнике таинственно блеснули. – Наш святейший император, – продолжала она, – наконец-то завоевал доверие герцога Готфрида. И ему удалось вытянуть из него торжественное обещание, что если Боэмунд нарушит мир и попытается захватить город, то войска Готфрида, втрое превосходящие по численности силы герцога Тарантского, объединятся с имперскими частями. И вместе они уничтожат Боэмунда и всех его последователей. Воцарилось длительное молчание. Двигаясь бесшумно, слуги подали сваренную в вине лососину и тарелочки с восхитительно вкусными мелкими красными крабами, а также с лангустами. – Пожалуйста, скажи мне, дорогой кузен, – обратилась Деспоина к графу Льву, – говорил ли когда-нибудь герцог Готфрид о намерении помочь Боэмунду, если император решится напасть на южных норманнов? Лицо хозяина вспыхнуло над вышитым золотом воротником его туники. Эдмунд заметил это и запомнил. – Ну, нет, – поспешно проговорил граф Лев. – Такого предательства нельзя себе даже представить! Быстрый обмен взглядами между графом Львом и Деспоиной также не остался незамеченным. И он подтвердил опасения Эдмунда красноречивее, чем слова. Позже, когда дамы удалились, чтобы сесть в носилки и отправиться во дворец Бардас, граф Лев и его рыжеволосый гость остались наедине. Не спеша вкушали они вино. Граф бросал на молодого человека испытующие взгляды. – Ваши сундуки… уже опустели, сын мой? У графа в последнее время вошло в привычку такое обращение к гостю. Легкая улыбка тронула губы Эдмунда. – Еще нет, но скоро это произойдет. Цены на самое для нас необходимое поднялись и стали невообразимыми. – Хорошо, завтра я прикажу открыть вам кредит в пятьсот византов, – сказал пожилой человек; колеблющиеся отсветы пламени плясали на голубой шелковой тунике и заставляли сверкать драгоценные камни на его пальцах. – Прибавлю и еще пять сотен, если потребуются свадебные подарки, достойные вашего положения и положения моей племянницы. – Свадебные подарки! – Эдмунд напрягся, не сводя глаз со своего хозяина. – Я не понимаю… Лев Бардас подмигнул ему: – Вы, молодые любовники, любите притворяться… – Но, милорд… я… я… Я не могу… Конечно, ваш кошелек пуст. Так что это будет свадьба военного времени. В смятении Эдмунд туго соображал, не зная, что сказать. – По правде, милорд, мне ничего не известно о свадьбе. Мы с графиней Сибиллой не обсуждали это… – Если это правда, то не пора ли вам с ней переговорить? – внезапно помрачнев, спросил пожилой византиец. – Разве моя племянница не посещала вас, когда вы лежали раненым? Почти в любое время дня… и ночи? – Голос графа смягчился. – Здесь в Константинополе мы уже не раз были свидетелями таких отношений. И давно уже установили, что, чем больше подобная пара познает друг друга до обмена клятвами верности, тем больше у нее шансов на счастье. Граф Лев поднялся. Кольца на его руке ослепительно засияли. – Мое желание, – с достоинством заявил он, – чтобы вы поскорее поженились. Нет, нет, не перебивайте. Моя племянница рассказала мне о вашей утраченной любви. Трагично, что ваша клятва в верности этой несомненно милой варварке была уничтожена ее собственным решением. Поэтому сейчас вы можете вполне честно посвататься к моей племяннице. А она, между прочим, обладает немалой собственностью на острове Корфу. – Ветеран со вздохом похлопал Эдмунда по плечу. – Она настолько потеряла рассудок от любви к вам, что устроила… Не важно… Каждый, имеющий глаза, видит, что у нее на уме. Эдмунд в замешательстве не знал, что сказать. – Но, милорд, – произнес он наконец заплетающимся языком, – я испытываю к леди Сибилле самое глубокое уважение и даже привязанность. Но я… я… я не люблю ее… В глазах графа Льва появился стальной блеск. – Думается, – сказал он хрипло, – вы совершите большую ошибку, если позволите моей племяннице даже предположить подобное. Она горда. И любит вас глубоко и со всей страстностью. Я убежден почему-то, что, если Сибилла не станет вашей женой, ею не будет ни одна другая женщина. Ночной город затих. Но еще долго Эдмунд, опустившись на колени, молился в своей комнате. Усердно и искренне он искал ответа в своей душе на заданный ему жизнью вопрос. Но вопреки всем его усилиям, в глазах продолжал стоять образ Аликc. Такой, какой он видел ее в последний раз: в ночном одеянии с распущенными белокурыми волосами. Как она будет выглядеть в мрачной рясе монахини? Печаль была так велика, что он с трудом подавил рвущийся из груди стон. Ему мерещился тонкий, словно вырезанный из слоновой кости, образ девушки. Она подняла руку, как бы благословляя его. Затем видение растворилось в лунном свете, освещавшем мраморный пол. Благословение? Видение как бы еще раз освободило его от клятвы,что лишь Аликc де Берне станет его невестой. Единственная свеча давно уже коптила, и холод мраморного пола сковал колени, а он все продолжал молится, прося у Бога совета. Эдмунд пробовал разобраться в своих чувствах к Сибилле, графине из Корфу. У него не было сомнений в том, что она испытывала к нему истинную любовь… насколько была на это способна такая сложная и пылкая натура. Конечно, Сибилла готова принести ему в награду и себя, и свое состояние. Приятной внешности, с прекрасной фигурой и милым лицом, Сибилла, кроме того, обладала блестящими качествами во многих областях деятельности. К тому же в ее жилах текла кровь лучших семей античной Европы. Она отлично разбиралась в самых сложных современных событиях, обладала внушительной собственностью и прекрасно ею управляла. Как говорили, с полной справедливостью, решительностью и успехом. Всему этому противостоял один немаловажный факт. Это милое создание, эта столь привлекательная женщина открыто была наложницей Боэмунда. И ее не оправдывал расчет на брак. Следовало помнить, что Сибилла расчетлива, властна, а временами и жестока, хоть и не в большей степени, чем другие византийки с ее положением. Чувство вины, связанное с той ночью в библиотеке, все еще грызло его, лишало спокойствия. Он считал делом чести покрыть грех, посватавшись к ней. Однако… Эдмунд колебался. Постепенно в нем крепло убеждение, что женитьба на Сибилле, в конце концов, не столь уж и неприемлема. Он никогда раньше не ощущал такого удовлетворения своей судьбой, как в присутствии Сибиллы. Племянница графа Льва была тактична и терпима, выслушивая его расплывчатые рассуждения, несмотря на то, что считала странными его западные представления о долге и чести. Оставалось уже немного времени до восхода солнца. Петухи пропели в третий раз, когда граф Эдмунд с трудом поднялся и подошел к окну. Там он долго стоял, глядя вниз на недавно подстриженные фруктовые деревья в саду. Возможно, отвоевав себе владение в Святой Земле, они с Сибиллой соединятся и образуют династию, которая сможет пополнить историю великими и достойными людьми?Глава 11 ГЕРЦОГ ТАРАНТСКИЙ II
В один из теплых и солнечных дней в небольшом, окруженном стенами саду позади резиденции барона Дрого на улице Крылатого Быка леди Розамунда с радостным возгласом горячо обняла своего брата. Только ее личная служанка Хлоя, теперь уже изрядно округлившаяся, с приятными манерами и не менее приятным голосом, была свидетелем этой встречи. Хлоя в это время заканчивала шить новый белый плащ для барона из Четраро. – Сегодня утром Деспоина прислала слугу с превосходными вестями, – радостно воскликнула Розамунда. – О, я так счастлива! Многие недели я молилась святому Михаилу, чтобы ты смог забыть бедную Аликc. – Сестра улыбнулась и снова поцеловала брата. – Я не раз задавалась вопросом, сколько же потребуется времени, чтобы ты понял то, что все знали уже давно: Сибилла без ума от любви к тебе. – Ты действительно в этом уверена? – Да. И считаю, дорогой брат, что тебе сильно повезло. Она тебе самая подходящая пара. Подумай о богатстве и власти, которыми она располагает. Эдмунд нахмурился: – Хм… Это что-то похожее на твою свадьбу, не так ли? Розамунда склонила золотую головку, закусила яркую нижнюю губку. – Пока что я ни минуты не сожалела о том, что уступила его… уговорам, – сказала она. – Правда, мой муж порой слишком много пьет, а потом становится жестоким. Но в такие минуты и я не нежничаю с ним… Хлоя заулыбалась. Действительно, неделю назад леди Розамунда без всякой нежности огрела своего буйного мужа подсвечником по голове. Удивительно, но он не обиделся. Даже стал больше ценить свою супругу. – При дворе возник некоторый переполох, – заметила Розамунда. – Деспоина уверяет, что ты – первый франк-крестоносец, который женится на греческой аристократке. У тебя, как я подозреваю, будет самая впечатляющая свадебная месса. В какой же церкви ты собираешься венчаться? В греческой? Эдмунд рассмеялся и пригласил свою высокую сестру пройти к нагретой солнцем скамейке. – Сначала венчание состоится в нашей маленькой генуэзской часовне, а позднее – в соборе святой Ирины. Говорят, службу в греческой церкви посетит императрица вместе с сенаторами, герцогами, графами и даже некоторыми военачальниками из имперской армии. Хлоя, вся обратившись в слух, с деловым видом копалась в дальнем конце маленького сада, притворяясь, что поглощена тем, чтобы вода, лившаяся из красивого бронзового крана в большой кувшин, не переполнила его. Когда в разговоре брата и сестры возникла пауза, служанка приблизилась к скамейке, на которой они сидели. – Прошу прощения, мой господин, но… не слышно ли чего о вашем оруженосце? – со встревоженным лицом пролепетала она. – Пока еще нет, малышка. Но до захода солнца я могу получить кое-какие известия. Ведь сегодня я поеду приветствовать герцога Боэмунда. – Ты не поедешь! – выпалила Розамунда, нахмурив брови. – Не осмелишься. – Нет, поеду. Приведу отряд Серебряного Леопарда в лагерь моего законного государя, – отрезал Эдмунд. – Не делай этого, прошу тебя! – взмолилась сестра. – До Дрого дошли слухи, что Боэмунд Тарант-ский зол на тебя. Во имя Бога, Эдмунд, иди служить под любые знамена, но не к Боэмунду. Лицо брата приняло упрямое выражение. – Я никогда не сделаю этого, пока он не освободит меня от клятвы верности. – Но он может захватить тебя, пытать и даже убить! – испуганно воскликнула Розамунда. – И тем не менее. Я не могу поступить иначе. Я должен привести к нему свой отряд… Я обязан также предостеречь его, предупредить о заговорах. У Эдмунда было возникла мысль рассказать ей о взаимопонимании, достигнутом при встрече герцога Готфрида с императором. Однако несколько месяцев пребывания в столице Алексея наконец научили его сдерживать язык. А что, если сестра проговорится Дрого? Кто знает, как он это воспримет? Эдмунд оглянулся на Хлою и дружески ей улыбнулся: – Может, найдется у вас ломоть доброго нормандского хлеба с сыром, принеси-ка его. Девушка понимающе кивнула и удалилась, легкая, как вспугнутый олененок. Как только она исчезла, Эдмунд снова стал серьезным. – Я хотел бы узнать, милая сестра, как ты живешь со своим мужем? – Довольно хорошо, – поспешно кивнула Розамунда, и ее локоны рассыпались по щекам. – Временами я, – призналась она, – его ненавижу, но чаще страстно люблю. И это меня пугает. Завтра он со своими людьми отправляется, чтобы присоединиться к Хью из Вермандуа у Хризополя. – И ты будешь сопровождать его в походе против неверных? К его удивлению, Розамунда, покраснев, покачала головой: – Он приказал мне этого не делать. – Но, сестра, многие франкские леди поскачут вместе со своими мужьями. Я полагал, что Дрого особенно будет добиваться твоего сопровождения. Розамунда смущенно посмотрела ему в глаза. – У меня ведь будет ребенок, – просто сказала она. – Замечательно! Уверен, что это будет веселый малыш. – Поэтому Дрого и не хочет, чтобы я его сопровождала. Он боится потерять наследника. Ведь ни одна из его прежних жен не подарила ему ребенка, который бы прожил более нескольких недель. Поэтому я остаюсь здесь, оторванная от всего мира. Как беременная кобыла. – Слезы навернулись на ее турмалиновые глаза. – Ну, а ты? – Розамунда ладонью смахнула слезы, которые уже покатились по щекам. – Будет ли твоя жена сопровождать тебя? – Она так настаивает, что я даже начинаю задумываться о причине такого ее стремления, – ответил Эдмунд. – Сибилла уверяет, что в кампании на стороне византийцев примут участие несколько ее кузенов. Они должны поддержать нас и могут ощутимо помочь франкскому войску. – Наверное, это правда. – Розамунда взяла свое вышивание. – Пойдем. Позволь мне показать тебе платье, которое я приготовила ко дню твоей свадьбы. До нее ведь осталась всего неделя? Эдмунд кивнул и пошел за ней по большому гулкому дому.Эдмунд де Монтгомери натянул поводья. По его указанию Уильям Железная Рука приказал отряду построиться в колонну по двое. Могучий англо-норманн внимательно осмотрел каждого из тридцати пяти воинов, выступивших под знаменем Серебряного Леопарда. Они безусловно выглядели лучше, чем Многие другие ратники, но граф заметил и некоторые недостатки: здесь ременная подпруга опасно тоньше, чем нужно, там – пятна ржавчины на кольчуге, щите или шлеме. Однако попоны на лошадях и вьючных мулах были чистые, а сами животные выглядели упитанными, но не разъевшимися. В качестве своего заместителя на случай, если сам будет выведен из строя, Эдмунд выбрал сэра Уильяма Железная Рука, несмотря на неприглядную внешность: плосконосый, с бегающим взглядом. Вторым помощником стал темнолицый и молчаливый сэр Рейнар из Беневенто. Конечно, Эдмунду хотелось бы назначить вторым после себя сэра Этельма, но саксонец оказался большим тугодумом, да к тому же склонен к ссорам и пререканиям. Колонна воинов сэра Эдмунда выехала с территории полуразрушенных казарм в Галате. Некоторые из его воинов ютились там более шести недель. Отряд двинулся к поросшей травой равнине, где расположились биваком вассалы герцога Боэмунда. Лагерь итало-норманнов, разбитый на расстоянии лиги от стен Константинополя, не радовал глаз. После предыдущих экспедиций на местности не осталось ни единого дерева или даже куста. Земля была не только вытоптана, но и сплошь покрыта навозом и человеческими экскрементами. Повсюду находились остатки землянок, вырытых еще людьми Хью из Вермандуа, Юстаса Булонского и другими. Когда Эдмунд, покачиваясь в седле в такт шагам Громоносца, ввел свой небольшой отряд на окраины бивака Боэмунда, он не заметил в лагере южных норманнов множества воинов. Его неприятно удивило и то, что соотношение пеших солдат с верховыми было значительно меньшим, чем в других войсках крестоносцев, да и обоз был невелик. В Константинополе стало известно, что Боэмунд Могучий намного беднее других вождей крестоносцев. И это вызывало большую озабоченность у византийцев: не исключена была угроза, что его солдаты начнут попрошайничать или грабить, если их немедленно не обеспечат снабжением из императорских амбаров. К тому же ни одно франкское войско не могло похвалиться даже элементарным обслуживанием, например медицинским, не обладало даже самым необходимым осадным парком. Как только начнется наступление на неверных, каждый воин должен будет сам находить пропитание и для себя, и для своей лошади. Так было всегда во время войн на западе. Палатки и шатры лагеря итало-норманнов располагались в беспорядке, большими и малыми группами, в некотором отдалении от потрепанного шатра самого Боэмунда. Над ним гордо реяло темно-красное знамя. От опытных глаз Эдмунда де Монтгомери не ускользнуло, что подготовка к выступлению из лагеря идет полным ходом. Толпы сержантов, ратников и простых пеших солдат покидали лагерные костры и собирались вдоль дороги, ведущей на север от Золотых Ворот Константинополя. Это был самый западный и наиболее укрепленный выход из города в сторону суши. Отряд Серебряного Леопарда, продвигавшийся на запад, достиг пересечения двух дорог. Эдмунд придержал коня и приказал своим спутникам выстроиться в два ряда. Так они и сидели верхом под бело-голубыми вымпелами, отчаянно ругая жару, удушливую пыль и наблюдая за подразделением кавалерии, выезжавшим из лагеря Боэмунда. Непрерывное пение боевых рогов подтверждало, что выезжают самые могущественные бароны. У Эдмунда де Монтгомери сильно заныло сердце, едва он увидел приближающийся темно-красный флаг Боэмунда. Вскоре уже можно было различить с дюжину мощных всадников, одетых в плащи крестоносцев. Они скакали под многоцветными вымпелами, освещенными весенним солнцем. Бывший граф стиснул челюсти. Всего через несколько минут он встретится лицом к лицу с Боэмундом Могучим – в первый раз за истекшие полгода. Как бы то ни было, он должен, не теряя времени, поставить своего законного государя в известность о сговоре между императором Алексеем и Готфридом Бульонским. Кровь застучала в висках при воспоминании о том, как слезно упрашивали его Сибилла и Розамунда избежать этой встречи. Охваченный волнением, Эдмунд незаметно бросил взгляд через плечо на свое воинство. Граф остался доволен. Пять загорелых рыцарей, десять сержантов и двадцать ратников невозмутимо сидели позади него в седлах, не сплевывая, не посмеиваясь и не переговариваясь. Изображения белого леопарда на щитах подчеркивали их единение. Между тем блестящая кавалькада начала подниматься по пологому склону, приближаясь к месту, где ее поджиал отряд Эдмунда. Воины графа с любопытством разглядывали массивную фигуру Боэмунда Могучего, возглавлявшего кавалькаду. А Боэмунд в свою очередь разглядывал спутников Эдмунда, у которого от волнения пот заструился по щекам. Эти мгновения должны определить его судьбу. Эдмунд пришпорил коня, поднял его на дыбы, приветствуя подъехавших опущенным в горизонтальное положение копьем. Боэмунд, должно быть, сразу же узнал его. Его правая рука взвилась вверх, призвав весь эскорт остановиться в вихре поднявшейся пыли. – Мой государь! Милорд Боэмунд! – с дрожью в голосе воскликнул сэр Эдмунд и выехал вперед. Челюсти Боэмунда угрожающе сжались. Глаза метали искры. – Ха! Вот он, наконец, этот английский негодяй! Как ты посмел приблизиться ко мне?! – Я хотел бы предупредить об опасности, подстерегающей вас в этом городе, – преодолев дрожь, смело начал Эдмунд. – Я хотел бы поставить к вам на службу этот мой отряд. В нем каждый воин отличный боец. Мои люди способны нанести много сокрушительных ударов по неверным. Легко сдерживая боевого коня, огромного золотистого жеребца, Боэмунд опытным глазом оглядел отряд. – У твоих воинов вид разбойников и негодяев! – прорычал он. И, неожиданно усмехнувшись, поднял кулак. – Сэр Эдмунд, ты явился с опозданием. Но ты хорошо выполнил поручение, с которым я тебя посылал. И я тебе благодарен, – подмигнул он. Если бы на голову Эдмунда обрушилась булава, он был бы поражен не больше. Что говорит Боэмунд? Он благодарен за то, что Эдмунд хорошо выполнил его поручение? Англо-норманн застыл в глубоком смущении. Разразившись хохотом, Боэмунд хлопнул его по бедру. – Видит Бог, ты оказался умнее, чем я думал, передав фальшивое сообщение о моем маршруте. Как я понимаю, мой дорогой друг Алексей с готовностью проглотил эту наживку. Поэтому мы не обнаружили ни одного византийца в горах Фракии. – Широкое загорелое лицо герцога подобрело. – Ты определенно отточил мозги, общаясь с хитрыми греками. Эдмунд заколебался. Он лихорадочно соображал, стоит ли рисковать удивительно дружественным поведением Боэмунда, и все же решился. – Милорд, вы не могли бы сообщить мне что-то о моем оруженосце Герте Ордуэе или о моем верном Друге сэре Тустэне? Боэмунд лишь рассмеялся и пришпорил коня. Эдмунду оставалось только отсалютовать Боэмунду копьем. Его государь, собрав поводья, бросил: – Отпусти свой отряд и следуй за мной в город. Когда герцог медленным шагом стал продвигаться к высоким желто-серым двойным стенам и бастионам Константинополя, его со всех сторон приветствовали радостными криками. Присоединившись к эскорту, Эдмунд узнал нескольких важных лордов, ехавших вслед за Боэмундом. Среди них был Жирар, епископ из Ариано, краснолицый и полный, с золотым крестом на груди и кольчугой под церковным облачением. С его хорошо затянутого пояса свисала булава. Англо-норманну приветственно кивнул плотный Рейнульф из Принципата. Тот самый, чью рыцарскую щедрость Эдмунд никогда не смог бы забыть. Под тем же красно-зеленым вымпелом ехали чудовищно изуродованный брат Рейнульфа Ричард и русоволосый граф Танкред фиц Танкред, загорелый и надменный. Присутствовали там и более молодые бароны с суровыми загорелыми лицами. Похлопав Эдмунда по спине, каждый из них задавал вопрос о восточных пороках, которые, по слухам, распространены в Византии. Однако это не исключало их уважения к графу. Многим из них, наверное, вспомнилась ожесточенная смертная битва, разыгравшаяся на зеленом лугу под замком Сан-Северино. Увы, среди них не было ни Герта Ордуэя, ни сэра Тустэна де Дивэ.
Зал приемов Львиного дворца. Длинное и достаточно темное помещение, потолок которого поддерживали стройные мраморные колонны удивительной красоты. Стены были украшены великолепными мозаичными панно, выполненными в красных, золотых и черных тонах. В дальнем конце зала на золотом троне под малиновым ковровым балдахином восседал избранник Бога и христолюбивый император византийцев Алексей Комнин. Он ожидал гостей. Алексей Комнин был коротконогий широкоплечий человек властного вида. Его большие темно-карие глаза глядели пристально. От темного лица с короткой, вьющейся каштановой бородкой, умащенной благовониями, веяло холодом. На пышных каштановых локонах императора покоилась императорская корона, сверкающая великолепными каменьями. По обе стороны головы с короны свисали до подбородка пластины, также усеянные драгоценными камнями. Подобающая случаю одежда Алексея состояла из императорской пурпурной мантии, застегнутой на плечах жемчужными брошами. Под нею поблескивала тяжелая, до колен золотая парчовая туника. Широкие ступни императора были облачены в красные с золотом котурны, ничем не отличающиеся от тех, которые носили за тысячу лет до того императоры Август, Тиберий, Калигула и Нерон. У основания балдахина собрались сенаторы, военачальники, высшие правительственные чиновники, а также несколько длиннобородых патриархов греческой церкви с округлыми золотыми митрами на головах, более богатыми, чем за всю свою жизнь любой норманн мог увидеть в Европе. Образуя застывший полукруг у края возвышения, стоял ряд скандинавских секироносцев из знаменитой варяжской гвардии. На русых головах этих гигантов красовались увенчанные крыльями бронзовые шлемы, а с массивных плеч ниспадали алые плащи, отделанные золотом. Вдоль стен и в боковых проходах стояли воины из гетерии – имперской охранной гвардии – в посеребренных латах и шлемах. Все это были византийские аристократы, гордые, красивые и совершенно не стыдящиеся того, что щеки у них нарумянены, а губы накрашены. Сидя на троне, Алексей Комнин хорошо видел всю длинную мраморную палату приемов. Около залитой солнцем входной двери стояли менее важные персоны, гражданские и военные. А также несколько евнухов в красных одеждах, которые принесли с собой особые дощечки для письма и готовы были записывать все, что будет сказано. Но вот снаружи донеслись топот копыт и громкие возбужденные голоса. Алексей машинально поправил корону. Начальник императорской гвардии, закованный в серебряные позолоченные латы, держа в левой руке шлем с голубым крестом, подбежал к возвышению. Здесь он передал шлем своему помощнику и распростерся у ног своего господина, трижды коснувшись лбом пола. – Говори, – громко прозвучал спокойный голос Алексея. – Некто Боэмунд, называющий себя герцогом Тарантским, просит аудиенции у вашего святейшего императорского величества. – Поручи самым выдающимся военачальникам приветствовать его. Пусть входит без страха. По затихшей палате приемов пронесся легкий гул. Ведь все присутствующие знали о глубокой вражде между двумя правителями. Под бряцание лат и звон шпор в дверь вошли несколько рослых воинов в белых плащах с красными крестами. Впереди шел рыжий сын Робера Гюискара. Обнажив голову, прямой и могучий, как собственный меч, Боэмунд подошел к трону. Гордость, уверенность и достоинство сквозили в каждом движении этого огромного норманна. Он молча остановился перед троном, чуть позади него встали его племянник Танкред и епископ Арианский. За ними толпились другие бароны, и запах лошадиного пота и кожаной одежды начал заполнять палату. Эдмунд находился в последних рядах эскорта Боэмунда и в эти минуты испытывал непреодолимое чувство благоговения. Подумать только, эта прекрасная палата со свисавшими с потолка серебряными люстрами простояла около половины тысячелетия! Словно зачарованный, он наблюдал, как Боэмунд в развевающемся зеленом плаще подходил к балдахину. Как по сигналу выступили вперед два переводчика, хотя Алексей Комнин был настоящим полиглотом, а герцог Боэмунд неплохо владел греческим языком. Из разговора двух выдающихся личностей Эдмунд ничего не уловил, хотя беседовали они довольно долго. Прошло какое-то время, и Боэмунд вдруг преклонил колени, молитвенно сложил ладони, а затем вложил их в покрытые перстнями смуглые руки императора. Немедленно последовал взрыв разгневанных возгласов. Пораженные бароны Боэмунда, а также разъяренный Танкред выражали свое недовольство. – Протестую! Призываю вас в свидетели перед Всемогущим Богом, – кричал Танкред, – отказываюсь принести феодальную присягу этому греку, несмотря на то, что мой дядя сделал это! Жирар, епископ из Ариано, первым успокоил темпераментного молодого племянника Боэмунда. И смятение быстро улеглось. Греческие придворные, обмениваясь быстрыми, многозначительными взглядами, что-то шептали. Но Эдмунду не удалось понять, о чем они говорили.
Глава 12 СВИТОК ПЕРГАМЕНТА
До свадьбы оставалось всего три дня. Половодье богатых и разнообразных подарков буквально наводняло виллу графа Льва, где решила обосноваться графиня Корфу. Присылали столовую посуду, изумительные венецианские изделия из стекла, ковры, украшенные драгоценными камнями иконы и многие ярды ценнейшего шелка и парчи из Исфагана. Богатая тетушка преподнесла не только роскошный прогулочный каик, а вместе с ним и семь сильных арабов-гребцов, усилиями которых каик мог легко переплывать Золотой Рог или Босфор. Деспоина Евдокия подарила и красивую виллу на одном из многих лесистых островов, которые хорошо были видны с холмов Константинополя. В служебных помещениях появились подаренные слуги-рабы для нужд нового домашнего хозяйства. Они покорно подчинились смене владельцев. Поступали подарки и для будущего франкского мужа графини. Это были боевые кони, усыпанные драгоценными камнями прекрасные латы, легкие, но крепкие шлемы, изогнутые мечи лучшей дамасской стали. Обрадованный благоприятным отношением к нему герцога Боэмунда, сэр Эдмунд успокоился и пришел в прекрасное расположение духа. Он получал особое наслаждение, когда они вместе с Сибиллой рассматривали многочисленные подарки. В тот день, когда группа франкских ратников доставила прекрасные подарки не только от герцога Боэмунда, но и от Ричарда из Принципата, епископа Ариано и других рыцарей из военного окружения герцога, Эдмунд был просто в восторге. Больше всего он обрадовался красивому седлу от сэра Тустэна. Сам Тустэн не приехал. Очевидно, его задержали дела. В это время он объезжал итало-норманнские отряды и вербовал по пути оставшихся без хозяев людей, заменяя ими тех, кто умер, заболел или был убит во время продвижения по Греции. – Разве это не прелесть? – восклицала Сибилла с восторженным блеском больших фиолетовых глаз. Она раскрыла коробку из слоновой кости и показала жениху нитку бус из крупных жемчужин с золотыми шариками. Эдмунд притянул к себе счастливую невесту и, поцеловав ее, опустил бусы в коробочку. Это были замечательные минуты! Никогда англо-норманн не мог и мечтать, что завладеет таким богатством мирным путем. В Византии так же, как и во владениях франков, женщина могла обладать собственностью только через своего мужа. – Только бы нам не пришлось слишком рано уезжать из Византии, – вздохнула Сибилла. – Эдмунд, любимый мой, я убеждена, что достаточно одного слова графа Льва императору, чтобы герцог дал тебе отпуск. Эдмунд решительно тряхнул медными локонами. – Нет, моя дорогая. Этого я не могу допустить. Мой отряд одним из первых в войске моего государя должен переправиться в Азию и разбить неверных. – Тогда я последую за тобой. Это будет легко сделать, поскольку мой дядя командует частями всадников в наших экспедиционных силах, прекрасной дисциплинированной тяжелой кавалерией, вооруженной с головы до пят. – А кто командует военными силами империи? Сибилла взглянула на него в полном изумлении. – Мой дорогой простак, ты разве не слышал, что Мануэль Бутумит возглавит поход? – Она рассмеялась. – Почему вы, франки, всегда узнаете о таких вещах в последнюю очередь? Да, сегодня утром император подписал приказы Бутумита священными красными чернилами. – Потерпи, – улыбнулся он, взбивая ее иссиня-черные кудри. – В один прекрасный день я стану столь же хитрым и осведомленным, как лучшие из твоих византийцев. – Не говори «твоих византийцев». Ведь после женитьбы ты станешь одним из них… по крайней мере в глазах империи. В моих жилах течет царская кровь Палеологов. Эдмунд немного помолчал, вглядываясь в изящные черты ее лица. – Ты действительно собираешься принять участие в кампании? – тихо спросил он. Сибилла кивнула: – Многие франкские леди тоже готовятся так поступить. – Но ты ведь не дрожала, как они, в холодных и сырых замках, не привыкла к грубой пище и даже не умеешь ездить верхом. – Могу и научиться, – решительно объявила Сибилла. – И я намного сильнее, чем ты воображаешь. И буду в полной безопасности в лагере графа Льва. Эдмунд слушал ее со смешанным чувством. Ему никак не хотелось отвлекаться от своей главной цели: нанесения мощных ударов по неверным, пока либо он сам погибнет, либо Золотой Иерусалим будет очищен от неверных. Бесшумно ступая в мягких шлепанцах, в дверях появился слуга. Он низко поклонился Эдмунду и Сибилле, блеснув при свете свечей гладко выбритой головой. – Милорд, франкский воин уверяет, что он ваш телохранитель. Ожидает в прихожей. – Телохранитель? – Да, милорд. У этого варвара круглое лицо и волосы цвета пшеничной соломы. Он назвал мне свое имя, но я не могу его произнести. – Его зовут Герт Ордуэй? – быстро спросил Эдмунд. Двойной подбородок слуги напрягся, он быстро кивнул: – Так зовут парня, милорд. – Это твой оруженосец! – вскричала Сибилла, прижимаясь к жениху. – Ты, конечно, рад. Я хорошо знаю, как любит тебя этот саксонский юноша и как ты расположен к нему. Нежно улыбнувшись, она подхватила тонкую шелковую накидку цвета шафрана. – Вам есть о чем поговорить. И это меня не касается. Поэтому я удаляюсь, посмотрю, как шьют мой свадебный наряд. Едва Сибилла вышла, как появился Герт. Он опустился на одно колено и поцеловал руку своему господину. Эдмунд похлопал его по плечу. Оруженосец вскочил, а бывший граф Аренделский сделал вывод, что во время своего отсутствия Герт заметно повзрослел. Он казался менее неуклюжим и отпустил короткие светлые усы. Юношеский румянец исчез, а в больших ясных глазах появилось пытливое выражение. – Я бесконечно рад, милорд, что нашел вас в таком прекрасном состоянии! – воскликнул он. – Слышал, что прошлой зимой вы страдали от тяжелого ранения… – Сейчас я здоров, – прервал Герта граф. – Выкладывай мне новости. – И тут Эдмунд с изумлением заметил, что радостное выражение на лице оруженосца сменилось грустным. – Что случилось, Герт? Что тебя тревожит? – Я принес известия, милорд, – начал нерешительно оруженосец. – Не знаю, обрадуют они вас или огорчат. – Говори же! Я сам решу. – Это вручил мне сэр Робер из Сан-Северино. – Робер из Сан-Северино! – Сердце Эдмунда подскочило, словно конь, пронзенный стрелой. – Вот, милорд. – Герт покопался толстыми пальцами за пазухой туники и вытащил небольшой, в пятнах пота свиток пергамента, перевязанный голубой шелковой лентой. – Да, милорд. Сэр Робер командует вассалами из Сан-Северино вместо старшего брата, который, увы, совсем лишился разума. – И он собирается?… – вытягивал из Герта граф. – Нет, милорд. Сэр Робер клянется, что не таит зла против вас. И не таит его сэр Хью. – А старый граф Тюржи? – Он давно уже мертв. Внутренняя дрожь сотрясала Эдмунда, когда он напряженным голосом произнес: – А что слышно о леди Аликс? Герт опустил глаза. – Милорд, вы держите в своих руках ее послание. Оно написано монахом, нынешним капелланом Сан-Северино. Отбросив алый плащ, Эдмунд ринулся к канделябру и дрожащими пальцами разорвал скреплявшую свиток ленту. Пергамент мягко хрустнул, когда Эдмунд развернул свиток. Он был написан четкими, хоть и корявыми, черными латинскими буквами. Со смутными тревожными предчувствиями Эдмунд начал читать.
шо знаете, что к нашей помолвке не причастна ничья злая воля. Просто, – тихо промолвил он, – следуя рыцарской чести, я не могу нарушить клятву верности той, которая так чиста. – Идиот! Глупый франк! – Оскорбительные слова срывались с губ Сибиллы одно за другим. – Ты думаешь, что Сибилла Бриенниус смирится с тем, что ее бросают? Ради какой-то бледнолицей варварской мегеры, которая, несомненно, воняет чесноком и затхлым потом? И ты рискнешь оставить женщину из рода Палеологов на глазах у всего христианского мира? – злобно выкрикивала она. Глубокий вздох вырвался из груди Эдмунда. Румянец полыхал на лице. Но граф старался говорить спокойно и терпеливо: – Пожалуйста, вспомни: я рассказывал тебе о своей помолвке с леди Аликс. Позднее говорил, что глубоко уверен, будто она освободила меня от моей клятвы. – Может быть, так оно и было, – усмехнулся граф Лев. Из стоявшего сбоку на столике кувшина он налил два кубка вина. – Однако, племянник, вам нужно быть более разумным. Утром вы наверняка все поймете. Вы не можете бросить мою племянницу. Она всем сердцем и душой вас любит. Вы не посмеете обесчестить меня. Ведь я был вашим верным другом и благодетелем. – Я не могу жениться на вашей племяннице, – твердил Эдмунд срывающимся, тихим голосом. – Но тебе придется это сделать! – выпалила Сибилла, и губы ее скривились в вымученной гримасе. – Тебе не удастся унизить меня! Только попробуй! Долго не проживешь. – Погоди, племянница! Не будем нагнетать ненужный драматизм. – Граф Лев, человек очень гостеприимный, протянул Эдмунду полный кубок. – Сэр Эдмунд не настолько бестактен или недальновиден, чтобы оскорбить благородную леди. – Милорд граф, – стоял на своем Эдмунд, – я ценю вашу доброту и необыкновенную щедрость. И все же как христианский рыцарь я не нарушу своей клятвы Аликс де Берне. Не сдержав крика ярости, Сибилла выбежала из комнаты. Эдмунд хотел было последовать за ней, но пожилой византиец удержал его за плечо. – Оставьте ее! – миролюбиво сказал он. – Племянница оценит ваше постоянство, когда вы встретитесь перед алтарем. Эдмунд поднял руку в военном приветствии. – Прошу простить, что потревожил ваш сон, милорд граф. А сейчас я должен уйти… – Конечно. Идите с Богом, – улыбнулся граф Лев. – Завтра я буду осматривать ваш отряд. Но этого ему сделать не удалось. На восходе солнца отряд Серебряного Леопарда переправился через быстрые темные воды Босфора и наконец вступил в лагерь Боэмунда Тарантского.
Книга третья ИЕРУСАЛИМ
.Г л а в а 1 ИМЕНЕМ БОГА
Подобно бурному потоку войска крестоносцев устремились на юго-восток. Они вихрем проносились по степям, огибали высокие, покрытые соснами холмы. Чем дальше войска проникали в Малую Азию, тем труднее становился их путь. Приходилось пробиваться через такие густые девственные леса, что руководителям крестового похода нужно было высылать вперед отряды дровосеков, которые прорубали пути. Пришлось также сражаться с разрозненными группами пилигримов, священнослужителей, мародеров и грабителей, которые по ночам убивали слабых или больных, отставших воинов. Расстояние, которое предстояло пройти в течение дня, никогда не определялось. Каждый вассал, группа или отряд пробивались вслед за штандартом своего предводителя совершенно самостоятельно. Они выбирали путь на свой страх и риск и двигались, пока не находили место, удобное для разбивки лагеря. Более важные вассалы продвигались медленнее других. Их сдерживали запряженные волами повозки, нагруженные женщинами и скарбом. Повозки сопровождали священники, едущие верхом на мулах, и толпы босых слуг. В обязанности этих несчастных входило разбивать палатки, рубить лес, носить воду для своих господ и их лошадей. По воле смышленого в военном деле Ричарда из Принципата отряду было приказано двигаться впереди этой неорганизованной массы людей. Поэтому ему раньше других удалось приятным июньским вечером осадить лошадей на вершине высокого холма. Здесь легкий бриз заставил трепетать вымпел сэра Эдмунда и бело-голубые флажки на копьях отряда. Внизу в долине длинноволосые, полуобнаженные лесорубы валили деревья. Воины из отряда Эдмунда спешились, воткнув копья в каменистую почву, и занялись своими лошадьми. Они ослабили подпруги, поправили седла, осмотрели спины животных – нет ли потертостей. Герт пытался извлечь гальку, попавшую в подкову Громоносца. Безжалостное азиатское солнце катилось к горизонту. Становилось прохладнее, и воины Эдмунда вздыхали с облегчением. В течение дня жаркие лучи превращали шлемы в раскаленные котелки, а кольчуги в обжигающие угли ада. Жара лишила лошадей обычной резвости, и они понуро тащились вперед. Эдмунд расслабил кольчугу на шее, стащил с головы каску. Заметив кровоточащие ожоги на носах у сэра Арнульфо и сэра Этельма, он вновь оценил преимущества своей съемной носовой планки, скопированной с сарацинских шлемов. В целом отряд успешно осуществил двухдневный переход через горы, возвышавшиеся к юго-востоку от Хризополя. Правда, одна из лошадей захромала. Но ее всадник быстро пересел на одну из полудюжины запасных лошадей. И это было единственным происшествием за время всего перехода… Но вдруг Торауг, принявший христианство сержант-турок, тихо присвистнул. Вскинув темную руку, выделявшуюся на фоне мантии крестоносца, он указал на поросшую лесом вершину горы. На удаленном ее склоне плясали десятки белых бликов, солнечные лучи отражались от стальных клинков. В волнении Эдмунд смотрел на казавшуюся бесконечной колонну одетых в белое всадников, которая лавиной переваливала через вершину горы. Потом граф ощутил какое-то странное покалывание в кончиках пальцев. Такое он испытывал лишь во время своей первой схватки в качестве оруженосца на побережье Корнуолла… Вскоре передовые ряды белых всадников остановились. И довольно быстро на склоне горы их скопилось такое количество, что издали можно было их принять за большое снежное пятно. – Ха! – воскликнул Герт. – Вот, наконец, и эти собачьи выродки неверные! Это, вероятно, был разведывательный отряд,отделившийся от основной орды Красного Льва, правителя Никеи и многих других городов. – Это в самом деле турки, милорд, – подтвердил Торауг, – а не туркополы императора, как мне вначале показалось. Видите зеленое знамя? У наемников не может быть такого. Вероятно, до захода солнца мы увидим еще не один разведывательный отряд. Предсказание ренегата очень скоро сбылось. Все больше и больше турецких всадников появлялось на тропах, вьющихся по склонам желто-зеленых холмов. Однако двигались они достаточно далеко, так что невозможно было рассмотреть в деталях их облик и снаряжение. Бывший граф Аренделский окинул последним взглядом все вокруг себя, потом приказал Герту вывести стройную рыжую кобылу. На ней он ездил всегда, если ему не нужно было вступать в сражение. Только отправляясь в бой, он пересаживался на Громоносца. – Всем в седла, – приказал он Железной Руке, и тот громко прокричал приказ графа; участники отряда ухватились за поводья. По совету Торауга поводья были укреплены железными цепочками, так что острые турецкие сабли не могли уже перерубить кожаную сбрую и лишить всадника в разгар боя возможности управлять конем. В течение нескольких минут все воины взгромоздились в седла, схватили щиты и воткнутые в землю копья. Все это сопровождалось скрипом кожи и звоном металла, так как раскаленные солнцем доспехи жгли воинам спины, и те вынуждены были все время двигаться в седле и дергать плечами. Руки сэра Эдмунда крепко схватили хорошо промасленные кожаные поводья, сверкнули на солнце позолоченные шпоры, когда он вставил в стремя облаченную в латы ногу. Вскочив в седло, Эдмунд опустил древко копья, чтобы не задеть низко нависшие ветки деревьев, и повел своих воинов вниз, чтобы защитить дровосеков… Они оказались лотарингцами из войска Готфрида Бульонского и говорили на странном грубом языке, называемом немецким. Лесорубы без особого интереса разглядывали загорелых, одетых в белое всадников, в чем-то похожих, как им казалось, на странных животных, нарисованных белой краской на их щитах. На рассвете следующего дня появился авангард крестоносцев. Он спустился с горных перевалов и теперь двигался по ровной, травянистой долине. Большая же часть франков избрала проверенную временем дорогу вдоль большого озера с заросшими травой и камышом берегами. При любой возможности всадники направляли коней по брюхо в прохладную мутную воду, позволяя лошадям пить до отвала. А сами в это время, перегнувшись из седла, наполняли водой шлемы, чтобы утолить собственную жажду. Слуги и простые солдаты, так те просто падали в прохладную воду, плескались и поглощали ее вволю. Длинный и утомительный переход через горы остался позади. В полдень десятки тысяч крестоносцев стали покидать озеро, направляясь на восток к Никее. Подобно медленной, лениво текущей реке, их беспорядочные колонны двигались по равнине, раздваивались естественными преградами только для того, чтобы вновь слиться за ними. Отряд медленно продвигался по небольшой долинке между двумя холмами, когда сэр Этельм, ехавший немного впереди других, громко вскрикнул. Среди сорной травы и низкорослого кустарника он наткнулся на разбросанные человеческие кости, на которых сохранились еще какие-то лохмотья. Скорбные останки лежали кучами, как сугробы снега под деревьями в лесу. Грудами костей были отмечены места, где собирался сброд Вальтера Голяка, чтобы вступить в бой. То там, то здесь виднелись полузасыпанные песком распятия, которые подтверждали, что здесь погибла основная масса оставшихся без руководства последователей Петра Пустынника. – Не менее пяти тысяч человек погибло здесь, – подсчитывал сэр Гастон из Бона, вытирая пот со лба; похоже, он был прав, если судить по сломанным клинкам мечей, обрывкам кольчуг и большому количеству стрел и дротиков. – Видит Бог, эти мусульманские собаки тысячекратно заплатят за это, – заявил сэр Арнульфо, облизнув потрескавшиеся от жары губы. Медленно, с чувством ужаса и боли вступил в долину авангард армии крестоносцев. Пораженные картиной трагедии, воины проходили по Долине Смерти. Они намеревались стать лагерем дальше на равнине. По плану руководителей, лагерь представлял собой большой круг, в котором было оставлено место для армии графа Раймонда Тулузского. Его провансальцы прибыли в Константинополь всего за несколько дней до того, как началось вторжение франков в Малую Азию. Растекавшееся по равнине христианское войско начало готовить себе стоянку уже тогда, когда отряды арьергарда все еще спускались с гор. Разгружавшие вьючных животных слуги вбивали в землю колья, чтобы привязывать лошадей, натягивали веревки для господских палаток и шатров. Другие прислужники закалывали овец и коз, готовили вечернюю пищу. Эсквайров отправили за водой для женщин, инвалидов и священников. Зажглись тысячи костров. Густые клубы дыма поднялись в вечернее небо. Отряд Эдмунда вступил в лагерь с правого фланга. Обрадованные видом кипящих котлов, рогов, наполненных вином, и возможностью сбросить тяжелые шлемы и кольчуги, люди пришпоривали лошадей. По сигналу Эдмунда его всадники уже готовились натянуть поводья, когда к ним на полном скаку приблизился какой-то ратник. Он что-то кричал и указывал рукой через плечо. По отлогому, поросшему кустарником гребню горы неслась лавина одетых в белое всадников. Подвывая наподобие гончих собак, преследующих оленя, они потрясали над головами оружием. Быстро, однако недостаточно быстро, чтобы угодить и Эдмунду Монтгомери, и Уильяму Железная Рука, бойцы отряда стекались к бело-голубому знамени. В отчаянной спешке они натягивали рукавицы, брали на изготовку мечи и секиры. Шестеро рыцарей меняли коней, пересаживаясь на своих боевых скакунов, которые, чуя близкое сражение, ржали, прижимали уши и били копытами землю. Норманнцы, фламандцы, ломбардцы и лотарингцы поспешно облачались в кольчуги. Священники, высоко подняв кресты, запевали гимны, старались подбодрить воинов. Постепенно шум, производимый лавиной всадников, перерос в громовый конский топот, а затем сменился жуткой какофонией. Всевозможные бароны, графы и предводители самостоятельных отрядов выкрикивали военные кличи, пришпоривали лошадей с копьями наперевес. Полоска высокой сухой травы, разделявшая противоборствующие стороны, сокращалась в ширину с невероятной быстротой, а все новые и новые турецкие воины появлялись на гребне горы. Навстречу им, пригнувшись к гривам лошадей, со сверкавшими мечами и бьющимися на ветру вымпелами, неслись охваченные азартом боя крестоносцы. Сквозь развевающуюся гриву Громоносца Эдмунд разглядел группу темнолицых всадников в длинных халатах с широкими рукавами. Они неслись впереди основных турецких сил. Граф понял мгновенно, что у этих воинов нет копий, а только круглые щиты, мечи и луки со стрелами. – Алла! Иль-Алла! Алла иль-Алла! – завывали всадники в серебряных кольчугах и остроконечных шлемах, подвязанных полотняными тесемками, со штандартами, увенчанными пучками окрашенных в зеленый цвет конских волос и золотыми полумесяцами. – Святой Михаил за Монтгомери! – перекрывая топот копыт, прогремел глубокий голос Эдмунда. – Святой Михаил! – хором подхватили его соратники, выстраиваясь в клинообразную колонну с графом Аренделским во главе. Рыцари и сержанты скакали по обе стороны от Эдмунда. Ратники заняли свои места в глубине клина. Когда лицо турка с темной бородой появилось прямо перед Эдмундом, он направил копье с серо-голубым наконечником в грудь иноземному всаднику и напряг плечо в ожидании удара. На турке были легкие стальные латы, и крепкое франкское копье вошло в его грудь так же легко, как острый нож – в масло. Пронзенный копьем неверный был вырван из красного кожаного седла. Громоносец вынес Эдмунда в самую середину визжащей группы сельджуков. У его уха просвистела стрела, и граф услышал норманнский вопль, за которым последовал звук падения тела. Все больше турок стремились наброситься на Эдмунда. И тут он услышал клич сэра Гастона: «Бог и святой Дени!» Франко-норманн уже выхватил длинный меч и, возвышаясь над роящейся массой азиатов, наносил страшные удары направо и налево. От его клинка несколько турок лишилось рук или было разрублено до подбородка… Так же быстро, как примчались сюда, основные силы неверных отпрянули вверх по склону. Тяжело дыша, Эдмунд сдержал коня, когда стало ясно, что бесполезно пытаться догонять турецких коней. Не перегруженные тяжелыми всадниками ли весом их кольчуг низкорослые лошадки оказались столь же легки на ногу, как испуганные лени. – Труби сбор моим рогом! – приказал граф Герту. Герт поднес к губам полукруглый медный рог и протрубил сигнал сбора: три длинных звука, два коротких, затем еще один длинный. Подъехал сэр Рей-ар, стряхивая с булавы кровавую мешанину. – Хорошо провели сражение, милорд, – улыбнулся он, обнажив желтые, испорченные зубы. – Смешно говорить – сражение! – прохрипел сэр Этельм. – Это была лишь схватка. – Монтгомери! Собирайтесь под знамя! – прокричал Герт, побагровев от напряжения. Но сержанты и ратники были слишком заняты поисками добычи на окровавленных телах, устилавших весь склон. Спешившиеся воины отрубали головы павшим туркам, срывали браслеты, срезали с шей золотые серьги или же подбирали кривые сабли, шлемы и кинжалы, которые им нравились. – Протруби в мой рог еще раз! – потребовал Эдмунд, рассвирепев. – Клянусь Богом, двое из тех, то придут последними, получат хорошую порку! Один за другим подъезжали его соратники. Большинство из них, победно усмехаясь, несли на копьях окровавленные головы турок, не обращая никакого внимания на ручьи крови, которые по древкам текли им на руки. Все они вели за собой одну или нескольких захваченных лошадей, нагруженных добычей. – Сэр Уильям! Заметьте двух последних негодяев! Саксонец и норманн подъехали последними. Они восторженно делились впечатлениями и размахивали отрубленными турецкими головами, которые держали за бороды. – Гарольд! Рюрик! – В голосе Эдмунда прозвучало что-то такое, что заставило отставших разинуть рот и поспешно бросить свои трофеи. – Железная Рука, присмотри, чтобы эти непослушные собаки дважды получили по десять ударов ремнем, – приказал Эдмунд. – Клянусь Богом, впредь, когда мой рог затрубит сбор, вы прибежите бегом! Мудрый стратег император Маврикий писал в свое время, что слишком много сражений было проиграно потому, что воины кидались собирать добычу до того, как окончательно разобьют противника. А сейчас тучи вражеских всадников даже не скрылись вдали… Сэр Рейнар из Беневенто кивнул. – Наш отряд просуществует значительно дольше, если вы, милорд, наведете дисциплину. Заставьте их придерживаться этого мудрого правила. Мне самому следовало бы вернуться скорее, – добавил он. Итало-норманн бросил пару массивных золотых браслетов с рубинами в сумку своего предводителя. Эдмунд принял их без колебаний. Все это могло пригодиться при закупке продуктов. Пешие солдаты де Бульона, отставшие от кавалерии, с криками появились, наконец, на поле боя и принялись сгребать тела поверженных врагов в большие кучи, тогда как высоко в небе уже появились стаи тяжелокрылых стервятников.Глава 2 ИМПЕРСКИЙ ШТАБ
В этой схватке погиб один сержант-викинг. Стрела сельджука пронзила ему левый глаз. Бедный парень умирал на протяжении целой ночи. Он в беспамятстве бормотал непонятные скандинавские слова и отхаркивал большое количество крови. В числе других потерь оказалась пара пораженных стрелами боевых коней. Они жалобно ржали, когда сэр Гастон из Бона вырезал стрелы из их крупов. Однако этот франко-норманн, самый знающий коневод, утверждал, что через несколько дней лошади снова будут готовы для сражений. В тот вечер турки снова атаковали лагерь крестоносцев, но на этот раз они начали наступление на сектор, который удерживали флегматичные рейнландцы герцога Готфрида. Франки вскочили на своих коней, не успев как следует вооружиться. Однако они так хорошо работали шпорами и мечами, что зеленое знамя ислама вновь откатилось за холмы. Эти стычки были настоящими сражениями, навязанными турецкой армией, пытавшейся помочь гарнизону Красного Льва в Никее. В ту ночь в лагере христиан, который уже объединил силы двухсот тысяч человек, повсюду распевали победные гимны. Сэр Эдмунд присутствовал на совете в шатре графа Танкреда. Здесь он узнал, что последняя турецкая колонна, увидев, что путь в Никею ей прегражден, отступила, потеряв сотни мертвых и много пленных бойцов. На следующий день поток франков устремился дальше по волнообразным желто-зеленым холмам, следуя берегом большого, заросшего осокой озера. На его поверхности качались многочисленные парусные лодки. Несомненно, большинство принадлежало туркам, и лишь на некоторых можно было различить византийские флаги и кресты. Блестящий штабной офицер Византии объявил на совете, что Алексей Комнин решил лично принять участие в операциях и создал имперский штаб в городе Кивитот. Вокруг него располагался в большом порядке лагерь византийских частей с императорской гвардией в центре. Следуя примеру своего императора, его знать и военачальники отказались от роскоши, но не от интриг. Боэмунд был с Алексеем. Очевидно подкупленный его золотом и лестью, рычал Танкред, потрясая соломенными волосами, свободно ниспадавшими ему на плечи. Наутро волны франкских воинов стали подкатываться к высоким стенам Никеи. Этот город, как вскоре узнали осаждавшие, был защищен двойным рядом стен. Двести сорок шесть различной высоты башен города-крепости находились друг от друга на расстоянии всего лишь полета стрелы. Турецкие защитники сделали вылазку, но были полностью разбиты тучами распевавших псалмы фанатиков. Но как только ворота Никеи захлопнулись, западное воинство уже ничего не могло поделать. Оно не располагало осадными машинами. Такие машины, оснащенные всевозможными военными приспособлениями, были только у Алексея. Трижды крестоносцы приступали к осаде крепости, но безуспешно. Их осадные лестницы были переломаны, а бойцы ослеплены или сожжены потоками горящей смолы или серы. Тогда герцог Готфрид Бульонский, номинальный предводитель сил крестоносцев, созвал военный совет. На нем было решено одолжить у византийского императора не только осадные машины, но и хорошо подготовленного знатока, умеющего с ними управляться. Граф Танкред пристально посмотрел в загорелое лицо сэра Эдмунда де Монтгомери. – Вы проявили немалые способности на поле боя, милорд, – сказал он. – И потому решено отправить вас с отрядом в лагерь императора. Вы передадите нашу просьбу. Будьте готовы выступить через час. У Эдмунда упало сердце. Для него вступить в императорский лагерь было равносильно тому, чтобы сунуть голову в пасть льва. Ведь там находился граф Лев, командуя одной из частей мусульманских наемников. И, конечно, он все еще испытывал унижение и ярость из-за черной, как ему казалось, неблагодарности англо-норманна. – Я выбрал вас еще по двум причинам, – продолжал Танкред. – Как мне известно, вы можете говорить и писать не только по-латыни, но также и на греческом языке. Мне бы хотелось, чтобы в лагере императора вы воспользовались еще и своими ушами. Третья причина состоит в том, что ваш отряд хорошо управляем. Поэтому вы должны пробиться через бродячие части турецкой кавалерии. И, что еще важнее, через скопища проклятых христианских мародеров, которые следуют за ними по пятам. Эдмунду ничего не оставалось, как только кивнуть. Ричард из Принципата поднял перевязанную руку. – Прежде чем отправиться, сэр Эдмунд, вам придется выучить на память наше послание, чтобы передать его герцогу Боэмунду. Скажите ему: мы настаиваем, чтобы он прекратил постыдную болтовню с византийским императором и немедленно занял принадлежащее ему по праву место во главе своих законных вассалов. – И еще, – загрохотал епископ Ариано, сжимая рукоятку боевой булавы, – мы больше не станем следовать за его красным знаменем. Мы встанем под желтое знамя лорда Танкреда. Созерцать реакцию Боэмунда Могучего на такой ультиматум – занятие малоприятное, подумал Эдмунд, когда во главе отряда двинулся в путь. Проследить путь наступления франкского войска на восток было не трудно. Даже слепец заметил бы страшные следы разрушений, которые оно оставляло за собой в долинах, в горах и у подножия холмов. Лишь голые пни да жалкие обрубки древесных стволов торчали по пути их следования. Где прошли тысячи лошадей, быков, овец и коз, не осталось ни кустика, ни жалкого пучка травы. Отряд Серебряного Леопарда выступил из лагеря сберегающей энергию рысцой и ехал, минуя разбросанные повсюду биваки странствующих и совершенно незнакомых сил крестоносцев. Нередко им встречались разрозненные отряды запыленных, голодных ратников с испуганными глазами. По разным причинам они не смогли держаться вместе с основным войском и поэтому постоянно подвергались опасности быть уничтоженными быстрыми на удар сельджуками. Чаще всего такие группы изможденных людей понуро брели, волоча по земле заржавевшие алебарды, пики и секиры, которые они притащили с собой из центра Европы… По пути следования отряда Эдмунда земля была усеяна обглоданными костями животных, убитых и съеденных христианами. Нередко высокие всадники в грязных плащах проезжали мимо раздетых донага смердящих трупов, покрытых тучами мух. Жалобные мольбы о помощи и о куске хлеба подчас раздавались из уцелевших остатков кустарника. Но отряд не обращал на них никакого внимания. Таких было слишком много. Поэтому закованные в сталь всадники, пришпоривая коней, продолжали свой путь. Герт, обрадованный, что наконец находится среди собратьев-саксонцев, внимательно рассматривал отбросы, оставленные проходившим войском. – Клянусь святым Олафом! – смеялся он. – Нам просто повезло, что мы следуем за лордом, который умеет смотреть дальше острия своего копья! – Это правда, – оскалился светло-русый гигант, – но все равно, пусть его Дьявол заберет. Чего ради было полосовать мне спину только за то, что я доставил себе маленькое удовольствие. Герт усмехнулся и указал на побрякивающий мешок у пояса парня: – Разве не стоит нескольких ударов ремнем превосходное содержимое твоего мешка, все эти броши, кольца, ожерелья? – Мне приходилось страдать побольше и за меньшее, – сказал саксонец. – А ты? Тоже поживился? – Вот и нет. Мне пришлось трубить в этот проклятый рог и присматривать за лошадьми милорда. Оруженосец опустил глаза и ничего не сказал о котомке, прикрепленной к его поясу. Там лежало ожерелье из странных зеленых искристых камней. И латный воротник, на котором, как снежинки, блистали жемчужинки. Внимание оруженосца переключилось на сэра Эдмунда, который скакал впереди отряда рядом с Железной Рукой и сэром Этельмом. Проехав минут двадцать рысью и примерно сорок шагом, участники отряда спешились. По настоянию сэра Гастона, ветерана-коневода, всадники освободили подпруги, а потом с четверть часа вели своих животных по пыльной, каменистой дороге. Череда покинутых лагерей, которые они проезжали, как будто была бесконечной. Грифы уже очистили от мяса кости палых лошадей и скота. То тут, то там грубо связанные кресты отмечали места, где покоилось очередное незадачливое существо. Преодолев нескончаемый путь откуда-нибудь из Дании, чей-то сын или муж лежал здесь в ожидании трубы архангела Гавриила. Нередко в придорожных кустах на склонах холмов можно было заметить легкое движение, а иногда – и тень человека, тут же снова исчезающую среди пыльных валунов. Эти едва различимые тени принадлежали не мусульманам, а несомненно франкам. Как заметил Рюрик, сержант из норвежцев, это были, вероятно, сторонники влиятельного и не лишенного чувства юмора отщепенца, известного как «король» Тафур. Орды его последователей включали убийц, плакальщиков, актеров, фокусников, карманников, жонглеров и проституток выползших из сточных канав Парижа, Лиона и других французских городов. Эти подонки следовали за Петром Пустынником в его катастрофическом и неоконченном крестовом походе, но не были настолько ему преданы, чтобы разделить участь погибших. Норвежец высморкался при помощи пальцев. – Горе тому честному пилигриму без друзей и оружия, который повстречается с этими подонками. Они легки на расправу. Ехавший в начале маленькой колонны сэр Арнульфо из Бриндизи высвободил сведенную судорогой ногу из стремени. – Чума забери этого графа Танкреда. Отослал нас приказом с места сражения. От этого нам будет мало чести и никакой добычи. – Полное безобразие, – мрачно согласился с ним Железная Рука. – Я только начал работать мечом в последней схватке, а она уже кончилась. – Эти турки, – заметил он, когда каменистая дорога перед ним сделала поворот, – оказались прекрасно вооруженными и более богато одетыми, чем те, которых мы встречали в сражениях под знаменами сьёра де Морона еще в восемьдесят пятом году. Эти дети Сатаны гораздо крупнее тех и не такие уродливые. Почему это? – Нос норманна, когда-то давно срезанный жестоким ударом, нервно подергивался. – Всевышний Бог! Достаточно повидать турка, только что прибывшего из Азии. Он страшен как смертный грех. И, поскольку никогда не моется, вонь от него распространяется на пол-лиги… Молодой сэр Рейнар из Беневенто ехал молча. Его долговязое тело мерно раскачивалось в такт шагам коня. – Мне любопытно посмотреть на лагерь императора, – задумчиво сказал он. – Клянусь верой! Говорят, что это настоящий город. Мне не довелось сражаться против греков. И я не понимаю их стратегию. – Если они решают дать сражение, то превосходно с этим справляются. Они прекрасные солдаты, – сообщил сэр Арнульфо из Бриндизи; тощий, как выпь, итало-норманн отличался большим клювообразным носом, который еще больше подчеркивал сходство с птицей. На поле боя его взгляд никогда не останавливался на одной точке, а перебегал из стороны в сторону. – Но у этих византийцев полностью отсутствует любовь к риску. Как люди восточные, они не понимают законов рыцарской чести. Им представляется, как объяснял наш лорд Эдмунд, что нельзя снискать славу, сразив в одной схватке дюжину человек. Они не ценят искусства удара хорошо закаленного меча по шлему. Или одного взмаха булавы, достаточного, чтобы выбить всадника из седла. – Но тогда, сэр рыцарь, им, должно быть, недостает силы духа… – Достает или нет, но они веками били болгар, турок, словен, печенегов – даже нас, франков. Как в Кастории. Во второй половине дня отряд достиг того места, где еще не проходили крестоносцы: деревья росли по обеим сторонам дороги, кругом цвели цветы, журчали чистые ручейки и пели птицы. Запах конского навоза и нечистот не отравлял воздух. Отряд двигался у основания крутого холма, мимо озера, плескавшегося справа. Внезапно в лесу протрубил рог. Почти мгновенно воины отряда Эдмунда собрались вместе и образовали такой же широкий клин, который они использовали в первой схватке. Бело-голубые флажки повисли на опущенных копьях. Воины придерживали коней, пропуская вьючных животных под прикрытие ощетинившейся сталью колонны. Затем отряд возобновил свое продвижение, пока из леса не появились тяжело вооруженные конники императора. С их копий свисали желто-зеленые вымпелы. Такого же цвета были и их плащи и кольца на тяжелых круглых щитах. У всех всадников на головах были стальные ермолки, увенчанные короткими перьями тоже зеленого и желтого цвета. Стальные кольчуги всадников доходили до бедер, стальными были и поножи. Византийские лошади крупнее, чем турецкие, но мельче боевых коней франков. Грудь и лоб каждой лошади защищали железные пластины. Эдмунд видел, как эти всадники вскачь пересекали поле. В дополнение к кавалерийским лукам и дротикам они были вооружены широкими мечами и кинжалами. Вскоре стало ясно, что эти всадники не питают враждебных намерений. Остановившись на некотором расстоянии от отряда Эдмунда, они привстали на стременах и дружественно помахали копьями. Наконец вперед выдвинулся офицер в сером плаще поверх серебристых лат. На греческом языке он прокричал, что хочет поговорить с вожаком франков. Эдмунд поднял копье, опустил щит и выехал вперед, сожалея, что его плащ и алый крест сильно потускнели от пыли и пота. Командующий византийцами, нервный молодой человек с оливковой кожей и четким, как на камее, профилем, выкинул перед собой руку в древнем римском приветствии. Узнав, что рыжеволосый франк везет послание для самого императора, молодой офицер немедленно отрядил двух всадников и приказал им предупредить другие передовые посты по пути следования отряда Эдмунда. – Его святейшее величество, – пояснил он, – особенно заинтересован, чтобы не было никаких столкновений между братьями-христианами. …Отряд Серебряного Леопарда миновал заслоны лагеря византийской армии в те вечерние часы, когда багрово-красная пыль уже начала оседать над озером, а на ближайшие холмы упали голубые тени. Эдмунд и его рыцари уже легко различали состав имперского войска. Там были тяжело вооруженные пехотинцы в гребенчатых шлемах и коротких кольчугах, имевшие длинные щиты. Главным оружием этих мускулистых солдат были секиры с длинными древками, широким полукруглым лезвием с одной стороны и острием – с другой. Внутренняя охрана имела по два или по три метательных копья, легкие секиры и круглые щиты, закинутые за плечи. Однако изумление, если не зависть, у франков вызвал сам лагерь. Там не было мусора, беспорядочно разбросанных палаток и кольев для лошадей. По существу, лагерь воспроизводил каструм – укрепленный лагерь древнеримских легионеров. Судя по рисункам, которые Эдмунд видел в рукописи императора Маврикия, такое укрепление обносилось рвом и оградой со сторожевыми башнями по углам. Все палатки были определенных размеров, в них хорошо проникал свет. Коновязи устанавливались вдоль проходов в каждой части. Палатка командира находилась впереди, охраняемая неподвижно застывшими часовыми. Каждое подразделение имело свои особые по звуку трубы и своих трубачей, которые особыми сигналами передавали задания на вечер. Простые солдаты не устраивали ссор и драк вокруг котлов с остывшим и вонючим тушеным мясом, а выстраивались в очередь с деревянными плошками, чтобы получить хлеб и мясо, приготовленное поварами, которые занимались только этим делом. Отряд графа Эдмунда был встречен у ворот славонским офицером охраны. Он приветствовал прибывших и согласился проводить франков к месту, отведенному для посетителей. Там уже были сложены поленницы дров, лежала куча фуража и были вбиты колья для коновязи. Как только отряд спешился и занялся заботами о лошадях, Эдмунд подозвал Железную Руку и, зная о нерушимых порядках находящихся в походе византийцев, запросил немедленной аудиенции у Алексея. Перед шатром императора развевалась священная хоругвь. Но это была не та хоругвь, которую, по преданию, Константин Великий получил из рук архангела, – она была, к несчастью, утеряна за двадцать семь лет до этого в результате сокрушительного поражения Романа Диогена при Манзикерте. Копия священного знамени выглядела, однако, весьма внушительно с орнаментом из чистого золота и драгоценных камней. В самом центре хоругви выложен был крест из рубинов. Неподвижно, как статуи, застыли на страже у знамени гиганты-варяги. Их увенчанные крыльями шлемы тускло поблескивали в сумерках. Стоявшие плечо к плечу гвардейцы со всех сторон окружали шатер. Даже кошка не прошмыгнула бы мимо них. Перед входом в шатер Железная Рука сжал локоть Эдмунда. – Смотрите! – прошипел он. – Видите вон там? В сумерках проступали странные мощные контуры, которых англо-норманн никогда раньше не видел. Под усиленной охраной там стояли осадные машины, которые нужно было бы доставить к стенам Никеи, чтобы проникнуть за них. Толстые, мягкие, как пуховая постель, ковры покрывали имперскую приемную. В ней толпились высокопоставленные офицеры в боевых доспехах. И эти доспехи не были похожи на украшенное золотом и серебром личное снаряжение, в котором они были в Священном дворце в Константинополе. Не было на их лицах и следов румян и помады, которыми пользовался любой византиец. Едва Эдмунд успел снять каску и пробежать пальцами по своим сбившимся и потным волосам, как его попросили пройти во внутреннее помещение. Через минуту бывший граф и сэр Уильям остановились перед длинным столом, освещенным десятками тонких свечей, горевших в золотых канделябрах. За столом сидел Алексей Комнин в пурпурном с золотом плаще, надетом поверх лат из позолоченной стали. Он был без головного убора, браслетов или нашейных цепей. Лишь несколько перстней сверкали на широких волосатых руках. По одну сторону от императора стоял Мануэль Бутумит, по другую – граф Лев Бардас, чьи классические черты застыли словно маска.Глава 3 ЧАСТНЫЙ РАЗГОВОР
Алексей Комнин, император византийцев, сейчас мало напоминал Эдмунду того коренастого, увешанного драгоценными камнями человека, которого граф видел на троне цезарей. Сегодня на его широком, крестьянском лице не было следов косметики, а солнце и ветер вернули его щекам здоровый красновато-бронзовый оттенок. Должно быть, такой цвет лица и был у него, когда он устраивал заговор с целью захватить трон. Здесь голос Алексея звучал бодро и громко, без искусных музыкальных модуляций. Император предвидел, как доверительно заявил он прибывшему англо-норманну, что графу Танкреду потребуются осадные машины. Он был бы счастлив помочь христианам, столь доблестным в войне с неверными. Да. Он слышал о сокрушительном отпоре турецкой кавалерии. Завтра Татиций начнет переправлять огромные машины через озеро, чтобы баллисты начали как можно скорее метать в стены осажденной крепости окованные железом бревна, а катапульты – огромные камни. Эдмунд слушал императора в почтительном молчании. В то же время он ощущал на себе пытливый взгляд графа Льва. С тяжелым чувством граф задавался вопросом, какие мысли гнездятся в голове седого ветерана теперь, когда отряд Серебряного Леопарда находится в полной от него зависимости. Ведь он сделал возможным само его создание. Эдмунд пытался представить себе, какие мстительные требования выкрикивала Сибилла своему дядюшке, прежде чем он покинул уютную виллу над Золотым Рогом. Византийский патриций, однако, оставался бесстрастным. И только время от времени давал советы относительно передвижения осадных машин. – Пожалуйста, сообщите вашему доблестному лорду, – сказал Алексей Комнин, – что моя армия нападет на Никею со стороны моря. Это произойдет после того, как наши суда, которые мы перетаскиваем волоком, перекроют пути снабжения неверных по морю. С какой легкостью этот прославленный человек упомянул о перемещении волоком больших судов Бог весть на какое расстояние! Император протянул руку. Как и подобало тому, кто присягнул на верность герцогу Боэмунду, Эдмунд опустился на колени и поцеловал огромный рубин, горевший на среднем пальце Алексея. Граф Лев ни словом, ни намеком не обмолвился о прежних близких отношениях с Эдмундом де Монтгомери. Его лицо не дрогнуло даже тогда, когда тот вышел из шатра в запыленном плаще, цеплявшемся за позолоченные шпоры. От гонца Эдмунд узнал, что герцог Боэмунд Тарантский занимает желтый шатер справа от шатра императора. Поэтому вместе с Железной Рукой он направился туда. К его радости, вскоре он заметил одноглазого ветерана, сэра Тустэна де Дивэ, который бросился вперед, желая обнять его своими жилистыми руками. – А, милорд! Милорд! Как приятно снова пожать вашу руку! – сыпал он скороговоркой. – Много важных событий произошло с тех пор, как мы столь неудачно расстались в таверне «Золотой лебедь». При первой же возможности ветеран отвел Эдмунда в сторону. Он описал в малейших деталях переход Боэмунда через Фракию и отчаянные стычки с наемниками императора из числа варваров. – Знаешь, старый друг, я уже слышал об этом, – прервал его Эдмунд. – Скажи-ка мне лучше… Сэр Тустэн заколебался. Его единственный глаз пытливо уставился на Эдмунда. – Вам известны последние новости из Сан-Северино? Волна радости захлестнула Эдмунда. – Нет, ничего нового, с тех пор как Герт Ордуэй присоединился ко мне. А есть… есть ли весточки от леди Аликс? – Ничего существенного. Я знаю, что она чувствует себя хорошо, – успокоил Эдмунда сэр Тустэн. – И всем, чем может, помогает собрать второй отряд вассалов. Если все пойдет хорошо, он должен отплыть на подкрепление герцогу Боэмунду где-то следующей зимой. Или, в крайнем случае, весной. Эдмунд испытующе посмотрел на своего старого друга. – А почему же мой господин герцог мешкает здесь? – прищурившись, спросил он. – Мешкает в то время, как рыцари креста ежедневно бьют неверных и тем обретают вечную славу! Сэр Тустэн наклонился, сделав вид, что поправляет цепочку на шпоре. – Не обольщайтесь. Если император Алексей хитер, то наш герцог из Таранто ему под стать. Боэмунд слишком хорошо понимает, что Никея лишь промежуточная остановка на пути к Святой Земле. – Одноглазый рыцарь понизил голос до шепота: – Вам следует знать, что падение Никеи никогда не будет допущено. Яростные усилия Готфрида, Танкреда и Раймонда Тулузского не увенчаются успехом. – Что? – в изумлении воскликнул Эдмунд. – Как вы можете думать, что турки в Никее выдержат натиск самых могучих властителей христианского мира? Иронический смешок сорвался с уст ветерана: – Разве я сказал, что этот город устоит под натиском христианской армии? – А что же вы имели в виду? – изумился Эдмунд, пытаясь найти другое значение сказанному. – Увидите, милорд граф. Увидите сами… если проживете достаточно долго. – Если?… – Вы были неразумны и оскорбили гордость византийцев. Рано или поздно вам придется заплатить за это дому Бардасов. Я слишком хорошо знаю коварство византийских хитрецов. Войдя в шатер, Эдмунд застал Боэмунда развалившимся в простом кресле черного дерева. В этот момент сын Робера Гюискара был без стальных доспехов, если не считать кольчужной рубашки, без которой не мог появляться ни один человек в здравом уме. Стиснув руками кубок из позолоченного серебра, он несколько мгновений рассматривал своего молодого вассала. – Объясни мне, во имя Господа нашего Иисуса, – спросил он наконец, – почему ты осмелился нанести такое оскорбление не только графу Льву и моей бывшей… подруге Сибилле, но и самому императору. Всей аристократии Византии! – Милорд герцог, боюсь, что я никогда не смогу дать таких объяснений, чтобы вы меня поняли… – Говори. Ты должен мне рассказать после всего, что я пережил по твоей вине. Изящный образ прекрасной Аликс витал перед глазами Эдмунда, когда он описывал историю ее пребывания в монастыре и всего того, что произошло в Сан-Северино. Боэмунд слушал, запустив пальцы в свою короткую рыжую бороду. Затем заорал: – Ты большой дурак! Но еще не поздно забыть эту девушку. Нередко нам приходится забывать такие неудачные и невыгодные привязанности, – уже спокойнее продолжал он. – Я это делал довольно часто. Например, такая участь постигла Сибиллу. Я устроился лучше, женившись вместо нее на дочери французского короля… Правда, на незаконном ребенке, но зато на богато обеспеченном. Ну и довольно привлекательном. Послушай-ка меня! Наверняка Сибилла Корфу, ее семья и их связи скорее помогут тебе получить принципат, о котором ты мечтаешь, чем эта… деревенская шлюха из Сан-Северино… Англо-норманн весь напрягся. – Милорд, я люблю Аликс всем своим существом… только ее, и никого больше. Герцог сощурил свои и без того маленькие темно-голубые глазки. – Но ведь я могу и приказать тебе жениться на графине! – По чести я откажусь от этого, милорд, – твердо заявил Эдмунд. – Когда я вложил свои руки в ваши ладони, то поклялся в верности… Но вверил вам только руки и разум, но не сердце. Боэмунд, крякнув, поднялся. – Да, это так, – произнес он. – И все же… все же хотелось бы, чтобы ты был более дальновидным. Развеяв атмосферу недоверия, которая возникла между греками и франками, ты заслужил бы мою вечную благодарность. – Хотел бы, милорд, последовать вашему совету, – на небритых щеках Эдмунда обозначились желваки, – но, говоря честно, мне не подходит ваше предложение. Между тем сэр Тустэн внимательно прислушивался к их разговору, и его единственный серый глаз перебегал с одного говорившего на другого. В это время в шатер вошел какой-то эсквайр. Опустившись на одно колено и склонив голову, он подождал разрешения заговорить. – Милорд, офицер из числа византийских соратников графа Льва ждет снаружи вашего ответа. Граф Лев Бардас просит вас сегодня вечером откушать с ним. Он особенно настаивает, чтобы доблестный рыцарь, сэр Эдмунд, также оказал ему честь прибыть к столу. К удивлению посланца, Боэмунд разразился хриплым смехом: – Видит Бог, я принимаю это приглашение… как и мой рыжеволосый вассал. Пожалуйста, сообщите графу Льву, что мы прибудем к нему через час… Сэр Эдмунд лишился дара речи. О Боже! Что происходит? Зачем его насильно тянут в общество старого патриция, который всегда был так добр к нему? Сможет ли граф Лев Бардас понять, что не отсутствие благодарности было причиной его отказа от свадьбы? Однако Эдмунду не оставалось ничего иного, как подчиниться приказу Боэмунда. Бывший граф Аренделский, разумеется, понял, что должен быть крайне осторожным в отношении еды и питья. Он станет брать пищу только с блюда, которое предлагается каждому, и выбирать кусочки с его дальнего края. Герту он поручит наполнять его чашу только из общего кувшина. Обдумывая все это, Эдмунд непроизвольно передернул плечами, стальная рубашка громко звякнула. Боэмунд испытующе посмотрел на своего вассала. Затем схватил пригоршню грецких орехов и начал раскалывать их, зажав в мощном кулаке, покрытом жесткими рыжими волосами. – Поскольку ты твердо решил сдержать слово, данное Аликс из Сан-Северино, тебе следует узнать следующее. Завтра сэр Тустэн возвращается туда. Он примет командование вторым отрядом, создаваемым в этом графстве. И теперь я разрешу ему отправиться галерой и отвезти письмо избранной тобой леди. – Благодарю вас, сир! – в волнении воскликнул молодой граф. – Я никогда не забуду вашу доброту. Эдмунд теперь понял, почему многие крутые и доблестные бароны так ценили герцога Тарантского. Молодой граф кинулся к выходу и исчез. – Галантный идиот, который ничего не видит дальше своего носа! – сказал Боэмунд Тустэну де Дивэ. – Но все равно, сэр рыцарь, вы отвезете его послание маленькой хорошенькой дурочке в Сан-Северино. Пришлите моего писца. Сэр Тустэн исчез. Вскоре появился монах с тонзурой и принес роговую чернильницу, гусиное перо и лист пергамента. – Моему достойному племяннику, графу Танкреду из Апулии, – громко произнес огромный человек, сидевший за столом советов. – Пиши, что осадные машины императора под командованием примицерия Татиция прибудут в Никею в течение двух дней. Сообщи также, что я, высоко оценивая отвагу сэра Эдмунда де Монтгомери, хотел бы, чтобы ему была предоставлена постоянная возможность, – Боэмунд голосом подчеркнул эти слова, – показывать свою доблесть в сражениях с неверными. И чем чаще этой возможностью он воспользуется, тем большую заслужит честь. Напиши также, – продолжал Боэмунд, – что у меня есть веские основания пока оставаться при императоре. И что я соединюсь с нашей армией недели через две. – Голос его обрел жесткость. – Горе тому, кто даже в мыслях откажет в верности мне и моему делу. Несмотря на страшную усталость от недосыпания, Эдмунд одолжил письменные принадлежности и неуклюжими латинскими буквами написал Аликс короткое послание, подтверждая свое постоянство. Ему выпала честь, уверял он, оставаться, невзирая на невзгоды, защитником леди Аликс. Ее образ всегда с ним, он укрепляет его руку и придает ему силы в борьбе против неверных. Кампания началась успешно, и потому Иерусалим будет взят в течение нескольких недель. Он остается ее преданным нареченным. Сэр Эдмунд обвязал свиток алой лентой и сам передал его в руки сэра Тустэна. Впервые этот достойный человек с негодованием говорил о том, что его нарочно отсылают в Италию подальше от возможности обрести воинскую славу и почет. Только щедрые подарки из сокровищницы Алексея Комнина немного утешили гнев ветерана. Затем Эдмунд проследовал за герцогом Боэмундом в шатер графа Льва, увидел, что убранство его на удивление скромное. Рядом с графом Львом Эдмунд увидел Сибиллу. Графиня Корфу выглядела еще более прекрасной, чем когда-либо, в платье из белого и зеленого шелков, туго затянутом под грудью и свободно ниспадавшем вниз. Ко все возраставшему изумлению Эдмунда, граф Лев Бардас выступил вперед и протянул к нему для приветствия обе руки. Будто между ними не произошло никакого недоразумения, патриций любезно осведомился о состоянии отряда Серебряного Леопарда и о его последних действиях. Не менее тактичным, естественным и привлекательным было и поведение Сибиллы. Только глаза ее буквально впивались в обветренное лицо Эдмунда, которое она так хорошо знала… От герцога и окружавшей его группы франков сильно пахло лошадьми, потом и чесноком. Все эти запахи смешивались с легким дымком от горящего сандалового дерева, наполнявшим жилище византийца. Вполне естественно, будто они разговаривали во дворце Деспоины, Сибилла стала расспрашивать о бароне Дрого и его молодой жене. Казалось, она была искренне расстроена, когда Эдмунд сказал, что ни разу не встречал своего темноволосого зятя. Герцог Боэмунд, само собой, занял почетное место справа от внушительного византийца. Сибилла, выполнявшая роль хозяйки, усадила бывшего графа Аренделского рядом с собой. Немного успокоившись, Эдмунд все же не забывал о своих подозрениях. Он пристально присматривался к подаваемым яствам и убедился, что только Герт с отяжелевшими от усталости веками наполнял вином его роговую чашу. «Простая закуска» графа Льва состояла из нескольких блюд. Командующие имперскими силами неплохо питались в поле; это можно было объяснить тем,что столица находилась от них всего лишь в двух коротких переходах. Вино подносили все снова и снова. Железная Рука поглощал его в несметном количестве, но это не сказывалось на нем. Сэр Гастон становился все более шумливым, а сэр Этельм еще глубже погрузился в свою обычную мрачную меланхолию. С присущим ей искусством, употребив все свое очарование, Сибилла занимала гостей, вела беседу, рассказывала анекдоты о переходах крестоносцев и их схватках под Никеей. Наконец разгоряченные вином франки начали вытаскивать захваченные браслеты, серьги и броши, равно как и украшенные каменьями кинжалы и пояса для мечей. Герт без перебоев наполнял чашу Эдмунда. Поэтому граф вскоре, к собственному удивлению, обнаружил, что распространяется на тему дисциплины в своем отряде, рассказывает, как наказал тех, кто запоздал откликнуться на его приказ. Вопреки разуму, он стал получать удовольствие от запаха духов Сибиллы. Ему вспомнились многие прекрасные вечера в Константинополе… Голубая туника графа Льва засверкала при свете канделябров, когда, повернувшись, он обратился к Эдмунду: – Какие из предписаний императора Маврикия вы осуществили, сэр? – Милорд граф, – с готовностью ответил граф Аренделский, – с самого начала похода я использовал многие его, а также и ваши советы. Пожилой патриций спросил еще что-то. Но его голос потонул в раскатах смеха Боэмунда. Франки все больше пьянели. Длинные переходы, схватки, поспешный поход обратно вокруг озера оказали свое воздействие даже на этих закаленных воинов. Мало-помалу Эдмунд перестал слышать что бы то ни было, кроме голоса графини Корфу. По иронии судьбы она и ее бывший любовник вынуждены были некоторое время жить в одном лагере! Очевидно, теперь между ними установились достаточно прохладные отношения, думал Эдмунд. Он сравнивал свои впечатления от этой пары в шатре возле Читта Потенца с нынешними. Сегодня Сибилла с Боэмундом обменивались не пылкими взглядами, но лишь несколькими формальными фразами, которых требовала простая вежливость. Лорд из Таранто даже не удостоил свою бывшую любовницу улыбкой. Эдмунд все чаще задавался вопросом, когда же кончится эта трапеза. И вдруг заметил, что Сибилла протягивает ему свой кубок. – Тост за продолжение твоих успехов, любовь моя, – тихо произнесла она. «Моя любовь»? Разум Эдмунда воспротивился этому обращению. «Я больше не ее любовь, так же как и она не моя», – твердил он про себя, тогда как его неодолимо клонило в сон. Скоро лишь отдельные слова доходили до его сознания. Он полностью расслабился и был вполне доволен жизнью. В конце концов Сибилла, очевидно, больше не сердилась. Аликс де Берне в один прекрасный день будет принадлежать ему. И Эдмунд окончательно погрузился в сон. Вдруг он почувствовал легкое прикосновение к своему плечу. И только прекрасная выучка в качестве пажа, а потом и оруженосца позволила ему мгновенно вскочить с кинжалом в руке. Тотчас до его слуха донесся изумленный вздох. Эдмунд осмотрелся вокруг. Тусклые блики единственной лампы освещали незнакомую обстановку. – Тише! Ради Бога, тише! Опустившись на постель и с трудом сосредоточившись, граф увидел склонившуюся к нему Сибиллу. Она была в белом платье, настолько прозрачном, что казалась окутанной легким туманом, подымавшимся с лесного озера. Он выпустил кинжал и снова повалился на постель с ощущением легкого головокружения и полузадохнувшись от вихря надушенных занавесок. – Мой дорогой, возлюбленный моей души и тела, – нежно лепетала Сибилла. – Я знала, что ты должен вернуться. Говорила она по-гречески. Затем улеглась рядом с ним, разгоряченное тело ее трепетало, а волосы обволакивали его мягкой, сводящей с ума паутиной. – Мне думалось, что римляне жестоки от природы. Но вы, франки, более преуспели в искусстве пыток. О, Эдмунд, Эдмунд! – Ее губы жарко коснулись его лица. – Сколько переживаний выпало мне в последние недели! – шептала она. – Ах, как тосковало мое тело! Как напрягала я слух, чтобы услышать любовные излияния на твоем несовершенном греческом языке. И любила тебя все больше… Глубоко вздохнув, Эдмунд тряхнул головой. К нему постепенно возвращался рассудок. – Почему ты здесь? Где я? оглядываясь, спрашивал он. – В гостевой палатке моего дяди, любимый. Когда ты заснул, я приказала перенести тебя сюда, – нежно пояснила Сибилла. Ее полураскрытые губы потянулись навстречу его губам. Где-то перекликались часовые. Заржал привязанный конь, вызвав злобную брань конюха. – Сибилла! – глухо начал он. – Почему… ты… Она прижала пальчик к его рту и снова приникла к нему. Кольчужной рубашки на нем уже не было. Затем Сибилла внезапно поднялась и достала из своих одежд маленький пузырек из бело-зеленого халцедона. – Ты спрашиваешь, почему я здесь? – Ее огромные глаза округлились. – Чтобы спасти твою жизнь! – Спасти мне жизнь? – не понял Эдмунд. – О, ты рослый, но придурковатый франк! – воскликнула Сибилла громко. – Думаешь, мой дядя забыл или простил оскорбление, которое ты нанес нашей семье? Конечно же нет. Во время трапезы был подан яд. Он действует медленно, но день за днем, неделя за неделей он будет сокращать твою бессмысленную жизнь. – Ты… ты меня отравила? – прошептал граф. – Нет, не я, а мой дядя. – Снова ее трепещущие пальцы коснулись его щеки. – Никогда я не причинила бы вреда ни одному волоску на твоей голове. А здесь у меня есть надежное противоядие. Когда он потянулся к халцедоновому пузырьку, она, быстрая как белка, отпрыгнула в сторону и замерла в центре палатки. Ее гладко причесанные волосы подчеркивали мертвенную бледность лица. И вновь, запустив руку за пояс своего платья, она вытащила небольшой, меньше ладони, богато украшенный ларчик. – Эдмунд де Монтгомери, – торжественно произнесла Сибилла, – в этом ларчике лежит щепка от креста, на котором распяли Сына Божьего. Поклянись на нем, что ты возьмешь меня в жены. И тогда ты получишь противоядие… Он смотрел на нее с ужасом, словно на фантастическое создание черной магии. – Ты поклянешься? Множество смутных образов промелькнуло перед его глазами. – Нет, не могу, – выдохнул граф. – Тогда ты умрешь, умрешь в мучительной агонии за пределами мрачного острова Принкипо. – Еще до этого… Легкий стон вырвался из ее груди. – Но ты должен взять меня! – взмолилась она. – Я боготворю тебя, сердце мое, как древняя языческая девушка обожала Аполлона. – И она тут же насупилась. – Неужели ты воображаешь, что я буду спокойно смотреть, как ты женишься на другой? Никогда! Ведь я почти потеряла тебя в уличной стычке, которую сама и подстроила. – Ты подстроила ту драку? Ее темная головка поникла. – А как же еще могла бы я сблизиться с тобой и быть вместе долгое время? Конечно, я не думала, что ты получишь такую тяжелую рану. Я велела, чтобы того варварского дурня за его неосторожность забили плетью насмерть. Эдмунд просто разинул рот. – Но твой дядя? – Я его уговорила взять тебя к себе. Конечно, со временем он и в самом деле сильно к тебе привязался. – Но его сын? – У него нет сына, – просто сказала она. – Юноша, которого ты спасал, был актером из театра. Все это я сделала из любви к тебе. Так что поклянись, что всегда будешь со мной. Для меня счастье даже быть твоей наложницей. – Она приблизилась к постели, протягивая ему покрытый эмалью ларчик с реликвией. – Клянись, что всегда будешь держать меня при себе… В ушах у него зашумело, будто снежная лавина сорвалась где-то высоко в горах. Образ Аликc вновь явился перед глазами Эдмунда. Не раздумывая, он выбил ларчик с реликвией из рук Сибиллы и опрометью бросился наружу, под свет звезд.Глава 4 РЕКА САНГАРИУС
Никея пала не под натиском франков, а в результате типично византийского хитрого маневра. И сэр Эдмунд начал понимать значение загадочных слов, которые были сказаны Боэмундом в императорском лагере. Позднее франкским предводителям стало известно, что Алексей через Мануэля Бутумита вступил в секретные переговоры с турецким командующим в Никее. С этим турком было легче иметь дело потому, что семья Красного Льва оказалась в его руках. Другим побудительным мотивом для мусульман в их желании достичь взаимопонимания с Алексеем стала невиданная доблесть франков. Распевая гимны, они с ожесточением бросались на штурм укреплений. И туркам было все труднее их сбрасывать с лестниц. К тому же турецкий командующий получил сведения о соглашении между герцогом Готфридом Бульонским, официальным главнокомандующим франками, и императором. В соглашении определялось, что город перейдет к тому, кто первым водрузит свое знамя на зубчатых стенах Никеи. Византийские инженеры волоком перетащили к озеру много небольших судов, а император временно отозвал в свою армию из европейских гарнизонов значительные контингента половцев, печенегов и всех турецких наемников. После прибытия этих варварских вояк погрузили на суда и отправили под парусами через озеро к Никее. У стен города со стороны озера они устроили шумную демонстрацию силы, с размахиванием знаменами, неистовым барабанным боем и ревом десятков рогов. На другой день турецкие ренегаты произвели ложную атаку на своих единоплеменников под прикрытием выходящих к воде стен города, причем европейские войска не могли видеть, что происходит в действительности. С подлинным мастерством эти византийские наемники притворились потерпевшими поражение – к немалому удовлетворению крестоносцев, которые на следующее утро намеревались предпринять мощный штурм крепостных стен, уже серьезно ослабленных действиями осадных машин, заимствованных у византийской армии. Над водами озера, поросшего камышом, не успел еще рассеяться предрассветный туман, как части азиатских наемников погрузились на суда, переплыли озеро и с восходом солнца, подняв грандиозный шум, были впущены в Никею. Весь гарнизон неверных, семья Кылыдж Арслана и гражданские мусульмане, которые пожелали бежать, были быстро переправлены на северный берег озера. Там многие воины гарнизона, которых оттолкнула неспособность Красного Льва удержать Никею, поступили на императорскую службу. И когда в то утро воины в стальных шлемах и белых мантиях подступили к полуразрушенным стенам Никеи, они с гневным удивлением увидели, что на главных башнях города развеваются знамена Алексея Комнина. Если бы предводители крестоносцев хоть на минуту заподозрили, что Никея не была честно взята штурмом, последовала бы вторая осада города. Как бы то ни было, император уплатил франкским вожакам большую сумму денег в качестве компенсации за их разочарование. Бутумит был возведен в звание герцога Никеи. Совершенно не разграбленный город был возвращен под управление Византии. А лишенное добычи франкское войско снова двинулось в поход. На этот раз в западном направлении. Подразделение облаченных в тюрбаны туркополов с луками и дротиками сопровождало отряд Серебряного Леопарда по мосту через реку Сангариус, построенному каким-то давно умершим римским губернатором. Стояло раннее лето, река еще не начала мелеть, и большие стаи водоплавающих птиц, поднявшись из-за ближайших болот, кружили в безоблачном азиатском небе. Колонна сэра Эдмунда де Монтгомери весело последовала в Анатолию.Герцог Боэмунд скакал в прекрасном расположении духа. После перехода через мост у него были основания поздравить себя. Благодаря длительному пребыванию при штаб-квартире Алексея он не только получил возможность оценить перспективы кампании, но также изучил характеры предводителей армии крестоносцев. Важнее же всего было то, что он не только добился расположения Алексея, но и получил от него необходимые средства для оплаты своих войск в дополнение к обещаниям снабжать их продовольствием через установленные промежутки времени. Рыжеволосому сыну Роберта Гюискара было непонятно, почему ни один западный властитель не интересуется тем, как накормлены и обеспечены водой его части. Разумеется, следовало ожидать, что во время такой затяжной кампании так или иначе сотни, если не тысячи более слабых воинов погибнут от истощения или болезней. Путь продвижения крестоносцев уже был устлан белеющими костями и неглубокими могилами. Да, герцог Тарантский чувствовал себя превосходно, когда пересек Сангариус и освободился от непосредственной юрисдикции Алексея. Где-то впереди маячила цель – богатое владение, к которому он стремился многие годы. Сходное стремление было написано на лицах его главных помощников – Ричарда из Принципата и его пылкого племянника Танкреда. Далеко впереди должен двигаться авангард под водительством удивительного англо-норманна, которому можно довериться: он не попадет в засаду мусульман. Странная смесь мудрости и простоты заключалась в этом Эдмунде де Монтгомери. Он, пожалуй, лучше всех итало-норманнских вассалов владел мечом. И только в трех случаях, когда это было бессмысленно, отказывался вступить в бой на любых условиях. Герцог вытер пыль с пересохших губ и усмехнулся. Он увидел другие колонны крестоносцев, скакавшие в полном беспорядке. Это были люди крутого старого Раймонда Тулузского, пылкого Хью из Вермандуа, обходительного и доблестного герцога Готфрида Бульонского и элегантного и романтического Стефана из Блуа. Его собственная колонна был самой небольшой. Она включала лишь его силы и тех стойких французских норманнов, которые следовали за вялым и слабовольным герцогом Нормандским по прозвищу Робер Обрежь Штаны. Боэмунд знал, что на старшего сына Вильгельма Завоевателя можно положиться. Он не будет обсуждать решения, делать поспешные шаги или же выдвигать свои собственные идеи. Отбор соратников был проведен хитро. Готфрид, Раймонд и Хью из Вермандуа вечно грызлись между собой и спорили, кто кем будет командовать. В то же время огорчало, что в его колонне оказалась значительная часть людей, неспособных носить оружие. Там было слишком много босоногих пилигримов с вытаращенными от религиозного пыла глазами, плохо вооруженных и совершенно неуправляемых бродяг, которые приводили в отчаяние надзирающих за порядком в лагере. Было много женщин, знатных среди них немного, но зато для них требовалось немало лошадей и мулов. Присутствовали в колонне и многочисленные монахи, священники, юродивые и другие люди, связанные с религией. Они совершали добрые дела, помогали ослабевшим или больным. В коричневых, черных или белых рясах брели они, согнувшись под позолоченными распятиями с длинными ручками, несли хоругви и святые реликвии, рассчитанные на то, чтобы вдохновлять воинов. Вместе со своими офицерами Боэмунд начал выдвигаться вперед, параллельно отряду, шедшему в южном направлении в облаках красноватой пыли, над которой только и видны были флажки да острия копий. Жалобно мычали страдавшие от жажды волы, скрипели несмазанные колеса повозок. Боэмунд с облегчением отметил, что вокруг становилось все меньше поросших лесом холмов. Они служили укрытием для быстро перемещавшихся отрядов конницы Красного Льва. Герцог продвигался шагом, сидя на высоком и тяжелом боевом коне: обычная лошадь не выдержала бы его веса. И вдруг к нему галопом подскакали разведчики. Они сообщили, что впереди среди холмов обнаружили большое количество свежего конского помета и еще не остывшие костры. Все это свидетельствовало, что значительные силы турок-сельджуков рыщут где-то поблизости. – Будьте настороже, – сказал герцог. – Но неверные не станут нападать, пока к ним не присоединятся еще большие силы. Подразделения крестоносцев, двигавшиеся на флангах основных колонн, различив сквозь пыль ярко красное знамя Боэмунда, приветствовали его громкими криками. Другие христианские вожаки с завистью отмечали преданность норманнов своему знаменитому герцогу. И где бы ни появлялась его массивная фигура, женщины размахивали яркими шарфами, а священники воздевали руки, благословляя этого прозорливого и умелого в бою вельможу. Далеко впереди колонны норманнов легким галопом двигался отряд Серебряного Леопарда. На достаточном расстоянии от отряда скакали по обе его стороны на особенно быстрых лошадях застрельщики, сержанты-ветераны. Их задачей было заблаговременно определить любую опасность. Основные силы отряда двигались с наидоступными удобствами вблизи бело-голубого вымпела сэра Эдмунда. Все второстепенные виды вооружения или оснащения давно уже были сброшены на обочины, и теперь закопченные котелки болтались лишь у одного седла из пяти, вьючные мулы везли лишь одну-единственную палатку. Глаза воинов нестерпимо болели от яркого солнца, ветра и пыли. Сняв шлемы и нагретые подшлемники и привязав их к седельным лукам, воины заменили их тряпками по совету сержанта из турок Торауга. Когда они последовали его указаниям, тряпье стало крепко держаться на голове, а после дождя из него можно было даже высасывать воду. Сужающиеся книзу нормандские щиты с грубыми белыми изображениями были нагружены на вьючных животных, которые раньше везли палатки. Некоторые рыцари сняли даже свои юбки из железных колец, сильно раскалившихся на солнце. У Эдмунда, к его огорчению, слегка кружилась голова. Подавая воинам пример, он в течение нескольких часов не выпил ни глотка из небольшого кожаного бурдючка, прикрепленного к седлу. Чтобы отвлечься, он мысленно возвратился к недавнему вечеру в лагере и вспомнил озлобленное выражение на лице Сибиллы, когда он выбегал от нее. Он принимал различные противоядия, спешно приготовленные другом Торауга, так называемым хакимом, то есть лекарем или знахарем, сведущим в искусстве медицины. Эти меры предосторожности оказались лишними. Лишь только первый луч солнца проник сквозь полог в палатку перед постелью, на которой, тяжело дыша, лежал бледный Эдмунд, появился конник из византийской тяжелой кавалерии. Он бросил в руки Герту небольшой свиток, отсалютовал и умчался в своем голубом плаще с желтой каймой. В послании говорилось: «Любимый, прошлой ночью в отчаянии от унижения я сказала тебе постыдную ложь. Тебе не подавали никакого яда. Я солгала, желая испытать твою верность этой немытой женщине из Сан-Северино. Не заблуждайся относительно моих дальнейших планов. Я твердо намерена заполучить тебя в качестве мужа или любовника. Клянусь Пречистой Девой, я выполню это». Эдмунд обрушил на голову Сибиллы ужасные проклятия, поняв всю глубину ее обмана и решимости. Посмотрев на небо, он вздохнул. Пройдет еще много времени, прежде чем сядет солнце и ослабеет нестерпимая жара. Сэр Гастон де Бон, вытянув губы, сдул тяжелые капли пота с бровей и натянул поводья. – Тот сержант, должно быть, что-то заметил. Вон как пришпоривает коня, – сказал он. – Множество неверных заполнили следующую долину, милорд! – прокричал всадник. Эдмунд вздрогнул и поспешно надел свой перегретый шлем. – Сколько же их? – Слишком много, чтобы можно было сосчитать, милорд, – ответил сержант. – Эти турки роятся, как саранча. Эдмунд ругнулся по поводу неспособности парня считать. «Саранча». Это могло означать и тысячу, и десять тысяч бойцов. Незамедлительно граф отправил сержанта доложить обо всем герцогу Боэмунду. Получив донесение, Боэмунд приказал своему каравану сделать остановку на равнине, с трех сторон окруженной невысокими холмами. С четвертой стороны до самого горизонта лежало порыжелое море травы. Место для разбивки лагеря Ричард из Принципата отметил знаменем герцога Тарантского. Более трех часов объединенные силы норманнов, французские и итальянские части наводняли равнину – пешком, на лошадях и в скрипучих повозках, запряженных волами. Слуги устанавливали палатки для своих господ. То здесь, то там вспыхивали костры для приготовления пищи. Но их было немного, так как на топливо шел высохший на солнце помет. А стада были давно уже угнаны неверными.
Глава 5 ДОРИЛЕУМ I
Живой, беспокойный Торауг и темнобородый византийский сержант Феофан много раз вступали в сражения с сельджуками. Они хорошо знали их коварство и все повадки. Поэтому им казалось почти безумием, что такая громадная армия остановилась на ночь под защитой лишь небольших сторожевых постов, к тому же расположенных наугад. – Уж эти мне гордые, надменные дураки! – возмущался сэр Этельм, деловито расчищая место вокруг положенного на земле седла. – Они хвалятся, что каждый из них может прикончить дюжину турок. Но вернее всего им ночью перережут глотки, а души их отправятся в чистилище. Обосновавшись на юго-восточном краю громадного бивака, объединившего около шестидесяти тысяч человек, отряд отошел ко сну. Спали чутко. По крайней мере, бдительные норманны, которыми командовал бывший наемник, сэр Ральф де Морон, непрерывно сменяли друг друга на страже. К полуночи низкий туман, поднявшийся с небольшой речки, питавшей болото, клубами окутал спящее войско франков. – Милорд, если дети шайтана намереваются нанести удар завтра, то они сделают это до рассвета, – тихо сказал Торауг, потряхивая серебрившейся от влаги бородкой. – То же говорят сэр Уильям и сэр Этельм, – ответил Эдмунд. – Поеду-ка я поищу милорда Боэмунда. Он поднялся с расстеленных на голой земле плаща и тонкого одеяла с некоторой неохотой. Едва на северо-востоке слегка проступили контуры холмов, он поднял Герта, и они вместе отправились на поиски палатки Боэмунда. Повсюду в полном беспорядке спали на земле люди и животные. Со всех сторон из темноты несся громкий храп; никто не проснулся, даже не поднял головы – после длительного тяжелого перехода усталые крестоносцы спали мертвым сном. Только где-то плакал больной ребенок да сонно лаяли собаки… Наконец перед Эдмундом и его оруженосцем возник знакомый штандарт, свисавший с наконечника копья. Это был красно-желтый флаг Сан-Северино. Несколько человек вскочили на ноги. С угрозами схватились за оружие. В полусвете Эдмунд с удивлением узнал широкие плечи молодого Робера де Берне и злобное обличье сэра Вольмара из Агрополи. Отпрянув в сторону, Эдмунд пришпорил лошадь и с кличем крестоносцев: «Так хочет Бог!» – поскакал дальше. Перед высоким шатром герцога Боэмунда все еще ярко пылали факелы и поблескивали стальные доспехи. Вероятно, еще кому-то было не по себе из-за недостаточной охраны, и он готовился покинуть лагерь. Беспокойным оказался граф Танкред. При свете факелов его русая голова отливала червонным золотом. Вскочив на коня, он приводил в готовность свой щит. – Говорю вам, граф Ричард, по обе стороны от нас долины кишат неприятелем. Я только что прикладывал ухо к земле. Мне показалось, будто под землей грохочет гром. – Ну и что из этого? – зевнул дочерна загорелый рыцарь. – Разве Бог и его ангелы не на нашей стороне? Добрый епископ из Ариано говорил об этом вчера вечером. Кроме того, наши мечи тяжелее и длиннее, чем у почитателей дьявола. И наше оснащение значительно лучше. – Пусть турки скачут где им угодно, – прорычал Пейн Певерел, знаменосец из Нормандии. – Как только начнется битва, они не выдержат нашего натиска. Они никогда не выдерживали его. И никогда не выдержат. К счастью, ночью никто не напал на лагерь. Когда взошло солнце, стало видно, что на окружавших долину холмах не было ничего опаснее вспугнутых газелей и серых шакалов, шнырявших среди скал. Где-то вдали запели походные волынки. Затрубили рога. Все больше и больше запыхавшихся дозорных приносилось в лагерь. Казалось, что со всех сторон были замечены густые скопления турецких лучников. Рыцари Креста издавали радостные клики – близился час расплаты. Норманны были полны уверенности в себе. Не успев даже перекусить, воины различных рангов хватались за оружие. Многие обращались к священникам, желая покаяться в грехах, чтобы вступить в битву с чистой совестью. Другие же отходили в сторону. Преклонив колени перед воткнутым в землю мечом, они молча молились о том, чтобы в битве им сопутствовала удача. Еще более исхудавший и похожий на святого отшельника брат Ордерикус ходил по лагерю, готовый исповедовать всякого, кто желает получить отпущение грехов. Никто из саксонцев или викингов не пошел на это. Не исповедовались ни Торауг, ни Феофан. В какой-то степени они придерживались греческих обрядов. Как только седобородый старик ушел, сэр Эдмунд повелел осмотреть лошадей и снаряжение. Затем отправил вьючных животных в основной лагерь. Повсюду загоревшие воины собирались вокруг вымпелов своего лорда и готовились последовать за ним, когда тот двинется за штандартом высшего предводителя. Невообразимая неразбериха поднялась, едва различные отряды в облаках пыли стали пересекать дорогу друг другу. Все настолько перемешалось, что многие так и не смогли снова собраться в стройные ряды. Крестоносцы так горели желанием вступить в бой с последователями Мухаммеда, так были поглощены этими мыслями, что многие забыли наполнить водой свои кожаные бурдюки. Вместо этого они сушили глотки, выкрикивая боевые кличи. Герт Ордуэй, уже в шлеме, испытывал удовлетворение оттого, что отряд двинется впереди этой беспорядочной толпы. Оглядываясь через плечо, он видел женщин, инвалидов и детей, карабкавшихся на повозки. Чем "громче проповедовали священники, тем громче были крики и беспорядочный гомон слуг, которых, как обычно, оставляли для защиты лагеря. Сэр Эдмунд и его оруженосец обнаружили, что воины отряда спокойно сидят возле своих коней и пережевывают холодное мясо. Способный заместитель предводителя, Железная Рука не видел смысла в том, чтобы раньше времени садиться в седла и тем утомлять животных. От них, возможно, еще до конца дня потребуются все их силы. Под вымпелом с изображением Серебряного Леопарда сержанты и ратники не спеша надевали остроконечные шлемы и занимали позиции согласно установленному клинообразному построению. Они вели под уздцы своих коней, чтобы животные до последнего момента могли щипать влажную от росы траву и тем утолять жажду. Войско норманнов растянулось большим, неправильным полумесяцем. Ветра не было. Флаги и вымпелы повисли на древках копий. Саксонцы и викинги последовали примеру Герта. Они не спеша подтягивали ремни алебард, поправляли небольшие метательные топорики, прикрепленные к седлам. Громоносец, к радости графа Аренделского, высоко держал голову, вел себя спокойно, не бил копытами и не шарахался. Вдруг конь прижал уши. – Турки близко. Мой жеребец тоже чует их, – заметил Торауг, выставив вперед круглый щит. Резко прозвучал рог сэра Эдмунда, и отряд медленно стал двигаться вперед. Туман, смешиваясь с пылью, при первых лучах солнца окрасил окрестность каким-то мутным светом. Многоцветная толпа рыцарей в мантиях крестоносцев с алыми крестами спешила сомкнуться. Впереди скакали патрули. В центре рядов норманнов возвышалась огромная фигура Боэмунда, трепетало его личное знамя. За всадниками толпились пешие лучники, пикейщики и секироносцы. В первый раз Эдмунд воочию увидел, как много рыцарей и эсквайров лишились во время похода своих коней. Многие пересели на таких неблагородных животных, как вьючные мулы или ослы. По крайней
мере, две трети христианского воинства топало пешком по жесткой, высохшей земле. Они все еще распевали гимны или же выкрикивали проклятия в адрес невидимого противника. По приказам различных маршалов и констеблей всадники постепенно выдвинулись вперед и возглавили пеших ратников. Войско крестоносцев продолжало напоминать огромный полумесяц. Его закругленные концы занимала кавалерия, а центр состоял из безнадежно дезорганизованных масс пехоты. Византийский сержант Феофан громко выругался, когда, оказавшись на крайнем левом фланге христианского войска, окинул взглядом его общую диспозицию. – Где же вторая линия всадников, которая должна следовать за пехотой? – вопрошал он. – Турки проскачут мимо нас и зайдут к нам в тыл. А там проникнут в лагерь. Ведь некому будет остановить их. Сэр Этельм поправил ремень на своем копье. Скосив взгляд, он увидел, что сэр Эдмунд надевает шлем и опускает носовую планку. Их рыжеволосый командир внушительно выглядел на боевом коне. Его остроконечная каска на голову возвышалась над шлемами окружавших его рыцарей. Крепкие, с загорелыми лицами, они прилаживали щиты к длинным кожаным ремням, проверяли, правильно ли закреплены сзади седел их булавы. Их мечи торчали под левым коленом, готовые к бою. Как только основные силы Боэмунда вместе со своим авангардом вышли в поле, отряд занял место между подразделением суровых норманнов де Морона и группой вассалов из Сан-Северино. Сэр Робер, должно быть, узнал Эдмунда. Осадив коня, он помахал копьем, то ли в знак приветствия, то ли с угрозой. Вдалеке нарастал необъяснимый громыхающий звук, напоминающий раскаты грома. Постепенно эти звуки вызвали колебание воздуха. Лошади забеспокоились, задрожали, а люди переглядывались между собой в полном недоумении. Вскоре стало казаться, что где-то за длинным полукругом низких холмов разразилось землетрясение или ужасная гроза. Сэр Этельм, усмехаясь, повернулся к Герту: – Ну, домоправитель, теперь ты можешь сказать, что слышал знаменитые литавры этих сукиных детей неверных. Голубые глаза оруженосца широко раскрылись. – А это не рев дьяволов? – спросил он. – Нет. Турки натягивают шкуры на котлы для приготовления пищи, – пояснил сэр Этельм. – Они всегда возят их с собой. Перед выступлением они бьют по этим натянутым шкурам кулаками или рукоятками кинжалов, производя устрашающие звуки, и тем сильно пугают неопытного противника. Остальные слова саксонца потонули в лавине звуков, обрушившихся на уши христиан, когда со всех сторон к ним понеслись бесконечные орды всадников. Смуглолицые, в посеребренных остроконечных шлемах, с круглыми щитами, они высоко приподнимались в стременах, подняв штандарты из зеленых конских хвостов, увенчанных золотым полумесяцем. Некоторые размахивали кривыми мечами или ятаганами. Однако огромное большинство скакало с луками на изготовку и со стрелами на тетиве. – Смыкайтесь! Смыкайтесь! – скомандовал сэр Эдмунд. Герт, Железная Рука, Этельм и другие рыцари скакали плечом к плечу, в то время как сержанты прикрывали их с флангов, а ратники оказались во втором ряду. Никогда раньше, понял Эдмунд, ему не приходилось видеть таких низкорослых, но подвижных и выносливых лошадей, как у несшихся на него неверных. Малые попоны под турецкими седлами пестрели красками, переливались серебряными и золотыми вкраплениями. Металлические латы, защищавшие грудь лошадей, отражали солнечные лучи. На большинстве всадников развевались белые одежды, остальные были в красном, зеленом или синем. Прозвучал рог герцога Боэмунда. На этот звук откликнулись все трубы христианского войска. Когда Герт протрубил в рог отряда, дрожь пробежала по спине Эдмунда и его охватил боевой азарт. На него неслись проклятые исчадия ада, осквернители Гроба Господня, пытающие Его последователей. – Святой Михаил за Монтгомери! – прокричал граф и вонзил шпоры в бока коню. Огромное животное, заржав от ярости и боли, галопом рванулось вперед. Турки быстро приближались неровным строем с визгом гончих собак и призывами к Аллаху. – Аллах акбар! – вопили они. – Ля иллаху идя Ллахи! Весь христианский фронт, опустив копья параллельно земле, начал продвигаться вперед. Сначала шагом, потом рысью и наконец полным галопом. Почувствовав свист ветра в ушах, Эдмунд плотнее уселся в своем высоком седле. Вот оно! На этой равнине произойдет одна из самых великих битв в истории! От доблести норманнов может зависеть судьба всего крестового похода, так как основные силы франков сильно растянулись. Все новые волны темнолицых всадников катились со склонов холмов. И вскоре вся равнина буквально кишела неверными. Полоска выгоревшей земли, отделявшая передовых турок от крестоносцев, сокращалась… – Друзья! Прикройте лица! – прокричал Торауг, поднимая щит. Хорошо, что он успел это сделать. В следующее мгновение турецкие всадники, резко осадив коней и развернув их вправо, выпустили из луков тучу стрел. Словно железный град, забарабанили наконечники по щитам, шлемам и кольчугам. Нередко они легко, до самого оперения пронзали незащищенные части тела. Кони норманнов, как правило, незащищенные, пострадали особенно сильно. Они с визгом падали на землю, дрыгали ногами, опрокидывали в пыль своих всадников. Железная Рука, Торауг и другие, все, кому раньше доводилось встречаться с сельджуками, выжидали. Обычно враги разворачивались и скакали за пределы досягаемости длинных копий крестоносцев и их мощных коней. Но на этот раз невероятное количество турецких воинов сделало такой поворот невозможным. Задние напирали на передних, и, не в состоянии отступить, мусульмане обнажили мечи, и оба войска сшиблись на полном скаку. Еще через мгновение истошно визжавшие турки появились со всех сторон. Эдмунд, нацелив копье прямо в грудь высокого рыжебородого турка в серебристой кольчуге, проткнул его и сбросил с седла. С трудом высвободив наконечник копья, англо-норманн успел сбить еще одного противника. И тут все смешалось: кони, люди, мусульмане, христиане… Крестоносцам уже не хватало места для ударов копьем или алебардой, и огромные боевые кони больше не могли продвигаться вперед. И тогда обучение Громоносца себя оправдало. Тяжелый жеребец поднялся на задние ноги и стал молотить увесистыми копытами более мелких турецких лошадей, повергая их на землю. – Святой Михаил! Монтгомери! – доносились со всех сторон до Эдмунда выкрики его воинов. Сейчас должен был вступить в дело длинный нормандский меч, направленный умелой рукой. Его широкое лезвие легко разрубало турецкие кольчуги. Одному визжавшему неверному Эдмунд отрубил руку вместе с мечом. Но бой происходил в такой тесноте, что злосчастный турок даже не свалился с седла, и кровь заливала его белую одежду… Вдруг какой-то мусульманин, зацепив алебардой за плащ англо-норманна, едва не стащил его с седла. Но Эдмунд рванулся, материя затрещала, и, преисполненный ярости, бывший граф почти отрубил нападавшему голову. Молодого графа окружали разящие копья и мечи, хрипящие конские головы с вытаращенными глазами и покрасневшими ноздрями. Но настолько мощным было его оружие, что Эдмунд сумел пробить себе дорогу к тому месту, где алебарда Герта и булава Железной Руки сеяли хаос и смерть. Новые волны мусульманских всадников все прибывали. Но норманны продолжали держаться стойко. В удушающих, ослепляющих клубах пыли люди Эдмунда сражались с яростью фанатиков и доблестью паладинов. Турецкая стрела вонзилась в грудь коню сержанта Рюрика. Рассвирепевший сержант, издав старинный боевой клич викингов: «Ютч-хей-саа-саа!» – метнул свой топор в турецкого знаменосца. Раненный в лицо мусульманин завалился назад, увлекая за собой зеленый штандарт. В течение часа линия боя прогибалась то в одну, то в другую сторону. Земля была настолько завалена трупами павших людей и животных, что оставшимся в живых лошадям все труднее было находить место, чтобы поставить ногу. Битва становилась все более ожесточенной. Норманны в пылу боя неосмотрительно удалились от своего лагеря. Они бились без передышки с самого восхода солнца и уже понесли значительные потери. Только железные натуры могли так долго биться столь тяжелым оружием. А Красный Лев бросал в битву все новые и новые эскадроны своих диких соплеменников, горевших желанием наброситься на западных христиан. Убежденные в том, что попадут в рай, где в тенистых садах у благоухающих источников их поджидают черноокие девы невероятной красоты, турки сражались как настоящие демоны… И все же перелом наступил. Турки дрогнули и начали отходить. Франкские рыцари на измотанных конях пустились в погоню. Но были окружены и вынуждены биться уже за свои жизни. Многие храбрые норманны оказались в результате втоптанными в землю. Итак, отступление турок началось. На этот раз они убегали так быстро, что закованные в тяжелые доспехи рыцари были не в состоянии их преследовать. Оставив эту мысль, многие христианские воины, тяжело дыша, просто свалились с коней на землю. Они обливались потом и мечтали о глотке воды. Герт Ордуэй тупо наблюдал, как один из норвежцев, стиснув зубы, пытался вытащить стрелу, пробившую ему руку. Вырвав, наконец, ее, он швырнул стрелу на землю и в ярости стал топтать ее ногами. Герт Ордуэй забеспокоился о своем господине. Где сэр Эдмунд? Оруженосец отправился на поиски. Его конь тяжело ступал, перебираясь через груды стонавших или уже навсегда замолкших бойцов. Где-то в отдалении все еще раздавался гул котелков-барабанов. Нестерпимо было видеть, какое множество рослых воинов в белых мантиях валялось вперемешку с зарубленными конями и убитыми неверными. По подсчетам Герта, по крайней мере треть бойцов отряда лежала среди убитых, а половина из оставшихся в живых лишилась лошадей. Наконец он обнаружил бывшего графа Аренделского. Тот пытался наложить повязку на руку сэра Гастона, переломанную выше локтя. Круглое лицо франко-норманна блестело от пота и уже приняло болезненный зеленоватый оттенок. Сэр Эдмунд готовился отвести оставшихся в живых, чтобы образовать единую линию с вассалами из Сан-Северино – сэр Робер де Берне, весь залитый кровью, как мясник, был еще на ногах. Он беспокойно расхаживал в ожидании дальнейших событий. И вдруг страшные крики послышались в тылу у норманнов. Торауг, бросив быстрый взгляд через плечо, громко выругался. Его предсказание сбылось. Из оставшегося в отдалении лагеря крестоносцев подымались клубы густого дыма, ужасные вопли и проклятия… С пригорка, где остановился отряд Эдмунда, усталые воины наблюдали, как всадники в белых одеждах рыщут среди палаток, безжалостно убивая слуг, священников, женщин и всех не способных сражаться. Один эскадрон сельджуков угонял вьючных животных. Неверные осыпали стрелами перепуганных волов. В охваченном паникой лагере христиан бесчинствовало воинство Красного Льва. Сельджуки слезали с коней, чтобы удобнее было убивать упавших на колени женщин, детей и священников. Они истребляли их с кровожадностью ястребов, уничтожающих потомство кроликов. Разгромив полностью лагерь, турки снова умчались, оставив позади себя свежие доказательства невыразимой жестокости, которая была известна повсюду… …От группы баронов, собравшихся под штандартом герцога Боэмунда, на холм прискакал какой-то всадник. – Собирайтесь под алое знамя! Нужно укоротить нашу линию! – прокричал он. Услышав этот призыв, сэр Робер из Сан-Северино подал сигнал сбора и повел своих вассалов за вымпелом Серебряного Леопарда на соединение с сильно поредевшими в бою сподвижниками Боэмунда. Безлошадные воины бежали, уцепившись за стремена более удачливых сподвижников, молили всадников не гнать быстро, просили пить… Между тем турки вновь готовились к бою, их котелки-барабаны подымали дьявольский шум. – Боже мой! – восклицал высокий франко-норманн. – Где же Готфрид де Бульон, Вермандуа, остальные? – Кто их знает? – рассмеявшись, отвечал Танкред. – Возможно, проклятые провансальские обжоры остановились поесть и попить. Пить! О Боже, пить!
Глава 6 ДОРИЛЕУМ II
Произошло невероятное. Атака закованных в доспехи франкских рыцарей была отбита. Немыслимо, но Боэмунд Тарантский приказал норманнам отступить к своему лагерю. Немногие горячие головы из числа рыцарей отказались отступить. Чуть позже они погибли от рук мусульман. Среди павших был граф Парижский и около тридцати его рыцарей из сторожевого отряда. Почти все они пали от турецких стрел, угодивших им в лицо. Легкие стрелы мусульман не пробивали кольчуги франков. Наибольшие потери от верховых лучников Красного Льва несли легко вооруженные пехотинцы и лошади. Едва живые, изнемогающие от ран, усталости и жажды, норманнские воины наконец приблизились к лагерю. Здесь их ждало ужасающее зрелище. Среди порванных и опрокинутых палаток, обгоревшего имущества лежали груды тел изрубленных невооруженных людей. В форме креста на земле были разложены трупы нескольких священнослужителей кастрированных, обезображенных, без рук… Растерзанные женские тела были проткнуты турецкими копьями. Когда норманны увидели все это, ярость их была безмерна. Она придала новые силы их рукам. На лицах герцога Боэмунда, графа Танкреда и решительного Ричарда из Принципата отразились внутренняя борьба и одновременно яростная решимость. Рыцари требовали установить местонахождение герцога Готфрида Бульонского и большей части христианского воинства. Оставшиеся в живых мужественные женщины молились за победу, перевязывали раненых, поили их водой, вливая по капле в потрескавшиеся от жары губы, добывали пищу для людей, пострадавших от непродуманного, поспешного броска на турок. Монахи и священники кружили среди запыленных воинов с распятиями и дароносицами в руках. Они исповедовали несчастных, которых принесли в лагерь испустить последнее дыхание. Их становилось все больше и больше. Византийский сержант Феофан с недоумением вопрошал: – А сколько еще таких подготовленных воинов погибнет просто от недостатка необходимой заботы о них? Почему вы, упрямые франки, отказываетесь создать для этого специальные отряды? Таким людям хорошо платят за выздоровление каждого раненого солдата. – Бог его знает, – отвечал Эдмунд, все еще не оправившись от утреннего напряжения. Он лил из бурдюка воду себе на голову и под кольчугу, которая, казалось, вдвое потяжелела за последний час. В застывшем от жары воздухе далеко разносилось торжественное латинское пение монахов: Lignum crucis, signum ducis, Sequitur, exercitus, quod non cessit, Set praecessit.-in Sancti Spiritus. Словно второе дыхание открылось у измученных крестоносцев, когда снова были подняты вымпелы и религиозные знамена, а звуки боевых рогов призвали их к штандартам. Но увы! Там, где утром собиралось по пять вооруженных человек, теперь только трое шли за своим предводителем. Многие знаменитые рыцари брели пешком или ехали верхом на уцелевшем вьючном животном. Многих, слишком истощенных, пришлось оставить позади. Немало рыцарей осталось лежать на выжженной земле, раскинув руки, вмолчаливом ожидании удара турецкого меча, который покончит с их жизнью. Слуги же, воодушевленные пением священнослужителей, собравшись в тощую колонну, вооружались всем, что попадалось им под руку. Они хватали брошенные щиты, шлемы, подбирали с земли чьи-то мечи, натягивали кольчуги убитых, которые обычно не были им впору. Они либо висели на их истощенных телах, а реже были тесны. Люди Красного Султана, разинув рты от удивления, глядели на эти побитые, изнывающие от жары пугала, которые, выбираясь из своего лагеря, распевали гимны и выкрикивали: «Так угодно Богу!» Жалкая улыбка блуждала на опаленном солнцем лице сэра Этельма, который и сам остался без коня. Он понуро брел, вооруженный лишь щитом, кинжалом и огромной обоюдоострой секирой. За ним пешком шли воины отряда. Окровавленный конь Герта сильно хромал, однако из последних сил брел в облаке пыли. Боевые кони вновь показали невероятную выносливость. В который уже раз над холмами повис гром котелков-барабанов и разнесся визг боевых эскадронов неверных, устремившихся в атаку. В отчаянной спешке главные бароны, маршалы и констебли герцога Боэмунда выстроили своих вассалов в два ряда. Шеренги пеших рыцарей и ратников ощетинились копьями, подобно македонским фалангам. В промежутке между ними медленным шагом выдвигались конные рыцари… И снова раздался грохот волны турок, орудовавших кривыми саблями и посылавших тучи стрел, которые наносили крестоносцам страшный урон. И снова турецкие силы вынуждены были ввязаться в рукопашный бой со светловолосыми великанами, чьи мечи без устали разили направо и налево, внося хаос в ряды низкорослых, легко вооруженных сторонников Красного Льва. Темные, искаженные злобой лица теснились со всех сторон. Внезапно крюк неверного сбросил Эдмунда де Монтгомери с седла. Граф наверняка бы погиб, если бы алебарда Герта не обрушилась на голову турка, уже готовившегося перерезать горло его господину. Со звоном в ушах Эдмунд все же поднялся на ноги, отыскивая глазами Громоносца. Огромное животное скакало неподалеку, нанося удары задними ногами и отчаянно кусаясь. Через мгновение Эдмунд снова уже дрался. Удар, взмах и выпад… Минута за минутой он разил темнолицых воинов в белых одеяниях. Наконец рука Эдмунда с мечом отяжелела, а его мышцы горели, как раскаленное железо. Запекшиеся губы шептали: «Святой Михаил! Монтгомери!» Отбросив щит, он схватил меч обеими руками и, расставив широко ноги, стал им размахивать с такой скоростью, что образовался настоящий вихрь блистающей стали. Изумленные неверные в испуге отпрянули. На поле Дорилеума воинов ислама охватило чувство недоумения и неверия в возможность происходившего. На протяжении почти трех веков сельджукские конники с луками сметали всякое сопротивление. В Манзикерте они сокрушили славу считавшейся непобедимой византийской армии. Аллах всемогущий! Здесь перед ними стояло войско, которое не отступает и не сдается. Это, должно быть, джинны – злые духи, неутомимые железные люди, чьи мечи с такой жадностью пьют кровь мусульман. Прежде чем пасть на землю, один франкский паладин отправлял в рай десять или даже более истинно верующих. Железная Рука тяжело пробивался к Эдмунду, за ним следовали сэр Этельм, сэр Арнульфо и наконец Герт Ордуэй. Не видно было только сэра Рейнара и сэра Гастона, не было среди них и гиганта викинга Рюрика. Скорее всего, они лежали бездыханными под грудами тел мусульман. Снова и снова всадники султана Яги Сияна бросались на вымпел Серебряного Леопарда, который держал Герт. По всей равнине небольшие группы спешившихся норманнов, окруженные со всех сторон турками, сражались плечом к плечу. Они упрямо защищали занятые позиции среди десятков убитых и умирающих с обеих сторон. Их мучила жажда, а глаза буквально вылезали из орбит от напряжения. Другие, более слабые и менее стойкие люди давно бы сдались, но они продолжали биться. В середине дня конники неверных внезапно дрогнули, но не прекратили боя, а сосредоточились под развевающимися зелеными штандартами. Обнажив кривые сабли и поднявшись на стременах, они готовились встретить основные силы франков, наконец выступивших на поле Дорилеума. С севера подтягивались многотысячные массы крестоносцев из Лотарингии, Фландрии, Гаскони, Каталонии и Франции. Их оружие грозно блестело. Многочисленные знамена развевались на ветру. Орды Красного Льва, хотя и получившие свежие подкрепления, бежали прочь от бесстрашных норманнов. А те с опущенными смертоносными мечами, в своих белых мантиях, покрытых пятнами крови, могли лишь, разинув рты от неожиданности, наблюдать, как уходили враги. Сельджукские кони прогарцевали по нагромождению испускающих стоны раненых, по кучам трупов в белых одеждах, не обращая внимания на облаченные в кольчуги руки, вытянутые в мольбе к небу. Чтобы устоять на ногах, Эдмунду де Монтгомери пришлось вонзить свой меч в землю прямо перед носом убитой лошади. Он тяжело дышал, втягивая воздух в напряженные легкие, но был доволен. Его отряд стоял насмерть. Устоял не перед одним вражеским натиском. Оставшиеся сержанты и ратники опустились на землю. Они сидели, склонив головы, стараясь унять дрожь возбуждения и выровнять дыхание. Саксонцы и викинги из отряда, лучше других приспособленные к климату благодаря службе в византийской армии, начали приходить в себя первыми. Едва отдышавшись, они отправились ловить турецких лошадей, которые бесцельно бродили, лишившись всадников. Турки, сочтя своих первоначальных противников обессиленными, даже не оставили арьергард, чтобы бросить его на уставших крестоносцев Готфрида Бульонского, которые усиленным маршем наконец вышли на поле боя. – Вставайте, друзья! – хрипло призывал Эдунд. – Ищите коней. Нам нужно выступать! И быстрее! Голодные и изнуренные люди, собрав остатки сил после шести часов непрерывного боя, взбирались на пойманных лошадей. Какими маленькими выглядели эти тощие, коротконогие турецкие лошадки под тяжелыми седлами франков. Но они оказались значительно сильнее, чем можно было судить по их виду. Норманнское воинство собиралось вокруг отряда, выстраиваясь в новую, укороченную линию. Все больше и больше франков, оседлав лошадей, готовилось к наступлению, когда Пейн Певерел взмахнул красно-черным знаменем Нормандии, а Ричард из Принципата поднял штандарт герцога Боэмунда. С ближайшей гряды холмов турки наблюдали это возрождение мощи франков. Простые смертные никогда не смогли бы так быстро оправиться! Для неверных это были дети шайтана, наделенные нечеловеческой силой. Теперь вызов мусульманским ордам бросили объединенные силы Вермандуа, Фландрии и фламандцы герцога Готфрида. Военачальники Кылыдж Арслана не представляли себе, что силы, против которых они сражались целый день, могли возродиться. Турки не были готовы к тому, что эти непостижимые норманны нападут на их тылы, зажав вражеские войска между двумя христианскими армиями. Поэтому сыны пророка потерпели поражение и десятки тысяч неверных погибли. Они отчаянно сражались, взывая к Аллаху, но все равно несли огромные потери. Герт Ордуэй не представлял себе, что наступит день, когда он обессилеет. Однако сейчас он больше не мог поднять на свое плечо «Мстителя Пенды». Железная Рука, истекавший кровью от раны в боку, никогда раньше не думал, что его рука может дрогнуть, – ведь именно благодаря ее неустанности и мощи он и получил свое прозвище. И все же прежде чем всадники в белых одеждах в панике бросились бежать, он понял, что силы его иссякли. Ближе к закату наступил час страшного возмездия. Плененных турок заставили пасть на колени, чтобы обезглавить их взмахом секиры или меча. Часто слишком усталые победители, не тратя силы на взмах меча, просто перерезали им горло. Горячая, затоптанная земля была залита кровью последователей Красного Льва. Именно византиец Феофан отметил, что бойцы отряда действительно оказались крепким орешком. Когда среди закругленных холмов, возвышавшихся за равниной Дорилеума, уже не было видно никаких турок, не менее двенадцати выживших воинов откликнулись на звуки рога сэра Эдмунда, который держал возле своих губ Герт Ордуэй. Прихрамывая, забрызганные кровью, они потянулись к знакомому знамени, волоча за собой мешки, раздувшиеся от добычи. Итало-норманнские сержанты сообщили, что в последний раз видели сэра Арнульфо, когда он вылезал в окружении врагов из-под убитого коня. Эдмунд приказал Герту Ордуэю, Тораугу и сэру Этельму, несмотря на сгустившиеся сумерки, отправляться на его поиски. Тошнотворно-сладкий запах крови и разбросанные повсюду куски тел и внутренности привлекли большие стаи питающихся падалью птиц. Планируя с высоты вниз, эти отвратительные создания раздирали трупы, в большом количестве усеявшие равнину. К тому времени норманны уже повсеместно обобрали их. Всегда практичные, они сначала снимали с мертвецов кольчуги, забирали оружие. То есть забирали то, что даже в течение всей своей жизни не могли надеяться приобрести во владениях своего законного государя. Затем они грабили мертвых офицеров-сельджуков. Раненые и умирающие жалобно взывали о помощи и пощаде. Но никто не обращал на это внимания. Только отдельные монахи и священники, покачиваясь от усталости, терпеливо исповедовали одного упавшего крестоносца за другим. От раненого противника, разумеется, избавлялись, как только удавалось его обнаружить. Вне зависимости от его мольбы или предложений выкупа. Для многих обедневших эсквайров или безземельных рыцарей было просто несчастьем, что они не знали языка неверных и не понимали их щедрых предложений. Многие из них могли бы несказанно обогатиться с помощью тех, чьи головы они рубили с таким энтузиазмом. Сэра Арнульфо из Бриндизи они обнаружили живого и невредимого. Он стоял, опираясь на турецкого жеребца в прекрасной попоне и улыбался. Увидев соратников, он слабо помахал им закованной в сталь рукой. – Я подсчитал, милорд, что сегодня я убил двадцать два неверных, и я молю Бога, чтобы он позволил мне поразить их еще больше. Но он не может этого сделать, пока кто-нибудь не поможет высвободить мою ногу. «На Помощь! На помощь!» – доносился со всех сторон один и тот же слабый призыв. Бывший граф, казалось ему, столетия назад выкрикивал эти слова в замке Агрополи. Никогда больше сын Роджера де Монтгомери не будет чувствовать себя таким обессиленным и таким истощенным. Он распорядился посадить сэра Арнульфо на кобылу с одной стороны, а для противовеса с другой стороны пристроить сержанта-викинга Сигурда, потерявшего сознание от сильного удара по голове. Крики о помощи продолжали раздаваться в быстро сгущавшихся сумерках. Непослушными ногами Эдмунд переступал через павших франков и мусульман, чьи руки и ноги торчали под самыми невероятными углами. Их кровь образовала огромное блестящее озеро. На древке одного копья слабо раскачивался порванный вымпел. Крупный, светловолосый сэр Этельм, приподнявшись, указал на него, хотя при его ранении ему не позволяли даже шевелиться. Эдмунд узнал изображение на вымпеле – голову черного вепря на красном фоне. Вместе с Гертом и другими неранеными спутниками они стали разгребать окоченевшие тела, обходя павших или умирающих лошадей, пока не обнаружили барона Дрого из Четраро почти в бессознательном состоянии. Его левая нога была придавлена серым боевым конем. Эдмунд стащил со своего зятя шлем и узнал его красивое лицо. В последний раз он видел его искаженным ненавистью на зеленом лугу под Сан-Северино. Бедро ломбардца было сломано, к тому же он получил глубокую рану в правое запястье. В полузабытьи барон Дрого продолжал звать на помощь. Дрого, должно быть, отчаянно бился в одиночестве, поскольку больше никаких франков – ни мертвых, ни раненых – вокруг не было. Его огромный кулак продолжал сжимать рукоятку сломанного меча. Появились еще какие-то рыцари из частей Вермандуа. Один из них, Роже из Барневилля, весьма известный капитан с огромным крючковатым носом и выдающимся вперед подбородком, слез с коня. – Я приехал, – объявил он на грубом гасконском диалекте, – чтобы найти тело доблестного бойца, брата короля Франции. – Приветствуем вас, – вымолвил Эдмунд, – сэр Дрого еще дышит. С помощью Непорочной Девы, надеюсь, он выживет и снова будет разить идолопоклонников. Огромной и разнообразной была добыча, обнаруженная в лагере Кылыдж Арслана: усыпанное драгоценными камнями оружие, посеребренные кольчуги, седла с золотой и серебряной инкрустацией, сотни прекрасных лошадей, верблюды, мягкие ковры, шелковые одежды, коробки с пряностями и множество странных золотых инструментов, о назначении которых можно было лишь гадать. А между тем разбитые подданные султана разбрелись во все концы, распространяя легенды о мощи франков. В результате этих страшных слухов свежие армии сельджуков, двигавшиеся к Дорилеуму сочли более благоразумным повернуть и искать пристанища в широких долинах, что раскинулись за горами вокруг Никеи.Глава 7 КОЛОКОЛА ПОБЕДЫ
Весь день победно звонили разноголосые колокола множества церквей и храмов Константинополя. Этот торжественный перезвон вливал новые жизненные силы в души христиан. Дождавшись, наконец, радостных известий, толпы народа участвовали в богослужениях в честь победы в Святой Софии, в храме Святого Спасителя и во многих других известных церквах. Позднее взволнованные толпы с пальмовыми листьями в руках наводнили широкие улицы города, а затем собрались на ипподроме, чтобы поглядеть на специально устроенные бесплатные скачки. У людей были основания для радости. Сначала пришли известия о воссоединении Никеи и богатых земель, окружающих город. Правда, эти земли были опустошены при турецком правлении. Однако их плодородие можно восстановить за несколько лет. Затем солнечный телеграф – гелиограф – передал описание полного триумфа христианских армий на равнине Дорилеума. Эти известия, однако, были так хитро изложены самим императором, что создавали впечатление, будто победу в основном принесла доблесть византийского оружия. По знойным летним улицам двигалась длинная процессия монахов и монахинь с высоко поднятыми распятиями. Они распевали религиозные гимны. По приказам Алексея Комнина, из имперских складов населению раздавали щедрые дары. Баронесса из Четраро вызвала в свой большой мрачный дом на улице Крылатого Быка католического священника. Она попросила его отслужить несколько благодарственных месс, а затем помолиться за благополучие ее мужа и брата. В ее дом были приглашены франкские рыцари, которые проезжали через город, чтобы присоединиться к силам, сражающимся в южном направлении. Сюда же пригласи-. ли и отдельных западных леди, которых оставили в тылу их мужья. Высокую и стройную Розамунду совершенно не беспокоило, что в последнее время увеличилась ее талия, а пышная грудь вылезала из одежды, хотя совсем недавно платье облегало ее тело совершенно свободно. Византийские гарнизоны, которые отводились из европейских провинций империи, проходили через город, двигаясь в восточном, а не в южном направлении! Очевидно, им предстояло очистить Анатолию от остатков орд Кылыдж Арслана, и ни одна часть, как удалось узнать Розамунде, не будет направлена на подкрепление символическим силам, посылаемым Алексеем в поддержку крестоносцев. Алексей Комнин, без сомнения, стремился отвоевать провинции, утраченные его предшественниками. По существу, его мало заботило, освободят ли Гроб Господень или нет. За столом Розамунде прислуживала Хлоя, теперь изящная молодая девушка с приятным лицом и грациозной фигурой. При тусклом свете свечей леди Розамунда пыталась управляться инструментом для еды с тремя зубцами, который предпочитали византийцы вместо пальцев. Уже давно златовласая баронесса Четраро оставила привычку набивать до отказа пищей рот по манере франков и не выплевывала кости на пол рядом со своим стулом. Сегодня у нее на обед подавали особо изысканное блюдо из мяса козленка, вымоченного в молоке, бедро жареной дрофы, семена лотоса и грецкие орехи. Посреди обеда появился мажордом Розамунды, грек-евнух. Он молча поклонился в пояс и оставался склоненным, пока ему не приказали говорить. – В прихожей ожидает франкский рыцарь, госпожа, – доложил грек. – Говорит, что он из отряда вашего благородного брата. Он потерял руку при Дорилеуме. – Глупец! Почему ты не пригласил его в залу? Розамунда быстро поднялась, бросила на мраморный пол трехзубую вилку и легкими шагами вышла в приходую. При колеблющемся свете факела ее поджидал высокий, широкоплечий человек. Женщина обратила внимание на его левую руку, поддерживаемую грязной, в пятнах крови повязкой. Посетитель вежливо поклонился. – Я сэр Гастон из Бона. В последнее время состою в отряде вашего брата. – Добро пожаловать, сэр рыцарь, – улыбнулась Розамунда. Она хлопнула в ладоши и распорядилась, чтобы принесли вина. Очевидно, сэр Гастон прибыл в ее дом прямо с дороги к Антиохии: слой пыли покрывал его плащ и остроконечные башмаки из мягкой кожи. Вокруг шеи и под мышками на плаще проступали темные пятна пота. – Пойдемте. Вам необходимо освежиться, – начала было Розамунда, но что-то в поведении пришельца ее остановило. – Что случилось? Несчастье с сэром Эдмундом? – с беспокойством спросила она. – Нет, миледи, несмотря на то, что он был в самом пекле и сражался как Роланд при Ронсевале. – Тогда… тогда не убит ли мой муж? – Нет, миледи, не убит, но тяжело ранен при Дорилеуме. Неделю назад, перед моей поездкой на север, он еще не совсем пришел в себя, не знал, где находится, но продолжал произносить ваше имя… – Благодарение Господу в небесах! Какие еще известия вы можете сообщить? – Добыча, доставшаяся нам после разгрома Красного Льва, превзошла все ожидания, – заявил сэр Гастон. Он сделал большой глоток из врученного ему кубка. Голос его зазвучал громче, эхом отражаясь от темного сводчатого потолка. – Никогда еще глаза западного воина не созерцали такого невероятного богатства. Драгоценные камни, золото, тысячи прекрасных лошадей и вьючных животных, парчовые одежды, сундуки со сладостями и пряностями, целые груды первоклассного оружия. Самый бедный крепостной теперь имеет отделанный золотом кинжал. Наши вьючные животные нагружены такими ценностями, за которые можно купить несколько прекрасных владений во Франции или в Италии. – Значит, мой брат даже не ранен? – переспросила Розамунда. – Это еще не все. У Боэмунда и его армии только и разговоров о доблести и стойкости графа Эдмунда, – отвечал сэр Гастон. – Этому способствовал сам барон Дрого, – добавил он, покосившись на кувшин с вином. – Говорят, что воины Четраро заставили неверных бежать с поля боя, так же как доблесть нашего отряда и сэра Эдмунда не дала туркам удрать до похода войска лотарингцев и провансальцев. Розамунда с гостем допоздна засиделись в сумрачном и сыром обеденном зале, где с капителей колонн на них взирали искусно вырезанные птицы и звери. Хлоя, суетившаяся поодаль, наконец набралась смелости поинтересоваться судьбой оруженосца по имени Герт Ордуэй. – Оруженосец был легко ранен, но с тех пор рана его зажила. Невозможно забыть его меткие удары алебардой, – промычал сэр Гастон, обгладывая с косточки мясо барашка. – Удаль саксонского молодчика повсеместно отмечалась в войске герцога Боэмунда. После того как обеденный стол был полностью очищен, Розамунда провела гостя в небольшой садик, где умиротворяюще распевали птицы, а прохладный ветерок с Босфора разгонял дневную жару. Они уселись под раскидистой сосной. Рыцарь положил свою раненую руку на принесенную слугами подушку. Разгоряченный бессчетными кубками вина, Гастон из Бона с удовольствием распространялся о возможных последствиях битвы под Дорилеумом. Несколько дней прошло в спортивных развлечениях. За пытки, которым их подвергали мусульмане, христиане мстили, обезглавливая пленных неверных одним взмахом секиры или меча. Богохульных турок сотнями раздевали до пояса и с завязанными за спиной руками ставили на колени. Сверкал клинок, и головы катились по земле. Никто не хоронил мертвецов, рассказывал сэр Гастон, равнина Дорилеума превратилась в огромный, невероятно вонючий морг. Тяжелораненые погибли, как и следовало ожидать. А свое выздоровление сэр Гастон объяснял тем, что к его ране своевременно приложили докрасна раскаленное лезвие топора – это прижгло рану и остановило потерю крови. Всего через неделю он уже был в силах сесть на мула и приехать в Константинополь. Его нынешняя миссия, как он пояснил дамам, заключается в том, чтобы подыскать замену для семнадцати павших воинов отряда. Сейчас они несомненно наслаждаются радостями рая, как это было обещано тем, кто падет по дороге в Иерусалим. Сэр Гастон упомянул в своем рассказе и о странной эпидемии, которая обрушилась на христианское войско как раз тогда, когда оно двинулось по скудным равнинам к горам Армении и к знаменитым городам Филадельфия, Цезарея и Гераклея. За ними, как говорили, лежали сказочные города Алеппо и Антиохия с улицами, мощенными серебром. Иерусалим? По-видимому, никто толком не знает, как далеко находится Священный город. Сам сэр Гастон полагал, что Иерусалим расположен не дальше как в неделе пути за Антиохией. А она, в свою очередь, располагалась в какой-нибудь сотне миль от Золотого Рога. Так, по крайней мере, говорили в войсках. Розамунда подробно расспрашивала своего гостя о характере ранения мужа и узнала, что турецкое копье со всей силой ударило барона Дрого в бок. Стальные кольца его кольчуги не порвались, но не смогли предотвратить серьезных внутренних повреждений. Очевидно, пострадали кровеносные сосуды, так как барон Четраро сплевывал темно-коричневые кровяные сгустки. Более того, сильнейший удар, даже смягченный шлемом, заставил его потерять сознание. Многие крестоносцы, получившие подобные удары в голову, бродят по лагерю, как сонные мухи. Они тупо смотрят перед собой и что-то неразборчиво бормочут. – Остались ли в отряде знатные женщины? – поинтересовалась Розамунда. – Всего несколько, миледи. Большинство этих нежных созданий не смогли перенести солнечного пекла, плохой воды и недостатка пищи. – Ну а как же эти бедняжки существуют? – допытывалась рыжеволосая дочь Роджера де Монтгомери. – Спят, завернувшись в одеяла, на голой земле рядом со своими мужьями или покровителями. – Сэр Гастон хихикнул. – Никаких любовных отношений. Им даже нечем заменить изорванные или украденные бродягами одежды. Бродяги и воры – это настоящая чума. – Тогда что же они на себя надевают? – пискнула откуда-то из темного уголка Хлоя. – Они носят одежды, захваченные у неверных, – ответил гость. – И, представьте, им очень нравятся их легкость и прекрасные ткани. Количество христиан, по примерным подсчетам сэра Гастона, уменьшилось на двадцать тысяч человек. Если добавить к этому потери, понесенные под Никеей, то уже около четверти христианского воинства погибло, оказалось в плену или по слабодушию отправилось обратно. По дороге в Византию ему встречалось немало трусов и малодушных. Розамунда выпрямилась на своем сиденье. – Извините меня, сэр Гастон, я вела себя крайне необдуманно и себялюбиво. Вы, должно быть, смертельно устали, а ваша рука мучительно горит. Нет. Он чувствует себя хорошо, солгал сэр Гастон и постарался подтвердить это движением руки, пытаясь создать впечатление, что он владеет пальцами. Розамунда поднялась. – От всей души благодарю вас за вашу любезность, – с чувством сказала она. – Жаль, что теперь я должна удалиться. – Удалиться? – Да. До утра еще много надо сделать. – До утра? – Норманн, вставая, застонал. Никогда еще Розамунда Четраро не выглядела столь царственно, как сейчас, при свете звезд. – Да. Утром я найду какой-нибудь отряд, отправляющийся в крестовый поход, и двинусь с ним на юг. Сэр Гастон с удивлением посмотрел на нее: – Но, миледи, разве вы не слышали мой рассказ о грустной судьбе наших франкских дам? В каком ужасном положении они влачат свое существование? – Я знаю только одно. Отец ребенка, которого я ношу, лежит раненый и беспомощный, – ровным голосом произнесла Розамунда. – Повинуясь своим чувствам и своему долгу, я должна быть рядом с ним. Баронесса Четраро не добавила, что горела желанием сбежать от унылого безделья, подозрительности и интриг Константинополя. Как жаждала она снова вдохнуть свежий, не надушенный воздух, снова сесть верхом на лошадь. Ей было бы даже приятно снова услышать грубые шутки воинов и позвякивание снаряжения, которое чистили слуги. Это было бы приятнее для ее ушей, чем звуки виол и арф. На следующее утро сэр Гастон навестил сестру своего военачальника и рассказал ей об отряде каталонцев. Они намеревались на следующий день отправиться на подкрепление армии графа Раймонда Тулузского. Их предводитель был готов – разумеется, за щедрое вознаграждение – сопровождать баронессу Четраро на юг.Глава 8 ЛЕТОПИСЕЦ
Летописец был среди рыцарей, следовавших за герцогом Робертом Нормандским. Подкрепляя свои силы хорошей выпивкой, они достаточно храбро сражались, когда этого требовали обстоятельства. Летописец назвал свое имя – Шарль де Кофрфор, иначе Шарль Полный Сундук. Но пояснил, что это было лишь его военное прозвище. Господин Шарль, очевидно, отчаянно нуждался и отправился в крестовый поход из своего жалкого земельного владения в Восточной Нормандии. Однако он был наделен проницательностью, интуицией, военными знаниями, а также способностью владеть пером, непревзойденной даже такими церковными писателями, как Фульшер из Шартра и епископ Адемар из Пюи. Сэр Эдмунд впервые повстречал этого высокого, остроносого хитрого человека во время дележа добычи, захваченной при Дорилеуме. Человек этот показался Эдмунду очень осмотрительным. Во время перехода из Никеи господина Шарля приглашали присутствовать на различных советах. Он вел записи для своего ленивого господина, известного среди крестоносцев как Робер Обрежь Штаны. В таком же качестве сэр Эдмунд представлял интересы Боэмунда и его темпераментного племянника Танкреда. Именно перо Шарля с невиданной в те времена точностью описало события, последовавшие за первой трудной победой. По какой-то непонятной причине летописец решительно отказывался поставить свое имя на рукописи. И поэтому ей предстояло пережить века в качестве работы Неизвестного. Частенько Эдмунд видел, как, используя седло вместо стола, Шарль записывал при свете дымящихся лагерных костров какое-либо событие, достойное упоминания. Из его записей стали известны те ужасы и страдания, которые обрушились на крестоносцев после ухода с равнины Дорилеума. Он упоминал о тучах мух, кровососущих клещах и тучах залепляющей глаза мошкары. Описал ужасающие опустошения, сожженные поля, угнанный скот. Очень быстро результаты всех этих напастей и лишений сказались на христианском воинстве. Оно было полностью дезорганизовано, хотя и насчитывало еще около двухсот тысяч человек. Как правило, слабые гибли как мухи. Знатные франкские дамы одна за другой предавали свои души в руки Спасителя. В отличие от сэра Эдмунда де Монтгомери, сэр Шарль Полный Сундук передвигался вместе с основными силами. Тридцатилетний летописец умудрялся сохранять даже свои личные вещи, в то время как армия, проходившая через гряду труднодоступных черных гор, устилала перевалы костями тех, кто погиб от жажды и голода. Продвигаясь теперь по широким и опустошенным равнинам, франки наконец достигли окруженного стенами города Икония. Они остановились там передохнуть, но обнаружили очень мало провизии. Когда поход возобновился, вьючные животные стали чаще падать от истощения. В отчаянии люди в кольчугах нагружали наиболее необходимые вещи на быков, овец и даже на свиней. Но грузы очень скоро до крови растирали спины этим несчастным животным, и они также погибали. Сэр Шарль с грустью писал о гордых рыцарях, потерявших могучих боевых коней и вынужденных ехать на быках. Менее удачливые брели с обычными пикейщиками, упорно волоча за собой седла в надежде на то, что смогут найти себе лошадь. К тому времени как крестоносцы увидели горы Тавра, в голубой дымке вставшие на их пути, три четверти их боевых коней уже погибло. Только верховые лошади отряда сэра Эдмунда, казалось, были исключением. Его отряд, сократившийся теперь до двадцати двух воинов, двигался в авангарде и поэтому находил жалкие запасы пищи и воды, по недосмотру оставленные обитателями этой выжженной солнцем земли. В горах, писал сэр Шарль, христианское войско меньше страдало, поскольку там было изобилие воды и травы. К тому же до них дошли последние поставки продовольствия от византийского императора. Вдохновленные сказочными богатствами Сирии, крестоносцы вступили в древний город Гераклею. Здесь дочерна загорелые люди отдыхали в течение нескольких недель. Но ни Боэмунд, ни Танкред не собирались расслабляться надолго. Эти могущественные военачальники повели основные силы по отлогим долинам и холмам. Они миновали Киликийские Ворота и наконец двинулись вдоль морского берега к богатому городу Тарсу. Эта турецкая крепость была взята неожиданно быстро после короткого сражения, которое стоило безжалостным итало-норманнам малых потерь. Ранней осенью, писал сэр Шарль, христиане спустились с гор Тавра и вышли к подножиям холмов. Они ступили на землю, где в молочных берегах текли медовые реки. Крестоносцев приветствовали многочисленные коротконогие и темнолицые люди с грубыми серебряными крестами на груди. Эти люди с незапамятных времен были знакомы с оружием. Они рассказывали, что сюда, в долину, они опустились из горной крепости, куда их предки, несколько поколений назад, бежали от неистовства сельджуков. Разговоры у лагерных костров крутились все больше вокруг сказочно богатого города под названием Антиохия. Местные жители предупреждали, что он неприступен и взять его можно разве что в результате предательства или измором – подвергнув голодной осаде. Однажды выехав из темного кедрового леса, покрывавшего подножие холмов, отряд очутился в длинной и широкой долине. В дальнем ее конце белели стены большого города, взбиравшегося по склону холма к его вершине. Это, писал летописец, и была знаменитая Антиохия. Здесь императоры античных времен отдыхали. Тит и Диоклетиан сыграли важную роль в его планировке, а царь Ирод воздвиг там мраморный дворец исключительной красоты. Будучи одновременно недюжинным стратегом, летописец утверждал, что этот город представлял собой ключ к важнейшим караванным путям, идущим к богатым городам Аравии, Египта и других земель. Через Антиохию везли пряности, ковры и другие изделия из Алеппо, Дамаска, Каира, других могаметанских столиц в Венецию, Геную и Византию. Но многие из этих богатств оседали в Антиохии. Умирающие от голода, с ввалившимися глазами, крестоносцы спускались с гор, чтобы с жадностью наброситься на изобилие Сирии. Они захватили большие стада коз, овец и другого скота. И одновременно потеряли более половины из того, что приобрели. Воины в серо-коричневых кольчугах безумно разоряли огороды и ломали сады. Когда христианское воинство приблизилось к городу и уже можно было рассмотреть его высокие зубчатые стены и массивные башни, лица его предводителей стали совсем хмурыми. Из-за потерь, понесенных при Дорилеуме и при осаде Никеи, их численность уменьшилась. Стало ясно, что такими силами взять этот замечательный город, утопающий в зелени, с пальмами, возвышающимися над красными и белыми крышами, невозможно. Конечно, за его стенами должно было находиться много прекрасных садов и огородов. И уж наверняка турецкий командующий гарнизоном, Яги Сиян – внук завоевателя Алп Арслана давно уже. получил данные разведки о приближении франков. Естественно, он обеспечил город огромными запасами продуктов питания и вооружений. Эскадрон за эскадроном, вассал за вассалом устанавливали франки свои палатки перед Антиохией. Вместе с ними на эти земли пришли эпидемии и беззаконие. Заметные изменения произошли с крестоносцами, как в их поведении, так и в обличий, отмечал сэр Шарль. Он писал: «Рыцари и бароны, часто лишившиеся коней, с оснащением, ограниченным висящими, как лохмотья, кольчугами, больше не взирают с презрением на добросовестных сержантов, ратников и других воинов из простонародья. Многие из последних, доказавших в бою свои превосходные качества, были посвящены в рыцари и получили право носить позолоченные шпоры. Этого никогда бы не могло случиться на полях брани в Европе». Однажды ранним ноябрьским вечером главные предводители крестоносцев собрались на совещание. Председательствовали на нем мрачный Готфрид Бульонский, болтливый Хью из Вермандуа, епископ Адемар, папский викарий и Раймонд Тулузский с остроконечной серебристо-седой бородкой. Провансалец с плохо скрываемым недовольством поглядывал на Боэмунда. Этот рыжеволосый паладин, казалось, был неутомим. Единственный из крестоносцев, он, казалось, знал свои цели и пути к их достижению. С каждым днем, отмечал сэр Шарль, значение этой огромной фигуры среди предводителей норманнов возрастало. И это несмотря на то, что сын Робера Гюискара вел одну из самых малочисленных армий. В изношенном и залатанном шатре, где происходило совещание, присутствовали также два Робера – из Нормандии и из Фландрии. Эти вообще-то малоприметные двоюродные братья при обсуждениях редко подавали свой голос. Вероятно потому, что по сравнению с хитрыми людьми, вроде Раймонда, Боэмунда или византийского генерала Татиция, были тугодумами. Облаченный в алые и позолоченные доспехи, этот византийский генерал остался с франками якобы для того, чтобы командовать несколькими частями туркополов, хотя основные силы византийцев давно уже замедлили свое продвижение в связи с приказом занимать замки и города в провинции Анатолии с целью вернуть их под правление Византии. На совещании было решено со всей энергией вести осаду Антиохии. Все понимали, что город будет принадлежать тому, кто первым подымет свое знамя на его самой высокой башне. Легко можно было догадаться, что Боэмунд преисполнен решимости добиться, чтобы только его знамя развевалось над самым прекрасным городом Сирии. Осада тянулась всю зиму, принося неописуемые страдания крестоносцам. Голод достиг такой степени, что среди них появились людоеды. Отчаявшиеся люди даже вскрывали гробницы на турецких кладбищах и поедали их содержимое, к неописуемому ужасу осажденных. Увидев все это, турецкий командующий Яги Сиян разослал гонцов по исламским странам с призывом отомстить за подобные надругательства. Поэтому к началу весны с востока и юга к городу стали подтягиваться большие армии неверных. Вокруг Антиохии собирались эмиры и султаны с ястребиными лицами, сверкавшие золотом и драгоценными камнями. За ними следовали массы копьеносцев и всадников-лучников. Был среди них и эмир Рудван из Алеппо. Его всадники в белых тюрбанах наводнили местность подобно выпавшему снегу. Они истребляли отряды франков, посылаемых на поиски еды и фуража, усугубляя тем самым голод в лагерях христиан. Положение крестоносцев с каждым днем становилось все более отчаянным, писал сэр Шарль Полный Сундук. Во всем лагере можно было насчитать менее тысячи лошадей, способных ходить под седлом, и не более семисот рыцарей благородного происхождения, достаточно сильных, чтобы управляться с мечом. Командование этой горсткой ветеранов было поручено герцогу Боэмунду. Среди них мелькал вымпел Серебряного Леопарда, который поддерживали теперь только пятнадцать крепких бойцов: остальные умерли от болезней или были убиты в небольших стычках, где люди гибли так же, как и в больших сражениях вроде Дорилеума. В первой же битве христианского воинства с сарацинами эмира Рудвана оказалось, что они лучше оснащены и значительно более сведущи в военном искусстве, чем отважные, но дикие турки. Вместе с тем сарацины еще не смогли приноровиться к манере христиан проводить военные операции, не постигли этих западных людей со светлыми глазами, длинными волосами и неимоверной силой. Арабы просто своим глазам не верили, когда закованные в сталь всадники обрушивались на них, пробивали их кольчуги, словно легкую ткань, сбивали на землю разящими булавами. Когда небольшие отряды франкских рыцарей, нанося удары направо и налево, врезались в массы всадников в белых одеяниях, возникала чудовищная сумятица. Разъяренным эмирам стало даже казаться, что невозможно устоять перед крестоносцами – еще до конца дня семь сотен рыцарей, распевающих победные гимны, разгромили тысячи мусульман, вступивших в бой под зелеными бунчуками из конского волоса. Плащ Боэмунда, как и плащи Дрого из Четраро и Раймонда Пиле, был разорван в клочья и покрыт пятнами крови. В этой битве Громоносец получил удар копьем в плечо, повреждена была артерия. В разгар битвы боевой конь Эдмунда споткнулся и, осев на колени, повалился на бок. Он храпел, фыркал, дергал ногами, пока последние капли крови не вытекли на пыльную траву. Казалось почти немыслимым, чтобы франки нанесли поражение лучшим из сарацин эмира Рудвана. Как обычно, усталые, но довольные успехом, победители срывали тюрбаны и шлемы прежде, чем отрубить бритые головы растерянным темнолицым воинам. Скорбные трофеи образовали кровавую пирамиду – на радость шакалам и грифам. У сарацин захватили сотни верховых лошадей – небольших, но быстрых и выносливых животных из конюшен Шираза, Хамина и Мосула. Несмотря на разгром армии эмира Рудвана, Антиохия стойко сопротивлялась. Как писал летописец, горожане и их защитники просто потуже затянули пояса на своих уже опавших животах и обращали к Аллаху еще более горячие молитвы. Осада продолжалась. Продолжали умирать и франки, дрожа в лихорадке, утопая в грязи в своих промокших одеждах и кожаных палатках. Некоторая поддержка пришла к франкам из не столь удаленного порта Святого Симеона, где появился небольшой флот английских мореплавателей. И очень кстати среди его пассажиров оказались рыцари, очень сведущие в искусстве ведения осады. Турки же сотнями начали гибнуть в городе от голода. Многие пали, упорно защищая стены города. Они перебили всех христианских пленников и тем вызвали у христиан неукротимую жажду мести. В начале июня Антиохия пала, но только благодаря предательству некоего Фируза. Как говорили, по рождению он был армянином и христианином. Вступив в тайные переговоры с Боэмундом, он проявил готовность провести франков в город. Боэмунд, известный своим коварством, не упомянул об этом ни одному из вожаков христианского воинства. Вместо этого он созвал совещание военачальников, на котором без пояснений предложил начать заключительный, всеобщий штурм города, который будет принадлежать тому, кто первым поднимет свое знамя над цитаделью. В светлую июньскую ночь, когда сверкающие в сирийском небе звезды напоминали раскаленные шипы, вбитые в темный небосвод, была предпринята попытка штурма. Это произошло после предпринятого франками обманного маневра! Направив некоторые части к юго-западу, они хотели показать, будто уходят за фуражом. После захода солнца герцог Боэмунд начал действовать. Во главе специально подобранного отряда, в который входили и сэр Эдмунд, и летописец, он двинулся к стенам города в том месте, где возвышались две большие башни, так называемые Сестры -Близнецы. Воины Боэмунда нашли две опущенные со стены веревочные лестницы. По ним-то мускулистый итало-норманн и начал взбираться на стену. Его спутники следовали за ним по пятам. Они двигались молча, затаив дыхание, стараясь, чтобы не звякнули мечи или доспехи. Наконец Боэмунд достиг верха стены и отдал команду. Длинные мечи норманнов быстро очистили ближайшие участки стен, а затем люди Боэмунда спустились вниз и отворили боковые ворота, через которые в крепость устремились рыцари под водительством Танкреда. На восходе солнца третьего июня 1098 года только главная цитадель Антиохии оставалась в руках у турок. Жемчужина Сирии попала в цепкие лапы Боэмунда. Его хватку не могли ослабить ни уговоры, ни гнев и возмущение других предводителей, ни осуждение церкви. Каким-то образом поразительному числу сирийских, греческих и армянских женщин удалось выжить после ужасной резни, начавшейся после того, как турки сложили оружие. Никто из мужчин-мусульман не остался в живых. Франкские воины убивали мусульман безотносительно к их возрасту или положению. Они сжигали своих пленников, кастрировали их, даже вспарывали им животы и заставляли идти, наступая на выпадающие внутренности, пока несчастные не падали на землю в агонии, костенеющими устами повторяя имя Аллаха или его пророка Мухаммеда. Летописец отмечал точным и бесстрастным пером, что победители рассчитывали после всего этого насладиться отдыхом и заняться восстановлением сил. Но этого не произошло. Едва осаждавшие проникли за стены, из-за которых так долго отражались их атаки, как к Антиохии подошли три мусульманские армии. Осаждавшие превратились в осажденных. Вскоре они также начали голодать и бедствовать в городе, как бедствовали и голодали за его пределами. На этот раз равнину вокруг Антиохии белыми снежными хлопьями усеяли тысячи мусульманских палаток. Над прекрасными шелковыми шатрами взвились бунчуки правителя Мосула Кербоги, султана Дамаска Докака и Рудвана, того самого эмира из Алеппо, отряд которого разбили семь сотен рыцарей Боэмунда еще задолго до завершения осады. Основные силы осаждавших прибыли с юга и с запада. Их кавалерийские части были оснащены копьями вместо луков. Численность их была велика, и это позволило мусульманам завершить полное окружение Антиохии. Вскоре смертоносные эпидемии, проникнув за стены, которые не смогли преодолеть турки и сарацины, начали косить христианское воинство. В отчаянии христианские вожаки обратились за помощью к Алексею Комнину. По имевшимся сведениям, последний маневрировал по другую сторону Тавра и наблюдал с безопасного расстояния за всем, что происходило на южной границе. Шпионы императора, само собой, подробно расписывали огромное количество мусульман, сосредоточенных под Антиохией,и сообщали, что франки обречены. Никакая сила, вероятно, не смогла бы доставить осажденным продовольствие. Невозможно было и подойти подкреплениям с побережья – там курсировали сторожевые галеры из Египта. Для Алексея, хладнокровного и опытного военачальника, попытка спасти его союзников означала бы благородное безумие. А это он всегда осуждал. На обращение Боэмунда был послан ободряющий, но ни к чему не обязывающий ответ, после чего в северном направлении, занимаясь переформированием войск и укрепляя гарнизоны тех замков и наблюдательных башен, которые принадлежали его предшественникам. Вторая осада Антиохии развивалась в таких ужасающих условиях, что даже красноречивый сэр Шарль Полный Сундук не находил слов, чтобы описать ее. Болезни безжалостно разили осажденных. Среди прочих погиб и маленький Ричард, наследник Четраро, на первой же неделе его короткой, но трудной жизни. Сэр Дрого, убитый смертью сына, повел своих воинов на вылазку из города и оставил несколько сотен неверных плавать в крови. Но это не уменьшило силу его горя. Когда ломбардец вернулся в занимаемый им дворец, его встретила потрясенная горем Розамунда. Она приободрилась, заметив, что отчаяние постепенно исчезает из живых глаз супруга. – Мужайся, господин мой. С Божьего сочувствия и если ты будешь мне верен, я рожу тебе другого ребенка, – пообещала она. – Он останется живым, чтобы править в огромном владении, которое завоюет твой меч в этой прекрасной стране, гораздо более богатой, чем Кампания в Италии. Подбадривал Розамунду ее брат-близнец. Похудевший и еще более загорелый, он урывал несколько часов сна под их крышей, когда ему позволяли его обязанности. Каждое утро и каждый вечер лорды и предводители посещали мессу. Богослужения проходили в одном из зданий, которые первоначально были церквами, потом превращены в мечети, а теперь снова служили христианам. Крепко должны были молиться предводители христиан. На помощь осаждавшим прибывали подкрепления из Мосула под водительством турка Тугтегина, безжалостного атабега сельджуков. Подходил также араб Сукман ибн-Уртук, нынешний правитель Иерусалима. И как раз тогда, когда, казалось, все потеряно и голод довершит то, что не смогли сделать кривые сабли мусульман, простодушный крестьянин по имени Петер Варфоломей нашел, как он утверждал, наконечник того самого копья, которым ударили в бок Спасителя, когда Он страдал на кресте. Летописец вместе с Боэмундом и некоторыми другими был, конечно, втайне убежден, что то было не римское, а арабское копье, которое Варфоломей вытащил из ямы, спустившись в нее сам. Но на каждого сомневающегося нашлась тысяча поверивших. И эта вера придала новые силы больным и ослабленным болезнями христианам. Итак, утром двадцать восьмого июня каждый мужчина, способный носить оружие, и многие из тех, кто уже не мог этого делать, вышли за Адемаром, епископом из Пюи, через городские ворота. Они были готовы атаковать врагов, лагерные костры которых каждую ночь заполняли голубоватым дымом всю долину. Многим доблестным рыцарям, потерявшим лошадей, пришлось вступить в битву рядом со слугами, вооруженными пиками, и разного рода простонародьем с дубинками. Однако эти отчаявшиеся люди, как оказалось, были настолько вдохновлены обладанием первой реликвией, что, ввязавшись в бой, не отступали перед непрерывными волнами завывающих мусульман. В течение долгого июньского дня франки орудовали своим оружием, как они это делали при Дорилеуме. Когда же чувствовали, что силы их на исходе, поднимали глаза на штандарт с изображением креста, к которому был прикреплен наконечник копья, найденный Варфоломеем-Простаком. Присутствовал при сражении и Петр Пустынник, подбадривая слабеющих, в то время как монахи и священники хватали оружие павших и дрались с неверными, как скандинавские витязи. Люди с Запада держались стойко, несмотря ни на что. И умирали, где стояли, бормоча свои исповеди священникам, которые, сами раненные, ползали по земле между ними, чтобы даровать отпущение грехов и совершить последнее помазание. В конце дня снова раздались громкие крики франков и звон мечей о щиты: осажденные христиане ринулись на поддержку отрядов герцога Готфрида Бульонского и всадников Боэмунда. Это был последний резерв крестоносцев. – Так хочет Бог! – вырывалось из пересохших глоток франков. И Бог пожелал, чтобы крестоносцы одержали верх. Сэр Шарль написал об этом в ту самую ночь, хотя его пальцы, онемевшие от тяжелого меча, плохо ему повиновались. Невероятно, однако Битва Копья была выиграна, и объединенные силы мусульман, разобщенные и охваченные паникой, обратились в бегство. В ближайшие сто лет властителям неверных не суждено было объединиться для битвы с крестоносцами.Глава 9 ПОД СТЕНАМИ АРКИ
Войска крестоносцев были настолько истощены и ослаблены, что не могли уже двигаться дальше. Им были необходимы новые подкрепления и новое руководство. Теперь, когда Боэмунд отвоевал себе город, он не был расположен к новым авантюрам. Кроме того, надо было сгладить острую вражду, которая вспыхнула между Боэмундом и Раймондом, иначе крестовый поход был бы обречен. Вскоре после захвата Антиохии норманны вступили в битву с провансальцами, в то время как лотарингцы, французы и фламандцы, слишком измотанные для потасовок, сохраняли настороженный нейтралитет. В течение осени 1098 года несколько предводителей крестоносцев умерло. В их числе и доблестный Адемар, папский викарий, и граф Болдуин из Хайнолта. Хью из Вермандуа был счастлив отправиться с посольством, чтобы заполучить давно обещанную императором помощь. Другие влиятельные бароны искали предлоги для военных вылазок с целью захвата себе во владение того или иного замка или города. Не более пятидесяти осталось от тех двухсот тысяч, которые с такой уверенностью подступали к Никее. И даже они оказались сейчас разделенными на два лагеря. Одни предпочитали подождать в Антиохии и пополнить свои силы с помощью Боэмунда, другие же прислушивались к призывам Раймонда. Граф Тулузский вместе с Танкредом, Готфридом и значительным большинством наиболее бедных рыцарей считали себя обязанными выполнить клятву и продолжить поход на Иерусалим. Многие узы вассальной зависимости оказывались в эти дни нарушенными из-за того, что установился новый общественный порядок. Воспоминания о замках на туманных берегах Британии, Нормандии и Брабанта, в согреваемых солнцем долинах Прованса и в глухих лесах Лотарингии постепенно выветривались. Уже не имело значения, чей государь что совершил или у кого было сколько феодальных наделов. К хорошему бойцу прислушивались, его уважали. В то время как к инертному и вялому землевладельцу так не относились, вне зависимости от его родословной. В конце ноября иерусалимцы – так называли приверженцев клятвы освободить Гроб Господень – покинули Антиохию, опустошили западную часть Сирии и, следуя вдоль берега, начали упорно продвигаться к своей цели. В военном отношении в отрядах крестоносцев произошли большие изменения; они касались как тактики, так и вооружений. Теперь их эскадроны стали не такими тяжеловесными и более подвижными. Их освободили от лишнего груза, привели в порядок обозы, убрав оттуда невоенных лиц и слабодушных, вроде краснобая Стефана из Блуа, который отправился домой. Крестоносцы поставили под седла самых лучших и самых крупных лошадей, захваченных у арабов. Франки больше не упорствовали: во время переходов они уже не надевали кольчуги, слишком жаркие и слишком тяжелые. Лошади не смогли бы постоянно нести такой вес. Щиты, кольчуги и шлемы взваливались теперь на упряжных животных. Выступавшие из Антиохии рыцари Серебряного Леопарда были облачены в развевающиеся белые одежды с красным крестом на плече и в остроконечные шлемы. Так что если не принимать во внимание их большой рост, его воинов легко можно было принять за сарацин. Они научились носить поверх кольчуг легкие накидки из хлопка, что значительно уменьшало воздействие солнца. Теперь сэр Этельм, Железная Рука, Арнульфо из Бриндизи и другие везли бурдюки из козьих шкур, наполненные водой и прикрепленные позади седла. Примечательно, что из первоначального состава отряда выжили все три византийских сержанта; они продолжали скакать под серебристо-голубым вымпелом сэра Эдмунда де Монтгомери. Бывший граф Аренделский упорно отказывался заменить свой штандарт из-за его связи с Дорилеумом и Битвой Копья. Остались в отряде и два итало-норманнских сержанта, а также норвежец Рюрик. Теперь уже «сэр» Рюрик, благодаря доблести, проявленной во время осады Антиохии. Из ратников только двое саксонцев и трое норвежцев все еще ехали, свесив длинные ноги с захваченных жеребцов и обмениваясь на марше солеными шутками. Среди ветеранов отряда появились новые лица, преимущественно армяне и сирийцы – христиане с ястребиными чертами лица и горцы. Все они были людьми крупными, поскольку Железная Рука не стал бы вербовать кандидатов более легких, чем самые тяжелые сарацины. Как точно предвидел сэр Эдмунд, их знания местности были неоценимы. Далеко справа от дороги, по которой двигались иерусалимцы, плескалось Средиземное море, необыкновенно голубое и прохладное ранней весной. Прибрежная дорога вилась по зеленеющей сельской местности, где среди фиговых и померанцевых рощ были разбросаны жалкие, крытые соломой хижины. Земля пестрела маками, анемонами и другими цветами, которые чудом появлялись из растрескавшейся земли, когда выпадало хоть немного дождя. Почти каждую возвышенность или холм венчали беспорядочные руины либо форта, либо наблюдательной башни, построенных давным-давно финикийцами, греками, македонцами, египтянами, персами или римлянами. Ниже Маргата сирийский берег был совершенно лишен деревьев и другой растительности. Его населяли одни только опасливые и осторожные кочевники, одетые чаще всего в коричневые плащи из верблюжьей шерсти. Особая миссия отряда, возложенная на него графом Танкредом, состояла в том, чтобы обнаружить мусульманский порт. Слабо защищенный, он все же был способен принимать и обеспечивать разгрузку время от времени поступающего снабжения из Генуи и Пизы. Но не из Венеции. Венецианцы остались непреклонными союзниками Алексея Комнина. По словам сирийских участников отряда, существовало несколько таких портов, а именно Ботрун, Джиблит и дальше по берегу древняя Яффа, утратившая свое значение из-за более удобно расположенных Газы и Акры. Такие укрепленные порты, как Триполи, Тир и Сидон, невозможно было взять без осады. Найти удобную гавань было совершенно необходимо, так как во время осады Антиохии из Английской земли, как континентальные франки называли Англию, с грузами прибывали суда. Иерусалимцы располагали небольшим флотом, который остро нуждался в базе для своих операций. Однажды в середине марта, к вечеру, отряд наткнулся на руины большого, когда-то обнесенного стеной города. И Железная Рука, повернувшись в седле, вопросительно поднял брови. – Мы проехали довольно много, – сказал Эдмунд, вытирая загорелый лоб. Он отдал приказ двинуться обратно к армии франков, осадившей город Арка. Это был аванпост знаменитого порта Триполи. Последний со всех сторон был окружен водой, и путь к нему пролегал по дамбе, оборонительные сооружения которой выдержали все натиски крестоносцев. Сельская местность вокруг была очень богатой. Вот уже несколько недель тридцать тысяч направлявшихся к Иерусалиму франков жили просто превосходно. Барон Дрого из Четраро временно устроил свою жену в небольшой крепости, расположенной близ медленно текущего ручья с прекрасным садом, созданным стараниями его арабских хозяев. Но Дрого, однако, с презрением отказывался считать это приятное местечко своим постоянным владением в Святой Земле. Именно там, в этой маленькой крепости, на некоторое время обосновался и пылкий молодой сэр Робер из Сан-Северино. Он поправлялся от раны, полученной в Битве Копья. Молодой человек с трудом отрывал взор от высокой и стройной фигуры женщины, которой он увлекся еще в Италии. Однако ему пришлось заставить себя забыть о Розамунде. Она была женой Дрого. Несколько раз сэр Робер говорил об отъезде второго отряда вассалов из Сан-Северино. Сэр Тустэн, однако, сообщал, что судовладелец из Пизы обещал доставить это новый отряд в Палестину лишь в мае. Причина такой задержки заключалась в том, что сицилийские моряки, которые первоначально согласились перевезти эти подкрепления, приняли более щедрое предложение поступить на службу к византийцам. Поступило также и сообщение от леди Аликс. Она передавала, что в каждой молитве упоминает Эдмунда де Монтгомери, к которому надеется присоединиться, если того пожелает Бог, еще до взятия Иерусалима. Многие прохладные весенние вечера, когда приходилось разводить огонь внутри помещения, Эдмунд, Робер, Дрого и Розамунда говорили об Аликс и о доблестном военачальнике графе Тюржи. – Так и не удалось узнать, кто направил в ту ночь оруженосца искать меня? – поинтересовался однажды Эдмунд. Сэр Робер заколебался, взглянув через комнату на Дрого, методично точившего перед очагом свой кинжал. В этот момент ломбардец поднял глаза и пристально посмотрел на брата Аликс. – Нет, мерзавец, который это сделал, так и не обнаружен. Из прихожей раздался взрыв смеха Хлои и басовитый хохоток Герта Ордуэя. Молодой саксонец любил поддразнивать эту милую, большеглазую девушку, но, по ее мнению, не замечал ее чувств. Честно говоря, саксонец полагал, что только ум и удача пока помогали Хлое избегнуть гибели и насилия. Как всегда, внимание молодого саксонца было приковано к баронессе из Четраро, хотя Розамунда, подобно немногим благородным дамам, получила разрешение от практичных прелатов носить в походах мужскую одежду. Только при остановках, подобных этой, леди облачалась в блестящие, многоцветные платья, в прошлом принадлежавшие сарацинским женщинам. Европейские одежды давно износились и разорвались, а под рукой не было портних, которые бы могли сшить новые. Врожденное благородство Розамунды стало еще более заметным. Красоту ее только подчеркивали легкие морщинки вокруг рта и глаз – свидетельства страданий и печали в связи с потерей ребенка. Как правило, Розамунда всегда была занята добыванием продовольствия для своего домашнего хозяйства. В свободное время она утешала больных и раненых, о выздоровлении которых просила в своих молитвах. Дородные франки, расквартированные во владении Дрого, часто с признательностью отзывались о части туркополов под командованием графа Льва Бардаса, которая осталась от всего превосходного византийского войска, обеспечившего захват Никеи. Эта часть прикрывала левый фланг. Она также привозила пищу и фураж и вынуждала опасливых местных христиан больше помогать войскам. С наемниками, как стало известно, все еще находилась графиня Сибилла. Эта странная, молчаливая женщина во время переходов сидела на горбах верблюда на шелковых подушках. Розамунда сначала с недоверием слушала, что Сибилла слывет ангелом милосердия среди горячих воинов ее дяди. До графини Розамунды также дошли известия, что графиня Корфу частенько присутствовала на пирушках, которые устраивали офицеры графа Льва после взятия какой-нибудь крепости, а также при дележе богатой добычи. Никогда, однако, ни при каких обстоятельствах не посещала темноволосая графиня Сибилла лагерь франков. Рослые западные воины могли только видеть, как она подгоняла ногой верблюда где-нибудь на окраине их лагеря в сопровождении двадцати преданных ей туркополов. Ходили слухи, что, когда Сибилла решалась петь лагерных костров, то превосходила миловидных бюльбюлей – соловьев Западной Азии. Время от времени говорили, что пикеты франков, заслышав в отдалении ее чистый голос, считали, что это поет ангел. Они поспешно крестились и дрожащим голосом рассказывали сотоварищам об этом чуде. Когда первый из таких рассказов достиг слуха Эдмунда де Монтгомери, он с удивлением вспомнил пророчество столпника, прозвучавшее с колонны в Константинополе. До последнего времени он не знал, что бюльбюль и соловей – разные назваия одной и той же птицы. На протяжении всей кампании и в период медленного выздоровления Дрого между сэром Эдмундом и бароном из Четраро возникло грубоватое, но подлинное товарищество. Что же касается Сибиллы, то лучше бы это красивое создание находилось на расстоянии в тысячу лиг. Хотя Эдмунда волновала ее близость. Довольно часто, когда бывший граф Аренделский лежал, завернувшись в одеяло, и прислушивался к мрачному пофыркиванию привязанных рядом верблюдов и к перекличке часовых, он раздумывал, чего ради Сибилла продолжает ездить с графом Львом, Почему не вернулась в Сирию в объятия Боэмунда Могучего? Герцог Тарантский, теперь именовавший себя князем Антиохии, быстро становился одним из самых могущественных христианских государей. Добившись своего, он твердо отказался от дальнейших авантюр, за что Танкред, Раймонд Тулузский, Готфрид Бульонский и другие называли его рыцарем-клятвопреступником, который отошел на обочину дороги в Иерусалим. Сохраняя спокойствие, рыжеволосый гигант заявлял, что лучше послужит делу, охраняя их тылы и поддерживая открытыми каналы связи с императором, теперь уже благополучно вернувшимся в свой дворец над небесно-голубым Мраморным морем. Нередко Эдмунд размышлял о счастье своей сестры и о ее чувствах к Дрого и Роберу из Сан-Северино. Могло ли быть игрой его воображения, что она хоть и производила впечатление поглощенной семейным долгом, на самом деле все больше отдалялась от своего мужа? Отдавала ли она себе в этом отчет? Задумывалась ли над пылкими взглядами сэра Робера? Молодой де Берне просто был не в силах скрывать свое восхищение ею. В такие ночи мысли Эдмунда неизменно возвращались к Аликс. Хорошо ли она себя чувствует? Верна ли своей любви, подобно ему? Где может находится сейчас? Получила ли она хотя бы одно из его посланий? Что же касается Дрого, то этот человек будто ничего не замечал. Или равнодушно смотрел на отношения своей жены и красивого молодого рыцаря, который при всякой возможности пытался ей услужить. Вне зависимости от его отношения к семье, не было сомнений в том, что ломбардец показал себя не только замечательным бойцом, но и прекрасным, дальновидным военачальником. Его воины всегда находились в самом средоточии боя и превосходно действовали при захвате добычи в каком-нибудь лагере или городе сарацин. Отряд Серебряного Леопарда проявил себя столь же хорошо. Но ему чаще приходилось сражаться, поскольку он обычно выдвигался на много лиг вперед армии. Изо дня в день Эдмунд прилагал все свое умение, весь опыт и интуицию, чтобы вовремя обнаружить присутствие вражеских сил, найти источники снабжения частей и, объединив остатки хрисанских общин, которым удалось выжить в сельской местности, вовлечь их в дальнейший поход. Ко всеобщему удивлению, осада Арки в начале весны продолжалась довольно долго. Однажды осажденные в Триполи турки решились на вылазку. Но были отброшены назад в короткой, но упорной схватке, показавшей возможности франкской кавалерии, намного превосходящие возможности фанатичных, но легко вооруженных мусульманских воинов. Теперь уже стали роптать и духовные руководители крестоносцев. Почему это бароны столько топчутся на пути в Иерусалим? Арнульф, капеллан при сонном герцоге Нормандском, и Даимбер, архиепископ Пизы, пылали такой яростью, что рука летописца Шарля сильно дрожала, когда он записывал на совете их резкие выпады. Более бедные рыцари, которым приходилось без конца заботиться не только о пропитании собственном и своих последователей, были среди тех, кому нравилось уверенное руководство Раймонда и Танк-еда. Молодой русый племянник Боэмунда буквально взревел, словно раненый лев, когда услышал предложение взять Арку любой ценой. Он пояснял, в мае зерновые начнут приносить урожаи, а овощи можно будет собирать по дороге. И, самое важное, наполнятся все, даже небольшие источники воды. В то время как к концу июня они высохнут и христианское воинство вновь будет страдать от жажды, как это было под Антиохией. Так что поход на Иерусалим нужно начинать сейчас или никогда. Так и вышло. В начале мая 1099 года крестоносцы свернули палатки, погрузили остатки своего небольшого имущества на верблюдов и ослов, захваченных на пастбищах. Радостно было видеть этих толстых и резвых животных после длительного отдыха, во время которого они основательно отъелись на равнинных пастбищах.Глава 10 ВАКХАНАЛИЯ
В шатре, увешанном замечательными персидскими коврами, захваченными во время взятия Антиохии, за столом сидел Танкред. Около него собралось много знаменитых рыцарей. Людей, подобных баловню судьбы Раймонду Пиле. Был среди них и Ричард из Принципата, и известный военный инженер сэр Гастон из Беарна. Их грубые, покрытые шрамами лица превратились под лучами безжалостно палящего солнца в красно-коричневые маски. Если бы не высокий рост, франкам было бы трудно отличить своих предводителей от сарацин. К столу подошел бывший граф Аренделский. Его сопровождали сэр Уильям Железная Рука и Ахаб, сирийский боец отряда. Он слыл хорошим знатоком местности, простиравшейся к югу от Триполи. Ахаб слегка поклонился сначала графу Танкреду, затем графу Раймонду Тулузскому. Их опущенные над столом головы отсвечивали золотом в лучах красивых турецких светильников, свисавших с перекрытий шатра. Епископ из Пюи, статный прелат с проникновенным взором, густой черной бородкой и сросшимися на переносице бровями, заговорил первым. Он дал понять, что совещание избрало отряд Серебряного Леопарда для самого ответственного и опасного дела. Ему предстоит, оторвавшись от основных сил иерусалимцев, произвести разведку морского побережья в южном направлении на всем пути к Аскалону под Иерусалимом. Медноволосый англо-норманн должен был не только возобновить поиски слабо защищенного порта, но и разведать дороги, наиболее подходящие для наступающих крестоносцев. И при этом уделить особое внимание источникам пресной воды. Кроме того, нужно было выяснить расположение и количество местных христианских поселений. Когда епископ из Пюи наконец умолк, Танкред, подняв львиную голову, внимательно посмотрел на Ахаба. – Мы получили сведения, как полагаю, достоверные, – сказал он своим грубым и глуховатым голосом, – что пути вашего следования кишат врагами. И что побережье в основном представляет собой пустыню, где отсутствуют вода, пища и фураж. – Полагаю, что смогу благополучно провести моего господина, – пообещал сириец Ахаб; его живые черные глаза горели. – От своих предков я узнал, где могут скрываться особые цистерны, забытые поколениями. К тому же я говорю на всех диалектах Святой Земли. – Действительно, ты легок на язык, – заметил Ричард из Принципата, поглаживая выгоревшую от солнца каштановую бородку. – Настолько легок, что тебе трудно поверить. Сириец сдержанно поклонился, подняв руки к ушам. – Сожалею, милорд барон, но я не могу сдержаться, думая, что мои ноги скоро ступят на ту самую землю, на которой жил и умер Спаситель. Для того чтобы воскреснуть. – Каждые два-три дня вы будете присылать нам доклады с греческими и сирийскими членами вашего отряда, – давал указания Ричард. – И они обязаны пробиться к нам. Иначе многие здесь погибнут от жажды и голода. Хотя Готфрид Бульонский оставался официальным главой армий крестоносцев, именно доблестный старый провансалец Раймонд, а также Танкред не только принимали большинство решений, но и приводили их в исполнение. – С Божьей помощью я выполню все, что вы просите, – серьезно пообещал Эдмунд, дотронувшись до креста на своем плече. – Или вручу свою душу в руки Бога. Покидая палатку, он увидел прямую фигуру сэра Робера из Сан-Северино, стоявшего у палатки, откуда доносились жалобные стоны больных и раненых. – Леди Розамунда оказывает им помощь, – пояснил брат Аликс, – она останется там до утра. Заболели франкские рыцари, которые пили из зараженного колодца. Вернемся в лагерь Дрого? – в заключение спросил Робер. Миновав множество лагерных костров, где, сидя у огня, франки смазывали кольчуги и точили оружие, два рыцаря приблизились к дому, выбранному Дрого в качестве временного жилья. Неожиданно сэр Робер придержал лошадь и прислушался: до рыцарей донеслись звуки громкого смеха, хриплое пение и та дикая завывающая, но соблазнительная музыка, которая была свойственна этой части мира. Вероятно, подразделение вассалов ломбардца вернулось из набега на близлежащее сарацинское поселение. При этом было захвачено несколько дюжин пленников-мужчин. И сейчас они, связанные, были брошены средь груд награбленного добра и привязанных верблюдов. Из зала, где по случаю военной удачи было устроено настоящее празднество, вырывался поток света и дым, пахнущий настолько вкусной едой, что Эдмунд и Робер с любопытством заглянули туда. Победители, восседая на подушках, пили вино. Полураздетые и более чем полупьяные, они наблюдали за грациозными танцами нескольких перепуганных и полуобнаженных арабских девушек от двенадцати до двадцати лет. Несчастные пленницы были вынуждены танцевать под угрозой кнута и кожаных ремней, готовых при малейшей заминке опуститься на их хрупкие тела. Другие молодые женщины, рыдая, молили пощадить их. При свете факелов их блестящие темные тела извивались на диванах в объятиях Дрого и его рыцарей. Темноволосый ломбардец был уже совсем готов насильно овладеть юной девушкой, как вдруг заметил две фигуры в белых плащах в дверях зала. Покачивая пьяной головой и вытаращив глаза, Дрого некоторое время тупо смотрел на Робера и своего зятя. Затем, сделав им знак войти, он снова повалился на диван и со смехом возобновил борьбу с дрожащей арабской девушкой. – Такой густой дым… я ничего не видел, – пробормотал Эдмунд и, повернувшись на каблуках, вышел во двор. Вскочив в седло, он направился в свой лагерь. А Робер из Сан-Северино продолжал с отвращением и изумлением созерцать вакханалию, которая закончилась лишь тогда, когда начали меркнуть звезды, а пастухи принялись собирать табуны лошадей и стада верблюдов. Незадолго до восхода солнца легионер отряда из Сирии начертал особой кистью на свернутом трубкой свитке тонкого пергамента имя Льва Бардаса. Затем, засунув письмо к себе за пояс, отошел за сторожевые огни отряда. Там он нашел собрата-сирийца, завернувшегося в темную шерстяную накидку-абу. – Пойдешь в лагерь рядом с деревней Дараба, – приказал он темной фигуре. – Иди с Аллахом. Но лучше тебе умереть, чем допустить, чтобы этот свиток попал в руки какого-нибудь франка.Глава 11 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕРЕХОД
В первую неделю мая отряд Серебряного Леопарда вел разведку на скалистом сирийском побережье между Джиблитом и Бейрутом. Уже больше года велись военные действия на этой странной земле. За это время Эдмунд де Монтгомери значительно видоизменил старые военные догмы, и сделал он это с готовностью, необычной для лишенных фантазии франкских баронов. Эдмунд больше не настаивал на том, чтобы его люди бросали вызов жгучим лучам полуденного солнца, и при всякой возможности стремился уводить их в любую тень, будь то лес, глубокий овраг или какие-нибудь руины. Рядом с Эдмундом всегда ехал Ахаб. Его советы обычно были разумны. Но принимал их граф лишь при поддержке византийского сержанта Феофана или Ионафана, молчаливого ливанского рекрута с темным лицом. По заведенному обыкновению отряд быстро подымался и садился в седла за два часа до восхода солнца, а чаще и раньше, когда лунный свет еще заливал местность своим бледным сиянием. Если луны не было, ее заменяло множество звезд, светивших лишь немного менее ярко. В то утро отряд оставил позади Джиблит – красивый маленький порт, способный обслуживать лишь несколько прибрежных или рыболовных судов. Возникла необходимость сделать порядочный крюк в глубь страны, чтобы избежать соприкосновения с жителями Бейрута. Снова и снова отряд пересекал свежие следы больших верблюжьих караванов. Однажды вечером сэр Эдмунд, воткнув в землю меч с крестообразной рукояткой, повелел своим подчиненным прочесть благодарственную молитву. Поводом к такому распоряжению послужило сообщение сирийцев о том, что отряд перешел необозначенную границу и вступил, наконец, в Святую Землю. Торауг и Ахаб посоветовали не разводить ни одного костра: до их ушей донеслись крики верблюдов, запертых в караван-сарае, расположенном, очевидно, за грядой ближних холмов. Оттуда же доносилось тявканье собак, слышались и человеческие голоса. Закинув за голову руки, Герт Ордуэй мечтательно вглядывался в звездное небо, но почему-то не обнаружил в небесной вышине миндалевидные глаза Хлои. Он размышлял о том, что эти же самые звезды более тысячи лет назад светили на эту же землю, озаряя путь Спасителя во время Его странствий. Исчезли римляне, которые правили здесь тогда. Разбрелись, за малым исключением, евреи, которые преследовали и предали Его. Осталась лишь слава Его имени и изумительная красота ночной пустыни. Дважды отряду из двадцати пяти бойцов приходилось уничтожать шайки разбойников, которые по ошибке принимали эту горстку видавших виды всадников за купцов, сбившихся с караванных путей. В районе Сидона и Тира земля стала голой безводной пустыней. Рыцари видели оба города, но на большом расстоянии. Захваченных пленников допрашивали и тут же убивали, чтобы они не выдали присутствия отряда. Пленные показывали, что оба порта, древние как само время, удерживаются сильными турецкими гарнизонами. Однако время от времени там появляются и европейские суда, плывущие вдоль берега. Как затерявшиеся овцы тянутся к стаду, так и они подыскивали себе гавань. В конце мая перед восходом солнца воины отряда обрядились в широкие одеяния, чтобы замаскировать оружие и скрыть блеск металлических кольчуг. Они оставляли за собой последнюю жалкую глинобитную деревушку, где верблюды с завязанными глазами бесконечно кружили вокруг колодцев, извлекая из их глубин живительную влагу. По совету Торауга крестоносцы вволю напились воды, наполнили бурдюки и напоили лошадей. Насколько видел глаз, залитая солнцем полоска берега была совершенно лишена деревьев или травы. Кое-где росли колючие кусты акации и серо-зеленые кактусы. – Нам нужны были бы верблюды, – заметил Ахаб, когда на третий день перехода лошади начали страдать от голода. – Эти проклятые горбатые твари поедают кактусы, словно дети – сладости. Горячая слепящая пыль подымалась из-под копыт лошадей. До красновато-черных раскаленных скал невозможно было дотронуться. Тонкая пыль окутывала маленькую кавалькаду подобно удушливому газу, разъедала глаза, вызывала боль в горле. Все чаще песчаные дюны чередовались со скалами и участками обожженной солнцем глины. Лошади начали сдавать, и Эдмунд приказал всадникам слабых животных вести их в поводу. Воины отряда давно уже отказались от шлемов, а на третий день изнурительного перехода сбросили и кольчуги, поскольку вблизи не видно было никаких признаков жилья. Торауг и Феофан советовали отказаться и от тяжелых щитов. Это, хоть и без особого энтузиазма, было одобрено Эдмундом и Железной Рукой, но теперь даже в ранние и поздние часы лошади шли с низко опущенными головами, полузакрытыми глазами, в промокших от пота попонах. Рыцари ехали и шли молча, рты их пересохли, было больно глотать. Все сознавали, что остатков воды при жесточайшей экономии хватит лишь до следующей ночи. Беда обрушилась на отряд на четвертый день. Ливанец Ионафан и сириец Ахаб раньше всего безошибочно находили цистерны и скважины с водой. На этот раз они повели жестоко страдавших от жажды сотоварищей вверх по склону к небольшой руине. И, опустив ведерко в потайной колодец, не услышали всплеска воды, но лишь глухой удар о камень. Герт в отчаянии зарычал. А сэр Рюрик отдал своей лошади последние капли воды из бурдюка. По подсчетам Ионафана, только через два дня они могли бы достигнуть небольшого оазиса под Акрой. В следующую ночь умерли в бредовом состоянии три ратника. И только около дюжины лошадей поднялись на ноги, когда был отдан приказ выступать. Копья, булавы и другое снаряжение было брошено на месте лагерной стоянки. Из двадцати человек, которые шли под его выгоревшим и потрепанным вымпелом, – двух ливанцев Эдмунд накануне отправил обратно предупредить крестоносцев, чтобы ни в коем случае они не вздумали следовать береговой дорогой, – трое были в очень плохом состоянии. Два итало-норманна бредили, а Михаил, один из византийских сержантов, начал заводить странные разговоры… Сегодня было особенно трудно поднимать бойцов отряда. Только Железная Рука, Герт – он должен был вскоре принять посвящение в рыцари – Торауг и Ахаб поднялись с относительной готовностью. Больные, перебирая четки, просили, чтобы их оставили. И, наверное, было бы лучше Эдмунду прислушаться к их мольбам. Еще до полудня двое из них молча повалились на землю, убитые безжалостным солнцем. Еще один, внезапно издав воинственный клич, кинулся в сторону, и его больше никто не видел. Разве что грифы, которые кружили все ниже и ниже. Наступил неумолимый полдень. Сдала еще одна лошадь, ее ноги подогнулись от усталости, и она рухнула на землю. – Мы должны двигаться, иначе умрем, – прохрипел Торауг, едва шевеля потрескавшимися губами. Воины отряда шатались как пьяные и останавливались каждую сотню ярдов. Они сосредоточили все свое внимание на том, чтобы с трудом выдвинуть одну ногу и поставить перед другой. А море, видневшееся в отдалении, дразнило их, разжигало жажду! Во главе этой жалкой маленькой колонны, прихрамывая и цепляясь за поводья своей лошади, брел Эдмунд. Он сунул вымпел Серебряного Леопарда за луку своего седла. Губы англо-норманна растрескались, лоб загрубел от загара и покрылся коричневой коркой, распухший язык не помещался во рту. Глаза глубоко запали. Они двигались все дальше. Убийственная жара не спадала. Воды! Где же найти воду? Наверное, бесполезно было двигаться дальше. Неужели Эдмунду никогда не увидеть Иерусалима, не прижать к себе упругое, но такое нежное тело Аликс? О, Аликс, Аликс. Каждый раз, когда он с трудом выдвигал вперед ногу, он повторял ее имя, представлял ее себе: она протягивала ему чашу сверкающей холодной воды… Сразу вслед за ним, как он догадывался, тащился Герт. За Гертом Железная Рука, Ахаб, Торауг и сэр Рюрик. За ним следовали сэр Этельм и византиец Феофан. Другие фигуры маячили на значительном расстоянии. Некоторые еще вели лошадей, но большинство боролось с трудностями в одиночестве. Кроме меча или топора, все остальное было оставлено на дороге. На протяжении всего этого ужасного дня воины отряда с трудом продвигались вперед, не оглядываясь, когда какая-нибудь фигура в белой одежде спотыкалась и падала. На закате всего двенадцать воинов отряда приплелись, наконец, к иссушенным солнцем развалинам какого-то селения. Все другие остались лежать вдоль дороги на радость грифам. И даже эти уцелевшие воины не смогли бы пережить следующий день, если бы Тораугу не удалось подстрелить из лука отбившегося от стада верблюда. Подобно призраку, животное бродило в лунном свете, пытаясь утолить жажду сочными кактусами, росшими среди лачуг. Полубезумные, обросшие люди наслаждались горячей и густой кровью животного, словно лучшим вином. Они с жадностью поедали его нежную печень и легкие, не требующие приготовления на огне. Под-
крепившись таким образом, они воспрянули духом и даже нарезали куски мяса для завтрака. И только для злосчастных лошадей не нашлось ничего. Животные по-прежнему облизывали растрескавшиеся и дрожащие губы распухшими языками. В ту ночь, когда бывший граф Аренделский лежал и дрожал, завернувшись в плащ, будущее не представлялось ему радужным. Очевидно, что любая попытка повернуть назад граничила с безумием, а продолжать движение вперед?… Что ж, оставалось надеяться, что Ионафан прав, утверждая, будто еще один дневной переход приведет их к небольшому оазису, расположенному к северу от Акры. Когда он так лежал, положив голову на жесткое седло и прислушиваясь к тяжелому дыханию легионеров, ему привиделось в блеске звезд некое сияние, вроде бы на небе появился ангел, летящий на восток. Этот ангел поразительной красоты был облачен в блестящую кольчугу. Он улыбался, показывая огненным мечом на восток. «В той стороне, всего в пятидесяти лигах от вас, находится Гробница Спасителя, так что мужайтесь. Помните свой девиз: «Перед лицом опасности владейте собой!» Ведь ты прошел весь этот путь из Англии не для того, чтобы погибнуть, когда уже видна цель!» Ангел, казалось, растворился в воздухе, и на его месте возникло видение Аликс де Берне в голубовато-серебристых одеждах с букетом белых цветов. «Крепись, возлюбленный моего сердца, крепись, скоро я буду с тобой». Затем и она исчезла, а Эдмунд погрузился в глубокий сон. Вступление в Чистилище было бы не хуже шестого дня перехода. Воины отряда, разделившие перед восходом солнца между собой несколько кусков верблюжьего мяса, побрели дальше. Франки и теперь оставались в числе сильнейших. Сэр Арнульфо, сэр Рюрик, Этельм, Железная Рука и Герт, исхудавшие и высохшие как мумии, упорно шли, ведя за собой лошадей, в то время как византийцы, ливанцы и сирийцы с опущенными головами и пустыми глазами, едва переставляя ноги, брели по выжженной солнцем полоске побережья. Каждый, кто неосторожно касался металлического предмета, получал ожог в виде спекшейся с кожей ткани, ибо жидкость практически отсутствовала в ней. После полудня Ионафан, издав странный хриплый звук, указал на юго-восток. Далеко впереди что-то светилось и мерцало – некое белое пятно, у основания освещенное солнцем обрыва. – Оазис – Рамаш? – спросил Ахаб и упал на колени. Ионафан и ливанцы только кивнули и, слабо улыбнувшись, непроизвольно задвигали кадыками, будто пили воду. – В Рамаше могут оказаться воины. – Слова с трудом вырывались из уст Эдмунда, так распух его язык. – Нас так мало… лучше подождать до темноты. Измученные люди уставились на него. – Вода, мой лорд! – выдохнул Герт. – Скорее! Там вода. – Знаю. Но послужим ли мы кресту, рискнув жизнью? Если мы падем тут… как предостеречь наши армии? Никогда сэр Эдмунд де Монтгомери не испытывал таких трудностей, как теперь, стараясь удержать на месте своих доведенных до маниакального бреда спутников. Но все же он сделал это, хотя ему пришлось нанести удар мечом плашмя одному из ливанцев – тот хрипел, уверяя, что либо он немедленно напьется, либо умрет. Наступление ночи, когда наконец спала жара, придало немного силы людям, как и десятку оставшихся в живых лошадей. В полном молчании воины стали приближаться к оазису, обнажив мечи, пока не заметили несколько низких черных палаток, маячивших под редкими пальмами, окружавшими колодец. Воинам отряда казалось, что он светился так же ярко, как Крест Искупления. Более сильным пришлось помогать слабым сесть в седло, лошади зашатались под их весом, но стоило всадникам взгромоздиться на них, как мужественные животные, казалось, получили новый заряд сил. Заметили они и одинокого наблюдателя, явно встревоженного чем-то. Сарацин делал несколько шагов то в одном направлении, то в другом, все время держа наготове свой лук. Он выбрал удачное положение. Никто не мог незаметно подойти к колодцу и окружавшим его пальмам. Остановившись в тени обнажившейся скальной породы, Эдмунд заколебался. Удастся ли преодолеть какие-нибудь пятьдесят ярдов и нанести сарацину удар до того, как он подымет тревогу? Свежий человек мог бы это сделать, но не эти дрожащие пугала, двигающиеся на подгибающихся, слабых ногах. На плечо англо-норманну опустилась чья-то рука, и знакомый голос Герта прошептал на ухо: – Позвольте мне… Я тихо… Прежде чем Эдмунд ответил ему, саксонец уже пополз вперед, прижимаясь к земле. Каждый раз, как наблюдатель бросал взгляд в его сторону, он замирал среди камней освещенной светом звезд пустыни. Фут за футом он подбирался все ближе, и Железная Рука моргал каждый раз, когда звездный свет вспыхивал на широком клинке Герта. Когда оруженосец приблизился на расстояние двадцати ярдов, часовой, вероятно, что-то почувствовал. Возможно, сдвинутый голыш ударился о другой камешек. Во всяком случае, он развернулся и наложил стрелу на тетиву. В этот момент Эдмунд, несмотря на тяжелую усталость, понял, что нужно сделать, и молниеносно метнул к его ногам небольшой камень. Сарацин завертелся с проворством кошки, и почти с такой же скоростью Герт поднялся на колени. Его меч, сверкнув в воздухе, молнией упал на часового, ударив его между плеч, и повалил на землю – сарацин успел издать лишь глухой хрип. В несколько прыжков, поразительно ловких для человека, находящегося на грани сознания, Герт преодолел оставшееся расстояние и сжал пальцами горло неверного, заставив его замолчать навсегда. В полной тишине христиане медленным шагом подъехали к палатке, и тот непобедимый дух, который часто спасал крестоносцев от гибели, вспыхнул в них снова, позволив их мечам и алебардам сделать свою работу. Около тридцати погруженных в сон сарацин было убито или изгнано в пустыню, прочь от благословенной воды в колодце.
Глава 12 ИЗГНАННИК
В оазисе Рамаш, где росло несколько полувысохших финиковых пальм, почти не бросавших тени на зловонные палатки из козьих шкур, укрыться от палящих лучей солнца можно было только в на диво хорошо сохранившемся сторожевом здании, построенном еще римлянами. На раме одного из окон сохранилось еще имя императора Тиберия, выведенное четкими латинскими буквами. Бойцы отряда вместе с лошадьми разместились в доме, а на его каменной крыше был поставлен часовой. Все утро на выжженном солнцем пространстве можно было видеть несколько фигур в белых одеждах. Шатаясь из стороны в сторону, они медленно удалялись в глубь пустыни. Изгнанные из оазиса арабы были обречены на гибель, но они понимали, что вблизи колодца их ожидала бы более быстрая смерть от руки франков. Сэр Арнульфо, очнувшись отдремоты и с трудом открыв глаза, громко выругался. Потом его пальцы сложились крестом. Эдмунд со страхом взглянул на итало-норманна и вспомнил предостережения Торауга и других азиатов, что воду надо пить только понемногу. Если выпить сразу много, это может привести к гибели любого человека, находящегося в их положении. – Почему ты бранишься? – прорычал Железная Рука, подходя к Арнульфо. – Мы страдаем от жары, но ее даже не сравнить с той, от которой мы погибали вчера или позавчера. – Черт подери эту жару! – фыркнул Арнульфо. – Посчитай и посмотри, сколько нас осталось. Эдмунд оглядел свой отряд. Из всего первоначального рыцарского состава остались только Железная Рука, сэр Арнульфо, сэр Рюрик и сэр Этельм. Вместе с ним самим их, стало быть, пятеро. Были еще Герт, Сигурд, Торауг и византиец Феофан из тех, кто был принят в отряд в заброшенных казармах Галаты. Значит, еще четверо. Еще азиаты: Ахаб, Ионафан и один ливанец, что в целом составляло тринадцать человек! Несмотря на жару, усмешка скользнула по лицу англо-норманна. Тринадцать! Самое злосчастное число, известное в христианском мире! Скрипучий смешок сорвался с уст сэра Арнульфо из Бриндизи: – Тринадцать христианских душ, затерянных в этой отвратительной, враждебной местности. Покрытый шрамами пожилой византиец засмеялся и вылил чашу воды на свою косматую голову. – Крепись, милорд, ты только подумай: разве не находимся мы ближе к нашей цели, чем все франки, кроме взятых в плен? Ионафан и ливанец закивали, поднялись и пошли, чтобы наполнить почерневшее железное ведро сухим верблюжьим пометом. Из него они разведут костер, на котором можно будет приготовить пишу из припасов, которые удалось раздобыть отряду. Как и копья, и щиты, и лошадей. – К наступлению ночи, – поспешно объявил Эдмунд, – с этим несчастливым числом будет покончено, поскольку двое из вас, Ахаб и Ионафан, должны будут взять лошадей на выбор, отправиться обратно, на этот раз в глубь суши, предупредить графа Танкреда, чтобы он не следовал прибрежной дорогой. Двое названных им скривились, но никто больше не вызвался еще раз рискнуть тем, что они уже пережили. Ахаб содрогнулся: – О Боже, снова отправляться в эту пустыню!… – Позвольте мне сделать это, милорд, – сказал Герт. – Возможно, я лучше объясню все франкам. Эдмунд улыбнулся и похлопал своего оруженосца по плечу. – Да, мне придется послать тебя. – У него не было полного доверия к азиатам. – Но я полагаю, – продолжал Эдмунд, – что настал момент, когда я как граф Аренделский и твой законный господин могу возвести в звание рыцаря своего верного подданного. Затем последовала церемония посвящения. Обожженные солнцем люди в поношенных одеждах расположились неправильным полукругом вокруг молодого саксонца. Герт Ордуэй, став на колени, повторил те священные правила рыцарства, которые Эдмунд де Монтгомери когда-то произнес в Дуврском замке. При этом воспоминании на глаза Эдмун да навернулись слезы и задрожала рука, когда лезвие его меча прикоснулось к затылку Герта. – Подымись, сэр Герт! – воскликнул он громко, и его голос эхом разнесся по мрачному сторожевому зданию. – Подымись с колен и будь гордым! Франки похлопывали его по плечам и даже обнимали зардевшегося и улыбающегося саксонца. Его отвага в бою и неизменно хорошее настроение вдохновляли весь отряд во время труднейших испытаний. Золотых шпор под рукой не оказалось, но Железная Рука подарил новому рыцарю лишний меч, прекрасную вещь, захваченную под Дорилеумом. И тут с крыши донесся крик часового: – Приближается всадник на верблюде! Схватившись за мечи и моргая, как только что разбуженные кошки, воины отряда выбежали на яркий солнечный свет. – Он скачет в одиночестве! Что это значит? – воскликнул Эдмунд. – Боже! – Насколько я могу видеть, милорд, – последовал хриплый ответ часового, – он следует по нашим следам и не выглядит испуганным. Хотя незнакомец и должен был уже заметить выбежавший из сторожевого здания отряд, всадник на верблюде продолжал неспешно приближаться. Торауг взял свой турецкий лук, наложил стрелу на тетиву и выжидательно посмотрел на сэра Эдмунда. Быстрые, шаркающие шаги хорошего верхового верблюда неуклонно приближали к ним эту странную фигуру. Белая как снег борода незнакомца ниспадала до середины его груди, и хотя на нем был тюрбан, повязанный на сарацинский манер, и поношенный сарацинский плащ, Эдмунд заметил, что глаза его отливали небесной голубизной. На некотором расстоянии от колодца странная фигурка нажала ногой на шею верблюда, приказывая ему опуститься на колени. Сойдя с него, прямой как копье незнакомец стал подходить, непрестанно осеняя себя крестным знамением. – По всей вероятности, это какой-нибудь маронитский отшельник, – предположил Ахаб. – Много таких бродит по этой пустынной местности. Он ошибался, поскольку босоногий пришелец закричал на хорошем нормано-французском языке: – Приветствую вас, милорды, добро пожаловать в Палестину! Его остановил Железная Рука: – Стой! Назови свое имя и положение. – Когда-то я был полноправным рыцарем из Турени. Имя свое я торжественно поклялся никогда не открывать. – И он стал приближаться, загорелый, полуголый и босой, явно не чувствуя, что нагретая солнцем земля обжигает подошвы ног. Позже незнакомец поведал, что однажды, много лет назад, желая искупить свои грехи, он отправился пилигримом в Иерусалим, босой и невооруженный. Там он, повздорив с другими пилигримами, убил несколько человек. Охваченный раскаянием, он бежал в эту пустынную местность и стал отшельником. Уповая на голод, занятия медитацией и молитвы, изгнанник надеялся добиться искупления и прощения. Настойчивые расспросы не помогли воинам отряда узнать имя и титул отшельника. Но он, судя по всему, был благородного происхождения – с таким достоинством вел себя и так изысканны были его манеры. Позднее сэр Изгнанник, так прозвал его сэр Арнульфо за неимением лучшего имени, объяснил, что с большого расстояния он наблюдал за мучительным продвижением отряда, когда на пятый день они миновали пещеру, где у затаенного родника жил отшельник. Сэр Изгнанник вздохнул: – Сердце мое обливалось кровью – дважды вы проходили мимо цистерн, известных лишь немногим кочевникам и мне самому. Полагаю, что их соорудили тысячу лет назад восточные римляне. Во время дождей они заполняются… Впалые глаза англо-норманна прищурились. – А сколь велики они? Достаточны ли, чтобы обеспечить водой множество людей? Седая голова мрачно склонилась. – Да, там еще останется вода. Возможно, вы вчера заметили справа от себя руины города, среди которых возвышаются четыре колонны? Так вот, один источник запрятан под древним дворцом проконсула. Но я не мог подъехать к вам быстрее, – извинялся он, – ведь мне целый день пришлось идти пешком, чтобы одолжить это животное. – Он кивнул в сторону своего верблюда, который обкусывал теперь колючий кактус с таким удовольствием, будто это был стог свежего сена. – Я глазам своим не поверил, когда понял, что снова вижу вооружение и кольчуги франков. Увидел ваш большой рост и догадался, что дошедшие до меня слухи верны. Сарацины, убегая от поражения, собираются где-то на севере… – У Антиохии. – Да, у Антиохии… Говорили, что у франков воинов – что песчинок в пустыне, что их войско движется, чтобы освободить Аль-Кудс. – Аль-Кудс? – Это арабское название Иерусалима. Давно не слышимые им звуки нормано-французского языка, как и вид кольчуг, выкованных в Европе, на глазах перерождали сэра Изгнанника. Ведь он никогда не стремился окончательно превратиться в отшельника, оставаясь знатным рыцарем, страдающим от наложенного на себя наказания за нарушение рыцарского кодекса. Радостно вкушал Изгнанник пищу, приготовленную на франкский манер, смакуя при этом кусочки зукра – лакомства, приготовленного из стеблей тростника, произрастающего по берегам рек Сирии и более сладкого, чем мед. Туземцы, как однажды объяснил Ахаб, обычно выжимают сок из этих стеблей, а затем выпаривают его на солнце подобно тому, как добывают соль из морской воды. Бойцы отряда бросили зукра в воду и выпили воду за здоровье нового рыцаря. Сэр Изгнанник одолжил у кого-то острый кинжал и с его помощью с удовольствием укоротил свою длинную, доходившую почти до пояса бороду, а затем подрезал пожелтевшие ногти, напоминавшие когти. Затем он вздохнул и бросил на сэра Эдмунда нерешительный взгляд. – Не станете ли вы возражать, милорд, если я испытаю вес вашего меча и посмотрю, не утратил ли я своих навыков? Костлявая фигура поднялась, расправив плечи, рыцарь обнажил тяжелое лезвие, вынув его из ножен. Затем он подбросил свою палку для управления верблюдом высоко вверх и рассек ее почти пополам до того, как она успела упасть на землю. Сэр Изгнанник разразился радостным смехом. – Laus Doe! Я еще нагоню страх на сарацин! Уже в сумерках бывший рыцарь объяснил, по какой дороге следует двигаться сэру Герту и его спутникам, чтобы добраться до основных сил крестоносцев, направляющихся к Сидону. Вновь и вновь он описывал расположение имеющихся по пути цистерн и предупреждал посланцев, что некоторые из хранилищ воды могут оказаться пустыми, пересохнуть после землетрясений, частых в этих местах. Как и было им обещано, гонцы получили лошадей и необходимое оснащение, так что перед восходом солнца, на третий день своего пребывания в оазисе Рамаш, они преклонили колени и, поцеловав руку сэру Эдмунду, вскочили в седла и двинулись на север, в глубь страны.Г л а в а 1 3 ДОЛИНА РАМЛЫ
«И таким образом, – писал в своей хронике сэр Шарль Полный Сундук, – мы, иерусалимцы, направляясь к нашей цели за герцогом Готфридом, Раймондом Тулузским и графом Танкредом, оставили прохладные, пахнущие сосной леса в горах Ливана. У Джиблита мы получили подкрепление в виде некоторого числа моряков – англичан, датчан и мореплавателей других народов, которые, пытаясь найти нас, потерпели кораблекрушение на этом опасном берегу. При численности теперь уже менее двадцати тысяч бойцов нам не хватало ни сил, ни желания осаждать Тир либо Сидон. Оба эти города суть укрепленные морские порты со значительными силами обороняющихся, и эмиры неверных строго охраняют их. Поистине замечательно, – писал сэр Шарль на бесценных свитках пергамента, – сознавать, насколько хороши советы моего друга сэра Эдмунда де Монтгомери. Если в его послании говорилось, что та или иная дорога окажется трудной, значит, она и на деле была трудной; если он говорил, что наши вассалы найдут пресную воду даже среди пустыни, значит, там в самом деле находилась вода». Летописец сделал паузу, обеспокоенный сварливыми жалобами вьючных верблюдов, которых крестоносцы с некоторых пор использовали как вьючных животных вместо мулов и лошадей. Однако ни при каких обстоятельствах ни один франк не стал бы даже думать о том, чтобы взобраться верхом на такое нескладное, скверно пахнущее и несговорчивое животное. «Де Монтгомери прав также, предсказывая, – писал сэр Шарль, – что некоторые из маронитов, пусть и раскольников, но все же последователей христианства вскоре появятся, чтобы помогать нам в пути. Эти несчастные заблудшие, существа носят старинные медные или серебряные кресты и соблюдают ритуалы, отвратительные для наших истинно верующих священников и епископов. Тем не менее эти марониты – прекрасные проводники и хорошие работники, они горят желанием отомстить неверным, которые много поколений подряд использовали их сыновей и дочерей для обогащения владельцев публичных домов в исламских странах. …Наши усталые ноги преодолевали лигу за лигой, и наконец мы разбили лагерь неподалеку от богатого и хорошо укрепленного города под названием Цезарея. Здесь, истощенные сушью и зноем, от которого ежедневно погибала примерно сотня наших воинов, мы избрали местом отдыха берег небольшой речки, увы, пересыхающей…» Летописец облизал сухие потрескавшиеся губы и принялся посасывать стебель сахарного тростника. Эти стебли чудесным образом помогали утолить жажду. Позднее он захватит несколько таких растений в Европу в качестве достопримечательности. Пальцы летописца за последние полтора года так скрючились, что ему трудно было держать перо. «…Для нас остается загадкой, почему отряд наемников императора Алексея не только остается с нами, но и повседневно оказывает нам услуги. Почему? Едва ли кто-нибудь из нас подозревает туркополов и их предводителя, некого графа Льва Бардаса, в предательстве, которое рано или поздно открылось бы. И, по правде говоря, этот способный военачальник и его духовно переродившиеся турки с искусством и доблестью охраняют наш фланг. Многие из рыцарей, отставшие и больные, погибли бы, если бы не верность этого влиятельного византийца. Почему же он так упорно продолжает помогать нам? Возможно, на зло своему законному владыке? Много слухов ходит о хорошенькой молодой женщине, которая постоянно находится вместе с графом Бардасом. Одни говорят, что она его дочь, другие – что тайная жена, но большинство склоняется к мысли, что эта красавица попросту наложница графа. Но так или иначе, графиня Сибилла неустанно заботится о здоровье наемников императора, значительно усерднее помогая им, чем это делала баронесса Четраро по отношению к раненым из числа слуг Господних. Проводники клянутся, что скоро нам откроется видение, которым каждый из нас грезил последние годы, – стены, башни и храмы Иерусалима. Присоединившиеся к нам марониты заверяют, будто Священный город расположен на расстоянии каких-нибудь тридцати лиг. Мысль об этом обувает избитые о камни ноги и возвращает рукам силы, растраченные в невыразимых словами муках». Сэр Герт и его подружка Хлоя уютно устроились на груде седел за палаткой, которую занимала баронесса Розамунда вместе с Хлоей и двумя знатными французскими дамами, овдовевшими во время длительной и безрезультатной осады Арки. Солнце опустилось довольно низко, готовое через несколько минут погрузиться в окрашенные красными предзакатными лучами воды Средиземного моря. – Скажи-ка мне, – попросил сэр Герт, обматывая рукоять своего меча хорошо провощенной ниткой, – что произошло после того, как миледи покинула постель и дом Дрого? Улыбка исчезла с лица Хлои. – Когда моя госпожа услышала о развлечениях мужа с пленными арабскими девицами и о разгульной жизни в Антиохии, она приставила кинжал ему к горлу, принудив поклясться, что он никогда не попытается вновь овладеть ею. – Она посмела угрожать самому Дикому Вепрю? – спросил с недоверием Герт. – Да, я это сама видела, – спокойно ответила девушка. – Ярость его была ужасной, но рука моей госпожи была тверда, а голос как лед. Кинжал проколол кожу моего хозяина до крови, и он дал торжественную клятву, которой требовала от него госпожа. Сэр Дрого с тех пор пребывает в диком гневе, поскольку, как говорят, он по-своему сильно любит леди Розамунду. – Где же он теперь? – Теперь он, благородный сэр, следует за графом Тулузским. Когда вы снова присоединитесь к своему господину, посоветуйте ему остерегаться Четраро. – Пальцы Хлои нежно коснулись руки нового рыцаря, все еще покрытой волдырями – следами Сухого Похода. Сэр Герт, подняв глаза от работы, резко спросил: – Почему? Чего бояться сэру Эдмунду? Он не сделал Дикому Вепрю ничего плохого. – Мой хозяин Четраро полагает, что сэр Эдмунд рассказал все своей сестре и настроил ее против мужа. – Но он этого не делал. Да и покинули мы лагерь под Аркой на восходе солнца следующего же дня. – Герт плотно сжал челюсти. – Кто мог рассказать ей о развлечениях сэра Дрого? – Наклонитесь ко мне ближе. – Хлоя испуганно оглянулась на разбросанные вокруг палатки, а затем тонкой рукой обняла Герта за шею. – По правде говоря, я думаю, что это был… – И она шепнула имя, звук которого заставил Герта вздрогнуть. Его новенькие рыцарские шпоры чиркнули по земле, когда Герт передернул ногами. – Он не мог этого сделать! – Возможно, я и ошибаюсь. Но все же прошу вас предостеречь вашего господина насчет Дрого. В одно прекрасное утро христианское воинство поспешно сняло свой лагерь, всадники оседлали коней. Больные, слабые и трусы давно уже оставили армию. Некоторые примкнули к Боэмунду в Антиохии – как они утверждали, для поддержания связи с императором. Среди иерусалимцев остались лучшие рыцари и самые храбрые из простолюдинов. По их требованию прекрасный город Рамла открыл перед ними свои ворота, и крестоносцы вступили в первый город, захваченный ими на Святой Земле. Как славно было проехаться по его широким улицам в поисках добычи – в брошенных домах, в мечетях, на постоялых дворах, где остались одни собаки, блохи да тараканы. Вскоре появилось некоторое количество самаритян в линялых голубых одеждах, они улыбались крестоносцам, но говорили на непонятном языке. Жестами показывали бронзовым от загара людям с Запада, где можно найти цистерны, ванны и амбары с продовольствием. Но самое замечательное, что, как можно было все-таки понять по их словам, Аль-Кудс и Священная Гробница находились на расстоянии всего лишь двадцати лиг. Сэр Герт, на которого граф Танкред обратил свой благосклонный взгляд, слышал, как граф взорвался от ярости, узнав от сэра Гастона из Беарна, что сарацины сожгли буквально все дерево, которое можно было использовать для сооружения осадных машин. Именно поэтому, как объяснил инженер, столько мечетей и общественных зданий Рамлы погибло в огне. Среди англичан было много бывших моряков, покинувших свои корабли. Они радовались заверениям маронитов, что святой Георгий, покровитель Англии, захоронен под полом главной мечети Рамлы. Это доброе предзнаменование. И, похваляясь, как это всегда делают моряки, они дали клятву отыскать подходящее дерево, чтобы соорудить осадные машины. Сэр Герт, который спал, завернувшись в одеяло, на груде фуража у палатки графа Танкреда, перевернулся и проснулся, продолжая сжимать рукой свой топор. Кто-то трогал его за плечо. Было еще темно, однако Герт сразу же узнал глухой голос. Над ним склонился сэр Гастон из Беарна; его грубое лицо едва освещал отблеск затухавших лагерных костров. – Пошли, но тихо, – прошептал он. – Граф не хочет подымать шум на всю армию. Саксонский рыцарь осторожно последовал за инженером, прокрадываясь между людей, спящих мертвым сном. Он догадывался, что ему предстоит путь в Яффу, где, как сообщал другой гонец, сэр Эдмунд и остатки его отряда скрывались в руинах некогда крупного, но давно уже покинутого порта. И оказался не прав. За шатром Танкреда собралось около сотни рыцарей. Они приглушенно бранились при малейшем шорохе и придерживали головы своих коней, чтобы те не заржали. Едва Гастон с новым рыцарем подошли к ним, ведя за собой лошадей, прозвучал негромкий приказ; все моментально вскочили в седла. Двигаясь медленным шагом, в колонне по два всадника, отряд направился выполнять свою загадочную миссию. Во главе отряда ехали граф Танкред и дородный епископ из Ариано. В полной тишине они выбрались из лагеря и спустились в тесную долину, над которой виднелась лишь узкая полоса еще покрытого звездами неба. Выбравшись из теснины, двинулись вдоль подножия холмов, поросших знаменитыми ливанскими кедрами. – Друг, куда же мы едем? – обратился Герт к ближайшей, завернутой в плащ фигуре. Услышав ответ, он вздрогнул, подавив тревожный возглас. – В Вифлеем. Граф Танкред не хочет рисковать тем, чтобы неверные сожгли место, где родился наш Спаситель, как сожгли главный храм Рамлы. Кроме того, – добавил всадник, – там мы найдем бревна и доски, которые нам так необходимы. Вифлеем. Название гулко стучало в ушах у Герта. С самых детских лет имя этого города было связано со всем святым. Подумать только! Каждый шаг лошади приближал его к месту рождения Господа Иисуса Христа! На небе бледнели звезды. Небольшая колонна франков, соблюдая тишину, оставляла за собой одно селение за другим. Перепуганные лица мелькали в окнах, на крышах домов, но никто не собирался вступать в битву. Только собаки лаяли да шакалы отзывались им со склонов холмов. Наконец впереди замаячили смутные очертания большого селения, раскинувшегося на небольшой равнине. Герт подумал, что, если не считать большого здания с белым куполом в центре, это место ничем не отличается от сотен других, которые встречались иерусалимцам к югу от Сидона. Вифлеем! Вифлеем! Самые набожные среди рыцарей многократно осеняли себя крестным знамением и склоняли увенчанные шлемами головы в произносимой шепотом молитве. С опущенными копьями крестоносцы вступили в селение на рассвете. Не встретив сопротивления, они радостно прошествовали по улицам, глубоко вдыхая их священный воздух, а затем преклонили колени перед базиликой Девы Марии, чтобы произнести благодарственные молитвы. Несколько испуганных монахов, по большей части сирийцев, осмелились выйти из укрытий, чтобы приветствовать высоких всадников в белых мантиях. Вскоре они вновь разбежались по своим полуразрушенным часовенкам, чтобы возносить гимны благодарения. Хотя окружающая местность могла в любой момент наполниться тучами турок и сарацин, Танкред и сопровождающие его воины уделили время местным жителям, чтобы принять у них плоды, медовые коврижки и мясо; плача от радости, жители прижимались к стременам рыцарских коней. Отовсюду слышалось пение, радостные голоса поющих смолкли только после восхода солнца, когда русый молодой племянник Робера Гюискара приказал своим спутникам спешиться. Крестоносцы обменивались взглядами: что происходит? Танкред, захватив это святое место, кажется, не собирался покидать его. Остановка все же была временной. Желтое знамя Танкреда двинулось дальше в южном направлении. Однако перед тем, как он потребовал, чтобы ему показали дорогу, ведущую в Аль-Кудс – Святой Иерусалим, Танкред оставил в деревне сильный отряд для охраны базилики. Укоротившаяся колонна выехала рысью, пока дневная жара еще не набрала силу. Проводник Танкреда вел людей, облаченных в длинные серо-коричневые кольчуги, сперва по высохшему оврагу, а потом вверх по невысоким холмам, на склонах которых боролись за существование пыльные оливковые рощицы. Перед самым гребнем очень крутого холма проводник-самаритянин воздел к нему свои смуглые руки, призывая к остановке. Высокорослые рыцари, за плечами которых развевались темные накидки, медленно достигли вершины и остановились, затаив дыхание. Танкред и его люди долго сидели, окаменев, в своих седлах в полном молчании – лишь вымпелы, развевающиеся на их копьях, хлопали на ветру. Там, на противоположной стороне глубокой лощины, едва различимые, маячили ряды красновато-бурых стен, так поразительно сливающихся с окружающей местностью, что они казались ее составной частью. Внизу, на дне долины, крестоносцы могли заметить квадратное белое здание и белое же сооружение меньших размеров, увенчанное небольшим изящным куполом. Вокруг росло множество деревьев, а дальше зеленели поля. Это, объяснили сирийцы тихими и благочестивыми голосами, Гефсиманский сад и храм Марии Благословенной. Менее благочестивые из крестоносцев не тратили много времени на созерцание этого святого места, их внимание было привлечено видом стен, возвышавшихся не далее чем в полумиле от них. Одни из ворот, различимые на этом расстоянии, казалось, были закрыты. На бесплодных и скалистых склонах, поднимающихся к городу на вершине, виднелись развалины дворцов, храмов и многочисленных домов; темные фигурки людей и животных двигались между ними. – Вот там, милорды, – вскричал Танкред срывающимся голосом, – находится наша цель. Мы пришли издалека, но мы ее достигли! Он сошел с коня, воткнул в землю свой меч с рукояткой в форме креста и стал на колени, шепча молитвы. Его примеру с готовностью последовал Герт и все остальные. Лошади, казалось, смотрели с любопытством, как их хозяева склоняли свои кто рыжие, кто золотистые головы к сложенным на груди рукам и читали полузабытые молитвы. Герт бормотал «Отче наш» – почти единственную молитву, которую знал, – не сводя глаз с Иерусалима, лежавшего вдали под чистым лазурным небом. Он был невероятно взволнован. Как же много тяжких лиг прошел он и эти преклонившие рядом с ним колени люди, претерпевшие и холод, и жару, жажду и голод в поисках вечного спасения, и вот теперь, казалось, оно было досягаемо, вот оно, рядом, протяни руку и получишь его. Если бы сэр Эдмунд де Монтгомери мог сейчас быть рядом с ним, счастье Герта Ордуэя было бы поистине полным, но граф Аренделский находился, вероятно, лигах в двадцати к западу отсюда. Там, где, как сообщали, он удерживал с остатками отряда покинутый порт, называемый Яффой.Глава 14 КОМАНДУЮЩИЙ ТУРКОПОЛАМИ
При свете свечи, одной из немногих оставшихся в его дорожном сундуке, граф Лев Бардас с рассеянным видом перебирал пальцами свои пышные серебристо-седые волосы. Его острые глаза были прикованы к греческим буквам на свитке пергамента, который он держал перед собой. Читал он очень внимательно, поскольку восковая печать, которую он только что сломал, скрывала тайное послание его августейшего господина. Под грубые выкрики пикета наемников-туркополов, доносившиеся издалека, ветеран читал и перечитывал это послание, подписанное алыми чернилами, которыми пользовался только император. По существу, в послании говорилось, что Его Святейшее Величество, обрадованный дальнейшими успехами христианского оружия, считает, что вряд ли в интересах его империи разрешить франкским варварам захватить Иерусалим. Такое мнение, утверждал автор послания, полностью разделяют и некоторые встревоженные халифы и эмиры мусульман. «Было бы много лучше для всех заинтересованных сторон, – писал император, – если бы франки довольствовались созданием нескольких слабых, небольших государств, таких, как принципат Боэмунда в Антиохии, между империей сельджукских турок и мусульманским королевством Фатымидов в Египте». Доверенному и любимому военачальнику Льву Бардасу и поручалось, соблюдая осмотрительность, всячески мешать успешной осаде Иерусалима, чтобы сделать ее невозможной. – Легко же ему распоряжаться, – пробормотал граф Лев, подергивая себя за отросшую бородку, выгоревшую на солнце за время длительного пребывания в седле. – Но что могут сделать двенадцать сотен туркополов против войска, которое теперь насчитывает тридцать тысяч мечей? В раздумье ветеран отпил глоток кипрского вина и сморщился – вино оказалось слишком кислым. При звуках голоса женщины, разговаривавшей с охранником у входа в палатку, красивая голова патриция стала медленно подниматься. Затем граф Лев встал и отдал приказ, чтобы немедленно впустили графиню Корфу. Когда его племянница вошла, колеблющееся пламя осветило ее чуть раскосые глаза, отчего они словно бы увеличились. Они горели от возбуждения, а полные губы подрагивали. – Я только что получила сообщение от одного из твоих шпионов! Это сведения крайней важности! – Тогда, Бога ради, говори тише! Разве пристало тебе приходить сюда, пританцовывая, как школьница, которая только что получила награду? Похудевшая с тех пор, как она пересекла Сангариус, Сибилла заговорила вполголоса: – Сильный флот генуэзских галер приближается к берегу и направляется в покинутый порт где-то поблизости. Шпион не узнал его названия. – Яффа, – быстро высказал предположение граф. – Ну и дальше что? – Они везут подкрепление войску Танкреда. Среди них, – дыхание ее вырывалось со свистом, – находятся вассалы из Сан-Северино. – А! Это интересно. Сколько же?… – Подожди! С ними едет эта бледная мегера, которой мой возлюбленный поклялся в верности. – Аликс де Берне? – Кто же еще? – последовал холодный вопрос. – Ну и что из этого? Ярко подкрашенные губы Сибиллы сжались, и дыхание ее участилось. – Если эти несчастные генуэзцы действительно подойдут к Яффе, они будут ожидать, что она находится в руках франков. – Так оно и есть, но ее удерживает только горстка людей. – Неверные могут легко стереть их в порошок, а также разгромить и подкрепление, когда прибывшие попытаются высадиться на берег, не так ли? Граф Лев поднялся, вновь наполнил свой кубок вином и посмотрел в него. – Я понимаю, что ты имеешь в виду, моя дорогая. Это в самом деле редкая по важности новость, особенно потому, что с тех же галер можно будет снять бревна, которые так нужны сэру Гастону из Беарна для сооружения осадных машин. – Тогда, многоуважаемый дядюшка, не лучше ли ради справедливости и возмездия за оскорбление, нанесенное нашему дому, убить эту Аликс де Берне или увезти подальше, чтобы ее холодная северная кровь разогрелась в каком-нибудь мусульманском гареме? – Может быть. – Взгляд графа упал на пергамент, подписанный алыми чернилами, и он опять пощипал свою выгоревшую бородку. Как же лучше использовать малые силы, находящиеся в его распоряжении? Можно ли нанести больший ущерб франкам, чем лишив их возможности сооружать осадные машины? Ведь даже эти одержимые бойцы не решатся штурмовать такие высокие стены, которые защищают Священный город. Взять город измором невозможно. Просто у крестоносцев не хватит сил, чтобы завершить полное окружение Аль-Кудса, а кроме того, летняя жара скоро начнет по-настоящему опалять землю. Конечно, западные воины будут вынуждены отступить в горы Ливана, а по пути их станет изводить турецкая и сарацинская кавалерия. Тонкие руки Сибиллы страстно сжали руку дяди. – Позволь этим пришельцам высадиться, а потом перебей их, пока они будут невооруженными стоять на берегу. Глаза красавицы светились, как у филина, подлетевшего к огню. – И таким образом судьба Аликс де Берне будет решена? – спросил старый воин. – Когда он потеряет ее, мой возлюбленный вернется ко мне! – пылко воскликнула Сибилла. – О, в этом я так же уверена, как и в том, что завтра снова взойдет солнце. – Пусть будет как будет, – заметил ветеран. – Я мог бы, между прочим, найти среди сарацин одного эмира, его зовут Мусой. У меня с ним были и в прошлом дела. Он мог бы напасть на эти подкрепления с одной стороны, в то время как мои туркополы, – сказал он с легкой улыбкой, – развернув на этот случай знамена ислама, ударят с противоположной. Галеры, только что вытащенные на берег, попадут в наши руки и будут сожжены так старательно, что никогда ни одно бревно с них не сможет быть использовано против Аль-Кудса. Слегка похлопав Сибиллу по руке, он подумал, что такой маневр вполне укладывается в успешное завершение операции. – Благодарю тебя! Благодарю тебя! – Сияющая Сибилла порывисто обняла своего дядю, затем схватила его кубок с вином и так сжала, что суставы пальцев побелели. – Смерть Сан-Северино! – прошептала она, сделав большой глоток.Глава 15 ПОРТ ЯФФА
Согласно приказу графа Раймонда Тулузского барон Дрого из Четраро отправился вместе со знаменитым Раймондом Пиле из расположенных главных сил крестоносцев по дороге в Яффу. Его вымпел с изображением черной головы вепря на оранжевом фоне развевался во главе колонны из тридцати рыцарей и вдвое большего количества сержантов и лучников; все они имели коней и были опытными воинами. Как и всякий другой, переживший мучительный переход из Константинополя, ломбардец сильно потерял в весе, так что его кольчуга свисала свободными складками с живота. Теперь, когда они приближались к концу дороги, команда двигалась медленным шагом. Ехали тесными рядами, так как дозорные обнаружили множество всадников в белых одеяниях, наблюдавших за ними с окрестных холмов. Всадники, однако, не предпринимали никаких враждебных действий и, казалось, с обычным любопытством наблюдали за передвижением иностранцев в железных кольчугах. Рано утром на второй день после отъезда из лагеря иерусалимцев люди Дрого остановились на гребне одного из холмов, чтобы осмотреть простирающуюся перед ними местность. Их внимание привлек большой красно-бурый замок, главная башня которого была частично разрушена. Ее поврежденные стены чуть ниже связывали укрепление с тремя каменными дамбами, далеко уходившими в сверкающую лазурью гладь Среднего моря. Хотя булыжник, из которого были сложены дамбы, местами обвалился, с дальнего расстояния они выглядели вполне годными к использованию, и более того, короткий, но широкий пляж был удобен для того, чтобы вытащить на него галеры, – он растянулся между пустыми складами и полуразрушенными домами покинутого порта. Спутники Дрого заметили и какой-то флаг, развевающийся над поврежденной верхушкой башни, но день был слишком ярким, а флаг слишком выгоревшим, чтобы можно было сразу же установить его принадлежность. Блики солнца на каком-то металле предостерегали пришельцев – древний порт мог быть и не заброшен окончательно. У Дрого вырвался вздох облегчения, он вытер пот с лица полой своей накидки. – Благодарю Бога, мы прибыли вовремя! – воскликнул гасконский рыцарь. – Это, наверное, франк выезжает, чтобы приветствовать нас. Сдвоенной колонной провансальцы процокали копытами по тихим, заросшим сорняками улочкам. Но тут из ворот замка выехал всадник, один вид которого заставил Дрого стиснуть зубы. После того как он присоединился к Раймонду, до барона доходили лишь смутные слухи о местонахождении Эдмунда де Монтгомери. Что ж, теперь перед ним был его зять. Статный и широкоплечий, он выехал ему навстречу с дружеской улыбкой, протянув руку. С большим трудом ломбардцу удалось удержаться, чтобы не ударить этого доносчика. Хм-м… Куда приятнее было бы, если бы англо-норманн погиб в полном бесчестии. Конечно же такой случай не исключен, все могло произойти. Так или иначе, Четраро выкрикнул приветствие и выехал вперед, чтобы пожать зятю руку, словно между ними ничего не произошло. Эдмунд, со своей стороны, проявлял искреннюю сердечность, совершенно не ведая, что его сестра-близнец прижимала кинжал к горлу своего мужа. – Добро пожаловать, приветствую вас, Раймонд Пиле, и вас, милорд Четраро! – воскликнул Эдмунд. – Я уже начал думать, что помощь от графа Танкреда прибудет слишком поздно. Из моего отряда осталось всего одиннадцать человек, да еще тридцать сирийцев, которые присоединились ко мне. Затем перед недоуменными взглядами Дрого и его провансальцев предстал сэр Изгнанник. Пока вновь прибывшие пытались как можно надежнее заделать проломы в стенах замка, сэр Изгнанник присоединился к бывшему графу на верху полуразрушенной башни цитадели. – Милорд, кучки сарацин бродят по тем вон холмам на юге, и, как мне удалось разведать, много зеленых штандартов надвигается на Яффу с севера и востока, но никто из них, кажется, не готов к нападению. – Глубоко посаженные покрасневшие глаза бывшего отшельника обратились к морю. – Милорд, видите ли вы мачты на горизонте? – Да, вижу. А что вы думаете о тех вон парусах? – Они движутся от Кипра, но находятся слишком далеко, чтобы установить, чьи они. Вполне могут быть и галерами неверных из Египта. Впрочем, я так не думаю. – Почему же? – Двадцать парусов, которые мы заметили, коричневого, а не желтого цвета, это могут быть и генуэзские галеры, именно их нам и предлагали ожидать. После полудня предсказание сэра Изгнанника подтвердилось: двадцать одна генуэзская галера на веслах медленно шла к берегу. Защищенные небольшими укреплениями, возведенными высоко на палубе, без всяких кают, эти неуклюжие суда доверчиво шли к порту, изнывающему под палящим июньским солнцем. Хотя Дрого и Пиле приказывали своей команде не оставлять лошадей, а Эдмунд де Монтгомери расставил немногих своих разношерстных бойцов по стенам замка, вражеских сил пока не было видно. Ни на севере, ни на юге, и даже на древней римской дороге, ведшей в глубь суши к Иерусалиму. Это обстоятельство немало беспокоило сэра Изгнанника. Расхаживая взад-вперед по лагерю, он в замешательстве пощипывал свою укороченную бороду. – Что-то не похоже на этих собак мусульман. Почему они не нападают? Под рев труб и радостные крики генуэзские суда на веслах вошли в маленький порт. Большая часть галер была вытащена на берег, оставшиеся встали на якорь или причалили к полуразрушенным пирсам. – Не стоило ли выслать на местность заслон из пикетов? – спрашивал сэр Изгнанник, обращаясь то к Эдмунду, то к Дрого. – Я слишком хорошо изучил повадки неверных, чтобы не заподозрить подвох. Поэтому, когда суда начали разгружаться и на берегу появились уставшие от морского перехода крестоносцы, стремившиеся немедленно присоединиться к войску франков, Эдмунд де Монтгомери повел своих ветеранов к северу от дороги. Дрого же, черные глаза которого сверкали от внутренней бури, повел часть своих воинов к югу, оставив небольшие силы оборонять замок. Поэтому никто из рыцарей не видел прибытия генуэзской галеры, которая, помимо груза и вооруженных людей, оставила на отлогом морском берегу также несколько пилигримов, священников и нескольких женщин. Одна из них, безусловно, приковала бы внимание каждого, кто увидел бы ее. Вдыхая прохладу, принесенную бризом, подувшим после знойного дня, Аликс де Берне, утонченно изящная в своем голубом платье, сошла на плотный красноватый песок. Оказавшись на суше, она упала на колени и вознесла Господу благодарственные молитвы за то, что он позволил ей ступить на Святую Землю. И другие вновь прибывшие также выражали свою благодарность Богу. Швартовались все новые галеры, пока все подкрепления – почти четыреста человек – не высадились на берег, искренне радуясь своему избавлению от тесноты и морской качки. Сэр Тустэн, командир самого большого военного отряда, окинув взглядом голые холмы, буквально нависавшие над Яффой, стал уговаривать людей немедленно покинуть берег и подняться выше на равнину. Нахлынувшая сюда с воплем и криками волна неверных могла бы легко расправиться с его вассалами и сбросить их в море. Хуберт, граф Катании, опытный ветеран многих кампаний против мавров на Сицилии, согласился с этим. И группа вновь прибывших по его приказу устремилась в глубь суши, за разрушенный порт, оставив суда без защиты под охраной кучки пьяных моряков, которые в случае нападения не смогли бы дать отпора стремительному натиску египетских галер. Так и произошло. На закате солнца они на веслах подошли к Яффе и под громкие молитвы, обращенные к Аллаху и его пророку Мухаммеду, перебили охрану, а затем подожгли генуэзские галеры. В сумерках они снова отплыли в море, крикливо понося «христианских собак», которые двинулись к Иерусалиму в тщетной попытке найти спасение от неминуемой гибели. Когда сторожевые пикеты доложили о том, что видят языки пламени и дым над Яффой, Эдмунд де Монтгомери заколебался. Что делать: бросить разведчиков, направленных им к северу, а самому вернуться обратно в Яффу, или оставаться на месте? Сэр Изгнанник, с присущей ему сдержанностью, убеждал его в последнем. – Милорд, нас все равно слишком мало, чтобы повлиять на исход столкновения в Яффе. Более правильно подождать здесь. На это есть веские причины. – Какие же? Вновь обращенный рыцарь разразился хриплым смехом. – А вы заметили глубину следов и очертания тех копыт, которые мы обнаружили на закате солнца? – Я был занят другими делами. – Эдмунд глотнул пресной воды из бурдюка. – И каковы же эти следы? – Важно то, что они гораздо крупнее отпечатков, оставляемых арабскими конями, милорд. Более того, некоторые из них были оставлены подкованными копытами. – Крупные? Подкованные? – Эдмунд заморгал воспаленными и опухшими от длительного пребывания в пустыне глазами. – Не могло бы это означать присутствия византийских сил? – Вполне. Но мы не видели никаких имперских знамен, когда наблюдали этих воинов издали, только зеленые штандарты с конскими хвостами. – Но… но… что же это означает? – Измену. – Невозможно! Ведь император, как и мы, христианин. – Простите меня, милорд, но это вполне возможно, хотя я и не могу понять намерений императора. Покажи-ка, Ионафан, милорду ту стрелу, которую ты прихватил. – Скрюченные руки, покрытые большими красными пятнами ожогов, проворно заработали. – Стрела, извольте видеть, сделана не сарацинами, а турками. Ее оставили те всадники, которые издали наблюдали за нами еще в Алеппо. Орды Дикака находятся далеко на юг от нас. – А хотите знать, какие турки ездят на крупных подкованных лошадях? – вмешался Железная Рука. – Я скажу вам! Это те проклятые туркополы под командованием греческого графа, который постоянно шпионит за нами. Он и его лупоглазая прохвостка, которую он называет своей племянницей.Глава 16 АРЬЕРГАРДНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Туча стрел, выпущенных из луков туркополами – а это несомненно были они, хотя и выставили вперед зеленые штандарты, – не позволяли людям из отряда Серебряного Леопарда сразу разобраться, что же происходит на Иерусалимской дороге. Удар последовал поздним утром, когда отряды подкрепления отошли от побережья миль на пять. Подвывая и стуча в свои барабаны, сотни мусульман, появившись невесть откуда, обрушились на крестоносцев с голых холмов. Неверные атаковали с обеих сторон Иерусалимской дороги, размахивая штандартами с конскими хвостами, горя желанием поскорее уничтожить эту бредущую вразброд толпу людей, не привыкших еще ступать по суше, измотанных долгим морским переходом. В узкой и тесной долине, вымытой зимними потоками воды, которые текли параллельно дороге, подкрепления были задержаны вихрем налетевших сарацинских копьеносцев. Конные стрелки – туркополы, неразличимые в тучах пыли, поднятой копытами скакунов, разряжали свои луки в мечущуюся массу крестоносцев, а те, незнакомые с таким методом ведения боя, пытались сомкнуть свои ряды против преследователей. В конце колонны, все еще с трудом пробивающейся на восток, сэр Тустэн и барон Дрого показывали такое мастерство владения оружием, что новые воины, вдохновившись их примером, с новой силой стали пробиваться к Яффе меж темнолицых всадников, но те продолжали налетать на них, как пчелы на горшок с пивом – нападут, как рой, и тут же уносятся. – Хватило бы сил отбиваться от этой мрази до Лидды, а там лотарингцы придутк нам на помощь, – сказал ломбардец своему помощнику. Барон Дрого подозревал, что неспроста противник атакует их только спереди и сзади, на то должны быть причины. Тем не менее избитая до предела дорога из Яффы вскоре была настолько завалена мертвыми лошадьми и павшими воинами, что дальнейшее продвижение по ней замедлилось до скорости черепашьего шага. Атака особой силы последовала после того, когда хорошо вооруженные конные туркополы графа Льва заменили в нападении сарацин эмира Мусы, а те, понеся потери, откатились в сторону. Но все же малая ширина долины препятствовала эффективным действиям наемников. Туркополы пустили очередной заряд стрел – они, как водится, предпочитали лук копью, – когда раздались воинственные клики, и в тыл им ударил отряд Эдмунда. Застигнутые врасплох и к тому же не оценив в тучах пыли величину этого небольшого отряда, мусульмане с испуганными воплями начали отступать к северу, дав, таким образом, находившимся в тяжелом положении христианам, недолгую, но благотворную передышку. Люди сэра Эдмунда незамедлительно присоединились к арьергарду, прекрасно сознавая, что где-то в центре пострадавшей колонны сарацины, должно быть, наносят по ней свои коварные удары. Сэр Тустэн, под которым пал его любимый, привезенный из Италии боевой конь, выставив вперед свой щит, возгласил: – Держитесь ради нашего Господа Бога! – И с этим кличем побежал вдоль колонны к центру не утихавшего боя. К счастью, сарацины, вновь появившиеся для атаки на арьергард, не очень-то спешили, задержавшись, чтобы обобрать и обезглавить павших врагов. Дрого бросил быстрый взгляд вдоль иерусалимской дороги, а затем, подъехав к Эдмунду, положил ему руку на плечо, чтобы привлечь к себе внимание. Перекрикивая неистовый шум боя, который снова достиг наивысшего накала, он прокричал: – Когда мы достигнем узкого места, задержись у тех вот двух скал. Мы остановимся и задержим наступление неверных. Новички смогут побыстрее уйти. Эдмунд, разгоряченный боем, согласно кивнул и, перекрывая свист турецких стрел, отдал Железной Руке приказ собрать воинов отряда и расставить на новой позиции. Когда появился проем между двумя скалами, он приказал отряду остановиться и образовать двойной заслон перед вспомогательными силами ломбардца. К этому времени половина воинов отряда лишилась лошадей и была вооружена только мечами и щитами, которые они взяли у убитых. …И снова надвигались зеленые штандарты, гремели барабаны, пронзительные призывы к Аллаху рвались через клубы пыли. Через плечо англо-норманн видел Дрого, разъезжавшего из стороны в сторону, который указал подчиненным их место. Эдмунд был поражен, сообразив, что людей расставляют в походную колонну, а не по линии обороны. Но он так и не сумел понять, почему это делается – неистовые копьеносцы в развевающихся многоцветных накидках с грохотом надвигались на них галопом. При первом же натиске лошадь Эдмунда заржала и отпрянула, потом, задергавшись в судорогах, тяжело рухнула оземь. Высвободив ногу из-под крупа коня, Эдмунд обнажил меч. Вытянутые в тонкую линию, воины отряда оказались стиснутыми между двумя скалами. Бились они уверенно, с минуты на минуту ожидая прихода помощи людей ломбардца, тогда они все вместе начнут медленный отход из этого ада. Железная Рука, отчаянно сражавшийся слева от Эдмунда, бросил быстрый взгляд через окровавленное плечо: – Адово пекло! Эта ломбардская собака бросила нас погибать! И это было правдой. Вдоль заваленной трупами дороги шел Дрого, удалявшийся вместе с арьергардом своих провансальцев. Чтобы окончательно отрезать горстку воинов, зажатых между двумя огромными валунами, на них накатилась новая волна сарацин, ведомая высоким офицером в позолоченной кольчуге. Туркополы графа Льва, казалось, сочли дело своей измены завершенным; больше в тот день они не появлялись. – Спина к спине! – проревел Эдмунд. Он, сэр Изгнанник по одну сторону, сэр Арнульфо – по другую повели бой не на жизнь, а на смерть. Позади дрались Железная Рука, сэр Этельм и сэр Рюрик, их секиры работали с устрашающей быстротой и силой. Отряд выдержал первый яростный натиск, его фланги были прикрыты двумя высокими скалами, и на него нельзя было напасть сбоку, но атакам неверных, казалось, не было конца. Взмах следовал за взмахом, удар за ударом, выпад за выпадом. Булькающие стоны и крики умирающих. Отрубленные руки, ноги, головы. Мертвые тела мешали маленькому отряду двигаться. Эдмунду казалось, что его руку сковала длинная железная цепь. Сэр Изгнанник, возвышавшийся над всеми, в свои молодые годы был, наверное, выдающимся воином, так неутомимо он отражал волны наскакивающих на него всадников и пеших. Но вдруг, по совершенно непонятной причине, атакующие отпрянули от горстки залитых кровью, обезумевших от усталости франков. Они уходили, оставляя за собой завал из тел павших мусульман, свидетельствующий о мощи длинных нормандских мечей. Оставшиеся на ногах воины отряда наконец смогли выровнять дыхание. На груде мертвых тел они, и без того высокорослые, казались еще выше. Шум битвы стихал. – Сам Сатана идет рядом с этими провансальскими обжорами и собакой-предателем из Ломбардии! – прохрипел Железная Рука, протягивая раненую руку Феофану; тот взялся перевязывать ее, поскольку владел искусством в этом деле. Вокруг людей бродили легко раненные и потерявшие всадников лошади. Они давали оседлать себя и охотно принимали новых седоков. Но воины не спешили отъезжать прочь, они ждали, пока сэр Эдмунд де Монтгомери закроет невидящие уже глаза сэра Арнульфо из Бриндизи. Затем он сложил его руки крестом, положив их на меч. Сэр Изгнанник и Торауг придали телу такое положение, чтобы лицо его было обращено к Иерусалиму. Туда ему помешала пойти смерть. Израненные, не спавшие почти полтора суток воины с трудом взбирались в седла, чтобы последовать по пути отступления вновь прибывших. Дорога являла их взорам следы битвы – придорожные ямы на ближайших склонах были забиты голыми и обезглавленными трупами моряков, священников и ратников. Растерзанные трупы нескольких женщин также валялись у дороги, и последние капли крови стекали в пыль. Солнце уже склонялось к горизонту – грифы и шакалы теперь менее охотно уступали дорогу всадникам. Наступал их час. Над расположенным в отдалении лесом вставали, устремляясь к небу, клубы дыма. Такой дым мог быть вызван лишь многочисленными кострами, на которых готовили пищу. – Там находится небольшая, окруженная стенами деревушка, – пояснил сэр Изгнанник. – Там мы наверняка обнаружим лагерь беглецов и, я надеюсь, найдем подлого чернобрового пса, покинувшего нас в опасности. Груды мертвых лошадей и человеческих трупов, мимо которых они тем временем продвигались, свидетельствовали о том, что здесь сарацины атаковали отряд особенно яростно. – Почему же, милорд, – спросил Железная Рука, споткнувшись о тело мусульманина, – эти собачьи выродки отошли назад и прекратили атаки на нас как раз в тот момент, когда мы почти истощили свои силы? – Похоже, что они были поспешно отозваны в Иерусалим, – ответил сэр Изгнанник. – Может быть, осада города неблагоприятна для этих почитателей Падшего Ангела. Внезапно новый конь Эдмунда, беспокойный маленький жеребец – арабы и турки никогда не ездят на кобылах – навострил уши, и бывший граф Аренделский, оглянувшись в поисках причин, заметил чуть дрогнувшие ветви на кусте акации. Он тут же пришпорил коня и опустил в боевой готовности копье. – Au secours! – раздался слабый стон. – An secours! Ради Бога, воды. «Au secours» – этот возглас навсегда остался в памяти Эдмунда связанным с маленькой грязной крепостью Агрополи. Спешившись, англо-норманн стал пробираться сквозь заросли, раздвигая листву, пока не увидел две торчащие из-под кольчуги ноги. Ноги принадлежали сэру Тустэну. Он был без шлема и почти умирал от ужасного удара копьем в бок. Его единственный глаз запал и помутнел, но в нем теплился огонек сознания – несчастный узнал Эдмунда, когда тот наклонил к нему свою рыжую голову. Он даже слабо улыбнулся. – Теперь вы… приходите мне на помощь в тяжелую минуту, – прошептал сэр Тустэн. – Слава Богу, что вы появились здесь до того, как я отправлюсь дышать дымом Чистилища. Сэр Эдмунд наклонился, чтобы осмотреть рану. Но тут же выпрямился, содрогнулся и отвернулся в сторону. – Эдмунд, старый друг, я… Я бился как мог, но… но… – Да, тут теперь страна мертвых. Вы заслуживаете большей славы. – Но… но я не смог спасти вашу леди. – Мою леди?! Аликс приехала на одной из галер? – Эдмунд зашатался и упал на колени. – Ничто не могло удержать эту благородную душу от стремления оказаться рядом с вами. – Но… но ее не убили? – Он вдруг с ужасом вспомнил голые, истерзанные тела, валявшиеся у дороги. Была ли хоть одна из убитых белокурой? Этого он не мог вспомнить. – Нет. При последнем натиске… сарацины прорвались… перебив моряков. Вел их… высокий неверный в золоченой кольчуге. – Голос ветерана прервался, он закашлялся, и алая слюна потекла на весь изорванный плащ крестоносца. – На его тюрбане было перо цапли. Я видел, как он схватил вашу возлюбленную… поднял в седло… и увез ее. Я не мог помешать… Сокрушительная усталость, накопившаяся за все прошедшие недели, вдруг сковала его тело, силы покинули Эдмунда, земля, казалось, закачалась под ним, когда он еще ниже склонился над одноглазым воином. – Есть ли… среди вас священник? – шепнул Тустэн. – На мне много тяжелых грехов. – Увы, нет. Сэр Этельм и сэр Рюрик вынесли умирающего рыцаря из чащи, а сэр Изгнанник подсунул ему под голову свернутый плащ. Сэр Тустэн ушел в прошлое, отрывочно бормотал что-то о былых битвах, о штурме городов и великих подвигах, о доблести воинов, свидетелем которой он был. – Все это, – послышался его затухающий голос, – не превосходило единоборства между английским рыцарем… и ломбардцем. Ну да, это было… превыше всего. Прими, Господи, душу скромного рыцаря. Ветеран погрузился в забытье, и, когда на небосводе появились первые звезды, сэр Тустэн завершил на Святой Земле свои военные кампании и свою жизнь.Глава 17 ОСАДНЫЕ БАШНИ
Иерусалим раскинулся на каменистом холме, его древние стены величественно вздымались к небу, полыхавшему, как печь, от восхода солнца до темноты. По взаимному соглашению крестоносцы заняли вокруг Священного города три стратегически важные позиции. К северу от Аль-Кудса герцог Готфрид де Бульон и два Робера – из Нормандии и из Фландрии – разбили свой лагерь, согласившись наступать на Иерусалим с этого направления. Силы графа Танкреда заняли позиции вдоль старой дороги в Яффу, тогда как упрямый старый Раймонд граф Тулузский разбил палатки к западу от города на Сионском холме. Но независимо от места расположения лагерей крестоносцы равно страдали от жары, пыли, сухих ветров и мух-кровососов. С самого начала не хватало воды – неверные засыпали все колодцы на расстоянии в несколько лиг. Воды не оставалось и в пересохшем русле реки Кедрон. Вода была дороже бриллиантов и золота – бурдюк пресной воды стоил пять кусков серебра. Лошади, коровы, козы и овцы погибали от жажды. Их трупы источали ужасное зловоние, что вызывало тошноту даже у самых стойких франков. Более ведомые верой, чем здравым умом, закаленные воины Креста прислушивались к словам болтливого юродивого, появившегося среди них. С вытаращенными глазами и взлохмаченной бородой, одетый в лохмотья святой человек проповедовал, что, если все франки соберутся с духом для совместной атаки к девяти часам следующего дня, Священный город будет взят ими. Пророчество, облетев лагеря, захватывало все больше и больше воинов, которые издавали клики радости и настаивали на немедленном выступлении. Они не обращали внимания на слова более трезвых людей, которые говорили, что еще не готовы штурмовые лестницы, нет таранов и осадных машин, необходимых для успешного штурма. Сторонники юродивого одержали верх, и, как писал сэр Шарль-летописец, за ночь кое-как были подготовлены переносные лестницы, а тяжелые палаточные шесты превращены в примитивные тараны. На следующее утро христианское воинство ринулось в атаку с таким пылом, что, несмотря на огромные потери, осаждающим удалось взобраться на более низкую и местами осыпавшуюся внешнюю стену. А особо рьяные даже овладели на короткое время некоторыми укреплениями города, но вскоре были отброшены, получив тяжелые раны, или же приняли смерть от длинных тростниковых стрел, выпущенных нубийскими и египетскими лучниками. Поражение погасило пыл крестоносцев, и надежды на скорую победу развеялись, когда раненые стали умирать как мухи, а острая нехватка воды стала еще более мучительной. Истерзанные жаждой животные ревели днем и ночью, пока, наконец, большинство из них не подохло; зловоние стало еще более невыносимым. Остальных пришлось отогнать к колодцам за холмами. Все казалось потерянным. Летописец, писавший об этих событиях в середине июля, был потрясен, когда ему пришлось уплатить два серебряных шиллинга за глоток тухлой воды из бурдюка. «Наши властители обнаружили, – писал он под ритмичный глухой стук молотков, сколачивавших передвижную осадную башню, – что в результате нападения на генуэзские суда в Яффе почти все дерево для сооружения различных осадных приспособлений оказалось либо сожжено, либо изрублено. Поэтому граф Танкред, как всегда опережая других властителей, направил лесорубов в лес, расположенный на расстоянии тридцати лиг, и повелел им рубить, освобождая от сучьев, деревья подходящего размера». Прошло много дней, пока первые бревна, которые с трудом перетащили погонщики на волах, появились на месте, которое потом стало известно под именем Долины Проклятых. Опытный инженер Гастон из Беарна принялся за сооружение осадных машин, в том числе двух огромных подвижных башен, более высоких, чем стены Иерусалима на наиболее низких участках. Один из них Гастон обнаружил у северо-восточного угла города, а второй – напротив лагеря Раймонда и его провансальцев. «…Эти осадные башни, – писал летописец, – были весьма внушительными сооружениями. Каждая из них имела три этажа. На нижнем уровне должны были укрываться те, кто станет толкать башню к стенам; средний уровень, самый широкий, имел наклонную плоскость. В нужное время с нее должен спускаться перекидной мост, по которому устремятся в атаку воины Креста, а с верхнего уровня лучники и метатели дротиков начнут обстрел неверных, пытающихся отбросить нападающих. Офицеры, имеющие опыт осадных работ, наблюдали за сооружением катапульт, предназначенных для метания камней и железных стрел, а также за постройкой особых подмостей, на которых устанавливались огромные тараны». Капля пота упала с кончика носа сэра Шарля, оставив пятно на пергаменте, развернутом у него на груди. Тяжко вздохнув, он бросил тоскливый взгляд на свой почти пустой бурдюк для воды. В тот день горячий ветер непрерывно дул из близкой пустыни, устремляясь на восток. Приподняв полог палатки, нормандец смотрел, как сколачивают балисту – передвижную катапульту, которая могла выбрасывать крупные валуны на расстояние многих сотен ярдов. Цепочка истощенных вьючных верблюдов подносила охапки хвороста, из которого люди тут же связывали фашины и грубые щиты – на это шел ивняк или иное легкое дерево. Взгляд летописца рассеянно скользил по этим щитам и лестницам, которыми должны были быть оснащены все рыцари. Пыльные вихри сотрясали палатку, пыль попадала в воспаленные покрасневшие глаза сэра Шарля. Надо остерегаться; многие крестоносцы в те дни слепли, их глаза краснели и покрывались гнойниками из-за непрерывного раздражения. «Наша величайшая беда, – писал он, – заключается в отсутствии опытного вожака, такого, каким был Боэмунд при Дорилеуме и Антиохии. На прошлой неделе, когда собрались самые важные лорды и властители, чтобы выбрать такого предводителя, епископы воспрепятствовали этому, говоря, что не следует одному смертному человеку править Священным городом, в котором страдал и носил терновый венец Христос. Это совещание закончилось, и в результате герцог Готфрид, граф Танкред и граф Раймонд Тулузский получили свободу действий по собственному усмотрению. Эти воители ссорились и обвиняли друг друга, то и дело обнажая мечи, и казалось, что междоусобное столкновение неизбежно. Однако произошло чудо, предотвратив беду. Воинам явился дух святейшего епископа Адемара из Пюи, того, что погиб от чумы после падения Антиохии. Этого святого оплакивали за его мудрость и сострадание все воины-крестоносцы. Дух его ясно увидели и услышали перессорившиеся властители. Тень старца просила их заключить мир между собой, покаяться и искать искупления за свои ссоры. Он повелел им босыми обойти все стены Священного города. Вожаки поклялись исполнить все, как он велел, даже обнялись и попросили друг у друга прощения». Так сильны были чувства братства, так искренне стремление к примирению, что, если бы Эдмунд повстречал тогда Дрого из Четраро, он даже простил бы ломбардцу его необъяснимое предательство в сражении при Яффе. Как только было принято решение об искупительном обходе, религиозный дух воинства поднялся.В ночь перед искупительным маршем все крестоносцы постились и исповедовались священнослужителям, которые без отдыха до самого рассвета переходили от одного лагерного костра к другому. Утром босые франки собрались вместе – с пальмовыми листьями в руках и с длинными мечами у пояса. Что за странное зрелище, думала леди Розамунда, которая вместе с Хлоей наблюдала с вершины холма, как гордые властители высоко подняли тяжелые кресты и медленно двинулись вокруг стены города. Перед ними двигались священники, которые пели, размахивали кадилами, высоко держа дароносицы, реликвии и золотые распятия… И все это под яростные крики неверных, вышедших на стены Иерусалима. Отовсюду слышалось пение псалмов. Это был нелегкий путь для кающихся. Он пролегал по острым камням, скалистым впадинам и раскаленным солнцем склонам. Многие теряли сознание от невыносимой жары и боли. Стоя на коленях, Розамунда умоляла, чтобы это покаяние помогло заслужить прощение Бога. Сестра Эдмунда страстно произносила слова молитв, которые она не вспоминала многие годы. Преклонив колени и склонив головы, ее окружала группа знатных женщин, еще остающихся в лагере графа Танкреда. Они следовали ее примеру. А на стенах глумящиеся неверные продолжали плеваться, размахивать грубо сколоченными деревянными крестами, а их женщины и дети выкрикивали оскорбления, швыряли экскременты и прочую дрянь в сторону цепочки босых людей с обнаженными головами. Но руководители неверных не предпринимали попыток направить из ворот города кавалерию, хотя она могла бы легко смять плохо вооруженную и растянутую в узкую цепочку колонну пеших христиан. Перед самым рассветом четырнадцатого июля 1099 года затрубили трубы графа Танкреда. Все знали, что это означало, и каждый устремился на отведенное ему место. Осадные машины были приведены в действие, некоторые уже бросали тяжелые камни, а другие неуклонно продвигались к железным воротам и парапетам стен Иерусалима. Туго натянутые приводные канаты приводили в движение поскрипывающие длинные рычаги мощных катапульт. Стаи лучников, прищурив глаз, укрылись за щитами из ивняка и других веток и вели стрельбу из луков по стенам города. Другие воины, изрыгая ругательства, толкали тараны, специально поставленные люди наполняли корзины катапульт заранее собранными валунами. Рев труб святого воинства был встречен уверенным серебристым звоном арабских цимбал и боем барабанов. Выстроившись длинными колоннами под укрытием огромных осадных башен, с нетерпением ожидали сигнала те рыцари, которые собрались под знаменем графа Танкреда. Наготове стояли штурмовые лестницы – их должны были подтащить к сорокафутовой главной стене после того, как осадная башня преодолеет разрушенные внешние укрепления. Осадная башня передвигалась с большим трудом, медленно, и многие ратники погибли, подкладывая под нее катки. Эти воины, в основном из простонародья, работали под прикрытием щитов, которые удерживали другие ратники, и все же стрелы и дротики неверных унесли немало жизней. Осадная башня, содрогаясь, дюйм за дюймом перемещалась по тщательно подготовленному для нее пути. Гулко ухали ритмичные удары обитого железом тарана, который начал разбивать красновато-бурые стены Иерусалима. Когда бронзовое, плохо видное из-за клубов пыли солнце стало подыматься выше, многие воины повалились наземь без сознания – они лежали, беспомощно распростертые, и жалобно молили дать им воды. Для Эдмунда было настоящей пыткой ждать и ждать в муках неведения, где же за этими стенами можно разыскать Аликс де Берне… если, конечно, ее не вывезли в глубь страны. Допрос пленных дал сэру Изгнаннику тревожные сведения. Огромный сарацин, которого видели на яффской дороге в позолоченной кольчуге и с пером цапли в тюрбане, это некий эмир Муса Хабиб, известный воитель. Помимо дворца в Иерусалиме, Муса владел небольшим эмиратом за Мертвым морем – владение это называлось Сазором. Эдмунд со всем тщанием расспрашивал каждого пленного, кто признавался, что знал этого эмира. Его интересовало одно: как Муса относится к своим пленникам, в частности к пленным женщинам? Самые подробные сведения ему удалось получить от худощавого, темнолицего молодого арабского князька: хотя руки молодого араба были скованы, голову он держал высоко и смотрел горделиво. – Скажи правду, – убеждал его Эдмунд, – и тебе не причинят никакого вреда. Как этот Муса Хабиб относится к своим пленникам? – Мужчинам он собственноручно отрубает головы, чтобы испытать остроту своих новых турецких сабель. – А что бывает с женщинами? Тень удовольствия промелькнула на лице молодого сарацина и тотчас исчезла. – Уродливых женщин он продает в рабство, но красивых оставляет для собственного особого развлечения. – Особого развлечения? – с нескрываемым ужасом спросил Эдмунд. – Для развлечений слишком сложных и необычных на вкус большинства людей. – Погоди! Разве он никогда не продает знатных дам за хороший выкуп? – Никогда. Он оставляет этих христианских ведьм для своих наиболее фантастических затей, поскольку эти шлюхи не заслуживают лучшей судьбы. Он также… Настолько непереносимы были эти оскорбления араба, что Эдмунд, воспылав необычайной для него яростью, чего не случалось с ним уже много месяцев, выхватил меч и одним взмахом отсек князьку голову. Обезглавленное тело сарацина еще долго оставалось стоять, разбрызгивая фонтаны крови из нескольких артерий; затем, содрогаясь, упало к ногам Эдмунда. Штурмовая башня с трудом продвигалась вперед, а мусульмане непрерывно стреляли в нее, пока передняя часть башни не покрылась стрелами, торчащими, как иголки на спине ежа. Когда это сооружение со скрипом подошло совсем близко, обороняющиеся обрушили на нее пылающие связки хвороста и бочонки с горящей нефтью. К счастью, это не был секретный греческий огонь, иначе огромная штурмовая башня наверняка бы запылала и рухнула, несмотря на прикрепленные к ней влажные шкуры, мешающие возгоранию. Во второй половине дня осаждающие показали неверным свое новое знамя. Русая голова Танкреда, пренебрегавшего опасностью, замелькала на фоне стены. Держа в высоко поднятой руке белое знамя с изображением ярко-красного креста святого Георга, он вызывал врага на бой. Засвистели стрелы неверных, отскакивая от твердой спекшейся земли – разлетаясь в стороны, они ранили не прикрытых щитами христианских воинов. А башня все надвигалась, пока не оказалась на расстоянии длины двух копий от стены. Тогда граф Танкред дал сигнал к штурму. Его люди и люди герцога Готфрида бросились вперед, устанавливая тяжелые штурмовые лестницы. Но как только это удавалось кому-либо из них, сарацины, используя длинные шесты с крючьями, опрокидывали лестницы, сбрасывая карабкавшихся по ним людей на каменистую почву. К этому времени осадная башня загорелась в нескольких местах, и главные усилия нападавших были обращены теперь на ее спасение. Когда солнце опустилось, осадная башня все еще стояла, чуть дымя, окруженная грудой мертвых тел. Атакующие отступили, но недалеко, опасаясь, что неверные могут рискнуть на вылазку и разнесут в щепы осадную башню. Утомленные христиане разбили лагерь, пытаясь утолить мучительную жажду. В течение ночи Эдмунд, Герт и другие рыцари трудились, поднося свежий запас камней для катапульт и железные бруски для баллист, нужны были и канаты взамен стершимся на катапультах и таранах. К полуночи цепочка факелов потянулась к Долине Проклятых. Это были женщины, подносящие пищу и питье тем, кто не имел ни того, ни другого с самого восхода солнца. Розамунда и Хлоя наконец обнаружили остатки отряда из Сан-Северино. Люди чинили сломавшуюся баллисту. Они трудились с большим усердием, слушая, как на стене вверху позвякивает оружие, раздаются голоса и звуки, свидетельствующие о том, что сарацины восстанавливают кладку каменных стен. – А где же мой брат? – встревожено спросила Розамунда. – И сэр Робер из Сан-Северино? С ними все благополучно? Те выступили из тени и рассказали о пленении Аликс; Робер де Берне, казалось, сразу постарел на десять лет. Его взгляд впился в стройную фигуру Розамунды; склонившись, он пылко поцеловал ей руку, а затем попытался съесть несколько ломтей хлеба и сыра, запивая их жадными глотками разведенного водой вина. Хлоя между тем отошла в сторону, негромко окликая сэра Герта Ордуэя. Вернулась она нескоро. Осаждавшие ели в полном молчании. Когда они покончили с этим занятием, Эдмунд нежно поцеловал сестру, еще немного постоял так же молча, удерживая ее за руки и глядя ей в глаза. Через несколько часов для крестоносцев должны были наступить решающие события. Если, употребив все свои силы и волю, всю свою веру, они все же потерпят неудачу, то погибающее от голода и жажды, истощенное воинство Креста вынуждено будет поспешно бежать, пока мусульмане еще не подтянут свои силы из Египта.
Глава 18 ВЗЯТИЕ ИЕРУСАЛИМА
Перед самым рассветом летописец устало отложил перо, перевязал шнурком свой теперь уже обширный манускрипт и уложил его в крепкий ящичек. Надев кольчугу и шлем, он встал на колени перед мечом, воткнутым в землю, и произнес покаянную молитву, умоляя Господа дать ему силы для предстоящего дела. Сняв щит с плеча, он укрепил его ремень, подтянул пояс для меча и вышел из палатки, чтобы присоединиться к толпе рыцарей, собирающейся за осадными машинами. Они снова готовились действовать. В нетерпеливом ожидании сжимались сердца, когда в предрассветной мгле перед ними выросли темные громады башен и массивные стены, которые им предстояло штурмовать. Ночью знатные рыцари под водительством барона Дрого из Четраро обошли крепостные стены вплоть до северо-восточного угла и узнали, что провансальцы взломали первую внешнюю стену и засыпали ров между нею и главной стеной, обеспечив таким образом проход для своей осадной башни к самому верху стены. Но и неверные под покровом ночи установили там баллисты. Теперь они поджидали атакующих, приготовив для встречи связки хвороста, вымоченные в нефти, кучи стрел и дротиков. Не ведающие ничего крестоносцы дремали у штурмовых лестниц, достаточно высоких, чтобы достичь вершины сорокафутовых стен Иерусалима. К огорчению бывшего графа Аренделского, герцог Нормандский и граф Танкред были направлены для руководства неожиданной атакой на слабо укрепленные ворота Святого Стефана, и командование главным штурмом с помощью осадной башни принял на себя герцог Готфрид Бульонский. – Мой господин из Тулузы, – докладывал Дрого, – начнет атаку по первому звуку ваших труб. Мрачный взгляд его черных глаз был прикован к красивому лицу герцога Готфрида. Он избегал смотреть на Эдмунда де Монтгомери и его рыцарей. Сэр Эдмунд и сэр Герт с горечью в душе смотрели на темнобрового посланца, но сумели сдержать свой гнев. Не время было сводить личные счеты. А не был ли ломбардец виновен в похищении Аликс? Конечно, косвенно виновен. Если бы его силы остались для подкрепления арьергардных действий отряда, сокрушительное нападение эмира Мусы Хабиба не могло бы состояться. Освещенные первыми лучами солнца темные силуэты подымавшихся над воинством укреплений дышали угрозой, ратники преклонили в молитве колени, а священники начали пение, которое закончилось громкими криками: «Dieu lo vult! Так угодно Богу!» Со стены долетали громкие призывы к Аллаху, но из полутьмы, от огромной осадной башни, тысячекратно повторенный, вздымался боевой клич крестоносцев. Герцог Готфрид, надвинув пониже украшенный золотой насечкой шлем, дал сигнал – и десятки труб огласили воздух душераздирающим ревом, гулко разнесшимся в утреннем воздухе. Баллисты принялись обстреливать атакующих. Когда воины Креста подошли ближе, бревна и камни полетели на тех, кто пытался преодолеть заваленный булыжниками ров. Горящие связки хвороста, пакли, палок вновь посыпались на осадную башню, которая начала продвигаться вперед, скрипя всеми деревянными перекрытиями. Под первыми яркими лучами солнца Эдмунд увидел русую голову сэра Этельма, сверкнувшую, как золотой шлем, когда тот пытался вместе с Гертом и десятком других норманнов приставить штурмовую лестницу. Сэр Изгнанник присоединился к сэру Рюрику и византийскому сержанту, которые в составе группы вновь завербованных воинов возились с приставной лестницей. Этим же были заняты Железная Рука, Торауг и другие ратники. Шум стоял поистине адский: франки криками подбадривали друг друга, лестницы громыхали, улюлюкали сарацины и турки, со стен с грохотом валились камни, пронзительно скрипели осадные машины. С парапета взлетели языки пламени. Обороняющиеся по непонятной пока причине подтащили к амбразурам мешки с соломой. Возможно, хотели скрыть размеры повреждений, нанесенных стенам накануне. А франкские лучники, которые занимали верхнюю площадку осадной башни, воспользовавшись этим, начали пускать горящие стрелы в эти мешки, и солома загорелась. Клубы густого дыма окутали стену, в дыму начали задыхаться как нападающие, так и защитники города. Крестоносцы поднесли новые штурмовые лестницы и с криками полезли на стены. Уголком глаза Эдмунд увидел, что осадная башня придвинулась почти вплотную к стене, и с ее второго этажа на парапет был закинут мост. – Вперед! За святого Михаила и Монтгомери! – прокричал англо-норманн, едва штурмовая лестница зацепилась за парапет. Он первым сделал рывок вверх по ее раскачивающимся ступенькам. И сразу же Эдмунд почувствовал, как дротики впиваются в щит, который он держал для прикрытия над головой. Боже мой, как же длинна эта лестница! Дышать становилось все труднее и труднее, едкий дым от горящей соломы забивал легкие. Вопли и стоны, раздающиеся из крепостного рва, были свидетельством того, что метательные снаряды мусульман верно находили цели. Аликс! Она должна находиться где-то за этой стеной. Но что сделал с ней Муса? Если ее действительно захватил он, то девушка могла и погибнуть… или ее отослали в Сазор к Мертвому морю. Справа и чуть сзади за Эдмундом по шатким перекладинам взбирался знаменитый лотарингский воин Летольд. За ним карабкались другие воины. Безумная энергия двигала этими людьми, одержимо стремящимися наверх – к заполненным врагам бойницам. Там их ждала смерть. Но мечта о победе толкала их дальше и дальше. – Так угодно Богу! – ревели они. – Так угодно Богу! Достигнув вершины лестницы, Эдмунд отбил несколько ударов, но тотчас снова подвергся яростным атакам врагов, вынырнувших из дымного марева. Они едва не одолели его, как того воина, взбиравшегося по лестнице слева от него, который был сброшен вниз, с высоты, на груду камней. Но все новые и новые волны крестоносцев накатывали на стену, достигая верха. Только большая физическая сила помогла англо-норманну пробить себе путь к площадке на стене и удержаться там, прикрываясь щитом и отражая удары мечом. Тело его получало ушибы от ударов дротиками, но они не пробивали его кольчугу. «За святого Михаила и Монтгомери!» Боевой клич его семьи воодушевлял его и прибавлял сил. Нужно было очистить пространство для людей, все еще находившихся на лестницах. Эдмунд отбросил шит и обеими руками схватил свой длинный меч. Он наносил все новые и новые сокрушительные удары, буквально развалив надвое двух не защищенных доспехами турок. Уложив следующего, он услышал саксонский боевой клич Герта Ордуэя – алебарда, которую он все еще предпочитал мечу, пробивала глубокие бреши в рядах неверных. Теперь Эдмунд смог сделать новый рывок. Сарацины один за другим падали к его ногам. Когда один из них попытался встать, нога Эдмунда, обутая в железный башмак, нанесла удар в окровавленное лицо. Налево и направо разил без устали славный меч. Железная Рука, громко ругаясь, вроде бы закрепился на стене, но несколько египтян, вооруженных мечами, вновь оттеснили атакующих на самый край стены. Они сбросили с нее сэра Рюрика. Только окровавленные мечи Железной Руки и Эдмунда де Монтгомери, смертоносные секиры Герта и Этельма защищали крепления лестницы, по которой на стены Иерусалима могли взобраться новые крестоносцы. Такая же схватка не на жизнь, а на смерть шла у перекидного моста осадной башни. Лязг ударов стали о сталь, протяжные завывания турок и арабов звенели в ушах. Внезапно напор на четырех крестоносцев, защищающих крепления лестницы, ослабел. Торауг, Феофан и сэр Изгнанник, отвоевав себе место на стене, двинулись вдоль нее, чтобы наброситься на тех, кто атаковал Эдмунда с тыла. Сбить их оказалось легко, так как внимание осажденных было занято крестоносцами, пытавшимися освободить перекидной мост осадной башни. Готфрид Бульонский, окруженный со всех сторон сарацинами, сражался словно мрачный ангел смерти. Атакой сзади сарацины были отброшены от стены, многие из них полетели вниз, и две группы нападавших рыцарей соединились. Помощь пришла как раз вовремя: тяжело вооруженный отряд сарацин, возглавляемый высоким человеком в позолоченной кольчуге, появился на поле сражения. Издавая громкий боевой клич и потрясая дротиками, сарацины стремительно набросились на франков, те стали шаг за шагом отступать к осадной башне. Эдмунда, оставшегося на месте, окружило плотное кольцо орущих и наносящих удары азиатов. И хотя он умело орудовал мечом, кольцо постепенно сжималось. Внутрь него впрыгнул сарацин в позолоченной кольчуге с вознесенной над головой турецкой саблей. Эдмунд, вступивший тем временем в единоборство с египтянином, вдруг понял, что не сможет избежать удара сабли сарацина. – Четраро! – прогремел голос, и человек такого же роста, как и Эдмунд, выдвинулся вперед, чтобы отразить удар, который предназначался англо-норманну. Высокорослый эмир, злобно взвизгнув, готовился к новой атаке, Эдмунд наклонился вперед, направив острие меча прямо на яростно блестевшие зубы сарацина, на его выпученные глаза, но араб в падении ухитрился схватить его за лодыжку. Потеряв равновесие, Эдмунд упал на одно колено. Бывший граф Аренделский наверняка погиб бы, если бы Дрого из Четраро не подставил свой щит. Но, совершив это, он на какое-то мгновение оголил собственный левый бок – турецкое копье, направленное со всей силой, на которую был способен его владелец, пробило кольчугу Дрого и проткнуло его насквозь. Но Дрого все же успел сразить своего убийцу, прежде чем, отпрянув в сторону, с кровавым потоком изо рта, зашатался и упал. Эдмунд и его люди бросились вперед и побежали вдоль затянутой дымом стены. Англо-норманн кинулся было за ними, но задержался. Сэр Герт, сэр Изгнанник и Железная Рука сгрудились вокруг него. Обливаясь потом, тяжело дыша, он наклонился над телом Дрого. – Я готов, – прохрипел ломбардец. – Скоро моя душа отлетит в ад. Прости… я… заблуждался. Шум битвы заглушал его уже слабый голос, но Эдмунд ловил каждое слово. – Ради… любви к Господу… прости мой мерзкий поступок, это я заманил тебя и сэра Хью… в комнату леди Розамунды. – Заманил? – Слышно было плохо, Эдмунд наклонился еще ниже. – Это ты подослал оруженосца? – Да. Сначала к Хью, а затем к тебе. Я считал, что ты… а не Робер из Сан-Северино… отвратил… горячо любимую жену от меня. Передай… ей… вечную преданность… сколь бы недостоин ее я ни был. – Прощение дано! – с тяжелым вздохом произнес Эдмунд, с трудом выговаривая слова. – Прощай, друг. И, крепко сжимая рукоять меча, он двинулся вдоль стены во главе новой группы крестоносцев, которые, преодолев подъем на стену, теперь присоединились к закованным в доспехи воинам, к разбушевавшемуся потоку, который переваливал через качающийся перекидной мост башни. Сотни, тысячи крестоносцев подымались по штурмовым лестницам, чтобы сбить или отбросить гарнизон защитников со стен. А затем они устремлялись за охваченными ужасом мусульманами по каменным лестницам в узкие улочки Иерусалима. Не выдержав удара с тыла, который им нанесли люди герцога Готфрида, турки, оборонявшие ворота Святого Стефана, смешались, сбив ряды; воспользовавшись этим, норманны Танкреда взломали главные ворота, и конные колонны неистовых франков ворвались в город. В девять часов утра провансальцы графа Раймонда прорвались в Священный город. Они были беспощадны и убивали всех – мужчин, женщин, детей, невзирая на возраст, пол или положение. Погибло и много местных христиан, к сожалению, не имевших возможности объяснить, кто они такие. Воспоминания о долгих месяцах голода и мучительной жары, о потере друзей, бесчисленные рассказы о зверствах неверных и глубоко укоренившаяся религиозная вражда по отношению к осквернителям Гроба Господня, – все это толкало победителей к оргии убийств. Подобно умирающим от голода медведям, пробравшимся в овчарню, крестоносцы с дикими глазами носились по Иерусалиму. Франки с воем взламывали двери и врывались в жилища, чтобы намертво сразить отчаявшихся мужчин, а затем поразить клинками и женщин. Баски, лотарингцы, фламандцы, рейнландцы, провансальцы и норманны наносили удары булавами по головкам детей, разбрызгивая их мозги по полам из кедра и прекрасной мозаики. – Этого хочет Бог! – вопили победители, когда они со смехом расчленяли тела седобородых стариков и издевались над их предсмертной агонией. Торауг, сэр Герт и сэр Изгнанник едва успевали за яростным бегом Эдмунда вдоль улицы Святого Стефана. – Где живет эмир Муса? – Этот вопрос он задавал везде, где только появлялся, подкрепляя его сверканием меча, и по его поручению сэр Изгнанник повторял тот же вопрос на полудюжине разных диалектов. В конце концов бывший граф вступил в большой, хорошо обставленный дом и сощурился от внезапного контраста: с залитой светом улицы он попал в полутемное помещение. Монотонные звуки голосов, гнусаво тянущих магометанские молитвы, доносились к нему из ухоженного дворика, где бил небольшой фонтан. Посреди дворика стояли два вооруженных сарацина, настроенных очень решительно; стайка женщин и детей толпилась возле них. Оба сарацина были ранены. Имам, старик с длинной седой бородой, призывал этих людей уповать на Аллаха, но лязг железных подошв о каменный пол заставил его замолчать. Затем старик распахнул свои плащ и обнажил костлявую темную грудь. – Велик Аллах, и Мухаммед пророк его! – прокричал он, после чего женщины запричитали, а дети завизжали, словно перепуганные щенки. Забрызганные алой кровью от верхушки шлема до кончика шпор, с покрытыми потом и гарью лицами, трое франков надвигались подобно неумолимому року. Один из раненых сарацин поклонился и протянул пришедшим слоновой кости рукоятку своего кинжала, потом покорно наклонил голову в высоком тюрбане, терпеливо ожидая смертельного удара. Другой сарацин стоял с неподвижностью статуи, глядя перед собой невидящими глазами. Продолжая тяжело дышать, Эдмунд повелел сэру Изгнаннику сказать мусульманам, что он всем сохранит жизнь, если они скажут, где находится дворец эмира Мусы. В затененный пальмами дворик доносились предсмертные крики людей, вопли о помощи, плач. – Эмир, которого вы ищете, – перекрывая этот адский шум, прокричал младший из сарацин, – живет дальше по улице Давида. Его дворец расположен вблизи водоема Патриарха. Эдмунд вспыхнул, голубые глаза его с мольбой обратились к сэру Изгнаннику. – Знаете ли вы, где находится это водоем? – Да. Это недалеко отсюда. – Ради Бога, поспешим туда! Четверо рыцарей выбежали на улицу, где сразу же натолкнулись на группу разъяренных каталонцев, которые расправлялись с бегущими от них мусульманами. А в домик, откуда только что выскочили Эдмунд с друзьями, ворвалась группа рейнландцев; не разбираясь, они перебили всех, кто там находился, и дворик, посреди которого был фонтан, обагрился кровью. Горели дома, дым стлался по улице Давида. Кучи тел перегородили ее, алая кровь стекала в сточную канаву. Идти по улице было непросто. Сэр Герт сразу же поскользнулся и упал. После этого он захромал. Двери всех домов были распахнуты, из них неслись нечеловеческие крики. – Там! Вон там! Видите, это дворец эмира! – закричал Торауг. Эдмунд побледнел. В здании с белыми колоннами уже кто-то побывал, входные двери в него покачивались на петлях, а на пороге… на пороге лежала обнаженная молодая женщина. Алые ручейки крови стекали с ее растерзанных бедер, собираясь в лужицу на белых ступенях лестницы. Судя по цвету волос, женщина, очевидно, родилась в Европе. Яростные крики и лязг мечей, натыкавшихся на щиты, свидетельствовали о том, что на втором этаже дворца идет борьба. – Аликс! – Горло Эдмунда напряглось, когда, взбегая по мраморным ступеням, обагренным кровью, он выкрикивал имя любимой. – Аликс де Берне! Никогда еще за годы своей долгой кровавой истории не видел этот трижды Священный город такого дикого и поголовного уничтожения людей. Мусульмане, сознавая свою обреченность, бились с яростью смертников, защищая каждый дом. Они сбрасывали с крыш бревна, пускали град стрел в крестоносцев, потерявших всякую бдительность и опьяненных терпким вином победы. Подобно голубоглазым демонам, метались франки по Иерусалиму, выбрасывалииз окон тела убитых, убивали людей на улицах, отшвыривая искромсанные окровавленные тела; на мостовых нога тонула в крови по лодыжку. Эдмунд, обшаривший уже, казалось, все комнаты и темные коридоры дворца, заставил себя остановиться, чтобы решить, что же еще предпринять? Он пришел к выводу, что Муса Хабиб и оставшиеся с ним люди, очевидно, заняли оборону у подножия широкой мраморной лестницы, ведущей наверх. Щиты, шлемы и оружие франков было разбросано по желто-черным квадратам мраморной площадки, а тела нескольких рослых русоголовых рейнландцев лежали неподалеку. – Аликс! Аликс! Аликс! Эдмунд и его товарищи поспешили к лестнице. Пришли они вовремя. Вторгшаяся до них во дворец группа крестоносцев уже была оттеснена сарацинами в посеребренных кольчугах и остроконечных шлемах. Они яростней, видимо, успешно защищали подход к двери из кедрового дерева, окованной латунью. Подобно тростнику под косой, защитники дворца начали падать под ударами секиры Герта и мечей Эдмунда и сэра Изгнанника. Поскольку между турками и сарацинами не было тесной дружбы, Торауг также сеял смятение среди воинов эмира. Перебив всех арабов, англо-норманны навалились на дверь. Она не дрогнула. Тогда господин и его бывший оруженосец схватили окованный железом сундук и начали бить им по двери с таким ожесточением, что замок поддался, и дверь повалилась вперед. Вход загородили распростертые тела щедро украшенных драгоценностями красивых темнокожих девушек. Их невидящие глаза уставились на чужеземцев. Они были полураздеты, под левой грудью у каждой зияли глубокие раны. Истерические крики неслись из дальнего конца этой огромной, завешанной коврами комнаты с нарядными алебастровыми ширмами и полом из голубой и желтой мозаики. Группа женщин, несомненно наложниц эмира, теснилась вокруг широкого дивана, пряча головы под пестрыми подушками. Другие пытались спрятаться за драпировками, а кое-кто застыл в ужасе, не в силах пошевельнуться. Одеты женщины были пестро и по-разному – кто в облегающих голубых туниках, кто в прозрачных шароварах. Но большинство были обнажены, если не считать украшений на лодыжках, браслетов и нитей жемчуга, закрученных в длинные кисти. Словно в кошмарном сне Эдмунд смотрел, как высокий человек в позолоченной кольчуге хватал то одну, то другую девушку, а затем, повалив ее на пол, вонзал кинжал под тугую, заканчивающуюся розовым пятнышком грудь. Посмеиваясь, эмир Муса с раскрасневшимся лицом, подпрыгнув, схватил еще одну жертву за золотистые локоны и поволок ее, плачущую и дрожащую, в сторону, как мясник тащит выбранного на убой цыпленка из клетки с курами. За диваном Эдмунд разглядел в трагической группе обреченных девушек одинокую фигурку в тунике бледно-голубого цвета. Хотя, ожидая своей жуткой участи, она закрывала лицо руками, Эдмунд сразу узнал в девушке Аликс де Берне. Громкий крик, подобный вызову на поединок, сорвался с губ Эдмунда. Этот крик заставил Мусу Хабиба, зарезавшего очередную жертву, бросить ее, истекающую кровью, на пол и развернуться лицом к пришельцу. Выхватив из-за пояса турецкую саблю, сарацин устремился на Эдмунда. – Вы, христианские собаки! – выкрикнул он. – Немногих красоток удастся вам изнасиловать здесь! Лезвие сабли блеснуло над головой сэра Эдмунда. Схватив меч обеими руками, бывший граф вознес клинок над собой. Эмир хотел подставить свой клинок под этот удар, но с таким же успехом он мог надеяться отразить удар молнии. Оружие англо-норманна опустилось с такой страшной силой, что клинок Мусы Хабиба раскололся, а спустя мгновение меч Эдмунда так яростно впился в позолоченную кольчугу Мусы, что она распалась на части, а торс сарацина оказался разрубленным от плеча до пояса. – Аликс! О, моя Аликс! Забрызганная кровью фигура метнулась через поврежденного противника и устремилась вперед. Дочь графа Тюржи была так ошеломлена, что, когда Эдмунд схватил ее, она могла лишь стонать, глядя на своего спасителя расширившимися от ужаса глазами. Нервы Аликс де Берне не выдержали потрясения, и она упала без сознания в объятия любимого.Глава 19 ХРИСТОС ПОВЕЛЕВАЕТ!
На четвертый день после успешного завершения первого крестового похода воздух на улицах Иерусалима наконец очистился от гари и запаха крови, видимость порядка была установлена в отвоеванном городе. Сплошь превращенные в мечети небольшие церквушки были заново побелены, чтобы скрыть покрывавшие их витиеватые арабские надписи. А чтобы вновь освятить их, пол и стены были окроплены святой водой. В воздухе запахло ладаном, в алтарях снова зажглись свечи. Бароны перессорились, деля завоеванную Святую Землю. С соизволения графа Танкреда герцог Готфрид Бульонский, который никогда не забывал, кто в решительную минуту пришел ему на помощь, даровал сэру Эдмунду де Монтгомери богатые земли в Сазоре и прочие владения эмира Мусы Хабиба. С наступлением вечера оставшиеся в живых воины отряда Серебряного Леопарда отстояли торжественный благодарственный молебен в церкви Святого Иоанна Крестителя. Присутствовал на нем и Железная Рука, хотя его правая кисть была на перевязи; рука навсегда осталась неподвижной из-за глубоких ран, нанесенных турецкой боевой секирой. Сэр Изгнанник, как всегда подтянутый, все еще скрывая свое настоящее имя, присутствовал в храме вместе со всеми доблестными нормандскими рыцарями. После богослужения сэр Этельм, несмотря на серьезные раны на голове, обменивался грубыми шутками с Тораугом и Феофаном; последний уже надел позолоченные шпоры – дар герцога Готфрида за доблесть византийца на городской стене во время штурма. Сэр Герт, как всегда немногословный, весело поблескивал своими голубыми глазами и подтрунивал над сэром Эдмундом по поводу возможности обзавестись собственным гаремом в Сазоре. Немного позднее воины собрались на плоской крыше дворца Мусы Хабиба. Они наслаждались прекрасным видом города, над которым из двух тысяч труб поднимался дым, напитанный вкусными запахами. Смех снова звучал на узких, извилистых улицах Иерусалима… Воины обсуждали недавние события, говорили об ушедших сотоварищах, о сэре Гастоне из Бона, сэре Рюрике, сэре Арнульфо и сэре Рейнаре из Беневенто, который пал смертью храбрых при Дорилеуме. Вспоминали также мужественных сержантов и ратников, которые пали во время длительного перехода от Никеи, и молились за спасение их душ. На лестнице, ведущей на крышу, послышались женские голоса. Появились те леди, которые недавно на горе Олив с нетерпением и беспокойством ждали окончания боя. С ними был и сэр Робер из Сан-Северино. Он казался сейчас более высоким и загорелым, чем обычно. Робер держался около своей сестры. Но глаза его были обращены только на леди Розамунду. Вслед за ними шла маленькая Хлоя с нежным огоньком в темных глазах. На крыше появились и другие дамы, временно пребывающие в прекрасном мраморном дворце эмира Мусы. Освещенные золотистым закатом крестоносцы и их дамы заняли восточный край крыши. Аликс де Берне была во всем голубом, удивительно красивая в золотом лавровом венке, украшенном бриллиантами, на длинных серебристых локонах. Этот венок был обнаружен в сундуке эмира, полном сокровищ. Довольно близко от них, на куполе огромного белого здания, называемого дворцом Соломона, шли какие-то работы. Золотой полумесяц, который раньше венчал купол, после взятия Иерусалима исчез. Эдмунд, нежно обняв за талию, притянул к себе Аликс. Неожиданно послышался голос Герта: – Смотрите, милорд! Посмотрите на тот купол! На крыше воцарилась тишина. Рыцари и леди внимательно вглядывались через ближайшие крыши и верхушки деревьев в темные фигуры людей, карабкавшихся на недавно побеленный купол. И вдруг там что-то заблестело. Затем над благоговейно застывшей толпой разнесся радостный крик: огромный позолоченный крест был водворен на вершину купола, чтобы снова сверкать в нежно-голубом предвечернем небе. Аликс де Берне подняла на Эдмунда свои милые глаза. Они встретились взглядами. Этого человека она так любила… В церкви неподалеку раздавались ликующие возгласы монахов: «Christus Regnat! Chris-tus regnat semрег!».Майт МЕТСАНУРК НА РЕКЕ ЮМЕРЕ
I
Мягкие хлопья снега ложились на проселочную дорогу, на белые простыни полей, на скаты крыш и жерди шалашей. Старые ели, стоящие купами и в одиночку вокруг дворов и по концам улочек, ловили своими широко распростертыми лапами медленно парящие хлопья и не давали им упасть. Молодая женщина в расшитом красными нитками платке и накинутой на плечи большой белой шали с желтой каймой уходила по мягкому снегу из деревни, держа за руку трехлетнего мальчика. Лицо ее распухло от слез, веки покраснели, ноздри вздрагивали, губы были плотно сжаты. Мальчик высунул руку из мехового рукава, белая снежинка упала ему на ладонь, и он, смеясь, сжал пальцы. Но, взглянув украдкой на мать, сморщил лицо, словно собираясь заплакать, и дрожащими губами спросил: — Куда мы идем? — Домой, в наш новый дом, — едва приоткрыв рот, чтобы не разрыдаться, прошептала молодая женщина. Мальчик начал тихонько всхлипывать и перестал ловить хлопья. Было утро, по дороге им встречались охотники с луком за плечами, пучком стрел и небольшим топориком, заткнутым за кожаный пояс. Встречались закутанные женщины, торопившиеся в деревню за огнем, чтобы зажечь потухший ночью очаг. Встречались и люди, державшие путь к кузнецу, чтобы наточить кто топор, кто стрелу, острие которой затупилось, а кто наконечник сломанного копья. Все они почтительно приветствовали Лейни, молодую жену старейшины, и даже останавливались, чтобы спросить, куда она в такую рань, по бездорожью, с маленьким сыном. Но при виде заплаканных глаз с покрасневшими веками, искаженного болью, распухшего от соленых слез лица, стиснутых губ умолкали и, покачивая головой, глядели путникам вслед. Вечером вся деревня, а на следующий день и весь кихельконд Саарде знали: молодая жена старейшины ушла с сыном в лесную глушь и поселилась в одиноком заброшенном шалаше. Стало известно также, почему все это произошло. Не так давно Кямби — старейшина Саарде — со своими людьми и с людьми из Алисте, Мягисте и Уганди ходил на Беверину. В то время, пока одни, окружив крепость, мерзли на холоде и дрались с вырвавшимся из осады противником, Кямби со своей шайкой грабил латгальские деревни. Удирая, он побросал почти всю добычу, однако несколько молодых коней и одну довольно-таки разнузданную девку все же привел домой. Начались пиршества. Девка перевернула дом вверх тормашками, плясала, бесновалась, закружила старейшине голову и совсем вытеснила Лейни. Узнали еще, что девка ударила Лейни по лицу и избила ее сынишку, поспешившего матери на помощь. Ночь Лейни провела на половине девушек-служанок, а утром, взяв сына за руку, покинула дом старейшины. Вскоре после этого слуги Кямби разнесли по деревне приказ: не дозволяется никому проведывать Лейни в ее новом жилье в лесу; не дозволяется оказывать ей хоть малейшую помощь, если она попросит; не дозволяется носить ей огонь или съестное. Вот. тогда-то она пожалеет, что была так упряма и высокомерна, и вернется в свой дом. Образумится, когда мальчишка начнет реветь с голоду. Так и так своим уходом она опозорила семью и дом старейшины не только перед всем кихелькондом, но и далеко за его пределами. Кямби боялись. Все знали, что повсюду у него есть уши, которые слышат, и глаза, которые видят. Никто не осмеливался ослушаться его приказа или обсуждать его запрет. И Лейни оставили замерзать и голодать в заброшенном шалаше, в глухом лесу. Уже на третий день ее увидели бредущей по деревне. Бушевала метель, снега намело на глухих лесных дорогах выше колен, и поэтому Лейни оставила сына в лесной хижине. Дверь она подперла крепкими кольями, чтобы мальчик со скуки или со страху не выбрался из дому, да и волки чтобы не ворвались туда. С самого полудня Лейни ходила из дома в дом, где, как ей помнилось, раньше были приветливы к ней. Но теперь, увидев ее за воротами или во дворе, люди говорили, что Кямби, мол, крепко-накрепко запретил подавать ей милостыню и что незачем ей в даже и входить. Правда, кое-где ей разрешали передохнуть и погреться и даже совали что-нибудь за пазуху, веля, однако, спрятать понадежнее. А в ином доме начинали бранить Кямби, рассказывать, как он сколотил себе богатство грабежом на больших дорогах, как покупает сочувствие, раздавая из награбленного добра серебряные монеты или бронзовые украшения. Лейни не жаловалась, не роптала и не обвиняла; она безучастно слушала боязливую брань и лишь просила чего-нибудь съестного ребенку и себе. Ей отвечали, поглядев сперва с опаской по сторонам, что старейшина как раз и гневается за то, что она увела ребенка. Увела, когда сам старейшина еще спал. (Тут Лейни восклицала, что старейшина спал после ночного разгула; спал с девкой, захваченной во время похода.) Старейшина, мол, говорил, что если она любящая мать, пусть немедленно приводит ребенка домой, где всего вдоволь! Да и сама она в любое время может вернуться, никто ведь ее не гнал. А если кто и гнал, то только ее собственное упрямство и гордыня. Уже смеркалось, когда Лейни двинулась в обратный путь, держа в левой руке завязанную в узел шаль с подаяниями добрых людей, а в правой — толстую рябиновую палку. Никто не провожал Лейни, боясь старейшины и непогоды, но каждый дал добрый совет — когда пойдет лесом, пусть произносит про себя заклинания и просит защиты у милосердных духов. Резкий ветер подхватывал с полей, пожог, дорог и улиц голубовато-серый снег, сгребал его, взметал облаком, взвивал над домами и шалашами, вздымал столбом вверх и снова раскидывал, хороня под сугробами низенькие строения, кусты и изгороди. Все духи вырвались сегодня на бесшабашный праздник, и люди в страхе прислушивались к их шальному веселью. Лейни была гибка и хрупка; она была подобна молодой березке, которая, вытянувшись и повзрослев, осталась стройной и тонкой. Но в груди у нее билось смелое сердце. Лейни никогда не забывала, что она дочь старейшины Мягисте. Покидая деревню, она не думала ни о метели, ни об алчных волках, она думала только о своем маленьком сынишке, который в страхе, голодный, ждет ее в темной лесной хижине. На дороге намело сугробы, через них надо было пробиваться либо перекатываться. Вскоре не стало видно ни пути ни дороги; во вьюжной пелене исчезло все. Лейни не боялась за себя, ей было страшно за ребенка, поэтому она спешила, не чувствуя ни усталости, ни слабости, ни холода. Материнская любовь вселяла в нее силу, а материнское сердце не давало сбиваться с пути. Губы ее шептали заклинания, они должны были отогнать диких зверей и умилостивить духов. Не колеблясь вошла она в гущу высоких деревьев, где было уже довольно темно. Здесь метель бушевала не так свирепо, однако в вершинах и ветвях по-прежнему завывало, стонало, гудело и свистело. Тут и там меж стволов мелькали огоньки глаз, серые тени перескакивали дорогу, Лейни не обращала на них внимания: в одной руке она крепко держала узелок, в другой палку. Глаза ее были устремлены вдаль, словно она видела перед собой ждущего ее сына. Лес поредел, впереди виднелась подсека, поросшая редким низким кустарником. Вот здесь за холмиком, на опушке ельника, — избушка. Всего несколько сот шагов... "О боги и добрые духи, дайте мне сил дойти и уберегите моего сына!" — молила Лейни. Меж темнеющих кустов уже отчетливо видны были десятки пар горящих глаз. Они то исчезали, то сверкали где-то в отдалении, то приближались. Лейни крепко сжимала в руке палку, но еще крепче — узелок со съестным; в нем кроме хлеба было несколько кусков мяса — сырого и печеного. Если ветер донесет до голодных зверей этот запах, рябиновая палка уже не испугает их. Волки окружали ее со всех сторон; все ближе сверкали глаза и все явственнее между порывами ветра слышались голодный вой, визг и урчание. Вскарабкавшись на гребень холма, Лейни увидела перед собой хищников. Она задыхалась от усталости и все же, не останавливаясь, шла вперед, высоко подняв палку над головой. Лейни боялась, что, обессилев, упадет в снег и тогда стаей, со всех сторон, они кинутся на нее, вырвут узелок и вонзят в ее тело зубы. Если бы не сын, она отдала бы себя во власть богов и духов — будь что будет. Но сейчас ей надо устоять, надо отогнать прочь зверей, будь их даже не одна стая. Волки отступали неохотно, они держались на расстоянии лишь нескольких шагов от нее, а когда Лейни замахивалась палкой, отскакивали в сторону, зло лязгая зубами. Пройдя полсотни шагов, Лейни остановилась перевести дух — еще совсем немного, только спуститься по склону, и она дома. Снег был выше колен, местами она проваливалась в него по пояс, но тропинка меж кустов была знакома Лейни. Только бы хватило сил! Высоко держа над головой палку и угрожающе размахивая ею, она стала пробираться дальше. Сердце бешено колотилось, в ушах гудело, раскрытым ртом она ловила воздух. Она призывала на помощь богов, шептала заклинания, но волки по-прежнему шли по пятам и поджидали ее впереди. Лейни закричала диким голосом и обессиленно замахала палкой. Она почувствовала себя совсем беспомощной, и ей стало жаль себя. Над кустарником уже показалась острая верхушка шалаша, — во что бы то ни стало дойти, там — ее сын! Она снова остановилась, чтобы перевести дух, прежде чем пройти этот последний отрезок пути, и вяло помахала дубинкой. Колени ее дрожали. Казалось, она вот-вот упадет. Руки, сжимавшие узелок и палку, закоченели от холода; один прилив слабости — и она свалится и не встанет. Но мысль о сыне удерживала ее на ногах. Не сдаваться, даже если бы пришлось идти всю ночь! Она снова стала пробиваться через глубокий снег, отгоняя хищников палкой и резкими вскриками. Вдруг ноги ее увязли в глубоком сугробе, и, не в силах высвободить их, она упала лицом в снег. — Сынок мой! — в отчаянии закричала Лейни. Почувствовав на своей одежде клыки, она с усилием поднялась и наугад ударила палкой. Вытащив ноги из сугроба, Лейни постояла, жадно глотая воздух; из глаз ее текли слезы. Затем она двинулась дальше, высоко занеся палку для удара. Шалаш был рядом, за кустарником. Несколько шагов — и Лейни стояла перед входом. Черной дырой зиял дверной проем... Лейни взвыла, подобно дикому зверю, которому нанесли смертельный удар, и вбежала в темную хижину. Она опустилась на четвереньки, стала шарить по полу, вдоль стен и сквозь вой метели звать сына. Заглянула под вязанку хвороста, в очаг, много раз проползла вдоль стен, а потом упала и осталась неподвижно лежать, плача и причитая.Сына не было. Вскочив на ноги, Лейни схватила палку и выбежала из шалаша. Она звала и манила сына, говорила, что мать ждет его, но в ответ слышались только тяжелые вздохи леса и жалобное завывание ветра. Поблизости в кустах грызлись несколько волков. Лейни кинулась туда, горя желанием отомстить за сына. В ее сердце вспыхнул огонек надежды: может быть, она еще вырвет его из когтей хищников. Волки бросились врассыпную, оставив на снегу темнеющую груду. Лейни наклонилась и стала шарить руками, а нащупав, опустилась на колени и затем упала ничком. То был скелет ребенка, тут же валялся череп, рук и одной ноги не было. Лейни собрала останки сына, прижала их к груди и, отчаянно рыдая, стала целовать окровавленные кости. Почувствовав боль в ноге, она вскочила, схватила палку и погналась за хищниками, обуреваемая страшной злобой и желанием перебить их всех до единого. Однако ноги застревали в сугробах; и она вскоре остановилась и, беспомощно плача, вернулась на то место, куда положила останки мальчика. Но волки уже успели утащить их, и только череп темнел на белом снегу. Она взяла его в правую руку, высоко подняла и под завывание бури и стоны леса стала выкрикивать проклятия Кямби: — Будь ты проклят во все времена — в жизни, в смерти и в земле! Да будет проклята плоть твоя и душа твоя, да будет проклята каждая женщина, к которой ты прикоснешься! Пусть гниет твое тело на земле и под землей и пусть как падаль будет изъедено червями! Пусть черви заживо сожрут твое звериное сердце, высосут кровь из твоих жил, перегрызут тебе сухожилия! Пусть змеи проникнут в твою утробу и пусть совьют себе гнездо в твоей голове! Пусть померкнет свет перед твоими глазами, а в ушах твоих пусть поселятся осы! Пусть отсохнет у тебя язык, пусть отвалится твое нёбо и сломаются твои челюсти! Пусть топор упадет тебе на ногу и меч отрубит тебе руки! Да будут прокляты твои жены, и да народят они тебе змеенышей! Да будет проклято все потомство твое, и да сгниет оно, словно падаль, в болоте! Пусть гром поразит дом твой и молния испепелит твои хлева! Пусть мор уничтожит твоих коров и овец, а волк перегрызет горло у твоих жеребят! Пусть засуха сожжет твои поля, и пусть враг унесет все твое добро! Сгинь, пропади ты совсем, чтоб даже праха твоего не осталось! Лейни вновь кинулась в шалаш, держа в одной руке череп, в другой — палку. Она положила их на пол и в слепой надежде стала снова шарить вдоль стен. Но ничего, кроме своего узелка, не нашла. Она подняла его и вышла на порог. Меж стволов мелькали горящие глаза хищников. Они сожрали ее ребенка! И все же они — невинные, голодные щенки по сравнению с тем хищником! — Ну, погоди, я убью тебя своими руками, задушу своими пальцами, зубами перегрызу тебе горлоI В взвихренном снежном облаке совсем близко сверкнули глаза. Кольцо суживалось. — Нате! — крикнула она с диким смехом, и узел, описав длинную дугу, полетел в лес. — Жрите! Мало вам моего сына! Черная стая, сбившись в кучу, ринулась туда, где упал узелок; послышался лязг зубов, хруст, предсмертное хрипение. По глубокому снегу Лейни зашагала назад, к деревне, держа в левой руке череп ребенка, в правой — палку. У дверей первого жилища она свалилась без чувств.II
Небольшие владения Кямби простирались к западу от Алисте. Окруженные болотами и лесами, они по праву именовались Саарде — островом. Врагам, вторгавшимся по большой дороге Вынну — Беверина с юга, чтобы грабить Сакалу, невдомек было свернуть сюда, как и тем, кто вдоль берега моря устремлялся в Соонтагану. Народ селился в Саарде, прячась от войн; скрытые от глаз, эти земли и по сей день привлекали к себе жителей из Сакалы, Уганди, Нурмекунде и с побережья. Во время одного из зимних военных походов, предпринятого совместно с сакаласцами вглубь Росолы, в схватке с литовцами, которые тоже пришли туда поживиться, пал прежний старейшина Саарде. Кямби и в тот раз оставался дома. Большим военным походам, в которых участвовали жители Алисте и Сакалы, он предпочитал разбойничьи набеги. Услышав о смерти старейшины, он тут же собрал мужчин, накормил и напоил их, одарил подарками из награбленного добра и дал избрать себя на место погибшего. Сыновья павшего старейшины и немногочисленные оставшиеся в живых воины, вернувшись из похода в Росолу, оказались бессильны что-либо сделать; хотя в Саарде у них и были сторонники, но они боялись Кямби и не решались поднять против него голос. Сыновьям прежнего старейшины ничего другого не оставалось, как уехать на чужбину, ибо дома их с легкостью могла настигнуть стрела, пущенная из-за дерева или из-за куста, как это уже случалось и раньше с иными из врагов Кямби. Кямби был еще молод, когда стал старейшиной. Зимой и летом он ходил со своими родичами по прибрежным дорогам, как он сам говорил, "менять товар", а по разумению других — грабить. Его считали богаче даже самых могущественных старейшин Сакалы. И не раз, изрядно выпив меду, он хвастливо говорил об этом. Он был ласков с теми, кто помнил о нем, кто распространял о нем добрую славу либо, желая сделать ему приятное, подносил, возвращаясь с охоты, птицу или зайца, настигнутых стрелой или попавших в силки. Иной раз, возвратясь после "мены товаров" с богатой добычей, он приказывал забить быка, наварить полную бочку меду и звал на праздник самых важных и именитых людей соседнего кихельконда вместе с дочерьми и сыновьями. Хозяева и гости ели, пили, играли на каннеле, на свирели, пели и плясали, Кямби всюду — первый, самый веселый из всех. Но тому, кто не заискивал перед старейшиной, кто за его спиной отзывался о нем плохо, лучше было не жить в Саарде — того и гляди случится несчастье. Кямби был среднего роста, плечист, слегка сутул. Лоб у него был плоский, с залысинами, нос с горбинкой, узкие глаза бойко шныряли по сторонам, разговаривая, он держал их полузакрытыми, словно боясь, что кто-либо сможет заглянуть ему в душу. Говорил он очень быстро, фыркая и отдуваясь, закидывая голову и размахивая руками. Жен у него было на первых порах много — преимущественно рабыни, привезенные из разных мест. Они часто дрались между собой, и тогда Кямби брал плеть и нещадно бил их. В конце концов он подарил часть из них своим друзьям, часть продал на ярмарках, после чего с подобающей в таком деле пышностью поехал свататься к дочери одного из старейшин Сакалы. Когда он завел там речь о пропавшей телочке, ему вежливо ответили, что телочку заботливо оберегают от хищников. Вскоре после того, возвращаясь из риги с ярмарки, Кямби остановился на ночь у старейшины Мигнете. Увидев Лейни, он начал жаловаться на ломоту в костях и остался еще на несколько дней. Он стал одаривать Лейни дорогими подарками и с таким пылом рассказывал о богатстве и удобствах своего дома, что Лейни согласилась вместе с отцом и братьями посетить Саарде, хотя сам Кямби и был ей не по душе. Эта поездка решила судьбу дочери старейшины Мягисте. Она увидела там такое великолепие, что даже толком не разглядела Кямби и согласилась стать его женой. Расположение отца и брата Лейни Кямби завоевал тем, что пообещал всегда приходить Мягисте на помощь, если с юга нагрянет враг или если надо будет проучить его. И явится Кямби не один, а с целым войском вооруженных копьями и мечами всадников. Кямби позвал на свадьбу даже старейшин Уганди и Йыэтагузе. Он не поскупился ни на яства, ни на наряды и украшения для новобрачной. Ему хотелось, чтобы слава о его богатстве разнеслась далеко за леса и болота. А потом у Лейни не раз бывали красные от слез глаза, она все чаще сидела одна где-нибудь на холме и глядела поверх деревьев на юго-восток, туда, где был ее прежний дом. Затем у нее родился сын, и в заботах о нем забылось Мягисте. Не думала она и о муже, о его грубости и жестокости. В Саарде стали любить и жалеть Лейни. Кямби же боялись, ненавидели, однако заискивали перед ним. Когда прошел слух, что хищники растерзали ее сына, — а слух этот распространился в окрестности уже на следующий день, — все готовы были броситься утешать бедную мать. Многим не терпелось кинуться к великолепному дому старейшины и со всех сторон поджечь его, чтобы заживо сгорел в нем бессердечный человек со своей распутной девкой. Но страх перед Кямби удерживал их дома надежнее, чем яростная метель и огромные сугробы. Старейшину оповестили, что жена его, одна, без сына, прибежала из лесу в деревню, несет бессмыслицу и прижимает к груди маленький череп. Кямби пришел в сопровождении слуг и собак, у пояса — меч, в руках — ременная плеть. В страшной злобе он кинулся на жену; выкрикивая судорожно подергивающимся ртом бессвязные слова, он время от времени стегал ее плетью по плечам и спине, а затем бросился в лес на поиски сына. Вернувшись через некоторое время, он снова начал хлестать жену плетью, молотить кулаками, а напоследок несколько раз пнул ее ногой и оставил без чувств лежать на земляном полу. Добрая хозяйка перенесла избитую Лейни на лавку, потом отвела ее в баню, смыла кровь, растерла кровоподтеки, смазала раны. Ссадины и раны скоро зажили, и Лейни не думала о них. Душа ее разрывалась от отчаяния и скорби по сыну, все остальное было ничтожным, все, кроме скорби и желания отомстить, нет, не за свое унижение, раны и кровоподтеки, а за смерть сына. На третий день в дом, где приютили Лейни, зашел какой-то старик. Кожа на его костлявом лице задубела и сморщилась, голова держалась на туловище так, словно была пришита лыком. Он многое видел на своем веку, не одного сына похоронил на чужбине и в родной земле, был свидетелем того, как угоняли в полон его дочерей, как горел его дом, как имущество его стало добычей грабителей. Он все искал слов, которые могли бы утешить Лейни, а затем, словно стыдясь, что сам мало знает, сказал: — В прошлом году в Сакале видали патера не то из Риги, не то из земли ливов. Он был в черном балахоне до земли, и голова его была тоже покрыта черным. Он говорил, что каждый человек, когда умрет, может свидеться на небе с родными. Только для этого надо окропить голову крестильной водой и сказать какие-то слова. Кто знает... У Лейни, когда она услышала это, замерло сердце. Она коснулась рукой одежды старика и начала подробно расспрашивать его об учении патера, о крестильной воде, о небе, где можно встретиться с умершими родными, и о том, как туда попасть. Но старик ничего больше не смог добавить и лишь сказал, что на южной границе этих чернорнзников можно встретить чаще и людей, давших окропить себя крестильной водой, там больше. — Завтра же отправлюсь в путь! — воскликнула Лейни и выпрямилась. — Я должна увидеть своего сына! От старейшины пришел приказ: пусть Лейни возвращается домой сегодня же, иначе может вообще никогда не возвращаться! Лейни велела передать ему: и сука уйдет от такого хозяина. Уйдет, даже если кругом стаи голодных волков. Она стала просить людей, приютивших ее, дать ей подводу, чтобы добраться до дома брата, — отца к тому времени уже не было в живых. Но тщетно. Она стучалась во все двери и молила дать ей лошадь и провожатого. И тоже тщетно. Все разделяли ее горе, сочувствовали ей, но страх перед Кямби был сильнее. Тогда Лейни, дочь старейшины Мягисте, завязав в узелок кусок хлеба и череп сына, взяла палку и отправилась пешком. Ее решение было непоколебимо: она пойдет отсюда в Мягисте, а затем дальше, хоть до реки Вяйны, будет идти до тех пор, пока не найдет патера, который окропит ей голову крестильной водой, чтоб она смогла увидеться с сыном. Она тронулась в путь, невзирая на свирепый зимний ветер, высокие сугробы и сильный мороз. Жгучая тоска по сыну и горячая ненависть к Кямби придавали ей силы. В ближайшем лесу она встретила крестьянина, который ехал в Алисте. Он согласился посадить Лейни в сани, укрыл ее шкурами и пообещал довезти до большой дороги, которая ведет из Сакалы и Алисте на юг. Оттуда до Мягисте было уже недалеко.III
Высоко в небе над Аутине и Идумеей повис серебряный серп луны; тускло поблескивала снежная равнина; слева, справа и впереди виднелись редкие, покрытые инеем кусты, их можно было принять за окоченевших на морозе духов. Со стороны Пскова, через большое болото, двигался обоз — это с ярмарки возвращались жители Мягисте. Развалясь в санях, люди глядели то на тщедушного среброликого небесного странника и на простирающееся вокруг него огромное синеющее море с золотым песчаным дном, то на бескрайнее снежное поле с редкими кустами, напоминающими застывших духов. Людям было жутко здесь, в этом великом одиночестве, но одновременно оно манило и чаровало их. Вот приблизятся духи и при бледном свете луны, на расстоянии нескольких шагов, откроют свои лица! Кто знает, может, есть среди них девушки краше всех земных женщин — увидишь их и забудешь весь мир! Лошади бежали ровной рысцой, поскрипывали сани, похрустывал снег под полозьями, мужчины впали в мечтательную полудрему и изредка перебрасывались отдельными словами. Впереди, на вторых санях, глубоко спрятав ноги под сено и шкуры, сидел старейшина Мягисте Велло со своим слугой Кахро. Глаза старейшины тоже были обращены к тощей луне, но время от времени он окидывал взглядом безбрежную белую равнину — не появится ли на западе полоска леса. Ему тоже казалось, что редкие заиндевевшие кусты — это духи, души умерших, которые блуждают здесь и, быть может, оберегают путников от злых людей. Нет ли среди них его отца и брата. Ведь совсем немного времени прошло с тех пор, как отец умер от ран, полученных в битве под Бевериной, а окоченевший труп брата привезли оттуда домой, чтобы крещеные не смогли надругаться над ним. Разве не могут их души находиться сейчас поблизости? Стать когда-либо старейшиной Мягисте и править своими семью селениями — об этом Велло мечтал давно и даже достойно готовил себя к этому. Но произойти это должно было не ранее того, как солнце десять или двадцать раз повернет с зимы на лето и десять или двадцать раз будут брошены семена в почву и снят урожай. Тогда для отца придет пора отправляться в загробный мир. Но тут неожиданно, по легкомысленному замыслу жадного до наживы старейшины Уганди, хищного Кямби и отрядов сакаласцев, а может, и без всякого замысла, был предпринят этот поход на Беверину. Почти насильно Кямби втянул в него и своего тестя — старейшину Мягисте, а также Велло с братом, пообещав им богатую добычу и славу. Беверина была не особенно сильным укреплением, ее можно было взять просто так, не осаждая, стремительным натиском, со всех сторон штурмуя вал. Рыцарей в крепости находилось не больше одного-двух, а у латгалов было плохое оружие, и они не умели пользоваться им. Беверину можно было захватить и с меньшей дружиной, если брать ее длительной осадой и измором. Но Кямби со своими людьми первым исчез ночью из-под крепости — ему не терпелось навести страх в селениях, дочиста ограбить их, угнать скот и заполонить девушек. Вслед за Кямби исчезли и угандисцы. Осажденные прорвались. Со стороны Вынну к ним приближалась подмога, и нападающим пришлось поспешно отступить, побросав почти все награбленное добро. Велло привез домой труп брата; его сожгли на холме, в священной роще. И вскоре там же предали огню останки умершего от ран отца. Нового старейшину не выбирали, по обычаю им стал старший сын — Велло, тем более, что его хозяйство было самым большим и самым богатым в Мягисте. Велло не знал в точности своего возраста, однако ему уже было больше тридцати. Кое-кто в деревнях глухо роптал, и это дошло до Велло: почему, мол, не позвали в священную рощу всех тех, кто способен держать меч в руках, и не спросили, кого они хотят видеть своим старейшиной? Известно было, что подстрекает людей, возбуждает их недовольство старейшина одного из селений Мягисте — Рахи, по кличке Рыжеголовый, по происхождению чужеземец. Когда тот еще был мальчишкой, Велло не раз колотил его, а позже призывал к ответу за грабежи на дорогах. Для многих в Мягисте Рахи был сущим наказанием. Кто знает, не натворил ли Рыжеголовый каких бед и теперь, пока Велло был в Пскове. Может быть, неправильно он поступил, что уехал с лучшими людьми на ярмарку и оставил дома врага. Тем более, что в зимнее время все дороги из Трикатуа и Аутине на Мягисте открыты, а неприятель еще не отомстил за набег на Беверину. Но не ехать на ярмарку было нельзя: вскоре могла начаться распутица, а весь мед и воск, собранные минувшим летом, все лисицы, зайцы, рыси, хорьки и даже два медведя, убитые нынешней зимой, до сих пор оставались необмененными. Взамен надо было привезти соль, железо, оружие и украшения для женщин. В Риге все это стоит дешевле, да и шкуры там в большей цене, но не подобало старейшине отправляться к рыцарям и их крещеным подручным после беверинской бойни. Потому-то мужчинам из Магисте и пришлось поехать на ярмарку в Псков, и уже шестой день они отсутствовали дома. Но вот вдалеке показалась темная полоска леса, она постепенно увеличивалась, поднималась все выше. Вскоре путники выехали на большую Вынну-Сакаласкую дорогу. Некоторое время они ехали по ней к северу, а затем круто свернули на запад, к лесу, который стеной вставал перед ними и до которого было теперь рукой подать. Велло пе боялся сбиться с пути: на первых санях сидел Ассо, преклонных лет сельский старейшина, которому все дороги окрест были знакомы с детства. Встретить в лесу грабителей было куда страшнее, чем заблудиться. Узкий серп месяца скрылся за верхушками деревьев; в санях тихо переговаривались. Не время теперь предаваться мечтам, — решили мужчины и положили оружие так, чтобы оно находилось под рукой. Проехав еще несколько сот шагов, они углубились в темную чащу. Сердце у Велло забилось сильнее, он нащупал рукой меч, висевший на поясе, и достал топор. Дорога была узкая, высокие ели по ее сторонам протягивали друг другу мохнатые лапы. Никто не вымолвил больше ни слова, слышался лишь хруст снега под копытами лошадей и скрип полозьев. Когда порой с обочины дороги вспархивала вспугнутая птица, все хватались за топоры. Так они проехали несколько миль; тревога уже было улеглась, как вдруг первый конь остановился. — В чем дело? — приглушенным голосом крикнули сзади. — Кто-то стоит на дороге, — ответил сельский старейшина Ассо, сидевший на первых санях. — Один? — спросил Велло. — Только одного вижу. — Метните копье, — предложили с задних саней. — Сперва погляди и спроси — кто, — приказал Велло. — Может, какой-нибудь мирный путник. — Это не мужчина, — ответил Ассо. — В белой шали... — Дух ... Конечно, это дух! Женщина не пойдет ночью лесной дорогой, — закричали все наперебой и тут же посыпались советы: — Киньте топор!.. Может, и копья достаточно! — Ни топором, ни копьем нельзя, — предостерег всех Кахро, который был хорошо осведомлен насчет всего, что касалось духов, и знал заклинания. — Дух сам уйдет с дороги, если произнести верные слова. — А ты поди, произнеси, — пошутил Велло. Тем временем Ассо слез с саней и направился к "духу". Он о чем-то спросил его, но ответа никто не расслышал. Затем все увидели, что Ассо возвращается, а рядом, опираясь на него, идет "дух". — Женщина. Почти окоченела... Нельзя же бросить ее на дороге! — воскликнул сельский старейшина после того, как помог "духу" взобраться на сани. Снова тронулись в путь; почти всех одолевало сомнение: наверное, это дух, хоть и в обличье женщины! После полуночи обоз добрался до первого селения кихельконда Мягисте. Дорогу охраняла стража, и Велло готов был ликовать от радости: дома все в порядке, враг не появлялся. Ассо попрощался со старейшиной и вместе с "духом" свернул на свой двор. Месяц уже закатился; навстречу вернувшимся с лаем кинулись собаки. Из домов выбежали мужчины с топорами в руках — уж не враг ли ворвался в Мягисте? Теперь, когда все опасности миновали, Велло сунул руку за пазуху — брошь была цела! Завтра он отдаст ее дочери Ассо. Должно ли это что-то означать? Он и сам не знает. Девушка мила ему, особенно с той поры, когда она, узнав о смерти отца Велло, пришла в их дом и оставалась в нем со дня зарождения месяца до последней его четверти, помогая сестре Велло и утешая ее. Не будь он старейшиной, можно было бы почаще заглядывать к Ассо, да и вообще держаться поближе к Лемби, а потом, в сопровождении вооруженных слуг, поехать свататься: пусть вся деревня видит и говорит об этом! Но старейшине не подобает бегать за девушками и свататься к кому вздумается. Несмотря на то, что Мягисте небольшой кихельконд, а может, как раз и потому, старейшина должен ехать свататься в Сакалу или Уганди. Тогда, в случае беды, на помощь придет тесть со своей дружиной и поможет прогнать врага, а то и покарать его.Однако пока все не выяснится, надо придержать Лемби. Надо обнадежить ее, чтоб она еще некоторое время берегла свое сердце для Велло. Нет другой девушки, которая могла бы сравниться с Лемби. Лицо ее задумчиво, как лик молодой луны, а глаза будят тоску, подобно вечерней звезде. Прежде чем жениться, надо построить в Мягисте крепость, куда бы он мог укрыть свой народ со всем скотом и имуществом, если вдруг нападет враг. Но сначала надо договориться со старейшинами Алисте и Сакалы, чтобы они помогли, если нагрянет беда. Неплохо бы объединиться и под твердой рукой повторить набег на Беверину, закончившийся в первый раз так неудачно. Дойти до Койвы и Вынну, взять верх над врагом и на несколько десятилетий установить мир. Тогда — да, тогда можно было бы привести в дом Лемби; тогда не понадобилось бы свататься к дочери какого-нибудь могущественного старейшины.IV
Утром Велло пришлось встать рано, хотя он еще и не выспался. При свете лучины он оделся, обулся, подпоясался и надвинул на голову шапку из волчьего меха. Со двора доносились недовольные голоса мужчин, сетования женщин и детский плач. — Каждый день являлись сюда... — беззлобно проворчала сестра Малле, державшая лучину. — Как старейшины нет дома, они смелеют и даже наглеют. Нам с Оттем не так-то легко было выпроваживать их. — Ничего, я потолкую с ними, — ответил Велло и вышел во двор, где было уже довольно светло. Толпа мужчин и женщин — иные с детьми — ждала его. Одни встретили старейшину враждебно, другие — робко; третьи приветствовали его с притворным смирением. Велло окинул их внимательным, спокойным взглядом. Ему незачем было подолгу рассматривать людей — он знал их всех. Знал, кто свои беды преувеличивает, не заботясь о правде. Знал, что правосудие надо вершить, внимая голосу своего сердца, и оказывать помощь, как велят долг и совесть. Он глядел поверх толпы на лес и терпеливо ждал, когда все умолкнут. Велло был чуть выше среднего роста и рядом с широкоплечими и крепкими мужчинами казался хрупким. Но достаточно было взглянуть на его лицо, шею и руки, чтобы догадаться, что под кожей у него одни мускулы.У него было продолговатое, сужающееся книзу лицо, с резко очерченным подбородком, сухое, бледное, в маленьких веснушках; несколько длинноватый прямой нос, ноздри же — большие и мясистые. Серые глаза под густыми темными бровями мигали редко и смотрели смело, спокойно, а порой и сурово. В Мягисте уже давно подметили, что в лице Велло есть что-то волчье. Когда он долго говорил, его голос становился однотонным и напоминал вой волка, отбившегося в лесу от стаи. Сейчас, когда голову старейшины покрывала серая шапка мехом наружу, его сходство с волком особенно бросалось в глаза. Он стоял во дворе и равнодушно смотрел поверх толпы на лес, словно утихомирившийся зверь, который не гонится за добычей, не чует близости врага и не ощущает голода. Вдова его бывшего работника, живущая на лесной опушке, держа за руки двоих прикрытых лохмотьями детей, первой протиснулась к старейшине. Последний хлеб давно съеден, скота, чтоб забить, нету, за добычей в лес по такомуглубокому снегу даже мужчины не ходят, никто из людей и крошки не подаст, — жаловалась женщина. Дети громко хныкали и закоченевшими пальцами терли глаза, хотя слез в них не было. Но на Велло не очень-то действовало хныканье женщин и детей, не так-то легко было разжалобить его сердце. Еще при жизни отца он хорошо знал всех своих работников, знал, что кое-кто действительно не в силах летом ходить на поле, а зимой в лес, что запасы у иных к весне иссякали, и приходилось жить впроголодь. Но он знал также, что есть и такие, кто круглый год только и делает, что ходит по деревне и попрошайничает. Не раз он думал: лишить бездельников и попрошаек всякой помощи, предоставить самим себе — пусть мороз и голод научат их шевелить руками! Но он знал, что тогда они будут ходить из дома в дом и жаловаться на старейшину, отправятся побираться на север, в другой кихельконд, и будут рассказывать там, что у их старейшины каменное сердце и жестокая душа.Велло сказал женщине, чтоб поговорила с Малле, — уж она-то что-нибудь даст. Тут же с хмурыми лицами стояло несколько охотников; за пояс у них были заткнуты топоры. Два дня назад они отправились с собаками в дальний лес. что на севере, однако границы Алисте не перешли. Встретили там лося и ранили его стрелами. Лось упал на колени, собаки тут же окружили его, но он, размахивая своими ветвистыми рогами, отогнал их, поднялся и скрылся в густой чаще. Вскоре оттуда донесся громкий лай, визг и жалобный вой. Несколько псов прибежали назад, хромая, в крови, остальные вовсе не вернулись. Подойдя поближе, мужчины увидели каких-то людей, они волокли лося к северу; размахивая топорами и копьями, они угрожали охотникам из Мягисте, насмехались и издевались над ними. Это было неслыханное дело, достойное сурового наказания, — считали жалобщики. Никто не смеет забирать зверя, подстреленного другим. К тому же, если стрелок рядом, в лесных владениях Мягисте. Пусть старейшина еще сегодня, до того, как начнет смеркаться, отправится в Алисте и потребует наказать грабителей. Пусть потребует вернуть лося вместе с рогами и шкурой! Сами они тоже готовы пойти со старейшиной и объяснить, как было дело. Мужчины в меховых шапках, глубоко надвинутых на головы, в шубах, подвязанных кушаком, и в меховых ноговицах, обтягивающих толстые икры, нетерпеливо топтались в сизом снегу. Велло не мешал им говорить, шуметь, советоваться, но сам не торопился с ответом. — Чего же тут думать, поднимем весь кихельконд и пойдем на Алисте! Те люди были оттуда! — крикнул один из охотников. — Подожжем дома, а скот и лошадей заберем... за лося, — подстрекнул другой. — Пусть рассудит меч! — Пусть отомстит за несправедливость топор! — Таков был всегда обычай храбрых! Тут Велло с укором взглянул на них. — Таков был всегда обычай храбрых! — насмешливо повторил он. — Этак один кихельконд вырежет один и спалит другой. А стоит появиться врагу из-за Койны или Вяйны — и нет никого, кто б пошел ему навстречу. Все бегут в лес или в крепость! — Что ж, в другой раз и мы поступим с ними так — ужо тише произнес кто-то из охотников. Велло отпустил их, пообещав посоветоваться со старейшинамм селений. Из соседней деревни, что на краю леса, пришел бедняк с женой и стал жаловаться на бесчинства Рахи. Три дня назад, поздно вечером, когда погасла последняя лучина в стенной щели и дочери улеглись на соломе спать, снаружи послышался шум, кто-то рванул дверь, в в хижину ворвался Рыжеголовый, да не один, а с ватагой таких же, как он сам, изрядно подвыпивших буянов. Они сразу же кинулись к девушкам и, бормоча непристойные слова, дали волю рукам. Поднялся шум, крик, и ни за что бы буянов не унять, не кинь он им в глаза горячей золы из очага. Они хоть и убрались, но сорвали дверь и отнесли ее за несколько сот шагов от дома. Уходя, крикнули с издевкой: — Что ж, жалуйтесь Велло! Услышав имя Рахи, старейшина сдвинул брови; сейчас он походил на волка, который прислушивается к лаю своего врага. "Ничего, скоро обуздаем его", — подумал он про себя и пообещал уладить дело. Подошла заплаканная молодая женщина в серой шали, накинутой поверх белого платка. Она стала жаловаться, что обе старшие жены ее мужа не дают ей жить, заставляют спать на голом полу и невесть куда прячут от нее еду. — А муж, что же муж? — спросил Велло. — Да что муж!.. Он и сам не рад им. — Тогда пусть не держит нескольких жен, если не в силах справиться с ними! Молодая женщина вытерла уголком шали глаза и печально добавила: — Уж не решаюсь и домой идти.. — За что же они так злятся на тебя, эти женщины? — спросил Велло. — Я намного моложе их, наверное поэтому.— Намного моложе — тогда понятно. А почему же ты пошла третьей женой в дом, где живут старые совы? — Куда деваться, дома — нужда, — жалобно ответила молодая женщина. — Решила, значит, у старика под полой от нужды спрятаться? Ладно, пошли ко мне мужа, поговорим с ним, — решил Велло. — Они околдовали его, — горестно молвила женщина, вытирая глаза. — Ослаб вовсе. — Какое тут колдовство! Любой мужчина при трех женах ослабеет — ничего удивительного! — сказал Велло и отослал женщину. Выслушав еще несколько жалоб и уважив тех, кто просил корма для скотины, Велло собрался было уже идти со двора, как вдруг в воротах показалась Лемби, дочь Ассо; голова ее была повязана платком, (расшитым синим и зеленым узором, на плечах лежала серо-зеленая шаль, лицо девушки от легкого холода дышало свежестью. — Тоже справедливость пришла искать или с жалобой? — поздоровавшись, пошутил Велло. Лемби попыталась улыбнуться, но из улыбки ничего не вышло. Посмотрев в сторону, она растерянно спросила: — Малле в комнате?.. Мне бы надо поговорить с ней... — Ах да — вчерашний дух! — вдруг вспомнил Велло. — Уж не принес ли он несчастья? Лемби уклонилась от ответа и поспешила к Малле. Велло прошел на свою половину, отодвинул, не зажигая лучины, оконный притвор и стал ощупью, в полутьме, искать привезенную из Пскова серебряную брошь. Она была массивная, величиной с ладонь, блестящая, с тонкой насечкой по краю и с украшениями. Кто только выковал ее, за какими морями и землями! Он представил себе, как улыбнется девушка, увидев эту брошь, и как, быть может, без слов, одним лишь взглядом, пообещает вознаградить его. Из другой комнаты вышла сестра Малле, за ней — Лемби. — Хорошо, что пришли, — начал Велло, но тут же умолк, увидев испуганное лицо сестры. Гостья, хотя была спокойна, но как-то чересчур серьезна, словно принесла недобрую весть. Нечего было и думать показывать сейчас брошь. — Случилась беда, — очень тихо сказала Малле. — Не с Ассо ли? — встревожился Велло, пытаясь по лицу Лемби угадать, что произошло. — Нет, не с отцом, — нарочито спокойно произнесла девушка. — Вчера вы подобрали на дороге женщину, — заметила Малле. — Значит, это был все-таки дух!.. — воскликнул старейшина. — Он натворил что-нибудь? — Нет, то был не дух, — ответила Лемби. Голос ее звучал глухо и показался ей самой чужим. — А кто?.. Говорите же, — нетерпеливо приказал Велло. — То была Лейни, твоя сестра, — подавляя вздох, молвила Лемби. — Сестра?.. Лейни? — повторил старейшина и посмотрел Лемби в глаза, словно ища в них подтверждения. — Да, Лейни... Она у нас... больна и очень слаба. — Пришла пешком?.. Ночью?.. В жестокий мороз ... Она в своем уме? — воскликнул Велло и, отойдя, опустился на лавку. Девушки уселись рядом с ним, и Лемби коротко рассказала о том, что случилось в Саарде. Девка из Трикатуа ударила Лейни, Кямби ее избил, сына растерзали волки. Ночью какой-то добрый человек из Алисте довез ее до дороги на Мягисте, а оттуда Лейни пешком пришла в мягистеский лес. Велло слушал, не шевелясь, и долго молчал после того, как Лемби окончила свой рассказ. В комнате не слышно было даже дыхания. Затем старейшина медленно вытащил из ножен меч и положил его на колени. — Все ли у вас знают, что вчерашний "дух"... моя сестра? — спросил он наконец у Лемби. — Никто, кроме меня и отца. — Тогда сразу же поди предупреди его либо попроси Малле ... Это должно остаться тайной... пока мы все уладим... И вот еще что, Малле, пошли ко мне Кахро и Оття и вели позвать Ассо и Киура. Да поживей! Малле и Лемби вышли. Велло стал нетерпеливо ходить взад-вперед по комнате. Его ноги застревали в шкурах, концом меча он откидывал их в сторону и, задыхаясь от волнения, быстро шагал из угла в угол. "Что-то случится! — твердил он про себя. — Что-то должно случиться". Вскоре пришел Отть, пожилой слуга, с багровым квадратным лицом, в шапке из лисьего меха, надвинутой на самые уши, в сером подпоясанном балахоне, опушенном лисицей. Он слегка прихрамывал и поэтому сразу же сел на лавку. — Погодка сегодня помягче, — с наслаждением сказал он. — Можно и в лес сходить. Скоро весна — пора медведя гнать из берлоги. — Есть другие дела, поважнее, — ответил Велло. Он робел перед этим умудренным жизнью слугой, который при случае мог и высмеять. Большую часть своей жизни Отть прожил на берегу Вяйны, куда попал в плен еще мальчишкой. Став юношей, он женился там на ливской девушке. Прижил с ней двух сыновей и вырастил их. Жена умерла, сыновья пали в битве с земгалами, на которых повели их рыцари. Оставшись один, Отть затосковал по родным местам, где прошло его детство, и пешком отправился из-под Риги в Мягисте. Он ходил за лошадьми рыцарских оруженосцев и выучился у них драться на мечах; он строил камнеметные башни на берегу Вяйны и осаждал крепости. Велло мог спросить у него совета в любом деле, если оно касалось оружия или военного похода. Услышав о случившемся и узнав, что Велло намерен тотчас же собрать дружину и идти на Саарде мстить Кямби, Отть снял шапку, погладил свою лысую макушку, фыркнул носом и, опустив глаза, насмешливо сказал: — Разве это дружина — несколько десятков человек! — Может, удастся собрать больше, — сердито ответил Велло. — Еще захотят ли все взяться за меч, да и едва ли Кямби будет спать, поджидая нас. Велло знал своего слугу, знал, что в любом деле он отыщет сперва плохие стороны и отнюдь не из упрямства. — Из-за того, что в Мягисте мало народу, мы должны сносить оскорбления? — разгорячился старейшина. — Мало народу — мало силы. Меньше силы — меньше права. А меньше права — больше ран и ссадин ... Так-то оно устроено на этом свете, — притворно вздыхая, сказал Отть. — Сегодня же, немедленно, разошлю приказ по селениям: завтра всем быть в сборе! — гневно воскликнул Велло. Он ожидал, что Отть возразит ему, Но тот не вымолвил больше ни слова. — Надо только обдумать — сейчас ли сказать людям, что им предстоит, или перед тем, как выступать? — Вслепую за старейшиной не побегут, — добродушно-ворчливым тоном произнес Отть. Но тут же, словно желая утешить Велло, добавил: — Впрочем, если пообещать победу и богатую добычу... Дома-то скучно... — Покорми лошадей и собери все, какие найдешь, мечи, — уже по-дружески приказал Велло. Явился Кахро; он был тощий, с узким лицом, волосы и брови как смоль, глаза маленькие, взгляд, пронзительный. Кахро был родом из далекой Уганди, что неподалеку от Пскова. Его мать занималась ворожбой. Осиротев, он как-то, вместе с дружиной, пришел в Мягисте и остался в доме старейшины. Он умел колдовать, заговаривать и лечить раны и хвори. Втихомолку вздыхал по Малле и был поэтому самым верным слугой у Велло. — Вели закрыть все дороги и тропы, чтобы никто не смог покинуть Мягисте, — распорядился старейшина, отпуская слугу. "Кямби должен получить по заслугам! Он должен понять, что такое Мягисте и кто такой брат Лейни!" — повторял Велло про себя, оставшись один. Он сгорал от желания сразиться и отомстить. И был рад, что подвернулся случай испытать свою силу и смелость. Вскоре пришел старейшина селения Киур, человек средних лет, сухощавый, низкорослый и широкоплечий, с виду спокойный и беспечный. Он стал расспрашивать, как съездили на ярмарку, пожаловался, что снова ломит правую ногу. Велло знал воинственность этого человека и надеялся встретить у него самую большую поддержку. Поведав о том, что случилось в Саарде с сестрой, Велло сказал, что хочет завтра же отправиться со своими людьми во владения Кямби. — Нельзя ли уже сегодня ночью? — спросил Киур. — К чему тянуть! — Разве так быстро соберешь людей, — заметил старейшина и усмехнулся с довольным видом: Киур согласен! Киур поддерживает! Он один из самых воинственных людей в селении! Решено было тотчас же разослать гонцов с приказом — завтра к вечеру быть готовыми к походу, на конях, с лучшим своим оружием и запасом съестного на один день. Через двое-трое суток все вернутся домой, и не с пустыми руками. Одеваясь, старейшина дрожал от возбуждения — он торопился к Ассо, чтобы самому все услышать из уст сестры. Теперь, когда набег — дело решенное, когда дружине отдан приказ готовиться к походу, он может предстать перед опозоренной и униженной сестрой. Лейни лежала на лавке у стены, укрытая до подбородка полосатым ковром; худое лицо ее при свете лучины казалось восковым, синий рубец перерезал правую щеку, лоб был в ссадинах. Чуть повыше ее головы, на палочках, воткнутых в стенную щель, висел детский череп. Усталый взор сестры был неподвижно устремлен на что-то, что видела только она одна. Узнав Велло по голосу, она взглянула в его сторону и еле слышно спросила: — Слыхал? — Слыхал, — ответил брат. — Что ты думаешь делать? — Завтра же отправлюсь со своими людьми в Саарде и все улажу. Не спрашивая больше ни о чем, Лейни снова погрузилась в созерцание чего-то, что было недоступно взгляду других. Но спустя некоторое время едва слышно сказала: — Есть тут одна женщина, крещеная... Я велела позвать ее... Она много знает... Мне кое-что рассказывали в Саарде... Может быть, ей известно больше... Велло хотел было ответить довольно зло, но, видя, как слаба сестра, смолчал, повернулся и прошел в комнату Ассо. Лемби осталась сидеть возле больной. Ассо был старейшиной самого крупного селения. Ему уже перевалило за шестьдесят, он слегка горбился, был тих и медлителен. Его безбородое и безусое лицо бороздили глубокие морщины; на чуть приоткрытых всегда губах играла едва заметная усмешка. Говорили, будто она не сходила с его лица даже во время самых жестоких сражений. Виски у Ассо были седые, а редкие волосы отливали рыжиной. "Этот человек мог бы стать старейшиной всей Сакалы", — не раз говорил о нем отец Велло. На войне он всегда держал Ассо подле себя, а собираясь в поход, советовался с ним. Ассо жил тихо, мудро верша дела своего селения. Двое его сыновей пали в битвах на юге, дочь Лемби помогала вести хозяйство. Присев на лавку, Велло поведал Ассо, что решил идти походом против Кямби. Ассо не проронил ни слова — ни за, ни против. — Так как ты думаешь? — наконец робко спросил Велло. — Что ж, надо идти, — спокойно ответил Ассо. Велло не знал, что еще сказать; некоторое время они помолчали, затем Ассо продолжал: — Правильнее было бы устроить суд... — Кто? Кто бы стал судить? — с презрением воскликнул Велло. — Старейшины Сакалы... либо из Райкюлы... — Как им судить, если все они ели и пили у Кямби. И его угощали. Снова воцарилось молчание, затем Ассо примирительно сказал: — Что ж, придется, значит, своими силами улаживать это дело. Велло с облегчением вздохнул. Выйдя во двор, он увидел Лемби; она шла ему навстречу и пытливо глядела на него, словно хотела прочитать что-то в его душе. Велло не стал скрывать от девушки своих мыслей. — Завтра отправляемся в Саарде, — немного хвастливо сказал он. — Лейни останется пока на твоем попечении. Она еще слишком слаба, чтоб можно было взять ее домой. Вернусь, тогда поговорим и о другом... Мне надо сказать тебе... — Ты идешь войной? — с тревогой спросила Лемби. — Иначе нельзя... — Береги себя!.. Мой отец говорил о Кямби плохое... — С ним-то я и хочу встретиться. Для него и меч поострее выберу, — ответил Велло, обуреваемый желанием сразиться с врагом. Весь день он в тревоге ходил по проселку и по двору и больше чем когда-либо напоминал волка, вынюхивающего добычу. Голова у него была опущена, взгляд злой, подкарауливающий, шаг быстрый, крадущийся. Он хотел отомстить, но еще больше, чем отомстить, — сразиться. Свершить дела, слух о которых разнесся бы по всей Сакале и докатился даже до старейшин Уганди. Дела, молва о которых прошла бы от великого озера до самого моря. Пусть все узнают, что в Мягисте властвует старейшина Велло; он еще молод и у него всего-навсего семь небольших селений, но пусть только осмелится кто-либо поступить с ним несправедливо. С ним или с его родичами.V
Серые, как потускневший клинок меча, тучи были неподвижны. Из них с самого утра сочился едва ощутимый, мелкий и реденький дождь. Рыхлый снег oсел и лежал теперь плотным, тугим ковром; с ветвей елей капало, время от времени с них срывались мягкие белые охапки снега и бесшумно падали вниз. Едва занялась заря, как в селениях взад-вперед засновали люди. Мужчины с возбужденными лицами, с оружием на поясе и в руках торопливо заглядывали то в один, то в другой дом, шли к Велло, к Ассо, но больше всего к кузнецу. Над его домом все время вился дым, и слышно было, как звякает железо: то звонко, то глухо. По обочинам улиц, в ярких платках, серых или желтоватых шалях, накинутых на плечи, толпились девушки и женщины. Они тихонько обсуждали предстоящий набег, гадали, куда отправится дружина — на Беверину, в Трикатуа или Койвалинну, и какова будет добыча, и лили слезы в тревоге за тех, кто уходил в поход. "Никогда не возвращаются все. Раньше не возвращались, не вернутся и теперь!" — причитала иная мать. Иная же говорила, что нисколько не лучше ожидать смерти дома, если ты полон сил. Даже дети знали о набеге, они играли во дворах в войну, забрасывая друг друга снежками. Велло ходил по своему двору, заглядывая то в амбар, то в хлев, то в дом; осмотрев лошадей, он велел выпустить их поразмяться, хорошо накормить, напоить и почистить. Затем роздал воинам копья, мечи, булавы, дубины, боевые топоры — каждому по его силе, а женщинам приказал починить одежду и меховые ноговицы. Свой головной убор с железным налобником он низко надвинул на глаза. Шутил он чаще, чем когда-либо, а порою даже смеялся, что обычно случалось с ним редко. Но когда он шутил, губы его дрожали, а взгляд блуждал где-то далеко. Время от времени он заходил в комнату, садился на лавку, глядел на тихое пламя очага и пытался заговорить с духом отца. Какой совет даст он, что предскажет? Но отец упорно молчал или говорил что-то невнятное, увиливал, словно не знал, что сказать. А не сходить ли с воинами в священную рощу? Забить там бычка и поглядеть, на какую сторону он упадет? А что, если упадет налево?! Люди испугаются... И разве поведешь их тогда на битву? Но дары в рощу следует отнести. Ворожить может Кахро, а что он наворожит, будут знать только они двое. Какой бы жребий ни выпал — поход не должен быть отменен! В то время, когда он снимал со стен висевшее там оружие, в дверях появилась служанка Вайке. Вайке была в доме правой рукой Малле; она горячо любила старейшину, но ничего не требовала от него и заботилась о нем больше втихомолку, нежели открыто. По вечерам она ходила в рощу молиться за него и относила духам дары. — Возьми и меня с собой, — обратилась Вайке к старейшине. — А ты знаешь, куда мы идем? — спросил Велло. — Знаю, — сквозь слезы ответила девушка. Она была чуть ниже среднего роста, смуглая, крепкая, отважная. Когда мужчины упражнялись — метали копье или стреляли из лука во дворе либо на холме, Вайке всегда находилась тут же. И хотя в силе она уступала мужчинам, глаз у нее был острее, а рука спокойнее и увереннее. — Останься на этот раз дома! — сказал старейшина и погладил ее по смуглой щеке. — Зима, снег глубок, а нам придется идти через леса... В другой раз!.. Не последний же это поход. — Береги себя! Не рвись один вперед! В битве я всегда была бы подле тебя... — И другие не покинут меня в беде! — пошутил Велло, обнял девушку и, прижав ее к себе, поцеловал в волосы. Хотя никто не знал, куда двинется дружина и что ожидает ее, желающих отправиться в поход оказалось больше, чем было лошадей. В свое время под Бевериной они потерпели неудачу: одолеть врага не удалось, крепости не взяли и селений не ограбили. И все потому, что никто по существу не возглавлял похода. Теперь же предводитель есть, теперь все отправятся, как один. И к тому же на конях; они вихрем налетят на селения врага и сделают свое дело прежде, чем тот очнется ото сна. А случится встретить где-либо сильную дружину, можно будет исчезнуть с быстротой ветра. В маленькое войско Велло рвались и старики, и совсем зеленые юнцы. Отть выходил во двор и, смерив их взглядом, отсылал домой — одних ждать смерти на лавке, других поднабрать еще силенок, а иным советовал пососать еще материнскую грудь. Когда под вечер старейшина вышел из дома в опустевший двор, к нему, прихрамывая, подошел Отть и деловито сказал: — Мой меч затупился, не найдется ли у тебя поострее, чтоб глубже вонзался. — Уж не собираешься ли и ты?.. — Смерть на лавке страшит меня, — серьезно ответил Отть. — Жди тут с лета на лето, с зимы на зиму эту гостью... Твой отец был милостив ко мне, авось и сын не оттолкнет раньше времени! Может, верхом на коне и убью еще какого врага! Пешком-то мне за ним не угнаться. — Тогда Кахро останется дома, — огорчился Велло. — А он со вчерашнего дня все рвется, лететь готов... Один из вас и еще кто-нибудь из слуг должны остаться стеречь дом, иначе не решусь уйти.Позвали Кахро и стали уговаривать его не ходить в поход. Но он и слышать не хотел об этом и посоветовал оставить дома Киура или молодого сельского старейшину Кюйвитса. Позвали и тех. Пришлось метнуть жребий. Остаться дома и охранять дороги выпало Киуру. Во все селения разослали весть о том, что Киур остается за старейшину. Рахи известили особо; было велено попутно выяснить, пойдет он в поход или нет, чтобы точно знать, сколько людей будет в дружине. Рахи велел передать: пусть сначала скажут, куда направляются и против кого. Вслепую он за Велло не пойдет! Велло не хотелось самому рассказывать людям о несчастье, постигшем сестру, и о жестокости Кямби, и он поручил это Оттю. Пусть поведает, что случилось в Саарде, как унизили там дочь старейшины Мягисте, полагая, что наказания бояться нечего и что в Мягисте едва ли найдутся люди, могущие отомстить. И еще пусть скажет Отть: Кямби богат, в доме у него много награбленного добра — так что будет чем поживиться. Отть с радостью взялся за это поручение. Уж он-то сумеет пристыдить трусов, воодушевить отважных и богатой добычей привлечь жадных. Уже смеркалось, когда люди начали собираться на подсеке в лесу, к западу от селений. Велло не любил прощаний, когда причитают и льют слезы. Он держался подальше от женщин и, готовясь к походу, думал свои думы. Правильно ли он поступает? Он и сам не знал этого. Но не поступить так — нельзя, невозможно. И поэтому он отдает себя в руки богов и добрых духов. Сказав несколько слов утешения Малле и Вайке, Велло вскочил на коня и поскакал со двора. Он повернул на восток, чтобы заехать к Ассо и попрощаться с Лейни и Лемби. Сельский старейшина уже покинул дом, Лейни сидела на лавке, прислонившись спиной к стене; в дальнем углу, с лучиной в руке, стояла служанка. — Ну вот! — радостно воскликнул Велло. — Отправляемся в гости к Кямби! Лейни в раздумье поглядела перед собой и устало произнесла: — Хромая Рийта приходила сюда сегодня. — Что ей надо? — Патер, после того как окропил ей голову крестильной водой, сказал: кто хочет попасть на небо, должен любить своего врага... делать ему добро. Все прощать ему... — Любить врага?! Делать ему добро?! — повторил Велло. — Ты подумай, что это значит! Можешь ли ты любить Кямби?.. Подумай о сыне! — с горечью воскликнул он. — Я еще не знаю... — серьезно ответила Лейни. — Но на небе я смогу свидеться с сыном... — Свидеться с сыном? — Да, если я позволю окрестить себя. Ведь иначе я не попаду на небо. Велло покачал головой, пожелал сестре скорее выздороветь и вышел. На дворе он встретил Лемби. — Лемби... Одна ты... — начал Велло, которому хотелось облегчить перед кем-нибудь свою душу. Но, спохватившись, подумал, что не подобает старейшине жаловаться, и продолжал уже более сдержанно: — Позаботься о моей сестре, душу ее снедает тяжкий недуг. Лучше б этой хромой не ходить сюда. — Он быстро сунул руку за пазуху и вынул оттуда серебряную брошь. — Это тебе. Привез из Пскова... Велло приколол брошь к груди девушки, притянул ее к себе и поцеловал в лоб, у края платка. Затем быстро отвернулся, вскочил на коня и поскакал прочь. В лесу, на открытом месте, где летом жгли подсеку, собралось уже более полусотни людей. Большинство на конях, остальные выстроились рядом на тающем снегу. Перед ними, опираясь на длинное копье и держа лошадь под уздцы, стоял незнакомец. Его внимательно слушали. — Что за совет здесь держат? — спросил Велло. — Да вот, из чужих мест... Прискакал, как бешеный. Привез вести, — ответили ему. — Кто ты? Откуда? Отвечай старейшине Мягисте! — приказал Велло и остановил коня перед незнакомцем. — Из Саарде я, работник Кямби, — ответил тот, и слышно было по голосу, как он устал. — Кто послал тебя? — продолжал допытываться Велло. — Моя невеста. — Невеста?.. А ей что нужно? Воины рассмеялись. — Она прислуживала Лейни, и та любила ее, — пояснил работник Кямби. — Вчера ночью моя невеста пришла и сказала: Кямби боится мести и потому днем и ночью держит в лесу, у дороги в Алисте, полсотни всадников — все с копьями, топорами, щитами. Стало тихо, все ждали, что скажет старейшина, но он сидел неподвижно на своем коне и, казалось, думал. — Стало быть, туда не проберешься, — заметил какой-то пожилой воин. — Ничего другого не остается, как вернуться домой, — добавил другой. — Кто хочет — пусть возвращается! — воскликнул старейшина и повернулся к пришельцу. — Какую дорогу охраняют? Ту, что ведет отсюда через Алисте в Саарде? — Ту. — А мы отправимся другой дорогой, вдоль моря, — решил Велло. — Эта дорога чересчур длинная, — недовольно протянул кто-то. — Я еще раз говорю: кто боится трудностей и опасностей, пусть возвращается! — произнес старейшина. Никто не шевельнулся. — Лейни знает тебя? — спросил старейшина у пришельца. — Думаю, помнит. — Хорошо. Тогда тебя тотчас же отведут к моей сестре. Кахро и один из слуг вместе с гонцом поскакали назад, в селение. Велло стел давать указания, он выкрикивал приказы громко и даже лихо, словно предстояло поднять медведя, залегшего в берлоге на зимнюю спячку.VI
Дружина, выстроившись в два длинных ряда, медленно двигалась к северо-западу. Велло и Ассо скакали бок о бок, погруженные каждый в свои мысли. Теперь у старейшины стало одной заботой больше, и вызвана она была последними словами Лейни. Из-за нее они идут сейчас войной, за ее унижение идут мстить, а она в последний момент говорит: надо все простить Кямби, надо возлюбить его и делать ему добро! Нет, ничего хорошего нельзя ждать от этой крестильной воды, она портит человека, вносит сумятицу в его душу. Ничего хорошего нельзя ждать от учения патеров! Оно придумано для того, чтобы у жестоких и жадных были послушные рабы, такие, как у рыцарей — ливы. Глупо поступили старейшины Сакалы, позволив этим черноризникам беспрепятственно разгуливать по селениям и совращать своим хитроумным учением женщин и мужчин! И вообще не везет этому Мягисте — одно горе и нужда здесь. Да и само название Мягисте — Гористое — словно в насмешку придумано: земля тут много ниже, чем в холмистом и гористом Алисте. Весь этот крошечный пограничный кихельконд существует, по мнению старейшин Сакалы, лишь для того, чтобы, защищая себя и дрожа за свою жизнь, постоянно принимать на себя удары врага и обороняться до тех пор, пока люди на севере не увидят зарева пожара и не укроются за валами крепостей либо не спрячутся в лесу. Судьба Мягисте — быть защитой для Алисте и для всей Сакалы.А что, если покинуть Мягисте? Забрать с собою добро и дочь Ассо, да и самого Ассо, и пойти на восток от Новгорода, туда, где встает солнце. Говорят, там вековые леса, богатые зверем и птицей; на берегу озера или реки можно построить дом и зажить тихо и беззаботно! Там придется защищать лишь самого себя и свою семью, а не Мягисте и не всю Сакалу! Там можно не бояться рыцарей! За спиной послышался топот: это Кахро и слуга нагнали Велло. Кахро привез известие — Лейни узнала работника Кямби и была рада видеть жениха своей любимой служанки. Теперь все начали погонять лошадей — били их пятками в бока, кололи тупыми концами копий, свистели, и те галопом мчались вперед. Дорога здесь была утоптанная, знакомая и вела прямо в Саарде. После полуночи люди остановились, спешились, выделили проводников и, взяв лошадей под уздцы, свернули на узкую лесную тропу. Ветви старых елей почти касались земли, снег был глубок — выше колен; часто, чтобы пройти, приходилось раздвигать руками кустарник; кони медленно брели позади. Острые сучья царапали лицо, птицы, взлетая в воздух, пугали людей, где-то вдалеке выли волки, и кони боязливо пряли ушами. Велло шагал за проводником. Отть, невзирая на больную ногу, шел за ним по пятам. Ассо отстал. И уж как старейшина ни заставлял и Оття отправиться в хвост, где по утоптанной тропе идти было легче, старый воин и слышать об этом не хотел. Время от времени люди останавливались, чтоб перевести дух, кое-кто громко сетовал, что столь необдуманно отправился в поход. Так они шли долго, потом лес поредел, обозначилась тропа, и все с облегчением вздохнули. Кто-то из воинов попытался даже пошутить, но ни один из усталых путников на шутку не откликнулся. У Велло дрожали ноги от барахтанья в глубоком снегу, и он поражался, как это Отть еще передвигается. Обернувшись, Велло крикнул людям, чтоб садились на коней, но тут же со стыдом почувствовал, как слабо звучит его усталый голос. Разве так должен приказывать старейшина?! Еще подумают, будто он струсил или сомневается в успехе похода. Сомнения, действительно, мелькали в его голове, словно духи перед запоздалым и заплутавшимся охотником. Возможно, дружине придется пробыть в пути еще дня два, а корма для коней захватили не густо, да и у людей съестного с собой маловато. Дадут ли чего в селениях по доброй воле? Не грабить же их! Да и есть ли возле моря селения? Если нет, значит на место прибудут усталыми, а кто знает, насколько силен враг! Кямби может выставить сотню вооруженных воинов, и большинство из них будет на конях. Но Велло тут же отбросил сомнения и, подняв голову, весело крикнул: — Ну как, дружина? Все в порядке? — Все хорошо, — раздались голоса позади него. Лес еще больше поредел, перед глазами открылась снежная равнина, за ней чернели строения. Было уже довольно светло. — Скоро выберемся на дорогу! — победно воскликнул проводник. Пересекли поле и подъехали к деревянной изгороди, почти к самым строениям. Спешились и с грохотом отшвырнули жерди. Впереди виднелся проселок. На ближнем дворе, а затем и во всем селении залаяли псы; там и сям хлопали двери, раздавались голоса мужчин и причитания женщин. Всадники быстро промчались через селение, держа путь на запад. Дорога была гладкая, но узкая, и приходилось ехать гуськом. Растянувшись на несколько сот шагов, дружина вновь запетляла по лесам; на пути попадались селения, где воинов провожал лай собак. Под сенью высокого ельника решили сделать второй привал; слезли с коней, привязали их за поводья к стволам и подвесили им мешки с сеном. Кое-кто бросился навзничь на снег, иные сели, прислонившись к стволам, и сразу же закрыли глаза. Когда первая усталость прошла, воины вынули из мешков взятые в дорогу хлеб и мясо и начали подкрепляться. Велло вместе с Кахро обошел длинные ряды дружинников, останавливаясь возле каждого воина. Продираясь сквозь густой кустарник, многие из них потеряли висевшее у пояса оружие — кто топор, кто меч. Узнав об этом, Велло сердито передернул плечами, но промолчал и стал держать совет с проводником; тот концом копья начертил на снегу селение, где жил Кямби, и протянул туда тропы — прямые и окольные, объясняя преимущества и недостатки той или иной. Пометил и следующую остановку — селение, где надеялись получить сено для коней и пропитание для дружины. — За то время, что мы в пути, можно было бы дойти до Трикатуа и вовсю пограбить там, — услышал Велло брошенные кем-то слова. — Один грабеж у них на уме, — проворчал про себя Велло. Но потом вспомнил: грабить шли и сейчас. — Каждый, поскольку уж он пошел воевать, ждет вознаграждения за труд, — заметил Отть. Велло знал, что Отть беспокоится больше о других, нежели о себе, и потому не стал спорить и лишь с враждебным высокомерием бросил: — Я и сам могу вознаградить их за труд. — Плохо, если старейшина щедр за счет своего амбара! Тогда он вскорости обеднеет. И на смену бедному старейшине придет богатый, — дружески заметил Отть. Велло приказал ударить в щит; люди поднялись, взяли прислоненное к деревьям оружие, вскочили на коней и поехали дальше. Встречавшиеся им редкие пешеходы в испуге отбегали в сторону. Жители селений, завидев издали всадников, прятались в домах, кричали, вопили, звали на помощь, а потом со страхом смотрели вслед "врагу", пока тот не исчезал с глаз. Всадники свернули в лес. Они искали прогалины, где можно было бы проехать верхом; двигались по свежим следам охотника, шли пешком, ведя коней под уздцы; по склонам, поросшим кустарником, спускались в ложбины, прямо в глубокий снег, который доходил мужчинам до колен, а коням кое-где был и по брюхо. Из задних рядов на проводника сыпались горькие упреки: люди сомневались, знает ли он дорогу, сетовали на усталость. Но Велло приказывал идти дальше и лишь время от времени спрашивал у Оття, выдержит ли его больная нога. Молодой лиственный лес, голый в это время года, поредел и перешел в жиденькую рощу; люди успокоились — можно было снова садиться на коней. К полудню они добрались до утоптанной и укатанной санями дороги и, немного отдохнув, помчались дальше, сперва на запад, а затем свернули на север. Велло отчетливо слышал за своей спиной ворчанье мужчин — они жаловались на голод и на усталость, но он не обращал на это внимания. Под вечер дружина остановилась в селении на отдых. Велло отвязал от седла большой узел со шкурами и завернутыми в тряпки бронзовыми и серебряными монетами, подозвал двух толковых воинов и велел им вместе с Ассо разыскать старейшину селения. Дружинники вернулись, когда уже стемнело; вместе с ними пришли сельский старейшина и несколько человек, которые несли мешки с сеном и с хлебом. Они выразили радость, что пришельцы — честные путники, которые, видимо, торопятся на ярмарку, что они не грабят, не убивают и не требуют дани. Начались расспросы: откуда они едут и куда держат путь, почему не хотят задержаться хотя бы на ночь? Отть с серьезным видом пояснил, что они спешат на медвежью охоту. К северу отсюда, в больших болотах, этого зверя немало. Как бы не пробрался летом на юг, драть скотину. Сельский старейшина поверил Оттю. Коням дали сена, после чего подкрепились сами, отдохнули прямо на снегу, а когда совсем стемнело, поскакали дальше, на север. В темноте настроение у всех снова упало. Не слыхать было ничего, кроме хруста снега под копытами да фырканья лошадей. Минула полночь, когда сквозь голые сучья деревьев замерцали звезды. Все настолько устали, что, слезая с коней и ложась в снег, не проронили ни слова. Лишь кое-кто, подойдя к проводнику, поинтересовался — долог ли путь до Саарде и придется ли еще ехать лесами, где нет ни троп, ни дорог. Нет, лесов больше не встретится, и Кямби они разбудят еще до зари. Люди навзничь растянулись на снегу и раскинули руки; кто задремал, кто глядел в небо. Поднялся ветер, он сухо шуршал в сучьях, раскачивал верхушки деревьев и заглушал слова, которыми изредка перекидывались воины. Усеянное звездами небесное поле, виднеющееся сквозь колышущиеся кроны деревьев, казалось сегодня очень высоким. Порой над головой, подобно улепетывающему лесному зверю, проносились серые кучевые облака, спеша с востока на запад. На юге, над лесом, через который дружина держала путь, виднелось далекое зарево огня. — Уж не напал ли из-за Салаци враг? Может, поджег селения и грабит их? — послышалось среди воинов. — Мало ли пожаров по недосмотру! — успокаивающе заметил Отть. И действительно, зарево начало вскоре никнуть, и люди замолчали. Велло стал обсуждать с Оттем и Ассо свой план нападения. У него самого этот план вызывал немало сомнений. Что, если конники Кямби охраняют и юго-западную дорогу или притаились где-либо в лесу? Идти, разумеется, нужно осторожно, а понадобится, так и вступить в бой... Ну, а если удастся ограбить и поджечь дом Кямби, не встретив сопротивления, — какой дорогой отходить тогда? Ведь есть опасность, что до самого Мягисте их будет преследовать погоня. Отть не тревожился. Чего там! Всего так и так не предусмотришь! Надо выслать дозорных на проселочную дорогу и напасть на дом Кямби, все остальное выяснится само собой. Стоит ли чересчур ломать голову над тем, как и что произойдет? На войне обычно никогда не получается по-задуманному. Но когда начнется бой, когда враг появится оттуда, откуда его никто не ждет, и ринется на тебя слева, справа, а то и сзади и воины растеряются и не будут знать, рваться вперед или оступать, скрестить мечи или применить хитрость, — вот тогда слово старейшины будет дорого, тогда пусть загремит его голос и призывно запоет труба! Конечно, не все пойдет так, как повелит старейшина, но если хоть малая доля того, что он прикажет, будет выполнена — уже хорошо! Даже большая дружина, если не руководит ею старейшина, подобна осыпавшемуся липовому цвету у края дороги в ветреный день, — любое легкое дуновение бесследно сметет его. Так рассуждал Отть, побывавший во многих битвах. — А если старейшина падет в бою? — попытался пошутить Велло. — Тогда что? — Не для того война, чтоб старейшина искал в ней смерти! — проворчал Отть. — Старейшина должен показывать своим воинам, как бить врага, но свою жизнь беречь! Проводник пояснил, что до реки не более мили, затем по ее руслу придегся вернуться назад, на юго-восток, и с тыла ударить по владениям Кямби. Кахро, взглянув на Большую Медведицу и на Стожары, сказал, что скоро начнет светать. Двух всадников выслали вперед, на разведку. Коней пустили легкой рысцой. Никто больше не обмолвился ни словом. Вскоре все убедились, что проводник не ошибся: по лесу извивалось заснеженное русло реки, а вдоль него, посередине, тянулась ровная наезженная дорога. — Не придет же Кямби в голову, что порой река течет в Саарде с моря! — пошутил Отть. Однако едва ли кто услышал эту шутку, все думали о приближающейся схватке и своем участии в ней.Возвратились посланные вперед всадники — они доехали до первого селения кихельконда Саарде. У передних домов, сказали они, темнеют фигуры двух стражей. Велло тихим голосом приказал остановиться. Как быть? Убить охрану и вихрем ворваться в первое селение? Или сделать здесь привал, отдохнуть, незаметно подкрасться к дозорным, заколоть их копьями, а потом... Все ждали. Небо над лежащим к востоку селением слегка посветлело. — Теперь слово за тобой, — тихо произнес Отть. Ассо был тут же, но он равнодушно смотрел на дорогу и ждал. Молодой сельский старейшина Кюйвитс — он был силен и жаждал сразиться — тоже подошел поближе и остановился в ожидании. — Люди ждут... — сердито повторил Отть. — Короткий привал! — внезапно приказал старейшина. Оттю он пояснил: — Пока не рассветет. Все соскочили с коней и стали готовить оружие. Велло переходил от одного воина к другому. Тех, кто потерял свой меч или топор, он поставил позади. Они должны были раздобыть в лесу хотя бы дубину. В хвост поставил он и тех, кто жаловался на усталость или хворь. Таким образом, с десяток человек отпало. Велло напомнил сигналы — трубой и щитом — и разъяснил, что делать людям у изгороди и за воротами. Он дал Ассо человек двадцать всадников; им надлежало промчаться по селению, а затем притаиться в лесу и следить за тем, чтобы к Кямби откуда-нибудь не подоспела помощь. Воины приободрились, увидев, что старейшина знает, как действовать. — Чего же ждать, начнем! — сказал кто-то. — Мечи и топоры нужны многим, — добавил другой. — Может, удастся и подкрепиться. — Под золой найдутся угли — костер разведем, согреемся! — Запалим дома — станет видно, что брать. — На девку из Трикатуа поглядим! Велло чувствовал, как кровь стучит у него в висках. Сверху на него глядят предки, оценивают каждое его слово, каждый его бросок копья, каждый удар мечом.VII
Построившись в два ряда, дружина поскакала дальше. Гладкая дорога была не так уж узка, но снегу по обеим ее сторонам намело много. Впереди ехал Ассо со своими двадцатью воинами. Он получил приказ убрать с пути вражескую охрану, промчаться через селение и остаться на страже. Велло со своими людьми несся вслед. Неподалеку от первого селения, на дороге, валялся какой-то человек, его лошадь испуганно трусила в сторонке. Один из дозорных Кямби был мертв. Всадники погнали коней, колотя их пятками и древками копий. Уже стали вырисовываться меж деревьев двускатные крыши бревенчатых строений и острия шалашей. Громко залаяли псы, стаей выскочившие на дорогу. Велло огляделся по сторонам, ища глазами дом старейшины. Вот он темнеет впереди, в двадцати шагах, за высоким частоколом. Из ворот на дорогу, вслед за сворой псов, выбежали люди. Тогда Велло ударил в щит и издал звериный вопль. Вот он уже метнул копье в людей Кямби и очертя голову ринулся на них. Дорога здесь была широкая и утоптанная; Кахро, Отть и еще несколько человек поспешили к старейшине на помощь и вместе с ним стали метать копья. Враги с криком бросились врассыпную, кое-кто тут же замертво упал в снег. Псы, жалобно повизгивая, отбежали в сторону. Кто-то попытался изнутри закрыть тяжелые дощатые ворота. Но Отть воткнул топор в щель между створами; то же самое сделал и другой воин. Мгновение Велло стоял в растерянности, не зная, что предпринять, — противник испарился. Но тут жечто было мочи закричал, и тогда более десятка воинов приблизились к частоколу, встали коням на спины, схватили топоры, заглянули через заостренные бревна во двор и метнули туда кто дубину, кто копье; затем, согнувшись, принялись срубать острия. Над их головами летели кинутые со двора копья и топоры. Вскоре острые концы бревен были срублены. Теперь осаждающие могли наблюдать за тем, что делается во дворе. Едва завидев там темнеющую фигуру, они сразу посылали в нее копье или топор. Остальные тем временем рубили ворота, пытаясь открыть их. Велло же, сопровождаемый Кахро, помчался через селение на юго-восток. Он видел, как со всех дворов улепетывали в лес испуганные мужчины и женщины. Как только осаждающие полезли через забор, шестеро мужчин во дворе вскочили на коней и понеслись к воротам. Троих настигли топоры. Остальные добрались до ворот и, когда те неожиданно распахнулись, проскочили в них. Воины Велло, рубившие ворота, отпрыгнули в сторону и послали топоры вдогонку удирающим. Один из них упал вместе с конем, затем поднялся и побежал через поле к лесу; остальные понеслись дальше. Велло доехал до места, где расположился Ассо со своими людьми. Здесь все оказалось в порядке, никого на дорогах не видать. Дом Кямби смело можно сравнять с землей! Велло поскакал назад и вдруг увидел двух приближающихся нему всадников. По широкому серому плащу с развевающимися полами и сверкающему шлему он за десять шагов узнал Кямби; Велло ударил пятками коня, кровожадно гикнул и, выставив вперед щит, полетел по узкой дороге прямо навстречу зятю. Кямби, приготовившись к бою, тоже вскинул щит. Кони со всего размаху налетели друг на друга — только кости затрещали. Лошадь Кямби рухнула наземь. Конь Велло зашатался, споткнулся, увяз в сугробе и упал грудью на снег. Велло перелетел через его голову, но в одно мгновение был на ногах, в глубоком снегу. Копье его сломалось о щит противника. Тогда он схватил меч и поднял свой щит. Его конь, пытаясь вытащить из сугроба ноги, дернулся, подался вперед и заслонил своим туловищем врага. Велло, воспользовавшись этим, выбрался на дорогу. Конь противника лежал на боку в глубоком сугробе, отчаянно дрыгал ногами и мотал головой. Кямби не мог высвободить ногу из-под коня, барахтался и бил лошадь мечом плашмя. Шлем свалился с его головы и болтался на ремешке за спиной, плащ спереди распахнулся, обнажив волосатую грудь и шею. Брызжа слюной, Кямби изрыгал проклятия и угрозы. Не будь впереди барахтающейся лошади, Велло кинулся бы на него; драться же в глубоком снегу он не решался. Каждый миг противник мог выкарабкаться, и тогда один из них погибнет, должен погибнуть! Тут в его голове промелькнула мысль: если поднимется конь, поднимется и враг, — и Велло изо всех сил ударил лошадь по голове и рассек ей череп. Оглянувшись, он увидел рядом Кахро, который отчаянно отбивался от всадника и пешего... Кямби вопил во всю глотку: "На помощь! На помощь!" — и беспорядочно размахивал мечом. Оставив Кахро, пеший обернулся на зов Кямби и, вращая топор, стал угрожать Велло. Велло знал, как опасно это оружие. Пущенное по воздуху, оно может попасть в голову, мечом его не отразишь, а если топор повертеть подольше, то не убережет и щит. Не спуская глаз с противника, Велло опустил меч и выхватил из-за пояса топор. Но вражеский топор уже летел в него, и Велло едва успел отскочить в сторону. Оставшись безоружным, враг повернулся и, согнувшись, побежал по глубокому снегу к лесу. Велло послал ему вдогонку топор, схватил лежавший на снегу меч и обернулся: Кямби стоял на коленях подле лошади, еще мгновение — и он оказался на ногах. Надвинув шлем на голову, он, обходя коня, стал пробираться на дорогу. Велло бросился навстречу, чтобы помешать противнику выбраться из сугроба. Кямби, пытаясь выкарабкаться из глубокого снега, скрипел зубами, угрожающе потрясал поднятым мечом, изрыгал проклятия. Велло метался туда-сюда, но из-за лошади, преграждавшей путь, никак не мог приблизиться к Кямби. В конце концов он в нетерпении вскочил на труп коня, но тут же понял, что поступил опрометчиво. На крутом боку коня ноги не находили упора, и чтоб не потерять равновесия, приходилось наносить удары без размаху и обороняться как попало. Кямби чувствовал себя в глубоком снегу не лучше: он не мог быстро отстраниться или же приблизиться, чтобы нанести удар. Оба легко, словно забавляясь, размахивали мечами, подстерегали друг друга и выкрикивали угрозы. — Погоди, скоро сдохнешь, — шипел Кямби, — и сестра твоя как нищенка придет обратно! Он размахивал мечом то с одной, то с другой стороны и в конце концов изо всех сил ударил им по щиту Велло, расколов его пополам. Велло размахнулся и тоже ударил, но тут же сам потерял равновесие и упал в снег, подмяв под себя Кямби. Мечи были позабыты, щиты валялись где-то в стороне, и только руки судорожно искали горло противника. На Велло был плащ, отороченный у ворота рысьим мехом, прикрывавшим его шею; шея же Кямби была открыта, и Велло сумел все-таки кончиками пальцев сжать ему горло. Глаза у Кямби выпучились, изо рта показалась пена, лицо побагровело. Но затем ему удалось спихнуть с себя Велло; тогда он начал бить его коленом по животу и высвободил горло. Левой рукой Кямби нащупал за спиной длинный кривой меч. Он попытался ударить им Велло по ногам. Но Велло схватил его руку и отогнул назад. Меч вывалился, рука бессильно повисла. Кямби стонал и выл, ища зубами горло противника. Он уже вонзил их в кожу, но тут Велло нашарил свой короткий, с острым концом, нож и всадил его Кямби в бок, пониже ребер. Нож медленно проникал через одежду, приходилось, нажимая, повертывать его, чуть ли не буравить. Напрасно пытался Кямби вывихнутой рукой отвести нож — он лишь раскровянил ладонь и пальцы; Кямби кричал, ревел, бил головой и коленом,
укусил Велло в плечо, ударил его лбом по зубам. Велло же вонзал нож все глубже; Кямби звал на помощь, орал, просил пощады. Велло оттолкнул Кямби, встал на колени, еще раз нажал на нож и затем вытащил его. С острия на белый снег капала кровь. Велло пнул ногой бессильно подергивающееся тело и ужаснулся от внезапно пронесшейся в голове мысли — он же совершенно забыл обо всем, что творилось вокруг. От дома Кямби, прихрамывая, с окровавленным мечом в руках, быстро шел Отть. — Ну, как там?.. — спросил Велло, когда Отть приблизился. — В порядке! Все, что сможет пригодиться, перетаскивают в сани, — радостно ответил Отть. — Что это у тебя лицо все в крови?.. Оботри снегом! — В крови?.. Возможно... — произнес Велло, все еще тяжело дыша после недавней схватки и смотря перед собой мутным взглядом. Он сплюнул, и на снегу появились кровавые пятна. — Ты исчез, мы и не заметили! — молвил Отть. — Работы там было достаточно! Брат Кямби дрался, как зверь, а затем удрал... Из каждого дома выскакивали люди... Заметив на снегу Кямби, Отть ошеломленно воскликнул: — Самого!.. Нет, ты, действительно, родился старейшиной!.. Шевелится еще? Так оставлять нельзя... Это змеиное отродье может еще ожить! Погоди-ка, я отрублю ему голову... Ну, да ладно, пусть это сделает кто-нибудь другой. Появился Кахро. Пыхтя и отдуваясь, он вел коня под уздцы. Противник удрал в лес — и он чувствовал себя виноватым. Велло поискал глазами свою лошадь. Свесив голову, она стояла у забора. Правая ее лопатка была окровавлена и раздроблена. Велло подошел поближе, дрожащей рукой погладил морду коня, поднял свой окровавленный нож, но тут же опустил руку и отвернулся. Он велел Кахро одним ударом прикончить животное, а сам неуверенной походкой зашагал к дому Кямби. — Как там Ассо? Слыхать что-нибудь? — спросил Отть, ковыляя сзади. — Верно, в лесу со своими людьми... С той стороны нам нечего опасаться... Ноги у меня ослабели... Устал с этим... — смущенно произнес Велло. — Как не устать, — ухмыльнувшись, согласился Отть. Из-за гребня крыши, подхваченное ветром, показалось первое серое облачко дыма, а за ним вскоре и другие — все больше и больше. Со двора выехали сани, нагруженные пиками, копьями, боевыми топорами и щитами. Велло вошел в ворота. Из обеих дверей большого дома валил серый дым и перекидывался через крышу. Люди сносили в сани из амбаров и хлевов тяжелые ящики и мешки. На окровавленном снегу валялись трупы, стонали раненые — свои и чужие. У забора в разорванной одежде сидел Кюйвитс; лицо его было бледно, но он улыбался. Несколько человек суетилось вокруг него, перевязывая рану около плеча. Велло взял с земли горсть снега, отер кровь с лица и подошел к раненому. — Брат Кямби... — с трудом произнес Кюйвитс. — Жаль, что удрал. Слуги пришли ему на помощь ... Раненых положили на сани, а также и своих павших воинов. Какая-то женщина у хлева выла и визгливым голосом выкрикивала слова на незнакомом языке. Велло взглянул в ту сторону: на суку липы, подвязанная за ногу веревкой, висела полуобнаженная девка. — Чего же это вы так... — проворчал старейшина, разглядывая девицу. — В каком виде выбежала во двор, в таком и вздернули, — ответил кто-то из воинов. — Перережьте веревку, — приказал Велло. Веревку перерезали, девица упала в снег, быстро встала на колени, затем на ноги, встряхнула черными волосами и, сверкнув голыми пятками, вбежала в открытую дверь хлева. — Пойдем отсюда, — сказал Велло, словно хотел скорее покинуть это отвратительное место. — Битва еще впереди. Отть велел бережно снести в сани все имущество. Не успели они еще тронуться в путь, как из хлева вышла молодая девушка — голова и плечи ее были укутаны шалью. Девушка поискала глазами старейшину, спросила одного, другого и, наконец, подошла к Велло. Дрожа от страха, она рассказала, что прислуживала Лейни, и попросила отвезти ее туда, где находится сестра старейшины Мягисте. — Хорошо, мы отвезем тебя к ней, — ответил Велло и распорядился посадить девушку в сани вместе с ранеными. Дом трещал, из дверей, окон и сквозь крышу вырывались дым и пламя. Велло вскочил на коня, взятого у слуги, и, выехав за ворота, повернул на восток. Огромный багровый диск солнца поднимался над вершинами деревьев. Селение казалось вымершим, и только на опушке леса там и сям недоуменно и покинуто лаяли собаки. Выехав из селения и промчавшись еще через два, дружина встретила Ассо со всадниками, и все вместе они стали держать совет. Кое-кто из людей Кямби пытался бежать из окруженного селения, но был отброшен назад. Сторожевой отряд, посланный Кямби к юго-востоку от дороги, очевидно, ничего еще не подозревал. Сквозь лесные шорохи ветер не донес туда шума битвы. — Отсюда повернем домой, тут путь короче, — заметил Велло. — Впереди — враг, — молвил Ассо. — Лучше идти ему навстречу, чем оставлять его за спиной. В это мгновение из-за поворота дороги, шагах в ста, показался всадник, за ним — второй, третий; вскоре их собралось порядочно. Они остановились и начали о чем-то совещаться. — Теперь быстро, пока еще не поздно, — обращаясь к Велло, молвил Отть, — пошли кого-нибудь к ним и вели сказать, что мы сводим счеты только с Кямби, а других, мол, не трогаем. Коли захотят драться из-за Кямби — ничего не поделаешь. Мы готовы! Велло обвел глазами своих воинов — двадцать всадников Ассо уже отдохнули и жаждали сразиться. Да и те, кто вышли невредимыми из схватки у дома Кямби, тоже не прочь были вновь испробовать свою силу. Посоветовавшись еще, решили, что на переговоры отправится Ассо в сопровождении нескольких воинов. Остальные стали готовиться к бою. Отть, держа коня под уздцы, стоял подле Велло и мерил глазами ширину лесной дороги: да, не более десяти шагов. С обеих сторон росли осины и березы, меж стволов был густой кустарник. На утоптанной дороге едва умещались рядом два всадника; в случае схватки расстояние между ними было бы чересчур близким. Велло глядел на солнце сквозь колышущиеся кроны деревьев, на темнеющие вдали фигуры всадников, на раскинувшиеся над дорогой, тихо покачивающиеся ветви старых елей. Отть дотронулся до его руки и посоветовал, как расставить воинов. Вскоре Велло повернул коня и медленно объехал ряд всадников; он давал указания, распоряжения, шутил. Часть людей спешилась и незаметно скрылась в лесу, а затем прокралась вперед и, притаившись за деревьями, стала на страже, — все держали наготове дубины, топоры и копья. Один воз с захваченным имуществом пропустили вперед и поставили поперек дороги. В стане противника поднялся шум — оттуда неслись проклятия, ругань, угрозы. Вернулся Ассо со своими спутниками и принес известие, что у противника разлад. Часть — сторонники Кямби — требуют отдать им всю добычу, оружие и даже коней. Пусть люди Мягисте пешком, с пустыми руками, идут своей дорогой домой. Но Ассо не согласился с этим. Другие же считали, что Кямби получил по заслугам и, мол, что с того, если увезут награбленное им добро. Трудно было разобраться, кого там больше: сторонников или противниковКямби. Всего же их было, вероятно, человек тридцать—сорок. — Что, если ударить по ним? — предложили иные горячие головы. — У них там как раз распря, смятение... — В беде каждый схватится за оружие, — заметил Отть. Ассо тоже склонялся к тому, что в создавшемся положении выгоднее защищаться, нежели первыми нанести удар. Уже поднялись в воздух копья противника, зазвенело оружие, раздались приказы и угрозы. И вот с криком, ударяя в щиты, враги, по два всадника в ряд, помчались навстречу дружине. Велло велел отступить к обозу с добычей, и когда атакующие были на расстоянии двух десятков шагов, укрылся со своими воинами за санями. Из-за деревьев в несущихся людей и коней полетели копья и острые топоры. Два всадника покачнулись в седлах, выронили оружие и головой вперед упали в снег. В стремительно наступающем строю возникло замешательство. А из-за деревьев в атакующих продолжали лететь копья и топоры. Иные всадники, чтобы подбодрить товарищей, кричали, размахивали мечами, наугад кидали оружие в притаившихся в лесу воинов Велло и рвались вперед, топча тела павших. Задние же ряды нападающих заколебались, люди остановились, растерянно зашумели и повернули назад. Велло приказал очистить дорогу от убитых и раненых и понесся вдогонку за удирающими. Едва он приблизился к ним, как те побросали оружие и подняли правую руку. Один из них вышел вперед. Это был старик, его седые волосы свисали из-под меховой шапки на шею. Он сурово приветствовал Велло, повторил все, что слышал из уст Ассо, спросил, правда ли это и верно ли, что Кямби убит. Глядя старику в глаза, старейшина Мягисте ответил: — Все так, как вам рассказали. Доказательство тому — возы с добычей.Еще спросил старик, живы ли люди в селении Кямби, цело ли их имущество и дома. Велло ответил, что немало мужчин, сражавшихся вместе с Кямби, вместе с ним и пали, а тех, кто укрылся в лесу, никто не преследовал и не трогал. Имущество Кямби забрано и дом его подожжен. Увидев, что у людей, стоящих напротив него, нет делания сражаться, Велло добавил: — Мягисте хочет жить в мире с Саарде. В знак этого — вот тебе мое копье. Но если только кто-либо причинит нам зло — его постигнет та же участь, что и Кямби. Если у тебя нет дурных мыслей, обменяйся со мной копьем. На лбу и на лице старика обозначились глубокие морщины. Он немного подумал, затем отошел к своим воинам, посоветовался с ними и вскоре вернулся обратно. Теперь он разговаривал приветливее и хоть осудил старейшину за грабеж, но сказал, что Лейни всем им была по душе и ее несчастье всех их опечалило. Поэтому они мирятся с тем, что произошло, и хотят жить с Мягисте в ладу. Старик и Велло обменялись копьями. Дорогу освободили, и Велло с Ассо впереди, сопровождающие их воины позади — с копьями в правой и щитами в левой руке — тихим шагом двинулись в путь. За ними следовал небольшой отряд всадников, затем сани с ранеными и обоз с добычей. Замыкал шествие большой отряд всадников с копьями в руках. Металлические наконечники сверкали на солнце; мужчины, гордые своим старейшиной, сидели на конях прямо, как победители. Но всех горделивее держался Велло. Он только теперь по-настоящему почувствовал себя старейшиной, понял, что в силах быть им. Правда, ему было за что упрекнуть себя: в жестокой схватке с Кямби он забыл обо всем на свете. Но победил все же он, Велло, и теперь он может смело смотреть в глаза гордым старейшинам Алисте и Сакалы. Может сказать им, что и он побывал в гостях у саардеского Кямби, хоть и иначе, чем они.
VIII
В Мягисте они добрались после захода солнца, смертельно усталые, но ликующие. Они трубили в трубу, ударяли мечами о щиты и пели победные песни. Парни и девушки, старики и дети выбегали из домов на дорогу, и даже собаки лаяли от радости. Велло не терпелось поскорее сообщить Лейни о победе: ее унижение и страшная смерть сына отомщены, Кямби убит, дом его сожжен, имущество увезено, чужеземная девка можег искать для себя нового пристанища. Кроме того, Велло привез сестре ее любимую прислужницу Марью. Он свернул во двор Ассо и вошел в дом. Навстречу ему с зажженной лучиной в руках шагнула Лемби, лицо ее вспыхнуло от затаенной радости. Веллo взял из ее рук лучину, левой рукой привлек девушку к себе, поцеловал в пышные волосы, в лоб и затем в губы. — Ты мне мила, — с трудом выговорил он, ибо говорить об этом ему было нелегко. Лемби не решилась поднять глаз, отвернулась и снова взяла лучину. — На твоем лице кровавые рубцы, — сказала она. — Еще немного — и этот зверь прокусил бы мне горло, — шутливо бросил Велло. — Страшно... Что с ним? — Он мертв... — ответил Велло и тут же заговорил о другом: — Лейни в твоей комнате? — Нет, мы отвели ее домой, к Малле... Она уже оправилась и не захотела оставаться здесь.В дверь вошел Ассо. Он улыбнулся радостнее, чем обычно, и добродушно проворчал: почему, мол, старейшине не предложили меду. Но Велло был взволнован и не хотел задерживаться; распорядившись, чтоб привезенная из Саарде служанка последовала за ним, он поскакал домой. Малле он застал во дворе, там же стояли слуги и служанки. Только что прибыли сани с добычей, и люди ощупывали клинки, пучки копий, топоры, ударяли по бронзовым щитам. Отть весело рассказывал, как они дрались, как был убит Кямби и как вешали на липе чужеземную девку. Велло прошел вместе с Малле в комнату и при тусклом свете лучины отыскал глазами Лейни. Она сидела на лавке, прислонившись спиной к стене, осунувшаяся, безучастная, с бледным, цвета лунного камня, лицом. Казалось, она не слышала ни доносившегося снаружи шума, ни прихода брата. Поодаль от нее сидела хромая Рийта; черный платок закрывал ее лоб, на худом, обветренном и сморщенном лице застыло выражение покоя и святости. Велло поздоровался и коротко, но слегка хвастливо, сообщил, что Кямби получил по заслугам, добро его забрано, дом сожжен, девка наказана и отпущена на все четыре стороны. Лейни вздрогнула, услышав о смерти Кямби, страдальчески посмотрела на брата, едва заметно качнула головой, словно отгоняя какое-то видение, и снова погрузилась в свои думы, недоступные другим. — Привез из Саарде твою любимую служанку, — промолвил Велло. Лицо Лейни на мгновение озарилось радостью, и она подняла глаза. Малле вышла во двор и вскоре вернулась, ведя небольшого роста девушку; та робко огляделась, а потом, когда глаза ее привыкли к свету и она увидела Лейни, вскрикнула, подошла к лавке и опустилась перед ней на колени. Лейни сдвинула шаль с головы девушки и стала гладить ее волосы. Велло прошел на свою половину, где Малле ждала его с едой и медом.Ощущение полной победы покинуло его. Этот поход он предпринял ради Лейни, а ей безразлично все, возможно, она даже осуждает его за убийство Кямби! Удивителен яд, который распространяют эти черноризники. Этот яд через хромую Рийту проник и в Лейни. Старейшина ел нехотя, расспрашивал Малле о новостях, но слушал рассеянно. Киур от имени старейшины учинил суд над Рахи и наказал его за бесчинство: Рахи должки отдать одного барана бедняку за то, что тискал его дочерей и сорвал дверь в сенях. После того как хромая Рийта покинула Лейни, Велло снова зашел к сестре. Он выпроводил всех из комнаты, сам взялся следить за лучиной и, сев на лавку рядом с Лейни, вновь повторил, что за обиду, нанесенную ей Кямби, отплачено с лихвой. Лейни в раздумье помолчала, а затем, глядя вдаль, молвила: — Неправильно это. — Неправильно?! Он учиняет над тобой кровавую расправу, а мы должны молча сносить?! — воскликнул Велло. — Чего доброго, еще явился бы сюда, поубивал нас во сне, оставил дымящиеся развалины, а тебя сделал бы служанкой подобранной где-то девки! — А хотя бы и так! За наши страдания великий господь возьмет нас к себе, на небо. Там я увижусь с сыном и уже никто не разлучит нас. Велло поглядел на нее с сочувствием, как на человека, который лишился рассудка и бредит невесть о чем. — Отмщение за зло да будет в руках божьих! — добавила сестра и устало закрыла глаза. Велло вздохнул, поднялся с лавки и прошел в другую комнату.***
Еще только начало светать, а двор уже заполнился людьми, собравшимися сюда, чтобы поделить добычу. Не отдохнув как следует, пришли мужчины, участвовавшие в набеге, — они боялись, что, опоздав, останутся ни с чем. Пришло и много другого народу — стариков и женщин, девчонок и мальчишек; одни надеялись получить что-нибудь, другие явились просто так, поглядеть на добро, захваченное у Кямби, и послушать, что произошло там, в Саарде. Услышав сквозь сон шум, Велло открыл глаза, позвал Малле и велел ей зажечь лучину. Поднимаясь, он почувствовал, что спина у него не гнется, в груди покалывает, правая рука у запястья и в локте ноет. Но больше всего болела челюсть. Он едва смог одеться. Сделав шаг, Велло обнаружил, что повреждено колено правой ноги. Сегодня же он велит истопить баню — пусть на сильном пару ему разотрут мускулы и сухожилия. С улицы в комнату вошел Отть и спросил, как быть с народом — гнать его со двора или сказать, что сегодня добычу делить не будут. Велло размышлял, потирая колено. В конце концов он решил: — Прежде надо поглядеть, что за добычу мы захватили. А потом поговорим и о дележе. Так и скажи им. Отть пошел передавать это людям, но по шуму, доносящемуся со двора, было ясно, что на его слова ие обращают внимания. Несмотря на боль в колене, Велло все же мог кое-как двигаться. Подпоясавшись, он взял в углу палку, нахлобучил шапку и, прихрамывая, вышел на верхний двор. Он был битком набит людьми. Отть то притворно сердился, то добродушно ворчал, но его никто не слушал. Увидев старейшину, все мало-помалу смолкли. По лицу Велло видно было, что он нездоров. Но здесь, на глазах у людей, он забыл все свои беды. Впервые Велло почувствовал себя перед народом старейшиной. Обведя всех взглядом, он спокойно промолвил: — Я почти не вижу здесь тех, кто ходил в Саарде. А с ними мне следует поговорить прежде всего. Они вправе первыми получить свою часть добычи. Со всех сторон послышались возгласы одобрения. Ни на кого не глядя, Велло стал говорить. Он напомнил старый обычай: что воин взял в бою и привез в свой дом, то принадлежит ему. Большая же часть лошадей, скота и другого добра, сообща захваченного в селениях или отнятого у побежденных старейшин, достается тому, кто водил дружину. На этот раз из похода в Саарде пригнали только коней. Кто в битве лишился коня, тот уже получил из конюшни Кямби другого; остальные останутся у старейшины. Кто потерял оружие или у кого оно было плохим, тому выдали новое. Остальное забирает старейшина, а когда понадобится, поделит между всеми. Что же касается другого добра, то еще не подсчитано, сколько чего захвачено. Но каждому воздастся по храбрости, а установить, кто был храбр, помогут старейшины селений. Часть имущества достанется старейшине, и это правильно, ибо случись, что враг нагрянет с юга, Мягисте будет растоптано первым; не окажется никого, кто помог бы защитить его. И когда оставшиеся в живых люди выйдут из лесов, не будет у них ни крыши над головой, ни жеребенка, ни теленка, ни зерна... Все это придется добывать на севере, а всем известно: чем богаче деревня, тем жаднее старейшина. Все надо будет покупать. Поэтому пусть люди поймут: старейшина не может делить последнее. — Придет враг, не постесняется взять и из дому старейшины! — проворчал кто-то в толпе. — Сберечь и сохранить имущество Мягисте — это уже забота старейшины, — вмешался Кахро. — Сперва надо помочь родичам тех, кто погиб в Саарде, — закончил Велло, — да и тем, кто вернулся раненым или покалеченным. Люди одобрили это и начали помаленьку расходиться. Кое-кто хвалил старейшину за справедливость, иные же ворчали и выражали недовольство. В тот же день в Мягисте прибыли люди с северо-востока и юго-востока, чтобы подробнее разузнать о набеге: куда ходили, сколько добычи привезли, сколько врагов уложили и взяли ли в плен женщин и детей? Им велено было сказать, что ходили мстить за обиду, убили тех, кто этого заслуживал, а неповинных не тронули. Убили старейшину Саарде Кямби и всех, кто с ним заодно; захватили все, что могло пригодиться. Так случится с каждым, будь это даже самый могущественный старейшина, если он нанесет обиду женщине или мужчине из Мягисте. Вечером в священной роще должны были предавать огню тела павших воинов, и кое-кто из приезжих остался поглядеть на это зрелище. Трупы положили на сколоченные из жердей носилки, покрытые коврами, и медленно внесли во двор Велло. Павшие воины были в полном вооружении: слева у пояса — меч, справа — боевой топор, рядом — копье, на груди — медный щит, а на голове — шапка с железным налобником. С наступлением темноты во дворе старейшины собрались мужчины, ходившие в поход, — сбоку у них висели мечи, в руках они держали смоляные, обернутые в паклю пылающие факелы. Они выстроились по двое в ряд, вчетвером подняли каждые носилки, старейшина стал позади, и процессия двинулась к священной роще. Два воина впереди ударяли мечами о медные щиты в такт медленному шагу. За строем вооруженных людей шел народ Мягисте. Процессия спустилась в ложбину, а затем поднялась на холм, где темнела священная роща. Обогнув ее, люди направились по широкой дороге к середине рощи. Там, на кругу, окаймленном толстыми березами, был разложен большой, высотой по грудь, костер из сухих стволов и сучьев. Воины выстроились вокруг него и при свете высоко поднятых горящих факелов опустили носилки на сухие стволы и сучья. За воинами стоял народ из семи селений: сгорбленные старики в меховых шапках, старухи, закутанные в черные шали, молодые женщины в белых платках и в желтых, с черной каймой шалях на плечах. Велло вышел вперед и, не снимая шлема, встал возле костра, прямой, как ель, опер копье о землю и заговорил. Голос его звучал монотонно, как-то жалобно-зло и певуче. Он напомнил об обиде, которую нанес Кямби его сестре, сказал о разбойничьих набегах, совершенных этим жестоким человеком. И хотя в Алисте и Сакале все было известно, никто никогда не решался громко заикнуться об этом. Люди почитали Кямби за его богатство, нажитое грабежами, звали к себе в гости, ходили к нему сами — и все потому, что он был богат, мог на славу накормить и напоить в своем великолепном доме, мог поднести дорогие подарки. Плохо обращаться с Лейни Кямби посмел, вероятно, потому, что Мягисте — маленькое, что здесь нет большой дружины, а значит, можно и не бояться наказания. — Он свое получил, — с угрозой сказал Велло. — Да будет это наукой и другим! Он стал расхваливать своих воинов за храбрость и бесстрашие. Берите пример с тех, кто погиб в сражении, не миритесь с несправедливостью, не бойтесь жестокости богатых и насилия могущественных, не допускайте, чтобы кто-то позорил вас и ваших родичей. Людям Мягисте не по душе, если кто-либо издевается над слабым, обижает малого, притесняет бедного. — Души павших отойдут к предкам, и те примут их как героев. Велло подал знак. Люди с факелами приблизились и запалили костер. Затрещали сухие ветки, поднялся серый дым и скрыл тела от взоров окружающих. И вот уже вместе с дымом взметнулись кверху языки пламени, подобно покачивающимся на ветру желтым ирисам, и весело затрещали сухие стволы.IX
Вернувшись домой, Кахро тотчас же разыскал в амбаре мази и натирания, а Малле достала чистую холстину для перевязки. Искусный в лечении и заговаривании Кахро обошел вместе с Вайке всех раненых, почистил и перевязал им раны. Велло хотя и хромал, однако на следующий день после сожжения павших тоже навестил вместе с Малле всех раненых, отнес им бронзу и серебро из добычи, захваченной у Кямби, выделил им всякой снеди, утешил и подбодрил. Все были горды, что пострадали в битве, которая закончилась так победно, и спрашивали — скоро ли снова в поход. Навестил старейшина и родичей павших и щедро одарил их. Еще накануне велел он отвести в каждое селение по быку из своего хлева, чтобы помянули павших. Поминки справили той же ночью, по возвращении из священной рощи; на огне костров, разожженных во дворах, жарили мясо, и, так как погода была мягкой, тут же ели его. Люди побогаче наварили меду и пили его вместе с гостями; перепало также слугам и служанкам. На почетных местах восседали те, кто ходил в Саарде, и не было конца их рассказам об этом двухдневном походе. Чем больше они пили меду, тем отважнее становились их дела, тем больше превозносили они Велло и самих себя. Старейшине следовало бы, говорили они, вновь повести их в такой же военный поход, все равно куда, к своим или чужим, лишь бы сразиться, как подобает воинам, и захватить сколько-нибудь добычи. — Всю добычу старейшина, однако, забирает себе, — замечали те, кто не ходил в Саарде и кого Рахи настроил на свой лад. — Придется с ним потолковать, — отвечали таким. — А что толковать — он старейшина, его слово последнее! — не унимались те, кто поддался наговорам Рахи. — До тех пор старейшина, пока мы не против. Завтра же можем выбрать другого. Впрочем, это было больше бахвальством, нежели угрозой. У старейшины поминки справляли тихо. Для слуг и служанок забили бычка и сварили меду, но ни песен, ни шума на нижнем дворе слышно не было. Велло заглянул к слугам; не присаживаясь, отведал вместе с ними яств, выпил меду из одной с ними кружки и вскоре удалился, сославшись на усталость. Зашел он и к служанкам. Сам Велло поминок не справлял под предлогом недомогания, но действительной причиной был траур сестры по сынишке. Даже смех Оття, доносившийся то со двора, то из комнаты Велло, раздражал Лейни, хотя смех этот не был ни грубым, ни чрезмерно веселым. У Ассо вместо поминок устроили тихую трапезу. На нее были приглашены только Велло и Киур. Проезжая в сумерках верхом мимо дома Рахи, старейшина услышал там шум и крики. Огромные псы с сердитым лаем выбежали из ворот, стали прыгать перед мордой лошади и норовили схватить старейшину за ноги. Из дома вышли люди; слышно было, как они разговаривали приглушенными голосами, науськивали псов и в конце концов громко расхохотались. Велло, стиснув зубы, стал размахивать мечом, отгоняя псов. До него отчетливо донесся смех Рахи, но он не оглянулся. Придется разобраться с этим человеком, подумал старейшина. Как раз сегодня Киур сообщил, что Рахи и не помышляет отдавать бедняку барана. "Пусть только попробуют взять!" — грозился он. Ассо чистил на дворе лошадей, когда приехал Велло. Меховая шапка на голове сельского старейшины была сдвинута на затылок, на бритом лице блуждала задумчивая добрая усмешка. Губы были слегка приоткрыты, и это делало его лицо еще добрее. В руке Ассо держал белую щепку, которой скреб лошадь. Лошади были слабостью Ассо, он скупал их, ухаживал за ними, старался, чтобы они были гладкими и упитанными, и готов был ехать за ними на самую дальнюю ярмарку. Сейчас на его дворе стояли две молодые гнедые кобылы, один чалый мерин, рыжий жеребец и вороной жеребенок. Почуяв приближение чужой лошади с всадником, они запряли ушами, заржали и стали беспокойно скрести копытами снег. Во дворе появилась Лемби, улыбнулась, поздоровалась и пригласила гостя в дом. Ассо со своими работниками повел лошадей на конюшню. Лемби глядела на старейшину ласковее, чем обычно, осведомилась о здоровье. Рядышком они направились к дому. — Слыхала, как ты сражался с Кямби. Ох, как было, наверное, страшно! — молвила Лемби. — Кроме нас двоих никто этого не видел, — ответил Велло. — У других были еще более жестокие схватки. — Ты хромаешь! Говорят, у тебя все лицо было в крови... — продолжала Лемби. Они вошли в дом. В комнате стоял полумрак. В очаге пылали угли. Велло вдруг почувствовал себя здесь так хорошо, что ему захотелось сказать что-нибудь такое, что связало бы их. — Лемби, — начал он, дотрагиваясь до ее руки. Они стояли почти вплотную друг к другу. — Лемби, скоро наступит весна... Он ничего больше не сумел сказать и замолк, беспомощный и растерянный. Здесь он уже не был старейшиной Мягисте. — Когда наступит весна... — снова начал он, воспламеняясь. — Весна наступит скоро, — проникновенно ответила Лемби и, кликнув служанку, велела ей принести огня. Велло облегченно вздохнул. — Здесь довольно тепло, — сказал он и поднял руку. — Особенно под потолком. — Дымовое отверстие открыто — скоро станет прохладнее, — ответила Лемби, и голос ее дрожал. Вошла служанка с лучиной и вставила ее в щель. Лемби взяла у гостя головной убор и меховую накидку. Потом они уселись на лавку и стали говорить о раненых, по очереди вставая, чтоб обломить обуглившийся конец лучины или заменить ее новой. Вскоре пришли Ассо и Киур. Киур, как всегда, был немногословен и резок. Все расселись на лавке, и Лемби принесла меду; Велло стал шутливо рассказывать, как его встречали и провожали, когда он проезжал мимо дома Рахи. Киур слушал со строгим выражением на худом лице и плотно сжатыми губами. — Решение, которое я вынес, еще не выполнено, — сердито сказал он. — Несколько строгое решение, — заметил Велло. — Не ты ли оставил меня вместо себя, чтобы я вел дела и вершил суд, как ты? — Это так... — согласился Велло. — Тогда придется взять у Рахи барана и отдать бедняку, в чьем доме он бесчинствовал! Иначе не будут уважать ни старейшину, ни того, кто его замещает, — рассердился Киур. — Хорошо, завтра пошлю к нему людей, — сказал Велло. — Этот человек должен рано или поздно уйти отсюда, — продолжал Киур. — Не то он натравит псов на все Мягисте! Чтобы рос хлеб, надо беспощадно вырывать сорняки! Велло хотел править в Мягисте по-хорошему, завоевывать сердца добротой и мягкостью. Но теперь он понимал, что кое с кем придется поступать иначе, и даже был рад, что встретил поддержку. Пришла служанка, поправила лучину. Лемби вышла в другую комнату.Мужчины сидели прислонившись к стене и поочередно потягивали из кружки мед. Огонек лучины трепетал, грозя порой совсем потухнуть, и тогда комната на мгновение погружалась в полумрак. Закинув ногу на ногу, Ассо рассказывал о семействе Рахи. Его отец еще ребенком был взят в плен где-то в Латгалии и привезен сюда. Мальчик рос более живым и озорным, чем его сверстники. Взрослым он стал сварлив и жесток, но зато в военных походах, особенно когда ожидалась добыча, всегда оказывался первым. Во время одного из набегов, предпринятых совместно с дружиной Сакалы в далекую Латгалию, а может быть даже и за Вяйну, в землю селов, он захватил там в плен молодую девушку, привел ее домой и женился на ней. Эта женщина превосходила старого Рыжеголового в силе, а еще больше в жестокости и грубости. Она била деревенских женщин, да и мужчин, кто послабее, и не делала разницы между чужим и своим имуществом, если ей это было выгодно. Награбленное добро позволило старому Рыжеголовому приобрести гак земли, дом и скот. У него родились три сына, и когда они оторвались от материнского подола, с раннего утра и до поздней ночи за три мили вокруг слышался их крик. А когда они подросли настолько, что могли поднять с земли дубинку или с поля камень, остальные ребята нередко приходили домой с окровавленными головами. Впрочем, об этом Велло знал и сам. Старшему сыну Рыжеголового — Рахи, было теперь лет сорок, и по-своему он уже прославился далеко за пределами Мягисте. Время от времени, чаще зимой, он собирал отряд таких же, как он, головорезов и вместе с братом, верхом или на санях, отправлялся куда-нибудь в лес, поближе к большой дороге. Там он нападал на возвращавшихся с ярмарки либо на обоз с товаром, убивал тех, кто оказывал сопротивление, и темной ночью возвращался с добычей домой. Во время такого разбойничьего набега погиб один из братьев. — Мало разве у твоего отца было неприятностей из-за этого, — обращаясь к Велло, молвил Ассо. — Приходили сюда жаловаться и из Пскова, и из Холма, и из Риги, и с побережья, из Метсеполе, шли с жалобами в Алисте, шли к старейшинам Сакалы и Уганди. А те хоть бы что! Вот откуда богатство у Рыжеголового. Семян в борозду Рахи не бросает, хлеб не убирает, в лес ходит редко, а пирует вовсю, да и сельских старейшин может подкупить щедрыми дарами. Вошла Лемби, неся на большом глиняном блюде хлебные лепешки, — на каждой тонкие ломтики копченой дичи. Блюдо она поставила на низкий четырехугольный стол посреди комнаты. Только все стали рассаживаться вокруг стола на мягких лосиных и волчьих шкурах, как пришел кузнец. Это был человек, которому перевалило за пятьдесят; он был небольшого роста, худощавый, но широкий в плечах, с сильными руками. На его лице лежала печать преждевременной старости, в уголках мясистых губ таилась усмешка. Его густые каштановые волосы, зачесанные назад, высоко поднимались надо лбом, брови были длинные и густые, нос крупный. Был он желанным гостем, хотя ко всем приходил незваным. Женщинам он очень нравился, говорили, будто по ночам они бегают к нему и он поит их колдовскими напитками, добытыми у купцов. — Теперь люди у нас с оружием, кузнецу работы хватит... — молвил Ассо и указал гостю место на шкуре подле стола. — Не хитрое это дело — ковать топор, — с усталой усмешкой ответил кузнец. — Силу надо иметь в руке и только. — А какое дело, по-твоему, хитрое? — спросила Лемби, которая как раз вошла в комнату с кувшином меду. — Какое?.. Разукрасить серебряную рукоять меча или золотую брошь — это совсем иное дело. В Риге у меня было много такой работы, — расхвастался кузнец. — Мечи с серебряными рукоятками не нужны нам, — сказал Киур. — Нам подавай топоры и острые копья, мечи и ножи.Разговор перекинулся на Ригу. Кузнец прожил там лет пять, работал у оружейного мастера на рыцарей и крестоносцев. Он часто бахвалился этим; вот и сегодня тоже. — Другой народ там! — воскликнул он, сделав изрядный глоток меду. — И другая жизнь. Того нет, чтоб по вечерам люди скучали. Можешь пойти в питейный дом, в винный погреб, посидеть с друзьями до полуночи. Всегда найдутся славные девушки... — Мы давно слышали от Оття, как там живут! — прервал Велло. — Как там рыцари награбленное добро проматывают. — Это верно, — согласился кузнец, — а ты погляди, какие у рыцарей доспехи, какое оружие, кубки, да все, чем полны их дома. Разве у нас есть что-либо подобное? Да, там — жизнь! — А за чей счет живут эти грабь-рыцари, их оруженосцы и жулики-купцы? — ожесточаясь, воскликнул Киур. — За счет и нашего народа! — Так уж повелось, — согласился кузнец. — Что поделаешь! Конечно, тому, кто беден, трудно живется. Почему нам так приятно сидеть и лежать здесь сейчас? У Ассо кое-что есть! Он может устлать пол своего дома шкурами. Он может всех нас накормить дичью, напоить медом — и все потому, что у него кое-что есть. Тут я не вижу ни одного работника или раба из шалаша в лесной глуши. Даже я вынужден был прийти незваным. Все рассмеялись. Отхлебнув из кувшина глоток, кузнец насмешливо добавил: — Все же приятно иной раз полежать на шкурах вместе с друзьями. Да и вообще... Оттого-то вы так храбро и сражаетесь с врагами! — Мудрость, которой ты научился в Риге, не годится здесь, в Мягисте, — пренебрежительно заметил Киур. Лемби внимательно слушала и смотрела то на одного, то на другого; выражение ее лица говорило о том, что она пытается понять, кто прав. — Мужчина, пока он молод и силен, жаждет борьбы, — заметил Ассо. — Если кто-либо нападет на него, чтобы ограбить и потом жить себе припеваючи, придется ведь дать отпор. Как же иначе? — Тот не мужчина, кто стерпит это! — сказал Велло. — Тот уж пускай сам идет к другому в рабы, — добавил Киур. — А не нападет на вас враг — сами пойдете на него, — заметил кузнец. — Чтобы убивать и грабить! Чтобы жить припеваючи на захваченное добро! — Мы и своим трудом проживем, да и добра нам хватает, если его не грабят, — вставил Ассо. — Да, портит Рига людей. Кузнец каждым своим словом подтверждает это, — произнес Велло. — Эти рыцари и крестоносцы, что приехали издалека и живут с награбленного, — хуже чумы! — взволнованно сказал Киур. Кузнец, отстаивавший великолепие жизни рыцарей и богатых рижан, остался в одиночестве. Было далеко за полночь, когда гости разошлись по домам.X
В Мягисте прибыл гонец; он привез от старейшины Алисте поздравление с победой и приглашение на пиршество. Велло радушно встретил гонца, велел накормить и напоить его, но приглашение отклонил, сказав в присутствии Оття и Малле (они так и не поняли, говорит старейшина серьезно или шутит), что со здоровьем у него после этой бешеной скачки и короткой битвы неважно, приходится растирать жилы и смазывать ссадины. Да и не смеет старейшина маленького кихельконда без крайней на то нужды легкомысленно покинуть дом, когда под боком у него соседи, которых подстрекают рыцари. Проберутся они через леса и замерзшие болота сюда — тогда неоткуда будет ждать помощи! Чтобы старейшины Алисте и Сакалы могли спокойно ездить друг к другу в гости, Мягисте всегда должно быть начеку. Прибыли гонцы и от других старейшин. Они приветствовали молодого вождя и хвалили его: он, мол, поступил совершенно правильно, отомстив Кямби. Этот человек давно заслуживал наказания, он был позором и несчастьем для всей округи. "Теперь все они признают это! — с горечью думал Велло. — А раньше радушно встречали этого грабителя с большой дороги, распахивали перед ним двери своих домов, забивали для него самых упитанных телят, угощали его лучшим медом и приказывали самым красивымдевушкам парить его в бане! И сами ездили к нему в гости — и в жесточайший мороз, и в распутицу, только бы урвать от его щедрот и полюбоваться великолепием его жизни!" До Велло дошло и мнение Лембиту о походе в Саарде. Старейшина Лехолы очень гневался: снова междоусобица! Снова один кихельконд напал на другой, и снова один старейшина убил другого! Молодые, оказывается, не умнее стариков, и сыновья — не умнее отцов! А когда нападет враг, сосед тщетно будет звать на помощь соседа! Возможно, Кямби действительно плохо обращался с женой, но ведь не начинать же из-за этого войну! Возможно, женщины в Саарде повздорили и даже подрались, но не идти же с дружиной улаживать их дела! Ясно, в Мягисте на месте старейшины — драчливый юнец! Так думал Лембиту. Велло вскипел, услышав это. Конечно, кое-что в слухах, прежде чем они дошли до Велло, могло быть преувеличено, кое-что искажено, но все же нечто в таком роде старейшина Лехолы сказал. "Возможно, он поступил бы по-другому, а я поступил так! — мысленно воскликнул Велло. — Я думаю своим умом и чувствую своим сердцем! И мой ум и мое сердце иные, чем у старейшины Лехолы! А ему надо бы отличать войну от войны! Что ж, каждому из нас еще представится случай показать свой ум и отвагу, свои победы и поражения!" Однажды ночью, когда слуги и служанки спали, Велло, поставив на страже Вайке и Малле, перенес с помощью Кахро и Оття все захваченное в Саарде добро в хлев и спрятал под навоз. Пусть лежит там до той поры, пока не стает снег и не просохнет земля. Тогда можно будет найти тайник понадежнее, где-нибудь на песчаном склоне холма. После нескольких дней колебаний Велло решил начать борьбу с Рыжеголовым. Что там окажут сопротивление и приказов его не выполнят — в этом он был уверен заранее. Сперва он решил послать к Рахи только Оття с двумя слугами, чтоб они отобрали барана и передали его бедняку.Отть, угрюмо глядя в сторону, выслушал приказ, засопел, сплюнул разок в снег и пробормотал: — Что ж, придется идти! Спустя некоторое время — старейшина как раз обедал у себя в комнате — Отть вернулся, кинул в угол на лавку меховую шапку, сел и сказал: — Сходил. — Барана увел? — Мало людей дал... кроме ругани там ничего не получишь, — ворчливо ответил Отть. — Так ведь Рахи не саардеский Кямби, чтоб на него с полсотней людей идти, — рассердился старейшина. — Лучше уж пойду в Саарде или за Салаци, под Беверину или Сатезеле, чем в это гнездо Рыжеголовых... Одному из слуг разодрали голень. Сам знаешь, какие там псы. — И ты допустил? — воскликнул старейшина. — Какое там!.. Двух псов прикончили... Ни слова не сказали, но за копья и топоры схватились. — А вы? — У нас не было приказа драться. — А будь он? — испытующе спросил старейшина. — Убил бы его, этого Рыжеголового. Поганая образина! Велло встал, его не смутила строптивость Рахи. Теперь был повод действовать покруче. С момента победы в Саарде он жаждал схваток. — Поди отдохни! Кахро позовет людей Киура, мы кликнем своих, ну а топоров нам не занимать. Еще не наступит вечер, как баран будет доставлен бедняку. А за то, что Рахи сопротивлялся, и за то, что его псы разодрали слуге ногу, прихватим еще двух коров. Дадим тем, у кого нет ни одной, — распалился Велло. Отть покачал головой, покряхтел, но ничего не сказал. Спустя несколько часов во дворе старейшины собралось пятнадцать человек. Им выдали оружие, которое они сунули за пояс; ни копий, ни луков, ни стрел с собой не взяли.Кахро шагал впереди, остальные — по двое в ряд — за ним. Велло и Отть, глядя им вслед, улыбались, но на душе у обоих было тревожно — как-то их встретит Рахи? Оставшись во дворе, они занялись хозяйством, однако частенько поглядывали на ворота, прислушиваясь: не раздастся ли со стороны дома Рыжеголового лай собак? Люди вернулись примерно через час, ведя на привязи барана и двух упитанных коров. За ними шел Кахро, поддерживаемый слугами; худое смуглое лицо его было воскового цвета. В Кахро, когда он входил во двор Рыжеголового, кинули из-за угла несколько копий, и одно из них угодило ему в плечо. Раненый улыбнулся, попытался сделать несколько шагов сам, но зашатался и снова оперся на поддерживающих его слуг. Ему помогли войти в комнату и оставили на попечении Малле. Парень был счастлив как никогда — сестра старейшины, милая Малле, промыла ему рану, остановила кровотечение, приложила тысячелистник и сделала перевязку. Велло, настроенный по-боевому, тотчас же отправил слуг обратно: пусть за рану, нанесенную Кахро, приведут еще двух упитанных коров или двух коней. Коров вскоре привели. Собаки на дворе Рыжеголового уже не лаяли, не оказалось там и слуг, которые могли бы оказать сопротивление. Рахи отправился с ними по деревне, вопя: грабители ворвались в дом и силой увели двух коров. — Вот они каковы, радости и горести старейшины, — с дружеской усмешкой глядя на Велло, сказал Отть.***
Внезапно повеяло весной, солнце стояло днем высоко над лесами, и с острых сосулек под стрехами звонко падала капель. В облачные дни с юго-запада дул мягкий ветер, лес весело шумел и снег постепенно оседал, обнажая землю. Временами налетали короткие метели, обычно кончавшиеся оттепелью. Велло хотелось побыть наедине с собой. Однажды, после ночного снегопада, он оделся полегче, прикрепил к поясу короткий меч, взял лук и пучок стрел, отдал Оттю распоряжения по дому и зашагал через двор к лесу. Cобаки прыгали вокруг него, клали лапы ему на грудь, лизали руки и катались по снегу. Малле с озабоченным лицом выбежала вслед за братом. — Не ходи один, — стала она уговаривать его. — Возьмм хотя бы Кахро. Он уже оправился. — Этак ты меня трусом сделаешь, — рассмеявшись, ответил Велло. — Ох, я всегда тревожусь, когда ты уходишь один. Помнишь, когда наступило самое темное время, молодого хозяина Ваара нашли в лесу мертвым. — С копьем в груди... как не помнить. Дело рук Рахи. У них была давнишняя вражда, — согласился Велло. — Он может с кем угодно поступить так же, — в тревоге заметила Малле. — Хорошо, захвачу Кахро, — успокоил ее брат. Велло любил ходить в лес с Кахро. Этот подвижный парень с луком через плечо и пучком стрел исчезал неизвестно куда — не слыхать его, не видать. Но стоило только свистнуть, и он оказывался тут как тут. То ли потому, что Кахро умел колдовать, то ли потому, что был ловок и обладал острым глазом, но он всегда возвращался домой со связкой белок на плече, с глухарем или тетеревом, подвешенным за ногу к поясу, а иной раз и взвалив на спину зверя покрупнее — зайца, лисицу, выдру или барсука. Он не хвастался этим, а только радостно улыбался; он вообще говорил мало. За строениями, под откосом, начинался вековой ельник. Некоторые большие деревья Велло знал по стволам: на коре их он, да и многие до него, сделала отметины. Он знал каждую прогалину, знал, где кормятся тетерева, куда на ночь слетаются глухари, знал лисьи тропы и уголки, где зайцы грызут кору. Лес становился ниже, среди молодых бледно-зеленых елей попадались теперь белоствольные, перехваченные поперечными поясками, тоненькие березки с голыми сучками, похожими на прутики.Здесь, в молодом лесу, где летом бывало сыро, Велло обнаружил на мягком снегу следы. Он наклонился, разглядывая их, измерил глазом расстояние между ними — тут протрусила лисица, оставив на рыхлом снегу едва заметный след пушистого" хвоста. Покружилась, полежала под кустом, в сомнении побродила, посидела, а затем, задрав хвост, галопом помчалась прочь — то ли учуяв добычу, то ли почувствовав приближение волка. Некоторое время Велло шел по следам на запад, но затем остановился, подумал и повернул назад. Сегодня эта пышнохвостая не заманит его. Иное дело, если б следы вели на восток, к Лемби. Ах, эта девушка давно уже завладела его сердцем, но разум настаивает на другом. Он все же посватается к дочери богатого старейшины Алисте и приведет домой прекрасную светловолосую девушку; она высоко держит голову и ступает так гордо, что не замечает вокруг себя людей. Тем более люди замечают ее! Да, он женится на дочери старейшины Алисте и возьмет в приданое за ней десяток коней и полсотни быков и коров. Тесть подарит ему и меч с бронзовой рукоятью, бронзовый щит, связку копий и другое оружие. А если из-за Койвы под водительством рыцарей на них двинутся крещеные латгалы или ливы, тесть не откажется выслать на помощь свою дружину. А когда-нибудь и он, Велло, станет старейшиной Алисте. Сбудется давнишняя мечта отца: собрать воедино все дружины Сакалы и, кликнув на помощь воинов из Соонтаганы, Уганди, Йыэтагузе, Мыху и Лехолы, выйти к реке Вяйне, переправиться через нее и заставить всех крещеных и даже рыцарей обменяться копьями, чтоб мир длился из века в век, чтобы каждый мог спокойно растить стада и собирать урожай с полей, чтобы прекратились наконец эти постоянные разбойничьи набеги. А то карауль здесь, на самой границе, каждую ночь, да и день, с опаской поглядывая на дорогу, — не мчится ли с копьями наперевес отряд разбойников, алчущих убийств и наживы! Сколько раз отец в сопровождении Оття или кого-нибудь из воинов, а бывало и с Велло, ходил на север убеждать старейшин стать во главе дружины, в которую он соберет всех до единого мужчин из своих селений — пусть это будет последний военный поход! Но все напрасно! И когда в конце концов, очертя голову, двинулись большим войском на Беверину, у людей, привыкших хватать добычу, не достало пылу взять это пустячное укрепление. Велло дошел до того места, откуда через молодой лес, извиваясь и петляя, шла белая широкая тропа — русло ручья, покрытое льдом и снегом. Он остановился и чуть было не пошел меж низких берегов к востоку, куда его неудержимо влекло. Но поборол свою слабость и зашагал прямо на север, туда, где вверх по пологому склону поднимался густой кустарник. Вскоре орешник стал таким густым, что Велло пришлось руками расчищать дорогу. Он остановился и усмехнулся своему упрямству. Кто-то кашлянул позади него. Обернувшись, Велло увидел Кахро — тот брел по ложбине, образованной ручьем, и хотел, видимо, обратить на себя внимание хозяина. Вероятно, есть что сказать. Велло крикнул разок "хей" и стал продираться сквозь молодой кустарник назад, к ручью. — В чем дело, Кахро? — спросил он, приблизившись. На груди парня висел пестрокрылый глухарь, его головка свесилась вниз, шея вытянулась, клюв был приоткрыт. Из клюва на белый снег медленно капала алая кровь. За спиной болталась другая птица. Ноги обеих птиц были связаны на плече у Кахро ивовым прутиком. — Кто-то унес наши силки, — сказал Кахро и криво усмехнулся, обнажив два ряда мелких зубов. — Лисица попалась в них лапой. По следу видно, что лисица. — Что ж, тот, кто унес, вероятно, оставил и следы! — ответил Велло. — Их было трое. Следы идут от селения, петляют по лесу и снова ведут в селение, — виновато сказал парень. Разумеется, Рахи со своими людьми, подумал Велло, но чтоб утешить Кахро, заметил:— В другой раз останемся сторожить на ночь... Хоть на десять ночей!.. — Когда старейшина пойдет домой, я поброжу еще по следам этой тройки, — просительно сказал парень. — Почему — когда я пойду домой? — спросил Велло и взглянул на Кахро, стараясь по выражению его лица понять, в чем дело. Тут ему вспомнилась тревога Малле: кто знает, что может приключиться в лесу, одному бродить там не стоит, — и он рассмеялся. Хорошо, он скоро отправится домой. Но чего ради еще ходить по этим следам? — Человек на ходу иной раз и обронит что-нибудь, — ответил Кахро. — Не подобает мне возвращаться домой с пустыми руками: ни дичи у меня за плечом, ни зверя, — заметил старейшина. — Бывает, что ни птица, ни зверь близко к себе не подпускают. Дух отпугивает их. Иной же раз их хоть рукой бери, а тебе и невдомек протянуть руку, ходишь, как во сне... Забирай моих птиц... Но Велло отказался взять у Кахро его добычу и сказал, что пройдет еще с полмили вдоль русла ручья, а затем лесом вернется домой. Ручей, проложивший себе дорогу через леса, лощины, заросли и луга, каждой весной снова начисто размывал свое ложе. Он безжалостно вырывал молодые ельнички и редкие осиновые кустарники, росшие слишком близко от берегов, и быстрое течение уносило их невесть куда. Только цепкий ивняк кое-где висел над водой, глубоко уйдя корнями в сырую почву. Летом воды здесь утихомиривались и медленно текли меж узких пойм, унося на своей поверхности опавший листок или сухую ветку. Теперь эти тихие воды лежали под ледяным покровом, а он, в свою очередь, был застлан таким мягким и пушистым ковром, какой не сумела бы выткать даже сестра Малле со своими служанками. Велло не хотелось выбираться из русла ручья. Оно делало едва заметные повороты, то исчезало за деревьями, то вновь появлялось. Впереди к самым берегам подступал мрачный ельник.Велло в раздумье шел меж двух темно-зеленых стен, когда со стороны селения до него донесся лай собак. Кахро со своими псами был в другой стороне... Вскоре Велло услышал и мужские голоса; они раздавались справа, оттуда, где было селение. Он уже решил выбраться из русла и свернуть в ельник, как вдруг из лесу выскочили собаки и кинулись к нему, тихонько науськиваемые кем-то. Они бросились бы на него, не подними он угрожающе копье. Окружив его, они лаяли, прыгали и лязгали зубами. Велло узнал их — то были псы Рахи. Голоса приближались, и вскоре Велло увидел трех мужчин. Рахи — впереди, следом за ним — младший брат и кто-то посторонний. У Рахи в руке было копье, а его брат держал наготове лук и стрелы. — Вот так забава! — с издевкой проговорил Рахи. — Мои псы чуть было не загрызли старейшину вместо кабана! На Рахи была глубоко надвинутая на голову желтая, дубленой кожи, опушенная серым зайцем шапка, какой здесь никто не носил, и такого же цвета полушубок, опоясанный кушаком с бронзовыми украшениями; сбоку за кушак были заткнуты длинный кривой меч и топор. Рахи не раз похвалялся, что отобрал этот меч у какого-то морского разбойника. Рыжеголовый и не думал утихомиривать псов. — Поглядим на эту забаву, — сказал он своим спутникам. Велло зашагал дальше; псы бежали теперь сзади, пытались схватить его за ноги. Он кинул в одного копье, но не попал. Рахи и его спутники злорадно расхохотались. — Отзовите псов! — приказал Велло дрожащим от гнева голосом. — Хо-хо-хо! — смеялся Рахи. — Он трусит! Сделав еще несколько шагов, Велло почувствовал, что пес потянул его за одежду. Тогда он резко повернулся и метнул копье в пса, который был поближе. Пес взвыл, подскочил несколько раз и упал на бок. Остальные со злобным визгом разбежались. Рахи, сыпя проклятия, направился к Велло и поднял копье, но тот взглядом принудил его остановиться. — Что здесь такое? — раздался позади голос Кахро, и его псы, урча, выскочили вперед. Слуга с поднятым для броска топором торопливо выходил из-за елей. — Да ничего, — ответил Велло. — Здесь со сворой собак охотятся на людей. Не глядя по сторонам, он зашагал по руслу ручья к востоку. За его спиной еще некоторое время раздавался лай собак и неслись проклятия. — И все это происходит с нами в нашем же лесу! — спустя некоторое время угрожающе произнес Велло, а затем шутливо кинул Кахро: — Ты охотишься на птиц с топором за поясом! — А у тебя меч и копья, — ответил слуга. — Пока Рыжеголовый со своей бандой разгуливает здесь, из дому иначе не выйти, — молвил Велло.XI
Еще в тот же день Кахро снова отправился в лес и вернулся лишь к вечеру, когда начались очередные хлопоты по хозяйству. По его лицу старейшина понял: пройдя по следам воров, утащивших силки, он ничего не нашел. За ночь снега не выпало, и поэтому ревностный слуга на следующее утро снова ушел в лес; под вечер двор огласился шумом и криками. Собравшиеся там слуги и служанки слушали рассказ Кахро. Потом он зашел к старейшине; в руках у него при свете горящей лучины поблескивало сломанное копье с железным наконечником. — Вот, нашел, — со скрытым торжеством сказал он. — В снегу, на том самом месте, где стояли силки. Двое слуг ходили вместе со мной. Велло обрадовался этой вести, но ничего не сказал. — На древке насечка, а наконечник, возможно, распознает кузнец. — Чья насечка, не знаешь? — Один слуга говорит, что Рыжеголового, — ответил Кахро и так широко улыбнулся от охватившего его чувства злорадства, что прищуренные глаза его превратились в узенькие щелочки. — Сразу же поди к кузнецу! — распорядился старейшина. Он поднялся с лавки и стал быстро ходить по комнате, приказав служанке, следившей за лучиной, выйти, — ему хотелось побыть одному."Теперь он у меня в руках", — повторял Велло про себя, и пальцы его сжимались в кулаки. Долготерпение отца позволило этому Рыжеголовому не в меру осмелеть. Но сейчас не отец старейшина, а он, сын! Верно, сын тоже был до сих пор чрезмерно терпелив, но теперь чаша переполнилась! Кахро вернулся, когда в доме уже ложились спать. Он принес хорошую весть: кузнец узнал наконечник копья, сделанный им для Рахи, — длинный, четырехгранный, конец отточен как у иглы. Кузнец распознал и насечку на древке копья: две стрелы на луке — метка Рахи. Велло тотчас же послал за Киуром и велел всем своим слугам, без исключения, одеться и заткнуть за пояс мечи. Еще не наступила полночь, когда двадцать человек, тихо шурша ногами по талому снегу, в полном молчании двинулись к дому Рахи. Велло шел впереди. Ему не подобало оставаться дома. Еще подумают, будто он боится этого жестокого Рыжеголового и тех, кто заодно с ним. Он взял с собой и Киура, чтобы потом никто не роптал — дескать, старейшина несправедливо обошелся с Рахи. Но на сердце была горечь — ловить по ночам воров! И это высокая обязанность старейшины!.. Он шел так быстро, что Кахро и Киур едва поспевали за ним. Все же они старались держаться поближе к старейшине, а когда подходили к дому Рыжеголового, Кахро едва слышно сказал: — Дай-ка я пройду вперед... Собаки ... В нескольких десятках шагов от дороги, у леса, за молодыми деревьями темнели строения. Двор был обнесен изгородью, на месте ворот зияла дыра. Кахро, крадучись, шел впереди. Вскоре навстречу ему, рыча, выбежали собаки. Кахро кинул им хлеба и сказал что-то ласковым голосом. Псы умолкли. Велло быстро подошел к двери дома, следом за ним — Кахро и Киур. Изнутри несся веселый гам, смех. Велло потянул дверь — она была заперта. Тогда он сильно рванул — дверь поддалась и распахнулась. На шкурах, устилавших пол, лежали пять-шестъ человек; посредине — блюда с едой и кувшины с питьем; служанка в сторонке держала в руках зажженную лучину. Рядом, без дела, стояла другая служанка с всклокоченными волосами. Увидев старейшину и нескольких вооруженных людей, все в испуге приподнялись, кто-то шмыгнул через смежную дверь в другую комнату. Первым пришел в себя Рахи; он попытался презрительно рассмеяться, но ему это не удалось, и тогда он глумливо промолвил: — Явились, незваные ... Здесь такое не терпят. У вас еще есть время убраться, пока я не взял меч. — Уйдем, когда разберемся, — резко ответил Велло. — И где были эти псы! — проворчал себе под нос младший брат Рахи. Одна из служанок быстро убрала кувшины и блюда и вышла в соседнюю комнату. Другая осталась стоять у двери с лучиной в руках. Рахи встал, его примеру последовали и те, кто пировал с ним. — Какое дело привело сюда почтенного старейшину в такой поздний час? — спросил он, дрожа от злости. Велло взглянул на своих спутников. Вперед вышел Отть, держа на ладони обе половинки сломанного копья. — Чьи это?.. Твои?.. — резко спросил он. — Мы принесли их тебе. — Такой оравой?.. Ночью?.. Так спешно?.. — бросил с иронией Рахи. Его сообщники, чтоб поддержать хозяина, скривили в улыбке губы. — Это ведь твой знак на древке копья? — продолжал Отть. Киур сделал шаг вперед и в сердцах крикнул: — Хватит дурака валять!.. Это обломки твоего копья! Их нашли на снегу, там, откуда ты утащил силки старейшины вместе с добычей... Ты вор! Подбородок Рахи начал дрожать. Он долго и в упор смотрел на Киура, словно хотел проглотить его, затем внезапно заорал: — За мечи! Рахи, а за ним и его приспешники схватили со стены мечи. И не ожидая приказа с той или другой стороны, мужчины скрестили оружие. У Велло было меньше людей, и им пришлось бы туго, не поспеши со двора на помощь трое слуг. После боя, который продолжался не так уж долго, Велло крикнул: — Бросайте мечи! Рахи кинул свой меч на пол. Одного из слуг Велло тяжело ранили, и он лежал на полу; двое приспешников Рахи валялись на лавке. Киур держался за левую руку, а Отть правой рукой зажимал бок. Велло приказал двум своим воинам унести тяжелораненого, оставил несколько человек сторожить сообщников Рахи и, захватив Рыжеголового с собой, отправился вместе со своими слугами искать силки. В соседней комнате не обнаружили ничего. Пошли в амбар и перевернули там все вверх дном. В глубине закрома лежали силки; Отть подтвердил, что они принадлежат старейшине. — Такие узлы делаю только я, а две перекрещивающиеся стрелы — это метка старейшины Мягисте! — победоносно воскликнул старый слуга. Рахи молчал и только сердито сопел. — Где ты их взял? Чьи они? — спросил Киур, держа в руках силки. Рахи зло фыркнул, но продолжал молчать. — Через три дня, в полдень, предстанешь перед старейшиной! — распорядился Велло, повернулся и вышел. Рахи попытался презрительно рассмеяться, но смех прозвучал деланно. — Ему недолго быть старейшиной в Мягисте! — донеслось со двора, когда Велло со своими людьми был уже за воротами. — Враги у нас не только за Сяде, — с горечью заметил Киур. — Как рука? — осведомился Велло. — Пустяки! — ответил сельский старейшина. — Даже неловко, люди получили раны в Саардеской битве, а я — в драке с ворами. Отть злился, что допустил ранить себя в бок. К старейшине приблизился Кахро и шепнул ему: — Ты заметил человека, который шмыгнул в другую комнату? — Вероятно, кто-нибудь из гостей, — предположил Велло. — А мне показалось, будто... Может, я и ошибаюсь ... Будто то был брат Кямби из Саарде. — Брат Кямби? — повторил старейшина. — Тот самый, который ранил Кюйвитса, когда они дрались во дворе старейшины Саарде. — Он здесь? — усомнился Велло. — Но осмелится ли он?.. Хоть возвращайся и окружай дом... — Небось, уже в лес удрал. Старейшина помрачнел. Да, это змеиное гнездо в доме Рахи досаждает ему немало. Перебить бы их всех, а дом сжечь, чтоб и следа его не осталось на земле... Но нет, старейшина должен быть прежде всего справедливым, терпеливым, очень терпеливым. Тоска по Лемби не давала ему покоя, но он не хотел идти к Ассо до тех пор, пока не разберется с Рахи. Тем более, что он слышал, будто Рахи несколько дней тому назад навестил Ассо, просидел весь вечер с отцом и дочкой, ел там и пил мед... Что ж, тут ничего не скажешь, не подобает плохо встречать гостя, хоть и явился он незваным. С гостем надо быть обходительным, даже если он и не по душе тебе. "Посмотрим теперь, как Ассо станет вершить суд над своим гостем!" — ухмыльнулся про себя Велло. На третий день утром он отправился в лес и, держа стрелу на тетиве, бродил до тех пор, пока тени на земле не стали совсем короткими. Возвратясь домой с тощим зайцем за плечами, он увидел во дворе трех сельских старейшин — Киура, Кюйвитса и Ассо. Ждали остальных, хотя и сомневались, придут ли. Они всегда получали от Рахи подарки, и никто из них не отваживался сказать ему хоть слово наперекор. Все вошли в дом. Солнечные лучи, проникавшие в комнату, достаточно освещали ее. Рассевшись на лавке по обе стороны от окна, стали ждать, изредка переговариваясь и прислушиваясь к голосам на дворе. Виновный не появлялся. Не в силах усидеть на месте, Велло вышел во двор, глянул в направлении ворот, а затем прошел на нижний двор, к конюшне, откуда как раз выводили лошадей. Он ласково потрепал их, покормил из рук сеном, погладил по голове. Вернувшись на верхний двор, он услышал от Оття, что ни один из виновных еще не прибыл. Тени меж тем стали уже на шаг длиннее. Наконец за воротами раздались грубые мужские голоса. Отдав Оттю необходимые распоряжения, Велло прошел в комнату, к сельским старейшинам. На дворе довольно долго шла перебранка. Рахи требовал, чтоб ему оставили все оружие и вместе с братом и слугами пустили к старейшине. Слышно было, как Отть громко рассмеялся в ответ: уж не собираются ли они драться! В конце концов, обезоруженный, в блестящем шлеме на голове, в балахоне, опушенном лисьим мехом и перехваченном поясом с бронзовыми украшениями, в ноговицах с завязками из серебряного шнурка, в комнату старейшины с брезгливым выражением на багровом, обрюзглом, изрытом оспой лице вошел Рахи в сопровождении Оття и Кахро. Его подвели к старейшине. Отть и Кахро, обнажив мечи, встали по сторонам. Велло взял лежавшие в углу на лавке половинки копья, показал старейшинам и пояснил, где их нашли. То же самое он проделал с силками, обнаруженными в амбаре Рахи. Отть и Кахро засвидетельствовали, что вещи эти принадлежат старейшине. Кликнули со двора еще двоих слуг — они ходили в лес осматривать то место, оде нашли сломанное копье, — Как это попало к тебе? — резко и сухо спросил Киур, показывая на силки. — Не знаю, — равнодушно ответил Рахи.— Чего там — дело ясное! — произнес Кюйвитс и взглянул на Ассо. Тот сидел сгорбившись, слегка приоткрыв рот, и даже не поднял глаз. — За кражу силков из лесу всегда сурово наказывали, — заметил Киур. — Что скажет Ассо? Пожилой старейшина вздрогнул, провел рукой по щеке, облизнул губы; казалось, он подбирал слова. — Силки украли у Велло, поэтому он не может сам определить наказание, — заметил Киур, когда молчание стало тягостным. — Виновный должен отдать корову — так повелось с давних пор, — молвил Ассо, глядя в пол. — Я слышал — двух, — отрезал Киур. — На этот раз пусть будет одна, — заметил Кюйвитс. — И кому же она достанется? — спросил Киур у Ассо. — Старейшине... на сей раз... Его силки... — ответил Ассо, не поднимая головы. — Пусть достанется кому-либо из бедняков, — сказал Велло. — Но корову виновный должен привести сам. Рахи усмехнулся и отвернул лицо. — А рана Киура ... Да и того воина... не так ли? Вот и Отть... — Воин лежит, — сказал Отть. — И пролежит еще долго. — И ты ранен, — заметил Кюйвитс. — Это пустое! — молвил Отть. — У Киура рана серьезнее. — Моя рана — что, — ответил Киур, — а вот воину надо присудить одну корову или четырех овец. Не так ли, Ассо? Или мало?.. Ассо чувствовал себя неловко. Он в смущении заерзал, а затем сказал: — Пусть будет одна корова. — Ее тоже надо привести во двор к старейшине! — отрезал Киур И, помолчав, добавил: — Этот человек должен покинуть наши места!.. Иначе никому здесь носа на улицу не высунуть... Кахро рассказывал, как он угрожал старейшине. — Кто боится, пусть сидит дома, — с издевкой произнес Рахи. — Боимся стрелы из-за угла, — сердито ответил Киур. — А теперь скажи: кто этот посторонний, что сидел у тебя в тот вечер? — Какой такой посторонний? — спросил Рахи, забыв на этот раз притворно улыбнуться. — Тот, кто сразу же улизнул в другую комнату... Не был ли то брат Кямби из Саарде? — спросил Велло. — Я не допытываюсь, кто ходит к тебе в гости, — ответил Рахи, беря себя в руки. — Если кто-либо укрывает здесь врагов, будь они из-за Койвы или из других мест... его постигнет та же участь, что и Кямби! — крикнул Велло. Рахи уже обрел спокойствие, на его лице играла глумливая усмешка. Старейшины смотрели друг на друга: что же будет дальше? — Не лучше ли сделать так: виновный останется во дворе старейшины под стражей, а слуги тем временем сходят к нему домой и приведут коров? — спросил Кюйвитс и поглядел на Ассо. — Верно! — одобрил Киур. Велло тоже согласился с этим предложением. — Не хочешь ли сказать еще что-нибудь? — обратился он к Рахи. — Только то, — ответил Рыжеголовый, — что y нас в Мягисте нет старейшины и нет справедливости! Ассо, а не какому-то мальчишке, подобает быть нашим старейшиной. Ассо в смущении заерзал на лавке. Велло встал и велел вывести Рахи. Сам он пошел следом за ним, чтобы не оставаться с Ассо. Старейшины тоже поднялись и вышли.***
Вместо коров младший Рыжеголовый еще до наступления вечера принес пять кусков серебра и десять ногат. Велло принял их, после чего велел освободить Рахи из-под стражи и отпустить домой.XII
Лейни уже настолько оправилась, что могла ходить в лес к Рийте. Велло это не нравилось. Однако он не решался запретить ей, тем более что Лейни все еще была слаба, чрезмерно серьезна и углублена в себя и, казалось, не замечала ничего, что происходило вокруг. В темно-серой, доходившей до земли одежде, в черной шали на плечах и желтом, цвета одуванчика, платке на голове, с отсутствующим, ничего не видящим взглядом,, Лейни двигалась медленно, словно дух. Однажды, когда сестра, закутавшись в одеяло, сидела на бревне у дома и грелась на солнышке, Велло увидел нечто такое, что в первое мгновение приковало его внимание, а затем рассердило и даже разгневало. Над изголовьем ложа, устроенного для Лейни, на закопченном бревне стены вместо черепа ее сына висело потускневшее бронзовое распятие. Такое же Велло видел у крещеных ливов и латгалов, когда ходил в их земли. Распятия там украшали внутренние стены жилых комнат, он видел их и на груди у некоторых женщин. Нечто похожее носили и патеры на своих черных балахонах. Это и есть тот могучий дух, которому молятся крещеные, которому поклоняются,— жалкий и замученный, пригвожденный за руки кресту! И вот теперь Лейни принесла его изображение сюда, в дом старейшины, и повесила на стену! Конечно, она взяла его у крещеной хромой. Сорвать бы его со стены и кинуть в огонь. Но сестра еще так слаба и горе ее так велико, что Велло не решился на это. И все же сердце его бушевало, и он жалел, что нет под рукой Рийты, на которую можно было обрушить свой гнев. В тот день он не выходил из дому, и когда Лейни осталась одна, прошел к ней в комнату и осведомился о здоровье. — Я здорова, только немного притомилась после долгого пути, — тихо и медленно, как человек, который уже не принадлежит к этому миру, ответила сестра. — Ты ходишь к Рийте, да и она частенько бывает здесь, — продолжал брат, подавляя раздражение. Глаза Лейни оживились, и, скрестив руки на груди, она сказала: — Сам великий господь послал ее мне. — Великий господь? — переспросил Велло. — Уж не говоришь ли ты о боге, которому поклоняются патеры и которого рыцари навязывают нам мечом? Оконный притвор был отодвинут наполовину, и в комнате стоял полумрак. Лейни сидела в углу на лавке, прислонившись спиной к стене, над ее головой висело распятие. Поглядев на него, а затем обратив глаза к небу, словно завороженная, она ответила: — Я говорю о том боге, который создал небо и землю и все, что мы видим. И нас самих. Если мы будем верить в него и жить в смирении, то он возьмет нас к себе на небо. Там я увижу своего сына, и никто уже не разлучит нас. Велло, растерянный, сидел напротив сестры. Вздохнув, он сказал ей, как говорят больному: — Разве ты не слышала, что постигло ливов? С них взимают огромную дань, заставляют строить крепости и воевать. Они — рабы рыцарей и патеров. — Да, я слыхала об этом, — тихо и умиротворенно ответила Лейни. — Но страдания на благо тем, кто верует в бога и его сына. — В бога и его сына?! — гневно воскликнул Велл. — Сын принял за нас смерть на кресте, — спокойно и терпеливо ответила Лейни.— За нас? Когда же это было? — Очень давно. Тысячу лет тому назад. Или еще больше. — Нас ведь тогда и не существовало... Это так ... Пойми же! — Я еще не все понимаю, — ответила сестра. — Вот жду, просохнут дороги, и тогда придет патер, он все разъяснит. А до тех пор буду молиться. — В этот дом патер пусть не суется! — в ожесточении крикнул Велло и вышел. Но вскоре он пожалел о своей несдержанности. Ведь ясно же, что Лейни больна душой. Ничего, постепенно она оправится и поймет, кто из людей и богов — ее враги. А хромой Рийте Отть, сестра Малле или кто-нибудь из служанок могут сказать, чтоб приходила сюда пореже и не смущала больную Лейни своими сумасбродными речами.***
Весна меж тем быстро приближалась, словно чувствовала себя виноватой за небольшое опоздание. Снег на холмах растаял, и они почернели. Южные склоны возвышенностей обнажились, а ледяной покров на ручьях стал ненадежным. В полдень старики и старухи выходили во двор и грелись на солнце; с утра до вечера не смолкал шум детских голосов. Мужчины рубили лес под пожогу. Детей теперь часто можно было видеть играющими на больших штабелях бревен, за рябинником. Они прыгали и резвились там, радостно галдя, словно птичья стая. Бревна эти были свезены туда уже год назад и, окоренные, сохли. Нынешним летом из них должны построить новый дом для старейшины — просторнее и выше прежнего, с несколькими большими комнатами. Дороги близ ручьев были непроходимы, и поэтому люди спали по ночам спокойнее и даже на время сняли охрану.Велло скучал. Бродить по лесу было тяжело, да и не к чему. Наст с хрустом ломался под ногами, и хруст этот отпугивал зверя и птицу далеко окрест. Следов на этой тонкой ломкой корочке было не разобрать, да и все равно далеко по ним не уйдешь. На ручьях местами уже выступила вода, темнели полыньи. Тревожно шумели леса, и уже свистели и чирикали в них птицы. И все же Велло с луком через плечо и пучком стрел, подвешенным к поясу, уходил в лес. Здесь он был наедине с собой и мог предаваться своим мыслям. Чаще всего его мысли останавливались на Лемби и на гордой дочери старейшины Алисте, которую он видел, когда ходил туда вместе с отцом, Вот перед его глазами — Урве. Она стоит во дворе возле хлева, уперев в бедра сильные руки; синие, узорчатые концы широкого платка лежат на спине, льняные волосы на гордо вскинутой голове растрепались. Она стоит и громким голосом отдает приказания слугам и служанкам. Урве недурна собой и к гостю, в особенности к Велло, во сто раз приветливее Лемби. Три дня провел он прошлым летом в Алисте и просто утопал в радушии, с каким его встретила Урве. По годам она старше Велло — покойный отец не раз твердил ему это. Но зато его тестем был бы старейшина Алисте, правитель крупного кихельконда, и, кто знает, может быть, после его смерти Велло стал бы во главе Алисте и Мягисте; он мог бы собрать большую дружину, позвать и других старейшин Сакалы или даже всех тех, кто правит от моря до Пейпси и от Уганди до Рявалы, и вместе с ними разрушить все укрепления, построенные на берегах Вяйны, и заставить рыцарей, латгалов, ливов и даже селов сохранять мир. Но тут перед его взором возникает Лемби; вот она идет, и ее волосы цвета спелой ржи мягкими волнами ниспадают из-под белого платка на плечи. Тело у нее стройное, руки словно точеные. Внимательно следит она за работой служанок, тихим голосом дает им указания, спешит туда-сюда, чтоб помочь, а если надо — и сама приложит руки. А вот она идет навстречу Велло, в задумчивых глазах едва заметный радостный блеск, в уголках губ — улыбка. Велло отгоняет от себя мысли и о той и о другой девушке, берет в руки лук, достает стрелу и глядит меж стволов вверх. На буром суку, задрав пушистый хвост, сидит белка. Зверек перестает лущить прошлогоднюю шишку и испуганно смотрит в сторону пришельца. Велло натягивает тетиву, но не отпускает ее, смотрит на светло-желтую грудку притаившегося на ветке зверька... и стрела остается в его руках. Пусть ещё поживет сегодня! На память приходит Рыжеголовый; он словно отвратительная сороконожка, ползающая по спине, — не дает покоя ни днем, ни ночью. Не отделаться от него, не прогнать и не убить, потому что не подобает старейшине быть несправедливым! Полдня побродив по лесу, Велло возвращается домой, где его ждут бедняки и жалобщики. Во многих семьях его селения, особенно в тех, которые живут в убогих шалашах на лесной опушке, уже нет хлеба, нет и соли, чтоб есть принесенную из лесу добычу. Приходят к нему и хозяева с жалобой на подравшихся слуг, приходят слуги, чьи хозяева были к ним несправедливы — били их или не давали есть. Глядя вдаль, поверх голов жалобщиков, Велло слушает их, стараясь по голосу определить, правду ли они говорят. И только когда почувствует, что человек кривит душой или явно врет, посмотрит ему прямо в глаза и пристыдит. Выслушав жалобу, Велло, по примеру отца, который никогда не принимал решения сразу, не подумавши, обещает дать ответ позже. Старейшина выслушивает жалобы, стоя во дворе либо сидя на скамье у стены дома и греясь на солнце, а то и в комнате, если не хочет, чтоб разговор слышали другие. Дела не столь важные решают старейшины селений, но если люди с их решениями не согласны, справедливости и поддержки ищут у Велло. Сельские старейшины нередко и сами приходят к нему за советом и за помощью, когда не могут сладить с упрямцами и непокорными. Еще за несколько лет до смерти отца Велло собирался первым делом укротить Рыжеголового и запретить колдовство. Но еще прежде, чем умер отец, раненный под Бевериной, подняли голос все недовольные, и особенно те, кто не имел права что-либо требовать, но надеялся получить от старейшины всякие поблажки и дозволение жить от щедрот селения и кихельконда. А теперь Рахи своевольничает еще пуще, колдунья озорует еще лютее и требует, чтобы ей все больше угождали, и все больше становится жалобщиков и ищущих справедливости...***
Однажды утром, когда Велло уже был одет — в балахоне, в меховых ноговицах, обтягивающих ноги, и в постолах, — в комнату к нему вошла Малле. — Ты должен поговорить с колдуньей, — озабоченно сказала сестра, — я не в силах больше слышать жалоб и сетований на нее и на ее наговоры. Хозяйская дочка, что живет по соседству с нами, внезапно заболела и вчера слегла. У дочки другой хозяйки уже давно лишаи на лице. У кого корова на ноги не встает, у кого волки пробрались ночью в хлев и задрали овец. Так не может продолжаться! Со всех сторон все жалуются. Колдунья никого не боится. — Я сам немало слыхал об этом, — ответил брат. — Но и ты щедро одариваешь колдунью, пытаешься жить с нею в ладу. Напрасно люди обвиняют во всех своих невзгодах и бедах эту дряхлую старуху. Как будто девушки и коровы не болели бы, не будь ее проделок! Ладно, я все же поговорю с ней.XIII
Как-то ветреным вечером, когда с юго-запада на северо-восток неслись бурые тучи, словно преследуемое охотником стадо оленей, и серебряный серп молодой луны то тут, то там мелькал из-за темных облаков, Велло и Кахро окольной лесной дорогой отправились к хижине колдуньи. Они притворились, будто заблудились и случайно забрели в эти места. Перед ними темнел низенький домик — вокруг не видать, не слыхать ни души. — У нее пес, — предостерег Кахро и, пригнувшись, пошел вперед. Из-за угла дома, со свирепым рычаньем, выскочила злая собака и кинулась на пришельцев. Кахро простер вперед руки, правой начертил в воздухе полукруг и принудил пса отбежать в сторону. Лай перешел в жалобный вой, а затем в едва слышное повизгивание. Кахро, согнувшись и вытянув руки в сторону пса, произносил какие-то заклинания. Потом он выпрямился и сказал: — Можно идти. Дверь избушки распахнулась, и из нее вышла темная взъерошенная фигура. Старуха взглянула на поздних посетителей и что-то проворчала. — Вот, идем из лесу, — сказал Кахро. — Это старейшина Велло. — Какой старейшина бродит так поздно по лесу, — пробормотала старуха. — Встречаешь гостей не лучше, чем твой пес, — произнес Велло. — Добрый человек ходит днем, волк рыщет ночью. — Ладно уж, пусти передохнуть, — попросил Кахро. Не говоря ни слова, колдунья повернулась и вошла в избушку. Кахро и Велло — следом. Чад и едкие запахи ударили им в нос. На дне ямы, вырытой в земляном полу, еще тлели угли; колдунья раздула их, зажгла лучину и воткнула ее в щель стены. Когда пламя разгорелось ярче, Велло схватился за нож — рядом, протянув к нему оскаленную морду и передние лапы, стоял медведь. Старейшина замер, но, увидев, что зверь неподвижен, понял: перед ним не что иное, как чучело медведя. В тот же миг кто-то прыгнул на него, обхватил лапами и прижался холодным носом к руке. Кто-то другой с силой ткнул его в ногу. Это оказались два, ростом ему по колено, бурых медвежонка с лохматыми мордами, маленькими хитрыми и одновременно любопытными глазками. В углу поднимался на задние лапы матерый серомордый волк со свалявшейся шерстью. Волк сердито зарычал, лязгнул зубами, но не кинулся — он был на привязи. Колдунья топнула ногой о земляной пол, зверь снова улегся и начал языком облизывать нос. На жердях захлопали крыльями совы, и что-то зашуршало в корзине возле печки. На стене, над оконным проемом, висел человеческий череп — чернели пустые глазные впадины, зубы были оскалены. Колдунья, очевидно, нарочно долго возилась у очага и даже зажгла две лучины, чтобы гости могли осмотреться в комнате. Она не заметила, как Кахро, глядя в глаза животным, чертил перед каждым круги, пересекая их прямой линией. Когда, обернувшись, колдунья увидела, что ее звери, поджав хвосты, жмутся по углам и стенам, она сердито забормотала, и ее запавшие, обведенные черными тенями глаза метнули на Кахро угрожающий взгляд.
Черные, завязанные узлом космы свисали с затылка старухи, подобно конскому хвосту. Крючковатый подбородок выдавался вперед, губы, хотя и мясистые, не прикрывали редких зубов, которые все еще держались во рту, но были настолько кривы и косы, что казалось, будто всадил их в челюсть какой-то недотепа. На плечи старухи была накинута черная шаль, из-под которой виднелись длинные, кривые, утолщенные на концах пальцы рук, сложенных на груди. — Крепкий дух здесь у тебя, — промолвил Кахро. Старуха засопела носом, как лошадь, и не ответила. У Велло закружилась голова, и он опустился на каменную скамью. — Народ жалуется, что насылаешь много хворей и бед, — сказал он старухе, как говорят ребенку, который набедокурил. Старуха отвернулась и занялась лучинами. — Так ли это? — уже громче спросил старейшина. — Люди сами навлекают на себя беды, хвори и напасти, — враждебно ответила старуха. — Не тем ли, что малоподарков тебе носят? — колко заметил Кахро. — Не ходила я ни попрошайничать, ни требовать, — проворчала старуха. — А если не проведывают тебя — злишься, — заметил старейшина. В углу сердито зарычал волк — медвежата подошли к нему слишком близко. — Не можешь ли ты на ночь отправить это звериное отродье в хлев? — спросил Кахро. — Когда прикажешь отправить? — с издевкой осведомилась старуха. — Большой спешки с этим нет, — в том же тоне ответил Кахро. — Я лишь спрашиваю... В голове мутится. Сперва лишаешь человека разума, а потом делаешь с ним, что хочешь. Кахро тоже опустился на скамью и потер лоб.— Со зверьем справимся, — сказал старейшина. — А вот придет какой-нибудь злой человек и запалит тебе крышу, а до того еще припрет бревном дверь твоей лачуги. — За это ответит старейшина, — проворчала ста- руха. — Я не могу дать тебе людей для охраны и поэтому предостерегаю, — сказал Велло. — Лучше живи со всеми в мире. — В прошлом году рассказывали, как на границе Уганди сожгли одну колдунью, — вмешался Кахро. — Заложили дверь хворостом и подожгли лачугу. Крыша уже обвалилась, как вдруг раздался страшный треск и над деревьями разлетелись искры. Это лопнул живот у колдуньи. А мужчины и женщины вокруг кричали: поделом ей! — Пусть приходят, пусть! — с угрозой произнесла старуха. — Посмотрим, у кого живот лопнет раньше! Но и Велло, и Кахро заметили, что угроза эта была напускной и что старуха потеряла хладнокровие. — Не покажешь ли ты теперь старейшине, что ждет Мягисте нынешним летом, — дружелюбно, как к своему человеку, обратился к ней Кахро. — Наказание свыше, засуха или сильный град? А может быть, придут грабители из-под Асти или из-за Метсеполеских лесов? Но старуха все еще не могла успокоиться после рассказа Кахро. — С каких это пор, — сетовала она, — человек не может спокойно спать под собственной крышей? На что тогда в каждом селении сидит старейшина, да и в Мягисте тоже. Пусть пекутся о том, чтоб сосед не мог поджечь ночью крышу соседу. — Старейшины должны заботиться и о том, чтобы один человек не чинил зла другому, — ответил Кахро. — Не насылал ни хворей, ни бед. Велло меж тем глядел вверх. Под навесом было сумеречно, там чернели закопченные доски. Но вскоре Велло стал различать наверху звериные морды, разинутые пасти, оскаленные зубы, готовые вот-вот схватить добычу. На Велло глядели медведи, волки, лисицы, рыси, хорьки, а под самым гребнем крыши, на жерди, поджав лапы, сидели пучеглазые совы, черные, как уголь, вороны и ястребы с крючковатыми клювами. В когтях одного из них, свернувшись в два кольца, висела гадюка. "Все здесь, чтоб напугать робкого человека", — подумал Велло. На огне лучины старуха жгла какую-то траву, от нее шел дурманящий запах и валил густой серый дым. — Еще задохнешься тут, — проворчал Кахро. Старуха выкатила на середину комнаты обрубок бревна и усадила на него пришельцев. Затем велела им пристально смотреть вверх, под стреху, сама же с лучинами в руках встала за их спинами и, затушив одну из лучин, начала быстро шептать какие-то заклинания. Велло, с отвращением вдыхая едкий запах трав, старательно всматривался в синий дым, пытаясь что-либо разглядеть. Но ничего, кроме серо-сизого чада, он не видел. Старуха взяла стоявший у стены сосуд с водой, поставила его перед собой, нагнулась над ним, поглядела и затем монотонным голосом стала бормотать: — Зарево поднимается. Народ бежит. Словно ветер и буря подгоняют его. У женщин на руках дети, пожитки. Мальчишки и девчонки — впереди. Старухи и старики ковыляют сзади... Все кричат и воют. Одежда наброшена на них кое-как. Кони мчатся, в седлах — мужчины с поднятыми пиками... Навстречу всадникам пешие... Сверкают мечи, летят пики и копья, топоры и булавы. Кони топчут людей, над домами взвиваются языки огня. Весь небосвод пылает. Вижу, как рубят мечами полуодетых женщин с детьми на руках... — Довольно! — произнес Велло, встал и настежь распахнул дверь. — Одуреешь здесь! — Любая бесстыжая старуха может наболтать нам то же самое без дыма и вони, — сказал Кахро и тоже встал. — Давай сюда ведро! — Кахро взял ведро, сел перед ним, трижды стукнул ногой о пол, закричал филином, пронзительно засвистел и начал быстро произносить заклинания. Он бормотал так быстро, что слов было не разобрать. Время от времени он пальцами чертил перед старухой круг, а затем, пристально глядя на воду, начал говорить более отчетливо: — Вижу жилы на высохшей шее... Длинный подбородок ... Редкие зубы... рот раскрыт... Волосатая мужская рука со скрюченными пальцами хватает за шею... Душит... Глаза выпучены... — Знаю твои проделки, — сказала старуха с деланной усмешкой. — Будто я не знаю твоих, — весело ответил Кахро. — Мы квиты! Старуха облизнула губы и отвернулась. Велло сунул руку за пазуху и вытащил оттуда серебряный кружок. Протянув его старухе, он миролюбиво сказал: — Это тебе за труды. Но не пугай народ. Старуха схватила кружок костлявыми пальцами, проворно сунула его за пазуху, утихомирила заворчавших зверей, вышла во двор проводить гостей и даже уговорила пса не поднимать лай. — Запугивает и все, — сказал Велло, когда они темным лесом возвращались домой. — Бессовестная старуха! — отозвался Кахро. — Моя мать знала куда больше. — А могла она насылать хвори и беды? — спросил недоверчиво Велло. — Она могла лечить хвори, — уклончиво ответил Кахро. Он, видимо, не хотел распространяться об этом. Серебряный серп луны проглядывал между бегущими облаками, на ветру весенней ночи шумел лес, качались верхушки деревьев, кричала ночная птица. Велло не верил предсказаниям старухи, но в своем воображении он видел бегущий народ, видел мчащихся всадников с выставленными вперед пиками, видел дым и огонь, поднимающийся над крышами домов... Весь южный небосклон был охвачен кро- ваво-красным заревом... Слова старухи все же встревожили его.
XIV
Выйти в поле было еще нельзя, ноги глубоко увязали в размокшей земле, у камней и пней лежал снег. В лесу тоже еще не подсохло, и поэтому никто не ходил туда, не расставлял силков, не бил зверя и птицу. Не пробраться было к ручьям и рекам. Вода вышла из берегов, затопила сенокосы и поймы, вырывала в узинах деревья из песчаных откосов, размывала склоны холмов и, озорно кружась в омутах, мчалась дальше, сама не зная куда. Когда светило солнце, все от мала до велика выходили на двор. Мужчины кормили и начищали лошадей, чинили сохи, бороны, мотыги; женщины, сидя возле дома, вышивали, плели, шили или вязали; дети резвились и играли. Там и сям на дороге, где было посуше, стояли мужчины и рассуждали о пахоте, севе, о пожоге. Велло радовался победному шествию солнца; стоя на дворе, он смотрел на небо, на высокие облака, которые, подобно огромным снежным хлопьям, неслись с северо-запада на юго-восток, на стаи журавлей, с курлыканьем пролетавшие с юга на север над лесами Алисте и Сакалы. Все это рождало в душе беспокойство, звало куда-то, но дороги еще были залиты водой, да и земля в лесу не просохла — не побродишь там с луком за спиной и пучком стрел у пояса. Нечего было думать и о том, чтобы жечь лес под новую пашню или выйти в поле.Порой Велло присаживался к Лейни на обтесанное брёрно у стены дома, и они время от времени перекидывались словом-другим. Лейни вышивала платок либо вязала пояс. Она работала неторопливо, сосредоточенно, и усердно, как привыкла работать всегда. Она проявляла беспомощность и неумение лишь тогда, когда требовалось сделать что-либо по хозяйству, особенно же в поле, но зато никто лучше ее не мог расшить пояс или платок. Сейчас голова ее была повязана белоснежным платком без единого узора и ни одна точечка не расцвечивала серой шали на ее плечах. Лицо Лейни казалось почти таким же белым, как платок, а взгляд был словно завороженный. Временами губы ее шевелились, и она шептала слова, которым научила ее хромая Рийта. Лейни больше не грустила, не плакала и даже казалась радостной. Но то была неземная радость, она была вызвана не солнцем, не запахами земли или ельника, которые порой доносил сюда ласковый ветерок. То была радость от чего-то такого, чего не видели и не понимали другие, — от общения с кем-то, кто был из другого мира и чье присутствие ощущала она одна. Велло, а также Малле и Вайке оберегали Лейни. Никто не напоминал ей ни о Кямби, ни о погибшем сыне — Велло строго запретил это. Череп со стены Лейни сняла сама, как только узнала от Рийты про новое учение. Ей, бедняжке, сейчас не так горько, — постепенно она забудет тот страшный вьюжный вечер, когда волки отняли у нее единственное сокровище — сына. Мало-помалу забудет и обиду, нанесенную ей Кямби и чужеземной девкой. А потом забудет и новое учение, откажется от него, снимет крест и выкинет из головы этого чужого распятого бога. Так думал Велло. Во дворе, на косогоре, где уже было сухо, слуги и жившие по соседству мужчины занимались под руководством Оття военными упражнениями. Брали горбыль, втыкали его в землю, углем рисовали на нем лицо и глаза рыцаря, обозначали щели в местах соединений лат, а затем, с другого конца двора, стреляли из лука, и Отть одобрительно похлопывал по плечу каждого, кто попадал в цель. Стрела, описав по двору дугу, со стуком вонзалась в еловую доску и какое-то время еще раскачивалась вверх и вниз. Велло сам охотно участвовал в этих упражнениях. Даже кое-кто из девушек состязался с мужчинами в стрельбе из лука, и иные не уступали им. Самой ловкой была Вайке, она попадала в цель так точно, что порой оставляла позади себя даже Кахро. Иногда во двор приносили копья, топоры и дубины и тоже кидали их в рыцаря. Приходили упражняться мужчины и из других селений. Когда они пускали стрелы или метали дубины, топоры и булавы, в каждом пробуждалось желание ворваться на коне во владения врага, атаковать его, послать вдогонку удирающим метательное оружие, захватить добычу и доставить ее домой. — Когда отправимся? — спрашивали они у Велло, пытаясь на бесстрастном лице старейшины прочитать его мысли. Не у одного воина разожгла боевой дух победа над Кямби; многие жаждали снова совершить такой же набег. Но Велло, как старейшина пограничного кихельконда, должен был сохранять мир, и если и видел в своем воображении полет стрел и копий, слышал звон щитов и мечей и боевой клич воинов, то одно он знал твердо: пусть война, но только для того, чтоб не прислушиваться по ночам к лаю собак — не враг ли проник в деревню? Чтоб не глядеть днем на дорогу, что ведет к границе, — не мчится ли оттуда отряд захватчиков? Чтобы не повторилось того же, что случилось пятнадцать лет назад, в самый разгар зимы. Правда, и тогда люди охраняли большую дорогу близ Сяде, ведущую из-за Койвы в Сакалу, но под покровом ночи их либо перебили, либо загнали в лес. Враг ворвался на конях, основные его силы сразу же двинулись на север, а другая, меньшая часть войска повернула на Мягисте. Здесь в тот раз обошлось легче обычного — большинству жителей благодаря счастливой случайности удалось спастись. Видимо, чтоб не дать людям уйти в леса и угнать туда скот, враг предпринял набег сразу же после сильной метели. В первое селение вражеский отряд проник незамеченным. Оставив там менее десятка человек грабить, он поспешил дальше. Но какой-то парень из первого селения опередил врага, — не успев как следует одеться, понесся к Ассо с вестью о грозящей опасности. У въезда в селение врага постигла неудача. Лес в этом месте с обеих сторон подступал к самой дороге. Тут намело глубокие сугробы и только узенькая тропа вилась посередине. И вот под одним из всадников упала лошадь. Остальные на полном скаку налетели на нее — свернуть с тропы было трудно, почти невозможно, потому что снег доходил лошадям до груди. Началась свалка, и прошло немало времени, прежде чем освободили дорогу и смогли двинуться дальше. Парень тем временем разбудил людей, тотчас послали гонцов в другие селения. Ассо же, спешно собрав несколько десятков человек, вооруженных копьями и топорами, притаился с ними за домами. Всадники, мчавшиеся впереди, были сбиты с коней, остальные повернули назад. Вскоре они вернулись с подкреплением и ворвались во дворы и дома. Ассо со своими воинами отступил в лес, где укрылись женщины с детьми. Над деревней заполыхали красные языки пламени. Старейшине удалось собрать большой отряд, и на краю дороги произошло сражение. Большинство врагов пало, остальные разбежались. Они успели поджечь всего три селения, добычу же, убегая, побросали, не угнав ни людей, ни скот. Велло хорошо помнит эту ночь, помнит сумятицу, начавшуюся в доме старейшины, когда гонец крикнул: — В деревне враг! Спасайтесь! Полуодетые служанки с воплями кинулись во двор, где отчаянно лаяли собаки, слуги устремились в лес, схватив первое, что попалось под руку, дети плакали, коровы, которых выгоняли из хлевов, мычали ... Старейшина же велел бить в щиты, трубить в трубу и созывать людей.Велло, сперва тоже выскочивший во двор полунагим, вскоре устыдился своей трусости, побежал в дом, оделся, схватил со стены оружие и встал рядом с отцом, чтобы подбодрить воинов. В течение всей битвы он держался поблизости от отца, дивися его спокойствию и недоумевал, почему так дрожат его собственные руки и копье не попадает в цель. Южная часть Алисте пострадала в тот рaз гораздо больше. Многие селения там сожгли дотла, скот увели, женщин и детей загнали далеко в лес, мужчин поубивали в домах, дворах и тайных убежищах. Грабители не пошли дальше, и отец Велло сожалел об этом. Если бы они дошли до Вильянди или Харью, то и там народ поднялся бы, чтоб отомстить врагу, и, возможно, в свою очередь дошел бы до Вяйны, а то и дальше. А так собрали лишь несколько сот воинов из южного Алисте и Мягисте и отправились грабить Трикатуа, Толову и Росолу. Там, правда, убили немало воинов и захватили богатую добычу, но припугнуть этим дальние вражеские земли и обеспечить мир не удалось. А потом, лет пять назад, зимой произошло это страшное нападение литовцев, которые проникли в южную Уганди и Сакалу, побывав также в Мягисте. Охраны на большой дороге Вынну — Сакала не было, и враг, не встретив сопротивления, перешел ночью границу и обрушился на селения, — люди думали лишь о том, чтобы спасти свою жизнь. Враг жег, грабил, убивал, угонял скот, забирал в плен самых красивых девушек. После его ухода пришлось звать в Мягисте поселенцев с севера, приводить скот и лошадей. Позже из Риги пришла весть: немцы перебили всех литовцев и забрали себе их добычу, хотя раньше любезно пропустили их на север. Не пощадили и пленных, захваченных в Уганди и Сакале. После этого бояться литовцев уже не приходилось; тем более следовало опасаться коварных немцев и их крещеных пособников.***
Надеясь вблизи Лемби забыться от мыслей о прошлом и настоящем Мягисте, Велло однажды вечером отправился к Ассо, несмотря на то, что перебраться сейчас через ручей было трудно. Встретив во дворе служанку, он спросил, где старейшина селения, хотя ему не терпелось знать, где Лемби. Служанка провела Велло в комнату и даже помогла ему открыть дверь. На лавке сидел Ассо, рядом — Рахи, между ними стоял кувшин пенящегося меду. Велло понимал: сельский старейшина должен быть обходительным с гостями — будь этим гостем Рахи или кто другой, похуже его. Что поделаешь, Велло пришлось тоже сесть на лавку и выпить из того же кувшина. Закончив вечерние хлопоты по хозяйству, в комнату вошла Лемби; она одинаково приветливо поздоровалась с обоими гостями и пообещала вскоре принести поесть. Но Велло отказался от угощения, сославшись на то, что пришел по делам и должен сейчас уйти. Он, мол, пришел узнать, как с семенами, имеется ли в запасе столько, чтоб одолжить жителям какого-либо другого селения. Ассо ответил, что кое-кому он уже пообещал. Тут Рахи с притворной любезностью поспешил предложить семян взаймы. Но так как у него самого маловато, он добудет на стороне — ничье поле не должно остаться к лету незасеянным. "Да, конечно! — думал Велло. — Рахи — тот благодетель, который добудет семена за серебро, невесть где и у кого награбленное! Уж он позаботится о том, чтоб ничье поле не осталось летом незасеянным!" Вскоре Велло ушел, сказав, что дома его ждут неотложные дела. — Пусть старейшина не беспокоится, — наставительно произнес ему вслед Рахи, обнажив в глумливой усмешке желтые клыки. — Пусть только прикажет — все будет сделано. Лемби вышла во двор проводить Велло и была, как всегда, приветлива, напомнила ему, что мостки через ручей шаткие. "И чего это он шляется сюда!" — чуть было вслух не возмутился старейшина. Но кто дал ему право высказываться о гостях Ассо, хоть он Велло, и старейшина Мягисте?! Разве он жених Лемби? Пока еще нет. Все думают, что летом либо осенью, когда воды скует льдом, он посватается к Урве — дочери старейшины Алисте. Эти слухи дошли сюда из Алисте, и Рахи усердно разносит их из дома в дом, чтобы самому жениться на Лемби. Идя домой, Велло бранил себя. Взбрело же ему в голову искать утешения у дочери Ассо. Старейшине вообще не подобает искать утешения, он всегда должен находиться дома и думать о том, как вершить дела своего кихельконда.XV
После нескольких дождливых дней подули сухие ветры, и люди наконец смогли выйти на поля, лежащие на южных склонах и просохшие раньше других. Кони тянули сохи, сделанные, из кривых стволов деревьев; мелкие борозды огибали обугленные пни, валуны и груды камней. Сох с железными сошниками было еще мало, их имели лишь более зажиточные хозяева, да и то не все. Кое-где сохи тащили двое мужчин, а там, где было много камней и пней, приходилось разбивать дерн и рыхлить землю мотыгами. Не только мужчины, но и мальчишки вышли в поле. Они орудовали мотыгами, разбивали земляные комья, собирали булыжники в кучи или откидывали их к лесной опушке. Старики сидели на камнях у края поля, глядели, как работают молодые, и давали советы. Женщины рано утром выгоняли скот на луга или на опушку леса, где было посуше, ухаживали дома за телятами, носили мужчинам еду на поле, прибирали в хлевах и во дворе. Велло выходил в поле вместе со своими работниками, брался за соху, если надо было проложить борозду поглубже, правил лошадью, когда она тянула борону меж камней и пней, сам сеял и следил за тем, чтоб земля как следует покрыла семена. Управившись с неотложной работой, он поспешно шел домой. Вспашут и посеют и без него, думал он, поля вскоре зазеленеют, подрастут жеребята, зарезвятся телята подле стада, днем из лесу, а ночью из хлева станет доноситься блеяние ягнят. Когда наступит лето, из Пскова прибудут купцы с серебром, монетами, украшениями, мечами и ножами. В Мягисте же у всех есть для продажи шкуры, а кое у кого мед и даже воск, оставшиеся с прошлого года. Все это повезут в Ригу: ни у немцев, ни у латгалов нет сейчас большой охоты показываться здесь. Богатство Мягисте растет с каждым днем. Но оно может и улетучиться за одну ночь. Чем зажиточнее становится Мягисте, тем большая опасность угрожает ему с юга. Об этом в первую очередь и должен думать старейшина. Это постоянно тревожило отца, и заботы его с каждым годом росли. Теперь же, после набега на Уганди, когда немцы из кожи вон лезли, чтоб подстрекнуть латгалов и помочь им, не оставалось сомнения в том, что опасность стала во много раз больше, чем была когда-то. Каждый псковский купец, побывавший прошлым летом или зимой в городах на берегу Вяйны, рассказывал о рыцарях. Из-за моря к ним все время прибывает подкрепление, они учат латгалов драться пешими и на конях, в чистом поле и под стенами крепости. То же утверждали и ливы, которые приходили сюда с товарами из Уреле или Летегоре. Порой, поздними вечерами, когда проселок пустел и псы во дворах уже дремали, Велло полями спускался с косогора, переходил по жердочкам через ручей и по крутому склону поднимался в рощу. Он садился в глубине ее на сломанное дерево близ большого камня и прислушивался. В лесу стояла тишина, лишь изредка в ветвях хлопала крыльями какая-нибудь птица, жужжа, пролетало насекомое и доносился суховатый смех бекаса. Здесь, в священной роще, объятой ночной тишиной, в окружении высоких берез, поблизости от душ предков, Велло ощущал, как в нем зреет решение. Придется скрестить мечи с рыцарями и оскверненными крестильной водой латгалами, и пусть сами боги решат, кому даровать победу. Тогда будет ясно, могуч ли их бог со своим распятым сыном. Надо же когда-то положить конец этому вечному страху за южную границу Мягисте. Если старейшины Сакалы не примкнут, придется разослать гонцов по всей стране, собрать всех, кто храбр, пообещав им добычу и славу победителей. Однажды, возвращаясь ночью домой, Велло повстречал закутанную в шаль женщину; она попыталась быстро и незаметно пройти мимо, но старейшина шагнул к ней, остановился, слегка наклонился и удивленно воскликнул: — Вайке! Куда ты так поздно? — В рощу. — В рощу? В полночь?! По жердочкам опасно переходить ручей. — Я иду туда молиться. — Молиться?.. Ты выбрала правильное место, но... Ты и раньше ходила туда ночью? — Зимой — нет. Зимой сразу заметили бы, что меня долго нет. А летом... Летом все ходят на качели ... Велло по-дружески обнял Вайке за плечи и наставительно произнес: — Сегодня пойдем все же домой. Я как раз иду из рощи. В другой раз сходишь и помолишься. Некоторое время они шли молча, направляясь к селению, а затем Велло снова стал расспрашивать девушку: — О чем ты просишь богов? — Чтоб они уберегли тебя от несчастья... И всех нас. — Разве несчастье подстерегает меня? И всех нас? — Этот Рахи ... — Ничего он не сделает, не осмелится... А для себя ты ничего не просишь? — Прошу... чтобы боги послали тебе хорошую жену. — Мне — хорошую жену?.. А что тебе до этого?! — Чтобы она была добра ко мне и к другим. Не спесива и не зла, — проговорила Вайке и, осмелев, с благоговением взглянула из-под шали на старейшину. — Хорошая моя Вайке! Я запомню это... Дай, я перенесу тебя через ручей. Велло взял девушку на руки, она крепко обвила руками его шею и дала перенести себя через журчащий ручей. Велло чувствовал губы Вайке на своей щеке. Опустив девушку, он поцеловал ее. Они пошли дальше, к деревне, прижавшись друг к другу, рука старейшины обнимала гибкий стан девушки. — Тебе не следует ночью ходить одному, — молвила Вайке. — Ты ходишь, а я должен бояться! — ответил Велло. — Ко мне ни у кого нет злобы или вражды. А если б даже и была, кому нужна моя жизнь? — Коли бояться вражды, то и со двора не выйдешь ... — Кто-то из слуг Рыжеголового говорил, что скоро в Мягисте будет новый старейшина. — Поэтому-то ты и идешь в рощу молиться? — шутливо спросил Велло. — Знаем мы этого нового старейшину. — О ком ты? — Как будто много тех, кто мечтает об этой чести! — Ты, верно, ошибаешься. Думаешь — Рахи? — А кто же еще? — Ты жестоко ошибаешься, — покачала головой Вайке. — Новым старейшиной стал бы Ассо, отец Лемби, твоей невесты. — Ассо, отец Лемби! — доскликнул старейшина и остановился. Он схватил девушку за плечи и посмотрел ей в глаза. — Кто сказал тебе это? Духи, обитающие в роще? — В деревне уже не таясь говорят об этом. Кто победнее, те будто бы за Ассо. При нем, мол, не станут строить укрепления, он отдаст тем, кто нуждается, всю добычу, что захватили в Саарде... — Вот как! — произнес Велло и его руки, обнимавшие плечи девушки, упали. Дальше они шли молча. "Хитро задумал Рахи: подсовывает самого старого и во всех отношениях честного сельского старейшину — выбирайте его старейшиной Мягисте. Сам Рахи, дескать, ничего не хочет, разве что красть силки и грабить торговцев. Ему достаточно, что меня отстранят, а кто-то другой, при его, Рахи, поддержке, займет мое место. А коль скоро он поможет Ассо стать старейшиной, то обязательно протянет руку за Лемби..." Так думал Велло, возвращаясь ночью домой. Он не замечал уже рядом с собой Вайке, не видел зари, пламенеющей на северном небосклоне. В последующие дни он несколько раз порывался пойти к Ассо, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз, как мужчина с мужчиной. Ведь завещал же ему покойный отец советоваться с этим пожилым и умным сельским старейшиной. Мудреца в Мягисте так и так нет, с кем же еще поговорить! У кого спросить совета! Но к Ассо он все же не пошел, решил обойтись своим умом.***
Однажды, идя кустарником, Велло встретил на узкой тропке сына покойного, всеми уважаемого мудреца. Этот человек, одних с Велло лет, избегал проселочных дорог и не бывал там, где многолюдно. Он предпочитал сделать круг в несколько миль, лишь бы не встретить кого-либо из селения. Он притворялся, что живет отшельником, так как слыхал, будто мудреца не должны видеть там, где видят всех. Он усердно создавал себе ореол отшельника, но от Малле Велло знал, что Лейко — так звали молодого "мудреца" — под покровом ночи тайком посещает семьи, где можно узнать новости со всех семи селений, и жадно, с большим интересом, впитывает в себя всякие слухи. Известно было также, что язык его во время этих посещений работает с исключительной быстротою и что по болтовне равного ему в Мягисте не сыскать... Его кормила жена, которая только и делала, что ходила и твердила про "мудрость" своего мужа, про то, что он сказал вчера и что изрек третьего дня. Куда бы она ни пришла, ее никогда не отпускали с пустыми руками: не может же "мудрец" сам работать. Как только он начнет работать, так сразу же уподобится остальным смертным. — Если ты не очень спешишь, посидим здесь, в ольшанике, на камне, — сказал Велло приветливее, чем ему хотелось бы, и даже в несколько шутливом тоне, так как не допускал, что с Лейко можно разговаривать как с мужчиной. Лейко слегка усмехнулся, показывая этим, что не чувствует себя задетым, и ответил, опираясь на камень. — А старейшине не жалко средь бела дня тратить свое дорогое время? — Отчего ж — тратить? Ведь я беседую с сыном старого мудреца Мягисте. Может, приберег он для меня что-либо из отцовского наследства? — Мудрецы бедны. Мудрецы всегда бедны, — поспешно ответил Лейко, выражением лица стараясь подчеркнуть значительность сказанного. — Стараются быть бедными?.. Намеренно?.. Но почему? — Тогда им некого бояться. Ни латгала, ни литовца, ни рыцаря. — Выходит, мудрецы бедны из трусости?.. Чтоб не надо было бояться грабителя? Но ведь труса делают рабом? — Мудрецу не страшно это. Он знает, что и раб может быть богат. Мудростью. — Это верно, — согласился Велло. — Мудрецы могут быть беспредельно богаты мудростью... Настолько, что ее хватит и детям и внукам? — Мудрецы учат своих детей не расточать богатство родителей. — Хранить его только для себя? Прятать куда-либо под пень или под камень? — Можно и поделиться, но только с теми, кто достоин. Велло понимал, что разговор превращается в словесную игру, от которой ему всегда делалось не по себе, но тем не менее он продолжал: — А достоин кто? Лишь мудрецы? Но им оно не нужно. — Мудрость никогда не обременит мудреца, — ухмыльнулся Лейко. — Если у меня есть лишние семена, я дам тем, у кого их не хватает. Это моя обязанность — помогать нуждающемуся. А есть ли обязанности у мудреца? — Есть, Очень большие обязанности. — Перед кем? — Перед самим собой. — Но не перед другими? — Не будет мудрым и не сохранит мудрость тот, кто не живет для себя. Любой стал бы мудрецом, живи он для себя, один, подальше от толпы. Копи он лишь для себя. — Ну, а придет враг — защищать себя тоже будешь в одиночку? — поинтересовался старейшина. — Из-за меня враг не придет. У меня нет такого имущества, на которое он позарился бы, — важно ответил Лейко, нахмурив брови. — Но у других есть имущество, и поэтому враг придет. — Пусть приходит! Кто велит им копить имущество. — Но ведь ты-то живешь благодаря их имуществу! — воскликнул Велло. — Тебе не должно быть безразлично, цело оно или его разграбил враг. А кроме того, и тебя может поразить случайная стрела. — Мудрецы не боятся смерти. — Не боятся? — Кто может сказать, что в загробном мире хуже, чем здесь, земле? — многозначительно спросил Лейко. — Хуже, лучше ли, но и птице, и зверю, и человеку дорога жизнь... Однако оставим пустой спор. Я хочу спросить тебя, потому что ты сын мудреца: против меня строят злые козни, очень злые — что мне делать? Лейко сделал умное лицо и ответил несколько таинственно, но, как всегда, бойко: — Ничего! Ровно ничего! — Ничего? — Потому что тот, кто строит злые козни, не станет мудрее. Не станет, даже если осуществит их! — А если бы стал? — Вот это было бы опасно. Очень опасно, когда враг становится мудрее. Ох, нехорошо это. — А если эти злые козни будут стоить мне жизни? — Враг не станет от этого мудрее! Нисколько! — Знаешь, Лейко, сын мудреца, — вставая и с веселым смехом хлопая его по плечу, молвил Велло, — с тобой разговаривать — ума поднабраться, конечно, можно, но, пожалуй, это будет опасно для тебя, так ведь? В Мягисте окажется два мудреца. Опасно еще и потому, что вдруг я, старейшина Мягисте, начну, подобно тебе, держать мудрые речи. Да сохранят меня от этого боги и духи! Лучше пусть каждый из нас идет своей дорогой!XVI
Отть не работал в поле. Взяв в подмогу нескольких слуг, он плотно, один к одному, укладывал камни в фундамент нового дома, заполняя щели смесью глины и гравия. На берегу Вяйны ему довелось видеть, как строят мастера, прибывшие с юга или запада, бывало, он и сам строил, и теперь хотел показать Велло и всему Мягисте, каким должно быть жилище старейшины. Он был скуп на слова, когда дело касалось его работы, и никому не открывал своих планов. "Увидите!" — говорил он тем, кто спрашивал. Даже сам Велло не имел точного представления о своем будущем жилье. — Пусть приходят торговцы из Риги и пялят глаза. Пусть поглядят, что и здесь умеют строить! — хвастался он иной раз перед старейшиной. Отть пообещал даже сделать точно такие сиденья, какие видел у рыцарей или у духовных лиц, а посреди комнаты поставить стол. Не такой, как у старейшины сейчас — на полу камни и сверху огромные доски. Нет. В Риге так не живут, не станут впредь жить и здесь. Велло доверял своему сведущему слуге и лишь по вечерам, возвращаясь с поля, заходил взглянуть, как подвигается постройка. Прошлым летом он велел срубить молодой смешанный лес на заброшенных подсеках, а также побольше старого леса на южных склонах холмов и косогоров. Поваленные деревья и беспорядочно раскиданный кустарник образовали непроходимую чащу. Лишь псы иной раз забегали туда по следу лесного зверя; они пролезали меж сучьев, перепрыгивали через стволы и оказывались порой в таких дебрях, что, не зная как выбраться, начинали беспомощно скулить. Но беда поджидала здесь не только собак: иному волку, ищущему тут убежища, приходилось расплачиваться за это жизнью — псы окружали его, загоняли все глубже под лежащие друг на друге стволы и ветви и в конце концов настигали в такой чащобе, откуда было уже не выбраться. Видя себя окруженным, злой лесной хищник прыгал навстречу псам, грыз и кусал тех, кто подбирался поближе, но, не выдержав натиска, сам погибал от клыков сбежавшейся на шум огромной собачьей своры. Как только началась весна, Велло стал время от времени ходить на подсеку, принадлежащую всей деревне, трогал руками ветки и пожелтевшие листья, смотрел, сухи ли они. Он ждал теплых дней, жаркого солнца и сухих ветров. Ни солнце, ни ветер, ни тучи не были его врагами; не были они и друзьями, готовыми выполнить каждое его желание. Они вели свою игру, как делали это каждой весной; и эту игру надо было умно использовать для пожоги, пахоты и сева. После того как выдалось несколько погожих дней и все приметы — кваканье лягушек поздним вечером, полет ласточек на большой высоте и многое другое — предсказали солнечную погоду, старейшина отдал распоряжение всем семи селениям жечь срубленный в прошлом году кустарник и лес. Чтобы огонь не расползся дальше, вокруг уже заранее вырыли канавы. День этот был подобен празднику: не только дети, но даже старики пришли посмотреть, как пламя то тут, то там с шумом охватывало сухие листья, как треща загоралась хвоя, как дым, поднявшийся было на высоту человеческого роста, под порывами ветра начинал боязливо стлаться по земле, спешил к лесу и там вздымался кверху, до самых вершин деревьев. Вскоре леса были окутаны дымом, над деревьямиплыли облака, оседая на северо-западе, языки пламени, пробиваясь сквозь ветви, все глубже проникали в чащу и со все возрастающей жадностью поглощали листья, хвою и вонзались, подобно огненным пикам, в огромные смолистые стволы. Чем выше поднималось пламя, тем радостнее шумел народ. Мужчины и женщины жердями, палками и крючками помогали огню в его разрушительной работе, перекатывали сырые стволы в те места, где пламя бушевало сильнее всего, поправляли сучья, ярко горевшие вокруг толстых стволов. Сперва Велло руководил людьми своего селения, затем объехал верхом те селения, куда можно было пробраться по просохшим дорогам. На пожогу к Ассо он нарочно заехал лишь под вечер. Огонь здесь уже проделал немалую работу: черные угли и серая зола толстым слоем покрывали большой участок земли; даже пни здесь обуглились. Люди то и дело подкатывали к огню толстые бревна. Подойдя поближе, старейшина заметил среди работающих человека в праздничной одежде, у пояса его висел меч, разукрашенный бронзой. То был Рахи. В нескольких шагах от него работала Лемби. Велло разозлился больше на себя, чем на Рахи. Надо же было ему, старейшине Мягисте, явиться сюда! Но возвращаться было поздно — его увидели и приветствовали. Навстречу ему шел Ассо. Лицо у него было потное, испачканное сажей, руки черные от угля, но он, как всегда, приветливо улыбался полуоткрытым ртом. Лемби тоже прервала работу, отбросила жердь, которую держала в руках, и повернулась к старейшине. От дыма ее лицо потемнело. Красный узорчатый платок покрывал ее голову, измазанная сажей рубаха с короткими рукавами была туго подпоясана. — Пришел взглянуть, как идут дела, — промолвил Велло, скрывая досаду. — Да ничего как будто, вот только ветер, кажется, меняется, — спокойно и деловито ответила Лемби, и в ее взгляде, обращенном на гостя, были радушие и даже радость. — Весь дым относит на наш двор. Подошел Рахи и вмешался в разговор. — Старейшина может быть уверен, — произнес он язвительно, — что с такой работой здесь справятся и без его мудрых указаний. — Ты, очевидно, посчитал свою помощь и указания крайне необходимыми здесь, — ответил Велло, не глядя на Рахи. Подыскивая ответ, Рахи откашлялся и переступил с ноги на ногу, — он был обут в коричневые с узорчатыми полосками ноговицы, завязанные серебряными шнурками. Задрав голову, он холодно произнес: — Мне нет надобности отчитываться перед старейшиной Мягисте, куда я иду и что делаю. — Сказав так, он повернулся к Лемби и с притворной ласковостью спросил: — У тебя, верно, устали руки, бедняжка? Бросила бы жердь, уж мы сами... Говоря это, он шагнул вперед и оказался между девушкой и Велло, спиной к последнему. Велло чувствовал, что его вытесняют из игры. Положение старейшины не позволяло ему добиваться права участвовать в ней, да и не хотел он вступать в игру, где участником был этот Рахи с его лоснящимся лицом и выпяченной грудью. Но он охотно взял бы его одной рукой за шиворот, другой — за пояс и отшвырнул бы подальше, прямо в кучу золы. — Мне пора идти, уже вечер, надо кое-что по хозяйству сделать, — сказала Лемби и, кинув жердь, быстро пошла. Рахи, сделав несколько шагов вслед за ней, растерянно остановился. В этот момент к Велло подошел Ассо, и Рахи ничего не оставалось, как присоединиться к ним. — Если такая погода продержится еще день-два, — сказал сельский старейшина, — можно ожидать хорошего урожая. — Да, если враг не потопчет его, — ответил Велло. — А старейшина у нас на что? — вставил Рахи. — Врага надо опасаться, как града или заморозков, — молвил Ассо, не обращая внимания на замечание Рыжеголовою. — Их не предотвратишь. — Я и говорю: это забота старейшины — оберегать кихельконд от врагов, — задрав голову, упрямо повторил Рахи. — Иной мужчина и по нужде идет не иначе, как с мечом на поясе, — заметил Велло, — а когда надо воевать, его и след простыл. Попробуй защити с таким кихельконд. — Я не пойду улаживать семейные дела старейшины, как было, когда ходили на Саарде, — через плечо кинул Рахи. — Настоящий старейшина не станет ради этого губить своих людей! Да и не смеет. — Старейшина не будет советоваться с каждым болтуном, когда впереди военный поход. — И чего вы грызетесь! — попытался урезонить их Ассо и кинул суровый взгляд на Рахи. — Я немало странствовал и повидал на своем веку многих старейшин. Ты, Ассо, вероятно, тоже, — стоя спиной к Велло, надменно пояснил Рахи. — Знаем, каким должен быть старейшина, как ему держаться, как ступить, как говорить и вершить суд. У старейшины должна быть и осанка старейшины. Но что знает обо всем этом какой-то мальчишка... Выпалив это, Рахи пошел прочь, откинув назад голову и выпятив грудь. Ассо неодобрительно покачал головой, озабоченно прищурил глаза и беспомощно произнес: — Приходит как гость... Не закроешь же перед ним ворота. — Ведь тебе, как и всем нам, известно, что живет он с награбленного добра, да еще и раздаривает его. Что он... Да что говорить! — Мало ли что известно. А ты попробуй накажи его за это. Велло не знал, что ответить, однако возбуждение, охватившее его, было так велико, что промолчать он не смог и с укоризной сказал: — Он как будто намерен стать твоим зятем. — Возможно, — ответил Ассо таким голосом, в котором ясно слышалось: оставим этот разговор! Они отправились домой вместе. Некоторое время оба молчали. Затем Ассо спросил, скорее из вежливости, чем из любопытства: — А как подвигается работа в других местах? Велло почувствовал облегчение оттого, что не нужно обсуждать случившееся, и охотно стал рассказывать о пожоге в других селениях. Подойдя ко двору снизу, со стороны полей, они увидели Рахи — он стоял у дома и разговаривал с Лемби. Велло почувствовал, что не в силах сдерживаться: сегодня один из них должен навсегда отступить. Но Рахи, протянув девушке руку, повернулся и пошел — его шапка с блестящим ободком была сдвинута на затылок, рука лежала на рукоятке меча. Лемби подошла к мужчинам, она даже не пыталась приветливым обращением загладить то, что произошло. Видно, нет у нее никаких чувств к этому страшилищу, иначе ей было бы стыдно, подумал Велло. Пора, пожалуй, поговорить о сватовстве и сказать, чтоб Рахи и близко к воротам не подпускали. Лемби надо было идти по хозяйству, да и у Ассо к вечеру накопилось немало дел; не следовало их задерживать. К тому же не подобало сейчас говорить о таком важном деле: и отец, и дочь были перепачканы сажей и копотью, и им, прежде чем идти в комнату, надо было хорошенько помыться. Да и приличествует ли старейшине Мягисте, хоть у него всего-навсего семь небольших селений, заводить разговор о женитьбе, стоя перед хлевом, где взад-вперед снуют служанки, слуги и пастухи. Так и ушел он на этот раз. Из памяти его еще не изгладилась недавняя перебранка с Рахи. Но одно Велло знал теперь твердо: если этот человек еще раз покажет когти — заговорит меч. Проходя мимо двора Рыжеголового, Велло услышал в кустах мужской смех. Навстречу выбежали псы, но один из слуг (конечно, подученный хозяином) отозвал их, сказав: — Молчать, неразумные! Еще напугаете старейшину! Не осмелится больше ходить здесь. Пока длились весенние работы, Велло не мог уделять много времени Лейни. Иначе он заметил бы, что сестра чуть ли не каждый день ходит к хромой Рийте, а если и остается дома, то часто стоит за воротами и глядит на восток, туда, где проселок сливается с большой дорогой, идущей из Риги в Сакалу и даже еще дальше. Если же случалось, что в гости приходила Рийта, они стояли у дороги вдвоем и подолгу глядели на восток. Они ждали патера, тот обещал прийти весной, когда просохнут дороги. Устав от ожидания, они усаживались во дворе с какой-нибудь работой в руках, их губы шевелились, беззвучно повторяя короткие молитвы, которым патер в прошлом году обучил хромую. В своем воображении они создали себе иной мир и пребывали в нем. Молитвы помогали им отгонять от себя все постороннее и преграждали остальным вход в этот мир. Все, что происходило за пределами их мира, было им чуждо и неинтересно, не волновало их, оставляло равнодушными и даже отпугивало. Вечерами во дворах галдели слуги и служанки; позже, закончив все дела по хозяйству, они пели и смеялись в лесу. Рийта и Лейни старались не слышать этого, усердно повторяя слова молитвы. Велло видел, как неторопливо, опустив глаза в землю, двигалась его скорбная сестра, замечая лишь то, чего нельзя было не заметить. Рот она раскрывала только в случае крайней необходимости, на иные же вопросы вообще не отвечала, словно и не слышала их. Велло считал это недугом, порожденным глубокой печалью. Он еще надеялся, что со временем, когда забудутся страшные события той зимней ночи, все пройдет. Он не стал перечить, услышав, что Лейни с помощью верной служанки Марьи начала строить в лесной глуши, рядом с шалашом Рийты, лачугу и для себя. Там, в одиночестве, она, возможно, оправится от своих горестей, думал он. Нелегко забыть единственного ребенка, погибшего к тому же такой страшной смертью. Нелегко забыть несчастливый брак и оскорбления посторонней женщины! Нелегко забыть все это дочери старейшины Мягисте! Ночью, когда огонь на пожогах уже почти угас и лишь кое-где дымились головни, когда начал накрапывать мелкий дождик, а кроны деревьев закачались под порывами сильного ветра, Велло позвал самых надежных из своих слуг — Оття и Кахро — в вместе с ними перенес захваченное у Кямби железо, серебро, бронзу, золото и оружие на свое поле; на склоне песчаного холма, неподалеку от большого камня, они зарыли это добро глубоко в землю. Пока мужчины переносили имущество и рыли яму, Малле и Вайке стояли на страже, следя за тем, чтобы никто неожиданно не помешал им. Спустя несколько дней, сидя вдвоем с Велло у стены дома и греясь на солнце, Лейни сказала брату: — Пожалуй, самое лучшее для тебя и для всего народа Мягисте — принять веру рыцарей и позволить окрестить себя. — Самое лучшее? —раздраженно воскликнул Велло. — Тогда бы они не пошли на нас войной, да и латгалам не разрешили бы, — продолжала сестра. — Кто тебе сказал это? Откуда ты взяла?.. — Так говорят... — Возможно, и говорят, но ты... — В прошлом году Рийте сказал об этом патер. Он говорил, что тогда у нас всегда будет покой. — Так вот кто!.. Нет, сестра, не верь в этот покой и не желай его. Этот покой подобен смерти. Сейчас нас грабят раз в десять лет, да и мы не остаемся в долгу. А примем их веру и станем рабами грабителей — телом и душой. Ты, верно, слышала, какая участь постигла ливов? — После крещения они не раз восставали против рыцарей и смывали с себя крестильную воду. Поэтому-то их так сурово и покарали. — Восставали, когда стало невтерпеж. Но было уже поздно, — вздохнув, сказал Велло. — И хуже всего то, — добавил он, — что иные наши люди ждут от черноризников и рыцарей чего-то хорошего. Но и у тех и у других под одеянием душа хищника. Один поддерживает другого. — Ты ведь сам видел этих патеров — разве они похожи на хищников? — дружески, но с укоризной сказала сестра. — Ходят, словно тени. — Так легче проникнуть в души, подготовить дорогу для железных рыцарей. Патер сеет, рыцарь жнет, а едят они вместе. А в земле ливов дошло уже до того, что пришельцы и не сеют, и не жнут — крещеный лив сам должен приносить им все в дом, даже жену и дочь, если они красивые. На это Лейни ничего ответить не отважилась. Как-то, когда Велло был в Риге, ему рассказали о ливском старейшине Каупо; тот поддался уговорам патеров, они сбили его с толку и завлекли в свои сети. Каупо остался старейшиной, но принял веру патеров и рыцарей и стал помогать преследовать всех, кто хранил веру предков и не хотел быть рабом иноземных захватчиков. Велло не раз предупреждал сельских старейшин, а через них и остальных мужчин, чтоб те считали патера, случись ему появиться здесь, вражеским соглядатаем и соответствующим образом встречали его. В Мягисте патер не должен найти ни одного сочувствующего. Ни одного!XVII
Люди убрали с пожог толстые головни; пригодную землю между пнями вспахали либо взрыхлили мотыгами, бросили в нее семена и забороновали. До сенокоса еще оставалось время; перед тем как приняться за вырубку новой подсеки, решили сделать перерыв в работе, отдохнуть; парни и девушки могли денек повеселиться. Это было просто необходимо — иначе ни работать, ни справлять домашние дела стало бы невмоготу. Правда, они каждый вечер отправлялись на качели, пели и играли там, до зари бродили по лесным дорогам. Но этого было недостаточно — так пусть уж один день и одну ночь проведут вместе, пусть пошумят и порезвятся — тем лучше будут потом работать. Леса уже зазеленели, лишь дубы, липы и ясени еще раздумывали, не решаясь раскрыть набухшие почки. На лугах и поймах молодая трава смело пробивалась сквозь прошлогодние стебли. По берегам ручьев уже желтел чистяк, а на сырых сенокосах зацвели розовато-лиловые незабудки. Солнце в полдень стояло высоко. Жизнь праздновала свой победный праздник.*** Ветви молодых елей мягко ударяли по длинному, до пят, черному балахону и серебряному распятию за нем; ветка осины с реденькими листочками задевала черный головной убор. Но путник, казалось, ничего не замечал; он шел тихим, ровным шагом, одной рукой опираясь на старый, с загнутым концом посох, доходивший ему до груди, а другой — держа книгу в черном переплете; взгляд путника был устремлен вперед, будто сквозь зеленую стену леса он видел иной мир. На бритом, худом и бледном лице застыло благостное выражение; казалось, человек прислушивается к доносящимся откуда-то издалека удивительным звукам. Время от времени его губы шевелились, словно он беседовал с кем-то невидимым; серые глаза излучали покой и даже какую-то тайную радость. Сумрачный лес, обступивший дорогу с обеих сторон, поредел, с юго-запада сквозь листву проглянуло яркое солнце, впереди раздались шум, смех и возгласы, и вскоре показались темные крыши низких строений. Лицо путника приняло замкнутое, почти строгое выражение; шевеля губами, он порой поднимал глаза и сквозь зеленые кроны смотрел на синий небосвод, словно искал там поддержки. Несколько мальчишек — голубоглазых, белозубых — бежали по дороге, волосы их были растрепаны, загорелые тела, едва прикрытые одеждой, перепачканы травой и землей. Увидев путника в черной одежде, они испуганно остановились, постояли, боязливо перекинулись двумя-тремя словами и с криком бросились бежать назад в селение. Местами лес отступал от дороги, и у края ее — то здесь, то там — зеленели полосы всходов. Из-за оград, из рощ и перелесков на дорогу высыпали молодые парни и девушки в праздничной одежде, следом за ними вышли старики и дети. Пение и возгласы смолкли, раздались резкие выкрики, смех, враждебный ропот. Люди спрашивали друг у друга, почему незнакомец с ног до головы в черном, точно смерть, и почему он не смотрит вокруг, как подобает человеку. Парни поозорнее, подражая его медлительной походке, с благоговейным видом пошли с ним рядом, устремив, как и он, взор вдаль. Их лица, которым они придали замкнутое выражение, словно одеревенели. Мальчишки, осмелев, побежали следом за путником, не решаясь, однако, подойти к нему близко. Какой-то парень похрабрее, с растрепанными волосами и обнаженным до пояса телом, покрытым шрамами, поспешил к дороге и вышел навстречу путнику, преградив ему путь. Все остановились и молча, затаив дыхание, наблюдали, что произойдет дальше. Сделав шаг к юноше, странник остановился, переложил посох из правой руки в левую, провел им сверху вниз и слева направо, затем посмотрел юноше в глаза и на чужом языке произнес несколько слов. Парень отвернулся и с мрачным видом, словно потерпел поражение в поединке, отошел. На него посыпались насмешки, слова укора; его подзадоривали вновь испытать свою силу. Подошло еще несколько парней, они подбодряли и подзуживали друг друга, не пренебрегая крепким словцом. В это время прибежал Кахро и громким голосом крикнул, что старейшина приказал пропустить патера и запретил враждебные выкрики и издевательства — пусть, мол, идет себе с миром. Все умолкли, и пока человек в черном балахоне не свернул с дороги на узенькую лесную тропку и не скрылся за серебристыми ивами, провожали его взглядом. Радостное настроение молодежи было испорчено. Медленно шагавший человек в черном балахоне не выходил из головы. Все испытывали неприязнь к этому человеку, который, не оглядываясь, бесстрашно и равнодушно прошел мимо, словно никого поблизости и не было. И когда какая-то легкомысленная девушка-болтушка заметила, что патер все же приятный мужчина, в толпе парней поднялась прямо-таки буря. Подходящий жених для хромоногой! К ней он потащился сейчас! Там найдется пташечка и помоложе! Сам черный, что ворон! Не иначе, как быть беде! Сперва этот с посохом, а затем и рыцарь с мечом! И зачем только разрешают им шататься тут?! Люди постарше пояснили, что есть, мол, такое соглашение с рижанами: патерам дозволено ходить здесь, рассказывать о своем боге и окроплять головы крестильной водой тем, кто дает согласие.
***
Велло видел со двора своего дома, как шел патер и как, глядя на него, шумел народ. Он был недоволен своим народом: молодые и даже старики, сгорая от любопытства, выбежали поглядеть на чужеземца. А тот шагает себе гордо через шумящую толпу и никого взглядом не удостаивает. Тут с нижнего двора пришел Отть в праздничной одежде, с мечом у пояса. — Ведь и тебе, Отть, окропляли голову крестильной водой. Ну и как? — спросил Велло, присаживаясь на камень под растущими у изгороди ясенями. — Мне не раз окропляли голову, — ответил Отть, опускаясь на каменную скамью рядом со старейшиной и поглаживая рукой бедро. — И — ничего? Или, может быть, поэтому и охромел? — полушутливо продолжал выспрашивать старейшина. — Мужчине эта вода нипочем. А вот женщины... Иные от нее словно ума лишаются. Впрочем, и мужчины, кто послабее... Кое-кому из молодых ливов напялили черные балахоны, обучили их по-иностранному, и стали они тогда нести околесицу — все про бога да про небо. А нога что! Угодило вражеское копье. За Вяйной дело было, мы тогда вместе с рыцарями ходили в Литву грабить, убивать и окроплять людям головы крестильной водой. А может, то было и в Земгалии. — И откуда у этих черноризников такая смелость берется? — спросил старейшина, поднялся с камня и принялся шагать взад и вперед по траве. — Хитрость ты принимаешь за смелость, — насмешливо сказал Отть. — Чего им бояться, если за спиной у них железные рыцари. Не дрогнет крест, коли позади — меч. — Однако этого черноризника могли убить здесь...— Что ж, нам отплатили бы за это во сто крат. — Мертвого этим не воскресишь. — Они верят, что человок воскресает из мертвых, — заметил Отть. — А ты веришь? — спросил Велло, останавливаясь перед Оттем и глядя ему в глаза. — Право, не знаю, как уж там с этим... — нехотя ответил Отть и, помолчав, добавил: — Да и им-то откуда знать?! Старые сказки, как и у нас... Да, эта крестильная вода портит иного человека, если ее тотчас же не смыть. Сразу превращаешься в раба. Любой бьет тебя, мучает, отнимает твое имущество, а ты и не противишься. Даже чувствуешь радость, и все потому, что надеешься быть многократно вознагражденным на небе. Из-за этого рыцари и посылают вперед черноризников: окропите, мол, людям головы крестильной водой, сделайте народ покорным, послушным, чтобы он готов был работать на нас. Велло не принимал всерьез каждое слово Оття, но появление патера встревожило его. Можно не сомневаться, что там, в лачуге хромой Рийты, он окропит голову Лейни и речами своими собьет ее с толку. Однажды вечером, после захода солнца, когда Велло сидел невдалеке от своего строящегося дома, — уже немало толстых бревен было по углам скреплено шипами, — со стороны леса показалась Вайке. Она шла быстрым шагом и прошла бы мимо, не останови ее старейшина. — Поди сюда, сядь, — сказал Велло, указывая ей место рядом с собой. Вайко была без платка, темные волосы заплетены в две косы, свисавшие вдоль спины. Маленький рот был плотно сжат, словно она с трудом сдерживала жар, сжигавший ее тело и душу. Вайке села рядом со старейшиной, их плечи соприкоснулись. — Ты дрожишь? — спросил Велло. — Тебе холодно? — Нет, мне жарко, — смущенно ответила девушка. Велло понял ее. — В лес с девушками и парнями ходила? — продолжал выспрашивать он. — Нет, я была в роще. — Опять молилась? — Остерегайся Рахи... — прошептала Вайке. — Как же мне остерегаться? — сказал Велло. — Хожу, куда надо ходить, делаю то, что надо делать. Вот и все. Вайке покачала головой. — Ты патера не боишься? — спросила она, помолчав. — Он тут бродит ... — Что мне патер, — ответил старейшина. — Он больше опасен женщинам. Настоящие мужчины не станут слушать его. — По вечерам у хромой Рийты собирается много женщин. Лейни и Марья слушают его там дни и ночи. Он говорит, мешая язык ливов и наш, но понять его все же можно. Сказал, что будет судный день и наступит конец света. Тогда всех некрещеных бросят в море огня, и они будут вечно гореть там. Раздастся страшный гром, и на всех, кто не дал окропить себя крестильной водой, с неба низвергнутся огонь и смола. — Неужели ты не понимаешь — все это говорится, чтоб запугать! — рассердился Велло. — Чтоб мы дали окрестить себя и не сопротивлялись рыцарям, когда те вместе с крещеными латгалами придут грабить нас! — В селении Юойвитса какой-то раб сказал, когда хозяин ударил его: "Быть вам в аду, там вам сторицей отплатят за наши страдания. Сгорите в смоляном озере!" Этот раб тоже ходил по вечерам слушать патера, — сказала Вайке. — Рабам и слугам следовало бы запретить слушать россказни этого волка в овечьей шкуре, — промолвил Велло, не скрывая досады. — Тем больше они будут стремиться к нему, — робко заметила Вайке. — В том-то и дело, — согласился Велло.XVIII
День отдохнув и попраздновав, женщины и те из мужчин, кто послабее, вооружившись серпами и ножами, принялись срезать молодой кустарник, остальные, взяв топоры, стали валить деревья потолще на подсеке, оставленной полтора десятка лет тому назад под залежь. Теперь эта земля годилась под пашню. Самых же крепких в селениях мужчин послали рубить старый лес, чтобы расчистить землю под новые поля. Так хотел Велло, и сельские старейшины согласились с ним; вместе они наметили склоны холмов и пригорков и другие отлогие места, где можно было бы валить лес. Рубка леса продолжалась с неделю; топоры у мужчин затупились, ладони потрескались от бесчисленных мозолей, спины одеревенели. В эту пору солнце поднималось наиболее высоко, и поэтому решено было дня два передохнуть, отпраздновать день летнего солнцестояния и набраться сил для предстоящего сенокоса. На этом празднике Велло хотел встретиться с Лемби, и если девушка будет благосклонна к нему, положить конец домогательствам Рахи и в скором времени торжественно поехать свататься. В первый день праздника парни и девушки веселились с утра на горке у качелей; быть может, среди них была и Лемби. Но подобало ли старейшине искать ее там или уводить от других? Возможно, около нее Рахи — тогда снова все может кончиться грубой перебранкой, если не чем-либо более серьезным. Правда, нынче, как и в прежние годы, Велло ходил на игры молодежи, качался на качелях, танцевал с девушками, участвовал в играх, но оставался там недолго. Он заметил, что при нем смолкает веселый шум, люди начинают разговаривать тише, поют чересчур уж стройно, сдерживают веселье, робко посматривая на него, старейшину Мягисте. Только кое-кто, очевидно сторонники Рыжеголового, завидев Велло, начинали шуметь и орать, будто его здесь и не было. Велло нелегко было попросить Малле сходить к Ассо и тихонько, чтобы никто не услышал, уговорить Лемби прийти завтра в ближний лес, к размытому водой песчаному холмику на берегу ручья. Пусть придет туда в полдень одна или в сопровождении верной служанки. Велло проговорил все это, не глядя на сестру. Малле снисходительно улыбнулась и пошла выполнять поручение брата. Но еще прежде, чем она вернулась — солнце на северо-западе как раз начало опускаться за зубчатый гребень леса, — во двор старейшины завернул отряд всадников. Впереди ехал сам старейшина Алисте — Ряйсо, грузный и бесформенный, как наспех набитый мешок, с толстыми, отвислыми щеками, серо-синими маленькими глазками, глядящими пронзительно и самоуверенно. За ним, верхом на вороном коне, покрытом полосатым ковром, ехала дочь старейшины — Урве; узорчатая шаль лежала на ее плечах, а длинные концы украшенного красно-синим шитьем платка на ее голове спускались на спину лошади. Как и всегда, Урве высоко держала голову и смотрела сверху вниз, словно собираясь отдать приказание. За ней следовал десяток хорошо вооруженных всадников; поблескивали железные ободки на их головных уборах, сверкающие острия копий были устремлены вверх; за спинами у мужчин висели большие, туго набитые мешки. Служанка побежала к хлеву, чтобы позвать Велло. Он уже издали узнал гостей и про себя проклял все Алисте. Он почувствовал, что решение посвататься к Лемби, созревшее у него за последние дни, было преждевременным, и заколебался. С женитьбой можно и повременить, завтрашняя встреча не должна состояться, и если Лемби действительно поддастся уговорам этого страшилища Рахи — пусть! Так думал Велло, торопливо идя навстречу грузному старейшине Алисте. Тот уже слез с коня, нетвердо ступая, двинулся навстречу Велло, небрежно поднял для приветствия руку и, слегка задыхаясь, беззвучным голосом, холодно, почти равнодушно, промолвил: — Задумали прокатиться к югу. Дочке захотелось поразмяться. Свернули в Мягисте. Не беспокойся — больших хлопот не причиним: провизии захватили на неделю. Прежде чем Велло успел ответить, к ним легким шагом подошла Урве и, снисходительно улыбнувшись, заговорила: — У вас здесь еще красивее, чем в Алисте. Только дома в селениях похуже да поля поменьше. Ничего, теперь у нового старейшины все пойдет по-иному. Так ведь? — Она улыбнулась и пленительно прищурила свои синие глаза. — Урве забывает, что Мягисте всегда первым принимало на себя удары врага, да и впредь будет принимать, — ответил Велло. — Здесь и не может быть такой роскоши, как в Алисте. На душе у Велло было горько, но он притворялся веселым. Ударив в железный щит, висевший на стене, он отдал распоряжения подоспевшим слугам и служанкам, словно капитан корабля команде во время внезапно налетевшей бури; с гостями он держался как отец с развеселившимися детьми, пусть и не слишком-то любимыми. Отть повел вооруженных копьями слуг Ряйсо на нижний двор и, отвечая на их приветствия, сказал: — Мы думали, что Алисте идет войной на нас. — В Алисте не любят воевать, — возразили ему. — Зато добычу любят, как показала битва под Бевериной, — ответил Отть. Гости уселись под ясенями на каменных скамьях, расставленных полукругрм возле большого гладкого, как доска, камня. Вернулась Малле, ходившая к Ассо; ее огорошил и отнюдь не обрадовал приезд нежданных гостей, но она пересилила себя и стала говорить с Урве о хозяйстве. Вайке принесла большой кувшин меду; почувствовав на себе подозрительно сверлящий взгляд Урве, она залилась краской. Вести беседу с гостями из Алисте было нелегко. Велло, а еще больше Малле вскоре ощутили это. Разговор Ряйсо состоял сплошь из коротких, непререкаемых суждений, высказываемых с благодушным безразличием: это, мол, так, а это — так! На слова и высказывания Велло он обращал мало внимания, и то лишь для того, чтобы сразу же опровергнуть их. Полнота мешала ему, и он отдувался, с трудом держал открытыми свои маленькие глазки, отягощенные мясистыми веками. Голову Ряйсо обнажил, чтобы просох пот. У него была необычайно большая круглая голова, покрытая редкой седой щетиной, — Ряйсо не любил, чтоб жидкие пряди свисали ему на плечи, и всегда коротко стриг волосы. Эта огромная голова работала и ясно знала, чего хочет. Свои мысли Ряйсо высказывал прямо и не колеблясь. В Саарде, например, все еще идут распри из-за места старейшины. Необходимо вмешаться, поддержать ту или иную сторону, поставить старейшиной своего человека, который в нужный момент послушается его, Ряйсо, слова. Так же следует поступить и еще в нескольких близлежащих маленьких кихелькондах. Там, где не удастся добиться этого добром, придется применить силу. Не сделает этого Алисте, рано или поздно сделает кто-нибудь другой. Таким образом, в одних руках сосредоточатся крупные владения и легче будет разговаривать с Псковом и Ригой; можно будет и войной пойти, и укрепления построить. Велло слушал его с интересом и даже с завистью: какие большие дела задумывает! Но чтоб скрыть свои чувства, шутливо спросил: — А как с Мягисте? — И с Мягисте будет так же, — ответил Ряйсо, хитро улыбаясь одними глазами. — Давно бы надо объединить Мягисте с Алисте, — сердито заметила Урве. Разговаривая с Малле, она одним ухом внимательно прислушивалась к беседе мужчин. — Зимой приходили к нам купцы из Риги, — снова начал Ряйсо, — и у всех на языке одно и то же: к лету из-за моря опять прибудут рыцари. Против кого собирают их? Против кого учат крещеных воевать? Если они явятся — разве Мягисте в одиночку устоит? Или какой-нибудь другой крошечный кихельконд? — Я и сам не раз думал об этом, — ответил Велло и тут же удостоился похвалы Урве. — Ты рассудительный мужчина, я это давно знаю. — Следовало бы поговорить в Райкюле о защите границы, — заметил старейшина Мягисте. — В Райкюле! — презрительно воскликнул Ряйсо. — Сразу видно — ты еще молод! В Райкюле уже довольно говорили об этом, да и продолжают говорить! Этого недостаточно. Нужно дело делать, пока не поздно. Может быть, уже и поздно. Ведь то, о чем я говорил, быстро не делается. — Надо бы и с Лембиту посоветоваться, — предложил Велло. — С Лембиту? Старейшиной Лехолы? — переспросил Ряйсо, и по лицу его видно было, что это имя не по душе старейшине Алисте. — Этот человек чересчур широко замахивается. Ходит за море и в Новгород, Как будто мы можем надеяться на помощь оттуда! Да и что такое Лехола? Две-три деревеньки!.. Лембиту и ко мне не раз приходил. И он еще верит в Райкюлу. Надеется всех старейшин там образумить! За собой потянуть. Напрасная трата времени. — Если грянет большая беда, может быть, и послушаются его, — сказал Велло. — А не поздно ли будет?! — вставила Урве. Разговор ненадолго прервался, а когда возобнобновился, то заговорили уже о лошадях, о скотине. Урве вместе с Малле пошла к амбару. Вскоре поднялись и мужчины, они отправились на нижний двор. Ряйсо хотелось взглянуть на коней, но они паслись в лесу, а старейшине Алисте трудно было сегодня много двигаться на своих коротеньких ножках. К утру отдохнет, тогда и осмотрит все. "Завтра утром! — думал Велло. — Завтра утром встрече на берегу ручья не быть. Надо известить об этом Лемби". Он кликнул Кахро и направил его к Ассо с приглашением: пусть старейшина селения пожалует сюда вместе с дочерью! Если не может сегодня, то пусть завтра, к полудню. Издалека, совсем неожиданно, прибыли гости. Пусть встанут рядом обе: гордая Урве и рассудительная дочь сельского старейшины! Увидим тогда, кто из них победит! Урве вдруг кокетливо хлопнула в ладоши и шаловливо воскликнула: — Что я вспомнила!.. Старейшина Велло, покажи нам свой новый дом! Отведи нас туда. Сейчас же, поскорее! — Стоит ли смотреть, еще и стены не поставлены, — ответил Велло. — Да я толком и не знаю, что и как — мой работник Отть занимается этим. — Тогда вели позвать Оття, он пояснит нам, — продолжала тормошить его Урве. Позвали Оття. Тот вскоре пришел, прихрамывая, все с тем же насмешливым выражением на лице, и повел гостей к пологому склону осматривать стены нового дома старейшины. Стены были уже выше высоко поднятой головы Урве, но Отть сказал, что еще два-три ряда бревен прибавится. Пройдя через дверной проем, гости шагами измерили длину и ширину комнат, а локтем — высоту окон. Как Урве, так и Ряйсо нашли здесь что похулить и усердно поучали, как нужно сложить очаги, как покрыть крышу и настелить пол. Велло не спорил с гостями. Отть снисходительно усмехался. Заглянули и в амбар, осмотрели хранившееся там зерно, одежду и оружие. Ряйсо покачал головой: держать такие богатства поблизости от границы, в нескольких десятках миль от врага! Выступив на закате, враг к полуночи будет уже в Мягисте! Велло вспыхнул и повысил голос: разве справедливо поступают северные кихельконды! Мягисте приходится одному охранять большую дорогу. Как будто только Мягисте угрожает опасность! Как будто Мягисте обязано слать гонцов на север, когда из-за болот и лесов появляется враг! — Все это можно обсудить, — заметил Ряйсо, как бы желая сказать: зачем же сердиться и повышать голос. — Для того я и здесь, чтобы уладить дела. Поставим человек двадцать охранять границу. С собаками! Через каждые полмили — два воина. Они вернулись в дом; в комнате на лавке уже сидели Малле и Урве. Притворы с обоих oкон были отодвинуты, и солнечный свет падал на коричневые шкуры, которыми был устлан пол. — Посмотри, отец, какие замечательные мечи на стене! — воскликнула Урве. — Это отцовские, — сказал Велло. — Ими не подобает хвастаться. Кое-что, правда, я купил у псковских купцов. Гостю же следует показывать оружие, которое хозяин самолично отобрал у врага. — Но ведь из Саарде вы вернулись не с пустыми руками, — молвила Малле. — Что об этом толковать... — остановил ее брат. Вайке вместе с другой служанкой внесла и поставила на стол деревянные блюда с яствами и большой кувшин меду. — Урве, ты совсем забыла... — порывистее, чем обычно, пробормотал вдруг Ряйсо. — И верно, — испуганно ответила Урве и, схватив Малле за руку, повлекла за собой к выходу. Вскоре они вернулись; следом за ними шли трое слуг с ношей. Когда распороли тюки, из первого высунулись блестящие острия пик, железные наконечники копий, связки стрел, топоры без рукояток, бронзовые большие щиты с украшениями и меч с позолоченной рукояткой. Передавая этот меч Велло, Ряйсо молвил: — Защищай Мягисте и Алисте! Разъединило их глупое упрямство, объединит — разум. Все, что здесь есть, — он показал на остальное оружие, — может когда-нибудь понадобиться воинам. Урве том временем развязала второй тюк. В нем окапались копченые глухари, тетерки и куры, большой кувшин меду и второй кувшин с сушеными ягодами. — К чему это? — с досадой воскликнула Малле. — Пришли незваными, — ответила Урве и развязала третий тюк. В нем были расшитые одеяния, платки, пояса, а в маленьком узелке — две броши и два широких бронзовых браслета. — Это тебе и Лейни, — молвила Урве и горделиво улыбнулась. — Но где же Лейни? — вдруг спохватилась она. — Уж не больна ли она, или, может?.. — Нет, — ответила Малле. — Она жива и здорова, но все еще оплакивает сына и ищет уединения. Часто уходит в лес и много времени проводит в хижине у хромой Рийты — там тихо и спокойно... — Я слыхала, будто та женщина — крещеная, — сказала Урве. Велло встревожили ее слова: все-то известно в этом далеком Алисте! — Да, ей окропили голову водой, но это не причинило ей вреда, — спокойно ответила Малле. Все расселись на шкурах вокруг низенького четырехугольного стола. "Вот и купили меня, — думал Велло, глядя на стол, уставленный всякой снедью, привезенной из Алисте. — Кто знает, что за колдовские зелья подмешаны в эту еду, чтоб приворожить меня! И можно ли будет после всех этих даров отказаться от Урве!" Ряйсо, держа в руке крыло птицы и с жадностью обгладывая его, стал высказывать свои мысли о крещении: — Я слышал патера. В зимние вечера наши старики, чтоб разогнать скуку, рассказывают истории и пострашнее... У кого ясная голова, тот не поверит. Поверит слабый, бедный, убогий. Тот, кто в беду попал либо рассудка лишился. Велло думал о Лейни: неужто и в самом деле она лишилась рассудка? Плотно поев, попробовали напитки — те, что были приготовлены в доме Велло, и те, что привезли с собой гости, а затем разлеглись на шкурах и стали обмениваться новостями. Отдохнув, снова вышли во двор. Стадо паслось совсем близко, на опушке, и поэтому решили пойти взглянуть на него. Там же паслись и лошади. Отть, сопровождая старейшину Алисте, рассказывал ему о Риге, о том, как живут рыцари. Урве жалась к Велло, и он ощущал на своем лице ее дыхание. Но Велло даже не глядел на нее. Он стал говорить ей о неудачном отеле нескольких коров, о двойнях-ягнятах и о жеребенке с двумя отметинами на лбу. Видно было, что Урве все это не очень-то интересовало: она ждала от старейшины Мягисте взглядов, полных любви и страсти. Но Велло так ни разу и не взглянул на нее; он продолжал громко, с увлечением, словно это было для него самым главным, рассказывать о пожоге, о том, как валили старый лес. Когда они подошли к опушке, где паслось стадо, Велло облегченно вздохнул — Урве стала разглядывать коров и расхваливать отцовское стадо. Ряйсо учил Оття, как лечить копыта у лошадей. На следующее утро, когда Велло с гостями сидели во дворе под ясенями и завтракали, пришел Ассо. Он пришел один, и Велло подумал, что так оно и лучше. Пусть. Все уже решено. Он посватается к этой белобрысой гордячке, которая, уперев руки в бока, стоит как столб посреди двора и свысока смотрит на слуг и служанок, то и дело выкрикивая приказания. Да, он посватается к ней, и Мягисте объединится с Алисте, станет сильнее Сакалы, Уганди или Лехолы и начнет присоединять к себе один кихельконд за другим. Лишь тогда сможет он начать войну и добиться мира! Пусть только попытается теперь Рахи натравить на него народ! Ассо держался со старейшиной Алисте с достоинством, не терялся перед его самоуверенностью и противопоставлял его суждениям свои. Ряйсо и Урве исподтишка кидали на него почтительные, даже завистливые взгляды. Велло мог гордиться своим ближайшим советчиком. Однако ему было стыдно перед Ассо, и поэтому он не отваживался даже взглянуть на него. Велло чувствовал, что, решив жениться на Урве, предал своего старого друга. Пока хозяева и гости завтракали, слуги на нижнем дворе устроили себе забаву — кидали копья, метали топоры, пробовали силу во всякого рода борьбе. По окончании трапезы старейшины вместе с Урве и Малле тоже вышли во двор посмотреть на игры. Отть и Кахро предложили мужчинам, прибывшим из Алисте, померяться силой и ловкостью, и выставили против них лучших воинов своего селения. Оказалось, что Ряйсо тоже прихватил с собой самых сильных, ловких и смелых. Лучше всех метнул копье в цель тщедушный Кахро, да и стрелу точнее него никто не сумел пустить: Кахро попал в самую середину черного кружка, нарисованного углем на столбе изгороди. Кинуть пику так же далеко, как кидали гости, ему было не под силу, и поэтому он не стал состязаться с ними. Не стал он бороться и врукопашную. В этой борьбе мужчины из Алисте оказались куда более ловкими и вышли победителями. Затем все — Велло и Урве впереди — отправились в священную рощу и развесили на ветках дары; потом побывали на качелях, поглядели на игры молодежи, обошли поля. Казалось, старейшина Алисте был всем доволен, а дочка его — еще больше. После обеда во двор привели лошадей и накрыли их коврами. Наступила минута расставания. Слугам с лошадьми, оставшимися на нижнем дворе, пришлось довольно долго ждать своих хозяев. Ассо и Малле отошли в сторонку, а Велло, Ряйсо и Урве стояли под ясенями и обсуждали, когда же старейшина Мягисте сможет побывать в Алисте. Как дочь, так и отец намекнули, что целью этой поездки должно быть сватовство. По выражению лица Велло и по его словам видно было, что он понимает это. Сошлись на том, что приедет он после окончания жатвы, в пору, когда неотложные работы в поле уже закончены, а дни стоят еще погожие, дороги сухие, и листва еще не опала. На глазах у отца молодые люди обнялись и поцеловались, причем больше по инициативе Урве. Затем все трое присоединились к остальным. Когда Велло протянул руки, чтобы помочь невесте взобраться в седло, она при всех бросилась старейшине Мягисте на шею и стала говорить ему слова любви. Велло мужественно играл свою роль; не стыдясь, он поднял свою невесту, посадил на коня, сам вскочил на другого и поехал со своими людьми провожать гостей. Доехав до большой дороги, которая вела с юга в Алисте, Велло торопливо повернул домой, словно хотел поскорее от кого-то избавиться. Ассо он сторонился и ехал рядом с Кахро, расспрашивая его о том, о сем с одной лишь целью: отогнать от себя мысли об Урве, о ее горячих объятиях и одновременно заглушить зарождающиеся в сердце сомнения. — Почему Лемби не пришла вместе с отцом? — спросил oн вдруг у Кахро. — Рахи пришел к ним, — ответил верный слуга и отвернулся. Он знал, что эта весть не обрадует старейшину. — Рахи пришел! — с досадой воскликнул Велло. Но, устыдившись своего порыва, равнодушно добавил: — А копье ты бросил куда лучше, чем парни из Алисте. Сердце его пылало. Он готов был тотчас же мчаться к старому Ассо, схватить Лемби за руку и твердо, по-мужски сказать ей: "Ты и только ты моя невеста. Пусть об этом знают все и в Мягисте, и в Алисте! Пусть даже духа Рахи не будет в доме моей невесты!" Но, стегнув коня поводком, он проскакал мимо дома любимой и даже не посмотрел в ту сторону, боясь увидеть Лемби у ворот. Все смешалось у него в голове и в сердце. Но ведь он старейшина, он обязан всегда ясно знать, что делать и чего не делать... Да, как старейшина он должен посвататься к Урве. Но ведь он не только старейшина, он еще и Велло!XIX
Патер покинул Мягисте, не повидав Велло. Вскоре Вайке принесла весть, которая распространилась уже повсюду: Лейни и ее служанка Марья окрещены, а кроме них еще одна бедная вдова и двое старичков. Послушать беседы и молитвы патера ходил и кое-кто из мужчин помоложе, но всерьез ни один из них учения патера не принял. По вечерам крещеные собираются в хижине у хромой Рийты; опустившись перед распятием на колени, они вслух читают молитвы. Днем же усердно работают, но при этом молятся; избегают веселья и шума. Так говорила Вайке. Слушая ее, Велло попытался улыбнуться, но на сердце у него было неспокойно. — Больше тебе делать нечего, как собирать сплетни по деревне, — притворяясь сердитым, сказал он Вайке. — Я думала, старейшине следует знать об этом, — ответила девушка и быстро отошла в сторону. Не будь Лейни его сестрой, не воюй он из-за нее — своей рукой поджег бы лачугу, разогнал молящихся, велел бы остричь их наголо и смыть крестильную воду песком и щелоком, — в ожесточении думал Велло. Он был так мрачен, что его не решались посвящать во все, что происходило в Мягисте. Только Малле не боялась брата, но и она молча хлопотала около него по хозяйству. Отть что-то бурчал про себя, был, как и старейшина, угрюм и замкнут. Начался сенокос, и народ из селений высыпал на луга, к берегам ручьев и на лесные прогалины. Днем оттуда доносился звон натачиваемых кос, а по вечерам — веселый смех, говор, звуки рога, каннеле, песни молодежи. В селениях стало тихо, во дворах оставались лишь дети, старики и старухи, да еще собаки — они лежали в тени и тяжело дышали, высунув розовые языки. Велло, при жизни отца косивший и убиравший сено вместе со всеми, нынче не мог работать. Сделав несколько прокосов, он втыкал косовище в мягкую землю и на ходу бросал Кахро, что дома его ждут дела — надо помочь Оттю на стройке. Велло без сожаления покидал косарей, так как видел, что люди при нем замыкаются и молчат. Он понимал, что со своими заботами он лишний среди этих веселых и радостных людей. Однажды под вечер, вернувшись с сенокоса домой, он увидел Лейни. Она сидела во дворе, у стены на завалинке, и вышивала шаль. — Слава Иисусу Христу ныне и присно и во веки веков! Аминь, — благоговейно произнесла сестра. — Ты что это? — пробормотал Велло и, не зная, что еще сказать, прошел мимо. Он сделал вид, будто ищет что-то, а сам стал украдкой наблюдать за сестрой. Затем спокойно, без досады, даже дружелюбно начал расспрашивать ее: когда ушел патер, сколько человек окрестил, когда придет снова? На все вопросы сестра отвечала ясно, серьзно — так, славно рядом был покойник, при котором не подобало вести пустые разговоры. "Человек, который так ясно отвечает на вопросы, не может быть полоумным", — подумал Велло, садясь рядом с Лейни. Он заставил себя успокоиться и как бы между прочим спросил: — Все еще печалишься о сыне? — Нет, — ответила сестра. Она перестала вышивать, уронила на колени руки, державшие шаль, но глаз не подняла. — Ты чем-то озабочена? — Если бы все были так радостны, как я! — Чему ты радуешься?.. — спросил Велло. — Моя радость в боге и в Иисусе Христе! Велло не понял этого, но, взглянув в лицо сестры, увидел, что оно светится от переполняющей ее чистой радости. — Этот патер опять скоро придет? — спросил он, когда молчание стало тягостным. — Дай бог, чтобы он пришел поскорее! — молвила сестра и снова принялась за работу. — О чем он говорит с тобой? — О боге, его сыне, пресвятой матери божьей и райском блаженстве. Велло усмехнулся. Он не хотел начинать спор и тревожить сестру. Вдруг Лейни посмотрела ему в глаза — просительно и вместе с тем требовательно — и, словно заклиная, произнесла: — Позволь патеру окрестить себя, и ты познаешь истинного бога! — Я... я должен позволить окрестить себя?! — воскликнул Велло так, словно ему угрожала большая опасность. — Или ты не знаешь, что патер заодно с рыцарями, что он из одного с ними вражеского стана? И если его бог существует, то он тоже наш враг! Лейни покачала головой и в умилении проговорила: — Этот бог любит всех людей и хочет, чтобы они пришли к нему. Устами патера он зовет к себе всех, чтобы они обрели вечное блаженство. — Ты, верно, слышала, — начал Велло после безуспешных раздумий о том, как убедительнее воздействовать на сестру, — ты, верно, слышала, что все крещеные ливы, латгалы и рыцари — наши враги. У них только одно на уме — грабить и убивать нас. Или они заставляют нас грабить и убивать! — Патер говорит, что мы должны страшиться не тех, кто отбирает у нас добро или умерщвляет нашу плоть, а тех, кто губит нашу душу. Велло покачал головой, встал и медленно отошел от сестры. Мало-помалу ему становился ясен смысл сказанного ею: "Позволь патеру окрестить себя..." Конечно же, через Лейни патер пытается превратить старейшину Мягисте в послушное орудие рыцарей, а затем через старейшину — и весь народ Мягисте. Нет, в Мягисте черноризник не найдет второго Каупо! Встретив Малле, Велло сказал ей предостерегающе: — Еще раз предупреждаю — не говори с Лейни об "этих вещах". — Почему? — спросила Малле не без лукавства — Неужели ты не понимаешь, куда клонит это рижское учение?.. Чтоб мы выпустили меч из рук и позволили дочиста ограбить себя! Хотят сделать нас рабами! — взволнованно воскликнул Велло. — И в Мягисте очагом этого учения должен стать дом самого старейшины!***
С этих пор Велло сделался для всех еще более недосягаемым. Распоряжения он отдавал издали, жалобы разбирал стоя на верхнем дворе или сидя на каменной скамье под ясенями, был немногословен и даже сердит. С копьем и с пучком стрел у пояса, с луком на плече, он почти целыми днями бродил по лесам; изредка ему удавалось подстрелить какую-нибудь птицу; он часами просиживал на стволе упавшего дерева и возвращался домой еще более мрачным, чем уходил. Отть с помощью двух слуг уже начал крыть крышу горбылями, но старейшину это не интересовало. Иногда по вечерам он доходил лесом до самого селения Ассо и бродил там по безлюдным тропам, словно ожидая кого-то; но стоило ему увидеть или услышать, что кто-то приближается, как он сразу же сворачивал в сторону. Когда же совсем темнело, он шел в священную рощу, садился под старыми березами и слушал крики ночных птиц и шелест осин, но язык их оставался ему непонятен.Однажды под вечер, бродя по лесу неподалеку от деревни Ассо, Велло увидел на тропинке девушку; она быстро приближалась. Он остановился в крикнул так, словно перед ним возникло привидение: — Лемби! Дочь Ассо шла из дому, держа в руках веревочные силки. Лицо, шея и руки девушки напоминали цветом красную медь, волосы отливали золотом, задумчивые глаза под загорелыми веками были словно голубые озерца. Она улыбнулась кроткой отцовской улыбкой и внимательно поглядела на Велло, словно хотела проникнуть ему в душу. — Я немного провожу тебя, — молвил старейшина после того, как они дружески поздоровались. — Тебя нигде не видно, — сказала девушка и озабоченно посмотрела на него. — Времена такие, — посетовал старейшина. — Я слышала — у тебя неприятности, — сказала Лемби. — Ты не о Рахи ли?.. Пустое это... И словно боясь, что его спутница еще чего доброго заговорит о посещении Ряйсо, старейшины Алисте, Велло стал рассказывать ей о патере, о крещении сестры, ее служанки и других и высказал свое мнение о новом учении. Лемби слушала его с интересом и в конце концов сказала: — Однажды я говорила с Лейни. Она мне очень понравилась. Мы повстречались с ней, и она с благоговением произнесла: "Слава Иисусу Христу!" Меня прямо за сердце взяло. Но все же... — Поговори с ней, Лемби, — попросил Велло. Он взял девушку за руку, они стояли теперь совсем рядом, и Велло вдруг стало ясно: вот кто его избранница, а не Урве из Алисте! Эта девушка пьянит, словно крепкий напиток. А Урве не пробуждает таких чувств, ее поцелуй, словно тепловатая вода, которая не утоляет жажды. — Лемби... — начал Велло, — почему ты не пришла, когда приезжали гости из Алисте? — Я была занята по дому, — уклончиво ответила девушка. — Рахи приходил? — Да, приходил... — Слыхать, он часто бывает у вас... — с трудом сдерживая гнев, сказал Велло. — Да, он ходит к нам... — промолвила Лемби. Велло понял, что у него, как жениха Урве, нет права упрекать девушку. Небось, все Мягисте уже говорит об этих прощальных поцелуях. — Лемби, — овладев собой, начал он снова, — Лемби, мало ли что было!.. Знать бы мне, что у тебя на сердце... и как ты относишься к Рахи... — Я — к Рахи? — воскликнула девушка. — Он часто бывает у вас... — Он всегда был добр к отцу... Но когда отец сказал, что не согласен... — С чем не согласен? — переспросил Велло и пристально поглядел в глаза своей спутнице. — Не согласен стать старейшиной Мягисте. — Ах, ты об этом!.. Конечно же, твой отец на поводу у такого не пойдет. — Рахи все равно не оставляет в покое, — озабоченно произнесла девушка. — Кого? — Отца... Настаивает... Дойдя до ручья, они остановились. Велло заглянул в глаза девушке и спросил: — Что же он делает? — Вот и вчера зашел к нам: пусть, мол, отец послезавтра придет в священную рощу на собрание. — Собрание?.. В роще?.. — Разве ты не знаешь? — удивилась девушка. — Никто не говорил мне ни слова, — сердито бросил Велло. — Послезавтра сгоняют народ со всех семи селений... — А я и не знаю! — гневно воскликнул Велло, но потом рассмеялся и, обняв девушку за плечи, беззаботно произнес: — Если позовут — пойду. Но никого другого, кроме твоего отца, я не хочу видеть старейшиной.Они свернули в лес, поставили силки и медленно побрели к дому, беседуя о сенокосе и приближающейся жатве. У Велло созрело решение, но он не хотел говорить о нем, пока не выяснит намерений Рахи. Подойдя ко двору Ассо, Велло обнял девушку, посмотрел ей в глаза и, с трудом сдерживая себя, сказал: — Подожди, Лемби, скоро все будет позади... Тогда поговорим... Он притянул Лемби к себе и поцеловал ее в лоб. Потом быстро зашагал через лес домой, словно увидел там зарево пожара. Во дворе было пусто, только Лейни, скрестив руки и устремив взор к небу, сидела на каменной скамье под ясенями и молилась. — Святая Мария, матерь божья, заступись за нас, грешных, ныне и в смертный наш час! Аминь! Велло прошел в комнату, кликнул Малле и велел принести лучину — тотчас же, быстро! И позвать Оття или Кахро. А лучше пусть придут оба. Малле с испуганным видом внесла зажженную лучину и сказала, что Вайке пошла звать слуг; Велло взял лучину и отослал сестру. Вскоре пришел Отть, без шапки, с презрительным выражением на лице. Он опустился на лавку и провел ладонью по блестящей лысине.Вслед за ним вошел Кахро, кинул робкий, озабоченный взгляд на старейшину и остановился. — Садись, — повелительно сказал Велло. Кахро подсел к Оттю и взял лучину в свои руки. — Вы что же, ничего не знаете о намерениях Рахи? — зло спросил старейшина. — Теперь-то знаем, как не знать, — с досадой ответил Отть. — Хорошо знаем. — Знаете, а молчите! — гневался старейшина. — Разве с тобою поговоришь? Как тут скажешь, если ты никого не подпускаешь к себе! — проворчал Отть. — Все, что он делает, известно, — вставил Кахро. — Послезавтра созывавет людей в священную рощу. — И пойдут? — Пойдут просто так, послушать, поглядеть. — О чем же Рахи будет говорить с ними? — О чем? О том, что строить укрепление — напрасный труд! — ответил Отть. — Что нужно договориться с латгалами и рыцарями, чтоб те никогда больше не совершали на нас грабительских набегов. Тогда, мол, не придется держать охрану на дорогах. И все такое. — Ну, а кто же будет старейшиной? — спросил Велло. — Он сам... Кто же еще. Говорили, будто он хотел удостоить этой чести Ассо, но тот ни в какую... Так уж, наверное, сам. — Что ж, и мы пойдем туда? — желчно пошутил Велло. — А то как же! — серьезно ответил Отть. Кахро отломил сгоревший конец лучины и со своей стороны добавил: — Киур и Кюйвитс предупредили своих людей. Все они вооружены. Мы тоже готовы... Если старейшина повелит, можем сразу же свести счеты с Рахи... — Раз у меня такие хорошие сельские старейшины и слуги, — виновато улыбаясь, ответил Велло, — то мне и знать незачем, что за козни собирается плести там Рахи... Решим так: я туда не пойду. А вы идите. И когда надо будет — вмешайтесь! Мечи и ножи держите под полой! — Выпустим у Рахи немного крови, — обрадовался Отть. — А то уж надоедать начал, — вставил Кахро. — Выпустим малость крови и у всей его шайки — может, утихомирятся, — добавил Отть. Все же Велло велел позвать Кюйвитса, Киура и даже Ассо и долго совещался с ними. Все вместе они решили, что Велло участия в этом деле не примет, сельские же старейшины с верными людьми отправятся в рощу... Как только будет подан знак, все вытащат мечи и ножи... И пусть прольется кровь, коли иначе нельзя. И без того достаточно долго терпели этого главаря грабительской шайки!ХХ
В священной роще народ собирался обычно по зову старейшины. Последний раз жители всех семи селений были там, когда предавали огню тела воинов, погибших в Саарде. Но в одиночку и небольшими группами туда ходили часто. Беседовали с душами предков, вешали на ветви дары, молились, сдирали кору с вековых деревьев либо уносили с собой горсть земли, чтоб уберечься от хвори или другой беды. В этот день старейшина никого не звал сюда. Но еще задолго до захода солнца люди со всех селений устремились к роще. Первыми прибежали босоногие мальчишки и девчонки; за ними, опираясь на палки, приковыляли седые старушки и старики; вскоре пришли девушки и парни, затем — женщины и, наконец, группами и в одиночку — вооруженные мечами мужчины. Стариков и детей оттеснили подальше, к деревьям, девушки и женщины тоже отошли в сторонку. Посреди рощи, образовав большой круг, остались вооруженные мужчины. От ожидания лица у всех были возбуждены, люди беспокойно переходили с места на место, недоверчиво переговаривались друг с другом, ждали событий. Вдруг со стороны дороги раздался крик: "Идет, идет!" Вверх по склону, по окаймленной деревьями дороге, тяжелой походкой подымался Рахи. На голове у него был ярко-желтый кожаный шлем с бронзовым гребнем и ободком, ворот был украшен серебряными блестками, а у пояса висел меч с золоченой рукоятью. Рахи выступал важно, высоко задрав голову и выпятив грудь; следом за ним шли вооруженные слуги, некоторые из них были незнакомы жителям Мягисте. Перед Рахи расступились, разговоры смолкли, люди боязливо разглядывали воинственно шагавших слуг. Рыжеголовый взошел на маленький зеленый холмик под старой ветвистой березой, царственно-приветливым взглядом окинул народ и зычным голосом воскликнул: — Народ Мягисте! Молодые и старые! Женщины и мужчины! Все, кто собрался здесь! Украдкой взглянув налево и направо, он начал говорить. Он сказал, что собрались сюда не для веселья и не для того, чтобы в знак благодарности разжечь жертвенный огонь. Беды и заботы привели сюда народ Мягисте. Кого не терзают они? Каждого, только не старейшину Мягисте. Уже отец его, одряхлевший от старости, давно перестал понимать, что надо и чего не надо делать. При нем к весне в селениях не оставалось ни зернышка, ни соломинки, люди голодали в нетопленных домах, скот околевал в хлевах — старейшина же жевал мясо, которое добывали для него в лесу слуги, и запивал сладким медом. Как бесполезна и даже вредна для Мягисте была его жизнь, так постыдна оказалась и смерть: беспомощный мужичок с двумя хилыми сынками повел народ Мягисте под Беверину. И стоило врагу ненароком коснуться его бедра, как он свалился. Его бросили в сани и привезли домой, чтоб сжечь в священной роще. Народу надлежало тут же выбрать старейшину, который стал бы заботиться о нем, повел бы его к победам. Но все были настолько подавлены неудачей под Бевериной, что даже не заметили, как вместо дряхлого старикашки старейшиной самовольно стал мальчишка. Вскоре народ Мягисте дорого поплатился за это... — Все вы еще помните, — распаляясь все больше, продолжал Рахи, — как зимой здесь были преданы огню жертвы его легкомысленного военного похода. Разве это не издевательство? Все вы знаете, что многие из наших лучших сынов до сих пор еще не оправились от ран, полученных в этом глупом походе. Старейшина сводит свои семейные счеты, ему нужна добыча, а мы, выходит, сопровождай его, позволяй убивать и калечить себя. Довольно! — Довольно! Довольно! — закричали с разных сторон, вкладывая разный смысл в эти слова. Далее Рахи обвинил старейшину в том, что тот задумал взвалить на плечи народа новое бремя — строить укрепление! Будто оно защитит кого-то! Не защитит и самого старейшину! Постройка укрепления не что иное, как обман людей, — старейшина заодно с врагом: сестра его уже окрещена, патер был в доме старейшины. Подождите, скоро услышим, что и сам старейшина дал окропить себе голову крестильной водой. Затем Рахи снова вернулся к походу на Саарде: — Имеет ли кто право начинать войну против зятя, если сестра не годится тому в жены? Каждый из вас, вероятно, видел эту полоумную Лейни. Сына бросила на съедение волкам, сама стала бродяжничать и позорить Кямби! Приходит сюда, подстрекает брата, и тот созывает людей: в Саарде, мол, легко захватить добычу! Добычей он вас и склонил к походу. Но многие полегли там, многих привезли мертвыми домой — показать родичам; добычу же старейшина взял себе! Вот как поступает старейшина Мягисте, этот жадный мальчишка! Мало того, что он разоряет ближний кихельконд и старейшину, говорящего на одном с ним языке. В своем кихельконде, здесь, в Мягисте, никто ни ночью, ни днем не может быть спокоен за свой скот или иное имущество! Все вы слышали, что у меня отняли овец и коров, вынудили отнести Велло и другое добро. Мой дом опустошен. Пусть каждый придет и убедится в этом своими глазами. В мой дом старейшина врывается ночью с множеством людей, вооруженных мечами, наносит раны слугам, обыскивает амбар и тащит то, что ему приглянется. Сзади послышался громкий смех, и Отть весело воскликнул: — Если есть еще что сказать — говори... Да поскорее ... Близится вечер, скоро зайдет солнце. — Есть! — ответил Рахи. — Близится вечер, это верно! Но до того мы кое-кого еще послушаем и кое-что увидим. Здесь, рядом со мной, стоит человек — честный, порядочный человек! — Рахи похлопал по плечу незнакомца. — Это брат Кямби... Мало того, что Велло ворвался ночью в Саарде, убил спящего старейшину, ограбил и поджег его дом. Он натравил народ Саарде на брата Кямби, опорочил его перед старейшиной Алисте и другими старейшинами. Несчастный человек вынужден был искать приюта у чужих. Я пустил eго под свой кров до тех пор, пока он не сможет как старейшина вернуться в Саарде. — Это предатель! Он ходит за Вяйну! Он брат грабителя! Он сам, как Кямби! — закричали сзади. Рахи попытался изобразить на своем красном и потном лице презрительную усмешку и что было мочи заорал: — Народ Мягисте! Избери себе нового старейшину! — Избери Рахи!.. Избери тогo, кто грабит купцов... Избери того, кто крадёт силки! — орали наперебой. Отть же громко расхохотался. — Я приказываю молчать! — крикнул Рахи, выхватил меч и поднял его над головой. В то же мгновение Кахро вытащил из-под полы круглый бронзовый щит и трижды громко ударил по нему коротким мечом. — Вперед! — воскликнул Киур, стоявший с ножом в руках рядом; расталкивая людей, он бросился со своими воинами вперед. Поднялся невообразимый шум, крик, зазвенело оружие, загремели щиты. Кюйвитс со своими людьми атаковал слуг Рахи с другой стороны. Те не стали биться, побросали оружие и спрятались за деревья, а затем в панике, взапуски с женщинами и детьми, кинулись вглубь леса. Рахи исчез прежде, чем воины Велло добрались до него. На опустевшей полянке остались лежать четверо приближенных Рахи — они были ранены. Подняв руки, воины попросили не убивать их. — Никто вас, сукиных детей, не трогает! — воскликнул Отть, разочарованный тем, что не получилось настоящей схватки. Вскоре вернулись Кахро, Кюйвитс и Киур. Рахи и брат Кямби скрылись в лесной чаще. Вероятно, скоро они уже будут за Сяде, в Латгалии. Отть сплюнул, вложил меч в ножны и сердито проворчал: — Этакая падаль! Теперь спокойно не поспишь!***
Когда слуги вместе с Киуром и Кюйвитсом подходили к дому (Ассо в роще не видели), навстречу им с нижнего двора, со стороны хлева, с беззаботным видом вышел Велло. — Так быстро управились? — шутливо обратился он к пришедшим. — Все у нас сорвалось! — виновато ответил Отть. — Как... сорвалось?.. — переспросил старейшина. — Удрали, выродки! — добавил Кахро. Киур обстоятельно рассказал обо всем, что произошло в роще, и зло выругался. — Сплоховали, надо было встать к ним поближе, — заметил Кюйвитс. — Тогда бы сразу можно было ударить мечом. А то как тут ударишь, когда наши люди на дороге мешаются! Стали тут же держать совет и порешили — уже сегодня в ночь выставить стражу на всех лесных тропинках, в селения же разослать приказ: если появятся Рыжеголовый и брат Кямби — убить их! — Давно следовало убить Рыжеголового! — зло отрезал Киур. И тут за спиной у мужчин, со стороны ясеней, послышался тихий женский голос: — А я говорю вам: любите врагов своих, благословляйте тех, кто проклинает вас, и творите добро тем, кто вас преследует! Все удивленно оглянулись, словно услыша голос из другого мира. — Этому научил ее тот черноризник, — виновато промолвил Велло. — Это все равно что учить овец любить волка, — с горечью заметил Отть.ХХІ
Яровые хлеба на полях пожелтели, лето кончалось, дни стояли еще жаркие, но заря по вечерам угасала раньше, и в полночь духи опять могли незримо витать по лесам. Новый дом старейшины уже подвели под крышу, Из толстых отесанных бревен на солнце сочилась смола, которую Кахро усердно собирал для лечения ран. В доме не хватало еще дверей и оконных притворов, чтобы закрывать окна изнутри. Крыша была покрыта горбылями в несколько рядов, щели между ними законопачены мхом, чтобы зимой не выдувало тепло. Пол выложили из плоских камней. Потом их покроют деревянными досками и настелют сверху шкуры, чтобы ноги не зябли. В доме было четыре большие комнаты, одна рядом с другой, с бревенчатыми стенами и дверьми. В каждой комнате — печь с огромным устьем. К двум крайним комнатам примыкали небольшие сени. Отть, довольный, ходил вокруг нового дома, давал распоряжения людям, а когда надо — и сам прикладывал руки. Пройдет некоторое время — от молодого месяца до полнолуния, — и можно звать гостей. Не придется стыдиться Ряйсо, Лембиту, Мээме и других старейшин Сакалы. Велло сможет взять трех жен и дать каждой по комнате. Малле и Лейни с Марьей отлично могут жить и в старом доме. Да и не так-то уж он стар, только строился в большой спешке, после того как литовцы сожгли здесь все дотла. Места в нем мало, пол неровный, в стенные щели, когда бушует метель, задувает снежную пыль, и крыша во время сильного дождя протекает. Но ведь жили там до сих пор, смогут жить и впредь. Высокий забор обогнет вскоре новый и старый дома, и ворота здесь будут покрепче, чем были у Кямби. После бегства Рахи Велло чувствовал себя и дома, и в селениях настоящим хозяином Мягисте. Он стал приветливее, разговаривал со встречными, гладил по голове детей, шутил со служанками и слугами, ходил иногда на качели и плясал там с молодыми девушками. В Мягисте у него теперь не было врагов, а в ожидании нападения извне не стоило дрожать дни и ночи. Да сохранят нас боги и добрые духи! А уж то, что суждено, надо встретить без страха и отчаяния. На сердце у него было ясно. В ближайшие дни он отправит в Алисте Кюйвитса и Оття. Пошлет привет, подарки и велит сказать, что старейшина не может приехать в гости. Если начнут допытываться — почему, можно ответить, что, мол, ходят слухи, будто старейшина задумал жениться. А станут выспрашивать подробности — пусть ответят: невеста его — прекрасная дочь сельского старейшины Ассо — Лемби, равной которой нет во всей Сакале. Но это пусть добавят от себя. Уж Отть-то знает, как сказать, да и Кюйвитс не оплошает. Но прежде надо еще раз переговорить с Лемби.***
В день, когда молодежь снова устроила гулянье перед тем, как приступить к жатве, когда парни и девушки качались на качелях и парами гуляли по лесу, торопясь, пока не наступила осень, повеселиться и насладиться жизнью, — в этот день старейшина направил свою сестру Малле к Ассо, велев ей позвать Лемби в полдень на Еловую гору. Холм, носивший это название, так густо порос деревьями, что солнце туда почти не проникало и редко чья-либо нога ступала сюда. Велло, одетый по-праздничному, но без оружия, если не считать ножа, спрятанного под полой, пришел на Еловую гору заранее. Лемби запаздывала. Она шла, тихо напевая, и уже миновала холм, словно забрела сюда случайно. Велло нарочно дал ей пройти мимо, любуясь из-за деревьев ее легкой, упругой походкой и гладкой загорелой кожей гибких рук. Концы ее белого с красным шитьем платка свисали ниже поясницы. Коричневые ноги были голы, отороченная бронзовым шнуром полосатая юбка доходила до икр. С бедра спадали концы узорчатого пояса. — Лемби! — тихо окликнул ее старейшина. Девушка испуганно глянула наверх и, увидев спускавшегося Велло, пошла ему навстречу. Велло при виде этих загорелых рук, коричневых ног и гибкого стана захотелось сразу же заговорить о чувствах, переполнявших его сердце. Но он сдержался, как и Лемби. Да и нелегко было выразить словами то, что теснило обоим грудь и волновало кровь. Прижавшись друг к другу, они пошли дальше к югу, отодвигая руками ветки и разговаривая о сенокосе, о погоде, о приближающейся жатве, о лесных зверях и духах. Они принуждали себя говорить, чтобы не дать вырваться наружу огню, пылавшему в их сердцах. Дойдя до болотистого места, они сняли башмаки, и Велло перенес девушку. Им хотелось пройти туда, куда редко заглядывал кто-либо из Мягисте. Потом они сели, обулись и стали взбираться по пологому склону. На гребне холма кустарник поредел, кое-где встречались прогалины. Свернув с дороги, усталые от жары и ходьбы, они снова присели на зеленой траве в кустах орешника. Лемби вытянула загорелые ноги. Велло лег навзничь, положил голову ей на колени и стал глядеть на нее. Да, это та девушка, на которой он женится, будь с Мягисте что будет. Сказал же старый мудрец еще при жизни отца: то, к чему стремится человек, — ему на благо, если желание его не порождено злом. Продолговатое лицо Лемби было покрыто ровным загаром и напоминало цветом бронзовый, только что начищенный щит. Ни у кого нет таких густых, темных, круто изогнутых бровей. Ни у кого нет таких задумчивых и в то же время добрых глаз, которые проникают в твою душу и читают в ней. Ни у одной девушки нет такого тонкого правильного носа, который, правда, не образует единой линии со лбом, а чуть выдается вперед; но как раз это и пленительно. Ни у кого нет таких красных, как брусника, красиво очерченных губ, столь опасных и соблазнительных, что хоть бросайся ничком и вой! Велло обнял девушку и, жарко дыша, произнес: — Лемби... Можешь ли ты... Можешь ли ты быть ласковой со мной... — Когда же ты едешь в Алисте? — добродушно поддразнивая его, спросила девушка, и в уголках ее рта появились ямочки. — Я не поеду. Пошлю Оття и Кюйвитса. Они скажут, что следует. Лемби поглядела ему прямо в глаза и с материнской серьезностью сказала: — Я знаю, как важно для Мягисте, чтобы ты привел сюда Урве. — Я думал об этом дни и ночи, — ответил Велло. — Но потом я почувствовал — есть нечто сильнее меня. И это нечто толкает меня к тебе наперекор всему. Это превыше всего остального. Сколько ночей я сгорал от тоски по тебе! Когда я видел серп луны в небе, я думал о тебе. Когда я видел звезды, загоравшиеся на западе, я думал о тебе. Незабудка на лугу напоминала мне тебя, и ромашка на краю поля — это была ты. Соловей нынче весной заливался в кустах черемухи над ручьем — и я рвался к тебе! Велло сел, притянул к себе Лемби и несколько раз поцеловал ее долгим поцелуем. Он чувствовал, что Лемби обнимает его, прижимается к нему и целует так, словно и ее томит жажда. — Детей хочу от тебя, много детей, — сказал Велло, прерывая поцелуй и глядя девушке в глаза. Из полумрака, из-под кустов, поднимался запах поздних цветов, над головой, на солнце, жужжали, звенели и кружились шмели и комары. Воздух был
полон томительного очарования последних дней лета. Соки жизни не перебродили еще в траве, цветах, деревьях, зверях и людях. Лемби очнулась первой, провела рукой по лбу, поправила платок и дрожащими губами, с тревогой в глазах, молвила: — Нынче последнее лето, когда я еще... цвету.— Она отвернулась и смахнула катящиеся по щекам слезинки. — Я помню, наш мудрец говорил: разве цветок на лугу печалится, что назавтра должен увянуть, — сказал Велло. Но и в его голосе зазвучала грусть, когда он произнес: — Ты цветешь и будешь приносить плоды! Разве это не радость, если когда-нибудь у тебя будет много сыновей?! — Много сыновей — много забот. Где-то падет один, где-то убьют другого, где-то умрет третий, а глаза матери и не увидят этого. — От твоих слов и у меня тяжко на сердце, — положив голову девушке на колени и глядя в небо, сказал Велло. — Порой мне хочется верить в этого бога Лейни и хромой Рийты, — виновато призналась Лемби. — И ты?.. Верить в этого страшного духа, придуманного рыцарями и черноризниками? В того, кто радуется, когда грабят и убивают, если ему это выгодно ... — Но у Лейни и Рийты нет забот, они всегда радостны, ничто не страшит их ... — И мы можем жить беззаботно! Только нужно быть смелым. Когда пойдем домой — прислушайся: разве не сама радость доносится оттуда, с качелей... Чего ж нам бояться, Лемби! Лемби! — Вы, мужчины, умеете быть бесстрашными, — ответила Лемби. — А женщины... У нас должен быть кто-то, кто нас оберегает и защищает. — Я буду тебя защищать и оберегать! — воскликнул Велло, обнимая девушку. Они встали, когда солнце уже зашло за вершины деревьев. Обнявшись, они шли по лесной тропе, время от времени останавливались, целовались и продолжали путь. Мудрость древних говорит, что счастливее тот брак, который заключается после дня зимнего солнцестояния. Поэтому свадьбу решили отложить. А до тех пор довольствоваться счастьем частых встреч. Пусть все Мягисте знает, что они — жених и невеста! Пусть люди в селениях видят и днем и ночью, что старейшина ходит наведывать свою любимую! Где-то совсем близко прокричал ястреб. Лемби испугалась и крепче прижалась к Велло.
ХХІІ
Из Уганди пришла весть: немцы вместе с крещеными латгалами приходили туда грабить и убивать. "Вчера там, сегодня здесь!" — охали в Мягисте; в течение всей жатвы никому спокойно не спалось. Велло усилил охрану на дорогах, и каждую ночь один из воинов стоял у ворот дома. Постройку укрепления отложили до следующего лета; в нынешнем году народ не испытывал, казалось, ни малейшего желания браться за эту нелегкую работу. Летом было немало дел в поле, осенью же предстояло молотить хлеб. И когда ночи стали темнее, возрос страх перед врагом. Вздохнули посвободнее и стали крепче спать лишь тогда, когда начались дожди, поднялась вода в ручьях и реках и дороги в низинах стали непроходимыми. Велло переселился в новый дом, которому заботами Малле, Оття и Кахро был придан жилой вид. В самом деле, ни у кого здесь не было такого дома: вверху, от одной стены к другой, тянулись жерди, настолько плотно пригнанные друг к другу, что крыши было и не видать. Над печкой зияло большое отверстие для дыма. Волчьи шкуры устилали пол, у стола же лежали две медвежьи. Стол сделали так: вбили в пол четыре коротеньких столбика, укрепили на них две поперечные доски, а сверху, вплотную, покрыли их продольными досками. Малле накрыла стол полосатым ковром, а низенькие колоды и пни вокруг стола, служившие сиденьями, — шкурами. Стены она тоже украсила шкурами. Кахро вбил в щели палочки, повесил на них вдоль, поперек и крест-накрест оружие старейшины, унаследованное от отца и полученное в дар от Ряйсо. Рядом с окном, над лавкой, где спал старейшина, Кахро повесил два продолговатых бронзовых щита, а остальные щиты — поменьше, круглые — разместил среди прочего оружия. При свете лучины они сверкали и переливались, и Малле и Кахро не могли нарадоваться работе своих рук. В комнате рядом с Велло пока поселились Малле, Вайке и еще одна служанка; следующая комната была отведена для Оття и Кахро, а крайнюю — предложили Лейни. Но она и слышать об этом не хотела. Ей были нестерпимы громкий смех Оття, его насмешки и шутки. Так что на первых порах, пока старейшина не женился, эта комната пустовала, и Малле со служанками пряли и ткали здесь. Лейни с Марьей остались жить в старом доме. Лачуга, которую Лейни выстроила рядом с хижиной хромой Рийты, не выдерживала осенних дождей. Вскоре стало известно, что по вечерам все крещеные собираются у Лейни и, преклонив колени перед небольшим бронзовым распятием, читают молитвы. Услышав это, Велло не проронил ни слова; он лишь крепко стиснул зубы и в душе проклял черноризника.***
Время от времени уже выпадал снег, но держался недолго — едва успев покрыть землю, таял. Кахро усердно высчитывал месяцы и дни; старейшина частенько спрашивал его, как долго еще солнце будет опускаться, и порой просто с нетерпением допытывался, почему в этом году оно так медлит и отчего не поворачивает? Но в конце концов земля затвердела, вода покрылась льдом, а поваливший затем мягкий снег ковром лег на дорогах и полях и, осыпавшись с ветвей, запорошил лес.Мужчинам наскучило сидеть в продымленных избах и заниматься домашними работами; все до единого они теперь отправлялись в лес, привесив к поясу пучок стрел и вооружившись луком. Звери и птицы, переставшие за время дождей бояться человека, то и дело попадались им на пути, и в сумерках охотники возвращались домой с богатой добычей. — Еще один раз взойдет молодой месяц, и тогда солнце остановит свой путь и снова повернет обратно! — провозгласил Кахро. Сердце у Велло забилось сильнее — скоро он приведет Лемби в свой дом! При мысли об этом счастье он задрожал, и его охватила доселе неиспытанная тревога о завтрашнем дне: а что, если как раз теперь случится беда! Велло направил несколько отрядов воинов охранять дороги — ближние и дальние, велел всем оставшимся дома держать оружие под рукой и даже разрешил Кахро поворожить. Верный слуга отправился в баню и плотно прикрыл дверь. Как он там колдовал и ворожил — никто не видел. Но вышел он оттуда озабоченным и, придя к старейшине, молвил, пытаясь улыбнуться: — Не так уж плохо! Правда, вижу я не одну опасность... но одна минует нас с запада, другая с востока, а третьей мы избегнем сами. — А Лемби? Как она?.. Дойдет ли она до моего дома? — шутливо спросил Велло. — Да, но окольными путями. — Но все же дойдет? — Непременно! — Вот и хорошо! — успокоившись, произнес старейшина.***
Наступили холода, повалил снег. Как-то мужчины, охотившиеся в лесу, принесли весть: в густой чаще, за ручьем, обнаружена медвежья берлога. Царь лесов готовится к зимней спячке, о добыче больше не заботится, знай себе урчит и медленно кружит по лесу. Велло распорядился все подготовить к охоте — с утра, спозаранку они отправятся в лес и притащат медведя домой! Давно уже все истосковались по опасностям и схваткам. Да и медвежий окорок к свадьбе не окажется лишним. На дворе потеплело, с юго-запада дул тихий ветер. В селении, в ожидании завтрашнего дня, было оживленно. Еще до полудня Велло отправился к невесте. Увидев Ассо, он позвал и его на медвежью охоту, но пожилой старейшина отказался. Как тут поделишь одного зверя, когда столько народу, — пусть уж идут те, кто помоложе! Лемби с женихом вышли во двор; казалось, что- то гнетет ее. — Завтра отправляемся на охоту. Будет у нас к свадьбе медвежий окорок, — пошутил Велло. Но девушка словно не расслышала шутки; очень тихо, с какой-то даже затаенной тревогой она сказала: — Лейни приходила сюда... — Зачем? — сердито спросил Велло. — Она просила меня поговорить с тобой... — О чем? — Чтобы ты разрешил окрестить себя. Сказала, что тогда тебе не придется бояться ни рыцарей, ни латгалов. Ей патер говорил... — Ну, конечно, этого черноризника видели здесь несколько дней тому назад... Чтобы я разрешил окрестить себя?! Нет! В эти сети я не попадусь!.. Ничего, мы еще разорвем эти сети! — с угрозой произнес Велло. Но, поглядев девушке в глаза, смягчился, сказал на прощанье несколько ободряющих слов, поцеловал ее и поспешил к кузнецу, чтобы наточить свой нож. На пути ему встретился сын мудреца — Лейко. — Ну, так как? Все еще думаешь: пусть, мол, враг грабит и убивает — умнее он от этого не станет? — пошутил Велло. — А ты полагаешь — станет? — спросил Лейко, сверкнув маленькими беспокойными глазками. — А мне все равно — поумнеет он или нет!.. Главное, чтобы не отнял у меня жизнь и добро! — Тут ты жестоко ошибаешься! Жестоко! — ответил Лейко, тряхнув головой в заячьей шапке, и, напуская на себя важность, добавил: — Когда враг умнеет — это самое опасное. — И затем с воодушевлением продолжал: — Важно ведь не то, умрем мы или будем жить, победим или потерпим поражение, побежим или станем преследовать! Важно — думать, и только думать! — О чем же? — спросил Велло. — О том, что такое жизнь, что такое смерть, что такое победа, что такое поражение, и так до бесконечности! — Ты в самом деле "мудр"! — произнес Велло, которому наскучило слушать Лейко. И каждый пошел своей дорогой. Кузнец стоял перед дверью, спрятав руки под передник; голова его была непокрыта, лицо почернело от сажи. Завидев старейшину, он улыбнулся и насмешливо спросил: — За брошью пришел или за браслетом? — С чего ты взял? — Слыхал, что в новолунье у тебя свадьба. — Это так. Но завтра я собираюсь идти на медведя, а нож затупился, — сказал старейшина, вытаскивая нож из ножен. Кузнец взял его в руки, погладил лезвие и, не глядя на старейшину, желчно произнес: — Да, таковы дела на этом свете... И я хотел Лемби... А она слушать не стала... У меня нет ни полей, ни слуг, ни служанок... Ни настоящего жилья, ни коней... Корова и та пасется где попало, там, где трава посочнее. Эх-хе-хе! Что ж! Ладно!.. Сейчас мне точить недосуг... Пришли попозже слугу... Нет ли у тебя хорошего меду? — Возьмем медведя, тогда будет... — ответил старейшина и отправился в обратный путь. "Нет, не может того быть, — размышлял он про себя, — чтоб Лемби шла за меня потому, что у меня есть дом, добро и кони. Но порой бывает и так. Ведь пошла же Лейни за Кямби только потому, что у него было много ковров, серебряных и золотых украшений!" До вечера еще оставалось время; Велло свернул с дороги и зашагал через поле к видневшимся на опушке леса шалашам. Там жили слуги из селения Киура со своими женами и детьми, а также рабы с остриженными наголо головами. Велло знал, что в этих жилищах гнездятся грязь и нищета, что там живут больные дети и слабые, беспомощные старики. В хижины своего селения он время от времени наведывался, давал советы, оказывал помощь, но его всегда поражало, как равнодушны были эти люди к своим страданиям, как редко выражали недовольство и как тихо и безропотно умирали. Заботу о бедняках и лечение больных Велло возложил на Малле и Кахро. В селении Ассо это было обязанностью Лемби. Старейшина не раз выговаривал Киуру: не дело держать рабов. Они наши враги и в сердце своем затаили злобу на нас. Но Киур отвечал на это: — В Латгалии и Литве наших мужчин и женщин еще не так мучают. Пусть сперва освободят их и отправят домой! Кстати, мои рабы и не знают, откуда они родом. Куда они пойдут? Велло повернул назад и вышел на проселок — сегодня ему не хотелось видеть ни хижин с их нищетой, ни больных и рабов. Он пришел домой в сумерках. Во дворе его ждал Кюйвитс. На нем был волчий полушубок, у пояса — оружие, на голове — шлем с железным ободком. Все мускулы его лица были напряжены, словно он с трудом сдерживал себя. — Старейшины Сакалы так и не договорились об охране. На большой дороге вот уже несколько ночей не видать ни одного человека, — произнес Кюйвитс; он стоял неподвижно, опустив руки, чуть наклонив вперед голову, и напряженно смотрел на старейшину, словно ожидая приказа и боясь пропустить хотя бы одно слово. — Что ж, нам одним не под силу охранять их, — в сердцах ответил Велло. — Так что наших людей туда не посылать? — Не посылать! — после некоторого колебания упрямо ответил старейшина. — Завтра известим их, что дорога врагу открыта... Мягисте будет охранять лишь ту дорогу, которая ведет в его селения! Кюйвитс поклонился, повернулся кругом и быстро пошел со двора. Велло отправился в конюшню, отдал слугам распоряжения, а затем прошел на верхний двор старого дома. Здесь оказалось пусто. Он заглянул в комнату — в ней было совсем темно — и прислушался. В соседней комнате Лейни читала ясным и торжественным голосом: — О всемогущий бог, верую во все, чему ты учишь через свою церковь. О всемогущий бог, укрепи мою веру! Велло схватился рукой за голову и вышел. "Не кто иной, как черноризник, научил ее этим словам", — с горечью подумал Велло. Он медленно зашагал к своему новому дому. Открыв дверь, Велло увидел Оття. Тот, сгорбившись, сидел на лавке и держал в руках лучину. Отть даже не пошевелился, когда вошел старейшина. Велло сел в сторонке от него и через некоторое время спросил: — Что с тобой?.. Слуга поправил лучину и, не поднимая глаз, мрачно произнес: — Что-то кости ломит... — Так ты истопи баню... Полежи, — участливо посоветовал Велло. — Чего уж там... Всему приходит свое время... Болезням и старости... Вот и начинаешь думать: к чему все!.. Хоть бы в какой стоящей битве смерть пришла... Не ходок я завтра на медведя! Лягу на лавку и буду ждать — годы, десятки лет... Обуза я только всем... — Чего это ты вдруг!.. — пытался успокоить Оття старейшина. — Еще вместе на войну пойдем. Но старый слуга был неутешен. Смотря на дрожащий в его руках огонек, он продолжал: — Мне уж теперь нечего надеяться умереть, как подобает воину. А что потом? Патер проповедует: всех крещеных на небесах ждет блаженство... Спасибо, мы не желаем идти туда вместе с этими разбойниками — хо-хо-хо! — засмеялся Отть, и в грубом его смехе звучала грусть. Он отломил обгоревший конец лучины, и уголек, описав по комнате красную дугу, отлетел к печке. Мужчины, согнувшись, сидели на лавке и глядели в одну точку. Их одолевали мрачные мысли.
І
В это время дружина крещеных латгалов двигалась по дороге, что вела из Вынну через Койву, Аутине и озеро Асти к реке Сяде. Месяц был на ущербе; погода стояла пасмурная, в вершинах деревьев шумел ветер, заглушая шорох копыт на мягком снегу. По двое в ряд, склонившись к гривам коней, с копьем или пикой в руке, всадники быстрой рысью в безмолвии ехали на север. За конницей, растянувшейся на целую милю, быстро двигалась пехота — она была заранее, словно за плотиной, сосредоточена в лесах близ границы. Дорога не охранялась, впереди — ни преград, ни препятствий. Перейдя Сяде, воины сбавили шаг и стали внимательно смотреть по сторонам в поисках проселочных дорог. Маленькие отряды вскоре свернули влево и вправо, а главные силы двинулись дальше, на север, чтобы к утру добраться до самого сердца богатой Сакалы. И вот уже первые отряды ворвались в селения. Как на хищников, бросались на чужеземцев дворовые псы, но, раненные или испуганные кинутым в них копьем, разбегались. Из домов выскакивали полуодетые мужчины с ничего невидящими спросонья глазами. Но еще прежде, чем они успевали распознать в темноте врага, копье протыкало им грудь, топор рассекал череп и меч отрубал голову или руку. Тот, кому удавалось ухватиться за разящее оружие и отвести удар, кидался на врага, и тогда оба падали на землю и катались по ней, как вцепившиеся в друга псы, скрежетали зубами, кусали и душили один другого. Вслед за мужчинами во двор выбегу полунагие женщины, сразу попадая под удар дубины или топора, под острие меча или копья. Убивать их было так же легко, как косить свежую траву, когда и рука не устает, и коса не тупится. Если кто-либо пытался пересечь двор и скрыться, вдогонку ему летело копье или дубина, и несчастный, получив удар в спину или в затылок, ничком валился в снег. Враги срывали и выламывали двери домов, шарили копьями вдоль стен, наугад размахивали топорами, а услышав вблизи человеческий голос, с наслаждением наносили удары до тех пор, пока не наступала тишина. Иные из выбегавших во двор мужчин, вырвав из ограды кол или вытащив из поленницы полено, начинали бешено крутить ими, тесня и преследуя врага. Но брошенная сзади дубина раскраивала смельчаку непокрытую голову. Убегавших преследовали на дорогах, которые вели от дворов к лесу, кидая им вслед копья. Враги, притаившись за деревьями и кустами, поджидали несчастных на лесной опушке. Они выскакивали навстречу беглецам, и те со всего размаху натыкались на вытянутое копье или спотыкались о подставленное под ноги древко и падали ничком. Тогда им мечом отрубали голову либо дубиной раскалывали череп, словно орех. Во дворах и на дорогах ловили молодых женщин Им накидывали на шею петлю и, держа за волосы и угрожая, торопливо вязали руки и ноги, а затем тащили к месту сбора. Иная женщина, ползая во дворе на коленях, умоляла пощадить ее и ребенка. И ей даровали эту пощаду — обоим рассекали топором головы и спешили дальше: работы было много. Уже замелькали в домах, амбарах и дворах огоньки зажженных лучин: враги рыскали повсюду в поисках добра, снося в кучу шкуры, одежду, оружие, украшения и продукты. Оставшиеся в живых мужчины и женщины, стоило только занести над их головами меч, показывали тайники, где были спрятаны сокровища, и сами тащили всякое добро. Из хлевов выгоняли коров и овец, под уздцы выводили лошадей. На темном небе там и сям вспыхивало оранжеватoe зарево; из-под навесов крыш поднимались сизоватые клубы дыма и вырывались светло-желтые языки пламени. Стоило какому-нибудь старику, женщине на сносях или нагому ребенку выкарабкаться из подожженного строения, как их сразу же настигал враг. Вопль ужаса, исторгаемый несчастными, обрывался одним ударом оружия столь внезапно, будто лопалась натянутая струна. Окруженный врагами, навзничь на земле, ревел и скрежетал зубами истязаемый, которому горящей головней жгли бок, шею или грудь, дознаваясь, где скрыты сокровища. Жалобно лаяли покинутые псы; в отчаянии, пронзительно кричала девушка, над которой совершали насилие; плакал брошенный ребенок; мычали коровы; стонал у ограды раненый; галдели и орали крещеные разбойники. А огонь, радостно потрескивая, лизал сухие доски крыш и смолистые жерди шалашей. Враги грели у огня окровавленные руки, складывали в кучу добычу, пересчитывали коров и овец. Оставляли стражу, вскакивали на коней и мчались дальше — впереди было еще много неразграбленных селений, много неубитых мужчин, женщин и детей.***
Велло снился кошмарный сон. Покойный брат, держа меч плашмя, отчаянно колотил в щит; дружина, выстроившись, стояла на склоне заснеженного холма; мужчины что-то кричали, размахивали руками, словно собираясь с силами, однако с места не двигались. Ноги их застряли в глубоком снегу, точно в вязкой глине. А враги тем временем приближались; не поднимая ног, они словно скользили с вершины холма, держа наготове копья. Велло знал, что это латгалы, но тем не менее видел на плечах у них развевающиеся белые плащи с красным крестом, а на головах — сверкающие шлемы. Он напряг все силы, стараясь вытащить застрявшие в снегу ноги, закричал и — проснулся. В комнате не видно было ни зги, со двора неслись вопли, шум, отдельные выкрики: "На помощь, на помощь!.. В деревне враг!.. Спасайтесь!.. Будите мужчин!.." Велло вскочил, натянул на себя одежду, обулся и ощупью нашел на стене оружие. Страшный шум во дворе усилился, распахнулась дверь, кто-то кликнул старейшину. В один миг он был во дворе. Опережая друг друга, в смятении бежали мужчины и женщины. Они выли, визжали, причитали... К этому гвалту примешивался непрерывный звон щитов и протяжный, жалобный зов трубы, возвещающий беду. Велло сзывал людей, выкрикивал имена. Он звал, приказывал, бряцал рукоятью меча о щит. Мимо него с плачем, в развевающихся рубахах, проносились женщины. Откуда-то с топором в руках появился Кахро. — Коней выводи! Коней!.. — приказал Велло и побежал через двор. Он вспомнил о Лемби — коли враг здесь, то уж подавно и там; с той стороны он и вторгся в Мягисте. Надо спешить туда на помощь. — Коней! Быстро! Из темноты вынырнули еще двое или трое безоружных слуг. Сильно прихрамывая, бежал Отть. В руке у него был обнаженный меч. Какие-то темные тени отделились от хлева — то были кони. Пересекая двор, бежала служанка и что было мочи кричала: — Они в доме! Спасайтесь! Со стороны дома неслись чьи-то предсмертные крики, слышались проклятия на чужом языке, раздавался звон оружия и разноголосый гвалт. — Тут ничего не спасешь! — проворчал Отть. На востоке, над дорогой, ведущей в Мягисте, появилась красновато-желтая полоса. На дворе стало светлее. — Постереги коней! — сказал Велло слуге. — Пошли! — крикнул он остальным. — Только тихо, крадучись, — сиплым голосом предупредил Кахро. Навстречу по двору бежали двое мужчин; они говорили на чужом языке. Кахро метнул копье и угодил одному из них в грудь. Велло кинулся наперерез другому, отрубил ему руку, затем голову и процедил сквозь зубы: — Крещеный пес! Прячась среди кустов, Велло и сопровождавшие его воины пробрались к дому, внезапно врезались в толпу врагов и стали рубить, колоть и теснить их. Вскоре двор опустел; шум и проклятия доносились теперь со стороны дороги. Велло бросился в дом и вынес оттуда охапку оружия, тогда все вместе перебежали двор, быстро поделили между собой топоры, копья, щиты и мечи, вскочили на лошадей, обогнули хлев и через поле помчались к лесной опушке. Кахро скакал впереди — он хорошо видел в темноте. Отть старался держаться подле старейшины; оглядываясь назад, он ворчал: — Всюду они, куда ни глянь... Через поле к лесу бежали мужчины и женщины с плачущими детьми. Увидев всадников, они с воплями кинулись в стороны. Миновав последнее селение, всадники свернули с поля на дорогу. Впереди темнела группа людей. Они что-то кричали. — Вперед! — приказал Велло, и все подняли копья. Но враг бросился врассыпную и исчез. Немного проехав, все оглянулись: серовато-желтые клубы дыма, похожие на грибы, поднимались к небу; зарево охватило весь восточный небосклон. — Гляди! — воскликнул Кахро, дотронувшись до руки старейшины. — И на северо-востоке горит! — Они уже в Алисте! — молвил Отть. У Велло было такое чувство, словно у него отнялись руки и ноги. К чему скакать дальше? Спасать свою жизнь? А на что она, если Мягисте разорено? Неужто бог рыцарей наслал эту беду? — Не вернуться ли нам? — обратился старейшина к Оттю. — А что толку, — равнодушно ответил Отть. — Смерть следует искать там, где от нее больше всего пользы. Молча они двинулись дальше. Вскоре дорога повернула на северо-запад, и теперь, не оборачиваясь, можно было видеть, как на востоке и северо-востоке все разрастались отсветы пожара — одни поближе, другие подальше. — На этот раз они дойдут до Вильянди, — желчно промолвил Отть и, помолчав, добавил: — Кто знает, может быть, это и к лучшему! Может быть, старейшины Сакалы возьмутся наконец за ум. Ветер, свистя, задувал всадникам в лицо, утомленные кони тяжело дышали. Велло пересчитал людей — их было восемь. Меж деревьев, там и сям, мелькали гребни шалашей и скособочившиеся низенькие лачуги. Отть обернулся и крикнул слуге: — Поди разбуди спящих! "Здесь можно было бы получить подкрепление", — подумал старейшина, но воля его ослабла, в душе была тупая ненависть к кому-то, кто неодолим и кому сопротивляться бессмысленно. У него отняли Лемби, отняли Мягисте... Разве сможет он возместить эту утрату, уничтожив нескольких врагов! В следующем селении люди, заметившие полыхавшее на востоке зарево, метались в панике; посчитав всадников за врагов, они с воплями бросились бежать кто куда. Теперь дорога повернула на север, и с пригорков отчетливо стали видны густые клубы серовато-желтого дыма, поднимавшиеся на северо-востоке. Всадники спешились — надо было дать коням передохнуть; люди в молчании стояли подле тяжело дышавших животных. Не хотелось ни смотреть друг на друга, ни даже слышать свой собственный голос. — Скоро встретимся с ними, — нарушил молчание Отть. — Что станем делать? Нас всего восемь... — Коли в Алисте все удирают, чего ж нам смотреть... —заметил один из слуг и робко глянул на Велло. — Собрать бы несколько десятков человек, — воинственно начал Кахро, но, увидев вокруг мрачные лица, закончил весьма скромно, — может, не дали бы тогда огню распространиться. — Поглядим, сколько в ближайшем селении осталось людей, — ответил Велло. Он думал о Лемби и видел около нее Рахи. Он видел Малле и Вайке в руках врагов, видел вырывающиеся из домов и пляшущие на юго-западном ветру огромные языки пламени. Он видел неприятеля, забиравшего добро, угонявшего скот, уводившего коней... Рассветало. Стоило больших трудов задержать в селении нескольких мужчин. Панический страх объял всех, у всех в мыслях было лишь одно — укрыть жен и детей, угнать в лес скот, спрятать добро. Только трое парней — у них не было ни родных, ни имущества, за которое они могли бы дрожать, — поймали разгуливающих по двору лошадей, подобрали кинутое впопыхах оружие и присоединились к всадникам; их беспечность немного подбодрила воинов Велло. Теперь помчались прямо на север. Чем дальше, тем пустыннее были селения; легче было встретить лошадь, нежели человека. Все же к полудню отряд насчитывал четырнадцать хорошо вооруженных воинов на быстрых конях. На одном из пригорков Кахро слез с коня, взобрался на вершину высокой ели и стал обозревать окрестности; впереди, в нескольких десятках миль отсюда, — очаги огня; длинной дугой они тянутся с северо-востока к востоку и югу. Кое-где в селениях их встречали как защитников и просили останься, суля помощь всех мужчин. Однако покинуть свой дом, чтобы помочь другим селениям, и выступить навстречу врагу никто не соглашался. Люди не понимали, что ради этого стоит подвергнуть опасности жизнь. Велло же не находил сегодня слов для убеждения робких и колеблющихся, Отть не хотел и рта раскрыть, чтобы пристыдить их, а один Кахро никого уговорить не смог. Вскоре ветер донес до них запах дыма — враг был уже на севере. Перед "работой" воины захотели подкрепиться и свернули в опустевшее селение. Съестного в амбарах и в домах обнаружили в избытке, кое-где оказался и мед, и от этого настроение у людей поднялось. Велло и Кахро ни крошки не отведали. Отть хлебнул лишь меда, потирая левое бедро. Мало-помалу старейшина пришел в себя, душа его обрела покой, застыла, и только жажда мщения возросла. Он велел Оттю и Кахро созвать мужчин из близлежащих селений, сам же остановился на дороге, равнодушно глядя на людей, бегущих в паническом страхе. Вскоре Отть и Кахро вернулись с ответом. "Обратись к нам кто-либо из старейшин Сакалы, — сказали одни, — мы бы знали, что есть дружина, которая будет драться с врагом". Другие спросили: "Верно ли, что вы укроете нас в какой-нибудь крепости?" А третьи не стали скрывать своего страха: "Вся Сакала охвачена огнем и дымом, куда ни ступи — везде враг! Стоит ли с десятью-двадцатью людьми идти навстречу ему? Неразумно это. Лес да заросли — вот где единственное убежище и спасение!" — Насильно тащить не будем! — резко произнес Велло и приказал скакать дальше. Он и сам вдруг стал сомневаться. Что за смысл торопиться вглубь Сакалы? Разве не могут тамошние старейшины сами собрать людей? В Мягисте они на помощь не приходят! Значит, им самим решать — давать ли отпор грабителям или дрожать в своей крепости и смотреть, как над селениями поднимаются облака дыма и языки пламени. Не лучше ли вернуться назад? На пути им встретилась небольшая группа мужчин и женщин — плохо одетых, изможденных, с узлами за спиной. Они бежали по дороге, но, завидев всадников, свернули на обочину и притаились за деревьями. Кахро вместе со слугами настиг одного и привел к старейшине. Выяснилось, что это были рабы: после того как хозяева убежали, они, схватив что попалось под руку, отправились на родину, не зная, собственно, где она и находится. Их головы под меховыми шапками оказались наголо остриженными. Все ждали, что решит старейшина. Но он равнодушно махнул рукой: что, мол, с них взять? — и поскакал дальше, остальные двинулись за ним. На развилке дорог Велло свернул направо, к востоку, откуда клубы дыма медленно перемещались на юго-восток. На сердце было горько: с ним, старейшиной маленького Мягисте, никто в поход не идет! Зря томит он здесь своих слуг и самого себя! Может быть, все они еще понадобятся в Мягисте. Они снова приближались к селению. Оттуда неслись пронзительные вопли женщин, шум и гвалт, поднятый мужчинами. Велло обернулся, взглянул на своих людей, но ничего не сказал. Уж они-то последуют за ним! Уж они-то сумеют прочитать в его глазах приказ: "Руби головы!" Враги стаскивали на поле, к краю дороги, награбленное в домах добро. Кто выгонял из дворов скот, кто волочил женщин. Велло, ударив коня мечом плашмя, галопом помчался вперед, Отть — за ним. Появление отряда Велло внесло в стан врагов замешательство: одни схватились за оружие, другие побросали его и побежали к лесу. Кто-то громко затрубил в рог. Велло наехал на вражеского воина и одним ударом меча прикончил его. Отть, кряхтя, дубасил направо и налево так, словно колол дрова; Кахро вместе со слугами бросился в погоню за удирающими, кидая им вслед оружие. Остальных грабителей настигли во дворе и убили, как псов. — Как будто полегче стало! — сказал Велло. — Словно изрядный глоток меду хлебнул! — отозвался Отть. — Да, никакая крестильная вода не защищает их черепов! — добавил Велло. — И этот Иисус Христос не приходит им на помощь, — криво усмехнулся Отть. Не слушая благодарностей освобожденных девушек, они взяли самое хорошее оружие, валявшееся рядом с убитыми, прикрепили к поясу по нескольку топоров и по связке метательных копий и поскакали дальше. Из-за леса поднимался дым. — Кто-то, видно, успел сообщить туда, не иначе, — раздался за спиной старейшины голос одного из слуг. — Ну и что!.. Вот и сразимся! А то будто скотину бьешь! — ответил Отть. Выехав из леса на край поля, они увидели снующих в селении всадников и пеших. Тотчас затрубила труба, раздались приказы. Все выстроились полукругом перед грудой добра, сложенного на поле; в середине встали пешие с копьями и топорами, по краям — всадники, всего человек двадцать. Велло, разделив своих людей на две группы, приказал им ударить по флангам изнутри, но беречь оружие и не кидать его зря. Сам же помчался к середине вражеского строя и метнул топор — спокойно, хорошо прицелившись. Несколько пеших пригнулись к земле, а один упал. Но вот на помощь к ним уже неслись всадники; они кричали, размахивали мечами, направляли вздыбленных коней прямо на воинов Велло и рубили поспешно, очертя голову, как попало. Велло не торопился. Он метнул два топора и теперь защищался бронзовым щитом, держа наготове меч, чтобы в удобный момент ударить. Когда такой момент наступал, он наносил врагу внезапно удар или пронзал его. Двое из отряда Велло пали. Кахро протиснулся поближе к старейшине; он не выпускал его из виду, защищая его и себя, и время от времени наносил быстрые удары своим легким остроконечным мечом. Чуть дальше, сквозь шум, крики и проклятия, слышался раскатистый смех Оття: ох-хо-хо-хо-хо! Велло знал, что Отть смеется после каждого удачного удара.
Еще двое слуг Велло пали. Враги с двух сторон теснили старейшину и Кахро, и им приходилось обороняться. Но уже совсем близко раздавался смех Оття; враг был расколот на две группы и начал отступать; уже многие бежали к лесу, за ними вскоре последовали и остальные. Отть со своими людьми преследовал врага по пятам. Двое всадников остались лежать на снегу, другие умчались. Поблизости с треском горели дома, стонали раненые, жалобно причитали связанные женщины. Отть вскоре вернулся. Он приказал одному из слуг отрубить головы всем раненым и даже мертвым врагам, ибо в народе существовало поверие, будто душа крещеного может вновь возвратиться в тело. Велло сошел с коня и присел у забора на камень. К его ногам подтащили за веревку раненого врага. Оття позвали в переводчики, и Велло, глядя в мертвенно-бледное лицо парня, начал его допрашивать. Ответы парня были едва слышны, их произносил умирающий, и поэтому в правдивости их можно было не сомневаться. Рыцарей здесь нет, одни латгалы под водительством Руссина, в основном с этой стороны Койвы, из Росолы, Трикатуа и с берегов Асти. Им был дан приказ грабить и убивать, затем жечь. Но вопреки приказу, они поджигали сразу. Снова был дан приказ: промчаться через все селения, убивая и наводя страх — и так по всей стране, — а на обратном пути захватить добычу. Два крупных отряда всадников должны были сразу же отправиться в Алисте и Вильянди, убить либо взять в плен старейшин до того, как они спрячутся в укреплениях. В одном зажиточном селении, неподалеку отсюда, тоже остался отряд грабителей. Проговорив все это слабым, прерывающимся голосом, враг, валявшийся на земле, в луже крови, испустил дух. — Подарим ему жизнь, — пошутил Отть. В это мгновение в доме рядом провалилась крыша и вверх взметнулось облако огня и дыма. Все сели на коней и поскакали дальше. В следующем селений, действительно, орудовал враг. Грабители, собравшись на краю поля, делили добычу и одновременно подкреплялись. Тут же на земле лежали связанные молодые женщины. Сперва чужеземцы приняли всадников Велло за своих, но, сообразив, что ошиблись, кинулись бежать. Однако всех их настиг удар в спину. Упав ничком на землю, никто из них уже не встал. Велло, воодушевленный победой, помчался дальше. В четвертом селении сосредоточились, видимо, все, кто отправился грабить вдоль этой дороги. Затрубила труба, и в одно мгновение враг оказался на конях; готовых к бою людей выстроили на поле, перед селением. Видно было, что кое-кому из мужчин приходилось воевать и прежде и они знали, как вести бой. Один из них, видимо, предводитель, приняв Оття, на голове которого был железный шлем, за главного, налетел на него с такой стремительностью, что старый слуга едва удержался в седле. Он начал напропалую ругаться и, обуреваемый злостью, бросился в бой. Велло старательно оборонялся и разил только тогда, когда был уверен, что не промахнется. Покончив с одним либо принудив его бежать, он принимался за другого — хладнокровно, сосредоточенно, с расчетом. Кахро прямо-таки танцевал на своем маленьком гнедом коне, появляясь то тут, то там, то слева, то оправа; он не давал врагу покоя, дразнил его, завлекал в атаку и неожиданно валил быстрым ударом своего легкого меча. Справа от Велло упал слуга, скорее по собственной неосторожности, чем из-за ловкости врага. Другие в испуге стали отходить. Теперь враг беспорядочно наступал; копье, брошенное одним из чужеземцев, пролетело мимо головы старейшины, задев сквозь кожаный шлем затылок. Поднятым щитом Велло ослабил удар и удержался в седле, но, получив затем дубиной по плечу, пошатнулся и упал в снег. Это увидел Отть; взревев от злобы, он очертя голову ринулся на атакующих, стал осыпать проклятиями своих людей, и его дикая ярость вызвала у них новый прилив смелости, — враг начал отступать. Кахро наскакивал то с одной, то с другой стороны, сбивая врага с толку, а Отть кружился, подобно вепрю, — и враг, Протрубив в трубу, умчался прочь. Велло сидел на снегу, прикрыв рукой окровавленный затылок. Кахро велел слугам принести воды и поискать в доме тряпок, а сам стал обтирать снегом рану старейшины. — Собирайте людей и коней — и немедля вперед! — сердито крикнул старейшина. Но слова его прозвучали беспомощно, и никто поэтому не поспешил выполнить приказ. Вскоре были принесены вода и чистые рубахи. Кахро перевязал старейшине голову белой холстиной. Глаза у Велло были закрыты, казалось, он дремал; губы его шевелились, но слов не было слышно. Отть рассуждал вслух: — Погонимся за ними, а там этих проклятых еще больше. Ясно, что по большой Сакалаской дороге нам до дому не добраться. У нас дорога одна — та, по которой мы пришли. Свернем к морю, отдохнем в каком-нибудь селении. Да и чего нам спешить в Мягисте? Сидеть на куче пепла да хоронить своих?! И затем громко добавил: — Вот мой совет: забрать всех коней и отправиться в ближний лес. Но прежде надо отыскать съестное, которое припрятал враг, и теплую одежду. Да побольше ковров! Начнет смеркаться, мы двинемся обратно той же дорогой, по которой пришли. И горе крещеным псам, если они попадутся нам! Слуги помогли Велло подняться и повели его в лес. — Не смогу отомстить им, на ходу бормотал он про себя, — На этот раз — не смогу! Но в другой... в другой раз... Погодите!.. И как это я не видел той дубины! Пусть Саюала сама себя спасает... — Да, теперь пусть каждый сам себя защищает! — желчно проворчал Отть. — Разве правильно, чтоб малый бился за большого! Чтоб малый сторожил, а большой спокойно спал! Затем он поглядел в направлении высокого ельника и благоговейно, словно ребенок старшему, сказал: — А теперь, добрый лес, Великий Защитник, укрой нас.
ІІ
Три дня убивали и грабили крещеные латгалы под предводительством своего старейшины Руссина на землях Сакалы, не щадя ни мужчин, ни женщин, ни детей. Они трудились с утра до вечера и убили триста старейшин и несметное число прочего люда, пока руки убийц не устали от этого великого кровопролития. Когда все деревни были залиты кровью язычников, они повернули назад, захватив много скота и пленных девушек. Медленно возвращались они, готовые к сопротивлению. Но после такой резни ни у кого не было ни сил, ни смелости преследовать врага. Освященные крещением грабители собрались в Беверине, что к юго-востоку от озера Асти, нашли там своего священника и нескольких рыцарей и вручили им богатые дары из награбленного добра. И поскольку как раз было воскресенье, то все в единодушной радости восхвалили господа за то, что он руками недавно окрещенных воздал отмщение этим язычникам. А предводитель Руссин у Беверинской крепости отверз свои уста и сказал: — Внуки мои расскажут своим детям и внукам до третьего и четвертого колена, что с помощью всевышнего сотворил Руссин с трупами сакаласцев.***
Лишь на пятый день Велло и его люди вернулись в Мягисте. Старейшина едва держался на ногах, голова у него была туго перевязана, на душе — пустота и горечь. Он сел на своем дворе под голыми ясенями и с тупым безразличием стал глядеть на пепел, угли и обгоревшие бревна — все, что осталось от его дома. Малле, закутанная в шкуры, с деланным спокойствием рассказывала о том, что здесь произошло. Она и Вайке побежали через лес и, перейдя ручей, укрылись в зарослях, что неподалеку от медвежьей берлоги. Следом за ними туда пришли служанки. Дом и хлев враги сожгли, амбар опустошили, но поджечь, видимо, забыли. Киур и кое-кто из слуг пытались сопротивляться. Киура ранили, но он под покровом ночи скрылся в лесу. Кюйвитс сразил нескольких врагов и тоже убежал. Половина жителей Мягисте погибла. Лейни и хромую Рийту не тронули. А также кузнеца и "мудреца" с женой, потому что при появлении грабителей они стали усердно осенять себя крестным знамением. — А Лемби? — воскликнул старейшина. — Рахи увел ее, — тихо ответила Малле. — Потому-то в доме Ассо ничего и не тронули. Малле прервала рассказ — ее ждали хлопоты по хозяйству. — Пошлите за Ассо! — приказал Велло. Кахро поспешил выполнить волю старейшины. Баню, что рядом с домом Велло, враг тоже забыл поджечь. В ней и поселились. С севера, из Сакалы, стали понемногу просачиваться вести. Старейшина Алисте, вовремя узнав о приближении врага, вместе с дочерью и многими приближенными спешно уехал в Вильянди. — Это вместо того, чтобы идти на юг, навстречу врагу! — язвительно заметил Велло. Да и старейшины других кихелькондов, что к востоку и северу от Алисте, бежали, оставив большие стада, огромное количество различного добра, а также женщин, детей и стариков, которые не в силах были спастись бегством. Собрать людей в окрестностях Вильянди или на севере и начать преследовать врага, который, угоняя большие стада, не мог быстро двигаться, — также никому в голову не пришло. Вскоре явился Ассо, постаревший более чем на десять лет, сгорбленный и жалкий. Лицо его и подбородок покрылись седой щетиной, рот был беспомощно полуоткрыт, руки бессильно повисли. Подобие улыбки промелькнуло на его лице — он не скрывал, что рад видеть старейшину. Рассказ его был коротким. — Уж лучше бы они забрали все... или сожгли. Но оставили бы дочь... Рахи был там... Ассо мужественно боролся с собой, чтоб сдержать слезы. Велло думал на некоторое время доверить Ассо управление Мягисте. Однако теперь он видел, что старый друг, потеряв дочь, совсем сдал. Что ж, остается надеяться только на себя. И вот, сидя днем на каменной скамье под ясенями, еще не сняв повязки, Велло начал руководить отстройкой Мягисте. Кахро был при нем, а Кюйвитс, объезжая верхом все семь селений, исполнял обязанности старейшины Мягисте. — Растормошить как следует всех, кто сидит на пепелище и ноет! — было первым приказом Велло. — Разогнать мужчин и женщин, которые собираются на дорогах и у ворот, чтобы вместе скорбеть и оплакивать погибших. — Немедля послать людей в лес валить деревья для новых жилищ! — Если погода окажется подходящей — настрелять птиц и зверей; в крайнем случае можно прожить и на этом мясе. Мальчишкам и девчонкам ежедневно расставлять в лесу западни и силки! Велло выкрикивал свои распоряжения громким монотонным голосом, словно перед ним стояла дружина в тысячу человек, а не тщедушный Кахро. Кюйвитс ездил из селения в селение и выкрикивал приказы еще громче, чем старейшина, делал вид, что он рассержен и разгневан. Ассо выделил овец и коров из своего стада всем, у кого сохранился хлев. Спустя несколько дней к Велло пришла Лейни, холодно и отчужденно взглянула на кучи пепла и углей и, обращаясь к брату, благоговейно произнесла: — Слава Иисусу Христу! Аминь. Велло, не зная, что ответить на это, желчно проворчал: — Говорили, будто добр и милосерден этот бог крещеных и его сын! — Он добр и милосерден ко всем, кто крещен и кто верует в него, — с достоинством ответила Лейни. — А-а! — протянул Велло и добавил насмешливо: — Мы порубили им головы и порубим еще! Милосердный бог не защитил их. Он уже было пошел, но вернулся и с издевкой спросил у сестры: — Так что там говорит твоя вера о любви к ближнему? — Люби ближнего, как самого себя, — ответила сестра. — Я хочу поговорить об этом с патером. Когда этот черноризник снова притащится сюда, пошли его ко мне! — повелительно сказал Велло. — Он не пойдет к тем, кто высокомерен душой. — Тогда я прикажу, чтоб его схватили и привели ко мне! — воскликнул Велло с нескрываемой ненавистью. — Не навлекай на свою голову гнева божьего! — Что ж, посмотрим, на что еще способен этот бог в своем гневе! "Вполне возможно, что грабежи, убийства и пожары — проделка бога этих патеров! А может, этот распятый дух хотел утолить свою жажду крови, — думал Велло. — Кто знает!" Он и с перевязанной головой не мог долго усидеть дома. Вместе с Кахро Велло начал ходить в ближний лес, давал людям указания, подбадривал их в даже шутил. Скоро у каждого будет кров — конечно, не бревенчатый дом, но хоть шалаш, а то даже два или три. Велло уже настолько окреп, что по вечерам мог ходить к Ассо, и вдвоем они до полуночи просиживали на лавке у стены; нетронутый кувшин с медом стоял между ними. Редко кто-нибудь из них ронял слово — они и так хорошо понимали друг друга. Оба часто думали о Лемби и гадали о ее судьбе. Где она — за рекой Койвой в каком-нибудь латгальском селении, в Толове, Росоле, Вынну, а быть может, и в самой Риге? Остаться со своей добычей где-либо поблизости этот Рыжеголовый едва ли решился бы. — Не отправиться ли нам на поиски? — заметил как-то Велло. Но Ассо посчитал этот вопрос не достойным ответа. Никому не следует отправляться сейчас в землю врагов! Другое дело — летом, когда снова появятся торговцы: те могли бы тайком разузнать кое-что. Одно немного утешало обоих: Рыжеголовый всегда слушался Лемби. Может, и теперь слушается. Хоть и не отпускает, держит в заточении, но никакого зла причинить не осмеливается. А увидит, что девушка не покоряется, не хочет быть его женой, — может, и совсем освободит! Надо же было чем-то утешаться. Из Сакалы пришли новые вести: оправившись после первого испуга, старейшины послали к латгалам гонцов разузнать, как там и что, и нельзя ли, мол, теперь жить в мире? Латгалы великодушно ответили, что их руки устали разить сакаласцев и раньше чем через год им едва ли захочется взяться за меч и топор. К тому же и добычи им на год хватит. Таким образом был заключен мир до зимнего солнцестояния следующего года. Услышав это, Велло вскипел. О, будь у него люди, он предпринял бы карательный поход против Сакалы, изгнал бы оттуда всех старейшин, этих трусливых, беспомощных, жадных, скаредных людей, и заменил бы их теми, кто достоин называться мужчинами. Серые сумерки, окутавшие Сакалу, как яркий луч пронизала весть о старейшине Лехолы — Лембиту. Во время набега латгалов он был в Виру и Рявале. Он ездил туда, чтобы предупредить тамошних старейшин об опасности, которая, подобно грозовой туче, надвигалась со стороны Вяйны. Услышав о вторжении кровожадных и алчных до добычи врагов, он спешно вернулся домой и стал собирать дружину. Однако гонцы сакаласких старейшин уже отправились заключать мир. "Что ж, пусть через год, вместе с Лембиту!" — утешал себя Велло. Он обойдет тогда все земли за рекой Юмерой и Койвой, будет ходить из селения в селение и из города в город — уж где-нибудь он настигнет Рыжеголового. И тогда посмотрим, защитит ли его христианский бог! Но об этом он пока не решался говорить ни с Ассо, ни с Оттем. Отть был мрачен и порой зло покрикивал на слуг и женщин. Невзирая на боль в бедре, он сновал по двору и по дороге, нигде не присаживаясь и ни с кем подолгу не разговаривая. — Здесь жизни не будет! — с горечью сказал он как-то, обращаясь больше к себе, чем к Велло. — Надо бы податься со всем народом куда-нибудь в другое место. За топи и болота, подальше на север, за море! — Там, сам знаешь, финны, — ответил Велло. — Там нам не хватит места. — Еще дальше на север, — заметил Отть. — Там живут карлики, у них песья морда и четыре глаза — ни один человек там жить не может! — припугнул его Велло, однако спросил у подошедшего Кахро, не слышал ли он о людях с песьей мордой. — Моя мать даже видела их, — ответил Кахро. — Зимой они иной раз проносились по снегу в Уганди и Вайгу. — Нет, здесь жить невозможно, — не унимался Отть. — Латгал обнаглел, потому что за спиной у него рыцари и бог патеров. Захочешь наказать его — на тебя пойдет рыцарь. А с ним нелегко драться! Поздними вечерами Велло не лежалось в бане, и он уходил в священную рощу. Сидя под старыми деревьями на снежном холмике, он слушал таинственные голоса ночи. Небо было бездонно черным, и звезды сияли на нем подобно золотым песчинкам. Иные сверкали ярко, и Велло казалось, будто лучи, тянущиеся от этих звезд, хотят поведать ему тайну. Велло отыскал на небе Полярную звезду и стал глядеть на нее. Ведь сказал же старый мудрец отцу: надо держаться за то, что никогда не сдвинется с места. Мудрец говорил также, будто и в человеке есть нечто такое, что всегда остается неизменным, и за это надо держаться. На пути в рощу Велло иногда встречал Вайке, и тогда они бродили вдвоем, говоря о Лемби. Они строили предположения, где она и что с ней, и на какую звезду она сейчас смотрит. — Почему я не так красива! — вздохнув, сказала как-то Вайке. — Кто знает, может, Рыжеголовый оставил бы тогда Лемби в покое и взял меня. — И ты думаешь, я отдал бы тебя ему?! — гневно воскликнул Велло. — Пусть ищет для себя жену в стране, где живут люди с песьей мордой, или среди девушек, испорченных рыцарями. Но тут же миролюбиво добавил: — Я своей горячностью разгневал богов. Возьми самое лучшее из того, что мы добыли в лесу, Вайке, и повесь на ветку священного дерева. Не скупись! И Вайке пообещала ему сделать это.ІІІ
К следующему полнолунию на опушке леса уже стоял ряд плоских и островерхих шалашей. Хозяева построили вместо домов по нескольку таких шалашей; изнутри и снаружи покрыли их еловыми ветками, а для очагов отрыли на пожарищах камни. На месте старого дома Велло выросли три шалаша: один — для старейшины, второй — для Малле и Вайке и третий — для Оття и Кахро. Пониже, у самого леса, поставили еще ряд шалашей для слуг. Даже для лошади и коровы — корову дал Ассо — построили шалаш. Зерно, которое сохранилось у Ассо, разделили между жителями семи селений. Однажды ночью, когда шел снег и заметало следы, старейшина с помощью Оття и Кахро разрыл яму, где было спрятано добро, и стал пригоршнями вынимать из ящика звенящие украшения и деньги; он вынул немало, и все же их осталось там еще достаточно. Утром старейшина приказал запрячь в сани лошадей Ассо, позвал Оття и велел ему вместе со слугами ехать за зерном. Пусть поедут в северную Сакалу, а коли не добудут там, то еще дальше — в Лехолу или в Нурме- кунде, куда не ходили грабить латгалы. Пусть отправляются туда и хоть за дорогую цену, но привезут жителям Мягисте зерно на пропитание и семена. И пусть все видят: Мягисте хоть и маленький кихельконд, к тому же и начисто ограбленный, но в состоянии купить зерно у тех, кого враг не тронул. Мягисте не подачки просит, а покупает. — Уж мы-то знаем, как разговаривать с ними! — усмехнулся Отть, усаживаясь в сани и понукая коня. Даже Велло про себя усмехнулся: уж этот слуга сумеет повести торг со старейшиной Алисте и разжечь серебром страсти у зажиточных старейшин Сакалы. Недаром на берегу Вяйны он имел дело с латгалами и рыцарями. Велло теперь часто бродил по лесу, но не замечал ни птиц, ни зверей. Он находился в другом мирю — далеко отсюда, за Койвой, у берегов Вяйны. В этом другом мире была Лемби! Но там был и Рахи, отвратительный, словно жаба, словно дождевой червь или сороконожка. Велло считал своим долгом находиться мыслями там, рядом с любимой. Не мог же он оставить ее одну с этим Рахи! Бесконечно длинными казались вечера и ночи. На дворе, подобно стае голодных волков, завывал ветер, в ветвях шалаша шуршали духи, а порой они даже скреблись за дверью. Через семь дней с обозом вернулся Отть. Он привез не только зерно, но еще соль и железо. Старый слуга хорошо справился с порученным делом — часть серебра у него даже осталась и он вернул его старейшине. — Старейшины северной Сакалы жаловались, — стал рассказывать Отть, — что все, кого латгалы ограбили, приходят и требуют зерно безвозмездно. "Так уж лучше отдать по дешевке людям Мягисте". Вот и дали, чтоб хоть немного нажиться на беде соседей. От сельских старейшин Велло уже знал, кто в чем нуждается. Поэтому дележ много времени не отнял, да и не пришлось выслушивать жалобы людей. И вот Отть с несколькими слугами вновь отправился по распоряжению Велло в Сакалу и привез оттуда жителям Мягисте скот, уплатив за него серебром, отобранным у Кямби. Отть не только закупил в Сакале скот и зерно, но и побеседовал с тамошними старейшинами о разных делах, Воспользовавшись случаем, он стал расспрашивать, что они думают относительно военного похода, предполагают ли отправиться на санях или же, дождавшись летней зари, верхами? Всюду отвечали: на санях или верхами, а идти надо, однако едва ли так скоро удастся осуществить этот поход. Пусть сперва истечет срок договора. Да и прежде надо залечить нанесенные раны, отковать мечи, взрастить коней. А до тех пор солнце не раз еще низко пройдет над землей. Ну а потом — непременно! Велло это рассердило; оставшись наедине с Оттем, он сказал: — Сами пойдем на юг! — С двумя-тремя десятками людей много не сделаешь, — заметил Отть и вздохнул. — Попросим помощи извне, — бросил Велло. — Я скоро собираюсь в Уганди и в Лехолу, в Йыэтагузе и Мыху. Ну а не удастся... — Велло не договорил. Он не решился поделиться своими мыслями с рассудительным Оттем, хотя эти мысли не давали ему покоя: "Что ж, если не удастся, тогда кликнем людей со всей страны и будем сводить счеты с врагом. Каждый поход должен окупить себя. Из вражеских земель не возвращаются с пустыми руками, не солоно хлебавши! Каждый может захватить для себя резвого коня, полный мешок серебряных украшений и оружие, сверкающее на солнце! Каждый может проявить свою силу и ловкость..." Весть о том, что у старейшины похитили невесту, дошла и до Алисте. Оттуда прибыли посланцы: два богатых хозяина в сопровождении двух слуг — все в расшитых и отороченных мехом одеждах, хорошо вооруженные, на откормленных конях, у всех на лицах приветливое, однако самоуверенное выражение. Велло встретил их тоже приветливо и провел в свой шалаш; все расселись на свежих, еще попахивавших волчьих шкурах. Малле внесла на деревянном блюде копченую дичь, но соли и хлеба не подала. Увидев это, гости вышли и тотчас же вернулись, неся с собой мешки; они вынули оттуда различные яства и расставили их перед старейшиной; предложили и Малле, а также послали слугам и служанкам. Затем они сказали то, что повелел им сказать старейшина Алисте. — Спору нет, многих мужчин убили, женщин и детей заполонили, скот и коней угнали, не говоря уже о том, сколько награбили украшений и одежды. Но враг жестоко ошибается, полагая, что Сакала теперь уничтожена. Года через два-три Алисте станет богаче, чем прежде! Алисте соберет в свои селения мужчин со всех концов земли, и женщины народят сыновей в три раза больше, чем рожали прежде. Так будет и во всей Сакале. В скором времени восстановят крепости, и ни латгал, ни лив, услышав, какая у сакаласцев дружина, не осмелится, невзирая на подстрекательства рыцарей, перейти даже Юмеру, не говоря уже о Сяде. Так сказал посланец из Алисте. Так ему велел сказать старейшина; а кроме того, он велел просить старейшину Мягисте пожаловать вскоре в Алисте в гости. Велло глянул на служанку, которая, сидя у очага, держала лучину, затем провел рукой по голове, где еще виднелись свежие рубцы от ран, и с притворной искренностью ответил: — Приятно слышать, что старейшина Алисте так радужно смотрит на будущее. Коли все так хорошо, чего же еще желать?! Можно беззаботно жить и ждать, пока враг снова не нагрянет. Ну, а здесь, в Мягисте, дела весьма плохи, и это понимает каждый. Зиму придется жить впроголодь. Разве женщины смогуть рожать детей? А если и родят, то малюткам не выжить в холоде. Скотина так быстро не подрастет, на это нечего и надеяться. Мужчин мало, и едва ли кто из других мест захочет перебраться сюда, чтобы жить тут — под боком у врага. А раз мало мужчин, значит, не может быть и речи о том, чтоб охранять дороги. Однако все, что в его силах, старейшина Мягисте сделает. И он очень рад, что в такое тяжелое время его не забывают в Алисте, что старейшина богатого Алисте зовет его, старейшину маленького Мягисте, в гости. И хоть это было сказано весьма дружественным гоном, посланцы из Алисте поняли, что их старейшину высмеивают здесь, и умолкли. Не по нутру пришлось им и то, что спать их уложили на пол, на вонючие волчьи шкуры. Рано утром, наскоро позавтракав, они заспешили домой, хотя Велло и упрашивал их остаться еще на несколько дней. — Что поделаешь, — сказал он с сожалением, — под дождем, на ветру или в гостях у бедняка никому не сладко. Велло послал привет старейшине и Урве и просил передать им, что, очевидно, в ближайшее время прибыть в гости не сможет. — Нет времени, да и нового платья, и отдохнувшего коня, сами видите, нету, — добавил он со вздохом. И посланцы из Алисте так и не поняли, было ли то притворством или перед ними действительно стоял бедняк, которого одолевали заботы. Но едва гости отъехали на несколько сот шагов, как Велло громко расхохотался, а за ним — Кахро и Отть. — Высокомерные и безмозглые люди, — заметил Кахро. — Если б они затеяли ссору, мы сами пошли бы на них, нагнали страху и захватили бы сколько- нибудь добычи, — пошутил Отть. — Захватили бы Урве и отдали ее в услужение Вайке, — подхватил шутку Кахро. Но, услышав имя Урве, Велло отвернулся. Он вспомнил Лемби.***
— Что-то не идет твой патер, — сказал он Лейни, когда спустя некоторое время она вместе с Марьей шла через двор, направляясь к шалашу Малле. — Он и не может прийти... Здесь все против него, — ответила сестра. — Ага — боится! — воскликнул Велло и почувствовал истинное удовольствие оттого, что этот черноризник, который, не моргнув глазом, прошел сквозь толпу насмешников, теперь трусливо сторонится Мягисте. Лейни не пришла к брату просить хлеба. От Малле он знал, что живет она впроголодь, без конца молится и даже Рийту не пускает в деревню за хлебом. В сухую погоду они ходят в лес ставить силки — так что немного мяса у них есть, этим и живут; вышивать и вязать при свете лучины им трудно, да в кто нуждается в их работе! Часами они простаивают на коленях перед распятием и в конце каждой молитвы передвигают одну бусинку на четках слева направо. Четки им привез патер еще летом, а кроме того он обучил их "Отче наш" и другим молитвам; особенно хорошо запомнила эти молитвы Лейни, хотя и были они на чужом, ливском наречии.IV
День заметно прибывал, солнце в полдень стояло над лесом, заливая дворы и пожарища, покрытые толстым слоем снега. В этот час, сидя у шалаша, можно было уже греться на солнышке. Из лесу доносилось птичье щебетание, несомненно предвещавшее весну. Какой-то странствующий купец, который ничего, кроме невыделанных шкур, в Мягисте не нашел, рассказал, что через восемь дней в Пскове состоится большая ярмарка, куда съедутся купцы из Риги и Новгорода. Он сам тоже спешит туда, везет шкуры, воск и мед. Услышав это, Велло потерял покой. Он посоветовался с Оттем и Ассо, а затем, после нескольких дней раздумий и колебаний, позаимствовал у пожилого сельского старейшины сани и коней, достал из тайника серебро и бронзу, взял шкуры и даже воск, запрятал все это глубоко под сено и отправился в Псков. Вместе с ним на трех санях поехали Отть и четверо слуг. Все знали, что на ярмарках бывает Рахи, покупает там то да се, тут же перепродает, прислушивается и приглядывается — не с богатой ли выручкой возвращается домой кто-либо из купцов, один он или нет, хорошо ли вооружен или безоружен. Так отчего бы этому Рахи не появиться в Пскове и на сей раз? За два дня они доехали до Пскова, но кони выбились из сил, и Отть ворчал: — Зря мы изводим себя и животных! Что выше сил человеческих, то в руках богов, а не наших.Ярмарка уже началась; больше всего здесь было русских — русобородых, статных, а также бойких латгалов и неуклюжих жителей Уганди. Заехали на большой двор и привязали коней к перекладинам между низкими столбами. Слуги остались стеречь лошадей, а Велло с Оттем окунулись в ярмарочную сутолоку, у обоих на поясе справа — меч, слева — нож, а за пазухой — много серебра. Отть разглядывал товары и купцов; он поинтересовался, сколько стоит бурая лисица, постучал по медному щиту, подул на лезвие меча, пощупал пальцами выделку пестрого ковра; он приценивался и торговался, однако ничего не покупал. Велло тем временем всматривался в снующих взад и вперед людей, вглядывался в лица, прислушивался к голосам — он искал своего врага. Велло и сам еще не знал, как он поступит, доведись им встретиться, но чувствовал, что не совладает с собой и вцепится тому в горло. Рассудок говорил ему, что это неправильно, однако не мог подсказать ничего более разумного. И потом, как поступить со своим кровным врагом, — казалось Велло делом второстепенным. Главное — найти его. Вероятнее всего, он вытряс бы из Рахи душу либо вцепился в него мертвой хваткой, но заставил бы сказать, что с Лемби и где она. Они заглянули и в крытые ряды, где на широких столах лежало множество товаров, где продавали, торговались, толкались, где стоял шум и звенело серебро. На ночь Велло, Отть и часть слуг отправились на постоялый двор; люди там пили, пели, играли на гуслях, глядели, как пляшут подвыпившие мужчины. Кто уставал, тут же растягивался на соломе и засыпал. Велло же подозвал хозяина, показал ему серебряные монеты и с помощью слуги, который кое-как объяснялся по-русски, получил маленькую комнатушку и несколько шкур, чтоб подстелить под бок и накрыться. — Завтра продадим шкуры, мед и воск, купим соли и — назад, в Мягисте, — сказал Отть, укладываясь спать. "Не из-за соли мы сюда ехали", — подумал Велло, но промолчал. На следующий день они продали шкуры купцам из Риги, а мед и воск русским из Новгорода. А потом Велло и Отть очутились подле какого-то здания; на его башне кто-то бил в большой колокол и трезвонил в маленькие. Народ, крестясь, толпой валил внутрь — все больше русские. Приказав Оттю подождать, Велло переступил порог здания. Терпкий запах, напоминающий запах в избушке колдуньи, ударил ему в нос. Он прошел дальше и сквозь сизую завесу дыма увидел перед золотыми дверями и сводами желтоватые огоньки. Тут же, на возвышении, стоял мужчина в лиловом балахоне до пят, украшенном серебром. В руках он держал цепочку, на конце ее, покачиваясь, дымил маленький сосуд. Внезапно двери отворились, и оттуда вышел мужчина в высоком расшитом золотом головном уборе, в длинном позолоченном балахоне и что-то произнес нараспев грохочущим голосом. Сразу же вступили мужские и женские голоса и полилась песня, такая жалостная и красивая, что Велло в первое мгновение просто оцепенел. Что же это такое: на улице шум и галдеж, а здесь покой и торжественное песнопение! Так народ хвалит здесь бога! Богу, должно быть, приятно слышать такую песню. Интересно, тот ли это самый бог, что у рыцарей и патера? Едва ли. Ведь бог русских не притесняет, не то, что бог тех. Огоньки покачивались, словно желтые соцветия; за огоньками, на позолоченных стенах и дверях Велло различил картины: на одних был изображен мужчина с печальным лицом и каштановой бородкой, венец вокруг его опущенной головы распространял золотое сияние; на других была нарисована женщина с невинным и кротким лицом, державшая на руках ребенка; на третьих — бородатые мужчины, они глядели серьезно и строго. Люди рядом с Велло усердно крестились, опускались на колени и, касаясь лбом каменного пола, отбивали поклоны. Усталый и одурманенный, в смятении мыслей и чувств, Велло вышел из церкви, отыскал в толпе Оття и слуг и с напускным равнодушием сказал: — Сходим-ка еще разок на ярмарку. Велло вспомнил вчерашний вечер, бренчание на гуслях и дикую пляску, и сравнил с тем, что слышал и видел в церкви сегодня. В церкви гораздо красивее! Там почти так же красиво, как в летние вечера у качелей, когда девушки водят хороводы. Или как в священной роще после захода солнца, когда на жертвенном камне горит огонь и вместе с дымом к вершинам берез плывет песня. Почти до самого вечера они бродили по запруженной людьми площади на городской окраине и по улицам. Затем Велло распорядился купить соли, чтобы сразу же ехать домой. Но Отть посоветовал остаться до утра. Когда они, обсуждая это, направились в сопровождении двух слуг в лавку за солью, Велло вдруг крикнул: "Вон он!" — и кинулся в толпу. В толпе промелькнуло лицо младшего брата Рахи. Распихивая людей и расчищая себе путь, Велло ринулся за ним. Вскоре он снова заметил, но уже позади себя, рыжие волосы, свисающие из-под мохнатой шапки. Обуреваемый жаждой мести, Велло взревел, словно дикий зверь. Он стал плечом расталкивать людей в разные стороны, руками прокладывать себе дорогу и кричать изо всех сил, чтоб задержали этого преступника. Но его не понимали, ругали за грубость, угрожали, гнались за ним. Рыжеголовый, согнувшись и стараясь сделаться маленьким, незаметным, проворно шнырял налево и направо. Он явно улепетывал, тоже прокладывая себе дорогу силой; заметив это, люди бросились догонять его, посчитав за вора или убийцу. Сперва противники кружили в толпе, но когда Рыжеголовый почувствовал, что его пытаются схватить за одежду, он побежал в конец площади, быстро вскочил в сани, столкнул с них какого-то человека, подобрал вожжи и молодецки свистнул. Но тут подоспел Велло, с размаху прыгнул в сани и обеими руками вцепился в одежду беглеца. Лошадь понесла по ровной дороге к лесу. Велло повалил противника, прижал его к саням и сел на него верхом. Руки Рыжеголового держали вожжи, он барахтался одними ногами; втянув голову в плечи, чтобы уберечь горло, он попытался зарыться в солому. Этого-то Велло и ждал: схватив врага за шею, он, подобно хищнику, прорычал: — Где брат? Рыжеголовый не ответил, бросил вожжи и стал локтями колотить Велло в грудь. — Где Рахи?.. Где Лемби? — кричал Велло, сжимая пальцами горло противника. — Не знаю, — прохрипел Рыжеголовый. Он внезапно свернулся клубком, и Велло скатился с него, однако горла не выпустил. Теперь он очутился за спиной Рыжеголового, и тот бил его задом по животу, пытаясь руками оторвать от горла онемевшие пальцы Велло. Это ему удалось, и в один и тот же миг оба сели. Усталые от бега и драки, они тяжело дышали, кряхтели, но тем не менее наносили друг другу удары кулаком в грудь, под подбородок, по голове, в бок. Лошадь медленно брела по дороге. В лесу было уже довольно темно. Рыжеголовый и Велло находились чересчур близко один от другого, чтобы кто-то из них мог сильно ударить; поэтому они пихали, толкали и дубасили друг друга, все время оберегая горло. Велло обдумывал, как быть — с какой стороны схватить врага, как добиться перелома в затянувшейся борьбе, как закончить ее. Он видел рукоятку кинжала Рыжеголового, знал, что такой же нож заткнут за пояс и у него самого, но не в силах был вытащить его. — Где Рахи? — спросил он, прекратив наносить удары. — Не знаю, — ответил младший Рыжеголовый, и руки его бессильно упали. Решив, что наступило перемирие, Рыжеголовый устало вздохнул. Однако Велло не поверил его словам и стал выжидать подходящего момента для новой атаки. — Где твой брат? — спросил он еще раз, чтобы успеть собраться с силами. — Не знаю, — упрямо ответил Рыжеголовый. — Ах, не знаешь! — рассвирепел Велло и, схватив его за руку, опрокинул, навалился на него грудью, головой уперся ему под подбородок и стал давить что было мочи; Рыжеголовый захрипел, и Велло понял, что добрался до его горла. Рукой он прижал голову врага к саням, не давая ему повернуть ее. —Где Рахи? — снова закричал Велло. — В Риге. Отправился в Ригу... Вместе с Лемби, — прохрипел Рыжеголовый. — Отпусти! Последние его слова едва можно было разобрать. Руки Рыжеголового уже не наносили ударов и ноги его уже не барахтались. Велло отодвинулся, сел и попытался столкнуть противника с саней. Но руки его ослабли, и пальцы никак не могли ухватить одежду. "А что, если убить его?" — спросил себя Велло. Но при виде этого полутрупа его затошнило. Он остановил лошадь, слез с саней и за полу одежды стащил Рыжеголового прямо на снег; немного постоял, затем склонился к окровавленному лицу лежащего и еще раз спросил: — Где Лемби? — В Риге... — еле слышно пробормотал брат Рахи. Велло, едва держась на ногах от слабости, взобрался на сани и повернул назад. На ярмарочной площади еще продолжали обсуждать случившееся; человек, чью лошадь угнал Рыжеголовый, бросился навстречу Велло, всплеснул от радости руками и, показывая на лицо старейшины, начал что-то говорить на незнакомом языке. Велло провел рукой по лицу — оно было мокрым от крови. Только сейчас он ощутил солоноватый привкус во рту и боль на губах и в глазу. Отть со слугами оказались тут же. С их помощью Велло вышел из толпы — ноги едва держали его, сердце колотилось, с подбородка капала кровь. Но он не обращал на это внимания, лишь одна мысль занимала его: "Значит, в Риге... Оба... Рига далеко ... Рига — вражеское гнездо... Но все-таки с Ригой — мир". Они дошли до того места, где были привязаны кони, и Отть обтер снегом лицо старейшины, приложил снежный комочек к его распухшему глазу, к носу и губам, из которых сочилась кровь, укоризненно при этом приговаривая: — К чему связываться с этаким выродком!.. Разбойники они, разбойниками и останутся!.. Разве от них назад что-нибудь получишь! Что у волка в зубах, то и за зубами. Отть предложил старейшине провести здесь ночь, отдохнуть и собраться с силами. Но Велло приказал тотчас же укладываться и трогаться в путь. — На ночь-то глядя... Леса большие... — ворчал Отть. — Мало разве злых людей! Уже стемнело, когда они выехали из города; Отть, усевшийся со старейшиной в первые сани, угрюмо молчал; лишь время от времени советовал ему обтирать лицо снегом. — Скоро отправимся в Ригу, — наконец произнес Велло, который не в силах был больше таить это про себя. — Зачем нам в Ригу? В это осиное гнездо!.. Да нет, какое там осиное гнездо... Это же медвежья берлога!.. Иное дело, если бы мы шли бить медведя, — рассердился Отть. — Но ведь с Ригой у нас мир, — ответил старейшина. — Ну и что с того, что мир. Поезжай в Вильянди, в Отепя — погляди, встретишь ли там рыцаря или латгальского старейшину... Поезжай в Ригу, погляди — разгуливает ли там кто-либо из наших людей. Да и чего мы там не видали?.. Ярмарки есть и в других местах! Некоторое время ехали молча, а затем Велло подробно рассказал Оттю о драке с братом Рахи и пожаловался на боль в левом боку, под сердцем, в правом глазу и во рту. — Один зуб, кажется, шатается, а может и больше, — заметил Велло и, силясь пошутить, добавил: — Крепкий орешек попался! — Какой это орешек! — презрительно сказал Отть. — Застывшее лошадиное дермо, а не орешек! — А я все же выведал у него кое-что, — похвастался Велло и стал рассказывать Оттю все, что узнал о Рахи и Лемби. — Ну и что толку! — рассердился Отть. — В Риге они или в Юкскюле — все одно, их оттуда не воротишь! — Ассо мог бы вызволить Лемби. Ведь у Рахи к Ассо никакой злобы нет. Заплатил бы как следует... Рахи жаден до серебра! — Не годится для охоты лук, которым с осени до весны пользовался другой, — сказал Отть. Эти слова отозвались в сердце Велло такой болью, что он долгое время молчал. Он представил себе Лемби в объятиях отвратительного Рахи, и пальцы его сжались в кулаки. Наконец он произнес сквозь зубы: — Вышиб бы из него дух! — Ради этого не стоит ходить за Вяйну, — заметил Отть и, помолчав немного, укоризненно спросил: — Что ж ты не вышиб дух из этого Рыжеголового? — Только руки марать! — Как же так! Он враг, врагом и останется. Станет плодить врагов. Родится у него несколько десятков сыновей, у каждого из них — тоже по нескольку десятков, вот и пойдут когда-нибудь целой дружиной на Мягисте! Нет, нет! Уж коли враг в руках — надо кончать с ним! Нашим внукам просторнее будет! Но Велло не слушал мудрых речей Оття. Из головы у него не выходил лук, который теперь не годился для охоты, потому что с осени до весны им пользовался другой. И все же он не мог и не хотел верить, что Лемби отдала себя в руки Рахи. Ведь сама же она не раз говорила, что этот грубый, жестокий человек слушается ее, подчиняется ей... Если бы не разбитое лицо, он сейчас же свернул бы на Ригу... Хотя едва ли Отть допустил бы это.V
Кахро приложил все свое умение лекаря и знахаря, чтобы старейшина поскорее оправился. Но левый его глаз был сильно ушиблен, опухоль спадала медленно, а когда, наконец, спала, то глаз еще долгое время оставался чувствителен к яркому свету и наружный уголок его был красен и слезился. Шатавшийся зуб Велло сам вытащил пальцами. Под сердцем он временами все еще ощущал острую боль. — Я же говорю: не следует трогать дермо руками, — ворчал Отть, видя, как страдает Велло. — Иное дело, если ты можешь вонзить во врага топор или копье, чтоб он и не вздохнул больше. О том, что старейшине досталось от брата Рахи, Отть не разрешил говорить никому, кроме Кахро и Малле. Он придумал замысловатую историю о нападении вооруженных разбойников на ярмарочной площади: Велло будто бы один дрался с ними и многих убил. Днем, сидя или лежа в шалаше, куда сквозь отверстие величиной с кулак проникали бледные лучи восходящего из-за леса солнца, Велло перебирал в памяти оброненные Оттем слова об использованном луке, словно пес, который от нечего делать мусолит обглоданную кость и грызет ее тем злее" чем больше она обглодана. Но каждый раз он старался утешить себя мыслью — не всякий согнет этот лук, и уж во всяком случае не Рахи! Устав от этих мыслей, Велло принимался думать о поездке в Ригу. Что, если отрастить бороду, переодеться купцом, захватить с собой шкуры и взять какого-нибудь слугу, тоже изменившего свой облик. Весьма пригодился бы при этом человек, который хорошо знает язык. Или же начать собирать дружину, обойти всех старейшин, в первую очередь наведаться в Лехолу, к Лембиту, и как только кончится мир с Ригой, отправиться прямо за Койву... И не иначе, как только на конях и вскачь. Пехота может пойти следом и заняться осадой какой-нибудь крепости у дороги... Но согласятся ли на это старейшины? Поля и пашни ближе их сердцу, нежели Вынну и Рига. Они сеют и жнут, радуются, что подрастают стада, набивают зерном закрома и ямы — чтоб врагу было что взять, когда он снова перейдет Сяде!.. Нет, никто не станет воевать из-за Лемби!.. Проведать старейшину часто приходил Ассо, приносил мед и сушеные ягоды. Он не одобрял затеи ехать в Ригу под видом купца; иное дело — идти войной. Но едва ли на это согласятся сакалаские старейшины! Ассо советовал послать в Ригу человека, который знает язык и которого не сочли бы уроженцем Мягисте. Может быть, ему удастся напасть на след Рахи и вызволить Лемби. А уж дорогу-то на север они всегда отыщут! Но где найти такого человека? Надо бы пообещать какому-нибудь торговцу хорошее вознаграждение и дать ему задаток. Велло готовился к длинному пути. Собираясь на восток, он намеревался через Уганди завернуть на север, оттуда, сделав большой крюк, проехать на запад и, обогнув Алисте, вернуться назад, домой. Уже были подготовлены сани, откормлены кони и подобраны слуги, которым надлежало сопровождать старейшину; дом и хозяйство оставались на попечении Оття. Уже был назначен и день отъезда, когда однажды утром пришла Лейни, одетая просто, с благочестиво-серьезным видом, и после слов, восхваляющих Иисуса Христа, молвила: — Патер пришел. — Пришел?.. — Ты хотел поговорить с ним... — Да!.. Скажи ему, что старейшина хочет говорить с ним. Велло произнес эти слова свысока, со скрытой враждебностью. Но вдруг его осенила какая-то мысль, он остановил сестру и просительно сказал: — Пусть сегодня же придет. Мне надо побеседовать с ним. Возбужденно шагая взад и вперед по скрипящему снегу, он думал с досадой: "Как же мне раньше не пришло это в голову!" Он хотел было кликнуть Кахро, чтобы послать его за Ассо, но передумал. Лучше поначалу поговорить наедине. Он велел узнать, есть ли в доме свежая копченая дичь, и если нет, то пусть немедленно зажарят на вертеле тетерку. Лейни вскоре ушла, а Велло стал дожидаться патера. Он торопливо отдавал распоряжения Кахро, Оттю и Малле, неоднократно выходил на дорогу, пока не заметил, что стало смеркаться. А если он не придет сегодня? Не посчитается, что старейшина пригласил его! Наконец, когда уже совсем стемнело, в шалаш вбежала Вайке и сообщила, что к дому медленно приближается черная фигура, — вероятно, патер. Вайке осталась у очага зажигать лучины; Малле ввела гостя в дом. Он медленно переступил порог. Был он с ног до головы в черном, лишь бледное лицо да сухие пальцы, державшие длинный, достигавший плеча, посох, оставались открытыми. Он спокойно переложил посох в левую руку, поднял правую, перекрестился и тихо, певучим голосом произнес: — Слава Иисусу Христу ныне и присно и во веки веков! Аминь. Велло встал с камня, на котором сидел, шагнул навстречу гостю и, подняв руку, приветствовал его. Малле помогла ему снять черный длинный балахон, подбитый изнутри мехом. Под ним оказалась такая же длинная черная ряса с широкими рукавами, доходившими до кончиков пальцев. Посох Малле поставила в угол. Велло указал патеру на камень напротив себя и подождал, пока не сядет гость. Тот стал растирать пальцы, которые, очевидно, замерзли, а затем тихо заговорил на ливском наречии: — Старейшина звал меня, но я не смог прийти раньше. Бог послал мне двух сестер, они жаждут, чтоб я окрестил их и рассказал о святом учении. Лицо у патера было продолговатое, худое, как у человека, вставшего после тяжелой и продолжительной болезни. Подбородок и щеки чисто выбриты, да и голова, вероятно, тоже, если судить по той ее части, которая виднелась из-под черного капюшона. Узенькие, как щелки, глаза мигали редко и спокойно, выражение их было дружелюбное. Но Велло чувствовал, что душа у этого человека настороже, что он сдерживает себя и словно не решается открыться врагу. На груди у него, поверх рясы, висел тусклый серебряный крест с изображением распятия, а на поясе — шнур со множеством блестящих колечек. — Я и раньше видел тебя в этих краях, — холодно, чтобы гость не забывал, с кем он разговаривает, произнес старейшина. — Ты окрестил мою сестру и ту, хромоногую. — Сам бог просветил их сердца и разум, — поднимая глаза, ответил патер. — Да будет благословенно имя его ныне и присно и во веки веков! — Мы и раньше слыхали об этом боге. Еще при жизни моего отца к нам из Пскова приходили люди в черном одеянии с крестом на груди проповедовать свое учение, — сказал Велло таким тоном, будто все это им здесь не в новинку. — Их учение все же отличное от нашего, — заметил патер. — Наши старейшины в Сакале, Уганди, да и в других местах не возражали бы против твоего бога и его учения, пускай каждый ходил бы себе из одного селения в другое, как купец, и предлагал, чем богат. Понравится — возьмут, купят, а нет — купец не обижается, идет себе своей дорогой. Но бог, которого навязывают патеры, — бог врагов и учение его — учение рыцарей и латгалов, наших врагов. — Все это Велло высказал, высоко держа голову и глядя гостю в глаза. — Как только вы дадите окрестить себя, они перестанут быть вашими врагами. Тогда все вы будете братьями, детьми единого бога, — тихо и благоговейно ответил патер. — Братьями? — сердито переспросил Велло. — Мы тут слышали, как рыцари притесняют бедных ливов, сколько раз ходили на них войной, хоть ливы и крещеные, и "братья"! Патер сидел, сложив на коленях руки, сжав тонкие губы, словно боясь, как бы с его языка не сорвалось лишнего слова. Немного подумав, он с легкой грустью в голосе сказал: — У меня всегда болит сердце из-за ливов, ибо они вдвойне мои братья: по крови и языку, а также по вере в бога-отца и сына его. Но ливы упрямы, они много раз смывали с себя крестильную воду. И за это их постигла кара. Велло трудно было сразу ответить патеру, и поэтому он почувствовал облегчение, когда в комнату вошла Малле с кувшином меду. — Это сестра мне и Лейни, — молвил старейшина. — Бедняжке Лейни бог послал тяжкие испытания, но тем самым он указал ей путь к вечной истине, — сказал патер. — Она до сих пор еще не оправилась от своего горя, — заметила Малле, ставя кувшин с медом между мужчинами. — Душа ее здорова и радостна, — ответил патер. Велло предложил гостю отведать меду. Тот взял кувшин, произнес: "Господи, благослови!" — и слегка смочил губы. — Здорова! Как же! — угрюмо пробормотал Велло. — Она не в себе. Я это каждый вечер ясно вижу. — Она отвратила свои глаза от этого мира и обратила их к господу, — торжественно, словно он говорил о покойнике, произнес патер и радостно добавил: — Я редко встречал столь твердую веру и столь чистое сердце! Малле, слушавшая его удивленно и недоверчиво, лишь покачала головой и вышла. Вайке стояла почти неподвижно, сочувственно глядя на старейшину, и то и дело обламывала лучины — она жгла две сразу, чтобы было светлее. — Слыхал от сестры, да и от других, — отхлебнув из кувшина, снова заговорил Велло, — будто этот христианский бог велит любить ближнего. — Как самого себя, — добавил патер спокойно и твердо. — Кто же для рыцарей, крещеных ливов и латгалов, для всех вас — эти ближние? — Каждый человек — наш ближний. — И я, и народ Мягисте, и все те, кто живет в Алисте и Сакале? — Все. — Гм-гм, — пробормотал Велло и пригубил меду. — Почему же тогда эти крещеные латгалы, которые должны любить ближнего, как самого себя, явились к нам и много дней подряд убивали здесь мужчин, женщин и детей, грабили, жгли... Разве это любовь к ближнему? Или так велит поступать ваш бог и его распятый сын? Велло чувствовал, как в нем закипает бешенство, но сдерживался, он помнил, для какой цели позвал сюда патера. Патер ответил не сразу. Он поглядел в сторону, сделал строгое лицо и, наконец, сказал: — Латгалы были орудием в руках господа. Им надлежало устрашить язычников, которые не хотели принять нашу веру и святое крещение. — Страшное орудие у вашего господа! — воскликнул Велло. — Наш бог — бог любви, но одновременно и бог священнего гнева, — молвил патер. — А потом эти рыцари в Риге и в Вынну... — продолжал Велло, — ведь всем известно, что они хотят превратить нас в рабов, как превратили в рабов ливов и латгалов.Пальцы патера, покоившиеся на коленях, задвигались, и он с достоинством ответил: — Бог избрал рыцарей своим орудием. Они тот топор, который прорубает дорогу в дремучий лес, к язычникам, куда провозвестников веры иначе не пускают. Там, где под высоким покровительством вашего епископа правят рыцари, там царит мир и там каждый беспрепятственно слышит слово господне. Велло едва владел собой. Рыцари — топор в руках господа, прорубающий дорогу в дремучий лес, — нет, его душа не вмещала этого. Но сегодня он не мог высказать всего, что думал, а потому как бы между прочим добродушно заметил: — Наш народ до сих пор неплохо жил под мудрым покровительством своих богов. Случалось — воевали, случалось — нашу землю грабил враг, да и мы, случалось, ходили в земли врагов. Всякое бывало, но своих богов мы врагам не навязывали. — Настало время всем язычникам познать великого бога, творца неба и земли и всего сущего на ней. Такова его благая воля. — Патер говорил тихо и торжественно, воздев глаза кверху, словно видел там кого-то. Не зная, что ответить, Велло беспомощно озирался вокруг и сопел, как Отть. Патер продолжал: — Устами своего сына бог возвестил: кто уверует и даст окрестить себя, тот обретет блаженство, кто же не уверует, тот будет осужден на гибель. — За что? — очень тихо спросил Велло и снова посмотрел патеру прямо в глаза. На какой-то миг он заметил в них колебание и нерешительность. Но святой отец быстро овладел собой и спокойно ответил: — За то, что они отвергают его милосердие и вечное блаженство. Велло попытался понять это, но не смог. Все в этой божьей благодати оставалось для него туманным. В задумчивости он сказал: — Все же каждый народ и каждый человек должен сам решить — обрести ли ему блаженство или погибнуть. Патер покачал головой и сочувственно произнес: — Если бы ты знал о тех муках, которые ожидают в аду неверующего и длятся вечно, ты не говорил бы так. И если б ты только знал, какая радость ожидает верующих на небе, у трона господня! Вошла Малле с деревянным подносом в руках. На нем лежала нарезанная кусками дичь, рядом — хлеб. Поставив поднос между мужчинами, Малле попросила их приступить к трапезе. Велло, в свою очередь, тоже предложил гостю отведать тетерки и хлеба. Патер поднял правую руку, благословил "божьи дары", однако есть не стал, сказав, что постится перед великим праздником. Велло покачал головой, но принуждать гостя не стал. — Мы тут жили впроголодь, — сказала Малле.— Скот угнали... Зерно сожгли... — Не будь на то воли божьей, народ и землю не постигла бы эта кара, — заметил патер. Велло отведал лишь немного мяса и хлеба — ему не хотелось есть — и, как только ушла Малле, продолжил прерванную беседу: — Я хотел спросить у тебя совета, высокочтимый патер. Может быть, ты сумеешь помочь мне. Теперь святой отец смотрел уже не мимо старейшины, не вдаль, а прямо на него — вопрошающим, слегка недоверчивым взглядом. — Этой зимой, когда враг грабил нас и обратил наши дома в пепелища, — снова заговорил Велло, — были угнаны молодые женщины. Среди прочих увели и мою невесту, дочь почтенного сельского старейшины Ассо, который живет неподалеку отсюда. Патер слушал, изредка моргая глазами. Велло стоило больших усилий смотреть на него в упор, и он стал уже сомневаться, имело ли вообще смысл рассказывать об этом врагу. Но поскольку разговор начат, надо было продолжать. — Я хотел попросить тебя кое о чем, высокочтимый патер. Если ты, вернувшись в Ригу, услышишь там о девушке, угнанной в плен, — ее зовут Лемби, — пошли мне весть. А если можешь, вызволи ее оттуда.. Она очень дорога своему отцу, а также и мне... Теперь святой отец глядел в сторону; он еще крепче сжал свои тонкие губы, сдвинул редкие седые брови и, казалось, думал. Затем нерешительно сказал: — Много перебывало здесь людей. Из разных мест. Слышал я, что приходили сюда и из Аутине, и из Трикатуа, и из Росолы. — Я знаю, кто увел мою невесту, — ожесточаясь, сказал Велло. — Ты видел его или знал? — Он здешний, из наших мест... — Вот как?.. — Патера это так заинтересовало, что на мгновение он забыл о необходимости сохранять благочестивое выражение лица. Велло подробно рассказал патеру о Рахи и его брате, об их кознях, бегстве, о том, как они призывали латгалов к разбойничьему набегу. Рассказал он и о столкновении в Пскове. — Свои люди, значит! — молвил патер, но Велло не понял, заключалось ли в этих слова злорадство, порицание или сочувствие. Велло, как умел, описал свою невесту и, не в силах удержаться, добавил, что она красива. Затем он пообещал патеру хорошее вознаграждение, если тот что-нибудь узнает о Лемби или приведет ее в Мягисте. Подумав немного, патер согласился по прибытии в Ригу разузнать о Лемби. — Если мне удастся помочь невесте старейшины Мягисте, — сказал он приветливо, — то произойдет это по воле господа, и твой долг тогда благодарить его и поддерживать тех, кто проповедует его святое слово. Внезапно сердце Велло наполнила такая радостная надежда, что ему захотелось сказать патеру что-то действительно очень дружеское. Но тот снова замкнулся, даже не пригубил больше меду и только спросил — далеко ли по зимней дороге до соседних кихелькондов. Велло предложил ему лошадь и провожатого. Но святой отец, поблагодарив, отказался. Он охотнее ходит пешком: может статься, встретится на дороге какой-нибудь бедняк, чье сердце отягощено заботой, — и тогда патер сможет тут же ободрить его и поддержать словом божьим. — А разве патер не боится повстречать в темноте диких зверей или злых людей? — спросил Велло. — Моя жизнь в руках господа, — ответил патер. — Свет господень виден и в темтюте. После ухода патера Велло с горькой усмешкой подумал: "Едва ли найдется лучший топор, чтоб прорубить дорогу в наш дремучий лес!.." Но тут же он вспомнил про обещание патера помочь "невесте старейшины Мягисте", и это всколыхнуло в его сердце радостную надежду. Вспомнились ему и слова патера о вознаграждении... И он спросил себя: "Должен ли я поддерживать тех, кто проповедует слово божье?.. Ну, это мы еще посмотрим!"VI
Когда Велло рассказал обо всем Оттю, старый слуга нисколько не обрадовался. — По-твоему, выходит — лучше оставить Лемби в руках Рахи? — недовольно спросил старейшина. — Мало ли наших девушек угнали в плен и превратили в рабынь! — равнодушно ответил Отть. — Любая из них чья-то невеста. Если каждый юноша будет поднимать из-за этого крик... — А я разве поднял крик?! — сердито спросил старейшина. Однако ему было стыдно перед Оттем, и он отвернулся. Как-то, когда разговор снова коснулся Рахи, Велло примирительно сказал: — Она единственная дочь у старого Ассо... Он ее как зеницу ока берег!.. Жалеет... Надо бы помочь... Отть ничего не ответил. Велло считал дни и каждый вечер делал ножом насечки на древке копья, висевшего над изголовьем. Он не ждал на этот раз весны, он даже боялся той поры, когда вскроются реки и раскиснут дороги. Ведь тогда патер долго не сможет прийти сюда! Сидя на солнце под ясенями, глядя на стебли прошлогодней травы, уже показавшиеся из-под снега, и слушая, как падает со стрех капель, он в разговоре с Оттем строил предположения — ранняя или поздняя будет нынче весна. Отть находил достаточно примет скорого окончания царства зимы и говорил об этом с каким-то злорадным удовольствием. Как-то Отть стал вспоминать предыдущие весны и считать годы. Они перепутались в его голове, он уже плохо помнил, долго ли жил на чужбине и сколько ему было лет, когда попал в плен. — Кто знает точно свои годы или в какой день родился! — молвил он наконец. — У моего отца на стенах дома были отмечены все годы — и его, и детей, — сказал Велло. — Но дом сгорел, и все перепуталось. Отцу было бы сейчас за шестьдесят, значит, мне — за тридцать, а Лейни и Малле много моложе. Сто или полтораста лет назад здесь было всего два маленьких селения. Зимой медведей и волков боялись больше, чем врагов. А дичи в лесах было сколько! Выйди за порог, натяни лук — и стреляй себе птиц, каких душа пожелает. Мой отец пришел сюда из Йыэтагузе, а может, и из еще более дальних мест... — А мой отец рассказывал, что все бы ничего, да вот с духами была напасть, — ответил Отть. — Среди бела дня входили и выходили в одну дверь с людьми. Ели из одной с ними миски. А теперь и носа не показывают. Велло продолжал говорить о давно ушедших временах, однако мыслями находился на пути в Ригу На редкость медленно тянулись дни, и чтоб хоть как-то скоротать время, чтоб скорее дождаться дня, когда явится патер, старейшина дольше обычного беседовал с каждым, кто приходил к нему. К Лейни он относился теперь дружелюбнее, подробно расспрашивал о новой вере и ее провозвестнике. Лейни глядела на брата с участием, отвечала на его вопросы, а затем говорила с материнской заботой в голосе: — Ты должен позволить окрестить себя! Ради спасения своей души! — Спасение души — что это? — не без любопытства спросил как-то Велло. — Это когда человек после смерти попадает на небо. — Я хочу попасть туда, где мой отец и все мои предки. — Тогда ты попадешь в ад! — вздохнула сестра. — Что такое — ад? Где он? — Глубоко под землей. — Что там происходит? — Там вой и скрежет зубовный. Там пылает огонь, который никогда не угасает. Велло махнул рукой и умолк. Однажды, оставшись наедине с Кахро, Велло стал сетовать, что скорбь Лейни все еще не прошла, а крещение словно околдовало ее... Потом, поглядев по сторонам, он спросил полушутя: — А не помогло бы ей заклинание или какое-нибудь снадобье? — Если б то была не Лейни, не сестра старейшины — помогло бы и то и другое. А теперь придется ждать... Ждать, пока не появится молодой толковый парень, который придется ей по душе... Не одна девушка, чей рассудок был помрачен, поправлялась от этого. Никогда и никого Велло не ждал так, как патера. Часто, совсем уже поздно вечером, он стоял на дороге за домом и смотрел в сторону леса — не покажется ли там запоздалый путник в длинном черном балахоне, с посохом в руке. Стоило вдруг ночью громко залаять собаке, как старейшина быстро вскакивал с постели, совал ноги в башмаки, ощупью хватал одежду, спешил во двор и, уняв разбушевавшегося пса, выходил на дорогу. Но никого не было видно. Вскоре дороги совсем раскисли, маленькие ручейки превратились в широкие потоки, вышли из своего привычного ложа и разлились среди пойм и кустов. Из селения в селение было не пройти, низкие места пришлось завалить хворостом и перебираться с одного края поля на другой на бревенчатом плоту. "Когда же наконец все это высохнет? Когда же можно будет снова ходить пешком через Сядеские болота?!" — вздыхая, думал Велло. Праздничное, победное шествие весны не радовало его нынче, и он с тоской ждал, когда оно кончится. Он даже просил богов послать сухие ветры и жаркое солнце, чтоб скорее спала вода и подсохли дороги. Наконец, когда начали палить новину и облака дыма поднялись одновременно с общих пожог всех семи селений, окутав леса на северо-востоке, когда там и сям на пологом склоне холма сквозь дым замелькали желтые языки пламени, прибежала запыхавшаяся Вайке и, бросившись к старейшине, который в этот момент сгребал шестом дымящийся хворост, прошептала ему что-то на ухо. — В длинном черном балахоне?.. Прошел мимо?.. Почему не задержали его! Эх, вы! — рассердился Велло, бросил шест и быстрыми шагами направился к дому. Вайке побежала вслед за ним. Малле подтвердила то же самое: патер в черном, до земли, балахоне, с крестом на груди и посохом в руке медленной поступью прошел мимо них. Велло распорядился тотчас же приготовить что-нибудь поесть, а сам вышел со двора и торопливо зашагал по тропинке вглубь леса. Однако вскоре остановился, покачал головой и медленно побрел обратно. Нет, не подобает ему бежать за своим врагом. Сам придет, а коли не придет, то... то можно приказать, чтоб привели силой! "Прежде всего я все же старейшина Мягисте, а этот черноризник — наш враг", — сказал себе Велло. Он не пошел больше на пожогу и остался ждать во дворе: ему не хотелось, чтобы кто-нибудь видел его нетерпение. Он сел под ясенями и стал смотреть, как тени поворачивают к востоку. Время от времени все как бы меркло вокруг — это облака дыма густым слоем закрывали солнце. Уже смеркалось, когда во двор вбежала Вайке и дрожащим голосом крикнула: — Идет! — Кто? — спросил Велло, прикидываясь равнодушным, но голос выдавал волнение. — Патер, конечно. — Пошли его сюда. Принеси меду!.. И погляди, что у вас есть из съестного. Патер медленно вошел во двор, перекрестился, восславил Иисуса Христа, прислонил посох к стволу ясеня и сел на предложенную Велло каменную скамью. Велло начал расспрашивать его: какова дорога? Можно ли уже перебраться через Койву и Сяде? Все ли спокойно в Риге? Произнеся слово Рига, он уже не в состоянии был больше расспрашивать и стал ждать, не расскажет ли гость что-нибудь об этом городе, а заодно и о Лемби. С кувшином меду в руках вошла Вайке, мужчины пригубили его, и тогда патер медленно и спокойно, с тихой радостью в голосе, стал отвечать на расспросы Велло. — Дороги, милостью божьей, просохли, можно ходить. Через реки перекинуты мосты, а где их нет — переправляются на плотах. Господь повсюду охраняет тех, кто уповает на него. Мир царит в Риге и к северу от нее, где живет крещеный народ. Патер умолк, и Велло, сгоравший от нетерпения, спросил, чтобы только не молчать: — Не готовят ли снова войну против нас? — Мы далеки от всего этого. Мы несем мир и божье благословение всем, — ответил патер. И Велло не понял, прикидывается ли он смиренным или на самом деле душа его кротка. Он стал расспрашивать патера о том и сем, по затем, не в силах больше совладать с собой, спросил приглушенным голосом: — О Рахи что-нибудь слыхал? — Я видел его, — приветливо ответил патер. — Он поступил на службу к одному рыцарю. — Этот разбойник и грабитель! — воскликнул Велло. Патер ничего не ответил на это, и тогда Велло спросил: — Значит, Лемби не жена Рахи? — Она под покровительством достопочтенного патера. Просила не принуждать ее идти за Рахи и, целуя святой крест, дала клятву, что никогда не выйдет замуж за нехристя. Она заботится там о сирых и хворых... Велло был ошеломлен. Глаза его забегали, губы зашевелились, он не знал, радоваться ему или гневаться. Но почему бы не радоваться: Лемби не грозит произвол Рахи! Однако эта клятва! Что за коварную игру затеяли эти патеры!.. Но, возможно, и Лемби ведет со своими врагами хитрую игру... Немного придя в себя, он спросил как можно спокойнее; — А она не собирается возвращаться сюда? — Мы говорили об этом. Она думает, что теперь, после крещения, все здесь будет чуждо ей. Что ей тут делать... Велло потерял самообладание. Он отпил из кувшина большой глоток, предложил патеру и, пододвинувшись к нему, сказал: — Лемби была моей невестой, я уже говорил... Она была мне дороже всего. Рахи силой увез ее; он выкрал ее у отца. Отец вправе потребовать ее назад. Я — тоже! — Право на нашу плоть и душу принадлежит прежде всего богу, — не глядя на Велло, промолвил патер. — Пойми, если у тебя есть сердце, — она мне дорога, я не могу жить без нее!.. На худом лице патера промелькнула едва заметная улыбка. Не ожидая, пока ему предложат, он взял кувшин, пригубил и, по-прежнему не глядя на Велло, произнес: — Я уже сказал — ее получит в жены только тот, кто окрещен во имя отца и сына и святого духа. Она торжественно поклялась в этом, целуя крест. В голове у Велло вихрем проносились мысли: "Чтобы получить Лемби, я должен позволить окрестить себя! Как отнеслись бы к этому жители Мягисте, сельские старейшины?! Ни один из старейшин Сакалы и ни один из тех, кто жил за Сакалой, — никто из них не дал окропить себе голову крестильной водой! Сакалаские старейшины заключили с Ригой мир, но не стали на колени перед крестом!.. А я вдруг из-за девушки! И все-таки Лемби должна вернуться! Она ведь не такая, как Лейни! А поклялась только для того, чтобы обрести надежную защиту. Здесь же, освободившись из-под власти патеров и их хитрого учения..." С почти неподдельной искренностью Велло сказал: — Убитый горем престарелый отец ждет Лемби. Разве нельзя, чтоб дочь вернулась домой? Она могла бы и здесь помогать сирым и хворым... — Если достопочтенный патер в Риге найдет, что Мария — это имя она получила при крещении, — что Мария тверда в своей вере, мы позволим ей вернуться домой. Но я все же должен посоветоваться с главой нашей церкви, высокочтимым епископом ... — Сделай это, и я, то есть Ассо, отец Лемби... отец Марии не останется перед тобой в долгу... Патер жестом руки остановил Велло и сурово сказал: — Мы, слуги господни и глашатаи слова его, не берем никакой мзды ни серебром, ни золотом. За наши труды нам воздаст бог, если сочтет их достойными воздаяния. Но если вы хотите пожертвовать на благо святой церкви, чтобы она смогла послать к язычникам побольше проповедников слова божьего, — отдайте дары тем, кто приведет Марию домой. Патер встал, призвал божье благословение, перекрестился, взял посох и вышел, сопровождаемый Вайке. В тот же вечер Велло зашел к Ассо и сообщил ему радостную весть: Лемби жива, Рахи не властен над ней, и есть надежда, что она вернется домой. Худшее он сказал под конец: — Ее окрестили. Пожилого сельского старейшину это не особенно взволновало. — Ну, так что ж, что окрестили, — сказал он. — Только была бы здесь, со мной... Подали меду и ужин. Но оба — и Велло, и Ассо — были так взбудоражены, что почти ни к чему не притронулись.Придя домой, Велло поделился своей радостью с Оттем, который еще не спал. Старый слуга презрительно улыбнулся, а затем сказал: — Выходит, твоя невеста — вторая Лейни! — Почему ты так думаешь? — с обидой спросил Велло. — Вот увидишь, — проворчал умудренный жизнью Отть.VII
Долго пришлось Ассо и Велло ждать. Они часто навещали друг друга, и никто из них не скрывал своей тоски по Лемби. Даже разговаривая о всяких хозяйственных делах, они думали о ней. Оба начали уже сомневаться, отпустят ли ее черноризники — ведь она заботится там о сирых и хворых. Велло не таил от Ассо, что ждет Лемби как свою невесту, но о клятве, которую она дала, не обмолвился ни словом. Уж здесь-то Лемби освободится от нее и смоет с себя крестильную воду. В том, что она откажется от христианской веры, не сомневался и Ассо, но он не придавал этому значения. Уборка яровых уже подходила к концу и новый дом Велло — не такой, правда, просторный, как прежний, — был отстроен, когда на дворе старейшины появились двое незнакомых мужчин. Один из них был торговцем, второй — служителем церкви. Оба кое-как объяснялись на ливском наречии. Велло тотчас же послал за Оттем и Ассо и распорядился принести меду; чужеземцы изрядно приложились к нему, а когда все собрались, начали торговаться из-за "выкупа" Лемби. Служитель церкви со своим бритым лицом и голым черепом напоминал захудалого патера. Нос у него был красный, глаза масляные от притворной святости, голос кроткий, но лицемерный и льстивый. Он сразу же запросил пятьдесят серебряных марок и проворно достал из мешка весы и гирьки. Торговец всем своим видом стремился показать, что таково и его требование. Велло вопросительно взглянул на Ассо и Оття. Сельский старейшина был в растерянности, Отть же сразу сказал, что чужеземцы запросили слишком мало. — Пятьсот марок и то мало за такую девушку! Это ведь не какая-нибудь залапанная рыцарями рабыня! Чужеземцы удивленно переглянулись, не зная, что ответить. А Отть продолжал: — Очевидно, и ваши головы окроплены крестильной водой, поэтому вы должны знать, каков первый долг крещеного человека. Даже язычникам надоело это слушать: люби ближнего, как самого себя. Разве не ваш долг вернуть отцу дочь?! А вы заодно с разбойником, который выкрал у сельского старейшины его дочь. Вы в одной шайке с грабителем и теперь хотите еще получить свою долю добычи! Мало того: патеры и церковь спелись с разбойником и хотят содрать с отца бедной девушки сто шкур! Запроси вы даже двадцать марок серебром — и то это чудовищная цена! Приведите девушку в Мягисте — тогда получите настоящую цену и по связке куньих шкурок в придачу! Чужеземцы с усмешкой переглянулись и начали говорить по-немецки. Интересно, кто это, что так нос задирает? Уступить, конечно, можно, по прежде следует поприжать этих болванов! Хорошенько поприжать! Церкви так и так придется отвалить серебра, иначе девушку не выдадут, но ведь и самим надо заработать! А вдруг у них есть золото, и они не знают ему цены... Что, если спросить? Так рассуждали между собой чужеземцы. Отть же делал вид, будто не понимает ни слова, сердито отмахивался от мух, налетевших в комнату, и советовал выкурить их вечером можжевеловым дымом. От него хороший запах остается, не хуже, чем в церкви от патерских кадил. — Если есть золото — давайте пять марок; и достаточно! — дружелюбно произнес торговец с короткой клочковатой бородкой и блестящей лысиной.
— Золото здесь редко водится, — сухо ответил Велло. Ассо хотел что-то сказать, чтобы ускорить дело, но Отть, испугавшись, что тот пойдет на слишком большие уступки, опередил Ассо, предложив двадцать марок серебром и по связке беличьих и куньих шкурок каждому. Чужеземцы снова залепетали на своем языке; служитель церкви в нетерпении вскочил и стал ходить взад и вперед по каменному полу; он не желал сдаваться. Главное — они должны тут же получить все сполна, а девушку отправят, когда пойдет обоз с товарами. Спорили долго. Отть беспрестанно толкал коленом то Велло, то Ассо и подмигивал им — дескать, надо быть стойкими. Вайке внесла кувшин меду; чужеземцы внимательно оглядели девушку — видимо, она пришлась им по вкусу — и попросили поесть. — Ни один честный торговец или кто иной из путников не покидал дома старейшины Мяги- сте, не подкрепившись, — заметил Отть. — Но разговору конец, если церковь станет торговать рабами и потребует за похищенную девушку столько серебра, сколько в силах унести двое мужчин. Чужеземцы, не зная, что ответить, смотрели по сторонам. — Мы свою цену назвали, — молвил Велло и ладонью хлопнул себя по колену, что должно было означать: все ясно, поговорим о чем-нибудь другом. Он встал и вышел в другую комнату распорядиться об угощении. Чужеземцы жадно потягивали мед и держали между собой совет. — Эта Рижская стена с северо-западной стороны, слыхать, продолжает разваливаться, — вступил в разговор Отть, как будто совсем позабыв о торге. Чужеземцы вздрогнули и вопросительно взглянули друг на друга: неужто это так? Затем торговец довольно-таки сердито ответил: — Она, кажется, давно исправлена! — Конечно, исправлена, — наобум подтвердил служитель церкви. — Еще в прошлом году вся в трещинах была, — заметил Отть. Потом спросил с притворным интересом: — В этой последней шайке крестоносцев, что явились весной, опять много пьяниц? Чужеземцы были неприятно поражены; ища друг у друга поддержки, они стали наперебой расхваливать рыцарей и крестоносцев. Все они посланы святейшим папой проповедовать среди язычников христианство. Вся жизнь их посвящена матери божьей, деве Марии. — Что жизнь их посвящена пьянству и девкам — это мы знаем, — проворчал Отть, но так тихо, что чужеземцы не расслышали. Они снова заговорили между собой о выкупе за Лемби, и торговец решил, что сорока марок достаточно. — Разве обманешь людей, которые так хорошо осведомлены о том, что делается в Риге, — мрачно сказал он своему спутнику. Велло, который тем временем вернулся из другой комнаты, и слышать не хотел о сорока марках и заговорил о другом. Они с Оттем ловко притворялись, будто судьба Лемби не тревожит их, и даже Ассо стал спокойнее. Гости вскоре осушили кувшин, похвалили мед и сделались разговорчивее. Когда же на низком столе появились кушанья: копченая дичь, вяленая рыба, мед лесных пчел, свежее молоко в глиняной кружке и полные кувшины меду — и все расселись вокруг стола на маленьких шкурах, гости совсем повеселели. Посоветовавшись друг с другом, они сбавили цену до тридцати пяти марок, и торговец стал дознаваться, какие здесь можно купить товары. Они ели и похваливали старейшину и Оття, выказывали свое уважение Ассо. Раньше они полагали, что здесь живут дикари и что селятся они в лесу, в хижинах из веток, едят мясо своих детей и ничего не знают о том, что творится на белом свете. Ни Отть, ни Велло ничего определенного не сказали о том, сколько у них какого добра, но оба многозначительно заметили, что для честного обмена найдется и то, и се. Не сказали они и о том, кто из них и когда побывал в Риге, Юкскюле, Торейде, Холме, Пскове и Новгороде, однако дали понять, что знают эти города, как свои родные селения. — А язык?.. Как же с языком? — спросил торговец. Отть усмехнулся, взглянул на Велло, потом на Ассо и ответил: — Здесь мы разговариваем на своем языке. А поедем в Вынну, Ригу или Псков — что ж, там объясняемся на языке тамошнего народа. Гости насторожились. Велло приказал истопить баню и отправил гостей мыться, снабдив их свежими березовыми вениками. Но поддавать пар послал не молодую девушку, как просили гости, обещав за это хорошую мзду, а здоровенную старуху-служанку, которую, доведись ей оказаться в медвежьей берлоге, не смог бы одолеть даже сам царь лесов. Они вернулись из бани, кряхтя от удовольствия; усевшись под ясенями, снова приложились к меду и стали выбалтывать разные истории из рижской жизни, не утаивая больше про озорные похождения рыцарей. Правда, гости поспешили добавить, что все они окрещены и святейший папа в Риме прощает им их прегрешения, а дева Мария — их заступница перед богом. До того как улеглись спать, сторговались на тридцати марках серебром и связке шкурок каждому. Нерешенным осталось только, как и когда доставить Лемби. Велло убеждал Ассо пойти домой — сельский старейшина был так возбужден от переживаний этого дня, что не мог говорить связно и все ворчал на Оття за его упрямство: — Зачем ты с ними так! Ведь серебро у нас найдется! Главное, чтоб они согласились! Я отдал бы свое стадо, лошадей и пашню, если надо... К чему мне это добро! Мною ли мне жить осталось! Как-нибудь протяну до конца... А Лемби — и она как-нибудь проживет... — Они уже размякли, — заметил Велло. — Пусть Отть поприжмет их! Мало разве он видел таких. К тому же знает немного их язык и знает, что у них на уме... Мы всегда договаривались с торговцами. А здесь труднее потому, что в игре и черноризники. Правда, патер сказал: ему ничего, мол, не надо, но вот церковь!.. Пар, дескать, нужен не тому, кто его поддает. Церковь хочет получить свою долю, а они — вознаграждение за труд. — Пусть доставят дочь сюда честно, без подвоха — будет им и выкуп и вознаграждение за труд! — сказал Ассо, который ни о чем другом думать не мог. Утром гостей снова как следует накормили; за завтраком Отть продолжал донимать их. Беличьи и куньи шкурки им дадут сверх выкупа и — ладно уж! — если девушка благополучно доберется до Мягисте... (Отть прошептал несколько слов и показал серебряные украшения.) Задатку каждый получит по пять марок! Он сказал это при Велло и с ведома Велло, а затем немного хвастливо добавил: — Мягисте ограбили, но Мягисте все-таки живет! Пусть приходит латгал из-за Койвы, русский из-под Пскова или немецкий рыцарь с берегов Вяйны, пусть привозит товар, увозит товар, ведет дела честно — всем от этого выгода! Но есликто явится грабить — придется вести разговор с помощью вот этого... — Отть показал на висящее по стенам оружие. — Вся Сакала теперь начеку! И со смехом добавил: — Прошлогодние счеты еще не сведены. Недосуг было — сами знаете, надо было строить жилища, растить стадо, лошадей. Но придет срок — сведем! Чужеземцы слушали, не зная, принимать ли все это всерьез или в шутку, глазели друг на друга и что-то бормотали, сами не понимая что, но примерно это означало: "Поступайте, как хотите!.. Как сами найдете нужным!" Затем они прикинули, как скоро можно будет доставить девушку. Не удастся ли к полнолунию, ибо месяц сейчас еще только зародился. Решили, что, вероятно, удастся. Так и сказали Велло, который пообещал добавить еще несколько марок серебром, если к полнолунию девушка будет в Мягисте. Получив задаток, чужеземцы покинули Мягисте.
***
Велло был теперь целиком поглощен думами о Лемби. Он был оживлен, громко разговаривал, часто смеялся и, обнимая Вайке, спрашивал: — Ты рада, что Лемби вернется? — Конечно! — отвечала преданная служанка, и слезы катились из ее глаз. Лейни же, услышав об этом, молитвенно сложила руки, подняла глаза к небу и благоговейно произнесла: — Господь избрал Рахи своим орудием, чтобы привести Лемби к источнику жизни вечной! Да будет благословен Иисус Христос за то, что он посылает мне сестру! — Страшные помощники у твоего господа, — проворчал Велло. — Может, и в прошлом году враг грабил нас и жег наши дома по предначертанию божьему? Может, это он все подстроил и натравил врага? — Без его воли ни один волос не упадет с головы и воробей не свалится с крыши, — ответила набожная сестра. "Лемби некого оплакивать, значит, можно не опасаться, что она лишится рассудка, как моя сестра, — думал Велло. — Она найдет здесь отца и меня. А то, что позволила окропить себя крестильной водой... что ж, наверное, она знала, что делает. Это было необходимо. Язычнику не житье в Риге! Была бы там, как собака среди волков!"VIII
Впереди всех по заросшей травой дороге медленно и степенно шествовал патер, на каждом втором шагу опираясь на посох и устремив глаза вдаль. За ним шла Лемби в черном одеянии, на голове у нее был черный платок, закрывавший лоб. Из-под концов платка выглядывало бронзовое распятие. Черное платье достигало земли и было свооодно перехвачено выше бедер веревкой, на которой висели четки. Она ступала так же медленно, как и патер, и как будто даже старалась сдерживать шаг. За Лемби шли двое мужчин, те самые, что недавно приходили в Мягисте торговаться из-за нее. Позади — еще двое вооруженных слуг. Миновав первое селение и дойдя до второго, процессия остановилась возле дома Ассо, и Лемби, опередив патера, вышла вперед. Она открыла ворота и успокоила кинувшихся навстречу псов. Служанки во дворе, поглядев на прибывших, забегали туда-сюда, что-то крича друг другу. Они искали Ассо. Лемби стояла рядом с патером, спокойно и безучастно глядя перед собой. Наконец Ассо разыскали; он торопливо шел со стороны хлева, без шапки, с чуть приоткрытым ртом и выражением радости и одновременно тревоги в глазах. Подойдя поближе, он недоверчиво взглянул на патера, затем на девушку в черном одеянии и, узнав в ней дочь, воскликнул изменившимся от волнения голосом: — Лемби!.. Ты!.. Пришла!.. Он был уже в двух шагах от нее, когда патер вдруг повернулся, поднял руку, словно преграждая ему путь, и посмотрел на Лемби. Та осенила себя крестным знамением и сказала громко и торжественно: — Слава Иисусу Христу! Аминь! Тогда патер отечески сказал Ассо: — Ее зовут теперь не Лемби, как прежде, когда она была язычницей, а Марией — это имя ей нарекли при святом крещении. И кроме того, она больше не твоя дочь. Святая церковь называет ее своей дочерью и сестрой. Она с верой приняла таинство крещения, соблюдала все посты, усердно молилась, была благочестива и кротка, и поэтому ей доверили заботу о сирых и хворых — она помогала им и лечила их. Мы привели ее для того, чтобы она и здесь, среди язычников, продолжала свое дело во славу господа и его церкви. Когда патер кончил, вперед выступил бородатый торговец. — Но мы требуем выкупа, как было договорено со старейшиной, — сказал он Ассо. — Только в этом случае сестра Мария сможет остаться здесь. — Тогда, очевидно, самое лучшее всем вместе отправиться к старейшине! — предложил патер. Возвращение дочери и слова патера привели Ассо в такое смятение, что он ничего не сумел ответить. Радость встречи была отравлена; у него есть дочь и в то же время нет ее. Он чувствовал себя как человек, которому вернули похищенное сокровище, но который не смеет ни назвать это сокровище своим, ни коснуться его и может лишь только смотреть на него. Поддерживаемый слугой, он шел через селение, следом за чужеземцами. Велло уже сообщили о прибытии Лемби и патера. Он быстро надел свое лучшее платье, привесил к поясу меч и теперь стоял во дворе рядом с Малле; Вайке, Кахро и Отть стояли за ними, а слуги и служанки — поодаль. Было как раз обеденное время — кончили жать и сложили овес в копны. Войдя вместе с Лемби во двор, патер осенил себя крестным знамением. Лемби последовала его примеру, а затем произнесла церковное приветствие. Но здесь ее голос прозвучал слабо и беспомощно, заметно было, что говорит она через силу. Велло шагнул к ней. Казалось, он ждал, что невеста кинется навстречу и упадет ему на грудь. Но тут к старейшине подошел патер и повторил все, что он говорил Ассо, только громче и настойчивее. Затем добавил: — Мария избрана служить Иисусу и пресвятой деве, чье имя дано ей при крещении. Целуя крест, она поклялась, что посвятит свою жизнь богу и никогда не станет невестой или женой язычника. Гнев божий падет на того, кто попытается уговорить ее нарушить клятву или пожелает ее себе в жены. Я оставляю девушку здесь под защитой старейшины и на попечении ее бывшего отца, но ты, сестра Мария, должна неустанно просить всевышнего, чтобы воинство его денно и нощно охраняло тебя. Лемби слушала. Лицо ее было строго и серьезно, взгляд опущен. При последних словах патера уголка ее рта и ноздри начали вздрагивать, на глаза завернулись слезы и обильно покатились по бледным щекам. Маленький бородатый торговец снова вышел вперед и напомнил о серебре. Велло, неотрывно глядевший на невесту, услышал за своей спиной тихий голос Вайке: "Что они с ней сделали!" Волна гнева поднялась в нем — еще немного и он вцепился бы патеру в горло. Но, овладев собой, Велло обратился к Малле: — Позаботься о ней! — Затем бросил алчному торговцу: — Идем к амбару. Получите сполна! "Так я это не оставлю! — сказал он себе. — Погодите же! Девушка скоро оправится и тогда..." Он велел торговцу подождать, а сам с Оттем прошел в комнату. — Прикончил бы их всех на месте, — процедил он сквозь зубы. — Я всегда говорил — змеиное отродье! — ответил Отть. — Прикончить — и все. А сейчас заплатим, что причитается, и выпроводим вон. Не скупись! В другой раз возьмем с них сторицей.,. Ну, а Лемби... Даже если и не получится из нее толку и она станет как Лейни — что ж! Пусть помогает бедным и лечит хворых. И это работа. Может, ей и муж не понадобится. Повезет — так родит сына от святого духа. — Что за. глупая шутка! — разозлился Велло. — Родила же их дева Марья, то есть святая Мария, сына от святого духа! Сын этот и есть великий дух Иисус Христос, которому они поклоняются. Велло ничего не ответил; наклонившись, он перебирал серебряные монеты и украшения. Отть, стоя у порога на страже, продолжал уже тише, словно утешая: — Невесту старейшина Мягисте найдет и здесь, и в других местах. Любой сакалаский старейшина отдаст за тебя свою дочь, да еще столько приданого получишь, что и не увезешь... — Прекрати, — крикнул Велло и выпрямился. Мешок с серебром был у него под мышкой. Но прежде, чем выйти, он велел Оттю отослать со двора слуг и служанок. Нечего им глазеть на Лемби! Меж тем патер и Лемби уселись на скамью под ясенями, а слуги, сопровождавшие их, стояли, прислонясь к частоколу. В амбаре принялись спешно взвешивать серебро. Отть знал эту работу. Сперва он с недоверчивым видом повертел в руке гирьки, а затем стал кидать на чашу слитки серебра, броши, браслеты, кольца и ожерелья. Торговец внимательно оглядывал юркими глазками каждый предмет и ножом проводил на нем царапины, чтобы убедиться — настоящий ли это металл. Велло сидел тут же, старательно смотрел на весы, но не видел их и не слышал споров Оття с торговцем. Он думал о Лемби и горел желанием поскорее поговорить с ней, сорвать с нее эти черные одежды загробного мира и изгнать из ее сердца этого страшного духа. Наконец серебро было взвешено, чужеземцы высыпали его в мошны, изрядно приложились к меду, который принесла Вайке, после чего торговец сказал: — А теперь плати за то, что доставили ее в срок в целости и сохранности. — Вы отравили ей душу и тело! — вскричал Велло и, вынув из потайного кармана браслет, брошь в ожерелье, кинул все это на пол и приказал Оттю достать шкурки. — На этот раз мы квиты, — сказал Велло после того, как чужеземцы спрятали полученное в мешки. Он дрожал от возбуждения, ему казалось, что он ее дождется, когда чужеземцы закончат свои дела. Выйдя во двор первым, он крикнул патеру: — Все уплачено, гости к отбытию готовы. Патер же тихим, смиренным голосом, в котором сквозила насмешка, ответил: — Сестра Мария хочет прежде навестить Барбару и Регину, чтобы мы могли все вместе помолиться. А ты, старейшина Мягисте, если хочешь вступить в брак с Марией, должен дать окрестить себя во имя отца, сына и святого духа. Призвав на Велло и Ассо божье благословение, патер ушел вместе с Лемби. — Ну и идите! — прохрипел Велло и, повернувшись, зашагал прочь. Он оглянулся лишь на нижнем дворе. Патер со своей жертвой как раз выходил из ворот, торговец и слуги шли за ним. Вскоре приковылял Отть. — Еще и есть потребовали, — презрительно молвил он. — Но я сказал: в Риге, мол, наедитесь! С озабоченным видом подошел Кахро, сделал вид, будто у него тут какое-то дело, но в конце концов не выдержал: — Лемби испорчена. Она не та, что прежде. Они околдовали ее. — Вынут у человека душу, сунут вместо нее душу какого-нибудь духа, а затем — будь добр, давай за это еще серебро и золото, — возмущался Отть. Велло распорядился принести лук и пучок стрел, сказал, что пойдет в лес. В голове у него была лишь одна мысль: как поговорить с Лемби с глазу на глаз, чтобы никто не слышал!IX
Патер покинул Мягисте лишь на третий день. Лемби, Лейни и Рийта провожали его до большой дороги, что ведет из Сака-лы в Ригу. Вернувшись, Лемби осталась у отца. Все эти сведения добыли для Велло Кахро и Вайке. Старейшина сразу же послал Малле к Ассо, веля передать, что он зовет свою невесту, что он умоляет ее прийти. Сестра вскоре вернулась; Лемби спокойно и твердо ответила ей, что не придет, останется у отца, а если Велло есть что сказать ей, пусть приходит сам. Велло стиснул зубы и не вымолвил ни слова. Он не пошел туда ни в этот день, ни на следующий, а затем, чувствуя, что не в силах больше владеть собой, вскочил на коня и по проселку домчался к Ассо. Он встретил сельского старейшину во дворе и попытался хоть что-нибудь прочитать на его лице, однако гадать не стал и тихонько спросил: — Как дочь? Уже здорова? — Не понять ее, — грустно улыбаясь, ответил Ассо. — Порой словно не в своем уме, говорит о другом мире, о граде на небесах, о Христе и пресвятой деве. Не знаю, что с ней там сделали... Сейчас она дома, должно быть, молится. Поди, поговори с ней сам. Велло пошел к дому; он никак не мог решить, как вести себя с невестой. Все эти дни он подбирал слова — то добрые и ласковые, то злые и гневные, то деловые и убеждающие. Он вошел и, когда глаза его привыкли к сумеречному свету, увидел Лемби. Вся в черном, она стояла на коленях перед лавкой; руки ее, касавшиеся пояса, передвигали слева направо четки, лицо было обращено кверху, к маленькому бронзовому распятию на стене. Она даже не заметила вошедшего. Губы ее шевелились, но слов не было слышно. Затем она подняла правую руку, перекрестилась и встала. — Лемби! — произнес Велло и сделал шаг вперед. — Да будет благословение господне с тобой! — сердечно молвила Лемби, указала рукой на лавку и села сама. — Но не называй меня Лемби. Мое имя теперь Мария. — Лемби, скажи мне только... — начал Велло, опускаясь на лавку в сторонке от девушки. — Ты здорова? Ты понимаешь, где находишься, узнаешь ли своего отца, меня, Малле и других? Подобие улыбки промелькнуло на лице девушки, она сочувственно посмотрела на старейшину, затем быстро отвела взгляд и серьезно сказала: — Я узнаю отца, в доме которого снова живу, узнаю тебя, старейшина Мягисте, твою сестру и всех других. Я хорошо помню свою жизнь здесь и там, в Риге, и все, что со мной случилось. Господь вразумил меня и указал мне дорогу к нему. Однако не называй меня больше Лемби. — Ты совсем как Лейни. Неужели ты не понимаешь этого? Сама ведь раньше посмеивалась над ней, — увещевал ее Велло. Не поднимая глаз от колея, скрытых под черным платьем, Лемби тихо ответила: — В ту пору я еще не познала истинного бога и жизни во Христе. Велло беспомощно развел руками, горестно вздохнул и спросил без особого интереса: — Как же это все-таки случилось? Лемби скрестила на коленях руки — голова ее в черной шали слегка наклонилась вперед, взгляд устремился куда-то вдаль — и начала рассказывать:— На один лишь миг мной овладел страх — когда грабители ворвались в наш дом. Вскоре я поняла, что человеческая сила не спасет меня, и отдала себя в руки богов. Тогда я еще не знала, что есть один всемогущий бог, который защищает и оберегает нас, и поэтому бояться не надо. Даже если нагрянет враг и будет разить нас мечом или вокруг начнет бушевать пламя пожаров. — Ты говоришь: защищает и оберегает... не надо бояться! — нетерпеливо перебил Велло. — Но ведь этот бог позволяет убивать и сжигать в огне даже тех, кто крещен, кто верует. — Значит, такова его воля, — ответила Лемби, и улыбка скользнула по ее лицу, словно у матери, которая втолковывает что-то неразумному ребенку. — Истинный христианин никогда не боится! — И некрещеный человек может быть смелым, — пробормотал Велло. — Вера в бога — вот что делает человека смелым и позволяет ему умереть в радости. — Ты собиралась рассказать, что случилось с тобой той ночью, когда по воле твоего бога убивали, как собак, наших мужчин, женщин и детей. И делали это твои крещеные братья и сестры, — с горькой улыбкой произнес Велло. — Поверь, этого бы не случилось, не будь на то воли божьей! — твердо сказала Лемби. — Но нам не уразуметь, не понять его милосердия. — Малого ребенка вздевают на копье и кидают в горящий дом, как головешку... Трогательное милосердие у твоего бога! — проворчал Велло. — Ну, да ладно, рассказывай дальше! Лемби, нимало не обидевшись, продолжала: — Рахи был очень добр ко мне. Он оставил меня под охраной слуги, пока сам ходил в селение... — Пронзать женщин копьями и рубить детям головы! — Нет в тебе смирения, — молвила Лемби и печально посмотрела на старейшину. — Не хочешь ты покориться воле божьей. — Я не хочу покориться его пособникам, если они такие, как Рахи, если они разбойники и грабители! — воскликнул Велло и ударил кулаком по колену. Затем он взглянул на Лемби и грустно сказал: — Пойми меня, мне трудно спокойно говорить об этом! Лемби продолжала рассказ: — Утром меня посадили на лошадь; под охраной нескольких латгалов и одного лива мы выехали из селения и вскоре повернули на юг. Мне было очень жаль отца; его связали и оставили на попечеции слуг. Правда, Рахи много раз говорил мне, что ничего плохого с ним не приключится, что отец может продолжать спокойно жить в своем доме. Мне разрешили взять с собой все, что я хочу, но я захватила лишь одежду да некоторые украшения — тогда они были еще дороги мне. На второй день пути мы прибыли в город Вынну. Там меня передали доброй старой женщине, она была зажиточна и заботилась обо мне. Она не знала нашего языка, и мы разговаривали с ней через переводчика. Она была крещеная и по вечерам читала вместе со мной молитвы и утешала меня. Рахи появился позже. — После того как была закончена резня, учиненная с благословения милосердного бога, — бросил Велло. — Он опять был приветлив, спросил — не нуждаюсь ли я в чем-нибудь, и в конце концов сказал, что хочет взять меня в жены. Рахи всегда был противен мне, но я не решилась сказать ему об этом в тот раз, как решилась потом, когда стала верующей. Я ответила, что тоскую по отцу и еще не оправилась от потрясения. Он сказал, что будет ждать, обещал мне хорошую и беззаботную жизнь, сказал, что и отец сможет приехать потом сюда. Я была в затруднительном положении и как-то после вечерней молитвы рассказала обо всем женщине, у которой жила; та обещала посоветоваться со своим патером. Вскоре они сообщили мне, что согласны защитить меня, но верную защиту может дать только бог и церковь. Меня сразу же начали обучать и готовить к принятию святого крешения. Учение шло медленно и туго, потому что, хотя патер и говорил на языке ливов, я понимала его плохо. Рахи каждый день проведывал меня, подолгу говорил со мной, дарил мне украшения и дорогие одежды. О том, что патер обучает меня христианской вере, я не говорила ему ни слова. Дней через десять или больше меня окрестили, и тогда патер сам сказал об этом Рахи. Он сказал также, что теперь я под его, патера, защитой и под защитой святой церкви и что жениться на мне сможет только крещеный человек. — Ты попала из огня да в полымя, из лап злого пса в лапы кровожадного волка, — кольнул ее Велло. — Рахи тоже сразу же дал себя окрестить, но я рассказала патеру, кем он был прежде, и меня не стали принуждать идти за него. Тогда он стал уговаривать меня уехать с ним далеко, в землю селов или самогитов; там якобы красивые леса и поля, длинное теплое лето, да и вообще хорошая жизнь. Сказал, что купит себе большой замок, как у рыцарей, и даже патер смог бы постоянно жить там. Я не согласилась и тут же поняла, что он замышляет против меня нехорошее, хочет насильно увезти меня. Тогда та верующая женщина взяла меня на ночь к себе. И, действительно, однажды ночью Рахи взломал дверь и ворвался в комнату, где я до того жила. В скором времени патер отправил меня с торговцами в Ригу. Он дал мне с собой письма. В Риге меня взял к себе в дом старый почтенный патер, который тоже умел говорить на языке ливов. Я же стала усердно учить немецкий язык и теперь немного знаю его. Там я стала ходить в церковь. Ничего прекраснее торжественных месс я в своей жизни не видела и не слышала. Только в церкви, слушая проповеди старого патера и преклонив в молитве колени, я начала понимать, как пуста была до сих пор моя жизнь и что такое жизнь в боге и во Христе. Регина, сестра моя, поняла это быстрее, быть может, потому, что на ее долю выпало больше испытаний, а через испытания бог приводит нас к себе. Я могла там молиться за своего отца, и я делала это каждый день. Я просила господа и за тебя, чтоб он и тебя когда-нибудь вразумил. Велло вскочил с лавки, несколько раз прошелся взад и вперед по комнате, затем остановился перед девушкой и взволнованно, с отчаянием и горечью воскликнул: — Лемби, неужели ты не понимаешь — они околдовали тебя своими речами и песнопениями!.. Очнись от этого сна! Начни жить снова как человек! Ты можешь помогать бедным и больным — и это следует делать! Малле и Вайке тоже делают это, хотя они и язычницы. Лемби упрямо покачала головой. Умоляющим голосом Велло продолжал: — Ты моя невеста... Все опять хорошо... Ты вернулась... Будь моей женой!.. Лемби резко отшатнулась, бросила на старейшину испуганный взгляд и прижала руки к груди, словно что-то угрожало ей. — Нет, нет! — воскликнула она в отчаянии. — Я никогда не стану твоей женой... потому что ты язычник... Ты некрещеный... Я дала клятву патеру и поцеловала святой крест... Ее губы дрожали, когда она говорила; видно было, что она принуждает себя произносить эти слова. — Понимаю, — глядя в одну точку, с горечью произнес Велло. Лемби встала и быстро вышла, словно ей угрожала здесь опасность.Х
В Мягисте, а потом и за его пределами, люди немало говорили о том, что случилось с дочерью Ассо. Слухи эти, распространяясь, принимали все более причудливый характер. Лемби, утверждал кое-кто, полгода провела в Риге и стала там невестой Христа — великого духа крещеного народа. Сейчас они встречаются в лесу и скоро начнут жить вместе как муж и жена. Поэтому-то в лесу и строят дом. Этот великий дух якобы по ночам ходит и к хромой Рийте, и к Марье, и к Лейни. Говорят, он очень красив и ему ничего не стоит опутать женщину. Велло же от ревности сам не свой и все подстерегает этого духа, Христа, чтоб убить его. Потому-то и носит при себе отравленные стрелы и заколдованные копья. Рассказывают, будто однажды, очень давно, этот красивый дух, соблазняющий женщин, был убит, но потом воскрес. Велло, действительно, был сам не свой: это замечали все. Он подолгу недвижно стоял на одном месте и смотрел куда-то вдаль, ничего не видя и не слыша. Затем, словно пробудившись, подозрительно озирался вокруг, отдавал какие-то распоряжения, но тут же спешил уйти, чтобы остаться наедине с собой и своими мыслями. В Мягисте в это время строили хлев. Отть руководил работами, Кахро был его правой рукой. Малле ведала стадом, домашним хозяйством и девушками-служанками. Все шло хорошо и без Велло, и он испытывал от этого облегчение. Не надо было находиться на глазах у людей, чтобы они глядели на него и тайком перешептывались. Он велел Оттю огласить свое распоряжение: пусть молодежь ходит на качели, пусть распевает там песни, играет, танцует и веселится. Он приказал Малле и даже Вайке бывать там, и порой, с глазу глаз, спрашивал у них — как там парни и девушки, не вешают ли голову и не ищут ли одиночества? Не ходят ли потихоньку к христианам и не водят ли с ними дружбу? К крещеным ходят жешцины постарше, а так же девушки, поведала ему как-то Малле, изредка и мужчины. Лемби же, или Мария, навещает бедных и больных, помогает им, рассказывая при этом об Иисусе Христе, о боге, пресвятой деве, о небе и аде. Иные смеются, а иные прислушиваются. И еще говорит Мария: бог крещеных, бог патеров и рыцарей — самый могучий бог, остальные боги по сравнению с ним — ничто. Этот бог подчиняет себе все народы, тех же, кто не покоряется ему добром, повергает в прах, и они гибнут. Свой меч бог вручил рыцарям! Услышав это, Велло так разгневался, что готов был тотчас же вызвать на поединок кого-либо из рыцарей. Он показал бы народу, чей бог сильнее! Когда Лейни приносила готовое рукоделие, Велло старался быть поблизости от нее, расспрашивал, как подвигается постройка дома, и ждал, не скажет ли сестра чего-нибудь и о Марии. Но Лейни надменно молчала, сжав губы, чтобы с них не сорвалось ни единого слова, не восхваляющего господа. Нет, выведать у сестры что-либо о Лемби было невозможно, разве что спросить ее прямо. Но Велло не спрашивал: он еще не настолько потерял гордость, чтобы удовлетворять свое любопытство с помощью верующих. И разве пристало ему проявлять интерес к невесте другого. Ведь говорят же, будто Мария — невеста Христа. Так пусть нежится со своим женихом, с этим Христом, где-нибудь в лесной чаще, а потом и в шалаше! Так думал Велло в порыве гнева. Но когда гнев стихал — а стихал он обычно скоро, — Лемби снова становилась мила ему. И он снова с грустью рисовал ее в своем воображении и обдумывал доводы, которыми можно было бы поколебать ее веру. Среди верующих самой болтливой была хромая Рийта, или Барбара; от нее-то и шли кое-какие разговоры, которые она слыхала, вероятно, от Лейни. Вот хотя бы это: "Найдется ли среди вас, язычников, мужчина, подобный нашему патеру?! Такой кроткий, набожный, такой смелый и умный! Ему даже тайны загробного мира известны!" В самом деле, что касается этого, то тут дела в Мягисте обстояли неважно. Вот старого мудреца, его-то уж смело можно было бы поставить лицом к лицу с патером; уж он-то не опозорился бы, начни они выяснять дела земного и загробного мира. И разве не говорит о его мудрости хотя бы то, что он смело признавался, если чего не знал! И смело называл лжецом каждого, кто говорил о небе и подземном царстве так, словно сам побывал там. Он даже считал вруном каждого, кто утверждал, что видел духов. Почему же он, мудрец, никогда их не видел и не видит! Велло не раз искушала мысль — а что, если дать окрестить себя? Тогда — да, тогда он мог бы жениться на Марии... Но он гнал от себя эту мысль. Кем оказался бы он в глазах народа Мягисте?! Что подумали бы о нем старейшины Сакалы? Сын же старого мудреца пробавлялся доброй славой отца и все сложные вопросы разрешал удивительно легко, словно играючи.***
Как-то Велло снова отправился к Ассо, куда в последнее время ходил редко, чтобы не встречать бедняжку Лемби. Конечно, он был бы рад видеть ее каждый день, но он знал — все кончено, не стоит ни продолжать с ней спора, ни снова начинать. Пусть она достается Христу и патеру! Сельский старейшина только что пришел из леса, где паслось его стадо. Казалось, к нему вернулась его прежняя живость, он уже и улыбался по-прежнему, его рот, как всегда, был чуть приоткрыт. — Вся работа справлена, хлеб обмолочен, — сказал он с довольным видом. — Дня не было, чтоб Мария не помогала. Велло кольнуло, что Ассо, потеряв дочь, весел и бодр, что он словно и не замечает этой утраты либо привык к ней. Еще больше кольнуло его в устах отца имя Мария. И потом — Мария помогает отцу! Значит, она не потеряна для отца, и жители селения вправе уважать ее. Ассо, отдав слугам распоряжения, стал рассказывать, как Мария иной раз в полночь уходит к Лейни и Рийте и порой возвращается оттуда утром, на заре, потому что дома ее ждет неотложная работа. Иногда поздно вечером она навещает больных, не боясь ничего и никого. Сельский старейшина позвал Велло в дом, но тот отказался, сказав, что ему еще нужно сходить по делу. Никаких спешных дел у него не было, просто он не хотел разговаривать с Ассо — уж очень тот хорошо отзывался о Марии. А больше не с кем было поделиться своими заботами. Кузнец, тот дурил пуще прежнего: человек ли, зверь, говорил он, какая разница — один впивается в глотку другому. Поэтому ешь, что получше, пей, что повкуснее, хватай девушек помилее, ибо завтра может прийти смерть, может явиться рыцарь или латгал — и тогда всему конец. Патер пугает загробным миром — не страшно, ловкий человек и там не пропадет, найдет себе и работенку и хлеб! — Не надо ли старейшине какой-нибудь вещички поизящнее? Может, рукоятку для меча или щит с украшениями? — деловито спросил кузнец. — Мне нужны мечи и щиты, а не украшения на них, — с горечью ответил старейшина. — Нужно такое оружие, которым легче бить врага. К чему еще украшения, резьба! Нет для этого ни денег, ни времени! — Родиться бы мне на несколько сот лет раньше — золотые были времена! — вздохнул кузнец. — Либо позднее! — Думаешь, настанут золотые времена? Можешь здорово просчитаться! Явятся сюда рыцари и поступят с нами, как с ливами! — Что ж, буду и для них ковать мечи и украшать резьбой рукоятки! — ответил кузнец и тут же спросил: — Случайно не найдется у старейшины хорошего меду? — В плохие времена редко бывает хороший мед, — ответил Велло и пошел своей дорогой. Хлеб с полей свезли, жнивье снова зеленело от осота и сныти, скворцы уже летали плотными стаями и, подобно облакам, опускались то на одно, то на другое поле. Ветер срывал с деревьев преждевременно пожелтевшие и полузеленые листья. Велло ходил в лес и порой усердно охотился, настигая стрелой каждую птицу, взлетавшую в воздух где-либо поблизости, а также зайца или лису, когда они перебегали тропинку или перескакивали через упавшее вековое дерево. Порой же бесцельно бродил по дорогам, останавливался у ручья, где когда-то они стояли и беседовали с Лемби, затем шел к хижине хромой Рийты и, подойдя совсем близко, смотрел меж деревьев до тех пор, пока не отыскивал взглядом Марию — она обычно хлопотала по хозяйству или рукодельничала, сидя на камне. "Если человек усердно работает сам и помогает другим, живет в воздержании и никому не делает зла — он же в своем уме? — спрашивал себя Велло. — Очевидно да. Но к чему тогда эти разговоры о боге, о его удивительном сыне, которого убили и который все-таки жив? К чему вся эта чепуха о небе и аде?!" Однажды Велло не выдержал. Заметив, что Лемби встала, отнесла работу в дом и, выйдя оттуда, отправилась по лесной тропинке, по всей вероятности, к отцу, он заторопился вслед за бывшей невестой и, сделав крюк по лесу, "случайно" вышел ей навстречу. Старейшина радушно поздоровался с девушкой, словно ничего за это время и не произошло. Лемби ответила ему обычным своим христианским приветствием и, казалось, была рада встрече. — Я молилась за тебя по вечерам, когда вспоминала о тебе, — серьезно и сердечно сказала Лемби. — Молилась?.. — переспросил Велло и сдвинул брови, хотя досады и не почувствовал. — Я просила бога, чтобы он наставил тебя на праведный путь. — А на каком же я пути? — улыбаясь, спросил Велло. — На пути к погибели. Я бы хотела, чтоб ты позволил окрестить себя. Тогда ты войдешь в царство небесное. — Значит, эти рыцари и латгалы, которые в прошлом году затеяли здесь резню, тоже будут там, на небе? Они же крещеные! Лемби слегка поколебалась, наморщила лоб, а затем решительно ответила: — Конечно, они будут там. — Ну уж в таком случае я вовсе не стремлюсь туда. Еще схватит кто-нибудь за горло. Не то, чтоб я боялся, но... неприятно жить с головорезами. — Перед богом нет врагов, все люди — братья и сестры. — Значит, и Рыжеголовый мне брат?.. Нет, нет! Это дело там плохо поставлено. Уж лучше я отправлюсь туда, где обитают мой отец и мои предки. Где собрались все наши старейшины, которые смело жили, отважно сражались и честно умирали. Лемби озабоченно покачала головой; некоторое время они молча шли друг за другом по лесной тропинке, потом девушка сказала: — Ты ожесточаешь свое сердце. Это нехорошо. Лучше послушал бы, что говорит патер, и дал окрестить себя. — И что тогда? — Тогда ты очистишься от первородного греха и заново родишься как чадо господне. — Заново рожусь!.. — Велло махнул рукой; он был теперь убежден, что Лемби не та, что прежде, что в голове у нее не все в порядке. И все же спросил: — Представь, что рыцари или крещеные латгалы вторглись сюда, напали на нас... на чьей стороне была бы ты? — Я взяла бы крест, вышла им навстречу и сказала: "Братья, не причиняйте им зла, хоть они и язычники!" — Ну, допустим, что ты взяла бы крест и вышла им навстречу. А что делать мне? Лемби ответила не сразу. Казалось, она внимательно прислушивалась к дрожащему шелесту осин в тихом лесу. — Если б ты верил, — промолвила она наконец, — бог сам указал бы тебе, как поступить. Велло не нашелся, что ответить на это, и ему стало даже стыдно, что он не сумел возразить крещеному человеку. Тропинка, сделав поворот, слилась с другой, шедшей с юга, из глубины леса. У Велло возникло желание позлить набожную деву, и он сказал: — Помнишь, однажды летним вечером мы шли этой же тропинкой? На этом самом повороте я поцеловал тебя, все между нами было ясно, ты была моей невестой... Лемби испуганно вздрогнула, робко посмотрела налево и направо, плотнее завернулась в черную шаль, прижала руки к груди и стала шептать молитву. — В тот вечер, в лесной чаще, вдали от людей, одни только боги видели... — Не вспоминай этот страшный грех! — умоляюще воскликнула Лемби. — И денно и нощно я молю бога простить меня! — То был прекрасный вечер, самый прекрасный и счастливый в моей жизни! — продолжал Велло дразнить ее. — Не говори больше об этом! — взмолилась Лемби и прижала руки к глазам. — Ад ожидает нас обоих за этот грех! — Если обоих, то все в порядке. Вдвоем нам было бы не так уж плохо там, — шутливо заметил Велло. — Отойди от меня! — сквозь слезы воскликнула Лемби и побежала. Велло не последовал за ней; он остановился и вздохнул: "Помешалась — ничего не поделаешь. Конечно, теперь можно ехать свататься в Алисте или в Сакалу — путь свободен. Кое-какое добро у меня есть, не с пустыми руками предстану перед тестем и невестой. И все же — нет! То, что я отнял у Кямби и что лежит в ящиках глубоко в земле, должно быть употреблено на нечто более значительное, чем сватовство к дочери какого-нибудь важною старейшины".XI
Однажды ночью Велло, поставив Оття, Кахро, Малле и Вайке на страже, откопал тайник на склоне песчаного холма, вытащил оттуда два ящика, отнес в свою комнату, открыл их и стал разглядывать сокровища, отнятые у Кямби. Он вынимал расшитые золотом пояса, серебряные бляхи и пряжки, целые мотки бронзовой проволоки для оторочки и украшения одежды. Он взвешивал на руке медные цепочки и с улыбкой рассматривал тяжелые серебряные кресты с распятиями. Их можно подарить Лемби и Лейни! Интересно, какую мину они скорчат! Можно повесить и над собственным ложем, а потом позвать Лемби взглянуть! Кямби, небось, ограбил какого-нибудь патера или крещеного купца, а этот дух Христос и не подумал прийти им на помощь. Распятия он отнесет кузнецу и велит переплавить их в слитки, а то неудобно предлагать их в таком виде в уплату за зерно ни на ярмарке, ни в Сакале. За каждое распятие можно получить двух молодых жеребцов либo несколько возов зерна. Отложив распятия, он взял позолоченные ножны и вытащил из них нож — вполне подходящая штука, чтобы вонзить в грудь или горло крещеного! Затем пошли броши, булавки и монеты для ожерелья — серебряные и бронзовое, плоские и выпуклые, круглые и подковообразные, гладкие и узорчатые, со щербатыми и изогнутыми краями, толстые, как лошадиная кожа, и тоненькие, как березовый листок. Сложив их на полу в кучу, Велло стал на руке взвешивать серебряные слитки — иные толщиной с мужской большой палец и длиной в пядь, иные — тонкие, как тростинки. Он сложил штук двадцать слитков в ряд и невольно стал прикидывать, что за них можно получить: не один десяток лошадей, не один десяток возов зерна, не один десяток голов скота... Оружие... Он вновь нагнулся над ящиком. На дне его лежали бронзовые и серебряные монеты, одни были величиной с ладонь и больше, другие — маленькие, как зрачок, и толщиной с ноготь. Каких только лиц, узоров, животных и птиц не изображено на них! Иные были новые и блестящие, иные — потертые, помятые, обломанные; попадались даже и половинки монет. Велло взял в руку несколько монет и стал рассматривать их, затем кинул снова в ящик и перемешал звенящую кучу. О, на эти деньт можно купить немало оружия! Бросив серебряные слитки в ящик, он положил сверху украшения, пбяса и распятия и закрыл крышку. Второй ящик был набит топорами без топорищ, наконечниками стрел и копий, ножами в ножнах, а на дне его лежали три обитых кожей щита с металлическими краями. "В самом деле, стоило потрудиться! Поход на Кямби не был бесплодным!" — подумал он. Закрыв оба ящика, Велло велел снова закопать их в тайник. Затем он позвал Оття и велел ему взяться за обучение слуг и сельских парней. Пусть эти занятия будут походить на игры, но всем надлежит научиться владеть любым оружием — на коне, пешим, а также стоя, на ходу и на бегу. Пусть слуги упражняются в свободное от работы время во дворе или на склоне холма, и пусть Кахро позовет на эти игры парней из всех семи селений. Именно на игры, для развлечения, увеселения, а не для чего-либо другого! Старейшине дела нет до всего этого; он будет наведываться к ним иногда, "случайно", будет посылать людям мед, разрешит им пользоваться своими лошадьми, чтоб они научились ездить верхом. Пусть все делается по почину Оття и Кахро, а не по казу старейшины. Велло с нетерпением ждал зимы, он радовался заморозкам, отлету птиц, приближению дождливой поры — для него было важнее всего, чтобы время шло быстрее, чтобы оно летело, чтобы день скорее сменялся днем. К тому времени, когда начались дожди и больше нельзя было бродить по лесам, Велло заготовил много тонких и крепких жердей, из которых слуги, якобы потехи ради, тесали древки копий: днем — под навесом амбара, вечером при Свете лучины. Были запасены и горбыли, из которых мастерили продолговатые и треугольные щиты, украшая их резьбой. Для дубин и булав Кахро еще летом срубил в лесу достаточное количество сучковатых деревьев. Люди сетовали, что дни коротки и сумрачны, а Велло радовался этому: скоро ручьи, реки и низкие поймы затянутся льдом, выпадет снег и можно будет отправляться в любой конец земли, побывать на ярмарках, свернуть с больших, дорог на проселки и заехать к старейшинам Сакалы — осведомиться, здоровы ли они, залечили ли раны, нанесенные латгалами, многих ли окрестили патеры, выросло ли уже стадо и не задрали ли летом волки жеребят? Вечера он коротал теперь один, без Ассо, и ему уже не с кем было поговорить об отце, да и вообще о старых временах, посоветоваться о предстоящих работах и обсудить походы в земли врага. Правда, Ассо изредка заходил, но охотнее всего говорил о дочери и не мог нарадоваться на нее. Усердна в работе, приветлива и внимательна, смела — не боится ходить по ночам; только вот молчалива да похудела очень. На ночь всегда уходит к Лейни и хромой Рийте, чтобы вместе молиться и рукодельничать. Бедняки не нахвалятся ею, да и кое-кого из хворых она вылечила. Велло ничего не говорил на это; лишь однажды он не выдержал и насмешливо бросил: — Чего же ждать! Дадим окрестить себя, станем лучше, чем мы есть! Пусть тогда приходят рыцари, мы встретим их с дарами и дадим обещание пожизненно платить им дань! — Может, так мы и поступим, — сказал Ассо. И Велло не понял, было это сказано всерьез или в шутку, но тем не менее ответил: — Прежде мы сломаем свои дубины и топоры об их шлемы, свои копья и пики об их железные доспехи, будем биться на мечах до тех пор, пока они не зазубрятся, и уж только тогда ляжем на щиты на вечный отдых. Пусть тогда поступают с нашими детьми и женами, как велит им их бог. — И, поднявшись с лавки, Велло воскликнул приглушенным голосом: — Шум этой битвы донесется до Рявалы, и память о ней будет передаваться из поколения в поколение!.. А тот, кто боится или верит патерам и рыцарям, пусть завтра же даст окропить себе голову крестильной водой и спрячется за спиной распятого духа! Ему вдруг стало неловко от собственной несдержанности; он быстро подошел к двери и крикнул в другую комнату, чтоб принесли меду и чего-нибудь поесть. Успокоившись, он начал говорить монотонно, с горечью: — С богом, что и с невестой... Не годится бросать девушку только потому, что встретил другую — привлекательнее или зажиточнее. С женщин спрос невелик, их может очаровать и приворожить любой бледнолицый тихоня, который бродит вокруг с мечтательным видом и глазеет на небо. А уж если кто из мужчин станет креститься — значит, он заодно с рыцарями или латгалами; так пусть к ним и отправляется, здесь ему не место! Он смерил Ассо враждебным взглядом и стал ждать, что тот скажет. Но сельский старейшина не спеша прожевывал дичь и, казалось, был погружен в свои мысли. Велло заговорил громче, строгим голосом, как и подобало старейшине: — В эту зиму дома сидеть не буду. Надо поглядеть, послушать, поговорить, разузнать, кто из сакаласких старейшин и как залечил свои раны, на всю ли жизнь они напутаны и решится ли кто из них снова взять в руки меч. Или только о том и думают, как бы вырастить рожь для Риги и скот для латгалов? Впрочем, ну их, этих сакаласцев! Надо поехать в Лехолу, к Лембиту — может, сам пойдет и остальных с места сдвинет! Есть и другие земли и народы, где не терпят алчных рыцарей и крестоносцев, да и совращающих души черноризников. За Вяйной живут литовцы, селы, земгалы и курши, на юге — измученные ливы, на юго-востоке — полочане, на востоке — псковитяне... Ассо, который молча слушал старейшину, недоверчиво заметил: — Отправишься ли ты созывать другие народы или поведешь разговор со старейшинами наших маакондов, тебя в первую очередь спросят: велики ли твои стада, сколько у тебя коров, овец, коней, сколько земли и сколько тысяч воинов наберешь ты в дружину? — А неужто намерение или доброе желание ничего не стоят? Неужто тот, кто беден и мал, должен покорно принимать удары и не вправе поднять голос, чтобы позвать на помошь?! — Мария говорит, что перед их богом самый достойный тот, кто беден и мал, — заметил Ассо. — Перед каждым богом может стать достойным тот, кто беден и мал, если смело вступит в бой! — забыв про еду и входя в азарт, ответил Велло. Затем, приглушив голос, добавил: — Ливы готовы, курши тоже! Мы слышали об этом еще в прошлом году от одного торговца. Ты останешься в Мягисте за меня. Едва ли враг явится этой зимой... Решит, что мы еще слишком тощи, даст собраться с силами... Ничего, соберемся! Погодите же! Возбужденный собственными словами, он поднес ко рту кувшин с медом, сделал маленький глоток, а затем едва слышно произнес: — Мягисте не так мало и бедно, как ты, быть может, полагаешь. Кое-что накоплено. Кое-что получено от Кямби. Я не вправе ни оставлять это себе, ни раздать народу Мягисте. Серебро, бронза, медь и даже сколько-то золота — все пойдет когда-нибудь на то, чтоб устроить жаркую баню крещеным латгалам, ограбившим нас. А если кому из рыцарей тоже придет охота попариться — милости просим: поддадим им пару как следует! Окажется поблизости кто-либо из черноризников — попарим и его так, что взвоет. Велло встал и начал ходить по комнате. — Ночи длинны и тоскливы, — молвил он с досадой. — Лежишь и слушаешь шум ветра, голодное завывание волков да шорох дождя! Вайке пересказала мне все истории про духов и богов, какие знала. Малле поведала все, что помнила об отце, а сам я пытаюсь сохранить в памяти все изречения мудреца. Лежа на лавке в ожидании утра, все время твержу их. Он часто говорил мне — я тогда был еще мальчишкой: подрастешь — примечай, куда тебя тянет: в лес ли — птицу и зверя бить, в поле ли — за плугом ходить и подсеки жечь, либо туда, где трубит рог войны, где звенит щит и разит меч. Так сказал Велло мудрец еще до того, как тот стал взрослым. И думая об этом позже, особенно сейчас, когда он потерял невесту и душа его была пуста и безрадостна, как ясени перед его домом, с которых зима сорвала последние листья, — он ясносознавал, что больше всего влечет его туда, где держат военный совет, где людей собирают в дружины, где рука учится метать топор, бросать копье, поднимать и опускать меч. В долгие бессонные ночи он в мыслях выстраивал людей в шеренгу, давал команду атаковать, пугал, стыдил, ободрял, приказывал иным отрядам прятаться в кустах и в лесу, а затем налетать, подобно порыву ветра, и бряцать оружием так, чтоб с деревьев слетали листья.***
Как-то, по первопутку, Велло отправился к Ассо и во дворе столкнулся с Лемби. Они приветливо поздоровались, на мгновение радость озарила бледное лицо девушки, и она чуть дольше обычного задержала взгляд на старейшине. — Скоро отправлюсь в дальний путь — будешь ли ты думать обо мне? — с грустной улыбкой спросил Велло. — Я молюсь за тебя каждый вечер, и даже днем, — вспыхнув, ответила Лемби. — Молишься за меня? — переспросил Велло и внезапно ощутил в сердце такую нежность, что чуть ее протянул девушке руку. — Молюсь, чтобы бог вразумил тебя и ты пришел туда, где... — ... рыцари и остальные мои враги! — беззлобно улыбаясь, заметил Велло. — Ладно! — добавил он шутливо. — Но раньше я еще разок померюсь с ними силой. И тогда... поглядим. Лемби сердечнее, чем когда-либо раньше, призвала на него божье благословение. "Она все же добра ко мне! — подумал Велло. — Неужто она больше никогда не освободится от чар этого распятого юноши, от чар патера? Или она надеется, что я позволю обрызгать себя крестильной водой и тогда женюсь на ней?"XII
Кахро возился с двумя парами лыж, стоявшими снаружи, у порога. Отть с необычным для него проворством суетился подле амбара, по-хозяйски покрикивал на служанок и старательно завязывал котомки. По-настоящему ходить на лыжах умел один только Кахро, но он обучил этому искусству и Велло. Другие не захотели, впрочем и сам старейшина не так уж часто пользовался ими. Из дома, одетый в дорогу, вышел Велло. Он был в отороченном куньим мехом полушубке с беличьим воротником, в лисьей шапке и ноговицах, скрепленных серебряным шнуром. Кахро с помощью Малле тоже приоделся. Обоим принесли котомки, и Малле с Вайке помогли мужчинам привязать их к спине. Тяжелые были те котомки, очень тяжелые. Старейшина просунул ноги в крепления лыж, взял в левую руку палку, взглянул еще раз на сестру, на слуг, стоявших на нижнем дворе, протянул Оттю правую руку и, оттолкнувшись, заскользил к воротам. Кахро последовал за ним. Было свежее морозное утро, тихое и ясное. На дороге стрекотали синицы, по их голосам Вайке предсказала старейшине удачу. Навстречу им из селений шли мужчины и женщины. Они приветствовали старейшину, и старейшина приветствовал их. Здесь, на узкой укатанной дороге, невозможно было скользить быстро. Но выйдя на большак, что вел на север, в сердце Сакалы, Кахро гикнул и понесся — Велло пришлось понатужиться, чтобы не потерять его из виду.Впервые за долгое время старейшина чувствовал себя подобно взмывшей в воздух птице. Или подобно лесному зверю, который был вынужден жить в неволе, а теперь вдруг вырвался в лес, и ему хочется лишь одного — мчаться свободно вперед, воя от радости! Но к этому ощущению свободы примешивалось и нечто другое. Ведь свободным он ощущал себя и раньше, всегда, когда бродил по заснеженному лесу. Теперь же он находился в пути, чтобы осуществить свои намерения, теперь он движется к цели, теперь он с каждым шагом приближается к своим врагам, с которыми жаждет померяться силой! Он сперва объедет всех старейшин, тех, кто в ссоре с Ригой и во вражде с Вынну, а затем, днем раньше или днем позже, с большим или с меньшим количеством людей, отправится за Сяде и Койву. Не зря старый мудрец, еще когда был жив отец, говаривал: на долю каждого человека выпадает в жизни хоть один хороший день, надо только не проспать его. Птицы и звери не интересовали сегодня Велло, но Кахро все-таки не удержался и ближе к вечеру выпустил стрелу в длинноухого, а кроме того сбил с верхушки дерева глухаря. — За это добро нам любезно предоставят ночлег, — пояснил он. — Будто в наших котомках ничего нет! — ответил Велло. Они были совсем уже близко от Вильянди, но Велло предпочел переночевать в усадьбе. На следующее утро двинулись дальше, обогнув город с востока, — оба все время помнили слова мудреца: минуй дом спесивого богача, но остановись перед хижиной бедняка. Под вечер они добрались до Лехолы. И Кахро, и Велло настолько устали, что едва волочили ноги. У встретившихся им людей они спросили, где живет старейшина, и те, оглядев путников с головы до ног, указали дорогу. Вдали возвышалась крепость, туда-то и направились Велло и Кахро. Внезапно перед ними оказался вооруженный человек; он грозно спросил: — Куда? — К Лембиту, — ответил Велло. — Зачем? — А уж это я скажу ему, — ответил старейшина Мягисте. — Старейшины нет в крепости, — отрезал страж, не глядя на пришельцев. — Где же он? — спросил Кахро. — В лесу, вон там. — Воин большим пальцем указал через плечо. — Не повернуть ли нам на Псков и Новгород? — спросил Велло после того, как они немного отошли. — Трудно по словам этого стража судить о чем-либо, — заметил Кахро. — По зубам пса узнают хозяина, — возразил Велло. И все-таки они повернули к лесу, куда указал им слуга Лембиту. В лесу с десяток слуг укладывали на сани бревна. Спиной к пришельцам стоял человек выше среднего роста, в шубе из лисьего меха и в такой же шапке; на поясе у него висел меч, а в руках была палка. Время от времени он давал отрывистые указания слугам, возившимся с бревнами. Увидев чужих, работники воспользовались случаем, чтоб разогнуть спину и передохнуть. Человек в лисьей шубе обернулся и недоверчиво оглядел пришельцев. Велло, подняв руку, приветствовал его и холодно, не заискивая, сказал, что он — старейшина кихельконда Мягисте, расположенного на границе с латгалами, и пришел поговорить со старейшиной Лехолы. — Это я, — ответил Лембиту. Затем повернулся к работникам и, увидев, что те стоят без дела, дал им нужные указания. Он не спускал с работников глаз до тех пор, пока те не уложили на сани толстенное бревно, и только тогда вновь повернулся к гостям. Быстро и внимательно оглядев их, он сказал уже более приветливо: — Что ж, пойдем наверх. Это не брат твой, а? — Лембиту указал на Кахро. — Нет у меня брата. Был, но пал под Бевериной, — ответил Велло. Лембиту пробормотал что-то и пошел впереди гостей по направлению к видневшимся вдали строениям. Велло и Кахро, сняв лыжи, направились вслед за ним. — Из дому когда вышли? — спросил Лембиту немного погодя и, судя по голосу, лишь из вежливости. — Вчера утром, — ответил Велло. — Вчера утром?!.. К чему такая спешка?.. Уж не враг ли... — На лыжах этот путь не столь далек, — молвил Велло. Возникло молчание. Они шли теперь по селению. Навстречу им попался слуга. Сойдя с дороги в глубокий снег, он остановился и, подняв руку, приветствовал старейшину. Лембиту велел ему взять у гостей лыжи и палки. Поднявшись затем по косогору, они подошли к высокой изгороди, окружавшей вершину холма. За изгородью, меж деревьев, виднелись заснеженные скаты крыш. По обе стороны распахнутых ворот, уперев копья в снег, стояли стражи, одетые в шубы. Они стояли недвижно и только глазами проводили Лембиту и его гостей. На дворе между строениями торопливо сновали слуги и служанки, очевидно заканчивая вечерние хлопоты по хозяйству. Они украдкой поглядывали на своего повелителя и его гостей и держались в сторонке. В снегу были прорыты дорожки, и один из слуг расчищал их, так как с неба падали редкие хлопья. Лембиту провел своих гостей к большому дому наподобие тех, какие Велло видел лишь в Риге в Пскове. Стены у дома были высокие, из отесанных бревен, а широкие оконные проемы закрыты чем-то мутно-прозрачным. Крыша — до самых вершин деревьев. На большом дворе стояло несколько домов, меж ними и позади них росли ели, ясени, липы и рябины.Хозяин, не дав гостям как следует осмотреться, сразу же вошел в дверь, которую распахнул перед ним молоденький слуга. В первой комнате стояла служанка с зажженной свечой в руке. Слуга взял у гостей котомки, и Лембиту велел ему позаботиться о Кахро. Поставив палку в угол, старейшина Лехолы с гостем прошли дальше, в большую комнату, где их снова встретила служанка со свечой. Сняв шубы, они повесили их на вешалку, оружие положили на полку; Велло сел на лавку, указанную хозяином. Служанка, поставив подсвечник на стол, скрылась за дверью. Понемногу глаза Велло начали привыкать к свету. Внимательно слушая расспросы Лембиту и отвечая на них, Велло с напряженным интересом разглядывал старейшину. Так вот, значит, каков он, тот, о ком говорят с бо́льшим уважением, чем о самых могущественных старейшинах Сакалы. Он производил впечатление сильного, мужественного, могучего человека, хотя ни в словах, ни в движениях, ни в выражении лица это не проявлялось. У него было почти квадратное, гладко выбритое лицо, крупная голова, высокий выпуклый лоб с залысинами и тусклые волосы. Тяжелые темные брови нависали над темно-серыми глазами, почти закрывая их, правильный нос был с ложбинкой, уголки рта вдавлены, а подбородок свидетельствовал о сильном характере. Однако сейчас выражение лица Лембиту было по-хозяйски приветливым. "Вот это старейшина, — думал Велло, — не чета мне, кочерыжке. Тем более я должен постараться свершить достойные дела". Стены комнаты были украшены полосатыми коврами; над одной из лавок, на которой, очевидно, спали, висели шкуры пушных зверей, на остальные лавки и на пол были брошены волчьи шкуры. Различной длины копья с блестящими остриями лежали на клиньях и узких полках; на деревянных гвоздях, крест-накрест, висели мечи — широкие, узкие, короткие с острым концом, кривые, заточенные с одной стороны и обоюдоострые; к клиньям за рукоятки были подвешены боевые топоры и ножи. Стрелы на стенных коврах располагались веером. Бронзовые щиты блестели подобно зеркалу и усиливали свет, распространявшийся от свечи. У простенка стояла большая с круглым сводом глиняная печь. Потолок комнаты был сделан из гладко отесанных горбылей, плотно уложенных на поперечные балки. Посреди комнаты стоял большой белый стол, у стола — скамейки на четырех ножках. Велло никогда не видел таких, только слышал о них от Оття. Лембиту сел на лавку рядом с Велло и стал расспрашивать, как они доехали, кто повстречался им на пути, бывают ли на ярмарках, часто ли наведываются к ним купцы, много ли в Мягисте запасов зерна, какова охота и про многое другое. Его круглые темно-серые глаза смотрели проницательно, почти не мигая. Улыбка ни разу не появилась на его суровом лице — оно оставалось равнодушным и когда он говорил, и когда слушал. Под взглядом этого человека Велло испытывал неловкость. — Ты, случайно, не был под Бевериной со своей дружиной? — спросил Велло, хотя отлично знал, кто был и кто не был там. — Не стану я по каждому пустяку бегать, — ответил Лембиту. — Сам не пошел и людей своих не пустил. — Надо же было как-то ответить на грабеж Уганди. — Так не отвечают, — сердито возразил Лембиту. Он небрежно скрестил руки на груди, оперся спиной о стену и прижал к груди сильный подбородок. — Взял бы, да и повел сам! — молвил Велло. — Ко мне прислали гонца: присоединяйся, мол!.. Нет, нет! Так не идут на врага, у которого к тому же рыцарь за спиной!.. Мелочная жадность к добыче, ничего больше! — произнес Лембиту, и глаза его засверкали. — Если и так не идти — враг совсем обнаглеет, — заметил Велло. Лембиту промолчал. Тут в комнату вошла рослая светловолосая женщин, в длинном пестром платье, сколотом на груди большой серебряной брошью; белая в полоску шаль была накинута на ее плечи, синий платок закрывал лоб. Ей было на вид за сорок, под глазами и вокруг рта легли морщинки, выражение лица самоуверенное, но приветливое. Сдвинув брови, она разглядывала гостя. Лембиту, встав, сказал ей, что их гость — старейшина Мягисте. Велло поднялся. Поправив свечу, Лембиту вышел в другую комнату, не объяснив Велло, кто эта женщина. Очевидно, и так было понятно, что она — хозяйка Лехолы, старшая жена Лембиту. — Значит, это ты убил Кямби и ограбил его дом? — сделав в сторону Велло несколько шагов, спросила женщина. — Да, это я. Я убил его собственной рукой и взял из награбленного им добра то, что стоило взять, — заносчиво ответил Велло. — Расскажи, как все это произошло? — попросила женщина. Она подошла еще ближе и опустилась на лавку рядом с Велло. — Здесь говорили, будто из-за твоей сестры. Велло без утайки рассказал ей, что случилось с его сестрой, поведал о жестокой схватке с Кямби и добавил, что так будет с каждым, кто посмеет оскорбить его или его родных. Женщина украдкой наблюдала за гостем; ее, видимо, немного удивил смелый тон Велло, и она утратила какую-то частицу прежней самоуверенности. Теперь хозяйка Лехолы начала расспрашивать старейшину про грабительский набег латгалов. Пока Велло, не скупясь на краски, расписывал алчность и кровожадность крещеных, вернулся Лембиту и, остановившись посреди комнаты, стал слушать, изредка поправляя свечу. Женщина взглянула на Лембиту, ожидая, что тот скажет, но старейшина Лехолы молчал и даже выражением лица не выдал своих мыслей. — Чтобы в ближайшее лето снова не повторилось то же самое, надо перейти Койву и точно так же поступить с ними, — окончив рассказ, сказал с напускной самонадеянностью Велло. Женщина озабоченно покачала головой и вышла. Лембиту снова сел на лавку и, недовольно нахмурившись, проговорил: — Делайте там, что хотите, а я не пойду. Иное дело, если поднимется вся Сакала, Уганди, Соонтагана, Рявала и другие. Если будет одна дружина и один военачальник. — Знаем мы этих сакаласких старейшин! — проворчал Велло. — У них на уме только свои поля, луга да кони. Заботятся лишь о том, как спрятать свое добро в крепостях! — Правильно делают! Свое добро надо беречь! — молвил Лембиту и поглядел на Велло так, словно хотел сказать: рассуждаешь, как мальчишка! — Здесь, за спиной у Сакалы, спокойно, здесь можно думать только о том, чтобы копить и беречь добро, — сказал Велло, принуждая себя улыбнуться, чтобы не рассердить хозяина. — Не то, что у нас, на границе ... Здесь можно не спеша готовиться... А за это время враг десять раз успеет ограбить нас. Надо припугнуть его, да побыстрее! — Я понимаю это. Сам я меньше всего думаю о том, чтобы копить добро, — холодно ответил Лембиту. — К старейшинам езжу, разговариваю с ними. До самой Рявалы все изъездил. Не раз и через границу переправлялся, чтобы там заручиться помощью и поддержкой. Но повторяю: тебе нечего корить старейшин Сакалы. Я сам посоветовал им — не бегите очертя голову через границу. Придет время — пойдем все! — А когда оно придет? — горячо воскликнул Велло. — Если и не скоро — ничего не поделаешь, — с холодным спокойствием ответил Лембиту. — Среди старейшин Сакалы есть смелые и разумные люди. — Как, например, Ряйсо из Алисте, — съязвил Велло. — Ряйсо очень умный человек. Правда, он уже не вояка, но помощь может оказать большую, — ответил Лембиту и, понизив голос, чтобы не слышно было в других комнатах, продолжал: — Нет смысла идти за Койву с малым войском. Латгалы теперь там не одни, как прежде. Рыцари там. А с ними воевать... — Лембиту покачал головой, — с ними воевать нелегко. Они обучены, война для них — это ремесло Трудно драться с ними тому, кто кроме сохи или косы ничего в руках не держал. К тому же, рыцарь — это не латгал. Тот придет, убьет, ограбит и уйдет. а рыцарь, он бездомный. Он бродяга без крова, грабитель и вояка, ищущий себе приюта и рабов. Лицо и руки Лембиту ожили, глаза метали молнии, губы дрожали, пальцы то распрямлялись, то сжимались в кулаки. — Нельзя идти за Койву с несколькими сотнями людей, — продолжал он, — Теперь нужны тысячи! Нужна одна дружина, один вождь, один военачальник. Надо встать грудью друг против друга — мы или они!XIII
В комнату вошла молодая стройная женщина, одетая ярко, словно невеста. Она принесла еще две свечи в низких подсвечниках и поставила их на стол. Радушно поздоровавшись с гостем, женщина спросила у Лембиту, можно ли подавать еду. — Это моя младшая жена, дочь старейшины Нурмекунде, — пояснил хозяин, и с лица его исчезла суровость. — Неси, неси, Лейки, гость пришел издалека, проголодался. Лейки вышла. Хозяин и гость сели за стол, Лембиту поправил свечи, обрезал с фитилей нагар и стал говорить уже более непринужденно: — Я объездил много земель и городов, поглядел, как живут там, привез то, чего нет у нас. И остальным нашим старейшинам не мешало бы побольше ездить. Узнали бы своих друзей и врагов. Из другой комнаты появилась служанка с большим деревянным подносом в руках. На нем стояло серебряное блюдо и несколько ярко раскрашенных глиняных мисок с кушаньями. На блюде — ножки, крылья и другие части сушеной и копченой дичи, каждый кусок с косточкой, чтоб удобнее было есть. В одной из мисок — каша из зерна с салом, в другой — творог. В третьей — сушеная земляника, в четвертой — мед. На блюде лежали также ломти хлеба. Кроме этого служанка принесла еще глиняную кружку со свежим молоком и большой серебряный кувшин меду. К столу вышла старшая жена Лембиту и, сев на скамью, начала угощать гостя, предлагая отведать и то, и другое. Сама же ни к чему не притронулась. Она стала расспрашивать Велло о семье и выговаривать, почему у него нет ни жены, ни детей. — Может, и была бы у меня жена, да враг невесту увел... — ответил Велло. — К тому же, каждую ночь могут явиться рыцари — не растить же для них рабов. — Ох, кто знает — может, все мы растим рабов! — вздохнула женщина и выражение надменной самоуверенности на ее лице сменилось материнской озабоченностью. — Тот, кто держит в руках меч, не станет рабом, — молвил Лембиту. — Но ведь не могут же все пасть на поле брани и не может земля опустеть! — укоризненно заметила женщина. Она заговорила теперь о своих детях, и видно было, что это доставляет ей радость. Старший сын с несколькими друзьями отправился в Финляндию, младший — к старейшине Алемпойса, у которого дети одних с ним лет. Дочь уже не один год замужем за старейшиной Роталии. А у младшей жены Лембиту двое детей, но они еще маленькие. Снова попотчевав гостя, предложив ему лучшие куски мяса и мед, хозяйка Лехолы заговорила о разных недугах и повальных болезнях, спросила, что знает о них Велло, затем вдруг перевела разговор на колдунов и ворожей. Она увлеклась и стала с азартом рассказывать про их проделки и особенно про предсказания. Многие сбылись, но много плохого еще впереди. — Лембиту вот не верит, все смеется, — жаловалась женщина. — Готов всех их гнать отсюда, но разве мыслимо! Чего они только не натворят тогда. Правда, у нас им запрещено насылать на кого-либо беду или хворь. Велло ел с удовольствием, внимательно следя за тем, как берет каждое кушанье хозяин. Рассказав о некоторых предсказаниях ворожеи, хозяйка Лехолы снова заговорила о своих детях: — Оба сына обучались языкам — к чему иначе рабы! Старший может разговаривать и с русскими, и с купцами из Риги. У нас тут был слуга из Финляндии, несколько лет жил, кормили его получше и платили неплохо. Так он всегда ходил с мальчиками в лес и на рыбную ловлю — теперь оба говорят по-фински и немного по-шведски. Сам Лембиту, правда, кроме русского да немецкого, других языков не знает, Мужчины закончили трапезу, жена Лембиту еще попотчевала их медом — уж очень хорош, слуга-литовец знает, как варить его, — затем встала и удалилась в другую комнату. Вскоре оттуда вышла младшая жена и, улыбнувшись, спросила — понравились ли кушанья; затем кликнула служанку убрать со стола. Велло поблагодарил и по примеру хозяина вытер руки о лежавшее на свободной скамье холщовое полотенце. Как быть теперь, думал он, как поделить подарки? Он слышал, что у старейшины Лехолы две жены и кроме них, возможно, еще несколько служанок, которые тоже приходятся ему как бы женами. Последних не стоит, да и не подобает, принимать в расчет. Но какой из жен отдать предпочтение? Той ли, что первая в доме и перед гостями, или той, что первая в сердце хозяина? Встав и пошарив в котомке, он вынул оттуда нож с золоченой рукояткой, вложенный в бронзовые резные ножны, и с поклоном протянул его Лембиту. — Если когда-нибудь грянет беда и нужна будет помощь — кликни меня! — приветливо сказал Лембиту и, взяв подарок, поднес его поближе к глазам, чтобы рассмотреть. — Сделано далеко на востоке, — произнес он и повесил нож на стену. Они снова сели на лавку, и Лейки принесла им на деревянном подносе два небольших серебряных кубка и продолговатый серый сосуд с узким горлышком. — Вот, тоже с востока, — молвил Лембиту и, открыв сосуд, наполнил кубки красной жидкостью. — В того, кто выпьет это, вселяется дух — так говорили на празднестве у князя Новгородского. Но не каждый может справиться с этим духом, иной теряет рассудок, начинает буйствовать. А иной слабеет и валится с ног. Напиток понравился Велло, а своим красивым темно-красным цветом в серебряном кубке он напоминал сок спелой сливы. Велло, осушив кубок наполовину, почувствовал, как по всему его телу разливается жар. С испугом он заметил, что жидкость в кубке Лембиту убавилась всего лишь на несколько капель. Когда вошла старшая жена старейшины, чтобы распорядиться, куда положить гостя на ночь, у Велло исчезли все сомнения: он встал, подошел к котомке, достал оттуда золотой браслет и надел его на сильную руку женщины. — Старейшина Мягисте не беден! — не скрывая удовольствия, молвила женщина. Лембиту показал жене нож с золотой рукояткой, полученный в дар от гостя. Теперь она посмотрела на Велло с уважением и сказала, что тотчас же пришлет ковры, — пора, мол, ложиться отдыхать. Ковры принесла Лейки; она постлала их на лавке — один на другой, а в изголовье положила шуршащий мешок. Тогда Велло достал из котомки большую плоскую серебряную брошь и своей рукой прикрепил ее к груди Лейки. Молодая женщина вспыхнула, поблагодарила и вышла со счастливой улыбкой. Лембиту слегка пожурил его за расточительность, потом наполнил кубки и после того, как они сделали по глотку, спросил тихим, приглушенным голосом: — Есть ли какие вести из-за Сяде, из Трикатуа или Идумеи? Чувствуя себя после раздачи даров, да и от вина, могущественнее, чем следовало бы старейшине семи селений, Велло высоким, немного певучим голосом, который он по примеру хозяина пытался приглушить, произнес: — В любой день, в любую ночь из-за Сяде могут нагрянуть убийцы, грабители и поджигатели. В любую ночь мы можем проснуться в горящем доме и увидеть перед своей грудью копье, которое приставил враг, чтобы выпытать, где спрятаны наши сокровища. В любой вечер мы можем оказаться в лесу, спасаясь и отыскивая убежища, словно звери. Это было и будет так до тех пор, пока нам не придут на помощь, до тех пор, пока мы сами когда-нибудь крепко не проучим врагов. Лембиту, мрачно слушавший собеседника, хотел было что-то возразить, но Велло, повысив голос, продолжал: — Ты говорил, что задумал что-то большее. Пусть эти большие дела зреют! Когда настает час, позови меня, и если я только не буду в подземном царстве, то приду и приведу своих людей. Пусть будет так! Если же я предприму что-либо раньше сам или с кем-нибудь, если запалю огонь за Сяде или Салаци — пойми и не гневайся! Лембиту хмуро глядел на гостя, но потом кивнул головой, как бы соглашаясь. — Есть еще кое-что... Хочу спросить у тебя совета. — Велло кинул взгляд на дверь и, понизив голос, сказал: — Хочу поговорить об этом боге, которому поклоняются рыцари и патеры. — А что тебе до него? — спросил Лембиту. — Для меня это важно. Этот бог начинает крепко нажимать на Мягисте. — Как так? Бог начинает нажимать? — Он опаснее, чем рыцари, Велло сделал небольшой глоток из своего кубка и поведал обо всем, что случилось с его сестрой Лейни, с хромой Рийтой и с невестой Лемби, pacсказал также про "кроткого патера" и про его посещения Мягисте. — А здесь они тоже расхаживают, эти колдуны в черных балахонах? — спросил он наконец. — У нас это не возбраняется, — ответил Лембиту, — Но мы не разрешаем им беседовать с кем-либо с глазу на глаз. — Жаль, не додумался я раньше др этой мудрой мысли, — пробормотал Велло. — Что ж ты думаешь предпринять против черноризников? — осведомился Лембиту. — Хуже всего страх, охвативший Мягисте. Кажется, этот страх распространяется уже и в Сакале, и в Уганди: дескать, бог рыцарей — самый могущественный бог, он помогает крещеным, он поможет им победить и поработить всех язычников; кто окажет сопротивление, будет безжалостно уничтожен... Этак скоро никто уже не отважится выступить против крещеных. Лембиту уперся руками в колени и опустил голову. Взгляд его неожиданно метнулся в одну, потом в другую сторону, и Велло почувствовал удовлетворение, что смог хоть чем-то растревожить этого сильного человека. — Что же ты думаешь предпринять? — спросил Лембиту. — Хочу посоветоваться, как быть, — ответил Велло. Лембиту беспомощно развел руками и молча уставился в пол; затем вылил оставшееся в сосуде вино в кубки и коротко вздохнул. Велло сделал глоток и, отчеканивая каждое слово, сказал: — Как только установится погода и просохнут дороги, отправлюсь со своими людьми за Сяде или Салаци. Храбрые и смелые найдутся всюду. Соберу их, перебьем с тысячу крещеных — пусть тогда хвастаются своим богом! Лембиту все еще молчал, он думал. Наконец, снова коротко вздохнув, молвил: — Если будет попутный ветер и хорошая дорога — что ж, иди, попытай счастья. У меня, правда, иные мысли... Но в одном ты прав: обманывать и запугивать людей богом — дело нехитрое. И патеры это умеют! Он встал и дружески добавил: — Пора отдыхать. На следующее утро встали поздно. Во время завтрака пришел брат Лембиту — Уннепеве. Он был моложе, приветливее Лембиту и держался проще. — Вот кто ведет все мое хозяйство и ездит на ярмарки, — сказал Лембиту и похлопал брата по плечу.Все вместе они отправились осматривать владения Лембиту: зашли в амбары, хлева, заглянули даже в баню. Все здесь, в Лехоле, было больше, просторнее, красивее, чем в Мягисте. Но Велло не думал об этом, одна мысль владела им безраздельно, отметая в сторону все остальное: за Сяде, за Салаци, через Koйву! Старейшина Лехолы не пойдет с ними, однако он ни полсловом не возразил. Понятно, почему не пойдет — у него впереди крупная игра, он накапливает для нее силы, ищет единомышленников. Достаточно и того, что он не возражает! Из окруженного высокой изгородью двора дорога вела через глубокий ров на укрепленный холм. Холм был не высокий, но обнесенный бревенчатой стеной вал был крут. — Такое укрепление следовало бы построить и в Мягисте, — сказал Велло. — На южной границе нужно иметь их побольше, — заметил Лембиту. — Тамошним селениям одним не под силу это. — Все земли надо привлечь к работе, а если нужно, так и заставить! — рассердился старейшина Лехолы, но затем тихо добавил: — Если только не поздно! — Я и сам не раз думал: все земли привлечь к работе! — произнес Велло, испытывая глубокое удовлетворение. — Но это может сделать лишь прославленный старейшина. Кахро с Уннепеве шли следом за ними, и до Велло долетали обрывки их оживленного разговора. "Ну и слуга! Чего только не сумел выспросить у брата Лембиту! Небось, все пригодится, когда начнем строить крепость в Мягисте", — думал Велло. Когда они вернулись, Велло сторговал у Лембиту несколько возов ржи и ячменя, пять коров и трех коней с санями, пообещав вскоре прислать людей за ними. После трапезы старейшина Мягисте и его слуга встали на лыжи и направились прямиком на юг. Промчавшись миль десять, они теперь медленно двигались по белесой лесной дороге. — Как тебя принимали там? — спросил вдруг Велло. — Кормили и поили хорошо, а что касается радушия... то они словно боялись выказать его, — ответил слуга. — Неприветливы были, да? — осведомился старейшина. — Не решались быть приветливыми, не решались разговаривать, смотрели вопросительно один на другого, делали знаки друг другу молчать. О хозяине, хозяйке, детях — ни слова, о дружине — тоже. — Что ж, очень разумно с их стороны, — пошутил Велло. — Возможно... Однако на ночь один из слуг остался у меня в комнате — видимо, сторожить. Мы изрядно выпили меду, меня мучила жажда, ну а он — просто так. Язык у него развязался, и он кое-что поведал мне. Велло не стал расспрашивать, о чем говорил слуга. Через некоторое время Кахро заговорил снова: — Лембиту строг, его все боятся, одна только младшая жена его любит. — А как же имя — Лембиту? — Это имя дал ему отец... Так вот — он строгий, но все же очень справедливый. Все считают, что умнее и смелее его нет старейшины от латгальской границы до Рявалы и от Роталии до Соболица. Большую часть времени он проводит в дальних поездках, и тогда в Лехоле дышится свободнее. Все ожидают большой войны и верят, что Лембиту победит. Брата Уннепеве — его любят все... Требует работы от слуг и рабам не дает спуску!.. Кихельконд небольшой, едва ли вдвое больше Мягисте. — А живут широко и зажиточно, — заметил Велло, который с жадностью ловил каждое слово, касающееся Лембиту. — Это все Уннепеве... Ни одной ярмарки не пропускает. Расторопный купец... Да и отец их накопил немало добра. Не раз возвращался из военных походов с богатой добычей...Иным представлял себе Велло старейшину Лехолы: большой, могучий; голос его разносится всему селению, при встрече с ним слуги с воодушевлением кричат приветствия, а девушки улыбются счастливой улыбкой; Велло ожидал, что этот человек, узнав про похищение Лемби, про то, что ее околдовали, про последнюю резню, учиненную латгалами, схватит меч и угрожающе воскликнет: "Идем!" А он оказался совсем другим... И все же Велло вынужден был признать, что Лембиту даже величественнее, чем он представлял себе. И даже его недостатками он охотно бы обладал! Он был согласен с Лембиту, считавшим, что надо начать большую игру. В самом деле, разве мог этот человек принять участие в каком-то ничтожном набеге на Трикатуа лишь для того, чтобы поджечь сколько-то домов, угнать сколько-то скота, привести домой сколько-то рабынь и захватить сколько-то оружия и серебряных украшений! Нет, нет! Пусть этим занимаются люди помельче! И все-таки он, Велло, предпримет военный поход; плохо ли, хорошо ли отнесутся к этому остальные, дойдут ли они до Асти или Аутине, поднимутся ли языки пламени в десяти или в ста селениях, кончится ли вся эта затея победой или бегством — но он отправится за Сяде и сведет счеты с врагом. Будь что будет, но он сделает это.XIV
Вскоре из Лехолы доставили купленное там зерно и скот. А добро, отнятое у Кямби, еще не иссякло. "Не таить же его, — думал Велло, как бы оправдывая этим подготовку к военному походу. — Не то еще прав окажется Рыжеголовый, неоднократно, то тайно, то открыто, твердивший жителям Мягисте: вы сеяли — Велло пожинает, вы проливали свою кровь, а старейшина свез возы с добром к себе в амбар!" Никто, кроме Кахро и Оття, не знал о намерениях Велло, и даже Ассо ничего не подозревал о них. Когда по вечерам держали совет, присутствовала и Вайке — она светила лучиной. Но девушка не проговорится, даже если ей станут жечь пятки — в этом Велло был уверен. Отть подсчитал людей — с полсотней многого не сделаешь! Да и не заберешь же из селения последнего мальчонку! Если и посчастливится набрать людей на стороне, то как быть с конями? С оружием для воинов и кормом для лошадей? На своих ногах далеко не уйдешь! Кахро готов был скакать за Сяде хоть с двадцатью всадниками. Подожжешь одно селение — и поминай, как звали; начнут искать, глядишь — пламя вздымается уже в другой стороне; так запалит он всю Росолу. Начнет издалека, затем пойдет на Трикатуа, а оттуда, через Сяде, домой, захватив с собой лишь оружие, серебро и золото. Впрочем, не добыча здесь важна; важно припугнуть крещеных, доказать им, что их бог, этот великий бог своим сыном не страшнее медведя во время зимней спячки. Но Велло было не до шуток; он перебирал в памяти селения в северной Сакале, где можно было бы купить коней, припоминал ярмарки на побережье и под Псковом, где легче раздобыть оружие, обдумывал, какими дорогами удобнее пройти на Уреле, Раупу и Летегоре, чтобы разузнать там о настроениях ливов. Когда все расходились и он, погасив лучину, ложился на лавку, мысли его возвращались к Лемби. Если крещеных крепко поколотят — неужели она все-таки будет думать, что их бог самый могущественный? Неужели она захочет носить черную одежду и оставаться Христовой невестой?! Однажды, направляясь к Ассо, он встретил Лемби. Она была, как всегда, в черном, но лицо ее зарумянилось от мороза; держалась Лемби приветливо, однако казалась грустной. Она рассказала о рождестве Христовом, которое они справляли в лесной хижине, молясь и твердя слова, которым научил их патер: "Да будет мир на земле..." "Должен ли я креститься?!" — вновь спрашивал себя по ночам Велло. Что, собственно, изменится от этого — смыл водой и все, как сделал Отть. А что скажет народ Мягисте, что скажут старейшины Сакалы! Ему пришлось бы тогда бежать отсюда и просить убежища у рыцарей или латгалов! А если дать окрестить себя, жениться на Лемби и с Метсеполеского побережья уйти морем далеко за запад, где заходит солнце и где живут смелые мореплаватели?! Иной раз по ночам его сжигала такая страсть, что он готов был силой привести к себе эту околдованную девушку и сделать ее своей. Но затем им снова овладевали другие мысли — он начинал строить планы военного похода, представлял, как он сражается под Вынну, на берегу Койвы, как убивает крещеных врагов, запаливает их дома, сжигает дворы.Отть с несколькими слугами разъезжал по ярмаркам и закупал зерно и оружие. Был в Пскове, в Соболице, Виру, Рявале и на берегу моря в Соонтагане, как-то даже ходил по льду на Сааремаа. У него была полная пазуха серебра, и он никогда не возвращался домой с пустыми руками. В один из дней, когда солнце стояло уже выше леса и заглядывало во двор, Велло и Отть на двух санях, запряженных лучшими лошадьми, в сопровождении хорошо вооруженных слуг, отправились через Салаци, через дремучие леса Метсеполе прямиком в Летегоре. Велло приехал туда под видом купца; Отть, знавший язык ливов, чувствовал себя там как дома. Вскоре они всё разведали — ливы не таились. Оказалось, что Каупо сидит с рыцарями за одним столом, ходит в церковь, преклоняет колени перед патерами и следит за тем, чтобы крещеные не смыли с головы крестильную воду. Церковь же требует от народа десятину, да и другое по своему усмотрению — то рыбу, то дичь; а придет приказ — будь то летом или зимой — и все мужчины до единого должны будут пойти войной на язычников, отдать свою жизнь за святую деву и ее сына, зачатого от святого духа! "Вы еще не порабощены, так почему же не ударите по врагу оттуда, из-за Салаци?! — спрашивали у Велло и Оття. — Для кого, как не для патеров и рыцарей, копите вы добро?! Скажите наконец своим старейшинам: еще не поздно; валы, окружающие Вынну и Ригу, еще не высоки! Скоро ливов заставят насыпать такие высоченные валы, что только птица сможет перелететь через них! Пусть эстонцы зажгут огни на берегу озера Асти, тогда и ливы нажмут на Торейду и Кубесе, топорами раскроят тамошним рыцарям их железные шлемы и помогут своим людям смыть с себя крестильную воду! Тогда можно будет сообща пойти за Вяйну!" Велло и Отть пообещали рассказать обо всем этом дома и — когда настанет срок — послать ливам весть. Они узнали, что так же настроены ливы и по ту сторону залива, что и там люди готовы идти Ригу, лишь бы кто-нибудь затрубил в рог. Но особенно воинственно настроены курши. Многие, очень многие из них, оказывается, приходили сюда разузнать, не согласятся ли ливы, как только спадет весенняя вода, отправиться к устью Вяйны и там одновременно с нескольких сторон забросить невод. Чтобы ни одна рыба не ушла в море! Всячески проверив, можно ли доверять этим людям, заставив их в конце концов положить руку на меч и поклясться, что они не таят никаких коварных замыслов, Отть и Велло попросили отвести их к бывшему старейшине ливов, который жил теперь в бедности, словно раб. Они проговорили до полночи и дали друг другу обещание: весной, в одно и то же время, снять со стены мечи. Договорились отправить гонцов к куршам, а затем дальше за Вяйну к другим народам, до самого Полоцка. Но когда бывший старейшина Летегоре потребовал, чтобы эстонцы первыми затрубили в рог, старейшина Мягисте не согласился: он не знал, сможет ли собрать многим больше сотни людей. Пусть начнут ливы либо курши, а уж эстонцы не подведут, явятся и никакой работы не побоятся! Хоть в самом Мягисте и не затрубят в рог — каждый здесь услышит призывный звук и тотчас же вскочит на коня, взяв копье в правую и щит в левую руку и заткнув за пояс меч и боевой топор. Велло не хотел сам отправляться в Лехолу, опасаясь, что старейшина ответит ему: "Обождем еще немного, подготовимся как следует и пойдем тогда вместе; соберем всех мужчин от Соболица до Соонтаганы, от Отепя до Рявалы, попросим подмоги у других земель. Не к чему нам повторять историю под Бевериной!" Так, вероятно, сказал бы Лембиту. Разумеется, его можно было бы сразу обрезать, весьма веско возразив: "А что, если за десять лет не удастся объединить все мааконды под одним началом? Если не удастся в одно и то же время получить помощь извне? Если с юга то в Уганди, то в Сакалу снова и снова будет приходить враг грабить и убивать? Если угонят скот, который успел подрасти, и жеребят? Если уведут в плен девчонок, успевших превратиться в девушек, и мальчишек, вытянувшихся настолько, что их можно сделать рабами?! Пока там, за лесами Сакалы, вдали от опасностей, будут точить мечи и до блеска начищать щиты, кровожадный враг не раз побывает в Мягисте!" Велло приказал Оттю так и передать Лембиту, если, конечно, будет в том нужда, и добавить от себя все, что он посчитает необходимым. Старейшина как раз снаряжал Оття в Лехолу, когда с юга на санях приехал купец с двумя хорошо вооруженными слугами. Он был весел и словоохотлив, не знал толком ни рода своего, ни племени, еле- еле объяснялся на языке ливов, но все же пытался сказать старейшине что-нибудь лестное, шутил со служанками. Отть посоветовал Велло как следует угостить купца, и если тот из Риги или из какого-нибудь другого рыцарского города, не скупиться на мед. Поездку Оття отложили. Отдав распоряжение позаботиться о слугах, старейшина повел купца в дом и усадил на лавку. Малле он велел запечь дичь пожирнее и сразу же нести мед, а сам стал расспрашивать гостя про дорогу, погоду, про товары, ярмарки и цены на зерно в Риге. Гость отвечал пространно и охотно, но ясно было, что он умеет вовремя придержать язык. Он похваливал рыцарей, патеров, восхищался мощью укреплений на Вяйне. К ужину явился и Отть. Он сел рядом с веселым краснощеким толстяком и, подмигнув, дал понять своему хозяину: эта рыба стоящая, насади на крючок приманку получше. Велло распорядился принести маленький бочонок вина, который он когда-то выменял у одного псковского купца за десять шкурок норки и держал на тот случай, если в гости вдруг явится какой-нибудь важный сакалаский старейшина — Мээме, Воотеле, Манивальд или сам Лембиту. Уплетая печеную тетерку, прихлебывая красный сок и слушая, как Отть произносит некоторые слова по-немецки, гость таял. Из глаз у него текли слезы радости, а с подбородка — жир; он обнимал Оття, превозносил старейшину, расхваливал народ Мягисте, а когда Малле принесла ягоды, достал из-за пазухи бронзовый браслет и подарил ей. Отть перевел разговор на Ригу и рыцарей и даже довольно лестно отозвался о христианской вере и о епископе. Тут гость сделал таинственное лицо и, понизив голос, сказал: — Дела рыцарей и христианской веры, — а они связаны друг с другом, они вместе, как меч и ножны, — весьма и весьма плохи. Рыцарю не сидится на месте: явится весной с совестью, отягощенной убийствами и грабежами, и думает, как бы искупить их. Вот и убьет за лето несколько язычников; подвернется молодая женщина, изнасилует ее прежде, чем прикончить, и получит за это богоугодное дело от папской церкви прощение всем своим грехам. Теперь он чист, как ангел, и может отправляться на родину. А надумает — так опять начнет все сначала. Осенью рыцари покидают крепости на Вяйне: редко, когда увидишь там сверкающий шлем или красный крест на белом плаще. Нынче дела обстояли так плохо, что епископ всю зиму продрожал, прося у бога защиты. Тут гость сделал особенно таинственное лицо, поглядел вокруг и шепотом добавил: — Епископа сейчас нет в Риге, в страхе удрал в Саксонию искать помощи, собирать меченосцев. Опасается, что летом ливы, или кто другой, проникнут за ворота и отправят оставшихся там патеров и рыцарей по водам Вяйны домой. Епископ теперь твердо решил: устроить рыцарям теплые гнездышки в тех землях, которые они завоюют. Тогда уж они не упорхнут. На берегах Вяйны и на земле ливов у них уже свиты гнездышки. Все, в чем у них нужда, народ таскает им. Для этого-то этих язычников и крестят!Именем святого креста торговец запретил рассказывать об этом кому бы то ни было. Старейшина налил гостю побольше вина, сделал вид, что и сам жадно пьет, и пригласил его на будущую зиму поохотиться на медведя. Купец разошелся, стал рассказывать о рыцарских попойках, о коварстве патеров, с каким они загребают имущество для церкви и расставляют сети язычникам. — А ты тоже крещеный? — поинтересовался Велло. — А то как же?! Иначе разве предо мной открывались бы все ворота! — весело ответил купец. — Крестильная вода оберегает столь же надежно, сколь и рыцарские железные доспехи. Даже еще надежнее! Вы поступили бы разумно, попросив меня, как только я приеду в Ригу, направить к вам патера. В крайнем случае, я и сам мог бы окрестить вас. Несколько капель воды, и — во имя отца, сына и святого духа! Потом — аминь, и дело сделано! Купец громко рассмеялся своей шутке, отхлебнул вина, похвалил его, прищелкнул языком и с довольным видом добавил: — Только эту воду не надо смывать, а то сила исчезнет и придется начинать все сначала. После того как Отть с гостем ушли, Велло встал и начал ходить взад-вперед по комнате. Подойдя к Вайке, он взял ее за руку и радостно воскликнул: — Ты слыхала?.. Слыхала, что онсказал? — Слыхала, — ответила девушка и испуганно посмотрела на своего повелителя. Когда Отть, уложив гостя спать, вернулся, на лице его играла усмешка. — Захватишь завтра несколько слуг и отправишься к Лембиту, — сказал ему старейшина. — Если он и теперь не согласится, если он, сидя в Лехоле, все еще помышляет о больших делах и думает уговорить старейшин Сакалы и Виру, то не видать ему никогда ворот Риги и башен Юкскюлы!.. Сам я еще раз съезжу к ливам, а может, и подальше... — Боги покровительствуют нам, — ответил Отть, потирая руки. — Только бы этот бог крещеных не подставил нам ногу! Уже на следующий день Отть в сопровождении двух слуг отправился в Лехолу; за пазухой — подарки, в санях, под соломой, — оружие. Сам Велло никуда не поехал, Из-под Раи пришли тревожные вести, будто латгалы, проживавшие в Трикатуа и Росоле, замышляют, еще до того как сойдет снег, совершить небольшой грабительский набег на Сакалу. Старейшина направил Кахро с двумя слугами в Летегоре, сам же остался дома, встревоженный тем, что его планам могут помешать. Порой с отрядом воинов он выходил на большую дорогу и сторожил там ночами, но в Сакалу никого с предостережением не послал: если волна прокатится через Мягисте, пусть ощутят это и северные кихельконды! Может, хоть тогда их старейшины зашевелятся и скорее послушаются Лембиту. Отть вернулся через несколько дней и желчно, не глядя на Велло, молвил: — Великие сядут за стол лишь тогда, когда он будет уставлен множеством кушаний и сосуды будут наполнены медом до краев. Из-за какого-нибудь пустяка они и не пошевелятся. Все мускулы на лице Велло напряглись, когда он произнес: — Сядем за стол без великих! Кахро вернулся из Летегоре с вестью: — Как только дороги просохнут и воды спадут, куршам дадут знать. А те, в свою очередь, известят земгалов и селов. Велло дрожал от возбуждения; ему казалось, будто он видит устремляющиеся со всех сторон к Риге дружины, слышит призывный звук рога, возвещающий войну. В полдень, смерив длину тени, он высчитал, сколько пройдет дней, прежде чем растает снег, спадут воды и просохнет земля. Ясно, теперь уже нечего ждать, чтобы у ливов или куршей затрубил зимой рог, тем более, что курши собираются забросить в устье Вяйны невод. А это возможно не раньше, чем река и ливский залив освободятся от льда.***
С каждым днем солнце поднималось все выше над лесами Росолы, Трикатуа и Асти. Снег оседал, прячась под сень деревьев и кустов. Правда, по ночам он покрывался твердой корочкой, которая должна была защитить от теплых лучей; но стоило выглянуть солнцу, как эта корочка исчезала, подобно дружине, которую преследует враг. С юго-запада и запада дули теплые ветры; гордо, подобно отрядам всадников, неслись облака, сея мягкий дождь, которому надлежало окончательно изгнать зиму. Солнце и ветры, словно верные союзники, поочередно сражались с общим врагом. Велло бродил по двору, по дорогам, по лесной опушке, наблюдал победное шествие весны, считал дни, не в силах дождаться, когда же наконец просохнет земля, войдут в берега и плавно понесут свои воды реки. Он подставлял лицо солнцу, а лоб — дождю и, сощурив глаза, прислушивался к крику журавлей под облаками. Все это давало ему ощущение радости, но совсем иной, чем прежде. Он уже не ждал той поры, когда можно будет выйти в поле с сохой, взрыхлить землю, равномерно раскидать с ладони зерна, чтобы рассыпались они подобно золотому дождю, и затем пробороновать их сучковатой бороной. Он не ждал и той поры, когда всей деревней можно будет отправиться на прошлогоднюю подсеку, где вот уж почти год дремлет молодой лес с засохшей и пожелтевшей листвой, где сизый дым, подобно духу, поднимется вверх, сгибаясь под порывами ветра и спеша укрыться меж деревьев, и где там и сям замелькают желтые языки пламени и радостный людской гомон заглушит треск сучьев. Не ждал он и той поры, когда лес с утра до вечера будет наполнен щебетанием, свистом и трелями тысяч птиц и когда на заре у качелей зазвучат и разнесутся далеко окрест песни и веселый смех парней и девушек. Как-то Велло, пытаясь скрыть возбуждение, сказал Оттю и Кахро: — Позаботьтесь, чтоб все было готово к пахоте и севу, чтоб каждый знал, что ему делать! А сам, вероятно, уже в сотый раз принялся подсчитывать людей, коней, оружие и запасы зерна, которого должно было хватить на дружину, когда та будет в сборе. Только бы не опередили латгалы. Они, наверное, уже пронюхали о собранном зерне, а может, прослышали кое-что и о закупке оружия. Тогда конец Мягисте! Когда болотце перед священной рощей просохло настолько, что тропинку можно было застлать хворостом, Велло после захода солнца, до того как наступала полночь, ходил порой на священную гору и подолгу стоял перед жертвенным камнем, прислушиваясь к щебету поздней птицы, а затем вздымал кверху руки. Он держал их простертыми вверх, ладонями к небу, и просил богов благословить задуманное им дело. Он просил предков поддержать его в военном походе и обещал быть достойным их. Он просил поддержки в борьбе против рыцарей и их кровожадного и властолюбивого духа. Однажды он снова встретил на дороге Лемби; она бесстрашно шла ему навстречу, глаза ее излучали тихую радость. Они поздоровались. Лемби осенила себя крестным знамением и воздала хвалу Иисусу Христу. — Мне предстоят трудные дни, — полушутливо сказал Велло, — не попросишь ли ты для меня благословения у своего бога и его сына? — Я каждый вечер молюсь за тебя, — ответила девушка. — Прошу бога, чтобы он направил тебя на путь истинный. Они пошли рядом. — Если я пойду войной против крещеных, как посмотрят на это твой бог и его сын? — спросил Велло тоном, в котором уже не слышалось шутки. — Тем самым ты поднимешь руку на бога и его сына, — ответила Лемби и горестно вздохнула. — А если твои крещеные придут к нам убивать и грабить?.. — подавляя раздражение, спросил Велло. — Этого не случится, если на то не будет воли божьей, — ответила Лемби. — Что ж, этот ваш бог вместе со своим сыном вполне подходящий предводитель для грабителей и убийц! — не скрывая гнева, воскликнул Велло. — А мы, значит, подставляй шею, чтоб легче было рубить голову. Лемби опустила глаза и промолчала. Велло пожелал ей доброго здоровья и свернул в сторону.XV
В те дни, когда по небу пронеслась первая гроза, разя своими стрелами деревья что повыше, когда леса оделись листвой, а на полях уже зазеленели первые всходы, к Велло привели двух чужеземцев, двух усталых и оборванных гонцов. Он принял их во дворе под ясенями. Они в изнеможении опустились на скамью, не дождавшись, пока им предложат сесть. Обувь на них продырявилась, ноговицы висели лохмотьями, одежда порвалась и загрязнилась, пожелтевшие лица обросли щетиной, глаза горели болезненным жаром, светлые волосы свалялись. Велло отослал прочь любопытных, оставив подле себя лишь Оття, и приказал Малле принести меду. Отдышавшись и смочив пересохшие от усталости губы, чужеземцы назвались ливами и сказали, что посланы сюда из Летегоре своим, живущим в изгнании, старейшиной. Велло, понимавший наречие, на котором они говорили, хотел было сразу начать расспросы, но слуга напомнил ему, что и у кустов есть уши, да и камни иной раз тоже слышат. Тогда все отправились в дом старейшины; усталых путников поудобнее усадили на лавку и стали ждать, что они скажут. Младший взглянул на старшего, и тот заговорил отрывисто, слабым голосом. Но видно было, что после каждого слова он испытывает облегчение, словно сбрасывает с себя груз, который носил долго и старательно. Куршам, говорил он, было хорошо известно, что морем из Саксонии идут рыцари. Не кто иной, как рижский епископ взялся привести их оттуда, чтоб они усмирили язычников. В Ирбенском проливе курши дней десять подстерегали лодки рыцарей и купцов. И вот однажды утром они увидели надутые ветром паруса и высокие мачты. На нескольких лодках курши прошли мимо немцев, сделав вид, будто направляются в сторону Сааремаа. Но, отойдя на некоторое расстояние, повернули им навстречу и, укрывшись за большими деревянными щитами, стали кидать во вражеские паруса пики, обмотанные горящей паклей, метать в их лодки копья, дубины и топоры. Немало вражеских парусов запылало. Враги пытались остановить лодки куршей длинными баграми, но курши тут же их перерубали. Затем враги попробовали окружить куршей, но в это время от берега отделилось множество спрятанных там лодок, и попутный ветер понес их прямо на крестоносцев. Первым делом курши вывели из строя рули и подожгли паруса, а затем с близкого расстояния закидали противника камнями и оружием; многих ранили, многие замертво упали на дно лодки. Жестокая схватка продолжалась почти до полудня, после чего нескольким вражеским лодкам удалось скрыться, часть загорелась и пошла вместе со всеми людьми ко дну, а с оставшихся лодок курши сняли крестоносцев, купцов и даже нескольких патеров и забрали их в плен. Лив устало умолк, отхлебнул из пододвинутого ему кувшина и стал дожидаться расспросов. Отть разъяснил Велло, который не все уловил из рассказа лива, как было дело. Старейшина порывисто вскочил со скамьи. Ему казалось, что нельзя сидеть сложа руки и терять время, когда положение рыцарей столь плачевно. Это подтвердил и лив. Курши направили к ним, в Летегоре и Метсеполе, гонцов с просьбой: собрать дружину и немедля идти на Ригу.— Что вы и сделаете, — вставил Отть. Оба лива склонили свои белые, как лен, головы. — Каупо, слыхать, уже собирает ливов в Кубеселе, Торейде и Сотекле, чтобы отправиться Риге на помощь, — заметил младший из гонцов. Все замолчали и поникли. "Так поступает крещеный старейшина!" — подумал Велло. Лив постарше продолжал: — Курши просили наших тайных старейшин в Летегоре, чтобы те позвали эстонцев. Пусть эстонцы двинутся по Выннуской дороге и нагонят страху на рыцарей либо задержат Каупо с его ливами у берегов Койвы. А тем временам курши с земгалами и полочанами стали бы рушить укрепления на Вяйне. — Когда нам выступать? — спросил Отть. — Курши просят тотчас же, — ответил старший из гонцов. Оба гонца валились с ног от усталости и выглядели жалкими; но весть, которую они принесли, была, по мнению Велло, так велика, так важна, что должна была взбудоражить весь народ, объединить в дружины всех мужчин из Угаиди и Сакалы и повести их вдоль моря к берегам Вяйны. Больше медлить нельзя! Наступит ли еще когда иибудь такой момент! Велло отправил гонцов отдыхать, поручив их заботам Вайке и Малле, которые обязаны были следить за тем, чтобы слуги держались в стороне от чужеземцев и не болтали с ними. Сам же остался неподвижно сидеть в своей комнате. Значит, теперь он, молодой старейшина Мягисте. вступает в игру. Приближается его большой день. Он поведет людей за Сяде и Асти и вернется оттуда либо побитым и опозоренным, либо с добычей и славой, отомстив вдесятеро за позапрошлогодний грабительский набег и доказав трусам, что распятый дух вместе со своим отцом далеко не столь могуществен и что крестильная вода не убережет ничьей головы от хорошего удара! До вечера Велло не выходил из комнаты. Кахро и Отть сновали взад и вперед, отдавая распоряжения слугам. Пришли сельские старейшины Киур и Кюйвитс. Велло отвечал на их расспросы коротко в жестко: — За Койву! Кюйвитс получил приказ: выставить на охрану дорог побольше людей, чтобы никто не смог покинуть Мягисте и заранее предупредить врага. Воинственный Киур должен был скакать в Лехолу к Лембиту и просить его собрать дружины в своем и в других кихелькондах, чтобы повести их на помощь куршам и ливам. Если Лембиту не согласится, пусть разрешит Киуру набрать воинов из своих селений. Еще ко многим старейшинам Сакалы, да и дальше, направил Велло людей с просьбой: пусть являются с дружиной! Ригу окружат со всех сторон, и тогда дни епископа и рыцарей сочтены! А в случае, если они сами не захотят идти, пусть позволят набрать людей. Он дал гонцам с собой подарки, чтобы легче было заручиться согласием старейшин. Но если они и людей не разрешат набрать, пусть гонцы делают это без разрешения, пусть мчатся из деревни в деревню и, ударяя в щит, созывают воинов в Мягисте. Старейшина Велло поведет их через границу, через Сяде и Койву. Пусть приходят все, у кого бьется в груди мужественное сердце! Пусть приходят все, кого когда-либо ограбили, чьих родных убили! Пусть приходят все, чьи дома сожжены или чей скот угнан! Пусть приходят все, кто жаждет доблестной битвы и богатой добычи! Их созывает старейшина Мягисте, Велло, который не боится ни рыцарей, ни кровожадного бога патеров, ни их ада! Пусть каждый захватит свое лучшее оружие, а если его нет — тоже не беда, не оставаться же из-за этого дома! Пусть приезжает верхом тот, у кого есть конь, а у кого его нет, пусть приходит пешим. На исходе четырнадцатого дня все должны быть в Мягисте! Гонцы на добрых конях во весь опор мчались к северу. И многие слуги и бедняки оставляли свою работу, оставляли пожогу, оставляли поля, не успев кинуть в них семян; не слушая запретов старейший и хозяев, они под покровом ночи, незаметно, уходили в Мягисте. А из Сакалы шли даже хозяева, которые в позапрошлом году пострадали от руки врага; они побросали свои семьи и добро, оставив их на попечении богов и духов, чтобы самим десятикратно отомстить врагу. Вняли призыву и те, у кого работа тяжелая, у кого нужда в доме, кто мечтал о воинской славе и богатой добыче, и даже те, кто страстно желал привести с чужбины доброго коня или красивую девушку. В Мягисте меж тем готовились к встрече воинов, хотя и неизвестно было, сколько их прибудет. Мололи оставшееся в селении зерно, пекли хлеб и сушили его на жердях; слуги стругали древки копий, мастерили дубины, булавы и щиты — Велло опасался, что многие явятся без оружия. На большом пологом лугу спешно косили траву, чтобы было где собрать пришельцев, построить их, дать указания. Вайке и Малле заготавливали холщовые тряпки для перевязок; они знали — раненых в сражении будет немало и в своей дружине, и среди врагов. В тряпки завязывали измельченные высушенные травы, которые останавливали кровь. По вечерам девушки усердно ходили в священную рощу, развешивали дары на ветвях старой березы и просили богов благословить военный поход Мягисте. Из домика кузнеца с утра до вечера несся звон железа. Известно было, что кузнеца не очень-то интересует эта затея с походом, однако самое необходимое он все же делал. Как-то дозорные привели к старейшине двух мужчин, задумавших лесными тропами тайно пробраться в Латгалию. Оба признались, что хотели предупредить врага об опасности. Это были убогие мужички, уже не молодые, в поношенной одежде, босые, без шапок, с заросшими щетиной лицами и испуганными глазами. Один оказался из селения Ассо, изрядно битый однажды за кражу зерна; второй — из селения Киура. Они стояли перед старейшиной сгорбившись, сжавшись и молили о пощаде. Они, мол, не могли уже как следует работать в поле или охотиться в лесу; а дома — голод, дети плачут. Мужички надеялись, что враг вознаградит их и жизнь их полегчает. Велло кликнул в окно слуг и приказал вывести изменников во двор. Затем он велел сообщить им свое решение: на три дня привязать обоих к дереву у края дороги и рядом положить дубинки потолще. Каждый проходящий может бить их. На третий день к вечеру им отрубят головы. Об этом должны знать все семь селений, чтобы никому не было повадно перебегать к врагу. Весь день старейшина шагал по дорогам своего селения и больше чем когда-либо походил на волка. Лицо его было замкнутым и напряженным. И лишь при встрече с мужчиной — воином по возрасту — лицо его прояснялось, становилось приветливым и он дружески спрашивал: — Ну как, все в порядке?.. Скоро — в путь? И, получив ответ, что к походу все готово, ободряющее говорил: — Дождемся только остальных — тогда тянуть не будем! Под вечер, когда Велло осматривал на нижнем дворе копыта у лошадей — путь предстоял длинный, — прибежала Вайке и шепотом сказала: — Там Мария, дочь Ассо. Лемби! Велло почувствовал, как всего его обдало жаром; оставив коней, он заторопился к дому. Лемби стояла под ясенями, вся в черном, с узелком в руках, и строго глядела на своего бывшего жениха. Она сухо приветствовала его, произнеся слова благословения, и тотчас же заговорила: она идет сейчас оттуда, где к дереву привязаны эти несчастные, умирающие от жажды, голода и мук. Их спины в кровоточащих ранах и на их окровавленных телах тысячи мух. — Неужто ты в самом деле не боишься кары божьей? Ведь бог велит нам любить даже своих врагов и делать им добро! — воскликнула Лемби. Она, как строгий судья, бесстрашно стояла перед старейшиной, словно невидимая сила поддерживала ее. Велло ощутил радостное возбуждение. Как воин, встретивший достойного противника, который готов принять удары, отразить их и в нужный момент ударить сам. — Я старейшина Мягисте, — ответил он, засовывая правую руку за пояс и выпрямляясь. — Я должен защищать от врага народ семи селений. Не делай я этого — любой бог сможет растоптать меня! Или этот твой бог на стороне предателей? — Он на стороне всех сирых, угнетенных и измученных, — ответила Лемби. — Значит, тот, кто убивает, крадет или совершает иное зло и за это подвергается наказанию, — и есть подопечный твоего бога? Я и раньше говорил: твой бог на стороне рыцарей и прочих грабителей и убийц... — Это нехорошие слова, я буду молиться, чтобы бог не покарал тебя за них, — ответила Лемби и крепко стиснула губы. — Я готов пожать то, что посеял, — упрямо произнес Велло. Они не глядели друг на друга, потому что врозь воли и их мысли и чувства, наполнявшие их сердца. — Можно ли отнести им питье и промыть раны? — спросила наконец Лемби. Немного подумав, Велло ответил с ядовитой усмешкой: — Пусть решит твой отец. Он может и освободить их, если посчитает это правильным. Тогда ты сможешь отвести их домой — вот и будет у тебя занятие. А у нас сейчас дела поважнее, чем лечить предателей! Лемби поблагодарила, воздала хвалу богу, перекрестилась и ушла. На следующий день, когда старейшина перебирал в своей комнате оружие, пришла Вайке и сообщила, что наказанные уже освобождены и с помощью слуг — сами они очень ослабели — водворены в дом Ассо. Велло выругался. Он был возбужден и тяжело дышал. — Что ты на это скажешь, Вайке? — с горечью спросил он наконец. — Правильно ли это? Предатели!.. А их лечат словно родных братьев! — Я не знаю... — ответила девушка, но голос ее звучал так, будто она чего-то не досказывала. Затем она добавила: — У меня к тебе просьба... Не решалась сказать... — В чем дело? — мрачно спросил Велло. — Когда пойдете... в земли врага... войной, возьмите и меня! Девушка погладила руку старейшины и из-под длинных ресниц умоляюще посмотрела на него влажными глазами. Старейшина улыбнулся, и лицо его приняло веселое выражение. — Ты — на войну! Зачем? Врачевать раны врагов? Еще вдруг и Лемби отправится! — Может, смогу помочь... Я научилась пускать стрелы, да и копье метну так, что мимо цели не пролетит. — Вот как! Это другое дело! Все же женщинам не подобает идти... Они портят мужчин! — Я надену мужское платье, а на голову — шлем... Велло снова рассмеялся и весело сказал: — Хорошо — пойдешь с нами! Но все-таки... Неужели тебе охота грабить, жечь, убивать? — Вот увидишь — вам очень понадобится помощь... — Что ж, пойдем! А теперь беги и скажи, чтобы ко мне позвали Ассо... или нет... Я сам схожу к нему. — Я всегда тревожусь, когда ты ходишь туда, — заметила Вайке. — Тревожишься? Почему? — Боюсь, вдруг Лемби украдкой капнет тебе в питье или в еду эту отраву. Ну, эту крестильную отраву... Велло с удивлением слушал. — В селении все говорят: если старейшина позволит окрестить себя, то получит Лемби в жены, — озабоченно произнесла Вайке. — И ты боишься, что ради этого я позволю окрестить себя? — спросил Велло. — Так — не позволишь, но если она даст тебе отравы, которая расслабляет... — Будь спокойна — эта отрава меня не проймет. Она действует больше на женщин... и на хворых мужчин! Ну, хорошо! Не пойду я туда, пошли кого-нибудь за Ассо. Ассо приехал верхом, с юношеской легкостью спрыгнул с коня, передал поводья слуге и с деловитой готовностью, чуть приоткрыв рот, подошел к Велло. — С нами пойдешь или останешься за меня в Мягисте? — спросил старейшина и указал ему место под ясенями. — Не знаю, как лучше... — молвил Ассо, не торопясь с решением. — Военный поход — дело, конечно, молодых; но и без совета старших не обойтись. Ум старого — руки молодого, — ответил Велло. — Чего уж тут дома... — заметил Ассо. — Следить, чтобы патер с помощью Лемби не окропил водой голову всем, кто остается, — шутливо ответил Велло. — Какой патер в такое время! — пробормотал сельский старейшина. Теперь Велло заговорил серьезно: — Я наказываю, а Лемби вмешивается и спасает преступника — из любви к ближнему! Ассо мрачно смотрел в землю и молчал. — Поступай, конечно, как знаешь, — сухо заметил Велло. Они сидели молча, не глядя друг на друга. "Отнял у меня невесту этот распятый дух, а теперь отнимает и старого друга, доброго советчика!" — думал Велло. — Что ж, если надо, и я пойду вместе с вами, — произнес наконец Ассо и встал. — Подумай, время еще есть, — пробормотал старейшина. Его тревожила мысль: соберутся ли люди? А вдруг явятся несколько десятков — Ассо будет тогда усмехаться, а Лемби радоваться! Старейшина Алисте с Урве тоже станут потешаться: кто, мол, пойдет на свадьбу к бедняку или в гости к слуге?! И Лембиту в своей Лехоле посмеется: какая дружина соберется на клич мальчишки!XVI
К вечеру двенадцатого дня прибыли первые воины. Они вышли из дому заранее — путь предстоял им неблизкий — в явились в Мягисте заблаговременно. На следующий день начали подходить люди из Алисте, Сакалы, Лехолы, Иоентаганы и даже из более дальних мест — с севера, востока и запада, отовсюду, где побывали гонцы. Кто — пешком, кто — на конях, у иных в руках сучковатая дубина или булава, у иных — лук с пучком стрел, выпрямленная коса или копье из ясеневого дерева и дощатый щит. Но немало пришло и таких, у кого на поясе висел меч, в руках было копье с железным наконечником, щит из бронзы, а на голове — кожаный шлем с металлическим ободом. Одежда на многих была порвана и испачкана, обувь — плохонькая; некоторые явились босиком. Видно было, что пришли они прямо с работы — с пожоги либо с раннего сенокоса и что это слуги или бедные хозяева. Зажиточных среди прибывших было мало. Иные всадники не скрывали, что, собираясь в поход, захватили чужого коня — что ж, вместо одного вернем двух, шутили они. Одно можно было сразу сказать, взглянув на этих людей: трусов и хилых среди них нет. Эти остались дома, подальше от опасностей и несчастий. Отведя коней к опушке леса на вырубку, люди отправились на скошенный луг, где стали знакомиться друг с другом, разглядывать оружие, расспрашивать о том, о сем. Старейшина велел сразу же уведомить прибывших, что требует от них порядка и послушания. Кто не хочет подчиняться, пусть возвращается домой. Никто не смел пить откуда ему вздумается; воду привозили в лагерь из селения в бочонках. Никто не смел бродить по деревне в поисках еды. У кого еды с собой не было — а ее не было у многих, — тому выдавали из запасов старейшины хлеб, сушеную рыбу или мясо. Люди каждого кихельконда должны были выбрать из своей среды предводителя, который отвечал бы за порядок. Вскоре вернулись и гонцы; они сообщили, что повсюду старейшины выслушивали их и любезно принимали подарки; однако пора горячая, сев еще не закончен, тут и там еще не принимались за пожогу, и поэтому отправиться в поход они не могут. К тому же, следовало бы прежде собраться на совет, ведь с Ригой-то пока еще мир. Так ответили мудрые старейшины! Гонцы старались разъяснить им, что до Риги далеко, хватит дел и по эту и по ту сторону Койвы, Рига же пусть достается куршам и земгалам, да и другие крепости на Вяйне тоже. Так что мир не должен бы препятствовать походу... Старейшины качали головами, но все-таки разрешили, с большой неохотой, правда, рассказать в селениях о походе, утешая себя, очевидно, мыслью: кто из разумных людей отправится без своего старейшины в земли врага! Это все равно, как если бы пес пошел в лес без хозяина! Умный пес один в лес не побежит, а если и побежит, то не миновать ему пасти волка. И все-таки слуги и бедняки, услышав о походе, побросали на поле сохи и осведомились, как прямым путем пройти в Мягисте. Здесь они стали воинами. Каждое утро чуть свет Отть, стуча в щит, будил людей. В несколько мгновений все должны были быть на ногах — одетые, при оружии, готовые атаковать врага или отразить его атаку. Они учились владеть оружием — метать копья, дубины и топоры, рубить мечом. Отть показывал им, как отражать натиск пешего и конного врага, как защищаться от пики рыцаря, как выбивать его из седла. Устав от упражнений, люди отправлялись через лес к ручью, купались, затем возвращались и, поев хлеба, ложились на траву отдыхать. Вечерами на опушке леса разводили большие костры, пекли мясо и ели; никто не шумел, каждый в душе был взволнован предстоящим походом и думал о том, что ожидает его. К обеду четырнадцатого дня в сборе было шестьсот пятьдесят человек, из них сто пятьдесят конных. Начали готовиться к походу, хотя люди продолжали прибывать — пешком и на лошадях. Под руководством Оття избрали предводителей отрядов пехоты и конницы. Отряды собрались вокруг старейшины на вершине холма; там, прямо на земле, была вычерчена широкая дорога, ведущая вниз, к озеру Асти, в Аутине и Вынну. Влево и вправо от нее расходились линии — их нарисовали на песчаной почве люди, знавшие Латгалию. Каждый предводитель пешего отряда углем перерисовывал на бересту дорогу или тропу, на которую ему надлежало свернуть. Наобум, самовольно отходить в сторону от намеченной дороги или останавливаться где-либо никто не смел. Когда все к походу было готово, Велло в сопровождении Кахро поскакал домой и, не слезая с коня, отдал распоряжения остающимся и попрощался с Малле; глаза ее увлажнились, но лицо светилось радостью. Он уже сворачивал к воротам, когда с нижнего двора, сопровождаемая возгласами слуг и служанок, легкой рысью выбежала лошадь с молодым стройным всадником; голову его защищал шлем с блестящим гребнем, справа, у пояса, висел легкий меч, слева — связка копий, за спиною — лук и пучок стрел, а в левой руке он держал обтянутый кожей щит. Велло кинул на всадника недоверчивый, недоумевающий взгляд, но, узнав в нем Вайке, радостно улыбнулся.— И другие девушки не прочь пойти, — сказала она, когда выехали за ворота. — Им и дома работы хватит! — ответил старейшина. По дороге Велло нужно было завернуть во двор к Ассо, чтобы распорядиться относительно охраны кихельконда. Ассо он встретил у ворот, верхом, в полном вооружении. Сельский старейшина попросил разрешения участвовать в походе. — Не могу оставаться, когда все идут, — молвил он. — А как же дом? — спросил Велло. — Кто будет охранять его? Тут к ним подошел пожилой хозяин, живший неподалеку от Ассо. — Вот он, — кивнул в его сторону сельский старейшина. Велло что-то проворчал, но согласился. Из дома медленным шагом вышла Лемби, вся в черном, с озабоченным лицом; перекрестившись, она приветствовала старейшину. Велло почувствовал нежность к девушке, однако не удержался, чтобы дружески не поддеть ее: — Отправляемся на войну против крещеного народа. Против твоего бога и его сына! — Всемогущий бог... да хранит вас! — молвила Лемби. Голос ее дрогнул и по щекам покатились слезы, падая на черную одежду и крест на груди. Она благословила отца и Велло, осенив их крестным знамением, и губы ее зашевились, шепча молитву. Некоторое время они молча ехали рядом, затем Ассо сказал: — В конце концов существует один бог, как и одно солнце, одно небо и одна земля. — Так всегда говорил и покойный мудрец, — ответил Велло. — Так говорит и патер, — заметил Ассо. — Какого дьявола нам слушать, что повторяет патер?! — воскликнул Велло. — Он больше говорит о том, как там, на небе. — Это мы и сами увидим, когда попадем туда...Сейчас у нас неотложные дела здесь, на земле: сказал Велло и стегнул лошадь. Впереди, на склоне холма, они увидели дружину; она уже построилась — впереди пехота, за ней всадники. — Ждут, чтобы старейшина напутствовал их перед походом, — пояснил Отть, радостно приветствуя Ассо и недоверчиво глядя на молодого воина. Узнав Вайке, он сердито засопел, но промолчал. Дружина, действительно, ждала. Велло нахмурился, но, видя, что уклониться невозможно, сделал знак трубачу. Дул легкий ветерок, длинные шелковистые белые волокна облаков тянулись с северо-востока на юго-запад, солнце было огненно-желтым и висело низко над Соонтаганой. Призывно прозвучал звук трубы, и воины замерли в ожидании. Велло сидел верхом на своем гнедом, повернув к дружине худое обветренное лицо. Он был в простой серой одежде, у пояса — меч, в левой руке — щит, на голове — кожаный шлем с железным ободком. Он никогда еще не говорил перед большой толпой, поэтому собственный голос и слова, которые он должен был произносить очень громко, звучали даже для него самого поначалу чуждо. Он напомнил, что натворили враги здесь и во всей Сакале в позапрошлом году. Напомнил, сколько добычи увезли они отсюда, и сказал, что ее надо отобрать. И надо отомстить за всех, кто был убит или угнан в плен. — Вдвойне отомстить! — выкрикнул кто-то из воинов. — Десятикратно! — воскликнул Отть. — Стократно! — крикнули из задних рядов. Велло же продолжал говорить — немного однотонно, певуче. Он говорил о тех старейшинах, чьи поля и стада далеко от врагов, кто, завидев дым над Мягисте, успеет снести свое добро в крепости и укрыться там. Их не интересует военный поход. Их не тревожит, что за спиной у латгалов день ото дня растет войско рыцарей и что потом трудно будет одолеть их и даже противостоять им будет нелегко. Все больше и больше распаляясь, он уже стал выкрикивать свои предостережения и угрозы; затем выхватил из ножен меч и высоко поднял его над головой. — Настал последний срок показать врагу меч! Если мы не выступим сегодня, враг завтра будет здесь! — Сегодня пойдем! Тотчас же! — закричали люди, стоявшие у подножья холма. — Да, пойдем! — ответил Велло. — Но прежде я скажу еще несколько слов о вражеском боге. Кто боится этого бога, пусть остается здесь, пусть отправляется домой! Идут же пусть те, кому не страшен ни крещеный латгал, ни лив или рыцарь, ни крест, ни распятый сын божий! Завтра, по ту сторону Сяде, мы увидим, как этот бог защищает крещеных и их добро! — Завтра увидим! — лихо захохотали внизу. Велло снова заговорил о старейшинах, потому что ему вспомнился Лембиту. Он втайне уважал его, но здесь, не в силах сдержать себя, воскликнул: — Некоторые могущественные старейшины готовят большой поход против вражеских земель на Койве и Вяйне. Они опоздают. Настало время, и лучшего нам не дождаться! Курши пойдут на Ригу с юга, ливы — с северо-запада, земгалы с юго-востока, полочане — с востока! — На Ригу! Прямиком на Ригу! — закричали всадники. Пехота повторила этот клич. Воинственный гомон смолк не так скоро. Затем на вершину холма привели молодого белого коня, и старейшина положил свое копье на землю. Не раз говорил он об этом с Кахро, но слуга, сам немного занимавшийся колдовством, не одобрял затеи. — Будет засуха или не будет, а поле вспахать и засеять надо, — сказал он. — К чему еще спрашивать у богов! — И совсем тихо добавил: — Загадал первый раз — не повезло. Попробовал еще дважды — и оба раза сошло хорошо.Тогда решили так: чтобы узнать, будет ли поход успешным, — воины не раз рассуждали об этом в отрядах и давали лошадям переступать через древко копья, причем гаданье не всегда предсказывало удачу, — пусть сам старейшина положит копье и заставит белого коня переступить через него. Ступит он сперва левой ногой, Велло с Кахро сразу же скажут: бог крещеных невидимо направляет коня — и отгонят духа в сторону. Так будут поступать до тех пор, пока конь не переступит через копье правой ногой. Велло не хотелось испытывать таким образом судьбу, он даже боялся этого. Когда конь приблизился к копью, старейшина затаил дыхание. Умное животное сразу переступило через копье правой ногой. Велло первым издал победный клич, а за ним и вся дружина. Затем затрубили трубы, и конница, по два всадника в ряд, на приземистых лошадях, медленно двинулась по разъезженной, заросшей дороге. Пехота зашагала следом. Навстречу то и дело попадались воины — они шли в одиночку и небольшими отрядами и присоединялись к пехоте или к всадникам. До большой Вильянди-Выннуской дороги двигались шагом и добрались туда в сумерках. Пехоте сообщили: всадники поскачут вперед, отдохнут у моста через Сяде, а если он окажется сломан — починят. Еще до полуночи конница отправится дальше, неожиданно ворвется в Асти, Аутине и Беверину и закроет дороги налево и направо, чтобы никто не смог послать оттуда весть, пока не подоспеет пехота и основательно не поработает в селениях по обе стороны дороги. Стада погонят домой, в Мягисте; потом, когда дружина вернется, будет достаточно времени поделить их. Отть и Кахро остались с пехотой, Велло и Ассо поскакали во главе конницы к мосту через Сяде. Дозорные на границе сгорали от нетерпения, поджидая их. Велло взял с собой находившегося там Кюйвитса, остальные остались ждать пехоту.
Мост через Сяде оказался цел. Толстые балки, на которые были уложены бревна, могли выдержать с десяток всадников. Велло все еще не верилось, что он ведет дружину на врага, что он скачет впереди сотен людей и каждый шаг приближает его к битвам. Он был так возбужден от охватившего его чувства радости и ответственности, что без надобности погонял коня, болтал с Ассо о пустяках, смеялся над крещеными, жалел, что нет здесь патера: поглядеть бы на его вытянутое лицо, когда с плеч крещеных покатятся головы. Сумерки были короткими; вскоре стала заниматься заря, и у края дороги показались первые селе ния. Всадники во весь опор промчались мимо. Кони храпели, изредка звякал щит о копье и словом-другим перекидывались воины. Во дворах близ дороги залаяли псы... Тут Велло сообщили: четверо или пятеро всадников из последнего конного отряда свернули с дороги и отправились грабить в деревни. Из уст Велло вырвались проклятия. Так вот каково послушание, в котором они поклялись ему! Вскоре небо, чего доброго, озарится заревом пожаров, поднимутся столбы дыма, предупреждая об опасности усадьбы и селения, лежащие впереди. —- Каждого, кто еще попытается свернуть в сторону, разить копьем! — приказал Велло. — Оповестите всех. Уже ясно вырисовывались строения на холмах и косогорах, но дороги и улицы были еще совсем безлюдны. — Пусть спят и видят во сне свое небо, куда вскоре отправит их наша пехота! — сказал Велло. Но Ассо ничего не ответил, Приоткрыв рот, он смотрел поверх головы своего коня, а затем как бы сам себе молвил: — Скоро, кажется, Асти? В лесу они остановились и спешились. Из хвоста колонны снова принесли весть: несколько человек опять свернули в селение. — Почему не послали им вдогонку копье или пику? — закричал Велло. К нему привели предводителя провинившегося отряда. — Рассказывай, как исчезли твои люди?! — спросил Велло. — Свернули в деревню, и поминай как звали, — ответил предводитель. — Ты видел? — Видел. — И не помешал им? — Я окликнул, но они не обратили внимания. — Копье или пику метнул? — Как же я в своих людей... Их ведь никто не принуждал идти в поход... По своей доброй воле пошли.. — проворчал предводитель, очевидно, держа сторону виновных. — Вот как!.. По доброй воле! — Велло схватил свой широкий обоюдоострый меч и плашмя ударил им предводителя по голове. Тот упал на четвереньки, затем — на бок, но тут же, ругаясь, вскочил на ноги и выхватил нож. Тогда Велло ударил его мечом слева по шее. Из раны брызнула кровь, голова склонилась на правое плечо, и он, не издав ни звука, рухнул на дорогу. Недвижно, безмолвно смотрели на это зрелище стоявшие вокруг воины. Те, кто находился в отдалении, придвинулись поближе. Шепотом спрашивали, что случилось, и им шепотом же отвечали. Вайке тоже протиснулась вперед и смотрела на труп так, точно испытывала боль. На Велло она не решалась взглянуть. Ассо облизнул губы, словно увидел что-то отвратительное. Велло и сам в первый момент оцепенел. Однако вскоре оправился и тоном, каким обычно давал указания на поле или на постройке, произнес: — Киньте труп подальше! — И затем, обращаясь к Кюйвитсу, добавил: — Пройди по рядам воинов и скажи: так будет с каждым, кто ослушается, кто вздумает своевольничать... И посмотри, кого там можно поставить предводителем отряда. — И надо же было, что первый оказался своим, — тихо сетовала Вайке. — Если спускать — повторится все, что было под Бевериной! — громко ответил Велло. Затем он вложил окровавленный меч в ножны и велел скакать дальше. Когда дорога снова стала шире и лес, стеной стоявший вдоль дороги, отступил, они увидели дома и копошившихся поблизости людей. Промчаться мимо незамеченными было невозможно. Велло отобрал из первого отряда десять человек, приказал им скакать в селение и поступить там, как должно — взять коней, оружие, а также все то, что легко можно унести в мошне. Но не поджигать и не брать пленных. Когда все будет сделано — догонять остальных. Всадники поскакали вдоль улицы, заворачивая во дворы. Вскоре оттуда послышался женский визг, возгласы мужчин и сердитый лай собак. Дружина двинулась дальше. Теперь уже в каждое селение, в каждую усадьбу сворачивал небольшой отряд. Местность стала холмистой, все чаще попадались отдельные усадьбы и целые деревни. Воины алчно смотрели в их сторону. Но только немногим разрешалось отправляться грабить. Солнце поднялось над лесом, половина людей была разослана по деревням, остальные жаловались на усталость. — И ты устала? — спросил Велло, глядя через плечо на Вайке. — Устала, но не стоит обращать на это внимания, — слабым голосом ответила девушка. — Может, хочешь завернуть в какую-нибудь деревню пограбить? — пошутил старейшина. — Нет, нет! Только не это! — испугалась Вайке. Ассо ехал рядом со старейшиной. Рот его был, как всегда, чуть приоткрыт, лицо замкнутое. Велло украдкой поглядывал на него; ему вспомнилась Лемби. Она, без сомнения, осуждает этот поход и молится сейчас за тех, кого разят мечом, забрасывают копьями, кто стонет от ран и истекает кровью.Так думал Велло и, как бы оправдываясь, произнес про себя: "Как будто мне все это по душе! Как будто я жаждал крови женщин и детей!" — Как ты думаешь, далеко еще до Асти? — немного погодя обратился он к Ассо, чтобы прервать тягостное молчание. — Кажется, недалеко, — сухо ответил сельский старейшина. — Отдохнем? — Не являться же туда усталыми — кто знает, может быть, еще встретим сопротивление, — заметил Ассо. — Хорошо, тогда свернем в ближайший лес, — ответил Велло. Сам он не чувствовал ни усталости, ни голода, ни жажды, он как будто вовсе не ощущал своего тела и был словно пущенная в полет стрела, которая летит, пока есть размах, чтобы затем навсегда остановиться. Но лошадь под ним взмокла и тяжело дышала. В лесу люди сошли с коней, пустили их на траву пастись, а сами легли. Послышался тихий ропот, жалобы на голод. — Почему не разрешают раздобыгь в деревне еду?! Как будто ее не нашлось бы там!.. Кое-кто грыз захваченные с собой сухари, кое-кто собирал у дороги щавель. Велло приказал Кюйвитсу обойти ряды и сказать воинам: до Асти уже недалеко, там отдохнут как следует, там найдется и чем подкрепиться. Вернулась часть конных отрядов, посланных в селения; они доставили лошадей, оружие и несколько пленных. Стало известно, что Асти совсем близко, за пригорками, у подножья холма; а на вершине холма — крепость. Велло и сам знал это — еще с того времени, когда ходили на Беверину. Знал и Ассо. Пересчитали людей — на месте было примерно сто всадников. — Не слишком ли много людей раскидали мы туда-сюда, — заметил Ассо.Велло решил, что сейчас самый подходящий момент объяснить свой поступок. — Не убей я этого одного для острастки — могло случиться, что отправились бы в Асти с десятком человек. Поскакали дальше. — Держись сзади, там будет потише, — шепнул он Вайке, когда внезапно показались крыши домов и обнесенная высоким частоколом крепость на вершине холма. Отряд воинов промчался через селение, чтобы закрыть дорогу. Затем Велло подал знак трубачам. Раздались звуки — протяжные, зловещие, затем отрывистые, устрашающие и снова протяжные. Воины ударили в деревянные и металлические щиты и стали издавать дикие вопли, подбадривая друг друга. Потерявших голову, мечущихся взад-вперед по улицам людей тут же закалывали. Стоило кому-нибудь выскочить за порог дома, как его убивали. Когда улицы опустели, воины Велло стали врываться в дома, разя всех, кто попадался под руку, брать пленных было некогда, да и приказа такого не было. Велло первый со своим отрядом достиг ворот крепости. Мост через ров был цел, но ворота заперты. Тогда повернули назад и вскоре возвратились с бревнами; часть людей стала таранить ворота, другие рубили их топорами, третьи, укрывшись за частоколом, пытались отогнать стражу, охранявшую вал, швыряли в нее камни и копья, пускали стрелы. Ворота поддались; небольшой отряд стражников умолял о пощаде. Старейшина велел, чтоб они показали тайники, где хранится оружие и имущество, после чего их привязали друг к другу веревкой и вывели из крепости. Велло решил забрать их с собой, в Мягисте. Вскоре снова затрубила труба, и люди, ведя под уздцы коней, начали стекаться на луг за крепостью — у всех под мышкой оружие, одежда, хлеб, шлемы, печеное мясо. Кое-кто привязал тяжелый узел к спине коня, иные вели за собой двух лошадей, а иные — корову или бычка. Мужчины несли сосуды с медом, и по их веселому гомону нетрудно было догадаться, что они уже успели его отведать. Велло думал остановиться здесь лишьна короткий отдых. Но, увидев, как отлетают головы у телок и бычков, как тут и там вздымаются уже огни костров, сердито заворчал, потом махнул рукой и сел в отдалении, прислонившись к стволу ели. Отдых был необходим людям, да и ему самому, но уместно ли, чтобы каждой удаче сопутствовало празднество! Или люди считают захват этой маленькой крепости уже победой?! К старейшине приблизился кареглазый воин. Щеки его пылали, пряди сбившихся черных волос спадали на уши; в руках он держал связку копий. — Ты, Вайке? — радостно удивился Велло. — Ну, как, все в порядке? — Копье, которое я метнула через частокол, угодило одному прямо в шею! — воинственно и немного хвастливо сказала девушка. — Обычно ты не решаешься глядеть даже на барашка, когда его режут, — заметил Велло. — Барашек — это другое дело! А враги, их я готова разить стрелой или копьем всех подряд! — не унималась девушка. Она была теперь не той, что дома. Глаза ее глядели смело, мускулы лица были напряжены, в уголках рта — глубокие ямочки, алые губы крепко сжаты. Внезапно ее взгляд упал на руку старейшины, и она в испуге воскликнула: — Ты ранен! — С чего ты взяла? А, это пустяковая царапина! .. Очевидно, сам задел нечаянно, — ответил Велло и вытер о мох окровавленную кисть руки. Тихий ветер донес до них запах подгорелого мяса, гомон и песни. Пришел улыбающийся Кюйвитс и принес кувшин меду. — Сразу словно легче жить и дышать стало, — сказал он и протянул кувшин старейшине. — Как так — легче?.. — переспросил Велло. — Да потому, что была битва!— Какая это битва! — заметил Велло. — Для начала достаточно и такой. Потом попробуем, сильна ли Беверина. А затем отправимся под Вынну! — ответил Кюйвитс. — До Вынну еще порядочно! — молвил старейшина, втайне радуясь, что люди хотят идти дальше.
XVII
К полудню вернулось несколько отрядов всадников, грабивших селения; они доставили множество лошадей, оружие, одежду, серебро и съестное. Еще с утра под Беверину был послан головной отряд, и теперь конница медленно двигалась следом. Беверина напомнила Велло о проигранных битвах, беспорядочном бегстве. Он не хотел, чтобы это повторилось. "На этот раз надо выиграть, — сказал себе Велло, — чтобы черноризники не распространяли больше пустой болтовни, будто мы отступили из-за их красивой песни. Пусть себе поют, поглядим, помешает ли это нам метнуть копье или кинуть топор!" Ни он, ни остальные не знали, радоваться им или нет, когда под вечер прискакали гонцы из головного отряда и сообщили: мост через Юмеру цел, Беверина покинута, крепость и ее окрестности пусты! — Завлекают нас дальше, — высказал подозрение Ассо. Велло отдал распоряжение передовому отряду скакать к мосту через Койву, сам же, переправившись с дружиной через Юмеру, сделал привал в лесу. Неподалеку громко заговорили, очевидно намеренно, чтобы слышал старейшина: — Упорхнула птичка — не к чему и гнаться за ней! — Добычи и так достаточно! На обратном пути еще прихватим! — В селениях вдоль дороги ржут лошади и мычат коровы — иди, бери и гони домой! К чему нам двигаться дальше?! — Во дворах румяные девушки. Едва ли за Бевериной они лучше. Велло молча выслушал эти разговоры, посоветовался с Ассо и — уступил. Он велел разделить людей на отряды и разрешил им отправиться в селения. На севере пусть пройдут все земли до озера Асти, на западе — до границы Идумеи, на востоке и юге — до Койвы. Пусть поступают с врагом, как положено, пусть берут в добычу все, что может пригодиться, и пусть приводят коней, приносят оружие, пригоняют стада. Но послезавтра к обеду все должны быть на месте. И пусть не вздумает кто-либо бежать с добычей домой — живым через Сяде он не переправится! Велло оставил при себе всего-навсего полсотни верных всадников, ожидая, что с севера вскоре прибудет пехота. Он понимал, что большинство людей относятся к нему недоверчиво и даже враждебно. От отца он слышал, что дружина и старейшина — одна плоть и душа. А эти здесь?!.. Или он сам еще слишком молод, чтобы быть старейшиной?! А может, все дело в том, что люди эти — неизвестно кто, неизвестно откуда и друг друга не знают? Он больше не решался спрашивать совета у Ассо, старый сельский старейшина тоже молчал и держался замкнуто. Может, он втайне ждет провала всей затеи, чтобы подтвердились слова дочери: не следует начинать войну с крещеными! Но ведь Ассо пошел по своему желанию, его никто не принуждал! Велло отогнал все сомнения и крикнул находившемуся поблизости Кюйвитсу: — Есть хочется! Скоро ли? Кюйвитс ответил, что костры разведены и жирные окорока уже пекутся. Но если старейшина голоден, пусть прикажет принести себе что-либо из захваченного — там есть большие куски вяленого мяса и много хлеба. — Поедим уж вместе свежего! — сказал Велло, которому была по душе беззаботная воинственность Кюйвитса. Прибыли гонцы с Койвы, принесли весть: мост сломан, врага за рекой не видать. Велло тотчас же отправил туда большой отряд под предводительством Кюйвитса и приказал немедленно починить мост. Из дальних селений вернулись отряды всадников с большой добычей. Это подняло настроение дружины. Кроме того, всадники сообщили, что пехота вышла на большую дорогу и под водительством Оття движется мимо Аутине в сторону Юмеры. Огромные стада, угнанные из селений, и другое добро отправлены за Сяде. Это известие еще больше ободрило людей. Галдеж, пение и пляски продолжались далеко за полночь. Горели костры, на остриях копий жарились огромные куски мяса. На следующий день к обеду подоспела большая часть пехоты; впереди на коне ехал Отть. Их встретили ликующими возгласами. Отряды пехотинцев все время прибывали, и перед заходом солнца Кахро привел последних. Половина людей была на конях, захваченных в селениях, однако вперед пеших никто не вырывался — верхом ехали поочередно. Прибыли еще пешие и конные, опоздавшие на сбор в Мягисте. Отть с победоносным видом рассказывал, сколько скота переправлено через Сяде в Мягисте, сколько тяжелых тюков с добычей нагружено на быков. Стали возвращаться с добычей и отряды всадников, посланные в селения накануне; к полуночи второго дня вернулись все; кое-кто, правда, был ранен, так как в иных деревнях им оказали сопротивление. Только люди прилегли отдохнуть, как с Койвы прискакали гонцы и сообщили, что за рекой появилась вражеская конница. Велло хотел сохранить это втайне и посоветоваться с Ассо, но в лагере уже распространился слух: большое войско врага переправляется через реку. — Чего там — поработали, попировали, пора и по домам, — послышались голоса. — Не то латгал еще наступит нам на пятки! — Не иначе, как с рыцарями явится! — За Сяде надежнее, чем на берегу Юмеры! Так рассуждали люди, и Велло не стал успокаивать их. О том, чтоб передохнуть, не могло быть и речи. Велло сидел один, в стороне, прислонившись спиной к стволу дерева. Он знал, что множество глаз следит сейчас за ним, что люди ждут его слова. Он знал, что может решить так или иначе. И должен решить — ведь это он повел дружину в военный поход, во вражескую землю, навстречу опасностям. Конечно, можно отправиться домой, но тогда просто одним разбойничьим набегом станет больше, от и все. И что скажут Лембиту, Мээме и другие старейшины Сакалы. Посмеются злорадно: старейшина Мягисте решил, мол, жить грабежами! Видно, добро, захваченное у Кямби, уже кончилось, вот и отправился в Латгалию за добавкой! Не нужно пахать, согнувшись в три погибели, не нужно проливать пот на пожоге. Прихрамывая, с серьезным выражением лица, подошел Отть. Он пошевелил губами, словно собирался сказать что-то, огляделся, будто искал кого- то, и, убедившись, что никого поблизости нет, равнодушно произнес: — Юмера небольшая река. Берет начало, кажется, в лесах Метсеполе, пересекает, изгибаясь, большую дорогу и впадает неподалеку от границы Росолы в Койву. Но это неважно — велика река или мала. Главное, чтоб не оставила по себе плохого воспоминания. Койва — вот это уже большая река. Не каждый старейшина поведет за нее дружину. А если и поведет, то целой обратно не приведет. Велло медленно поднялся, подошел к Оттю, посмотрел ему в глаза, тяжело хлопнул по плечу и решительно произнес: — Я поведу дружину через Койву!Отть глядел в сторону и молчал. Однако не в силах был скрыть радости на своем лице. — Это решать старейшине, — молвил он поучительно, — на то и выбирают старейшину, чтоб он сказал свое слово там, где дело серьезное. Старейшина не для того, чтобы своей рукой убивать врагов. Его дело сказать: отсюда отправимся дальше, а отсюда — назад, здесь остановимся, а здесь будем биться! Вот это дело старейшины. — У меня около пятисот человек на конях и более двухсот пеших, — сказал Велло. — С такой большой дружиной не годится удирать, тем более, что врага-то еще и не видать, — согласился Отть. Велло послал еще сотню хорошо вооруженных людей к берегам Койвы охранять дорогу и только тогда разрешил дружине устраиваться на отдых. Утром подошло еще с полсотни конных воинов, в основном из северной Сакалы: из Лехолы, Нурмекунде, Мыху и Ярвы. Прибыли всадники с Койвы — они доставили трех человек, взятых в плен за рекой. Мост снова в порядке, и враг отошел за леса, сообщили они. Кюйвитс ожидает дружину, чтобы отправляться под Вынну. Пленные оказались ливами. К Койве они пришли из Вынну вместе со всеми. В Вынну осталось несколько сот воинов: венеды, латгалы, ливы, несколько десятков немцев и восемь рыцарей с фогтом Бертольдом. Тотчас же затрубили трубы, и когда все собрались, старейшина поднялся на возвышение и коротко сообщил: враг отступил от Койвы, мост починен. Предстоит поход через Койву, под Вынну, и без промедления! Тот, кто оробел, еще не увидав врага, пусть идет налево, тот же, кому битва не страшна, — направо. Не подобает возвращаться домой, подобно грабителям, с одной только добычей, не сразившись с врагом! Киур большими шагами быстро отошел вправо и оглянулся. С воинственным шумом за ним спешили люди, кидая через плечо взгляды назад: кто, мол, идет следом, а кто — налево. Тогда Киур вышел на середину поля и остановился в угрожающей позе, с мечом в руке. Кое-кто пугливо крался мимо него налево. Иные вначале шли направо, а затем, словно заблудившись, поворачивали налево. Там набралось с полсотни человек. Справа их осыпали насмешками, издевательствами и даже угрожали копьями. Когда наконец дружина разделилась, Киур желчно воскликнул: — Больше трусов нет?.. Больше нет таких, кто пришел сюда лишь хватать добычу? Жечь деревни?.. Нет?.. Пусть тогда говорит старейшина! Киур сердито отошел направо и со звоном вложил в ножны свой легкий меч. Велло был в серой одежде, в сером кожаном шлеме с железным ободком и гребнем; сбоку, на коричневом кожаном поясе с бронзовой пряжкой, висел короткий меч. В его худом лице и в серых глазах было столько ярости и твердости, что воины, стоявшие справа, не могли скрыть своей радости и еще прежде, чем старейшина открыл рот, закричали: — Чего там думать! Вперед! Через Койву! К Вяйне! Мы хотим биться! Велло бросил взгляд налево и спокойно сказал: — Можете отправляться домой. Каждый к себе. Но прежде, чем вы пойдете, вам остригут волосы, как рабам. В вас рабская кровь. Оружие и добычу у вас отберут. Домой вам придется идти пешком, вас проводит отряд всадников. Остальные пойдут через Койву на Вынну. И вот многие из тех, кто стоял слева, быстро подошли к старейшине, поклонились ему и попросили позволения следовать вместе с дружиной на юг. Их, мол, подстрекали, но они больше и слушать не желают этих бунтарей. Вскоре все, кто стоял слева, подошли к старейшине и попросили разрешения идти вместе с дружиной. Каждого такого воина Велло распорядился поставить рядом с воином из Мягисте или с кем-либо другим, кто был похрабрее. Сборы потребовали времени. Лишь в полдень, подкрепившись, смогли тронуться в путь. До темноты достигли Койвы. Кюйвитс с отрядом стоял в дозоре на другой стороне реки. Перейдя через мост, дружина расположилась на отдых. Никто громко не разговаривал, все подозрительно смотрели на юг, в сторону леса. Все помнили: позади — широкая река, кругом — вражеская земля. Лучше других помнил об этом Велло. Только теперь, приведя дружину вглубь вражеской земли, он впервые в жизни почувствовал, чго такое ответственность. Поход против Кямби — игра по сравнению с этим походом. Ведь Саарде не было вражеской землей, да и под его, Велло, началом едва ли насчитывалась тогда сотня воинов. Но одновременно он испытывал сейчас и гордость: он ведет дружину на врага, он отомстит за грабеж Сакалы. Это его военный поход! Не бывает битв без угрозы поражения. Невозможно сражаться, не потеряв ни одного воина. И уж если он зашел так далеко, то пойдет и дальше. Из головного отряда прибыл с вестью гонец: в Вынну все тихо, ворота закрыты. Велло обошел все отряды, осведомился, достаточно ли у воинов оружия, съестного, пошутил с ними и посоветовал до полуночи подремать: труба, мол, разбудит их, когда придет пора вставать и отправляться. Он прошел вокруг лагеря, удостоверился, на месте ли дозорные, а затем заглянул к Оттю и Кахро, подкрепился вместе с ними, выпил меду, побеседовал, однако о том, что ожидает их, говорить не стал и вскоре лег. Но сон не шел. Слишком важным был для Велло предстоящий поход, чтобы он мог хоть на мгновение забыть о нем. Едва минула полночь, как Велло приказал трубить в трубу. Дружина двинулась на Вынну.XVIII
Кровавый диск солнца, огромный и тусклый, поднимался над лесами Росолы, когда сквозь деревья показался высокий крепостной вал, обнесенный частоколом. Из головного отряда сообщили, что с юга, по Рижской дороге, приближаются всадники во главе с несколькими рыцарями. Велло приказал сразу же скакать им навстречу и атаковать их, а сам стал давать указания, как не мешкая окружить со всех сторон крепость и как обороняться, если враги выскочат оттуда. Вскоре принесли весть, что отряд, который видели на Рижской дороге, без больших потерь достиг крепости и укрылся в ней. Многие из воинов Велло, несмотря на предостережения, направили коней к большому рву близ вала и стали метать копья в стражу, выглядывавшую из-за частокола. Оттуда тоже полетели копья и стрелы; кое-кого из осаждавших ранило, и их отнесли в сторону. Кахро принялся останавливать им кровь, а Вайке — перевязывать раны. Отступая, люди мрачно глядели на вал, кое-где темный, кое-где поросший травой, и на серый частокол. Вся крепость походила на огромный толстый пень, глубоко сидящий корнями в земле. Велло отдал строгий приказ отойти подальше и направил сильный отряд на Рижскую дорогу, в сторону Сийгевальда. Послали дозоры и на Псковскую дорогу, чтобы ни один человек не смог незаметно пробраться к крепости. Двух разведчиков послали под Ригу, на берег Вяйны, и велели разузнать, что предприняли курши и земгалы. Несколько отрядов отправились в окрестные деревни — им надлежало добыть продовольствие и привести скот, а также захватить пленных, будь то мужчины или женщины — работники здесь понадобятся. Глядя на крепость, Велло чувствовал свою беспомощность. Ни пешком, ни на конях не перейти широкий и глубокий ров, не подняться на вал, не перескочить через частокол! Не поможет также, если перекидать туда все свои копья, топоры и дубины! Враг надежно укрыт, а когда у осаждающих, кроме щита и меча, ничего не останется, он выскочит и... Может быть, было безумием идти за Койву? Но где-то ведь надо встретиться с врагом! С довольным видом приковылял Отть и самонадеянно произнес: — Что ж, поступим с ними так же, как они поступили с укреплениями земгалов на берегу Вяйны... Нам эта работа знакома! И он начал излагать свой план. Вскоре Кахро разнес распоряжения старейшины по отрядам. Часть войска должна была быть начеку в полной боевой готовности, чтобы оказать врагу сопротивление и нанести ему удар в случае, если он вырвется из крепости. Воинов послабее и тех, кто не умел должным образом обращаться с оружием, отправили в лес. Уже к полудню крепость была обложена плотным кольцом ветвистых деревьев. Воины могли укрыться за ними, врагу же не так-то просто было бы пробраться сквозь густые ветви. За первым таким кольцом вскоре появилось еще одно. Через оба кольца пролегали узенькие извилистые дорожки, по которым нетрудно было приблизиться ко рву. А ступит на дорожку враг — его с двух сторон закидают копьями и стрелами. Так на первых порах была ослаблена опасность атаки из крепости, и Велло вздохнул спокойнее: от дружины удар он отвел. Вскоре из ближайших селений привели коров, овец и даже лошадей. Появление там эстонцев было неожиданным. Здесь, за Койвой, были уверены, что ни сакаласцы, да и никто другой из Игаунии, на которую в позапрошлом году нагнали страху, не осмелятся вторгнуться в эти земли. Запылали огни костров, и люди стали беззаботно приготовлять пищу. Из селений привели также пленных мужчин и женщин. Их сразу же заставили работать: рубить в лесу хворост, чтобы заполнить ров и поджечь ворота и частокол. Наконец к обеду подошла часть пехоты и всадников, их встретили ликующими возгласами. Осажденные должны были слышать и видеть, что прибыло подкрепление и все настроены воинственно. По совету Оття Велло приказал выкопать в лесу молодые раскидистые ели, причем с корнями, чтобы можно было поставить деревья стоймя. Ветви елей многократно переплели между собой. Даже брошенное копье не могло проникнуть сквозь эту густую стену. С помощью пленных деревья перенесли через открытое место и поставили на краю рва. За ними спрятались меткие стрелки, и если кто-либо из осажденных высовывал из-за частокола голову, в него сразу же посылалась стрела с острым наконечником. Теперь, с близкого расстояния, и копья метать через частокол стало сподручнее. А из лесу все везли и везли хворост, заполняя им широкий ров. Люди плели большие щиты из ивовых прутьев — под прикрытием такого щита группа воинов могла смело приблизиться к крепости. Отть с помощью нескольких десятков воинов стал сразу же строить осадную башню. Он не раз видел такие башни на берегах Вяйны и сам метал с них во врага копья и топоры. На полозьях с загнутыми концами скрепили шипами четыре бревна — как для основания стены. Затем поставили четыре бревна стоймя и надежно прикрепили их к нижним. После чего к бревнам, поставленным стоймя, стали прикреплять поперечины и настилать на них полы. — Уж это-то нагонит на них страху, — ухмылялся Отть. — Увидят, что и мы умеем вести осаду! Разбив людей на группы, стали проводить учения — как по сигналу, укрывшись за срубленными деревьями, кидать в неприятеля копья, дубины и топоры; как по сигналу пробиваться затем через ветви к крепости, чтобы схватиться с врагом на близком расстоянии. Учились, как обороняться от пики рыцаря, как метнуть ему в голову дубину или перебить ноги коню. Сколько раз обдумывал Велло, где и как принять на себя удар врага, если он вырвется из крепости: помчаться ли ему навстречу, поближе к воротам, где сваленные ветвистые деревья задержат продвижение врага, начать там схватку и продолжить ее на открытом месте, отступив лишь в крайнем случае — если возникнет опасность быть смятыми или если потери будут слишком велики. Или же дать врагу вплотную приблизиться к защитной стене из деревьев и закидать его оттуда оружием, нанести ему урон, утомить, измотать и потом выскочить из всех тайных укрытий, отрезать путь к отступлению в крепость и уничтожить всех, кто оттуда вышел. Не раз советовался он об этом с Ассо, Оттем и Киуром. Киур был за то, чтоб ринуться навстречу врагу, Отть и Ассо настойчиво возражали. — Люди, которые пришли от сохи или с пожоги, завидев рыцаря, потеряют хладнокровие и побегут! — заметил Отть. — А если и станут биться врукопашную — все равно железной брони не пробить. В первый день работали до позднего вечера. Поужинав, загнали пленных за ограду из жердей и поставили стражу. Несколько сот воинов притаились за деревьями, которыми была обнесена крепость, и стали следить за воротами, чтобы сразу же затрубить в трубу, если они вдруг откроются. Весь следующий день тоже прошел в напряженной работе. Ров в шести местах, и кроме того перед воротами, заполнили хворостом. Кое-где кучи хвороста достигали частокола. Казалось, сами силы небесные помогали Велло. Уже несколько дней стояла сухая погода, сквозь марево светило солнце, и каждый вечер огромный кровавый диск его опускался за леса Идумеи, С юго-востока струился влажный зной; с деревьев, когда их рубили, на землю падали зеленые увядшие листья. Огонь из подожженных селений перебросился на леса, и они начали гореть. Облака дыма закрывали небо над Росолой, медленно плывя через Койву в сторону Асти. — Вот если б удалось поджечь это змеиное гнездо! — говорили воины, глядя на крепость. — У прошлогодних грабителей загорелся бы пушок на голове, а у рыцарей добела накалились бы их железные кольчуги. Из копен, что стояли поодаль, принесли сено, в лесу надергали моху, набрали сухих сучьев, одним словом, притащили все, что легко загоралось, и сделали из этого пучки, узлы, вязанки. — Сперва напугаем, затем уничтожим! — посоветовал Отть, и Велло принял этот совет. Один из пленных рассказал, что почти все строения в крепости — деревянные и некоторые из них расположены сразу же за частоколом. Поджечь бы эти строения и малость покоптить врага! А когда взовьются языки пламени — перебраться через частокол и крикнуть крещеным: "Слава Иисусу Христу!" Так и поступили. Дымящиеся пучки, узлы, вязанки, описав высокую дугу, полетели через частокол. Тут и там начал подниматься дым. Он то исчезал, то снова появлялся, но уже в другом месте, и полз кверху. А воины Велло продолжали кидать горящие пучки. На третий день в полдень, когда тень самая короткая, дозорные, следившие за крепостью, заметили за частоколом оживленное движение. Вскоре со скрипом открылись тяжелые восточные ворота и люди стали раскидывать наваленные там вороха хворосту. В первый момент дозорные так растерялись, что стали звать на помощь. Затем опомнились и затрубили в трубу; сигнал повторили все отряды вокруг крепости. И вот уже в неприятеля, открывшеговорота, полетели копья, стрелы, дубины и топоры. Однако врагу удалось быстро раскидать хворост, и из ворот потоком хлынули сперва пешие, держа перед собой щиты, затем оруженосцы верхами, а за ними на рослых конях рыцари в белых плащах с красными крестами на плечах, в блестящих шлемах с султанами; в руках они держали щит и пику, у пояса висел меч. Никто из осаждавших в первую минуту не знал — ринуться ли из укрытия навстречу врагу или подстерегать его здесь, в густых ветвях заграждения, заставить искать тайные тропы. Без сомнения, на этих тропах, в плотном кольце деревьев, легче всего разить врагов. А что, если они устремятся толпой, пробьют себе дорогу и опрокинут заграждения? Услышав издали звук трубы, Велло без щита и копья, с одним мечом у пояса, поспешил туда. Он видел, как враг лавиной катился из ворот, и, подбежав к трубачу, приказал ему изо всех сил трубить сигнал: вон из укрытия, в бой! Сигнал повторили вокруг крепости. Люди по тайным тропам кинулись сквозь заграждения, на ходу кидая в неприятеля копья, топоры и дубины. А враги, сметая с пути осаждавших, рвались к заграждениям, искали тропы, пытались оттащить в сторону лежавшие на земле деревья, чтобы пробить себе дорогу. Велло, выхватив у кого-то щит и топор, с несколькими воинами промчался по тайной тропе и ринулся на вражеское крыло. Столкнувшись с пешими, он заставил их отступить. Всадникам же зашел в тыл, но сразу увидел, что оставаться здесь невыгодно: с вала, через частокол, в него и в его людей летели копья, пики и камни. Оттеснив пеших и проскочив за спинами у рыцарей, он вернулся со своими воинами в укрытие. Здесь он добрался до трубача, который все еще отчаянно трубил в трубу, зовя людей в бой. Старейшина нагнулся к его уху и велел трубить сигнал к отступлению так громко, как только он сможет, и даже пригрозил ему мечом. Люди уже и так бежали в укрытие. Еще немного, и они отступили бы дальше. Но Велло остановил их. Бегом приближались те, кто работал в лесу. Успокоившись и осмелев, воины спрятались в укрытие и стали оттуда разить врагов, когда те, приблизившись, недостаточно прикрывались щитом. Быть особенно внимательными и экономить стрелы — такой приказ отдал старейшина стрелкам. За одним из пней лежала Вайке, держа на тетиве стрелу. Велло споткнулся о ее ноги и сердито воскликнул: — Что ты здесь делаешь?! — Гляди! — спокойно ответила девушка. Велло присел на корточки, прикрылся щитом и стал следить за полетом стрелы. И в самом деле, описав дугу над заграждением, она вонзилась оруженосцу прямо в шею. — У меня меткий глаз, не ошибусь, — уверенно молвила девушка и натянула тетиву с новой стрелой. Велло поспешил дальше, чтобы подготовить воинов к решительной атаке. Врагов полегло уже немало, поэтому, как только затрубит труба, смелые ринутся вперед, чтобы добить тех, кто еще остался. Кое-кто из оруженосцев сгоряча направлял своего коня на заграждение с намерением пробраться сквозь него. Но конь запутывался, а сам воин падал, сраженный оружием. Нескольким пешим удалось обнаружить тайную тропу, и они устремились вперед. Но и они свалились замертво, сбитые ударом дубины или топора. Коню, на котором восседал рыцарь, ударом булавы переломили передние ноги. Огромное животное встало на дыбы, затем опустилось на колени и рухнуло на бок. В этот момент рыцарь получил удар дубиной по голове, выронил оружие и упал. Оруженосцы подхватили своего господина, вытащили его из-под лошади и, прикрыв щитом, понесли к воротам. Другие два рыцаря медленно следовали за ним. Велло приказал трубить атаку и бить в щиты. Но враги, толкая друг друга и перепрыгивая через кучи хвороста, уже бежали к воротам. Атакующие бросились вдогонку и многих ранили копьями, однако вынуждены были остановиться — сверху, из-за частокола, на них посыпались стрелы и камни. У вторых ворот бились врукопашную. Отть и Киур не отступили даже тогда, когда раздался сигнал. Одному из рыцарей топор Оття так крепко угодил в бок, что он уже не в силах был держаться в седле. Оруженосцы оттащили его в крепость, туда же отвели и коня. Осмелев, Киур и Отть атаковали второго рыцаря. Благоразумно держась на таком расстоянии, чтобы вражеская пика не коснулась их, они кидали в него копья и дубины. Мало-помалу рыцарь стал отступать; отступили и те, кто окружал его, оставив на поле боя много раненых. У третьих ворот, где находился лишь один рыцарь со слугами и венедами, Кюйвитс, без чьей-либо помощи, убил несколько человек, а оставшихся вынудил вскоре отступить за ворота. Храбрость Кюйвитса настолько воодушевила атакующих, что они ринулись к воротам и, прикрывшись щитами, начали рубить их. Наконец и здесь услышали сигнал к отходу. Люди поспешили в укрытие, а после того как перевели дух, отправились, прикрываясь большими щитами, подбирать раненых. Ик было несколько десятков и кроме того восемь убитых, которых тоже унесли. Врагов же полегло около полусотни. Кое-кого из раненых ливов приволокли в лагерь. От них узнали, что в крепости не хватает оружия, что воинов там, когда была предпринята вылазка, насчитывалось более двухсот, а рыцарей — восемь. Ждут подкрепления из Риги. Огонь нанес крепости большой урон. С поля собрали все оружие, вплоть до наконечников стрел. О ранее взятых пленных в суматохе позабыли, и они сбежали. Расставив дозорных, всех остальных отпустили подкрепиться и передохнуть. Раненых поручили заботам Кахро и Вайке. Павших в бою решили сжечь ночью. Отть и Киур ели с жадностью, они сожалели лишь о том что рыцарям удалось спастись бегством, и уговаривали Велло не медлить с атакой. Велло ничего не ответил на это; даже не притронувшись к еде, он поднялся и дважды обошел вокруг крепости, внимательно глядя на ворота и вал. После того как дружина отдохнула, Велло приказал позвать к себе Кюйвитса. Разнесся слух, будто этот молодой сельский старейшина собственноручно уничтожил восемь врагов. Кюйвитс немного прихрамывал, но держался подтянуто. — Что с твоей ногой? — спросил старейшина. — Не доглядел! Сам виноват! Вражеское копье поцарапало немного. Пустое! Что прикажет старейшина? Велло стал говорить. Кюйвитс слушал, стоя навытяжку, затем повернулся кругом и пошел. Вскоре он уже мчался с несколькими десятками всадников по большой Рижской дороге на юг. Ему надлежало встретить войско противника, двигавшееся из Риги. Не ввязываясь в бой с врагом, отряд Кюйвитса должен был лишь преградить ему дорогу — сделать завалы из ветвистых деревьев в нескольких местах, там, где сбоку пройти трудно из-за болотистой почвы либо густо разросшегося кустарника.XIX
Дружина получила приказ готовиться к атаке, и лагерь пришел в движение. Когда башня высотою в четыре человеческих роста была сооружена и покрыта сверху ветвями, с полсотни воинов, прикрывшись большими щитами, быстро поволокли ее по широкой дороге, проложенной меж заграждений, прямо ко рву. Из разведенных ночью костров люди брали тлеющие угли и совали их в пучки сена, в мох, вязанки хвороста и сучьев. Когда они запылали, затрубила труба. С горящими пучками и связками, выставив перед собой щиты, воины побежали по открытому месту к заполненному хворостом рву; часть людей быстро взобралась по лестнице на верхний этаж башни, под крышу, и стала оттуда швырять пылающие пучки через частокол в крепость. Остальные, укрывшись за деревьями, стоймя поставленными на краю рва, посылали в стражей, стоило тем только высунуть голову, стрелы и копья. Кое-кто собирал тлеющие в стороне головешки и тоже кидал их через частокол. С двух верхних площадок башни в неприятеля бросали копья и пускали стрелы; многих ранили. С другой, подветренной стороны, где ров в нескольких местах тоже был заполнен хворостом, люди Велло с лестницами и шестами, приблизившись к валу, поставили их стоймя и начали по ним взбираться наверх, прикрываясь щитами. Враги, засевшие в крепости, попробовали было высунуться, но тут из-за деревьев в них полетели стрелы и копья. Многие из осаждающих лезли на вал не для вида, как это было задумано, а страстно желая битвы. Внизу ударяли в щиты, трубили в трубу и кричали. Ветер гнал дым, и он серым облаком оседал над крепостью. Уже и за частоколом начали подниматься клубы дыма. Люди Велло с торжествующими криками все яростнее кидали оружие в каждого, кто высовывал голову. Тут и там ярко пылали кучи хвороста и огненные языки лизали частокол. Перед воротами горел вновь поднесенный туда хворост, и огонь легко перекинулся на сухие доски ворот. Солнце опустилось уже довольно низко. Велло стоял в стороне, на небольшом пригорке, и глядел на крепость. Киур считал, что вскоре можно начинать решающую атаку. Но Отть, не позабывшим еще битв на берегах Вяйны, советовал подождать, пока огонь не сделает своего дела. Велло молчал. Он подсчитывал, сколько погибло бы людей, реши он перебираться через вал и ломать остатки ворот. И все же поход на юг манили Возьмут они Вынну, можно будет вскоре пойти на Сийгевальд, а оттуда к берегам Вяйны, в обход Риги. Да и в том случае, если неприятельское войско из Риги приближается, быстрый захват крепости был бы весьма на руку. Он отдал приказ подготовить все для атаки. Она должна была начаться с нескольких сторон одновременно, причем с одной стороны предстояло нанести решающий удар. Каждый знал, что ему делать, каждый понимал важность захвата Вынну. Ждали сигнала.***
Солнце еще не зашло, когда из дозорного отряда, посланного на Рижскую дорогу, примчались двое гонцов. Их сразу же отвели к Велло. Они были испуганы и наперебой кричали: — Приближается огромное неприятельское войско... Все на конях!.. Впереди рыцари!.. — Довольно! — прикрикнул на них Велло, и когда юнцы в страхе замолчали, начал подробно расспрашивать их, ни разу не взглянув в сторону Киура и Оття. Гонцы повторили то же самое: движется огромное неприятельское войско, впереди рыцари... Они в четырех-пяти милях отсюда... Кюйвитс преграждает им дорогу... Велло старался держаться спокойно, однако он понимал: взятие Вынну обречено на провал, а заодно и весь этот военный поход. Не хватит сил противостоять войску, засевшему в крепости, и войску из Риги. Хорошо, если еще удастся спасти дружину! Приказав держать язык за зубами, он вновь направил гонцов на юг, чтобы они все время сообщали о продвижении врага. Велло боролся с собой: а что, если все-таки атаковать крепость, овладеть ею и затем пойти навстречу войску? Но в лагере уже распространилась весть: приближается несметное войско рыцарей! На лицах воинов можно было прочесть беспокойство и даже страх. Внезапно старейшина повернулся к Оттю. — Что скажешь ты? — Нельзя оставлять дружину между двух огней, — хмуро ответил Отть. Киур смотрел в сторону, молчал и тихонько посвистывал. Велло принялся давать распоряжения. Обоз с ранеными и добычей отправить в сопровождении сотни пеших домой — лошадей для всех так и так не хватит. Кто из раненых может держаться в седле, тех посадить верхом, остальных положить на ветви молодой березы — пусть кони тащат. Все награбленное добро и скот захватить с собой. Двигаться надо быстро! И пусть не останавливаются, пока не переберутся через Койву, неподалеку от Беверины. Там можно передохнуть, а затем снова — вперед. Всем остальным тоже подготовиться к отходу. Люди испуганно и мрачно выполняли приказы, но мрачнее всех был сам Велло. Ведь это он побудил людей преследовать врага и биться с ним! Он задумал взять Вынну... Он понапрасну завел людей так далеко! Теперь ему приходится бежать, возвращаться восвояси! Он считал себя виновным в том, что осада не удалась, что поход останется незавершенным, и старался даже не глядеть больше в сторону дымящейся крепости. Приказав зорко следить за воротами, Велло с несколькими слугами поскакал по Рижской дороге к югу. Проехав несколько миль, он встретил гонца из отряда Кюйвитса. Тот сообщил, что приближается много рыцарей и полтысячи всадников, а может быть, и того больше. Кюйвитс преградил дорогу в шести местах, там, где объезд затруднен. — Скачи назад и скажи Кюйвитсу: пусть после дует за нами до того, как враг преодолеет три последних заграждения, — распорядился Велло. — Уходим за Койву. Вернувшись назад, под Вынну, старейшина отдал приказ: — За Койву! Все были согласны с этим и стали готовиться к отходу. Пеших воинов отправили вперед, и когда по всем расчетам они должны были уже находиться за peкой, оставшиеся сели на коней и помчались на север. Они подъехали к реке, когда пехота была уже на другом берегу. Всадники тоже переправились через реку, однако ломать мост пока не стали. И лишь после того как подоспел Кюйвитс — около крепости у него произошла небольшая стычка с неприятельским отрядом — и перебрался на другой берег, мост разрушили. Врагу, двигавшемуся со стороны Риги, оставалось убрать с дороги еще три заграждения. Если он поторопится, то после полуночи, пожалуй, доберется до Койвы.Велло сел на коня и, прихватив с собой Кюйвитса, Кахро и Киура, погнал на север, чтобы отыскать подходящее место, где дружина могла бы расположиться на ночь. Такое место они нашли недалеко от Беверины на берегу небольшого озера и вернулись назад за дружиной. На северном берегу реки, в лесу, остался в дозоре отряд всадников, дружина же двинулась дальше и, дойдя до указанного места, расположилась здесь на ночлег. Но Велло не находил себе покоя — его одолевали мысли о неудавшемся походе. Вскочив на коня, он один, без сопровождающих, поскакал на север, к реке Юмере, внимательно оглядывая окрестные леса и поля, тянувшиеся по обе стороны дороги. Он несколько раз слезал с коня и смотрел, густ ли кустарник в лесу. Затем вернулся к дружине. Горели костры, люди готовили себе пищу, ели и вели разговоры лишь о возвращении домой. Но никто особой радости не ощущал. Бились под Вынну, нанесли врагу урон, захватили богатую добычу. Однако крепость не взяли. — Настоящей битвы все-таки не было, — с горечью говорили иные. — Ни битвы, ни победы! — Нечем дома похвалиться! — Стыдно даже возвращаться домой! Велло был мрачен; он не стал отдыхать, а снова сел на коня и поскакал по Сотеклеской дороге, на юг, чтобы побыть наедине с собой. Проехав несколько миль, он заметил вдали двух путников. Он схватился за рукоятку меча, но когда те приблизились, увидел, что это просто-напросто усталые люди, у которых на уме нет ничего дурного. Он стал расспрашивать их и узнал, что они — ливы. Путники были очень рады, что им встретился не латгал и не немец. Вскоре они прониклись к Велло доверием и спросили дорогу на Сакалу. Велло не стал скрывать, что он родом с сакалаской границы, и тогда ливы поведали ему, что идут они из-под Риги; хоть курши, да и все остальные храбро сражались там, однако ничего сделать не смогли. К рыцарям пришла подмога из Холма, и город устоял. Осаждавшие были вынуждены отступить, потеряв много людей и кораблей, и повернули домой. Об этом-то повстречавшиеся Велло ливы и хотели рассказать в Сакале — пусть узнают там, как обстоят дела на берегу Вяйны, и пусть подумают, что предпринять. Велло велел им держать все в тайне и говорить только, что под Ригой, дескать, рыцари, воюя с куршами, понесли большие потери. Затем отвел их в лагерь и поручил заботам Кахро. Сам же под покровом лесного сумрака вновь поскакал к Юмере, чувствуя, как в нем постепенно зреет решение. Мост через Юмеру был цел. Путь к отступлению открыт. С дружиной ничего плохого случится уже не может — мудрому Лембиту и разумным сакаласким старейшинам не удастся позлорадствовать. Нет! Старейшина Мягисте не вернется домой, не сразившись по-настоящему с врагом! Когда, возвращаясь обратно, он снова оглядывал леса по обе стороны дороги, особенно близ Юмеры, а также поля и пепелища, в нем все больше и больше крепло решение, и он повторял про себя слова Оття: "Юмера небольшая река. Но это не важно — велика река или мала. Главное, чтоб о ней не осталось плохого воспоминания". И добавлял, словно давая самому себе клятву: "Главное, чтоб о ней осталось немеркнущее воспоминание". Он вернулся в лагерь, когда уже занималась заря. Костры еще тлели, люди спали, и только дозорные медленно прохаживались взад-вперед. Велло тоже прилег и ненадолго заснул. Проснулся он с восходом солнца, сел на коня в один поскакал в сторону Койвы. На пути ему повстречалось двое гонцов с вестью: враг с большим войском за рекой; чинят мост. Оказывать ли сопротивление? Вернувшись, старейшина направил большой отряд всадников к берегу Койвы, приказав им рубить деревья и устраивать завалы в тех местах, где обойти дорогу трудно, следить за продвижением противника и доносить об этом. Встретив неподалеку от лагеря мрачного Киура, Велло, улыбаясь, сказал: — Хороший нынче день выдался! Киур отвернулся и что-то сердито пробормотал себе под нос. Затем старейшина велел позвать Ассо, Кюйвитса, Кахро и Оття, и все вместе они отправились к Юмере. — Эта река, эти леса, поля, холмы и кустарники мне очень по душе, — сказал старейшина. — Здесь можно неплохо встретить врага, коли он пожалует. С Койвы сообщили, что он чинит там мост. Может, еще сегодня появится. Надо достойно принять его. — Это уже иной разговор, — едва сдерживая радость, молвил Киур. Кюйвитс, предвкушая сражение, тоже воодушевился. — Здесь можно и рыцарей встретить с честью! — воскликнул Отть. — Не говоря уж об остальных. Ассо тоже не возражал. В лесу и в зарослях кустарника они отыскали подходящие места и наметили, где расположить пеших, где всадников и куда поставить на всякий случай запасной отряд. Долго обсуждали каждую подробность. Затем вернулись в лагерь. Впервые за много дней они увидели на небосводе кучевые облака. Солнце стояло уже высоко и пекло нестерпимо; воздух был влажным и душным и действовал расслабляюще; ветерок едва шевелил вершины высоких елей. Велло распорядился построить людей в несколько рядов у края дороги, а сам, взяв в руки меч, поднялся на возвышение. Когда ударили в щиты и все смолкли, он окинул дружину смелым взглядом и заговорил. Он поблагодарил всех за ратный труд. Под Вынну люди показали, что они умеют драться и что даже рыцари им не страшны. Добычи захвачено немало. С такой добычей не стыдно возвращаться домой. Мост через Койву разрушен, путь прегражден, и погони бояться нечего. Мост через Юмеру цел. Дорога домой открыта. Тут старейшина остановился и обвел глазами ряды слева направо. Особой радости он ни на чьем лице не заметил. — Через два, через три дня мы будем дома, — продолжал он. — Мы можем радоваться, что захватили столько добычи. И наши родные тоже. Но на четвертую ночь, когда мы будем спать на своем ложе, во дворе раздастся крик и шум. И прежде чем мы успеем схватить меч или топор, враг проникнет в наш дом и убьет жешцин, детей и нас самих. Он заберет всю нашу добычу и все, что мы накопили тяжелым трудом. Он угонит из наших селений последний скот и сожжет наши жилища, как сделал это полтора года назад. Сейчас он за Койвой, он чинит мост, чтобы преследовать нас. Велло снова остановился, а затем воскликнул уже громче: — Сейчас нам надо выбрать: или отправиться домой, чтобы каждую ночь в страхе ждать врагов, или напасть на них здесь и уничтожить всех до последнего. — Уничтожить здесь!.. Здесь!.. Уничтожить всея до последнего! — закричали воины и, угрожающе подняв оружие, стали бить в щиты. Старейшина вскинул меч и, когда шум стиЯ громко продолжал: — Великий защитник — лес — поможет нам. Mы укроемся под его сенью по обе стороны дороги. И когда враг окажется между нами, в него полетят стрелы, топоры, копья и булавы. Тот, кто уцелеет, будет пронзен мечом! Велло не смог говорить дальше: поднялся такой воинственный крик и люди стали так громко колотить в щиты, что слова его потонули в этом грохоте. Охмелев от радости, Велло снова поднял меч и что было силы воскликнул: — Да будет так! Кто хочет мужественно битьсч, пусть поднимет меч. И пусть это будет клятвой — не опускать оружия до тех пор, пока будет жив хоть один враг! Всеподняли мечи, а у кого их не было — топор, копье, стрелу или нож. Многие не в силах сдержать своей радости, кинулись к старейшине и стали обнимать его, словно брата. Дружина и старейшина были теперь как один человек. Велло отдал приказ выступать, и вскоре дружина уже подошла к реке. Обоз переправили по мосту на другой берег. Кое-кто из пеших с частью скота остался на виду — пусть враг увидит их и подумает, будто они удирают. Потом мост сломали. У берега, за выступом леса, расположился Киур с несколькими десятками воинов; ему надлежало задержать передовой отряд, если тот попытается перейти реку. Из числа пеших отобрали наиболее смелых и наиболее ловких в метании оружия и велели им засесть в лесу, по обе стороны дороги. Этим воинам предстояло атаковать рыцарей, обычно следовавших за передовым отрядом. К югу от прибрежного леса, вдоль дороги, тянулись полоски поля, дальше виднелось сожженное селение, вдоль улиц которого росли деревья и кусты, затем снова шли поля, и снова лес, где пролегала дорога, ведущая от Койвы. Здесь, в зарослях кустарника, по обе стороны дороги засели Отть и Кюйвитс; у каждого — свыше сотни всадников. Неподалеку от них, у самого края дороги, укрылась пехота. Ассо с сильным отрядом всадников расположился в лесу, близ поля: отсюда нетрудно было выскочить и ринуться на помощь тем, кто в ней больше всего нуждался. Договорились о сигналах. Их должна была подавать труба. Только успела дружина занять свои места, как с юга, с берега Койвы, прискакали гонцы и сообщили, что большое неприятельское войско перешло реку и медленно движется к северу: впереди небольшой отряд — очевидно, латгалы, — затем оруженосцы и рыцари, а за ними несметная конница. Велло выслушал это с таким видом, будто ему принесли радостную весть. Он приказал оповестить все отряды о приближении врага и быть наготове. Затем сам обошел отряды и отдал последние распоряжения. Вскоре послышался топот копыт, и четыре вражеских всадника в блестящих шлемах, не глядя по сторонам, промчались к реке. Достигнув ее, они остановились, посмотрели на противоположный берег, на удирающих по дороге людей, затем повернули лошадей и быстро погнали назад сообщить, что путь к Юмере свободен.ХХ
Троекратный протяжный сигнал трубы — сначала впереди, у берега, затем тотчас же сзади, слева и справа, — должен был возвестить начало общей атаки. Однако рыцарей решено было атаковать до того, как затрубит труба, — ударить по ним внезапно, неожиданно, чтобы остальные и не знали об этом и чтобы общая атака застала врага врасплох. Как только Кахро завоет по-волчьи, сразу же справа, из-за деревьев и кустов, на ходу посылая во врага оружие, выскочит Велло со своими людьми. Едва рыцари повернутся лицом к атакующим, как Кахро снова завоет, и тогда в спину врага ударит отряд слева. После того как рыцарям будет нанесен первый удар, раздастся сигнал трубы, и вся дружина с двух сторон устремится на врага. Между воинами поровну распределили метательное оружие, но так как его оказалось в избытке, то оставшиеся топоры и копья прислонили к стволам деревьев, недалеко от дороги, чтобы их легко было взять. Люди приготовились, они сидели или лежали за кустами с оружием в руках и, затаив дыхание, ждали. Велло сидел на стволе упавшего дерева, держа на коленях топор, и настороженно прислушивался. Сквозь шум деревьев ему почудился конский топот. Но это колотилось его собственное сердце. Лес был здесь густой, вокруг толстых стволов разросся кустарник — коню не пройти."А что, если они почуют опасность и повернут обратно? — мелькнуло в голове у Велло. — Подготовятся к битве... Тогда трудно придется... А вдруг не все наши люди вовремя услышат сигнал трубы? Правильно говорит Отть: все в сражении идет совсем не так, как предполагаешь". Запыхавшись, прибежала Вайке с луком в руках и пучком стрел у пояса. Она едва смогла выговорить! — Уже видать!.. Всадники!.. Велло вскочил и, схватив топор, крикнул: — Где Кахро?.. Где трубач?.. Трубач где?!Кахро стоял тут же. Трубач с изогнутой серой трубой в руках вышел из-за дерева. Смуглое лицо Кахро светилось радостью и удалью, красивые острые зубы сверкали в улыбке. — Беги, Вайке, скажи еще раз всем, чтоб подбирались поближе!.. — крикнул Велло. — Но пусть не высовываются из-за кустов и деревьев!.. Ты, Кахро, будь рядом, подашь знак. Все вместе они стали подкрадываться к дороге. Шли согнувшись и наконец увидели конские ноги, но они не были защищены броней. — Где же рыцари?! Это не рыцари! — разочарованно прохрипел Велло. — Это передовой отряд, — молвил Кахро. Вскоре они увидели конские ноги, защищенные броней: лошади, по две в ряд, приближались рысью. — Пора! — приглушенно воскликнул Велло, когда первые лошади миновали их, и поудобнее взялся за топор. Кахро отвернулся, поднял голову, и тотчас же в лесу, у самой дороги, послышался волчий вой, сперва отрывистый, как лай, затем протяжный, злобный и, наконец, тихий и жалобный. В тот же самый миг из-за кустов и деревьев выскочили серые фигуры, и в рыцарей полетели булавы, тяжелые дубины, острые топоры и копья. Bcе это произошло без крика и шума. Сначала раздавались лишь глухие удары и звон оружия, затем послышались стоны, проклятия и приказания. Несколько рыцарей покачнулись на своих огромных, закованных в броню конях, иные, не издав ни звука, повисли в седлах, и лошади поволокли их по земле, другиe же вскрикивали и выпускали из рук оружие, ряды остановились, рыцари повернули коней и стали наугад бросать пики в атакующих. Кахро вновь издал зловещий прерывистый вой; и сразу же с противоположной стороны дороги, из лесу, выскочили, подобно хищникам, серые фигуры и стали швырять рыцарям в спину и в голову тяжелые топоры и дубины. Они всаживали коням в незащищенные места копья, дубинами ломали им кости. То тут, то там падал рыцарь, некоторые лошади кидались в лес, где их настигал удар по голове. И вот, сперва в лесу, затем и в отдалении, зазвучала труба. Она звучала протяжно, непрерывно, — теперь началась общая атака. Ее сопровождали громкие воинственные клики, звон мечей и щитов. Рыцари и оруженосцы быстро образовали два ряда, став спиной друг к другу, лицом к лесу. Большинство из них уже метнули пики и теперь, прикрываясь щитами, обнажили мечи. Велло торопливо двигался по краю леса. Он призывал воинов беречь оружие, не кидать его наобум, а бить так, чтобы угодить рыцарю в незащищенную спину или подсечь коню ноги. Заметив в кустах Кахро, который целился в спину рыцарю, он проследил за полетом копья и увидел, как голова в шлеме внезапно откинулась назад. Почти у самой дороги, за кустом, притаилась Вайке, держа наготове лук. Воины, у которых уже не было метательного оружия, подбирали с земли камни и швыряли их рыцарям в голову или в спину. Велло устремился дальше, к реке, стараясь, однако, не выпускать из виду дорогу, где шло сражение. Сквозь кусты он видел, как железная рука роняла щит, когда топор или камень попадал в голову врага. Видел рыцаря, подмятого конем, и слышал крики о помощи. Впереди рыцарей находился небольшой конный отряд оруженосцев — они были в шлемах, но без лат, и поэтому оружие, посланное атакующими, легко разило их. Среди оруженосцев началась паника: одни кинулись в лес, но запутались в заросляхи были убиты; другие помчались к реке, где всадники Киура лицом к лицу схватились с передовым отрядом латгалов. Оруженосцы пришли латгалам на помощь. Кахро передал старейшине коня и щит убитого латгала, раздобыл щит и для себя, и оба они скрестили с врагом мечи. Им пришлось нелегко, противник умел обращаться с оружием. Вот уже вражеский воин ткнул Велло в бедро и сильно ударил по шлему. Но тут Велло применил свой прием: стал вращать мечом меч противника, затем изловчился и ударил его по голове. Противник покачнулся и упал с коня. Враг, с которым сражался Кахро, бросился наутек. — А как там дела позади?! — с хозяйской заботливостью произнес Велло. — Попробуем пробраться по лесу верхом. — Киур тут и сам справится с латгалами, — сказал Кахро и поскакал рядом с Велло в лес.***
Но нелегко оказалось Киуру справиться с передовым отрядом латгалов. Как только затрубила труба, Киур тотчас же выскочил из-за выступа леса и ринулся навстречу врагам в шлемах. Пущенные копья ударились о щиты, кони поднялись на дыбы, сталкиваясь друг с другом, воины с дикими воплями схватились за мечи, и началась рубка. Увидев перед собой на коне крепкого воина в блестящем шлеме, с красным, ничем не защищенным лицом и рыжими волосами, Киур даже вскрикнул от изумления. Предатель Рахи! Его тяжелый меч был, подобно железной дубине, занесен для удара. При виде этого человека Киур вскипел от ярости, но он знал, что в силе уступает Рахи. Его могла выручить только собственная ловкость, удивительная ловкость, о которой так много говорили в Мягисте. Сперва он думал лишь о том, как защититься, и отводил от себя щитом и легким мечом тяжелые удары врага. Он измотал Рахи, а затем стал слева, справа, сверху и снизу наносить ему легкие удары. Наконец ему удалось отстранить меч врага и всадить свой тому прямо в горло. Рахи повалился на спину, выронил оружие и получил еще один удар в плечо. Киур ощутил боль в боку, но не обратил на это внимания. Увидев слева латгальского всадника, он направил на него свою лошадь, и тот без боя бежал. Киур огляделся вокруг. Его люди обратили в бегство передовой отряд и теперь преследовали его вдоль реки. Рослые кони латгалов порой застревали в песке, падали на колени, и тогда седоки перелетали через их головы. Эстонцы на своих приземистых лошадках легко продвигались вперед; а иногда они спешивались и, взяв коней под уздцы, выводили их на дорогу.***
Путь по лесу от реки до места, где засел Отть со своими людьми, показался Велло очень долгим. Гнать было нельзя, ветки царапали лицо, кони путались ногами в кустарнике. Со стороны дороги доносился шум битвы — крики, проклятия, стоны, громкие удары о щиты, звон мечей. С каким удовольствием Велло свернул бы туда и присоединился к своим воинам, но ему надо было прежде всего знать, что происходит там, где сосредоточены основные силы его дружины. Бедро изрядно ныло, кровь из раны просочилась уже до пальцев ног. "Как бы не ослабеть!" — испугался Велло. Наконец они с Кахро добрались до кустарника, где должен был находиться отряд Оття. Но сейчас здесь никого не оказалось; справа, с дороги, доносился шум битвы. Туда-то и поспешили Велло с Кахро.***
Получив в свое распоряжение сотню людей, Отть притаился с ними в кустарнике, у края поля. Он был недоволен, что Велло взял рыцарей на себя. — Сам рубит высокие ели, а нам оставил расчищать ольшаник! — ворчал он. — Заболит у него поясница, мы еще и растирай ее! Напротив отряда Оття, по другую сторону дороги, расположилась пехота. Дальше от него, за дорогой, разместился Кюйвитс со своими людьми, а напротив — опять пехота. Пешие сразу же по сигналу должны были выскочить из леса и кустарника и атаковать врага; немного позднее, когда дел у врага будет хватать, Отть и Кюйвитс выпустят своих всадников; они подбавят противнику работы, а то и вовсе сомнут его. Люди Оття стояли подле своих коней, с нетерпением ожидая сигнала, и перебрасывались шутками. — Жаркий денек, кончить бы работу да пойти искупаться в Юмере, — сказал кто-то. — Велло выбрал неплохое местечко для работы — к воде близко, — подхватил другой. — Всадники! — раздалось вдруг, и все вскочили на коней. — Хорошо! — ухмыльнулся Отть. — Пусть являются! Западня готова!.. Я ударю с одной стороны, Кюйвитс — с другой, лазейки нет!.. И ветер подходящий — не пронюхают о нас до времени. Увидев первые несколько десятков вражеских всадников, проехавших мимо рысью, Отть презрительно воскликнул: — Мелочь!.. Но когда показались закованные в броню кони, белые плащи и блестящие шлемы, он добавил: — А вот и они сами! Добро пожаловать! — И, наклонив голову, прошептал: — Разве западня, устроенная Велло, остановит их!.. Эх! Ринуться бы на них сейчас и крикнуть что есть мочи: "Слава Иисусу Христу!" Но, нет! Наш черед еще не пришел ... Короткий строй рыцарей на рослых конях, сверкающий и внушительный, повернул к реке и исчез за деревьями. "Бедняга Велло!.. Ты словно жаждешь ранней смерти! Все ищешь достойного для себя противника... Вот он — ну-ка, схватись с ним! — рассуждал про себя Оттш — А теперь вон проходят латгалы, а может, и немцы?.. А вот, наконец, и ливы... Строем по четыре в ряд... Конца не видно!.. Неплохой улов, не каждый день увидишь такое!.. Но почему не трубят сигнал?" Он вскочил в седло и закричал: — Почему не трубят! С реки донесся волчий вой, а затем звон оружия.— Начинается! — молвил Отть, сидя в седле и улыбаясь от радостного возбуждения; в левой руке у него был щит, в правой — меч. Вой повторился, затем у реки затрубила труба. Теперь трубили уже и ближе, повторяя сигнал в других местах. Отть со своими людьми подъехал к самому краю кустарника, откуда хорошо обозревалась дорога. Атака должна была начаться с противоположной стороны. Там вдруг и поднялся невообразимый шум: это пехота, закидав врага оружием, напала на него с пиками, копьями и мечами. А вот уже воин трубил рядом с Оттем, и всадники, вылетая из-за кустов, мчались через поле, подобно облачной тени. Кони, вытягиваясь и распластываясь над землей, неслись вскачь, всадники прижимались к гривам и, издавая воинственные кличи, ударяли мечами о щиты. Их увидели, и часть врагов повернула им навстречу. Копья, топоры и булавы, описывая в воздухе дугу, летели навстречу друг другу, падали коням на головы, подсекали им ноги, ударялись о щиты и шлемы. Двойной строй врага сметался, в нем образовались бреши. Но подходили все новые и новые отряды, заполнявшие эти бреши. Их торопил и подбадривал сидевший верхом на крупном вороном коне молодой светловолосый предводитель в блестящем шлеме. Нанося длинным мечом удары направо и налево, он прорвался вперед и приблизился к Оттю, как к предводителю вражеского отряда. Отть на мгновение оробел и огляделся кругом: не найдется ли для чужеземного предводителя достойного противника помоложе. Но никого, кому можно было бы доверить биться с этим сильным врагом, поблизости не оказалось. Отть сердито фыркнул, прикрылся щитом, выставил вперед меч и, пробормотав какое-то заклятие, повернулся к противнику. Он не спешил наносить удары, он знал, что стар и быстро устанет, что у врага под одеждой латы, а у него их нет. Молодой предводитель, размахивал своим длинным мечом небрежно, словно хотел показать свое презрение к противнику. Отть защищался, казалось, неуклюже и даже не делал попыток ударить врага, лишь заставлял его терять драгоценное время. Противник впал в ярость и ударил изо всех сил, чтобы разом покончить с Оттем. Их кони стояли голова к голове, пряли ушами, испуганно вращали глазами и беспокойно переступали с ноги на ногу. И вот слева последовал такой мощный удар, что щит у Оття отклонился в сторону и вражеский меч коснулся его плеча. Левый бок у Оття был как раз не прикрыт: в этот самый момент он ткнул врага сзади ниже пояса, куда не доходили железные доспехи. Молодой предводитель взревел от боли и низко опустил щит. Но поздно. Обезумев, он начал наносить удары мечом куда попало, сбил шлем с головы Оття и ранил его в левый бок. Отть чувствовал усталость и понимал, что конец его близок. Плечо ныло, и теплая кровь текла на грудь и руку. Биться не было сил, приходилось думать лишь о том, чтобы отводить тяжелые удары врага. Но и противник, казалось, обессилел, он махивал мечом все слабее и временами опускал щит на спину коня. Отть ждал момента, чтобы кольнуть мечом; для удара у него уже не хватало сил. Он не торопился — пусть враг рубит, пусть изматывает себя. Вот он снова нанес сильный удар — его меч вонзился в бронзовый щит Оття и застрял там. Отть радостно пробормотал что-то и, улучив момент, снова ударил врага ниже пояса. Воин выронил меч и щит, свесился с седла и упал. Отть слез с коня и, держась за поводья, нетвердым шагом подошел к противнику. Тот лежал на спине, раскинув руки. Светлые пряди волос закрывали шею. Отть пнул его ногой в плечо и спросил на ливонском наречии: — Кто ты? Отвечай, если еще жив. — Не убивай меня. Я сын короля ливов... Сын Каупо, — ответил тот слабым голосом. Отть вскрикнул от радости. Его противником оказался сын крещеного короля ливов! Он огляделся. У края дороги шел жестокий бой, все были слишком заняты, чтобы обратить на него внимание. И он молвил с горечью: — Я и сам отхожу. Не могу тебя оставить... Если там у тебя спросят, кто одолел тебя и убил — скажи: "Отть, хромой слуга старейшины Мягисте". Он поплевал на ладони и взялся обеими руками за рукоятку меча, чтобы отрубить врагу голову. Ему пришлось ударить несколько раз: руки у него ослабели, а шея у врага оказалась крепкая. Закончив свое дело, он выпустил из рук меч, оперся на коня и, шатаясь, побрел к лесу, бормоча на ходу: — Работник Отть отправляется на покой... Сын короля ливов... Нет, это было нелегко! В нескольких десятках шагов от него, у дороги, продолжалась кровавая схватка, звенели щиты и мечи, стоял стон, крик, ругань, трубила труба, и воины призывали на помощь богов и людей. Там сражались его, Оття, всадники. К югу от них врага разила пехота; сперва забросав противника дубинами, копьями и булавами, пехотинцы затем схватились с ним врукопашную.***
Кюйвитс со своей сотней всадников никак не мог дождаться начала битвы. Он сдерживал коня и, казалось, готов был вот-вот лопнуть от напряжения. Крепко сжимая в руке пику и глядя на дорогу, он сидел, пригнувшись к гриве, словно его конь уже несся во весь опор. Но вот у реки затрубила труба, сигнал вскоре повторили где-то поблизости, и сразу же стало видно, как слева на врага устремилась пехота. Кюйвитс ждал, как было условлено, однако терпения у него хватило ненадолго — он ударил коня пикой и, свистнув, выскочил из-за кустов; сотня воинов слева и справа ринулась вслед за ним. Неприятель повернул коней им навстречу, но поздно. Натиск атакующих был так силен, что ряды ливов смешались. Большая часть пала, сраженная метательным оружием; некоторые, соскочив с лошадей, пытались укрыться в кустах, но почти всех
их настигли и перебили; иные в смятении носились на конях взад-вперед. Кюйвитс поглядел налево и направо, он жаждал схватки, но перед ним были свои люди из отряда Оття. Вдруг он увидел, что по лесной дороге, с юга, по три-четыре в ряд приближаются вражеские всадники; впереди, на крупном вороном коне, ехал их предводитель в блестящем шлеме с султаном. Он быстро выстроил своих людей в ряд поперек дороги, выдвинув их даже на поле, и атаковал эстонцев с крыла. Кюйвитс отступил, стал скликать людей, чтобы перестроить их, не спуская при этом глаз с предводителя в блестящем шлеме с султаном. Тот медленно продвигался со своими людьми вперед, ожидая подмоги, — с юга подходили новые отряды. Кюйвитс кричал, созывая людей, хватал лошадей за поводья и указывал всадникам на грозящую опасность. Собрав несколько десятков воинов, он поскакал навстречу человеку в шлеме, обуреваемый страстным желанием сразиться. "Наконец-то!.. Наконец-то!.. Теперь посмотрим!" — повторял он про себя. Человек в шлеме не стал дожидаться его; вздыбив коня, он в несколько прыжков оказался перед Кюйвитсом, в котором, очевидно, признал предводителя. Пики ударили по щитам с такой силой, что враг пошатнулся в седле. Кони отступили, и тогда противники снова взмахнули пиками. Пика Кюйвитса, скользнув по краю щита противника, ударилась в его шлем. Удар был, видимо, настолько сильным, что враг на мгновение растерялся, отступил, метнул пику в Кюйвитса и выхватил меч. Кюйвитс тоже метнул копье, оно пролетело, не задев щита противника, и тогда оба стали рубиться мечами. Казалось, они забыли обо всем на свете, и тот и другой понимали, что одному из них живым отсюда не уйти. Оба начали уставать. Кони беспокойно кружили один подле другого. В конце концов Кюйвитсу удалось ударом меча сбить набок шлем противника. Пряди волнистых соломенного цвета волос упали тому на глаза. Теперь Кюйвитс старался обрушить меч на незащищенную голову противника, но тот каждый раз успевал прикрыть ее щитом. Было ясно: силой тут ничего не сделаешь, а в ловкости оба равны. Заставив своего коня отойти чуть назад и прикрывшись щитом, Кюйвитс сильно ударил коня противника по голове. Конь рванулся с места, скакнул в сторону Кюйвитса и пошатнулся. Человек в шлеме раскинул руки, чтобы сохранить равновесие, и тогда Кюйвитс ударил его сверху прямо по макушке. Меч рассек голову до переносья; противник, выронив оружие, упал вместе с лошадью. А по обе стороны дороги кипел яростный бой. С юга появлялись все новые и новые всадники; несколько рыцарей в блестящих шлемах с султанами, размахивая мечами, уговаривали, подбадривали, подстрекали, принуждали отступающих от реки продолжать сражение. Каждому из воинов Оття приходилось иметь здесь дело не с одним противником.
***
Направляясь в сопровождении Кахро от берега реки к лесу, Велло достиг края поля и оттуда свернул к дороге, где развернулось сражение. Он уже издали увидел, что местами строй врага прорван, но с юга к нему подходят новые отряды, тесня людей Мягисте. Подъехав поближе, он заметил лежащего на земле человека. — Отть!.. Что с тобой? — воскликнул старейшина. — Плечо задели... Отдыхаю... — с трудом садясь, промолвил Отть. — Старость! — добавил он, вздыхая. Но посмотрев в ту сторону, где шла битва, с довольным видом сказал: — Хорошо бьются! И как это ливы еще не удирают! — Ассо сейчас подойдет, поможет кончить тут, — ответил Велло так уверенно, что Отть успокоился и снова лег. — Как там с рыцарями? — озабоченно спросил ревностный слуга. — Теперь уж, верно, скоро... Отдыхай! — ответил Велло. Он велел Кахро оказать помощь старому слуге, а сам помчался к месту боя. Со стороны реки приближались отступившие латгалы, немцы; колыхались рыцарские султаны.***
Встретив на берегу реки головной отряд врага и обратив его в бегство, Киур со своими людьми тотчас же ринулся прямо к дороге, поперек которой стояли рыцари, держа в руках щиты и мечи. Позади них на земле валялись трупы людей в доспехах и лошадей. Киур приблизился молча, бесшумно и метнул копье. Двое сопровождавших его воинов сделали то же самое. Вслед за копьями они кинули топоры и выхватили мечи. И вот уже двое рыцарей, прикрываясь щитами, с мечами в руках, повернули коней им навстречу. Одного из них Киур взял на себя. Рыцарь поднимал свой меч медленно и опускал его тяжело. Легкий обоюдоострый меч Киура сверкал то тут, то там, ударял противника то по плечу, то по руке, то по бедру, задел даже грудь, однако всюду натыкался на железную броню. Видя, что так ему противника не одолеть, Киур крикнул тем, кто был позади, чтобы они метнули во врага пику, булаву или дубину. Хоть топор! Но у них уже не осталось метательного оружия, прорваться же на подмогу с мечами было невозможно. Киур хотел осадить своего коня назад, но не смог — мешали всадники. Сыпля проклятиями, он высматривал, по какому бы месту ударить врага. Грудь у рыцаря была защищена, голова, лицо и шея — тоже, и лишь там, где глаза, — узкие щелки. Они-то и приковали внимание Киура. Старательно обороняясь щитом, он отводил тяжелые удары в сторону, выжидая момента. И вот, отбив очередной удар противника, Киур внезапно кольнул мечом, целясь в глаза, однако угодил в защищенный броней подбородок. Он снова выждал подходящий момент и изо всей силы ткнул мечом. Острый его конец глубоко вошел в глаз и застрял в железной щели. Рыцарь закричал, опустил щит, схватился рукой в железной перчатке за клинок меча, проткнувшего ему глаз, упал навзничь. Второго рыцаря люди Киура вместе с подоспевшими из леса воинами оглушили метательным оружием и сняли с коня. В пылу схватки с закованным в броню рыцарем Киур даже не заметил, как один из оруженосцев кольнул его мечом в неприкрытый бок. Оруженосцу тут же отрубили руку и, сбросив с коня, проткнули его копьем. Но едва только Киур расправился с рыцарем, как сам выронил щит. Высоко подняв меч и держась рукой за бок, он изо всех сил крикнул: — Отступают! Отступают! Остальные подхватили эти слова, и тогда под натиском всадников Киура двое еще сидевших на конях рыцарей вместе с оруженосцами и латгалами стали шаг за шагом отступать. А двое последних оруженосцев сели в седло задом наперед и закрылись щитами. С трех сторон в отступавших летело оружие, а когда его не хватало, то и камни. Киура осторожно сняли с коня и отнесли на берег реки, куда отправляли и других раненых.***
Двое рыцарей, оруженосцы и слуги, прикрывая себя щитами и образовав железный клин, пробивались дальше, на юг, чтобы соединиться с ливами. В них бросали оружие, кое-кого оно настигало, и враг падал с лошади. Вооруженные пиками и мечами воины Велло пытались приблизиться к неприятелю, но тот владел оружием лучше их. Велло было ясно: здесь он может выказать храбрость и презрение к смерти, но от предводителя дружины требуется большее, гораздо большее. Отважно сражаясь, он ни на миг не смеет забывать о дружине, о том, что должен руководить ею в бою. Он отошел и послал нескольких воинов посмотреть, как дерутся люди Кюйвитса, как пехота справляется с конницей неприятеля. Потом, взяв у кого-то пику, атаковал ближайшего рыцаря. Несколько ударов пришлось по щиту врага, но вот Велло размахнулся и изо всех сил ударил закованного в броню коня по голове. Конь отступил, присел, рыцарь, потеряв равновесие, забарахтался и, падая, повис в седле. Оруженосцы бросились к нему и помогли подняться. Но теперь это был уже не боец. С юга, где бились отряды Оття и Кюйвитса, примчался гонец и, отыскав старейшину, сообщил ему, что неподалеку от леса, у дороги на Койву, идет ожесточенный бой. Там собралось несметное множество ливов. Велло приказал ему держать язык за зубами, а сам послал подоспевшего Кахро с одним всадником к Ассо. Пусть тот со своей сотней немедленно скачет к югу, где воины Кюйвитса вместе с пехотой сражаются против ливов. И пусть вихрем налетит на врага. Сам Велло тоже скоро прибудет туда. Конец уже близок. Увидев, что рыцарь пал, воины из отряда Киура стали смелее наседать на врага и вскоре сбили с коня еще одного рыцаря в шлеме с султаном. Путь к отступлению и соединению с войсками, идущими с юга, был закрыт, и оставшихся рыцарей, оруженосцев и других под победные клики уничтожили всех до единого. Велло с полсотней всадников устремился к югу, откуда доносился шум битвы, звон оружия, проклятия и угрозы. Ливы образовали поперек дороги плотный, в несколько рядов, строй и стояли незыблемо. С победным кличем, бряцая оружием, Велло и его люди обрушились на врага. Находившаяся за спиной у ливов группа всадников с султанами на шлемах понуждала своих крещеных рабов биться. — Рыцари уничтожены! — крикнули Велло и те, кто были с ним. — Победа за нами! Строй ливов заколебался: они дрались теперь без азарта и пыла, главным образом защищаясь. Многие из них уже бросились в лес. Присоединение свежих сил Ассо и стремительная атака Велло решили исход битвы. Многие вражеские воины, стоявшие в первых рядах, бросали оружие, поднимали руки и сдавались в плен. Всадники в шлемах с султанами, находившиеся позади, исчезли. Дорога к Койве была запружена толпами удирающих. — Победа! — раздавалось вблизи и вдали из сотен уст. — Победа! — восклицали даже раненые, лежавшие на земле, а умирающие шептали это слово, закрывая глаза. Били в щиты и трубили в трубы, леса Юмеры содрогались от победных кликов эстонцев. Поручив Ассо преследовать врага и брать пленных, Велло направил коня в поле. Он чувствовал огромную слабость, и только радость победы поддерживала его. Вместе с Кахро он отправился к тому месту, где был Отть. Тот лежал на утоптанной земле, положив голову на кочку и полузакрыв глаза. Услышав приближающиеся шаги, он открыл глаза и приподнял голову. — Велло! Старейшина?! Ты жив!.. — воскликнул он радостно, но тут же его голова снова бессильно упала на кочку. Велло сошел с коня и только тогда заметил в своих руках окровавленный меч и вложил его в ножны. — Много их... спаслось? — спросил Отть. — Разве сосчитаешь — бежали... — ответил Велло, опускаясь подле Оття на колени. — Значит, победа!.. — прошептал слуга, и лицо его осветилось радостью. — Они тяжело ранили тебя, — тихо сказал старейшина. — То был сын короля ливов. Он сам сказал. Я отрубил ему голову... Для слуги этого достаточно... Вели всем им отрубить головы... То была настоящая битва!.. Устал я ... — полузакрыв глаза, в изнеможении проговорил Отть. Затем он открыл их еще раз и гордо сказал: — Не каждому... дано умереть... на реке Юмере!.. Кахро закрыл умершему глаза. Старейшина встал и вытер окровавленной рукой слезы. Множество воинов собралось вокруг них. Никто не мог отвести глаз от старейшины. Лицо его было в царапинах и в крови, серая одежда во многих местах порвана, запачкана кровью и землей, одна нога оголена, и на ней кровоточила рана, на железном гребне шлема была вмятина. Где все это случилось — не знали ни он сам, ни другие. Он был настолько слаб, что опустился на кочку и стал сидя давать указания. Пусть у пленных отберут оружие и лошадей. Пусть Ассо проводит ливов до Беверины, а затем выведет их на Урелескую дорогу. Рыцарей и немцев, живых или мертвых, собрать в одно место и всем отрубить головы, чтоб ни один из них не перешел, больше через Сяде. С рыцарей снять шлемы, латы и вырезать у них на плечах кресты — если кто явится хоронить их, пусть знает, с кем имеет дело. И пусть видят, что ни крест, ни этот трехглавый бог не спасли их. Своих же раненых перенести на берег реки, обмыть им раны и перевязать. Принесли весть о том, что предводитель ливов, которого убил Кюйвитс, был зятем Каупо. Сам же Каупо спасся бегством. — Ничего, придет срок, и этот крещеный пес получит от нас сполна! — произнес кто-то из воинов. Велло встал и, поддерживаемый Кахро, направился к реке. Но вскоре силы оставили его. И тогда воины подхватили старейшину на руки и понесли по дороге, через трупы людей и лошадей, к воде, где уже собралась большая часть дружины, чтобы смыть с себя ратную кровь и пот. Кахро стащил со старейшины одежду и обнаружил на бедре глубокую рану, нанесенную, очевидно, острием пики. У плеча оказалась вторая рана, поменьше, проколота была и икра. На шее и щеках были кровавые ссадины. Кахро очистил раны, промыл их, натер принесенными из леса травами и старательно перевязал. После того как прохладной водой было обмыто и лицо, Велло почувствовал себя лучше; с помощью Кахро он оделся и опоясал себя поясом. В это время к нему подбежал один из воинов и, задыхаясь, сказал: — Там Киур — он хотел бы видеть старейшину!
— Киур! — радостно воскликнул Велло. — Где он? Пусть сразу же идет сюда! — Он ранен. — Тогда я пойду к нему! Но едва старейшина сделал несколько шагов, как голова у него закружилась и он чуть не упал. Кахро поддержал его. Люди побежали за Киуром. Вскоре они вернулись, неся его на носилках из ветвей; он был бледен, как покойник, и легок, как скелет. — Кахро сейчас поможет тебе, — сказал Велло. — Как это случилось? — Недосмотрел... Я убил Рахи... — Рахи?! — удивленно воскликнул Велло. — Он тоже был здесь? — Найдете эту падаль... Я забыл, где... Потом преследовал рыцарей, и они меня вот... Не трудись, Кахро... Мне ты уже не поможешь... Значит — победа?.. Больше мне ничего не надо! Веки Киура сомкнулись, и на худом лице появилась улыбка. Затем он еще раз открыл глаза, взглянул на солнце и произнес, как засыпающий ребенок: — Здесь... на реке Юмере... хорошо умереть... И день сегодня... хороший... хороший... придет ли когда-нибудь еще такой... Глаза его больше не открывались. Все вокруг молча вытирали слезы. А вдали слышались радостные крики. Но вот на носилках из ветвей принесли еще одного воина. — Вайке! — вскрикнул Велло. Ее нашли почти у самой дороги, в кустах; пика пронзила плечо и прошла в грудь. В колчане у нее оставались еще две стрелы. Одну из ее стрел обнаружили в глазу у рыцаря — она вошла глубоко, чуть ли не на целый палец. Наконечники ее стрел нашли и в сухожилиях ног двух рыцарских коней. Оставшиеся две стрелы лежали сейчас рядом с девушкой на носилках из зеленых ветвей. Велло сдвинул шлем с головы Вайке, провел рукой по ее восковому лбу и погладил пышные волосы, отливавшие в лучах солнца тусклой бронзой. — Как она прекрасна сейчас! — произнес старейшина и положил стрелы на грудь девушки. Тела павших перенесли на пологий холм в лесу. Часть воинов принялась рубить сухие деревья и сучья и складывать из них огромный костер. Тем временем другие ловили на опушке леса и в зарослях кустарника перепуганных лошадей. Одних только приземистых ливских лошадок набралось более трехсот, кроме того победителям досталось множество лошадей, принадлежавших латгалам и немецким слугам, и даже несколько с неперебитыми ногами рослых рыцарских коней, закованных в броню. Затем собрали и снесли в одно место оружие — и то, которое побросал враг, и то, которым дрались сами. Все добро и украшения, найденные у чужеземцев, стали добычей победителей. Возле реки промывали и врачевали раны; предсмертные стоны смешивались здесь с ликующими победными возгласами. А по большой дороге мчались на север гонцы, неся в Мягисте и Сакалу весть о победе на реке Юмере.
XXI
День выдался сухой, кучевые облака, не грозившие пролиться дождем, время от времени закрывали солнце, но к вечеру от них остались на краю неба лишь легкие полосы, пламеневшие на северо-западе, подобно раскаленному железу в горне. На гребне холма сложили огромный костер и снесли туда тела павших воинов. Посередине, между Оттем и Киуром, покоившимися в полном вооружении, положили Вайке, на груди у нее находились две перекрещенные стрелы, рядом — лук. Когда все было готово к сожжению, вокруг костра собрались воины: кто с копьем у ноги, кто держя сверкающий меч или топор в правой, а щит в левом руке. Старейшина встал возле костра и оперся на копье. Из лесу принесли горящие головни и с четырех сторон подожгли сухие деревья и ветви. Вскоре над костром поплыли серые клубы дыма; они, словно духи, устремлялись вверх, к вершинам деревьев. Потом показались и желтые языки пламени, они колыхались, росли и, подобно лепесткам цветов, украшали последнее ложе павших героев. Велло трижды ударил в бронзовый щит. Взоры всех обратились к старейшине. Он стоял спокойно, с видом человека, выполнившего трудную задачу. Он произносил слова торжествующе, ровным, певучим голосом, однако часто останавливался, переводя дух, — до того был утомлен. Он благодарил воинов за то, что они отважно сражались с рыцарями — а это было очень трудно, — и с иным крещеным народом. Он благодарил их за мужество, которое не смогли поколебать железные латы рыцарей и которое помогло им устоять перед великим множеством рыцарских крещеных пособников. Каждый может теперь вернуться домой как победитель и поведать о том, что произошло на Юмере. Он вспомнил тех, кто пали в тяжелой битве как подобает бесстрашным воинам и чьи души теперь с честью отлетают к предкам. Он повторил словв Киура: хорошо умереть на реке Юмере. Повторил и высказанное им сомнение — придет ли еще когда-нибудь такой день? Воины украдкой вытирали слезы. Старейшина продолжал: — Но такой день может прийти, и не раз, если только и в нас не угаснет мужество. А теперь ступайте домой и расскажите, что произошло на Юмере. Скажите всем, что и рыцарей можно одолеть, если храбрые люди из всех кихелькондов объединятся. Скажите всем, что крест — не защита для грабителей и крестильная вода — для разбойников. Возвращайтесь домой к своей работе! А коли вновь затрубит военная труба, мы бесстрашно ринемся в бой. И позовем с собой всех, у кого в груди бьется мужественное сердце. Есть ли для мужчины краше смерть, чем на поле брани! Так говорил Велло — говорил хотя и усталым, но торжествующим голосом, стоя перед костром, где горели тела героев. Когда он кончил, вся дружина долго бряцала в его честь оружием. Старейшина еле держался на ногах. Подошел Кахро, отвел его в сторону и усадил на зеленую кочку. Когда костер запылал и огонь стал уже достигать вершин молодых деревьев, воины перешли на опушку и принялись жарить на маленьких кострах мясо заколотой скотины. С утра никто из них и крошки не имел во рту. Один из ливских гонцов пал в бою, второй должен был отнести домой весть о победе на Юмере. Вернулся Ассо, сопровождавший пленных ливов до дороги Уреле-Летегоре. Вскоре возвратился и Кюйвитс со своими людьми. Он преследовал остатки неприятельского войска до самой Койвы, многих врагов уничтожил и захватил еще немало оружия и коней. Ему сказали, что предводитель ливов в шлеме с султаном, которого он убил, был зятем Каупо, и Кюйвитс очень сожалел, что ему не попался сам Каупо. Почти до самого утра воины сидели вокруг костров - каждому было что вспомнить о пережитых событиях прошедшего дня. Потом тут же, на поле и на лесной опушке, улеглись на траву и спали до тех пор, пока солнце не высушило росу и тень не стала длиной в семь пядей. Затем под руководством Велло и Ассо разделили добычу: лошадей, оружие и прочее, что взяли у врага. Без коня никто не остался. Многие, чью храбрость признали все, получили по два коня, и еще немало добрых коней осталось для старейшины. Оружия оказалось так мною, что деревянные дубины просто отбрасывали в сторону. После того как каждый получил свою часть, на долю старейшины осталось еще столько оружия, что хватило бы на несколько возов. Рыцарские доспехи и шлемы поделили так, чтобы каждый мог отнести своему старейшине подарок и подтверждение того, что дружина ходила не грабить, а биться с врагом. Мост на Юмере починили, и еще до полудня последние воины перешли через реку, после чего мост снова разрушили. Часть всадников ехала впереди, остальные — позади; так они двигались вдоль озера Асти к дому, вспоминая о трудностях и радостях завершившегося военного похода.***
На третий день, к обеду, дружина достигла развилки дороги, откуда шел путь на Мягисте. Здесь остановились, Кюйвитс построил людей в несколько рядов, и старейшина подъехал к ним. Он был в полном вооружении, как перед отправлением в поход, хотя с трудом держал щит в левой, раненой руке. Увидев его, воины радостно зашумели, стали выкрикивать приветствия, бить в щиты и никак не могли успокоиться. Но когда старейшина поднял правую руку, все сразу затихли и приготовились слушать. Велло вспомнил о тех, кто десять дней тому назад пошел на врага и не вернулся обратно. — Они пали доблестной ратной смертью, — сказал он. — Поведайте своим внукам об их делах. Затем он еще раз поблагодарил всех и поприветствовал. Сказал, что все они за время этого похода стали ему как родные братья и он желал бы еще раз пойти вместе с ними на врага. Тут он уже не мог сдержать себя — голос его прервался и слезы потекли из глаз. Его окружили, он сошел с коня, отдал щит и стал обнимать воинов, а они — его, и глаза у всех были влажные. Воины просили Велло позвать их, если снова придется идти войной на крещеных. И вот основная часть дружины двинулась на север по большой Вынну-Сакалаской дороге; с полсотни воинов вместе со старейшиной свернули в Мягисте. Им следовало получить часть той добычи, которая была отправлена в Мягисте, когда дружина перешла через Койву. Весть о победе на реке Юмере еще два дня тому назад достигла Мягисте. Девушки вышли встречать воинов, неся в руках яркие венки. Ими увенчали сперва старейшину, а затем и всех остальных. Напрасно Велло искал среди девушек одну — ее не было. Но вот он увидел Малле с ласковой улыбкой на лице — она радовалась, что брат вернулся домой, хоть и был он усталый и слабый. Ассо и Кюйвитс обещали честно наделить каждого чем положено из военной добычи. Велло, сопровождаемый Малле и Кахро, отправился домой. Сестра стала рассказывать о сенокосе — погода выдалась сухая и с ним справились успешно. Но и работая, люди были мысленно рядом с теми, кто ушел на войну. Один лишь "мудрец" Лейко говорил всем, и особенно девушкам, что война — пустое и зряшное занятие, что люди дерутся, сами не зная для чего. Кахро же рассказал Малле о смерти Оття, Киура и Вайке. — Опустеют так наши усадьбы и селения, — вздохнула Малле. Наконец старейшина набрался духу спросить у сестры о Лейни, надеясь, что таким образом разговор коснется и Лемби. — Это время, что тебя не было, Лейни много молилась и все перебирала четки слева направо, — ответила Малле. — Нынешнюю ночь она простояла на коленях перед распятием. — Это ужасно! Что она просила, за кого молилась? — мрачно произнес Велло. — Она просила, чтобы пресвятая дева заступилась за тебя и бог вразумил тебя... Чтобы ты позволил окрестить себя и весь наш народ. Велло ничего не ответил, коротко вздохнул и покачал головой. — Ну, а Лемби? — решился он наконец спросить. — С Лемби сестра поссорилась... Лемби просила бога защитить тебя и даровать тебе победу над врагом. Лейни нашла, что нельзя так молиться, что победить должны те, кто крещен и верит в Иисуса Христа. С того времени дочь Ассо не приходила больше ни к хромой Рийте, ни сюда — она живет в доме отца. — Кто, по-твоему, прав? — с беззлобной насмешкой спросил Велло. — Могла бы я разве молиться о том, чтобы победил враг! Это было бы ужасно! — сердито ответила Малле и продолжала: — Когда Лейни сообщили, что убито много рыцарей, да и другого крещеного народу, она словно обезумела. Велло посмотрел вокруг, на еще зеленые нивы, на зеленую стену леса и начинающие уже желтеть гроздья рябины вдоль улицы, словно хотел отогнать от себя мысли о несчастной сестре, о лицемерном черноризнике и аде, которым пугают слабых людей. После обеда Велло прилег на лавку отдохнуть и заснул глубоким сном, а проснувшись, велел Кахро смазать ему раны и стал слушать рассказы Малле обо всем, что произошло в Мягисте: кто родил, кого отнесли на кладбище, у кого волки средь бела дня задрали в стаде овцу, а у кого в ночном перегрызли горло жеребенку. Нов общем жизнь текла здесь спокойно. Вечером, когда все стихло и люди постарше отправились на покой, а молодежь собралась у качелей во дворе послушать рассказы воинов, Велло встал со своего ложа, вышел и, опираясь на палку, направился к священной роще. Во ржи трещал коростель, на лугу кричала перепелка, вдали по-домашнему лаяли собаки. На западе стояла низкая серо-синяя с позолоченным краем стена облаков, небо над ней было медно-красным, а еще выше — светло-рыжим. Велло всем своим существом впитывал воздух родного края. Теперрь, после того как он побывал в землях врага, пережил опасности, все это было ему дороже, чем когда-либо прежде. Перед ним темнела высокая роща. Впервые он достойно, как старейшина, идет к своим предкам. За кустами, на петляющей, заросшей травой дорожке, послышались шаги. Кто так поздно возвращается из рощи? Нет больше Вайке, которая приходила сюда по ночам молиться... Из-за густого куста серебристой ивы вышла молодая девушка в белом платке, повязанном вокруг головы, и в узорчатой шали на плечах. — Лемби! — воскликнул Велло, и у него перехватило дыхание. — Ты, Велло? Я слыхала, что ты ранен, — ответила девушка. Но Велло не слышал ее слов, он в радостном изумлении смотрел на бледное лицо, на белый платок и белую одежду. — Ты больше... не в черном?.. Ты опять... здорова?! Этот распятый дух уже не мучает тебя больше? Они поднялись по склону холма наверх. Лемби поддерживала старейшину под руку и как ребенок, которому стыдно за свои проступки, но который рад, что на него не сердятся, рассказывала: — Когда ты ушел на войну, и мой отец тоже, я не могла найти себе покоя. Меня мучило чувство большой вины. От своей веры — веры рыцарей — я не испытывала больше радости, в молитве не находила больше поддержки душе... Я просила Иисуса Христа даровать тебе победу над врагом. Но я знала, что они крещеные и Иисус на их стороне. Тогда я стала тайно просить наших богов. Черная одежда жгла меня. А Лейни молилась как всегда... Когда я ей сказала, что молюсь нашим богам, она очень рассердилась. Затем пришла весть, что наша дружина победила, что рыцари и крещеное войско разбиты... Тогда я не могла больше... Я сбросила черную одежду и черный платок с головы. И порвала четки. Потом я спустилась к ручью, где мы однажды стояли с тобой, и смыла с головы крестильную воду. Я дрожала от страха, что этот дух явится и накажет меня... Я ждала тебя домой, тебя и отца... Теперь я больше не боюсь. Уже второй вечер я прихожу в священную рощу и чувствую, что наши боги близко... Они не подпустят ко мне этого страшного Иегову... — Это бог грабителей и убийц, — ответил Велло. — Но теперь мы увидели, что он не так могуч, как похваляется этот черноризник. Лемби прижалась к Велло, поддерживая его, и вдвоем они пошли в рощу. — С тобой так хорошо, и я никого не боюсь, — сказала Лемби. — А если снова явится этот черноризник? — Тогда я скажу ему, что там, на чужбине, я была в отчаянии, что я боялась Рахи. И поэтому позволила окрестить себя и поклялась... — Ты не связана больше этой клятвой, ты свободна от нее? — с дрожью в сердце спросил Велло. — Я свободна от нее ... — Лемби! — воскликнул Велло и прижал к груди дочь Ассо. Они вошли в рощу и сели под священной березой, зеленые ветви которой свисали до самой земли. Они сели на камень, близко друг к другу. И тогда старейшина, немного передохнув после утомительной ходьбы, взял руку Лемби в свои ладони и сказал: — Я еще очень слаб. Мои раны не глубокие, но у меня не было времени перевязывать их. Кажется, я потерял много крови. Сам-то я там сделал мало... Ведь это был мой первый военный поход. Но люди сражались храбро. Когда я оправлюсь от ран... ты станешь моей женой? — О Велло! — молвила Лемби, обнимая его и прижимаясь головой к его плечу. — Как я боролась с собой все то время, пока носила черную одежду и крест! По ночам моя душа рвалась к тебе, и каждый вечер у меня было искушение пойти к тебе! И только клятва и страх перед муками ада удерживали меня... — А теперь ты больше не боишься ада? — С тобой я отправлюсь туда с радостью... — Не верь черноризникам! Они выдумали этот ад, чтобы запугать нас. — Когда ты рядом со мной, я никого не боюсь! Я буду вместе с Малле ухаживать за тобой, чтобы ты скорее поправился! — сказала Лемби, и слезы из ее глаз упали старейшине на руку. — Лемби, я люблю тебя! — Старейшина здоровой рукой обнял ее стан. — Ты прекрасна, как молодая кобылица на лугу! Я хочу иметь от тебя детей, и ты должна родить мне сыновей! Нам нужны мужчины, а также и жены для них. Чтобы мы могли противостоять рыцарям и крещеным латгалам, если они снова придут грабить нас, и могли мужественно сразиться с ними. Мягисте одному это не под силу. Поэтому я хочу послать людей во все кихельконды, ко всем старейшинам, и просить их, чтобы они были как одно сердце и как одна душа, если рыцари или кто другой явятся сюда со злым умыслом. Так они сидели вдвоем в священной роще, под старыми березами, и ни печали, ни страха не было в их сердцах. Они были переполнены большой любовью друг к другу и радостью, что они снова вместе. Березы вокруг стояли недвижные, и только листья осины дрожали неподалеку да ночная птица порой шуршала в ветвях.Кейт Мосс «Лабиринт»
Моему отцу, Ричарду Моссу, цельному человеку и современному шевалье.
Грегу, как всегда, за все — прошлое, настоящее и будущее
Вы узнаете истину, и истина сделает вас свободными.Евангелие от Иоанна, 8:32
История — это прожитый роман, роман — это история, которую можно было бы прожить.Э. и Ж. де Гонкур
Потерянного времени не вернуть.Средневековая окситанская пословица
К ЧИТАТЕЛЮ
Впервые я оказалась в Каркасоне пятнадцать лет тому назад и сразу почувствовала, что эти места мне знакомы и понятны. Удивительный особый свет, далекие горы, и повсюду, как шрамы земли, напоминания о горестной и кровавой истории религиозных войн. Все было знакомым, хотя я и видела это впервые, и все очаровало меня. Я гуляла, смотрела, изучала историю катаров — христиан XIII столетия, осужденных за ересь. Присутствие их душ ощущаешь в тех местах. Я читала о них все, что могла найти, не преследуя особой цели, просто меня захватила их судьба. Работала я тогда над другим: в голове созревал замысел романа о легендах, мифах, загадках и древних обществах — рассказ о том, как живут тайны, изменяясь от поколения к поколению, — история Грааля, которая должна была перевернуть с ног на голову общепринятые теории, история дохристианского Грааля. Действие разворачивалось в Египте, а не во Франции. Но в памяти у меня остались легенды и история Лангедока. Мало-помалу, две линии сюжета сливались, и определился новый замысел: судьбы некогда живших людей, прошлое, преломленное в настоящем, корни которого уходят в глубь времен. Три пропавшие книги, две женщины, одна тайна, скрытая в сердце лабиринта: история Грааля, разыгрывалась в величественных и дышащих вечностью декорациях Юго-Западной Франции. Время поисков и открытий, места и люди, испытания и ошибки, возвращение по своим следам, чтобы начать все сначала — это были удивительные переживания. Волнение, удивление, борьба, радость — я почти жалею, что закончила работу. Теперь передаю книгу вам в надежде, что чтение принесет вам столько же удовольствия, сколько мне — ее написание. Кейт МоссБЛАГОДАРНОСТИ
При написании романа меня поддерживали советы и помощь многих друзей и коллег. Нечего и говорить, что все ошибки, будь то факты или их истолкования, мои и только мои. Мой агент, Марк Лукас, на протяжении всей работы был блестящим советчиком, обеспечивая обратную связь с издателями. Благодарю также всех остальных в «LAW» за их усердную работу, и все «ILA»; в особенности Ники Кеннеди, воплощенное терпение, сделавшую процесс работы таким увлекательным. В «Орионе» мне посчастливилось сотрудничать с Кэйт Миллс, чья легкая редакторская рука, эффективность и забота сделали эту публикацию столь приятной. Хотелось бы поблагодарить и Малкольма Эдвардса и Сьюзан Лэмб, с которых все и началось, не говоря уж об энтузиазме и энергии маркетинговой, рекламной и торговой команд, особенно Виктории Зингер, Эммы Нобль и Джо Карпентера. Боб Эллиот и Боб Клак из Чичестерского стрелкового клуба сообщили множество сведений и дали советы по части стрелкового оружия; то же самое обеспечил профессор Энтони Мосс в отношении средневековой военной техники. Доктор Мишель Браун, куратор отдела рукописей Британской библиотеки в Лондоне, обеспечил неоценимую информацию относительно средневековых рукописей, пергаментов и изготовления книг в XIII веке. Доктор Джонатан Филлипс, старший преподаватель средневековой истории в Лондонском Королевском университете Холлуэй, был так добр, что прочел первый вариант рукописи и дал очень полезные советы. Я также хотела бы поблагодарить всех, кто помогал мне в Тулузской библиотеке и в Национальном центре изучения катаров в Каркасоне. Я благодарна всем, кто работал с нами в «Оранже» на вебсайте «www.orangelabirinth.co.uk» основанном для исторических исследований в процессе написания «Лабиринта» в течение последних двух лет. Я благодарна всем друзьям, слишком многочисленным, чтобы назвать всех поименно, за их терпимость к моей затянувшейся маниакальной увлеченности катарами и легендами о лабиринте. Мне особенно хотелось бы поблагодарить Ива и Лидию Гайо из Каркасона за их проникновение в окситанскую музыку и поэзию и за то, что они познакомили меня со многими писателями и композиторами, в чьих работах я черпала вдохновение; а также Пьерре и Шанталь Санчесов за их долгую дружбу и поддержку. В Англии мне хотелось бы упомянуть Джейн Грегори, чей энтузиазм вдохновлял меня всегда; Марию Рейт, за то, что она такой превосходный учитель; а также Джона Эванса, Люсинду Монтефиор, Роберта Дье, Сару Манселл, Тима Бокетта, Али Перротт, Малкольма Уиллса и Роберта и Марию Пал лей за поддержку, оказанную за многочисленными бутылочками «vin de pays d'Oc». Больше всего я благодарна своей семье. Моя свекровь Рози Тернер не только первой ввела меня в общество Каркасона, но и обеспечила практической помощью во время работы и ежедневной поддержкой, простирающейся далеко за пределы родственных обязанностей. Моя любовь и благодарность моим родителям, Ричарду и Барбаре Мосс, и сестрам: Каролине Мэтьюс и Бет Хаксли. И прежде всего моя любовь и благодарность моему мужу Грегу и детям, Марте и Феликсу, за их неизменную поддержку и веру в мои силы. Марта была всегда жизнерадостна и доброжелательна, ни на минуту не усомнилась, что в конце концов я закончу это дело! Феликс не только разделил мою страсть к средневековой истории, но и обсуждал со мной тонкости применения оружия и осадных машин, давая очень толковые советы. Невозможно выразить мою благодарность. И наконец, Грег. Его любовь и поддержка — не говоря уже об эмоциональной, практической и редакторской помощи — сделали все возможным. Как всегда было и есть.ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В марте 1208 года папа Иннокентий Третий провозгласил крестовый поход против христианской секты в Лангедоке. Теперь эти христиане известны под названием «катары». Сами они называли себя Bons Chrétiens и Bons Homes[179] Бернар Клервосский называет их альбигойцами, а в регистрах инквизиции их именуют еретиками. Целью папы Иннокентия было изгнание катаров из Миди[180] и восстановление религиозной власти католической церкви. Французских баронов, присоединившихся к походу, интересовала возможность приобрести новые земли, богатства и торговые преимущества, подавив упорную независимость южной знати. Хотя крестовые походы прочно вросли в жизнь христианского сообщества начиная с XI века — и во время четвертого Крестового похода при осаде крепости Зара крестоносцы обратились против своих собратьев христиан, — но впервые Священная война была открыто объявлена христианам, причем на европейской земле. Преследование катаров непосредственно привело к созданию в 1233 году инквизиции под эгидой черного братства доминиканцев. Какие бы религиозные мотивы ни вдохновляли католическую церковь и некоторых из вождей крестоносцев, таких как Симон де Монфор, в конечном счете это была захватническая война и переломный момент в истории того, что теперь стало Францией. Она означала конец независимости юга и уничтожение множества традиций, идеалов и обычаев южан. Термин «крестовый поход», как и термин «катары», не используется в средневековых документах. Армия именуется Воинством — «l'Ost» на окситанском. Однако поскольку оба термина вошли ныне в обиход, я иногда использую их для упрощения рассказа. Более подробные сведения о языке того времени помещены в конце книги вместе с кратким словарем. В тексте книги выделены курсивом слова, поясненные в этом словаре.ПРОЛОГ
1 ПИК ДЕ СОЛАРАК, ГОРЫ САБАРТЕ, ЮГО-ЗАПАДНАЯ ФРАНЦИЯ, понедельник, 4 июля 2005
Тонкая ниточка крови стекает по бледной коже на внутренней стороне предплечья — красной строчкой по белой ткани. Сперва Элис принимает ее за муху и не обращает внимания. Мухи на раскопках — неизбежное зло, причем по непонятной причине, чем выше в горы, тем больше мух, а она работает высоко над основным раскопом. Потом капелька крови плюхается на голое колено, взрываясь, как фейерверк в ночь Гая Фокса. Тогда она поднимает глаза и замечает, что порез на локте снова открылся. Ранка глубокая и никак не хочет заживать. Элис со вздохом прижимает полоску пластыря и туже затягивает бинт. Потом — все равно никто не видит — слизывает с запястья красную струйку. Из-под кепки выбивается прядь волос цвета патоки. Она заправляет их на место и вытирает платком лоб, прежде чем затянуть потуже конский хвостик волос на затылке. Раз уж отвлеклась, Элис встает и разминает длинные ноги, покрытые золотистым загаром. В парусиновых шортах из обрезанных выше колена брюк, в обтягивающей белой майке она выглядит почти подростком. Раньше ее это огорчало. Теперь, став старше, она оценила преимущества девчоночьей внешности. Единственная дань женственности — крошечные серебряные звездочки серег, сверкающие, как стеклярус. Элис откручивает колпачок бутылки. Вода согрелась, но пить хочется так, что ей все равно, и она пьет большими жадными глотками. Внизу над выщербленным асфальтом дороги колышется жаркое марево, наверху — бесконечная синева неба. Хор цикад, укрывшийся от солнца в сухой траве, звенит без умолку. Элис первый раз в Пиренеях, но уже чувствует себя как дома. Ей рассказывали, что зимой зазубренные пики гор Сабарте покрыты снегом. Весной из расщелин скал робко выглядывают нежные цветы — розовые, белые, бледно-зеленые. В начале лета пастбища зеленеют и пестрят желтыми головками лютиков. Но с тех пор солнце успело выжечь землю, и зелень склонов сменилась бурой краской. «Красивые места, — думает Элис, — только какие-то негостеприимные. Здесь живут тайны. Эта земля слишком много видела, чтобы быть в мире с собой». Ниже по склону, в главном лагере, Элис видит своих коллег, собравшихся под полотняным навесом. Шелаг она отличает по фирменному черному костюмчику. Странно, что они прервали работу. Для перерыва еще рановато. Правда, вся команда в последнее время работает с холодком. Работа по большей части кропотливая и однообразная: копать, скрести, составлять каталог и вести записи. Находки же пока не оправдывают усилий. Черепки ранней средневековой керамики да пара наконечников стрел конца XII — начала XIII века и никаких признаков палеолитической стоянки, ради которой и ведутся раскопки. Мелькает соблазнительная мысль спуститься вниз, к друзьям и коллегам, попросить поправить повязку. Порез саднит, а икры уже ноют от работы на корточках. И плечи сводит. Но Элис понимает, что если сейчас прерваться, то вдохновение уйдет. Она надеется на удачу. Вчера она заметила что-то блестящее под большим плоским валуном, прислоненным к обрыву так точно и аккуратно, словно его уложила туда гигантская рука. Разглядеть, что там или хотя бы какой величины, не удалось, но она копала все утро и теперь считает, что осталось немного. Элис знает, что следовало бы кого-нибудь позвать. По крайней мере предупредить Шелаг — подругу и второе лицо на раскопе после начальника. Сама Элис — не археолог, а волонтер, уделивший часть отпуска полезному занятию. Но сегодня она последний день на раскопках, и ей хочется показать себя. Если вернуться в лагерь и признаться, что нашла что-то, все кинутся сюда, и открытие уже не будет принадлежать ей одной. В ближайшие дни и недели Элис не раз вспомнит эту минуту: яркий свет, металлический привкус крови и пыли на губах — и задумается, как бы все сложилось, если бы она решила уйти, а не остаться. Если бы жила по правилам. Допив последние капли воды, она сует бутылку в рюкзак. Еще несколько часов под ползущим к зениту солнцем, в нарастающем зное, она продолжает копать. Слышен только скрежет стали по камню, гудение насекомых да иногда — приглушенный гул далекого самолета. Она чувствует капельки пота над верхней губой и между грудями, но не отрывается от работы, пока подкоп под валуном не оказывается достаточно большим, чтобы просунуть руку. Элис опускается на колени, прижимаясь плечом и щекой к камню, и с замиранием сердца протискивает пальцы в темное слепое отверстие. Она мгновенно понимает, что предчувствие не обмануло и находка стоит трудов. На ощупь предмет гладкий, чуть скользкий — явно металл, а не камень. Надежно ухватив его и велев себе не ждать слишком многого, Элис медленно-медленно вытягивает находку к свету. Земля, кажется, вздрагивает, не желая расставаться со своим сокровищем. Густой глинистый запах влажной земли ударяет в нос, но она его не замечает. Она уже заблудилась в прошлом, плененная обломком истории, лежащим в ладони. Это тяжелая округлая пряжка, покрытая зеленой и черной патиной от долгого лежания в земле. Элис трет металл пальцем и улыбается, видя, как из-под слоя грязи проступают медные и серебряные детали. На первый взгляд пряжка тоже средневековая — застежка от плаща или накидки. Что-то в этом роде она уже видела. Ей известно, как опасно делать выводы, руководствуясь первым впечатлением, но так трудно не вообразить владельца пряжки, теперь давно умершего, проходившего некогда этими тропинками. Незнакомца, чью историю еще предстоит узнать. Она так захвачена, так поглощена возникшими в воображении картинами, что не замечает, как шевельнулся нависший над ней валун. Но некое шестое чувство заставляет ее поднять взгляд. На долю секунды мир замирает вне пространства и времени. Элис зачарованно смотрит, как толстая каменная плита, покачнувшись, медленно начинает валиться на нее. В самый последний миг свет разлетается вдребезги. Чары разбиты. Элис отшатывается, откатывается в сторону, уходя от грозящей раздавить ее скалы. Валун обрушивается наземь с глухим ударом, взметнув тучу бурой пыли, неторопливо кувыркается вниз, раз и другой, и замирает на склоне. Элис судорожно цепляется за куст, удерживаясь от падения. Минуту она лежит ничком в пыли. В голове все плывет, и она плохо понимает, что произошло. Потом до нее доходит, что она была на волосок от смерти, и по коже пробегает озноб. «Чуть не попал», — думает она, переводит дыхание и ждет, пока мир перестанет вращаться. Понемногу удары пульса в голове затихают, тошнота отступает и все приходит в норму настолько, что можно сесть и осмотреться. Ободранные коленки в крови, и запястье она растянула, когда упала на руку, зажав в кулаке пряжку, но в целом легко отделалась. Цела. Она встает и отряхивает пыль, чувствуя себя полной идиоткой. Просто не верится, что она могла сделать такую грубую ошибку — не закрепить валун. Только теперь Элис оглядывается на основной раскоп и с облегчением видит, что там внизу никто ничего не заметил. Она поднимает руку, чтобы помахать им, и тут замечает узкий проход в обрыве, открытый откатившимся валуном. Будто дверной проем, прорубленный в скале. Говорят, в этих горах множество пещер и скрытых тоннелей, так что Элис не удивляется. «И все-таки, — думает она, — я заранее знала, что здесь есть проход, хотя снаружи ничего не было заметно. Вернее сказать, догадывалась». Элис замирает в нерешительности. Конечно, надо кого-нибудь позвать. Лезть внутрь без страховки глупо, а может быть, и опасно. Она прекрасно представляет, что может случиться. Но ведь она и работала здесь без разрешения. Шелаг ничего не знает. Кроме того, что-то влечет ее внутрь. Дело кажется личным. Это ведь ее собственное открытие. «Нет смысла зря отрывать всех от работы», — уговаривает себя Элис. Если здесь есть на что смотреть, она кого-нибудь позовет. Она же ничего не будет трогать, только посмотрит. «Всего-то одна минута». Она карабкается обратно наверх. На месте плиты, преграждавшей вход, осталась глубокая вмятина. Во влажной земле кишат черви и личинки, неожиданно оказавшиеся открытыми солнцу и зною. Рядом валяется свалившаяся с головы кепка. И ее лопатка гоже лежит на прежнем месте. Элис вглядывается в темноту. Отверстие не больше пяти футов в высоту и трех в ширину. Края неровные, шершавые. Это непохоже на дело рук человека, хотя, проводя пальцами по камню, она нащупывает необычные гладкие участки там, где к скале прижималась каменная плита. Постепенно глаза привыкают к сумраку. Чернота бархата уступает место пепельно-серому свету, и она уже может разглядеть узкий длинный коридор. По спине бегут мурашки, страшновато: того, что таится там в темноте, лучше не тревожить. Но она отбрасывает прочь ребяческие страхи и суеверия. Элис не верит ни в призраков, ни в предчувствия. Крепко, как талисман, зажав в руке пряжку, она делает глубокий вдох и шагает в проход. Древний подземный воздух мгновенно обволакивает ее, наполняет рот, гортань, легкие. Воздух прохладный и влажный. Это не сухой ядовитый газ пещерных карманов, от которого ее предостерегали, и она догадывается, что где-то есть приток свежего воздуха. Все-таки, просто на всякий случай, она нашаривает в кармане шортов зажигалку, щелкает кнопкой и, подняв огонек, удостоверяется, что кислорода здесь достаточно. Пламя колышется на сквозняке, но не гаснет. Преодолевая неуверенность и легкое чувство вины, Элис завязывает найденную пряжку в носовой платок, прячет в карман и осторожно продвигается вперед. Огонек зажигалки дает мало света, но все же освещает землю под ногами, отбрасывая тени на неровные серые стены. Углубляясь в тоннель, Элис чувствует, как холодный воздух котенком касается голых рук и ног. Проход идет вниз, она чувствует под ногами уклон шершавого пола. В подземной тишине громко шуршат под ногами мелкие камешки и галька. Уходя вглубь, она спиной чувствует, как съеживается и меркнет позади окошко дневного света. Неожиданно желание идти дальше пропадает. Ей здесь совершенно нечего делать! Но что-то неотвратимое увлекает ее глубже в брюхо горы. Еще десять метров, и тоннель обрывается. Элис стоит на пороге замкнутого подземного зала. Стоит на естественной скальной площадке. С нее две низкие широкие ступени ведут вниз, к выровненному и выглаженному полу. Длина пещеры около десяти метров, ширина — пять, и над ней несомненно потрудились человеческие руки. Низкий сводчатый потолок напоминает крышу склепа. Элис вглядывается, подняв повыше колеблющийся огонек. Ее тревожит необъяснимое и странное чувство узнавания. Она уже готова спуститься по ступеням, когда замечает выбитые на каменной плите буквы и нагибается, пытаясь разобрать надпись. Читаются только первые три слова и последняя буква — то ли «N», то ли «H». Остальное стерлось или сбито резцом. Элис пальцем обводит буквы и читает вслух. Эхо ее голоса отдается в тишине враждебно и угрожающе: P-A-S A P-A-S… Pas a pas. Шаг за шагом? Что «шаг за шагом»? Пузырьки воспоминания всплывают на поверхность подсознания. Словно давно забытая песня. Потом исчезают. «Pas a pas», — снова шепчет Элис, но слова ничего не значат. Молитва? Предупреждение? Лишенная продолжения, надпись лишена смысла. Нервы натягиваются. Выпрямившись, Элис одну за другой проходит ступени. Любопытство борется в ней с настороженностью, и по коже бегут мурашки. От беспокойства или от подземного холода, она сама не знает. Элис высоко держит зажигалку, чтобы осветить себе дорогу, не поскользнуться и ничего не повредить. Внизу она останавливается, глубоко вздыхает и шагает в чернильную тьму. Ей едва видна задняя стена зала. Может быть, это всего лишь игра света и теней, отброшенных огоньком, но ей издалека видится крупный узор кругов и полукружий, высеченных или выведенных краской на стене. На полу под узором — каменная плита около четырех футов в высоту. Алтарь? Элис, упершись взглядом в стену с узором, осторожно пробирается вперед. Теперь чертеж выглядит яснее. Он напоминает лабиринт, но память подсказывает, что есть в нем какая-то неправильность. Это не настоящий лабиринт. В нем нет дороги к центру. Узор неправильный. Элис не сумела бы объяснить, откуда в ней такая уверенность, но не сомневается, что права. Не отрывая взгляда от лабиринта, она переступает ближе и ближе. Нога сбивает твердый предмет, лежащий на полу. Слабый сухой удар, и что-то легкое откатывается по камню. Элис переводит взгляд под ноги. Колени у нее дрожат от страха. Бледный огонек в руке мигает. Элис с трудом выдыхает. Она стоит на краю неглубокой могилы — просто углубление в земле, не более того. В нем два скелета — два бывших человека. Очищенные временем кости. Слепые глазницы одного черепа уставлены на нее. Второй, сбитый ее ногой, лежит на боку, словно отведя взгляд. Тела были положены бок о бок лицом к алтарю, как изображают на могильных плитах. Они лежат симметрично и совершенно прямо, но могила не наводит на мысли о покое. Здесь нет мира. Скула одного черепа проломлена, вдавлена внутрь, как маска из папье-маше. У другого скелета сломанные ребра торчат, как сучья засохшего дерева. «Они ничем не могут тебе повредить». Не желая поддаваться страху, Элис заставляет себя присесть, стараясь ничего больше не сместить и не нарушить. Она обводит глазами могилу. Между телами лежит кинжал с потемневшим от времени клинком и несколько клочков ткани. Рядом затянутый шнурком кожаный мешочек. В нем могла бы поместиться небольшая шкатулка или книга. Элис сдвигает брови. Она уверена, что уже видела когда-то нечто подобное, но воспоминание ускользает. Круглая белая вещица между похожими на когти пальцами меньшего скелета так мала, что Элис едва не проглядела ее. Не успев задуматься, можно ли так поступать, она достает из кармана пинцет и бережно высвобождает предмет. Потом, осторожно сдув пыль, подносит к свету. Это маленькое каменное кольцо, простое, ничем не примечательное, с гладкой закругленной поверхностью. И оно тоже кажется странно знакомым. Элис всматривается внимательней. На внутренней стороне выцарапан рисунок. Сперва она принимает его за своеобразную печать. Затем, толчком, приходит понимание. Элис поднимает взгляд к чертежу на задней стене пещеры и снова смотрит на кольцо. Узор в точности повторяется. Элис не религиозна. Она не верит ни в рай, ни в ад, ни в бога, ни в дьявола, ни в духов, которые, по поверьям, обитают в здешних горах. Но впервые в жизни ее охватывает ощущение сверхъестественного, необъяснимого, присутствия чего-то, не умещающегося в рамках ее опыта и понимания. Она чувствует, как зло касается ее кожи, волос, стекает к подошвам ног. Храбрости как не бывало. В пещере вдруг становится очень холодно. Страх хватает ее за горло, замораживает воздух в груди. Элис с трудом распрямляет колени. Что она здесь делает, в этой древней пещере? Теперь у нее только одно отчаянное желание: выбраться наружу, подальше от этого свидетельства давней жестокости, от запаха смерти — к надежному, яркому солнечному свету. Но уже поздно. Над собой или позади она слышит звук шагов. Шаги отдаются от каменных стен, отскакивают от скалы к скале. Кто-то идет. Испуганно обернувшись, Элис роняет зажигалку. Пещерный зал погружается в темноту. Она хочет бежать, но не находит ступеней и выхода в тоннель. Она спотыкается, теряет под собой опору. Падает. Кольцо откатывается обратно к костям, которым принадлежит.2 КАРКАСОН, ЮГО-ЗАПАДНАЯ ФРАНЦИЯ
В нескольких милях птичьего полета на восток, в маленькой деревушке, затерянной в горах Сабарте, высокий худой человек в светлом костюме сидит за столом из темного полированного дерева. Потолок в комнате низкий, а пол, выстланной большими квадратными плитками цвета красноватой горной земли, сохраняет в ней прохладу, несмотря на царящий на улице зной. Единственное окно закрыто ставнем, и в помещении было бы темно, если бы не круг желтого света, отброшенный керосиновой лампой, стоящей на столе. Рядом с лампой — стакан, почти до краев наполненный красной жидкостью. По столу разбросаны листки толстой желтоватой бумаги, исписанные частыми строчками мелкого четкого шрифта. В комнате тихо, только слышно шуршание пера, оставляющего черный чернильный след, да звяканье кубиков льда в стакане, когда человек подносит его к губам. Тонкий запах вишневой настойки и тиканье часов, отмеряющих промежутки, когда пишущий задумывается, прежде чем снова взяться за перо.В этой жизни мы оставляем после себя память о том, кем были и что делали. Оттиск, не более. Я многому научился. Я приобрел мудрость. Но изменил ли я что-либо? Не знаю. Pas a pas, se va luènh. Я видел, как зелень лета сменяется золотом осени, как осенняя медь уступает зимней белизне, пока я сидел, ожидая наступления ночи. И снова и снова я спрашивал себя — зачем? Если бы я знал заранее, каково жить в таком одиночестве, оставаясь единственным свидетелем бесконечного круговорота рождений, жизней и смертей, — как бы я поступил? Увы, меня тяготит невыносимо растянувшееся одиночество. Я пережил эту долгую жизнь с пустотой в сердце — с пустотой, которая все эти годы ширилась и ширилась и уже не умещается во мне. Я старался исполнить данные тебе обещания. Одно — выполнено, другое осталось неисполненным. Пока еще неисполненным. Последнее время я чувствую, что ты рядом. Наше время снова подходит. Все говорит об этом. Скоро пещера откроется. Все вокруг меня указывает, что это так. И книга, так долго остававшаяся надежно скрытой, снова будет найдена.Человек откладывает перо и тянется к стакану. Глаза его потускнели, затянутые дымкой воспоминаний, но гиньолет крепок и сладок. Глоток оживляет его.
Я ее нашел. Наконец нашел. И я гадаю: узнает ли она книгу, когда я вложу ее ей в руки? Записана ли память в ее крови и костях? Вспомнит ли она, как мерцает и переливается переплет? Открывая и перелистывая страницы, бережно, чтобы не повредить сухого и ломкого пергамента, вспомнит ли слова, долетевшие эхом из глубины веков? Я молю о том, чтобы наконец, на закате такой долгой жизни, мне выпал случай исправить то, с чем я не справился когда-то, и узнать наконец истину. Истину, которая даст мне свободу.Человек откидывается назад, опустив на крышку стола руки, покрытые старческими веснушками. После долгого ожидания узнать наконец, чем тогда все кончилось. Больше ему ничего не нужно.
3 ШАРТР, СЕВЕРНАЯ ФРАНЦИЯ
К вечеру того же дня, в шестистах милях к северу, другой человек стоит в тускло освещенном подземелье под улицами Шартра, ожидая начала церемонии. У него вспотели ладони, пересохло во рту, он чувствует каждый нерв, каждый мускул своего тела, биение пульса в висках. Он смущен, и голова у него кружится — от волнения и предчувствий или, может быть, от вина. Непривычное одеяние из белого полотна тяготит плечи, пояс из витой пеньковой веревки натирает бедра. Украдкой он бросает короткий взгляд на молчаливо стоящих по сторонам от него людей, но лица у обоих скрыты капюшонами. Человек не сумел бы сказать, разделяют они его нервозность или обряд давно стал для них привычным. Одеты они в такие же полотняные рясы, только белого полотна почти не видно под золотой вышивкой, и на ногах у них сандалии. Его босые ноги чувствуют холод каменных плит пола. Наверху, над переплетением потайных ходов, слышится звон колоколов большого готического собора. Человек чувствует, как встрепенулись стоящие рядом с ним. Этого сигнала они ждали. Человек поспешно склоняет голову, пытаясь проникнуться значением этой минуты. — Je suis pret[181] — бормочет он, не столько сообщая о готовности, сколько желая подбодрить самого себя. Сопровождающие ничем не показывают, что слышат его слова. Когда затихает последний отголосок колокола, служка, стоявший по левую руку от него, делает шаг вперед, и камень, скрытый в его ладони, отбивает пять ударов в тяжелую дверь. Изнутри доносится отклик: «Dintrar» — войдите. Человеку чудится, что женский голос ему знаком, но гадать, где и когда он его слышал, некогда, потому что дверь распахивается, открывая камеру, в которую он так долго стремился попасть. Все так же в ряд трое медленно продвигаются вперед. Все отрепетировано заранее, и человек знает, чего ожидать, но все же колени у него вздрагивают. После промозглого тоннеля камера кажется жаркой и темной. Свет падает только от свечей, установленных в нишах и на самом алтаре. По полу мечутся длинные тени. В крови у него кипит адреналин, и человек наблюдает происходящее словно бы со стороны. Четыре старших жреца стоят по четырем сторонам зала — с северной, южной, западной и восточной стороны. Вошедшему мучительно хочется поднять глаза и осмотреться, но он принуждает себя склонить голову, пряча лицо, как его учили. Он, не видя, угадывает выстроившихся вдоль стен посвященных — шестеро у каждой из длинных сторон прямоугольной камеры. Он чувствует тепло их тел, слышит дыхание, хотя все собравшиеся замерли в молчаливой неподвижности. Человек заранее выучил свою роль по врученной ему бумаге и, проходя к надгробию в центре, спиной чувствует взгляды. Он гадает, нет ли здесь его знакомых. Среди членов общества могут оказаться и деловые партнеры, и жены приятелей — кто угодно. Слабая улыбка возникает у него на губах, когда он позволяет себе пофантазировать насчет перемен, которые последуют за его принятием в общество. Действительность резко напоминает о себе, когда он спотыкается и едва удерживается от падения к подножию гробницы. Камера оказывается меньше, чем ему представлялось по чертежу, — меньше и теснее. Он рассчитывал, что путь от двери к каменной плите будет дольше. Опускаясь на колени, он слышит, как за спиной у него кто-то шумно вздыхает, и удивляется этому признаку волнения. У него самого сердце бьется чаще, и, опустив взгляд, человек видит побелевшие костяшки своих стиснутых рук. Он смущенно складывает ладони, затем, опомнившись, опускает руки как положено, вдоль тела. В жестком каменном полу, который он чувствует коленями сквозь тонкую ткань одеяния, видно легкое углубление. Человек чуть ерзает, стараясь незаметно устроиться поудобнее. Впрочем, неудобное положение помогает отвлечься, и он принимает его почти с благодарностью. В голове все еще шумит, и ему трудно собраться с мыслями и вспомнить порядок церемонии, который он столько раз повторял по памяти. Удар колокола в стенах камеры — пронзительная звенящая нота, и вслед за ней возникает звук поющих голосов, поначалу чуть слышный, но быстро разрастающийся, когда новые голоса подхватывают напев. Обрывки слов и фраз гулко отдаются у него под черепом: montanhas — горы; noblessa — благородные; libres — книги; graal — Грааль… Жрица отделяется от высокого алтаря и направляется к нему. Человек слышит только легкий шорох ее платья, но представляет, как колышется и мерцает в свете свечей золотое одеяние. Этой минуты он ждал. — Je suis prêt, — чуть слышно повторяет он и на этот раз говорит правду. Жрица останавливается прямо перед ним. Сквозь густой аромат курений он слышит запах ее духов — легких и нежных. Когда она, склонившись, берет его за руку, он перестает дышать. Прикосновение прохладных ухоженных пальцев током, а может быть, желанием отдается к плечу, когда жрица вкладывает ему в ладонь гладкий округлый предмет и сгибает поверх его пальцы. Теперь ему хочется — как никогда в жизни ничего не хотелось — взглянуть ей в лицо. Но он не отрывает от пола потупленного взгляда — как ему велели. Четверо старших жрецов покидают свои места и присоединяются к жрице. Кто-то мягко запрокидывает ему голову, и густая сладкая жидкость вливается между губ. Человек ожидал этого и не пытается сопротивляться. Когда тепло расходится по его телу, он вскидывает руки, и золотая мантия опускается ему на плечи. Присутствующие не раз были свидетелями подобных церемоний, однако человек ощущает их беспокойство. Внезапно он чувствует, как стальная лента перехватывает ему горло, раздавливая гортань. Руки его взлетают к горлу, человек сражается за возможность вздохнуть. Он пытается крикнуть, но голоса нет. Колокол снова начинает отбивать удары, и однозвучный пронзительный гул затопляет его. Волна тошноты подступает к горлу. Человек чувствует, что теряет сознание, и как последнюю опору стискивает вложенный ему в руку предмет, так что ногти вонзаются в ладонь. Резкая боль заставляет беспамятство отступить. Теперь он осознает, что руки, лежащие на его плечах, не утешают и поддерживают, а не дают встать. Новая волна тошноты, и пол под ним, кажется, качается и уходит в сторону. Зрение подводит его, перед глазами все плывет, однако человек видит, что в руке жрицы появился нож. Он не заметил, откуда взялось серебристое лезвие. Он пытается встать, но наркотик в крови лишает его сил. Он уже не владеет своим телом. — Non![182] — пытается вскрикнуть он, но уже поздно. Сперва ему представляется, будто его просто ударили между лопатками. Потом глухая боль распространяется вширь. Теплая струйка стекает по спине. Неожиданно разжимаются удерживавшие его руки, и человек ничком падает на пол — оседает, как тряпичная кукла, на метнувшийся ему навстречу камень. Ударившись головой, он не чувствует боли — прохладное прикосновение гладких плит кажется почти ласковым. Глаза легко смыкаются. Он больше ничего не чувствует, и только издалека доносится голос. — Une leçon. Pour touts[183] — кажется, произносит он, но слова лишены смысла. Последним усилием сознания человек, обвиняемый в раскрытии тайны, приговоренный за то, что говорил, когда следовало молчать, сжимает невидимый в его ладони предмет. Потом пальцы его разжимаются и маленький серый диск, не больше монеты, катится по полу. На одной его стороне вырезаны буквы «NV», на другой — лабиринт.4 ПИК ДЕ СОЛАРАК, ГОРЫ САБАРТЕ
Мгновение длится молчание. Затем темнота тает. Элис уже не в пещере. Она плывет в белом, лишенном тяжести мире, прозрачном, мирном и молчаливом. Она свободна. В безопасности. Элис представляется, что она ускользает из потока времени, вываливается из одного измерения в другое. Линия, тянущаяся из прошлого в настоящее, блекнет в этом пространстве безвременья и бесконечности. Потом словно открывается люк под виселицей, и рывком начинается падение вниз, из свободы небес к поросшим лесом горам. Ставший твердым воздух свистит в ушах, и ее все быстрее, все жестче тянет к земле. Удара не ощущается. Не хрустят кости, ударившись о серые кремнистые скалы. Едва коснувшись земли, Элис бежит, спотыкаясь на крутой лесной тропинке между колоннадами высоких стволов. Деревья тесно обступают тропу, и ей не видно, что скрывается за ними. «Слишком быстро». Элис цепляется за ветки, пытаясь замедлить бег, прекратить это безрассудное стремление в неизвестность, но руки ее проходят насквозь, словно она стала духом или призраком. Горсти узких листьев проскальзывают меж пальцев, как волосы сквозь зубья гребня. Она не чувствует прикосновения, но кончики пальцев становятся зелеными от сока. Элис подносит их к лицу, чтобы вдохнуть тонкий кисловатый запах, но и запаха не ощущает. У нее уже колет в боку, но останавливаться нельзя, потому что погоня неуклонно приближается. Тропа под ногами становится круче. Сухие корни и камень сменяют лежавшие на мягкой земле под ногами ветки и мох. Но звука все нет. Ни птичьего пения, ни голосов — только ее прерывистое дыхание. Тропа изгибается, петляет, заставляя Элис метаться вправо и влево, пока за поворотом не возникает преградившая путь стена пламени. Колонна беззвучно свивающихся огненных языков, алых, белых, золотых, непрестанно сменяющих друг друга. Элис непроизвольно вскидывает руку, защищая лицо от жара, которого не чувствует. Но ей видны лица, увязшие в пляшущих огнях, — лица, мучительно искаженные прикосновениями обжигающих языков. Элис пытается остановиться. Надо остановиться. Ступни у нее изодраны в кровь, длинный подол промок и мешает бежать, но погоня все ближе и что-то неподвластное воле влечет ее в гибельные объятия пламени. Остается только прыгать в надежде прорваться сквозь огненную стену. Она взлетает в воздух облачком дыма, проплывает высоко над рыжими огнями. Ветер несет ее, отрывая от земли. Женский голос окликает ее по имени, но выговаривает его странно: — Элэйс! Она спасена. Свободна. Потом знакомая хватка холодных пальцев охватывает лодыжки, приковывая к земле. Нет, не пальцев — цепей. Только теперь Элис замечает, что держит что-то в руках. Книгу — переплет завязан кожаными шнурами. Она понимает: вот что ему нужно. Им нужно. Это потеря книги разозлила их. Если бы она могла говорить, быть может, можно было бы с ними сторговаться. Но в голове не осталось слов, а язык разучился говорить. Она бьется, стараясь сбросить цепи, но железная хватка неодолима. Она кричит, чувствуя, как ее медленно затягивает в огонь, но не слышит ни звука. Элис снова кричит, ощущая, как бьется внутри нее голос, жаждущий быть услышанным. И на этот раз звукпробивается наружу. Реальный мир обрушивается на нее. Звук, запах, прикосновение, металлический вкус крови во рту. На долю секунды она замирает, пронизанная ледяным холодом. Это не знакомый уже холод пещеры, а что-то иное, сильное и яркое. В нем Элис различает мимолетный очерк лица, прекрасного и неясного. Тот же голос снова зовет ее по имени: — Элэйс. Зовет в последний раз. Это дружеский голос. В нем нет угрозы. Элис хочет открыть глаза, в уверенности, что, увидев, сможет понять. Но не может. Совсем. Сон бледнеет, отпуская ее. Пора просыпаться. Надо проснуться. Потом она слышит другой голос, руки и ноги обретают чувствительность, саднят ободранные коленки, ноют ушибы. Она чувствует, как ее трясут за плечо, возвращая обратно в жизнь. — Элис! Элис, очнись!Часть I КРЕПОСТЬ НА ХОЛМЕ
ГЛАВА 1 КАРКАССОНА, джюлет[184] 1209
Элэйс проснулась внезапно, подскочила, широко распахнув глаза. Страх бился в груди, как пойманная в силки птица. Она прижала руку к ребрам, чтобы сдержать удары сердца. Мгновение между сном и явью она еще удерживала взглядом сновидение, чувствовала, как плывет, глядя на себя с огромной высоты, слово каменная горгулья, что строит рожи горожанам с крыши собора Святого Назария. Она проснулась в собственной постели в Шато Комталь. Глаза понемногу привыкали к темноте и начинали различать комнату. Ей уже не грозили тонкие темноглазые люди, гнавшиеся за ней всю ночь, хватавшие и тянувшие острыми когтями пальцев. «Теперь им до меня не дотянуться». Вырезанные на камне надписи — скорее картинки, чем слова, — таяли, как дым на осеннем ветру. И пламя тоже гасло, оставляя только след в памяти. Вещий сон? Или обычный кошмар? Ответа нет. Да она и боялась ответа. Элэйс потянулась к занавеси над кроватью. Как будто, ощутив в руках что-то вещественное, должна была почувствовать себя не такой прозрачной и бестелесной. Вытертая ткань, пропитанная пылью и знакомыми запахами замка, внушала уверенность самой своей грубостью. Ночь за ночью все тот же сон. С самого детства, когда она просыпалась в темноте, белая от ужаса, с залитым слезами лицом, и видела у кроватки отца, сидящего над ней, словно над сыном. Свеча догорала, и зажигалась новая, а он нашептывал ей истории о приключениях в Святой земле. Рассказывал о бесконечном море пустыни, об изогнутых куполах и устремленных в небо минаретах мечетей, о том, как зовут на молитву сарацинских правоверных. Рассказывал о душистых приправах, о ярких и острых кушаньях, о беспощадном кроваво-красном солнце над Иерусалимом. Год за годом, в смутные часы между сумерками и рассветом, она лежала рядом со спящей сестрой, а отец говорил и говорил, отгоняя демонов. Он не подпустил к ней черных братьев и католических священников с их суеверием и лживыми святынями. Ее спасали отцовские рассказы. — Гильом? — прошептала она. Муж крепко спал, раскинув руки, захватив большую часть ложа. Его длинные темные волосы, пропахшие дымом и конюшней, рассыпались по подушке. Лунный свет лился в окно. Ставни были распахнуты, чтобы впустить в комнату ночную прохладу. Элэйс различала даже тень щетины у него на подбородке. Цепь, которую Гильом носил на шее, блеснула, когда он шевельнулся во сне. Элэйс хотелось, чтобы муж проснулся и сказал ей, что все хорошо, бояться больше нечего. Но он затих, а будить его не приходило ей в голову. В других делах она не знала страха, но брак был для нее еще внове и внушал опасения. Так что Элэйс только провела пальцем по гладкой загорелой руке и по плечам, широким и твердым от многих часов упражнений с мечом и турнирным копьем. Под кожей чувствовалось легкое движение. Вспомнив, как они провели первую половину ночи, Элэйс покраснела, хотя смотреть на нее было некому. Ее приводили в смятение чувства, просыпавшиеся в ней от близости Гильома: радостно сжимавшееся при виде супруга сердце, земля, ускользающая из-под ног, когда он улыбался ей. Но чувство беспомощности пугало ее. Элэйс опасалась, что любовь сделает ее слабой, бессильной. Она не сомневалась в своей любви к мужу, но сознавала, что не отдается ему целиком, утаивая малую частичку себя внутри. Элэйс вздохнула. Оставалось надеяться, что со временем все станет проще. Чернота за окном, в которую вливалось серое сияние, и робкие намеки на птичье пение среди деревьев в крепостном дворе подсказывали ей, что недалек рассвет. Теперь уже не уснуть. Элэйс выскользнула из-под занавеси, на цыпочках пробежала к стоявшему в дальнем углу сундуку. Каменные плитки холодили ступни, разбросанный по полу тростник колол пальцы. Она откинула крышку, сдвинула мешочек с лавандой и вытянула простое темно-зеленое платье. Чуть вздрагивая, шагнула в него, протолкнула руки в узкие рукава, подтянула кверху отсыревшую материю лифа и туго затянула пояс. Элэйс было шестнадцать, и она уже полгода была замужем, но еще не набрала женской мягкости и изгибов тела. Платье свободно, как чужое, болталось на ее тонкой фигурке. Придерживаясь рукой за стол, она сунула ноги в мягкие кожаные туфельки и сняла со спинки кресла любимый красный плащ. Кайма на нем была вышита переплетающимися синими и зелеными квадратами и ромбами, а между ними пестрели мелкие желтые цветочки. Элэйс сама придумала и сделала вышивку для дня венчания. Сколько недель над ним просидела! Весь ноябрь и декабрь она трудилась над плащом онемевшими и ноющими от холода пальцами, торопясь закончить к сроку. Элэйс занялась корзинкой-панир, стоявшей на полу у сундука. Проверила, на месте ли мешочки для трав и кошелек, полоски ткани, которыми она связывала пучки трав и кореньев, и инструменты, чтобы выкапывать и срезать растения. Потом хорошенько затянула ленточкой плащ на шее, опустила кинжал в ножны на поясе, надвинула капюшон, чтобы скрыть длинные, не заплетенные в косу волосы, и тихонько выбралась в пустынный коридор. Дверь за ней закрылась без стука.Еще не пробили примы, так что в жилой части замка было пустынно. Элэйс быстро прошла по коридору, со свистом подметая полами плаща каменные плитки, и свернула на крутую узкую лестницу. Здесь ей пришлось перешагнуть через мальчика, прикорнувшего у стены покоев, отведенных ее сестре Ориане с мужем. Она спускалась навстречу шуму голосов, доносившихся из расположенной в подвале кухни. Там работа была в разгаре. Элэйс расслышала шлепок и последовавшее за ним хныканье — для какого-то невезучего мальчишки день начинался подзатыльником, а рука у повара была тяжелая. Она обогнала кухонного мальчика, волочившего тяжелую бадью колодезной воды. Элэйс улыбнулась ему: — Bonjorn! — Bonjorn, госпожа, — осторожно отозвался он. — Проходи. — Она открыла перед ним тяжелую дверь. — Merce, госпожа, — поблагодарил мальчик уже не так робко. — Grand merce. В кухне царила суета и сутолока. Над большим котлом — payrola, подвешенным на крюк над огнем, уже поднимались клубы пара. Старший кухарь перехватил у парнишки бадью, опрокинул ее в котел и молча кинул обратно водоносу. Пробираясь мимо Элэйс обратно к колодцу, мальчишка с мученическим видом закатил глаза. На большом столе посреди кухни уже стояли в запечатанных глиняных горшках каплуны, чечевица и капуста, готовые отправиться в кипящую воду. Тут же теснились миски с соленой кефалью, угрями и щукой. На краю стола лежали пудинги-фогаса в полотняных мешочках, гусиный паштет и ломти соленого окорока. Другой край заняли подносы с изюмом, айвой, фигами и вишней. Мальчуган лет девяти-десяти дремал, опершись локтями на стол, и его унылая мордочка ясно говорила, как радуется он перспективе провести еще один жаркий день у горячего очага, вращая вертел с мясом. Рядом с очагом под куполом хлебной печи ярко пылал хворост. Первая выпечка пшеничного хлеба — pan de blat — уже остывала на доске. От хлебного запаха Элэйс сразу захотелось есть. — Можно мне один хлебец? Повар, разгневанный вторжением в его владения женщины, поднял глаза, узнал Элэйс и тут же расплылся в приветливой улыбке, обнажившей гнилые зубы. — Госпожа Элэйс, — обрадованно заговорил он, вытирая руки о фартук. — Benvenguda! Какая честь! Давненько ты у нас не гостила. Мы уж соскучились. — Жакоб, — ласково приветствовала его Элэйс. — Я не буду мешать. — Ты — мешать! — Он рассмеялся. — Как же ты можешь помешать? Маленькая Элэйс проводила немало часов на кухне, присматривалась и запоминала. Никакую другую девочку Жакоб не пустил бы и на порог своего мужского царства. — Что, госпожа Элэйс, чем могу служить? — Дай немножко хлеба, Жакоб, и еще вина, если можно. Повар нахмурился. Элэйс невинно улыбалась. — Прости меня, но ты уж не на реку ли собралась? В такую рань, и одна? Такая знатная дама… еще совсем темно. Я слышал, рассказывают… Элэйс положила ладонь ему на плечо. — Ты очень добр, что беспокоишься обо мне, Жакоб, и я знаю, что у тебя самые лучшие намерения, но со мной ничего не случится, честно. Уже светает, а дорогу я отлично знаю. Сбегаю туда и вернусь так скоро — никто и не заметит, что меня не было. — А отец твой знает? Она заговорщицки поднесла палец к губам. — Ты же знаешь, что нет. Но пожалуйста, не выдавай меня. Я буду очень осторожна. Жакоб явно нашел бы, что еще сказать, но дальше возражать не посмел. Он неторопливо прошел к столу, завернул в льняную салфетку круглый хлебец и послал поваренка за кувшином вина. Глядя на него, Элэйс чувствовала, как ноет у нее сердце. Повар двигался медленно и неловко, заметно припадая на левую ногу. — Нога все беспокоит? — Почти нет, — солгал повар. — Я потом сделаю перевязку, если позволишь. Похоже, рана не заживает как следует. — Ничего страшного. — А ты прикладывал мой бальзам? — спросила она, уже видя по его лицу, что ответ отрицательный. Жакоб беспомощно вскинул пухлые руки. — Столько дел, госпожа, — столько гостей: сотни, если считать со слугами, конюшими, фрейлинами, не говоря уж о консулах с семействами. И провизию нынче раздобыть нелегко. Вот только вчера послал я… — Все это очень хорошо, Жакоб, — перебила Элэйс, — но рана сама собой не заживет. Слишком глубокий порез. Она вдруг заметила, как тихо стало кругом, и, оглянувшись, убедилась, что вся кухня прислушивается к их разговору. Младшие поварята навалились на стол и, разинув рты, смотрели, как их вспыльчивый повелитель выслушивает нотацию. Да еще от женщины! Притворяясь, будто ничего не заметила, Элэйс понизила голос. — Можно, я потом этим займусь — заплачу за пропитание? — Она погладила сверток с хлебцем. — Это будет еще один наш секрет, ос? Честная сделка? На минуту ей показалось, что она зашла слишком далеко и слишком много себе позволила. Но Жакоб, чуть помедлив, усмехнулся. — Ben, — кивнула Элэйс. — Хорошо. Я зайду днем и займусь этим. Dins d'abord. Скоро. Выскользнув из кухни и взбираясь вверх по лестнице, Элэйс слышала, как громыхает повар, разгоняя по местам ротозеев и бездельников. Она улыбнулась. Все было в порядке.
Элэйс потянула на себя тяжелую наружную дверь и окунулась в нарождающийся день. Листья вяза, стоявшего посреди крепостного двора, — под ним виконт Тренкавель вершил суд — чернели на побледневшем небе. В его ветвях копошились и неуверенно пробовали голоса жаворонки и крапивники. Дед Раймона Роже Тренкавеля выстроил Шато Комталь больше столетия назад, чтобы отсюда править своими разраставшимися владениями. Его земли протянулись от Альби на севере к Нарбонне на юге, от Безьера на востоке к Каркассоне на западе. Прямоугольник стен включал в себя развалины более древнего замка, усилившие укрепления на западной стороне городской стены, — мощного каменного кольца, высившегося над рекой Од и северными болотами. Донжон, в котором собирались консулы и подписывались важнейшие документы, стоял над юго-западной стеной и бдительно охранялся. В густых сумерках Элис заметила что-то темное у наружной стены. Напрягая глаза, она разглядела спящую в уголке собаку. Пара мальчишек, примостившихся, как воронята, на ограде гусиного загона, норовили разбудить ее, швыряя камушки. В тишине были явственно слышны удары их босых пяток по брусьям ограды. Попасть в Шато Комталь и выйти из него можно было двумя путями. Широкая арка Западных ворот вела прямо на травянистый склон, сбегавший от стены. Эти ворота почти всегда стояли закрытыми. Восточные ворота, маленькие и узкие, втиснулись между двумя привратными башнями и вели на улицы города. На верхние этажи башен можно было попасть, только вскарабкавшись по деревянным лесенкам, через люки в полу. Маленькая Элэйс любила лазать там наперегонки с кухонными мальчишками. Надо было подняться на самый верх и спуститься обратно, не попавшись стражникам. Элэйс была проворной девчушкой. Она всегда выигрывала. Плотнее завернувшись в плащ, Элэйс торопливо пересекла двор. Как только колокол приказывал гасить огни, ворота закрывались на ночь, и стража не пропускала никого без разрешения ее отца. Бертран Пеллетье, хоть и не принадлежал к консулам, занимал в замке высокое положение. Не многие дерзали ослушаться его приказа. Отец никогда не одобрял ее привычку ранним утром выбираться из города, а в последнее время он твердо объявил, что ночью Элэйс должна оставаться в стенах Шато. Она предполагала, что ее муж держится того же мнения, хотя Гильом ни разу не заговаривал об этом с молодой женой. Но только в тихих, скрывавших лица рассветных сумерках, вдали от строгих порядков крепости, Элэйс чувствовала себя собой. Не дочерью, не сестрой, не супругой. В глубине души она всегда подозревала, что отец понимает ее. Она старалась быть послушной дочерью, но отказаться от этих минут свободы не хотела. Чаще всего ночная стража закрывала глаза на ее проделки. По крайней мере, до последнего времени. После того как пошли слухи о войне, гарнизон стал бдительнее. Внешне жизнь текла как всегда, и рассказы беженцев, временами появлявшихся в городе, о боях и религиозных гонениях представлялись Элэйс в порядке вещей. Всякий, кто жил вне защиты городских стен, должен был опасаться нападения конных отрядов, налетавших и исчезавших, как летние грозы. Ничего нового не было в этих сообщениях. И Гильома, насколько она могла судить, слухи и шепотки не особенно тревожили. Впрочем, он никогда не говорил с ней о таких вещах. Зато Ориана утверждала, будто французское войско крестоносцев и церковников готовится вторгнуться в земли Ока. Больше того, по ее словам, войну поддерживали папа и французский король. Элэйс по опыту знала, как часто Ориана болтает только ради того, чтобы вывести ее из себя. В то же время сестра часто узнавала новости раньше всех в замке, да и нельзя было отрицать, что все больше гонцов прибывало в Шато и выезжало из его ворот. Трудно было не заметить и того, как глубоко пролегли морщины на лице отца, как запали его щеки. Глаза у sirjans d'arms покраснели от бессонной ночи, однако стража не дремала. Правда, серебристые угловатые шлемы они сдвинули на затылок, а стальные кольчуги казались тусклыми в сером рассветном сумраке, и мужчины, устало закинувшие за плечо щиты, скрывшие в ножнах мечи, явно мечтали не о битвах, а о теплой постели. Приблизившись, Элэйс с облегчением узнала среди стражников Беренгьера. Заметив ее, тот ухмыльнулся и кивнул: — Bonjorn, госпожа Элэйс. Раненько поднялась! Она улыбнулась в ответ: — Не спится. — Неужто твой муженек дает скучать по ночам? — бесстыдно подмигнув, вставил его напарник. У этого лицо пестрело шрамами от оспы, ногти были обкусаны до крови, а изо рта разило вчерашним пивом. Элэйс пропустила непристойную шуточку мимо ушей. — Как твоя жена, Беренгьер? — Хорошо, госпожа. Совсем поправилась. — А сын? — Растет с каждым днем. Чуть отвернись, проест и дом и хозяйство. — В отца пошел, — пошутила Элэйс, ткнув стражника в толстое пузо. — Вот и моя женушка то же говорит. — Передай ей мои наилучшие пожелания, ладно, Беренгьер? — Она будет рада, что ты ее вспомнила, госпожа. — Стражник помялся. — Хочешь, чтоб я тебя пропустил? — Только в город, Беренгьер, ну, может, до реки. Я скоро вернусь. — Никого не велено пропускать, — буркнул его напарник. — Приказ кастеляна Пеллетье. — Тебя не спросили, — огрызнулся Беренгьер. — Не в том дело, госпожа, — продолжал он, понизив голос. — Но ты знаешь, какие теперь дела. Коль с тобой что случится да узнают, что это я тебя выпустил, твой отец… Элэйс потрепала его по плечу. — Знаю, знаю, — тихо заверила она, — но, правда, тут не о чем беспокоиться. Я сумею о себе позаботиться. К тому же… — она покосилась на второго стражника, который теперь копался пальцем в носу, то и дело вытирая руку о рукав, — что бы ни грозило мне на берегу, все будет не так страшно, как то, что тебе приходится выносить здесь. Беренгьер расхохотался. — Обещай, что будешь осторожна? Элэйс, кивнув, чуть распахнула плащ, открыв подвешенный к поясу нож. — Буду, честное слово. Дорогу преграждала двойная дверь. Беренгьер отпер оба замка, сдвинул тяжелый дубовый засов на наружной створке и приоткрыл ее так, чтобы Элэйс сумела протиснуться наружу. Благодарно улыбнувшись, она нырнула под его локоть и шагнула в мир.
ГЛАВА 2
Выходя из тени, лежавшей между башнями ворот, Элэйс чувствовала, как сильнее забилось сердце. Свобода. Хотя бы ненадолго. Съемные деревянные мостки связывали ворота с каменным мостом, выводившим от Шато Комталь на улицы Каркассоны. Трава на дне сухого рва блестела от росы: в небе разрастался дрожащий лиловый свет. Луна поблекла в сиянии приближающегося рассвета. Элэйс почти бежала, и ее плащ оставлял в пыли размашистые дуги следов. Ей хотелось избежать беседы со стражей на дальней стороне моста. На удачу, стражники дремали на посту и проспали появление молодой женщины. Она поспешно нырнула в путаницу узких переулков, привычно выбирая дорогу к башне Мулен д'Авар — древнейшему участку городской стены. Ее ворота выходили прямо к огородам и faratjals — пастбищам, занимавшим земли под стенами города и северного пригорода Сан-Венсен. Ранним утром отсюда можно было выйти на реку быстро и незаметно. Придерживая подол платья, Элэйс осторожно пробиралась среди следов, оставленных очередной бурной ночью в таверне Святого Иоанна Евангелиста. В пыли валялись разбитые всмятку яблоки, огрызки груш, обглоданные кости и черепки. Чуть дальше она обошла нищего, уснувшего в подворотне в обнимку со старой косматой дворнягой. Еще трое спали вповалку у колодца, заглушая храпом пение птиц. Простуженный часовой у ворот страдал, до бровей завернувшись в плащ, хлюпал носом, кашлял и долго не желал замечать ее присутствия. Элэйс порылась в кошельке. Часовой, не глядя, выхватил монетку из ее пальцев, попробовал на зуб, потом загремел засовом и приоткрыл щелку, позволив ей выскользнуть наружу.Спуск к барбакану лежал в тени между двумя высокими частоколами, но Элэйс проходила здесь не первый раз и наизусть знала каждую рытвину крутой тропинки. Далее тропа прижималась к подножию круглой деревянной башни над быстрым ручьем. Она исколола ноги ветками и набрала полный подол репейника. Нижний край красного плаща, намокнув, стал темно-багровым, а носки кожаных туфелек почернели от влаги. Едва не вскрикнув от восторга, Элэйс выбралась наконец из тени частокола в открытый широкий мир. Вдалеке над Монтань Нуар собирались белые июньские облака. Светлеющее небо над горизонтом было забрызгано лиловым и розовым. Она остановилась, любуясь лоскутным покрывалом пшеничных и ячменных полей между перелесками, тянувшимися к самому небосклону. Прошлое смыкалось вокруг нее, обнимало… Духи и призраки собирались к ней, нашептывали в уши свои истории, делились тайнами. Они связывали ее с теми, кто до нее стоял на крутом берегу, — и с теми, кто еще придет сюда когда-нибудь мечтать о дарах жизни. Элэйс ни разу не бывала за пределами земель виконта Тренкавеля. Ей трудно было представить себе унылые северные города: Париж, Амьен или Шартр — родину матери. Для нее это были всего лишь имена, лишенные тепла и цвета, такие же неблагозвучные, как langue d'Oil, на котором говорили их жители. Но Элэйс верила, что, даже будь у нее возможность сравнивать, она не нашла бы ничего прекраснее, чем древняя, неподвластная времени красота Каркассоны. Она стала спускаться с холма, огибая колючие заросли кустов. Южный берег реки Од был низким и болотистым. Промокшая насквозь юбка липла к ногам, и Элэйс часто спотыкалась. Она поймала себя на том, что идет быстрей, чем обычно. Отчего-то ей сегодня было не по себе. Элэйс уверяла себя, что ее растревожил разговор с Жакобом и Беренгьером. И тот и другой вечно за нее беспокоятся. Но сегодня она чувствовала себя одинокой и беззащитной. Рука невольно потянулась к рукояти ножа. Припомнился рассказ купца, который будто бы на днях заметил на дальнем берегу волка. Весь город счел, что торговец хвастает: но летнему времени он мог увидеть разве что лису или бродячую собаку. Но на пустом темном берегу в такие истории верилось легче, и холодная рукоять придавала уверенности. На минуту Элэйс задумалась, не повернуть ли назад. Она то и дело вскидывалась на внезапный шум или плеск, но всякий раз это оказывался шорох крыльев взлетающей птицы или игра желтого речного угря на отмелях. Мало-помалу привычная тропа успокоила ее. Река Од здесь разливалась широко и была неглубока; тянувшиеся к ней ручейки поблескивали голубоватыми жилками, а над ними висел прозрачный летний туман. В зимнее время поток, налившийся ледяными водами горных ручьев, становился многоводным и бурным. Но в летнюю засуху вода спадала, и течения едва хватало, чтобы вращать колеса соляных мельниц, которые деревянным хребтом торчали посреди русла, привязанные к берегу толстыми веревками. В такую рань мухи и мошкара, черными облачками висевшие над болотом в жаркое время, еще не проснулись, поэтому Элэйс решилась пройти напрямик через топкую грязь. Тропа через трясину была отмечена пирамидками белых камней. Она осторожно выбирала дорогу, пока не выбралась на опушку леса, подходившего к самой западной стене. Элэйс направлялась к лесной лужайке, где в тенистых лощинах росли лучшие травы. Оказавшись под защитой деревьев, она замедлила шаг и принялась наслаждаться жизнью. Она отстраняла нависшие над тропой ветви ивняка и вдыхала густой землистый запах листьев и мха. Человек не оставил здесь следа своих трудов, но лес был полон живыми цветами и звуками. Вскрикивали и щебетали скворцы, крапивники, коноплянки. Хрустели под ногами сучки и сухие листья, прыскали в стороны кролики, и их белые хвостики ныряли среди волн желтых, красных и синих цветов. Высоко в раскидистых кронах сосен рыжие белочки срывали шишки, осыпая землю легким душистым дождем хвои. На поляну — травяной островок, тянувшийся к самой реке, — Элэйс выбралась уже пьяная от счастья. Она с облегчением опустила наземь корзинку: плетеная ручка натерла нежную кожу на сгибе локтя. Сняла отяжелевший плащ и повесила его на низкую ветку серебристой ивы. Утерла лицо и шею платком и опустила флягу с вином в дупло, чтобы не нагрелась на солнце. Над стеной деревьев высилась крутая стена Шато Комталь. Четкий силуэт башни Пинте ярко выделялся на бледном небе. Элэйс задумалась, проснулся ли отец. Может, уже сидит в личных покоях виконта, обсуждая с ним дневные дела. Она посмотрела левее сторожевой башни, отыскивая собственное окно. Интересно, Гильом еще спит или проснулся и обнаружил пропажу жены? Каждый раз, глядя вверх сквозь зеленый балдахин ветвей, она поражалась, как близок город. Два разных мира — бок о бок. Там, на улицах, в переходах Шато Комталь — шумно и людно. Там нет покоя. Здесь, во владениях лесных и болотных жителей, царствует глубокое вечное молчание. И здесь она чувствует себя дома. Элэйс скинула кожаные туфли. Мокрые от утренней росы травинки сладко защекотали пальцы ног и ступни. Радостное чувство мгновенно изгнало у нее из головы все мысли о городе и доме. Элэйс перенесла инструменты к самой воде. На отмели разросся куст дягиля. Мощные трубчатые стебли выстроились вдоль берега, как строй игрушечных солдатиков. Ярко-зеленые листья — иные больше ее ладони — отбрасывали на берег прозрачную тень. Нет ничего лучше дягиля, чтобы очистить кровь или защитить от заражения. Эсклармонда, ее подруга и наставница, не уставала повторять, что собирать травы для настоев, мазей и бальзамов надо всегда и всюду, коль скоро они попались на глаза. Пусть сегодня город свободен от заразы, кто знает, что принесет завтрашний день? Болезни и мор могут нагрянуть в любое время. Эсклармонда никогда не давала ей дурных советов. Закатав рукава, Элэйс сдвинула ножны на спину, чтобы нож не мешал нагибаться. Волосы она заплела в косу, а подол юбки подобрала повыше и заткнула за пояс. Теперь можно было войти в воду. Холодные струйки сомкнулись вокруг лодыжек, и Элэйс резко вдохнула, чувствуя, как пошла мурашками кожа. Полоски ткани она намочила в воде и разложила в ряд на берегу, а затем принялась лопаткой обкапывать корни. Скоро первое растение с чавканьем отделилось от речного дна. Элэйс выволокла его на берег и разрубила на части маленьким топориком. Корневища обернула тканью и уложила на дно панир, желтовато-зеленые цветы, резко пахнущие перцем, завернула отдельно и опустила в кожаный мешочек на поясе. Листья и жесткие стебли отбросила в сторону, после чего вернулась в воду и начала все сначала. Очень скоро руки у нее порылись зеленым соком, а ноги — слоем грязи. Собрав урожай дягиля, Элэйс огляделась, ища другие полезные травы. Чуть выше по течению она приметила окопник с приметными, отогнутыми книзу листьями и поникшими кистями розовых и лиловых колокольчиков. Окопник, который чаще называли костевязом, хорошо сводил синяки и помогал заживлять ссадины и переломы. Решив немного повременить с завтраком, Элэйс прихватила инструмент и снова взялась за работу, остановившись только тогда, когда панир наполнилась до краев, а ткань на обертку была использована до последнего клочка. Тогда она вынесла корзинку на берег, уселась под деревом и вытянула ноги. Спина, плечи и пальцы ныли от усталости, но Элэйс была довольна собой. Подтянувшись, она достала из дупла винный кувшинчик, выданный Жакобом. Пробка выскочила с легким хлопком. Элэйс чуть вздрогнула, почувствовав на языке холодную струйку. Потом она развернула свежую коврижку и оторвала большой кусок. У хлеба появился странноватый привкус соли, речной воды и трав, но голодной девушке показалось, что она в жизни не ела ничего вкуснее. Небо уже стало бледно-голубым, цвета незабудок. Элэйс понимала, что ей давно пора домой. Но по воде плясали золотистые солнечные зайчики, дыхание ветерка гладило кожу, и ей не хотелось возвращаться на шумные улицы Каркассоны, в толкотню замка. Уверив себя, что от нескольких лишних минут беды не будет, Элэйс откинулась навзничь на траву и прикрыла глаза.
Ее разбудил птичий гомон. Элэйс подскочила. Над ней трепетала лиственная крыша, и девушка не сразу вспомнила, где находится. Память нахлынула волной. Элэйс в панике вскочила на ноги. Солнце стояло высоко. Облака исчезли. Нельзя было так задерживаться. Теперь ее наверняка хватились. Торопливо собрав вещи, наскоро ополоснула в реке испачканные землей инструменты, плеснула водой на подсыхающие тряпичные пакетики с травами. Она уже уходила, когда что-то в зарослях камыша зацепило взгляд. Обрубок бревна или коряга? Элэйс прикрыла глаза от солнца, дивясь, что не заметила ее раньше. Нет, ни бревно, ни коряга не могли бы так колыхаться в струях течения. Элэйс подошла ближе. Теперь ей стали видны клочья темной материи, распластавшиеся по воде. Элэйс замешкалась в нерешительности, но любопытство одолело осторожность, и она снова ступила в воду, прошла по отмели к глубокой и быстрой воде на середине русла. Чем дальше она заходила, тем холоднее становилась вода. Элэйс с трудом сохраняла равновесие. Ноги тонули в вязком иле, а вода поднималась выше худых белых коленок, замочив уже юбку. Ровно на середине реки она остановилась. Сердце стучало, и ладони вдруг покрылись липким потом. Теперь она видела. — Payre Sant! Святой отец! — невольно сорвалось с ее губ. В воде лицом вниз лежало тело человека. Вокруг колыхалась ткань плаща. Элэйс с трудом сглотнула. Мужчина был одет в коричневый бархатный кафтан с высоким воротом, отделанным черной атласной каймой и вышитым золотой нитью. Из-под воды блеснул золотом браслет или цепочка. Голова была непокрыта, и она видела черные курчавые волосы с нитями седины. И, кажется, у него было что-то на шее — какая-то алая полоска или лента. Элэйс сделала еще шаг. Первая мысль ее была, что человек, должно быть, сорвался в воду в темноте и захлебнулся. Она уже готова была протянуть к нему руку, когда ее что-то остановило. Какая-то странность была в том, как моталась в воде его голова. Элэйс глубоко вздохнула, не в силах оторвать взгляд от покачивающегося трупа. Ей однажды приходилось уже видеть утопленника. Тело утонувшего моряка страшно разбухло и вздулось, синеватая кожа напоминала цветом застарелый синяк. Здесь было иначе, не так. Казалось, жизнь покинула этого человека прежде, чем он упал в воду. Его безжизненные руки были простерты вперед, словно мертвый пытался плыть. Течение протянуло левую руку прямо к ней. Яркое цветное пятно под самой поверхностью воды привлекло ее взгляд. На месте большого пальца на фоне белой кожи виднелся неровный обрубок. Она снова взглянула на его шею. Колени у нее обмякли. Все вокруг закачалось, как вода неспокойного моря. Неровная алая полоса, которую она приняла за ворот или ленту, оказалась страшной, глубокой раной. Разрез тянулся из-под левого уха под подбородком, почти отделив голову от тела. От раны тянулись пряди разорванной кожи, отмытые водой до зеленого оттенка. Вокруг пировали уклейки и черные раздувшиеся пиявки. На мгновенье Элэйс почудилось, что сердце у нее остановилось. Потом на нее обрушился страх. Развернувшись, девушка бросилась бежать, с плеском разбрызгивая воду, оскальзываясь на илистом дне. Инстинктивно, не думая, она стремилась оказаться как можно дальше от трупа. Платье уже промокло до пояса, и подол путался в ногах, тянул ко дну. Река стала вдруг вдвое шире, чем была, но Элэйс сумела выбраться на твердый берег, прежде чем к горлу подступила тошнота и ее вырвало вином, непереваренным хлебом, речной водой. Где ползком, где на четвереньках, она сумела втащить себя повыше и рухнула наземь под деревьями. Голова кружилась, в пересохшем рту стоял привкус кислятины, но оставаться было нельзя. Элэйс попробовала встать. Ноги не держали. Сдерживая слезы, она утерла рукой рот и попыталась снова, цепляясь за ствол дерева. Теперь ей удалось удержаться на ногах. Непослушными пальцами она стянула с ветки плащ, кое-как втиснула грязные ступни в туфельки, и, побросав вещи, помчалась через лес, словно за ней гнался сам дьявол.
Зной обрушился на нее, едва она выбежала из-под деревьев на открытое болото. Солнце щипало за щеки и шею, рои кусачей мошкары кишели над гнилыми прудами по сторонам тропы, и Элэйс с боем пробивалась вперед. Измученные ноги болели до крика, дыхание стало горячим и шершавым, царапая легкие и горло, но она бежала, бежала. В сознании застряла единственная мысль: оказаться как можно дальше от мертвеца и сказать отцу. Вместо того, чтобы возвращаться тем же путем, каким вышла, — там могло быть заперто, — Элэйс инстинктивно направилась к Сен-Венсену и воротам де Родец, связывавшим Каркассону с пригородами. На улицах была толпа, и Элэйс приходилось проталкиваться вперед. Мир гудел и гомонил все громче по мере того, как она приближалась к городу. Хотелось заткнуть уши, но Элэйс думала только о том, чтобы пробиться к воротам, и молилась, не отказали бы ослабевшие ноги. Какая-то женщина тронула ее за плечо. — Что у тебя с головой, госпожа? — Голос звучал приветливо, но доносился словно издалека. Сообразив, что волосы у нее растрепались и висят клочьями, Элэйс накинула на плечи плащ и натянула капюшон. Пальцы дрожали уже не столько от страха, сколько от изнеможения. Она постаралась запахнуть полы плаща, в надежде скрыть пятна ила, рвоты и травной зелени. Вокруг толкались, торговались, вопили. Элэйс показалось, что она теряет сознание. Она высвободила руку, цепляясь за стену. Стражники у ворот де Родец обычно пропускали местных жителей без вопросов, зато останавливали бродяг и нищих, цыган, сарацин и евреев, допрашивая, какое у них дело в городе, и обыскивая их пожитки с избыточным рвением, пока в их руки не переходил кувшин пива или монета, после чего стражники переходили к следующей жертве. Элэйс они пропустили не глядя. По узким городским улочкам текла река лоточников, разносчиков, скота, солдатни, коновалов, жонглеров, проповедников… В толпе выделялись жены консулов в сопровождении слуг. Элэйс шла, склонив голову, будто навстречу пронзительному северному ветру. Она опасалась наткнуться на знакомых. Наконец впереди открылись знакомые очертания Тур дю Мажор, а за ней — Тур дю Касарн и двойная башня Восточных ворот Шато Комталь. Элэйс облегченно всхлипнула, горячие слезы подступили к глазам. Разозлившись на себя за такую слабость, она до крови закусила губу. Ей уже стыдно было за свой отчаянный испуг, а расплакаться на людях, слезами выдавая свидетелям недостаток отваги, было бы слишком большим унижением. Ей просто надо было скорей найти отца.
ГЛАВА 3
Кастелян Пеллетье находился в подвальной кладовой рядом с кухней. Он только что закончил еженедельный учет хлебных припасов и с удовлетворением убедился, что ни зерно, ни мука не тронуты плесенью. Бертран Пеллетье провел на службе у виконта Тренкавеля более восемнадцати лет. Холодной зимой 1191 года он был вызван на родину, в Каркассону, чтобы занять пост кастеляна — управителя замка — при девятилетнем Раймоне Роже, наследнике земель Тренкавелей. Он ждал этого приказа и не замедлил явиться вместе с беременной женой-француженкой и двухлетней дочерью. Холодный сырой Шартр никогда не нравился Пеллетье. Дома он нашел мальчика, в одночасье повзрослевшего, оплакивавшего потерю родителей и всеми силами стремившегося достойно совладать с ответственностью, обрушившейся на его неокрепшие плечи. С тех пор Пеллетье неотступно был рядом с виконтом Тренкавелем: сперва в числе домочадцев опекуна и министра Раймона Роже, Бертрана де Сайссака, затем под покровительством графа де Фуа. Когда Раймон Роже достиг совершеннолетия и вернулся в Шато Комталь как законный владетель Каркассоны, Безьера и Альби, Пеллетье вернулся с ним. Управитель должен был обеспечивать гладкое течение жизни всего замка. Кроме того, кастелян входил в дела консулов, распоряжавшихся, судивших и собиравших подати от имени владетеля. Но главное, он был доверенным советником и другом Тренкавеля, и никто не обладал большим влиянием на виконта. Шато Комталь был полон знатных гостей, и с каждым днем прибывали новые. Сеньоры крупнейших в землях виконта шато с женами, и самые доблестные, прославленные шевалье Миди. По случаю ежегодного летнего турнира, в честь праздника Святого Назария в конце июля, были приглашены лучшие менестрели и трубадуры. Виконт твердо решил заставить своих гостей забыть о тени войны, почти год уже угрожавшей их землям, устроив самый блестящий за время своего правления турнир. Пеллетье, в свою очередь, решил, что ничто не будет оставлено на волю случая. Заперев дверь кладовой одним из множества ключей, свисавших на железном крюке с его пояса, он зашагал по коридору. — Теперь винный погреб, — бросил он своему слуге Франсуа. — Последняя бочка оказалась кислой. Проходя по коридору, Пеллетье останавливался у каждой двери, чтобы взглянуть, все ли там в порядке. Бельевая благоухала лавандой и тимьяном и была пуста, словно дожидалась кого-то, кто своим появлением вернет ей жизнь. — Те скатерти выстираны? Готовы? — Ос, мессире. Напротив винного погреба слуги закатывали в бочки солонину. Под потолком висели бечевки с тонкими ломтями мяса. В уголке сидел низальщик, нанизывавший на веревки и вешавший на просушку гирлянды грибов, луковиц и головки чеснока. При появлении кастеляна все прервали свои занятия и смолкли. Несколько слуг помоложе смущенно вскочили на ноги. Пеллетье молча обвел ничего не упускающим взглядом кладовую, одобрительно кивнул и вышел. Он уже отпирал замок винного погреба, когда сверху послышались звуки бегущих шагов и восклицания. — Узнай, что там, — недовольно приказал он. — Меня отвлекают от дела. — Мессире. — Поклонившись, Франсуа поспешно взбежал по лестнице, чтобы выяснить причину шума. Пеллетье толкнул тяжелую дверь и вошел в погреб, вдыхая знакомые запахи сырого дерева с кисловатым привкусом пролитого вина и пива. Он неторопливо прошел вдоль рядов бочек, отыскивая нужную, взял со стола приготовленную глиняную чашку и бережно, чтобы не взболтать вино внутри бочки, ослабил втулку. Шум в коридоре заставил его насторожиться. Кастелян опустил чашу. Кто-то звал его по имени. Что-то случилось. Пеллетье вернулся к двери и рывком распахнул ее.Элэйс слетела по лестнице, словно за ней гналась стая псов. Сзади поспешал Франсуа. При виде усталого отца, стоявшего среди винных бочек, она вскрикнула, бросилась к нему и спрятала заплаканное лицо у него на груди. От знакомого утешительного запаха ей снова захотелось плакать. — Sant Foy, — что такое? Что с тобой? Ты ранена? Говори же! Она расслышала в его голосе тревогу. Чуть отстранилась и попыталась заговорить, но слова застревали в горле. — Отец, я… Он испуганно оглядел растрепанную, грязную дочь и устремил вопросительный взгляд через ее голову на Франсуа. — Мессире, я нашел госпожу Элэйс в таком виде… — И она ничего не сказала о причине такого… отчаяния? — Ничего. Только что ей нужно немедленно видеть тебя, мессире. — Хорошо. Теперь оставь нас. Если понадобишься, я позову. Элэйс услышала, как закрылась дверь, потом ощутила на своих плечах объятия тяжелой отцовской руки. Он подвел ее к лавке, тянувшейся вдоль стены погреба, усадил. — Ну-ну, filha, — заговорил он не так сурово и пальцами отвел с ее лица прядь волос. — Это непохоже на тебя. Расскажи мне, что стряслось. Элэйс сделала новую попытку овладеть собой. Сколько тревог и беспокойства она доставляет отцу! Она вытерла чумазые щеки отцовским платком, протерла покрасневшие глаза. — Выпей-ка… — Он вложил ей в руку чашу вина и уселся рядом с дочерью. Дряхлая лавка заскрипела и прогнулась под его тяжестью. Франсуа ушел. Здесь никого, кроме нас с тобой. Надо опомниться и рассказать мне, что тебя так огорчило. Не Гильом ли? Потому что если это он, даю слово, я… — Гильом вовсе не виноват, paire, — поспешно заверила Элэйс. — Никто не виноват… Она бросила на него быстрый взгляд и снова потупила глаза, стыдясь, что сидит перед ним в таком виде. — Тогда что же? — настойчиво повторил он. — Как я могу тебе помочь, если ты не говоришь, что случилось? Элэйс с трудом сглотнула. Виноватая, испуганная, она не знала, как начать. Пеллетье взял ее руки в свои. — Ты дрожишь, Элэйс. Она слышала в его голосе любовь и заботу, чувствовала, как трудно ему скрывать свои опасения. — И погляди, что с твоим платьем… — Двумя пальцами он приподнял край плаща. — Мокрая, вся в грязи… Как ни старался отец скрыть свое волнение, Элэйс видела, как он встревожен, как устал. Морщины на лице, словно глубокие шрамы. Она только сейчас заметила, сколько седины у него на висках. — Когда это бывало, чтобы тебе не хватало слов? — снова заговорил он, стараясь шуткой рассеять ее оцепенение. — Рассказывай-ка, что приключилось, э? У Элэйс дрогнуло сердце при виде выражения любви и заботы, написанных на его лице. — Я боюсь, что ты рассердишься, paire. По правде сказать, ты вправе сердиться. Взгляд стал пристальней, но улыбка не исчезла с губ. — Обещаю, что не стану бранить тебя, Элэйс. Ну же, говори. — Даже если я признаюсь, что ходила на реку? Он помедлил, но голос звучал все так же ровно. — Даже тогда. «Чем раньше признаешься, тем скорей уладится». Элэйс сложила руки на коленях. — Сегодня утром, перед самым рассветом, я пошла на реку, туда, где всегда собирала травы. — Одна? — Одна, да… — Она встретила его взгляд. — Я помню, что обещала тебе, paire, и прошу простить за непослушание. — Пешком? Она кивнула и замолчала, пока он не махнул рукой, ожидая продолжения. Я там довольно долго пробыла. Никого не видела. Когда уже собиралась уходить, заметила в воде что-то вроде тюка материи. Хорошей материи. На самом деле… — Элэйс осеклась, чувствуя, как кровь отхлынула от щек. — На самом деле там был труп. Мужчины. С темными курчавыми волосами. Сперва я думала, он утонул. Мне было плохо видно. Потом разглядела: у него горло перерезано. Отец окаменел. — Ты не трогала тело? Элэйс замотала головой. — Нет, но… — Она смущенно опустила глаза. — Я испугалась. Боюсь, я потеряла голову. Все там побросала. Только и думала, как оттуда выбраться и рассказать тебе, что нашла. Он снова нахмурился. — И ты никого не видела? — Ни души. Место совсем пустынное. Но я, когда увидела мертвеца, испугалась, что те, кто его убил, где-то рядом. — Голос у нее дрогнул. — Мне казалось, я чувствую на себе их взгляды. Будто за мной подглядывают. Так мне подумалось. — Значит, с тобой ничего дурного не случилось, — осторожно проговорил он, тщательно выбирая слова. — Никто тебя не задержал? Не обидел? Краска, показавшаяся на щеках Элэйс, доказывала, что она поняла, о чем думает отец. — Ничего плохого со мной не случилось, кроме того, что моя гордость пострадала и… ты на меня сердишься. Она заметила облегчение на лице отца, когда он улыбнулся, и впервые за время разговора улыбка отразилась в глазах. — Ну, — вздохнул он, — забыв на время о твоем безрассудстве, Элэйс, и о твоем непослушании… Не будем пока о нем… Ты правильнопоступила, что рассказала мне. Он протянул руку, и ее маленькие тонкие пальчики скрылись под его широкой ладонью, шершавой, как дубленая кожа. Элэйс благодарно улыбнулась. — Прости меня, paire. Я не хотела обманывать тебя, но просто… Он отмахнулся от извинений. — Не будем больше об этом. Что касается того несчастного, тут уж ничего не поделаешь. Разбойники давно скрылись. Едва ли они стали бы болтаться вокруг, дожидаясь, пока их поймают. Элэйс насупилась. Слова отца затронули что-то в памяти. Она зажмурилась, представляя, будто снова стоит в ледяной воде, разглядывая тело убитого. — Одно странно, отец, — нерешительно проговорила она. — Не думаю, чтоб это были разбойники. Они не сняли с него плаща — красивого и на вид дорогого. И украшения остались на нем. Золотой браслет на запястье, кольца… Воры обобрали бы убитого донага. — Ты уверяла, будто не трогала тела, — сурово напомнил он. — Я и не трогала. Но мне видны были его руки под водой, понимаешь? Золотой браслет из переплетенных звеньев, еще цепь на шее. Почему бы они оставили такие ценности? Элэйс вдруг замолчала, припомнив бескровные, призрачные руки, протянутые навстречу ей, кровь и обломок кости на месте большого пальца. Голова снова закружилась. Откинувшись к сырой холодной стене, Элэйс постаралась сосредоточиться на ощущении твердого дерева скамьи под собой, кислом винном запахе в ноздрях, пока дурнота не отступила. — Крови не было, — продолжала она, — открытая рана, красная, как кусок мяса. — Она глотнула. — Большого пальца не было, и… — Не было? — резко перебил отец. — Что значит, не было? Элэйс взглянула на него, удивленная переменой тона. — Палец был отрублен. Вместе с костью. — На какой руке, Элэйс? — Теперь отец не скрывал тревоги. — Подумай, это очень важно. — Я не… Он словно не слышал ее. — На какой руке? — На левой руке, на левой! Точно. С той стороны, что ближе ко мне. Он лежал головой против течения. Пеллетье вскочил со скамьи, громко окликая Франсуа, распахнул дверь. Элэйс бросилась за ним, потрясенная явным испугом отца. — Что случилось? Скажи мне, ну пожалуйста. Какая разница, правая рука или левая? — Немедленно приготовь лошадей, Франсуа. Моего гнедого мерина, серую для госпожи и еще одного для тебя. Франсуа был непроницаем, как всегда. — Слушаюсь, мессире. Далеко едем? — Только до реки. — Пеллетье поторопил слугу взмахом руки. — Быстро, и принеси мой меч. И чистый плащ для госпожи Элэйс. Мы будем ждать тебя у колодца. Как только Франсуа удалился за пределы слышимости, Элэйс бросилась к отцу. Но тот отказывался встретиться с ней взглядом. Вместо этого он прошел к бочонку и нетвердой рукой налил себе вина. Густая красная жидкость перелилась через край глиняной чашки и растеклась по полу. — Paire, — упрашивала Элэйс, — скажи, что случилось? Зачем тебе ехать на реку? Разве это твое дело? Пусть Франсуа едет, я скажу ему куда. — Ты не понимаешь. — Так объясни, чтобы я поняла. Можешь мне довериться. — Я должен сам увидеть тело. Убедиться… — В чем убедиться? — с готовностью подхватила Элэйс. — Нет, нет, — повторил Пеллетье, качая седой головой. — Тебе нельзя… — Его голос сорвался. — Но… Кастелян вскинул руку, разом овладев собой. — Хватит, Элэйс. Тебе придется проводить меня. Я предпочел бы избавить тебя от этого, но не могу. У меня нет выбора. — Он сунул ей в руку чашку. — Выпей, вино подкрепит тебя, придаст тебе храбрости. — Я не боюсь, — возразила Элэйс, обиженная, что отец принял ее уговоры за проявление трусости. — Я не боюсь смотреть на мертвых. Тогда я просто от неожиданности так сорвалась. — Она замялась. — Однако, умоляю тебя, мессире, сказать мне, что… — Хватит! — рявкнул на нее Пеллетье. Элэйс отшатнулась, как от удара. — Прости, — тут же спохватился он, — я нынче не в себе. Он протянул руку и погладил дочь по щеке. — Какой отец мог бы пожелать более любящей, преданной дочери? — Тогда почему ты мне не доверяешь? Он помедлил, и на минуту Элэйс поверила, что убедила отца. Но его лицо снова замкнулось. — Ты только покажешь мне место, — проговорил он бесцветным голосом. — Прочее оставь мне.
Они выехали из Западных ворот Шато Комталь под звон колоколов собора Святого Назария, отбивавших третий час. Отец ехал впереди, Элэйс и Франсуа — следом за ним. Она поникла в седле, несчастная от чувства вины за выходку, так растревожившую отца, и от досады на непонятность происходящего. Всадники выбрали для спуска узкую сухую дорожку, зигзагом уходившую под городскую стену. Добравшись до полого го берега, пустили лошадей легким галопом. У реки свернули вверх по течению. Когда выехали на болота, солнце начало немилосердно жечь спины. Над окнами трясины и протоками вилась мошкара и черные болотные мухи. Кони топали копытами, со свистом взмахивали хвостами, пытаясь согнать с тонкой летней шкуры кусачую нечисть. Элэйс видны были прачки, полоскавшие белье на дальнем берегу Од. Женщины стояли на отмели, ударяя простынями о серый камень, выступающий из воды. С деревянного мостика, связывавшего северные пригороды Каркассоны с деревнями на том берегу, доносился монотонный рокот колес, кто-то переходил реку вброд по разливу — непрерывно тянулся ручеек крестьян и торговцев. Одни несли на плечах детишек, другие гнали коз и мулов. Все эти люди направлялись на рыночную площадь. Всадники ехали молча. Когда с солнцепека они вошли в тень болотного ивняка, Элэйс понемногу углубилась в свои мысли. Привычное покачивание лошадиной спины, пение птиц и бесконечный звон цикад в тростниках успокоили ее, так что девушка почти забыла о цели их путешествия. Она снова напряглась, когда тропинка вошла в лес. Растянувшись цепочкой, они неторопливо выбирали путь среди деревьев. Здесь Элэйс насторожилась, беспокойно прислушиваясь к каждому шороху. Ей чудилось, будто ивы зловеще склоняются к ней, а из их густой тени за ними следят враждебные глаза. Сердце пускалось вскачь от каждого удара птичьих крыльев. Элэйс едва ли знала, чего ожидает, однако, когда они выехали на поляну, все здесь было мирно и спокойно. Ее корзинка стояла под деревом, на том самом месте, где ее оставила хозяйка, и из матерчатых свертков торчали ушки листьев. Элэйс спешилась, отдала поводья Франсуа и подбежала к краю воды. Инструменты лежали нетронутыми. Элэйс подскочила, когда отец тронул ее за локоть. — Показывай, — сказал он. Ни слова не говоря, она провела отца вдоль берега и показала то самое место. Сперва Элэйс ничего не увидела и успела задуматься, не напугалась ли она дурного сна. Но нет: в камышах, чуть дальше по течению, чем прежде, лежало тело. Она показала: — Там. У кочки костевяза. Она с изумлением увидела, как отец, вместо того чтобы позвать Франсуа, скинул плащ и сам полез в воду. — Стой там, — бросил он ей через плечо. Элэйс села на траву и, подтянув колени к подбородку, смотрела, как отец бредет по мелководью, не замечая, что вода заливается через края сапог. Добравшись до тела, он остановился и вытянул меч. Помедлил немного, словно приготовляясь к худшему, потом кончиком клинка осторожно приподнял из воды левую руку мертвеца. Раздутая синяя кисть замерла на мгновение и скользнула вдоль серебристого лезвия к рукояти, будто живая. Затем она с плеском сорвалась обратно в воду. Пеллетье вернул меч в ножны, наклонился и перевернул труп. Тело закачалось в воде, голова тяжело дернулась, словно норовила сорваться с шеи. Элэйс поспешно отвернулась. Ей не хотелось видеть отпечатка смерти на незнакомом лице.
Возвращался отец совсем в другом настроении. Он явно испытывал облегчение, будто свалил с плеч тяжелую ношу. Перешучивался с Франсуа, а встречаясь глазами с дочерью, всякий раз ласково улыбался ей. Элэйс, хоть и вымоталась и по-прежнему злилась, что не понимает смысла происходящего, тоже облегченно вздыхала: все кончилось хорошо. Сейчас поездка напоминала ей прежние прогулки с отцом, когда у них еще хватало времени побыть вместе. Все же, когда они свернули от реки, направляясь наверх к Шато, она не сумела сдержать любопытства и решилась задать отцу вопрос, давно вертевшийся на кончике языка. — Ты узнал, что хотел узнать, paire? — Да. Элэйс выждала, хотя было уже ясно, что объяснения придется вытягивать из него по словечку. — Это был не он, да? Отец резко обернулся к ней. Она настаивала: — Ты подумал, из моих слов, что знаешь того человека? Потому и хотел сам увидеть тело? По тому, как блеснули его глаза, она убедилась, что права. — Я подумал, что это может оказаться знакомый, — наконец признал он. — По Шартру. Давний друг. — Но он же еврей… Пеллетье поднял бровь: — В самом деле? — Еврей, — повторила она, — и все-таки друг? На этот раз Пеллетье улыбнулся. — Это оказался не он. — А кто? — Не знаю. Минуту Элэйс молчала. Она твердо помнила, что отец никогда не упоминал такого друга. Отец был добрым человеком и отличался терпимостью, и тем не менее, если бы он хоть раз заговорил о дружбе с евреем, она бы запомнила. Элэйс слишком хорошо знала отца, чтобы пытаться вытянуть из него что-нибудь против его воли. Она зашла с другой стороны. — Это не ограбление? Тут я была права? На этот вопрос отец ответил легко. — Нет. Преднамеренное убийство. Рана слишком глубокая, не случайный удар. Кроме того, они оставили на мертвом почти все ценное. — Почти все? Но Пеллетье снова замолчал. — Может, им помешали? — предположила она, рискнув немного поднажать. — Не думаю. — Или, может, они искали что-то определенное? — Хватит, Элэйс. Не время и не место. Она открыла рот, не желая отступаться, — и закрыла снова. Разговору конец. Больше она ничего не узнает. Лучше выждать, пока отец будет в настроении поговорить. Дальше они ехали молча. Ближе к Западным воротам Франсуа выехал вперед. — Благоразумнее будет ни с кем не обсуждать нашу утреннюю прогулку, — поспешно предупредил отец. — Даже с Гильомом? — Не думаю, что твой супруг обрадуется, услышав о твоих одиноких прогулках на реку, — сухо отозвался он. — Слухи расходятся быстро. Тебе лучше отдохнуть и постараться выкинуть из головы это неприятное дело. Элэйс с простодушным видом встретила его взгляд. — Конечно. Как скажешь, paire. Обещаю, не буду говорить об этом ни с кем, кроме тебя. Пеллетье нахмурился, подозревая подвох, потом улыбнулся: — Ты послушная дочь, Элэйс. Я знаю, тебе можно доверять. Элэйс невольно покраснела.
ГЛАВА 4
Русоволосый мальчуган с янтарными глазами, удобно примостившийся на крыше таверны, обернулся посмотреть, откуда шум. Гонец галопом скакал по городской улочке от Нарбоннских ворот, не замечая никого на своем пути. Мужчины кричали ему, что нужно спешиться, женщины выхватывали детей из-под тяжелых копыт. Пара спущенных с цепи собак с лаем гнались за лошадью, норовя ухватить за ляжки. Всадник не оборачивался. Конь у него был в мыле. Даже издалека Сажье видел полосы белой пены на холке и на морде коня. Всадник на всем скаку завернул к мосту Шато Комталь. Чтобы не упустить его из виду, Сажье привстал, опасно балансируя на узком неровном черепичном карнизе, и успел увидеть кастеляна Пеллетье, выехавшего из ворот замка на огромном гнедом, и за ним Элэйс, тоже верхом. «Странный у нее вид, — отметил он. — Интересно, куда это они собрались. Одеты не для охоты». Элэйс нравилась Сажье. Каждый раз, заходя к его бабушке Эсклармонде, она с ним разговаривала. Не то что другие дамы из замка. Те его будто не замечали, им только и нужно было, чтобы бабушка — menina — приготовила им зелье или лекарство: от лихорадки, от опухоли, для облегчения родов или для сердечных дел. Но за все годы преклонения перед Элэйс Сажье ни разу не видал ее такой, как только что. Мальчик повис, цепляясь за край черепицы, и мягко спрыгнул вниз, едва не придавив курицу, привязанную к покосившейся тележке. — Эй, смотри, что делаешь! — прикрикнула женщина. — Я ее даже не задел, — отозвался мальчуган, уворачиваясь от метлы. Город гудел, блестел, пах базарным днем. В каждом проулке стучали о камень деревянные ставни: слуги и хозяева отворяли окна, впуская в дом утреннюю прохладу. Бондари приглядывали за подмастерьями, которые наперегонки катили к тавернам громыхающие по мостовой бочки. Повозки скрипели, подпрыгивая на камнях, застревая на ухабах улицы, ведущей к рыночной площади. Сажье изучил все переулки города и легко перемещался в толпе, пробираясь сквозь лес ног и рук, отскакивая из-под копыт, проталкиваясь среди овечьих и козьих спин, между ослами и мулами, нагруженными корзинами и вьюками. Мальчишка немногим старше его сердито погонял стаю гусей. Птицы гоготали, клевали друг друга, щипали босые ноги двух маленьких девочек, стоявших в сторонке. Сажье подмигнул малышкам и решил рассмешить. Пристроившись за самым противным гусаком, он захлопал руками, как крыльями. — Ты что это делаешь? — завопил мальчишка. — А ну, вали! Девчушки смеялись. Сажье загоготал, и тут старый серый гусак развернулся, вытянул шею и злобно зашипел ему прямо в лицо. — Так тебе и надо, pec, — процедил мальчишка. — Болван долбаный! Сажье отскочил от удара оранжевого клюва. — Ты бы получше за ними следил! — Только малявки боятся гусей, — фыркнул мальчишка и подбоченившись, встал перед Сажье. — Малютка испугался гусяток! Nenon! — Я и не боюсь, — огрызнулся Сажье и оглянулся на девочек, спрятавшихся за подол матери. — Вот они боятся. Ты бы смотрел, что делаешь. — А тебе какое дело, а? — Просто говорю, что надо смотреть. Мальчишка придвинулся ближе, взмахнул прутом над головой Сажье. — Это кто меня заставит? Уж не ты ли? Пастух был на голову выше Сажье, весь в синяках и багровых отметинах гусиных щипков. Сажье попятился на шаг и поднял руку. — Я говорю, не ты ли меня заставишь? — повторил мальчишка, готовясь к драке. От слов, конечно, дошло бы до кулаков, если бы пьянчуга, дремавший у стены, не проснулся и не завопил на мальчишек, чтобы убирались и не тревожили добрых людей. Сажье воспользовался случаем и удрал. Солнце уже выглядывало из-за самых высоких крыш, проливая на улицы полосы света и блестя на подкове, вывешенной над дверью кузницы. Сажье задержался, чтобы заглянуть внутрь. Жар кузнечных мехов ударил ему в лицо еще в дверях. Вокруг горнов стояли в ожидании несколько мужчин и мальчиков, державших в руках шлемы, щиты и кирасы своих рыцарей. Все это добро требовало починки. Сажье догадался, что кузнец в Шато Комталь по горло завален работой. Безродного Сажье никто не взял бы даже в ученики, но это не мешало ему в мечтах воображать себя шевалье с собственным гербом. Он попробовал улыбнуться одному-двум пажам его лет, но те, как и следовало ожидать, смотрели сквозь него. Так всегда было и всегда будет. Сажье отвернулся и ушел. На рынке большинство торговцев были постоянными и, как правило, занимали привычные места. Запах горячего сапа ударил в нос, едва Сажье вышел на рыночную площадь. Мальчик повертелся у жаровни, на которой жарили оладьи, поворачивая их на раскаленной сковороде. От запаха густого бобового супа и теплого хлеба — mitadenk, испеченного из смеси ячменной и пшеничной муки, у него разгорелся аппетит. Сажье прошел вдоль прилавков, где торговали горшками и ведрами, сукнами, мехами и кожами, местным товаром и более редкостными поясами и кошелями, привезенными из Кордовы и из-за моря, но останавливаться не стал. Замедлил шаг у прилавка, на котором лежали овечьи ножницы и ножи, оттуда перешел в уголок площади, где держали живность. Здесь всегда было множество цыплят и каплунов в деревянных клетках, попадались и насвистывавшие, щебетавшие жаворонки и крапивники. Любимцами Сажье были кролики, сбивавшиеся в сплошной коврик коричневого, черного и белого меха. Он миновал продавцов зерна и муки, белого мяса, бочонков с пивом и вином и оказался перед лавкой, торгующей травами и чужеземными пряностями. За стойкой стоял купец — Сажье впервые видел такого высокого и такого черного человека. Чужеземец был одет в голубое переливчатое одеяние, блестящий шелковый тюрбан и красные, шитые золотом туфли. Кожа у него была еще темней, чем у цыган, приходивших через горы из Наварры и Арагона. «Должно быть, сарацин», — догадался Сажье, никогда прежде не встречавшийся с этим народом. Купец разложил свой товар по кругу: казалось, лежит колесо от нарядной телеги, выкрашенное в зеленый и желтый, рыжий и коричневый, красный и охру. Ближе к покупателю лежали розмарин и петрушка, чеснок, лаванда и календула, а на дальней стороне — пряности подороже, такие как кардамон, мускатный орех и шафран. Остальное было незнакомо Сажье, но мальчик уже предвкушал, как расскажет об увиденном бабушке. Он хотел подойти ближе, чтобы получше все разглядеть, когда сарацин вдруг взревел громовым голосом. Его тяжелая темная рука сцапала за запястье тощую лапку карманника, пытавшегося вытянуть монету из вышитого кошеля, свисавшего с витого алого пояса купца. От тяжелого подзатыльника мальчишка отлетел прямо на проходившую женщину. Та завизжала. Начинала собираться толпа. Сажье потихоньку удрал. Он не желал ввязываться в неприятности.С площади Сажье зашел к таверне Святого Иоанна Евангелиста. Денег у него не было, но в душе теплилась надежда, что удастся заработать кружку пива, сбегав по какому-нибудь поручению. У таверны кто-то окликнул его по имени. Обернувшись, Сажье увидел бабушкину приятельницу, сидевшую вместе с мужем за прилавком. Женщина махала ему рукой. Она была пряхой, а ее муж — чесальщиком. Неделю за неделей мальчик находил их на том же месте: он расчесывал шерсть, она сучила пряжу. Сажье махнул в ответ. Госпожа — na — Марти, как и бабушка Эсклармонда, принадлежала к последователям Новой церкви. Ее муж, сеньер Марти, не был верующим, хотя вместе с женой заходил к Эсклармонде на Троицу послушать проповеди Bons Homes. Тетушка Марти взъерошила мальчику волосы. — Как поживаешь, юный господин? Так вырос, что тебя и не узнаешь. — Спасибо, хорошо, — с улыбкой отозвался он и повернулся к ее мужу, связывавшему шерсть в пучки, готовые на продажу. — Bonjorn, сеньер! — А Эсклармонда? — продолжала тетушка. — С ней тоже все хорошо? Держит всех в строгости, как всегда? Сажье ухмыльнулся: — Да уж, как всегда. — Ben, ben. Хорошо!.. Сажье, подогнув колени, уселся у ног пряхи, глядя, как крутится колесо прялки. — Na Марти, — заговорил он, помолчав, — почему ты больше к нам не приходишь? Сеньер Марти отложил шерсть и переглянулся с женой. — Да ты знаешь, — ответила тетушка Марти, отводя взгляд, — столько дел! Мы теперь реже выбираемся в Каркассону. Она поправила веретено и продолжала прясть, заполняя жужжанием колесика установившееся молчание. — Menina по тебе скучает. — И я соскучилась, но друзья не могут все время проводить вместе. Сажье нахмурился: — Почему же тогда… Сеньер Марти торопливо похлопал его по плечу. — Не так громко, — понизив голос, предупредил он. — О таких делах лучше помалкивать. — О чем помалкивать? — удивился мальчик. — Я только… — Мы слышали, Сажье, — перебил сеньер Марти, оглядываясь через плечо. — Весь рынок слышал. Хватит о молитвах, а? Недоумевая, чем он так рассердил сеньера Марти, Сажье поднялся на ноги. Госпожа Марти обернулась к мужу. Оба, казалось, забыли о нем. — Ты с ним слишком резок, Роже, — прошипела она. — Он ведь всего лишь мальчик. — А и нужен-то всего один длинный язык, чтобы нас причислили ко всем прочим. Нам рисковать нельзя. Если люди подумают, что мы водимся с еретиками… — Какие там еретики, — огрызнулась жена. — Он совсем ребенок. — Я не о мальчике. Об Эсклармонде. Всем известно, что она из этих. Узнают, что мы ходили молиться в ее дом, так и нас зачислят в последователи Bons Homes и осудят. — Что же нам, бросить друзей? Только оттого, что ты наслушался страшных историй? Сеньер Марти заговорил еще тише. — Я только сказал, что надо быть осторожней. Знаешь ведь, что люди говорят. Целое войско собралось, чтоб изгнать еретиков. — Это сколько лет уже говорят. Слишком ты много шума поднимаешь. Что до легатов, эти «слуги Господа» давно бродят по селам, спиваются до смерти, и что из того? Пусть епископы спорят между собой, а нас оставят жить, как умеем. Она отвернулась от мужа и положила руку на плечо Сажье: — Не обращай внимания. Ты ничего плохого не сделал. Сажье уставился ей под ноги, не желая, чтобы женщина не видела его слезы. Тетушка Марти продолжала с напускным весельем: — Между прочим, ты, помнится, говорил, что хочешь сделать госпоже Элэйс подарок? Давай попробуем что-нибудь подыскать. Сажье кивнул. Он понимал, что женщина старается успокоить его, но чувствовал смятение и стыд. — Мне нечем платить, — выговорил он. — Ну, об этом не беспокойся. Один разок обойдемся и так. Ну-ка, взгляни. Она пробежала пальцами по моткам цветной пряжи. — Как насчет этого? По-твоему, ей понравится? Как раз под цвет ее глаз. Сажье тронул пальцем гонкие медно-коричневые нити. — Не знаю. — Ну а я думаю, что понравится. Сейчас заверну. Она оглянулась, подбирая кусок ткани на обертку. Сажье не хотелось казаться неблагодарным, и он постарался поддержать разговор: — Я ее недавно видел. — Кого, Элэйс? И как она? С сестрой была? Он поморщился. — Нет. Но все равно она выглядела не слишком радостной. — Ну, — подхватила тетушка Марти, — если она чем-то огорчена, тем больше причин порадовать ее подарком. Это ее развеселит. Элэйс ведь обычно выходит по утрам на рынок, верно? Держи глаза открытыми, будь посмекалистей, и ты ее наверняка найдешь. Обрадовавшись предлогу оборвать неловкий разговор, Сажье спрятал сверток под рубаху и распрощался. Через несколько шагов он обернулся, чтобы махнуть рукой. Супруги Марти стояли бок о бок, глядели ему вслед и молчали.
Солнце стояло уже высоко. Сажье долго бродил по городу в поисках Элэйс, но никто ее не видал. Мальчик основательно проголодался и решил было, что с тем же успехом можно отправляться домой, когда наконец заметил Элэйс, стоявшую перед лотком с козьим сыром. Сажье бегом бросился к ней и, подкравшись на цыпочках сзади, крепко обхватил за пояс. — Bonjorn! Элэйс, вздрогнув, обернулась и тут же расплылась в широкой улыбке, узнав приятеля. — Сажье, — она взъерошила ему волосы, — ты меня застал врасплох. — Я тебя всюду ищу, госпожа, — ухмыльнулся он. — У тебя все хорошо? Утром ты вроде была не в себе. — Утром? — Ты, госпожа, въезжала в Шато вместе с отцом. Следом за гонцом. — Ах, утром, — повторила она. — Не беспокойся, все отлично. Просто утро выдалось хлопотливое. Однако как приятно видеть твою веселую рожицу! Она чмокнула мальчика в макушку, отчего он побагровел и уставился себе под ноги, чтобы спрятать лицо. — Ну, раз уж ты здесь, помоги-ка мне выбрать сыр. Гладкие круги белого козьего сыра, втиснутые в плоские деревянные миски, ровными рядами лежали на чистой соломенной подстилке. Среди них попадались чуть пожелтевшие — более ароматные. Этот сыр был выдержан дольше — может, недели две. Мягкие свежие круги влажно блестели на солнце. Элэйс расспросила о цене на те и другие, посоветовалась с Сажье, и они наконец нашли подходящий кусок. Элэйс вынула из кошелька монетку и отдала своему помощнику, чтобы он расплатился с торговцем, пока она доставала маленькую полированную дощечку, чтобы уложить на нее покупку. Сажье заметил узор на обороте дощечки, и глаза у него стали круглыми от удивления. Как это оказалось у Элэйс? Почему? В замешательстве он уронил наземь монетку и нырнул за ней под прилавок, радуясь случаю скрыть смущение. Вынырнув обратно, он с облегчением убедился, что Элэйс ничего не заметила, и Сажье решил пока выкинуть это дело из головы. Зато он набрался храбрости вручить ей подарок. — У меня для тебя кое-что есть, госпожа, — пробормотал он, без предупреждения сунув сверток ей в руку. — Как чудесно. От Эсклармонды? — Нет, от меня. — Какой замечательный сюрприз. Можно развернуть? Он кивнул, сохраняя серьезный вид, но глаза его блестели от волнения, пока девушка разворачивала пряжу. — Ой, Сажье, какая красота, — воскликнула Элэйс, любуясь блестящей золотистой нитью. — Настоящая красота! — Это я не украл, — торопливо заверил мальчуган. — Мне na Марти дала. По-моему, она хотела извиниться. Сажье пожалел о своих словах, едва они слетели у него с языка. — За что извиниться? — сразу спросила Элэйс. В ту же минуту поднялся крик. Какой-то человек рядом с ними кричал, тыча пальцем в небо, где низко над городом, вытянувшись стрелой с запада на восток, пролетала стая больших черных птиц. Солнце, казалось, соскальзывало с их гладкого черного оперения, как искры с наковальни. Вокруг все твердили, что это знамение, и только не могли договориться, доброе или дурное. Сажье не был подвержен таким суевериям, но тут и он вздрогнул. И Элэйс, видно, что-то почувствовала, потому что обняла его за плечи и притянула к себе. — Что случилось? — спросил мальчик. — Res, — слишком уж торопливо откликнулась она. — Ничего. Птицы продолжали свой путь в небе и уже казались черной кляксой у горизонта. Их не касались тревоги человеческого мира.
ГЛАВА 5
К тому времени, как Элэйс, оставив верного как тень Сажье в городе, вернулась в Шато Комталь, колокола собора Святого Назария уже звонили полдень. Она измучилась и несколько раз спотыкалась на лестнице, казавшейся круче, чем обычно. Хотелось лишь рухнуть на кровать в собственной спальне и отдохнуть. С удивлением Элэйс обнаружила дверь в свою комнату закрытой. Казалось бы, слуги должны были успеть закончить приборку. Занавесь балдахина над кроватью была по-прежнему задернута. В полумраке Элэйс разглядела, что Франсуа поставил корзинку у очага, как она просила. Элэйс положила дощечку с сыром у кровати и прошла к окну, чтобы откинуть ставни. Их давно следовало открыть и проветрить спальню. Дневной свет залил комнату, открыв взгляду слой пыли на мебели и заплаты на протертых занавесях. Элэйс вернулась к постели, откинула занавески. К ее изумлению, Гильом все спал. Приоткрыв рот, она разглядывала мужа. Он выглядел таким спокойным, таким красивым. Даже Ориана, от которой трудно было дождаться доброго слова, признавала, что Гильом — один из самых приглядных шевалье виконта. Элэйс присела рядом с ним на постель и тихонько погладила его кожу. Потом, неожиданно расхрабрившись, ковырнула пальцем мягкий сыр и поднесла крошку к его губам. Гильом забормотал и пошевелился под одеялом. Глаз он не открывал, но лениво улыбнулся и протянул руку. Элэйс затаила дыхание. В воздухе будто повисло ожидание и предвкушение — и она позволила мужу притянуть себя к груди. Интимность минуты была нарушена шумом в коридоре. Кто-то громко, искаженным от злости голосом выкрикивал имя Гильома. Элэйс отскочила. Ее ужаснула мысль, что отец застанет их в таком положении. Гильом распахнул глаза в тот самый миг, когда в дверях появился взбешенный Пеллетье, за которым следовал Франсуа. — Опаздываешь, дю Мас, — заорал он, срывая с ближайшего кресла плащ и швыряя заспавшемуся зятю. — Поднимайся. Все уже в Большом зале и ждут тебя. Гильом завозился, поднимаясь: — В Большом зале? Виконт Тренкавель созывает своих шевалье, а ты тут спишь! Полагаешь, что можешь позволить себе такое удовольствие? Он стоял над Гильомом. — Ну, что ты можешь сказать в свое оправдание? Только теперь Пеллетье заметил дочь, стоящую по другую сторону ложа. Его лицо смягчилось. — Прости, filha. Я тебя не заметил. Ну что, тебе лучше? Она склонила голову: — С твоего позволения, мессире, со мной все хорошо. — Лучше? — недоуменно переспросил Гильом. — Ты заболела? Что-то не так? — Поднимайся, — рявкнул Пеллетье, вновь обращая внимание на лежащего. — У тебя ровно столько времени, сколько мне понадобится, чтобы спуститься вниз и перейти двор, дю Мас. Если к тому времени тебя не будет в Большом зале, пеняй на себя! — Закончив, Пеллетье развернулся на каблуках и вылетел из комнаты. В неловком молчании, установившемся после его ухода, Элэйс чувствовала, что окаменела от стыда — за себя или за мужа, она сама не знала. Гильом вдруг взорвался: — Как он смеет сюда врываться, словно хозяин. Кем он себя вообразил? Яростным пинком он отбросил одеяло и скатился с кровати. — Долг зовет, — добавил он саркастически. — Нельзя заставлять ждать великого кастеляна Пеллетье! Элэйс подозревала, что любое ее слово только больше разозлит мужа. Ей очень хотелось обсудить с ним случившееся на берегу, хотя бы ради того, чтобы отвлечь его мысли, но она дала отцу слово никому не рассказывать. Гильом уже одевался, повернувшись к жене спиной. Плечи у него напряглись, когда он накидывал налатник и затягивал пояс. — Может, известие пришло… — робко начала Элэйс. — Это не оправдание. — Я… Элэйс осеклась. «Что ему сказать?» Она подняла с кровати плащ, протянула мужу и нерешительно спросила: — Ты надолго? — Откуда мне знать, если неизвестно, по какому случаю совет? — буркнул он, еще не остыв. Затем гнев разом схлынул. Он повернулся к ней, и взгляд его смягчился. — Прости меня, Элэйс. Ты не отвечаешь за поведение твоего отца. Ну вот, помоги же мне… Гильом склонился, чтобы Элэйс легче было дотянуться до пряжки. И все-таки ей пришлось встать на цыпочки, чтобы застегнуть круглую, медную с серебром застежку на его плече. — Mercé, mon cor, — поблагодарил он, когда она справилась. — Ну вот, теперь выясним, что стряслось. Возможно, все пустяки. Утром перед нами в крепость въехал гонец, — сказала она и тут же осеклась. Теперь муж наверняка спросит, зачем она так рано выезжала в город с отцом. Но Гильом вытаскивал из-под кровати меч и не вслушивался в ее слова. Элэйс наморщила нос, когда металл ножен заскреб по камню. Для нее этот звук всегда означал разлуку с мужем, уходившим от нее в мужской мир. Поворачиваясь, Гильом краем плаща задел сыр, неудачно пристроенный ею на краю ночного столика. Дощечка опрокинулась и со стуком упала на пол. — Это ничего, — поспешно сказала Элэйс, опасаясь рассердить мужа новой задержкой, — слуги уберут. Ты иди. Возвращайся поскорей. Гильом улыбнулся ей и вышел.Когда его шаги затихли в коридоре, Элэйс огляделась. Куски сыра валялись в соломе, устилавшей пол, мокрые и неаппетитные. Она вздохнула и нагнулась за подставкой. Дощечка стояла торчком, застряв между деревянными балками. Поднимая ее, Элэйс нащупала пальцами какие-то углубления и повернула к себе обратной стороной, чтобы рассмотреть. На темной полированной поверхности был вырезан лабиринт. — Meravelhôs! Как красиво! — выдохнула Элэйс. Зачарованная гладкими изгибами линий, сходившихся к центру сужающимися кругами, она пальцем проследила узор. Прекрасная, безупречная работа, выполненная любовно и тщательно. Что-то шевельнулось в памяти. Элэйс приподняла дощечку, уже уверенная, что видела что-то похожее раньше, но воспоминание отказывалось выходить на свет. Она даже не сумела вспомнить, как к ней попала эта дощечка. В конце концов она бросила гоняться за ускользающей мыслью. Элэйс позвала свою служанку Северни, чтобы та прибрала комнату. Потом, чтобы не гадать, что происходит сейчас в Большом зале, занялась собранными утром растениями. Но, связывая пучки корешков, зашивая в мешочки целебные травы, готовя бальзам для ноги Жакоба, она то и дело переводила взгляд на немую дощечку, надежно хранящую свои тайны.
Гильом бежал через двор. Полы плаща путались в ногах. «Надо же было так попасться, — бранился он про себя, — и именно сегодня!» Шевалье редко приглашали на совет. Да и сам факт, что собрались в Большом зале, а не в донжоне, предполагал серьезную причину для собрания. Может, Пеллетье и вправду заранее посылал за ним. Гильом не мог знать наверняка. Что, если Франсуа заходил в спальню и не застал его? Что бы тогда сказал Пеллетье? Что так, что этак — конец один. Он влип. Тяжелые двери, ведущие к Большому залу были открыты. Гильом взбежал по лестнице, перепрыгивая через ступеньку. Когда глаза привыкли к полумраку перехода, он разглядел крупную фигуру своего тестя, стоявшего у входа в зал. Гильом глубоко вздохнул и перешел на шаг. Глаз он не поднимал. Пеллетье встал у него на пути. — Где ты был? — спросил он. — Прошу прощения, мессире. Я не получил вызова… Лицо кастеляна потемнело, как грозовая туча. — Как ты посмел опоздать? — стальным голосом продолжал он. — Или приказы к тебе не относятся? Или ты такой избранный шевалье, что можешь являться или не являться по собственному усмотрению, а не по слову сеньера? — Мессире, клянусь честью, если бы я знал… Пеллетье горько рассмеялся: — Честью! — презрительно повторил он, тыча пальцем Гильому в грудь. — Не дурачь меня, дю Мас. Чтобы известить тебя, я послал слугу в твои покои. Времени на сборы было более чем достаточно. Однако мне приходится идти за тобой самому. А придя, я нахожу тебя в постели! Гильом открыл было рот — и снова закрыл. Он видел, как в уголках губ кастеляна и в седоватой щетине его бороды пузырится пена. — Что, растерял самоуверенность, а? Как, и сказать нечего? Предупреждаю тебя, дю Мас, то обстоятельство, что ты — муж моей дочери, не помешает мне дать тебе примерный урок. — Сударь, я… Без всякого предупреждения кулак Пеллетье врезался ему в живот. Удар был не сильным, но его хватило, чтобы отбросить Гильома к стене. Пошатываясь, он сделал шаг вперед, и в тот же миг тяжелая рука кастеляна схватила его за глотку и снова впечатала в стену. Уголком глаза молодой человек видел, как sirjan у дверей зала склонился вперед, чтобы лучше видеть. — Ты меня понял? — выплюнул ему в лицо Пеллетье, крепче сжимая пальцы. Гильом не сумел издать ни звука. — Не слышу ответа, — настаивал Пеллетье. — Ясно или нет? На этот раз Гильому удалось выдавить из себя два слова: — Ос, мессире. Он чувствовал, как кровь прилила к щекам, молотом забилась в висках. — Я тебя предупредил, дю Мас. Я буду наблюдать и ждать. Один ложный шаг, и ты о нем пожалеешь. Мы поняли друг друга? Гильом задыхался. Ему кое-как удалось кивнуть, царапнув затылком по шершавой стене, и Пеллетье, прижав его напоследок так, что захрустели ребра, выпустил молодого зятя. Он не стал возвращаться в зал, а в ярости зашагал обратно во двор. Едва Пеллетье скрылся, Гильом скрючился вдвое, кашляя и глотая воздух, как утопающий. Он растирал помятую шею и стирал кровь с губ. Постепенно дыхание выровнялось. Гильом оправил одежду. В голове уже крутились планы, как расплатиться с унизившим его кастеляном. Дважды за один день! Подобного оскорбления невозможно забыть. Из дверей Большого зала до него вдруг донесся ропот голосов, и Гильом сообразил, что следует присоединиться к собравшимся, пока Пеллетье не вернулся и не нашел его на том же месте. Стражник у дверей не скрывал усмешки. — Что пялишься? — зарычал на него Гильом. — Держи язык за зубами, понял? Не то пожалеешь. Угроза звучала серьезно. Страж мгновенно опустил взгляд и отступил, пропуская рыцаря. — Так-то лучше. Угрозы Пеллетье все еще звенели у него в ушах, и Гильом постарался проскользнуть в зал как можно незаметнее. Только румянец на его щеках да участившееся дыхание напоминали о происшедшем.
ГЛАВА 6
Виконт Раймон Роже Тренкавель стоял на возвышении в дальнем конце Большого зала. Он заметил, как прошмыгнул в дверь запоздавший Гильом дю Мас, но ждал не его — Пеллетье. Тренкавель был одет для переговоров, а не для битвы. Алая накидка с длинными рукавами, с золотой вышивкой но вороту и манжетам, доходила до колен. Синий плащ был застегнут на шее большой круглой золотой пряжкой, и лучи солнца, падавшие в высокие окна под потолком южной стены, играли на ней яркими отблесками. Над его головой висел огромный щит с гербом Тренкавелей, а за ним скрещивались два тяжелых копья. Тот же узор повторялся на знаменах, церемониальных одеяниях свиты и на доспехах. Он же виднелся над аркой Нарбоннских ворот за мостом — приветствуя друзей и напоминая им о давних узах между Тренкавелями и их подданными. Слева от щита уже много поколений висел гобелен с изображением единорога. На дальней стороне возвышения в углублении стены открывалась маленькая дверь, ведущая в личные покои виконта, расположенные в сторожевой башне Пинте — древнейшей из построек Шато Комталь. Эту дверь скрывала синяя штора, с изображением также трех горностаев, составлявших герб Тренкавелей. Штора отчасти защищала от сквозняков, свиставших зимой в Большом зале. Сегодня она была сдвинута и перехвачена толстым золотым шнуром. Раймон Роже Тренкавель провел в этой комнате раннее детство и, вернувшись, поселился под защитой древних стен вместе с женой — Агнесс де Монпеллье — и двухгодовалым сыном-наследником. Он преклонял колени в той же крошечной часовне, где прежде молились его родители; спал на том же дубовом ложе, на котором родила его мать. В теплые летние дни, подобные нынешнему, он в сумерках выглядывал в то же сводчатое окно и видел то же закатное солнце, окрашивающее багрянцем поля Ока. Издали Тренкавель представлялся спокойным и невозмутимым. Каштановые волосы свободно рассыпались по плечам, а руки непринужденно заложены за спину. Но лицо его был беспокойно, а глаза то и дело обращались к двери.Пеллетье весь вспотел. Одежда жала и натирала под мышками, ворот давил шею. Он чувствовал себя старым и непригодным для того, что его ожидало. Пеллетье надеялся, что от свежего воздуха в голове прояснится. Не помогло. Он все еще сердился на себя: нельзя было терять самообладания настолько, чтобы позволить прорваться враждебности к зятю и отвлечься от важного дела. И непозволительная роскошь — продолжать думать об этом. С дю Масом, если потребуется, можно разобраться позже. Сейчас его место — рядом с виконтом. И Симеон не шел из головы. Пеллетье все еще ощущал страх, стиснувший сердце, когда он переворачивал тело. И облегчение при виде незнакомого лица, уставившегося на него мертвыми глазами. Очень жарко было в Большом зале. Более сотни сановников и служителей церкви набились в душное помещение, пахнущее потом, вином и тревогой. Люди беспокойно перешептывались, слышались обрывки коротких фраз. Слуга склонился перед Пеллетье, появившимся в дверях Большого зала, и бросился налить ему вина. Прямо напротив дверей вдоль стены выстроился ряд кресел с высокими спинками — темное полированное дерево напоминало отделку хоров в соборе Святого Назария. В креслах сидела знать Юга: сеньеры Мирпуа и Фанжо, Курсана и Термене, Альби и Мазамета. Все они были приглашены в Каркассону на празднование дня Святого Назария в конце июля, а оказались призванными на совет. Пеллетье видел, как напряжены их лица. Он пробирался между группами людей: советников Каркассоны и видных горожан из торговых пригородов Сен-Венсена и Сен-Микеля. Его опытный взгляд незаметно обшаривал собравшихся. Церковники — среди них несколько монахов — жались в тени у северной стены, скрывая лица под капюшонами, а благочестиво сложенные руки — под широкими черными рукавами. Шевалье Каркассоны — среди них и Гильом дю Мас — стояли перед огромным камином, почти целиком скрывавшим другую стену. Впереди за высоким столиком сидел эскриван Жеан Конгост, письмоводитель виконта и супруг Орианы — старшей дочери Пеллетье. Пеллетье остановился перед возвышением и склонился в поклоне. На лице Тренкавеля мелькнуло облегчение. — Прости меня, мессире. — Ничего, Бертран, — отозвался виконт, указывая кастеляну место рядом с собой, — Главное, ты здесь. Они коротко переговорили между собой, сблизив головы так, чтобы никто не мог слышать их, после чего Пеллетье, повинуясь просьбе виконта, выступил вперед. — Господа мои, — прогрохотал он, — господа мои, прошу тишины. Будет говорить ваш сеньер, Раймон Роже Тренкавель, виконт Каркассоны. Тренкавель выступил из тени, приветственно раскинув руки. В зале стояла тишина — все замерли в молчании. — Benvenguda, господа мои, владетели и верные друзья, — заговорил он. — Добро пожаловать. — Голос виконта, несмотря на его молодость, был тверд и звучен, как колокол. — Benvenguda a Carcassona! Благодарю за ваше терпение и за ваш приход. Спасибо вам всем. Пеллетье обвел глазами море голов, пытаясь уловить настроение толпы. Он различал в лицах любопытство, волнение, самолюбивые опасения, страх — все это было объяснимо. Пока неизвестно, зачем их созвали и, в первую очередь, чего хочет от них Тренкавель, никто не знает, как держаться. Я горячо надеюсь, — продолжал виконт, — что праздничный турнир состоится в конце месяца, как и ожидалось. Между тем сегодня мы получили сведения настолько важные и влекущие столь далекоидущие последствия, что я счел должным разделить их с вами. Потому что они касаются каждого из вас. Ради тех, кто не присутствовал на последнем совете, позвольте напомнить вам положение дел. Разгневанный бессилием своих легатов и проповедников, присланных обратить свободный народ этих земель в повиновение Римской церкви, на прошлую Пасху его святейшество папа Иннокентий III провозгласил крестовый поход, дабы избавить христианские земли от того, что он называет «заразой ереси», невозбранно распространяющейся в землях Рау d'Oc. Так называемые еретики, Bons Homes, по его словам, хуже даже сарацинов. Однако каким бы страстным и красноречивым ни был его призыв, к нему все остались глухи. Король Франции не откликнулся. Никто не спешил поддержать его. Предметом его ненависти был мой дядя, Раймон VI, граф Тулузский. В самом деле, именно неосторожные действия моего дяди, вызвавшие убийство папского легата Петра де Кастельно, впервые заставили Его Святейшество обратитьвзгляд на наши земли. Дядю моего обвиняют в том, что он попустительствует распространению ереси в своих и, следовательно, в наших владениях. — После короткой паузы, Тренкавель поправился: — Нет, не попустительствует, а поощряет Bons Homes искать прибежища в своих владениях. Иссушенный постами монах, стоявший у самого возвышения, поднял руку, желая заговорить. — Святой брат, — быстро отозвался на его движение Тренкавель, — прошу у тебя еще немного терпения. Когда я закончу, все получат возможность высказаться. Еще будет время для дебатов. Монах с недовольным видом уронил руку. — Грань между терпимостью и поощрением, друзья мои, неуловимо тонка, — негромко продолжал виконт, а Пеллетье незаметно кивнул, одобряя искусное ведение дела. — И потому, хотя я признаю, что благочестие моего высокочтимого дяди не столь твердо, как хотелось бы, — он выдержал паузу, давая слушателям возможность выразить свое неодобрение, — и, хотя его поведение вряд ли можно назвать безупречным, не нам решать, кто прав, кто виноват в этом деле. — Он улыбнулся: — Пусть священники спорят о богословии и оставят нас, прочих, в мире. Он помолчал, и по лицу его прошла тень. В голосе уже не было улыбки. — Не впервые пришельцы с Севера угрожают независимости и суверенности наших владений. Не думаю, чтобы эта угроза осуществилась. Не могу поверить, чтобы кровь христиан пролилась на христианские земли с благословения католической церкви. Мой дядя в Тулузе смотрит на вещи мрачнее. Он с самого начала предполагал возможность вторжения. Для защиты своих земель и суверенной власти он предлагал нам союз. Вы помните мой ответ: что мы, народ Рау d'Oc, живем в мире с соседями, будь то Bons Homes, евреи или даже сарацины. Если они соблюдают наши законы, уважают наши обычаи, то они принадлежат к нашему народу. Таков был тогда мой ответ. — Виконт помедлил. — И таков будет он и теперь. При этих словах Пеллетье снова одобрительно кивнул, видя, как волны согласия расходятся по Большому залу, захватывая даже епископов и священников. Только тот одинокий монах — доминиканец, судя по цвету рясы, — не поддался общему настроению. — Мы иначе понимаем терпимость, — пробормотал он с резким испанским выговором. Из задних рядов прозвучал еще один голос. — Прости, мессире, но все это нам известно. Эти новости устарели. Что теперь? Зачем ты созвал нас в совет? Пеллетье узнал ленивую, наглую интонацию самого склочного из пяти сынков Беренгьера де Массабрака и собирался вмешаться, но сдержался, почувствовав на своем плече руку виконта. — Тьерри де Массабрак, — нарочито снисходительно заговорил Тренкавель, — мы благодарны за твой вопрос. Однако среди собравшихся, возможно, есть и такие, кто лучше тебя знаком со сложностями дипломатии. В зале раздались смешки, и Тьерри покраснел. — Но ты вправе спросить. Я созвал вас сегодня сюда потому, что положение переменилось. Никто не подал голоса, но настрой зала ощутимо изменился. Виконт почувствовал настороженное внимание слушателей, однако, как с удовлетворением отметил Пеллетье, не подал виду и продолжал говорить все так же уверенно и властно: — Этим утром мы получили известие, что угроза вторжения с Севера значительнее — и ближе — чем мы предполагали. Воинство — так называет себя это безбожное полчище — собралось в Лионе в день Святого Иоанна Крестителя. По нашей оценке, в город съехалось около двадцати тысяч рыцарей, и с ними невесть сколько землекопов, священников, конюхов, плотников, клерков, лодочников… Воинство выступило из Лиона во главе с этим белым волком, Арнольдом-Амальриком, аббатом Сито. Он помолчал, обводя глазами зал. — Я знаю, что это имя железом разит сердца многих из вас. Многие из советников постарше важно закивали. — С ним — католические архиепископы Реймский, Сенский и Руанский, а также епископы Отона, Клермона, Невера, Байе, Шартра и Лизье. Что до военного руководства, то, хотя король Франции не ответил на призыв к оружию и не позволил своему сыну выступить вместо себя, однако в войске много баронов и могущественных владетелей Севера. Конгост, тебе слово! Услышав свое имя, эскриван немедленно отложил перо. На лоб ему падали мягкие влажные волосы, кожа от многолетнего пребывания под крышей сделалась рыхлой и бледной до прозрачности. Конгост с показной важностью поднял свою большую кожаную сумку и извлек из нее пергамент. Казалось, его потные ладони живут собственной, отдельной от хозяина жизнью. — Не тяни, парень, — нетерпеливо пробормотал себе под нос Пеллетье. Прежде чем приступить к чтению, Конгост выпятил грудь, многозначительно откашлялся и наконец произнес: — Одо, герцог Бургундский; Эрве, граф Неверский; Сен-Поль, граф Овернский; Пьер д'Оксер, Эрве де Женев, Ги д'Эвре, Гоше де Шатильон, Симон де Монфор… Конгост читал пронзительным бесстрастным голосом, однако каждое имя падало, словно камень в сухой колодец, эхом отдаваясь по залу. Все это были могущественные враги, влиятельные бароны северных и восточных земель, располагающие средствами, деньгами и людьми. Таким противником невозможно было пренебречь. Мало-помалу сила и облик Воинства — l'Ost, — собравшегося против южных земель, обретали очертания. Даже у Пеллетье, уже читавшего перечень, прошел по спине холодный озноб. Теперь в зале стоял негромкий равномерный ропот удивления, недоверия, страха… Пеллетье нашел взглядом катарского епископа Каркассоны. Тот внимательно слушал, и лицо его не выражало никаких чувств. Рядом стояли несколько катарских священнослужителей — parfaits, или Совершенных. Затем острый взгляд кастеляна выхватил из толпы Беренгьера де Рошфора, католического епископа Каркассоны, стоявшего, сложив ладони, в другом конце зала в окружении священников католических соборов Святого Назария и Сен-Сернена. Пеллетье не сомневался, что, по крайней мере на время, де Рошфор предпочтет хранить верность виконту Тренкавелю, а не папе. Но надолго ли хватит его верности? Человеку, который служит двум господам, доверять нельзя. Он изменит, и сие так же верно, как то, что солнце взойдет на востоке и зайдет на западе. Пеллетье не в первый раз задумался, не будет ли разумнее отослать церковников, дабы те не услышали ничего такого, о чем сочтут своим долгом сообщить своему начальству. — Мы с ними справимся, сколько бы их ни было, — долетел до него выкрик из дальних рядов. — Каркассона несокрушима! Этот крик подхватили со всех сторон, и он раскатился по залу, как гром по ущельям и расщелинам Монтань Нуар. — Пусть только взойдут на холм, — крикнул кто-то, — мы научим их драться! Подняв руку, Раймон Роже улыбкой поблагодарил за это проявление верности. — Мои господа, мои друзья, — заговорил он, почти до крика повышая голос, чтобы быть услышанным в гомоне. — Благодарю вас за отвагу, за нерушимую верность. — Он выждал, пока спадет шум. — Люди Севера не обязаны нам союзнической верностью, и мы не связаны с ними союзом, кроме того, который связывает всех людей на земле во Господе. Однако я не ожидал предательства от того, кого связывают с нами узы клятв, семьи и долга защищать свои земли и подданных. Я говорю о своем дяде и сюзерене, Раймоне, графе Тулузском. Потрясенное молчание пало на собрание. — Несколько недель назад я получил сообщение, что дядя мой подверг себя ритуалу настолько унизительному, что я стыжусь описать его. Я ожидал подтверждения этим слухам. Они оказались истиной. В большом соборе Сен-Жилль, в присутствии папских легатов, граф Тулузский был вновь принят в лоно католической церкви. Обнаженный до пояса, с покаянной петлей на шее, он подвергся бичеванию священнослужителей, в то время как сам полз на коленях, умоляя о прощении. Тренкавель помолчал минуту, давая присутствующим осмыслить его слова. — Пройдя это гнусное унижение, он снова был принят в объятия Святой Матери Церкви. Презрительный гул прошел но залу. — Но это не все, друзья мои. Я не сомневаюсь, что это постыдное зрелище должно было подтвердить его твердость в вере и противостоянии ереси. Однако и этого оказалось мало, чтобы отвратить опасность, о приближении коей он знал. Он передал власть над своими доминионами легатам Его Святейшества папы. А сегодня я узнал… — Виконт сделал паузу и повторил: — Сегодня я узнал, что Раймон, граф Тулузский, находится в Валенсии, менее чем в недельном переходе от нас, и с ним несколько сотен воинов. Он ожидает лишь приказа, чтобы повести северных захватчиков через реку Бьюкар в наши земли. — Тренкавель помолчал. — Он принял крест крестового похода. Мои господа, он намерен выступить против нас. Зал наконец взорвался яростным воем. — Silenci! — до хрипоты надрывая глотку, кричал Пеллетье, пытаясь восстановить порядок в этом хаосе. — Тишина! Прошу тишины! Силы были неравны: один голос против множества. Тренкавель шагнул к самому краю помоста, встав прямо под гербовым щитом. Щеки его раскраснелись, но глаза горели боевым задором, и лицо лучилось упорством и отвагой. Виконт широко раскинул руки, словно желал обнять зал и всех, кто в нем находился. Это движение заставило всех смолкнуть. — И вот я стою здесь перед вами, моими друзьями и союзниками, с которыми меня связывают старинная честь и клятвы, и спрашиваю вашего доброго совета. Перед нами, людьми Миди, остается только два пути, и очень мало времени, чтобы сделать выбор. Per Carcassona — за Каркассону. Per lo Miègjorn — за Миди, за Юг! Сдаваться нам или биться? Тренкавель устало опустился в кресло, а у его ног бушевал и гудел Большой зал. Пеллетье не смог сдержать себя: наклонился и положил руку на плечо молодому вождю. — Хорошо сказано, мессире, — тихо сказал он. — Благородная речь, мой господин.
ГЛАВА 7
Проходили часы, а споры не утихали. Слуги сновали туда-сюда, поднося корзины с хлебами, блюда мяса и белого сыра, без конца наполняя пустеющие винные кувшины. Никто не обращал особого внимания на еду, но все пили, и вино подогревало гнев и лишало ясности суждения. Мир за стенами Шато Комталь жил обычной жизнью. Колокола церквей звонили, отбивая часы служб. В соборе Святого Назария пел монашеский хор и молились монахини. На улицах Каркассоны горожане занимались своими делами. В пригородах и деревушках за городской стеной играли дети, хлопотали женщины, трудились или играли в кости крестьяне, купцы и мастеровые. А в Большом зале разумные доводы постепенно сменялись взаимными обвинениями. Одна партия не желала уступать врагу. Другая отстаивала союз с графом Тулузским, напоминая о мощи собравшегося в Лионе войска и доказывая, что, даже объединив все силы, южане не в состоянии обороняться против него. У каждого в ушах стучали барабаны войны. Одним они твердили о славе и чести, о подвигах на поле битвы и лязге оружия. Другим виделась кровь, заливающая поля и холмы, бесконечный поток увечных и нищих, изгнанных из горящих деревень. Пеллетье без устали расхаживал от одного к другому, отыскивая приметы несогласия или вызова власти виконта. Но никто не подавал ему поводов для беспокойства. Не было сомнений, что сеньер сделал все, чтобы сплотить подданных, и, какое бы решение он ни принял, все единодушно пойдут за ним. Собрание размежевалось скорее на географических, нежели на политических основаниях. Обитатели более уязвимых равнинных земель склонялись к переговорам. Жители возвышенностей Монтань Нуар на севере, а также гор Сабарте и предгорий Пиренеев горели желанием твердо встать на пути Воинства и дать сражение. Пеллетье понимал, что сердце виконта Тренкавеля склонялось к последним. Он был выкован из той же стали, что горцы, и обладал той же независимостью духа. Но понимал Пеллетье и то, что разум подсказывает Тренкавелю: единственный способ сохранить нетронутой свою землю и сберечь народ — это отодвинуть в сторону свою гордость и торговаться.К вечеру в зале запахло ссорой, а аргументы начали повторяться. Пеллетье устал. Устал от бесконечного сведения счетов, от пафоса бессмысленно повторяемых звучных фраз. Голова у него разболелась, и он чувствовал себя больным и старым. «Я слишком стар для таких дел», — размышлял он, бездумно поворачивая кольцо, которое всегда носил на большом пальце. Натертая кожа под ним уже покраснела. Пора было решать. Приказав слуге принести воды, кастелян обмакнул в кувшин салфетку и подал ее виконту. — Возьми, мессире. Тренкавель с благодарностью принял влажный кусок полотна, вытер лоб и шею. — Полагаешь, с них хватит? — Думаю, да, мессире, — сказал кастелян. Тренкавель кивнул. Он сидел, положив руки на подлокотники, и выглядел таким же спокойным, как в начале собрания, когда он впервые обратился к совету. «А ведь многим мужчинам и старше, и опытнее трудно было бы сдерживать страсти в подобном совете», — заметил про себя Пеллетье. Чтобы так держаться, нужна незаурядная сила воли. — То, о чем мы говорили раньше, остается в силе, мессире? — Остается, — отвечал Тренкавель, — Единодушия нет, но думаю, в этом меньшинство подчинится большинству… — Он запнулся, и нота сомнения или недовольств а впервые окрасила его голос. — Но, Бертран, мне это не по душе. — Я знаю, мессире, — тихо отозвался тот. — И мне тоже. Но что бы мы ни чувствовали, выбирать не приходится. Единственная для тебя надежда защитить свои земли — это выторговать у дяди мир. — Он может отказаться меня принять, Бертран, — тихо продолжал виконт. — При нашем последнем свидании я наговорил много лишнего. Мы расстались не по-доброму. Пеллетье опустил ладонь на локоть молодого сеньера. — На этот риск мы вынуждены идти, — сказал он, думая, что виконт имеет все основания колебаться. — С тех пор времена переменились. Обстоятельства говорят сами за себя. Если Воинство в самом деле так велико — хотя бы вполовину так велико, как нам донесли, — выбора нет. Стены цитадели защитят нас, но что будет с вашими подданными за стеной? Кто защитит их? Граф, решившись присоединиться к крестоносцам, оставил нас — тебя, мессире, — единственной жертвой. Армию теперь не распустишь по домам. Им нужен враг, чтобы сражаться. Пеллетье всмотрелся в угрюмое лицо Раймона Роже. Он видел на нем и сожаление, и печаль. Ему хотелось чем-то утешить сеньера, сказать хоть что-нибудь — но нельзя было. Любая нерешительность оказалась бы сейчас гибельной. Молодой виконт даже не догадывался, как много зависело от его решения. — Ты сделал все, что мог, мессире. Будь тверд. Надо кончать. Люди возбуждены. Тренкавель поднял взгляд на герб, висевший у него над головой, и снова взглянул на Пеллетье. На минуту их взгляды скрестились. — Предупреди Конгоста, — приказал виконт. Облегченно вздохнув, Пеллетье поспешно направился к столику писца, растиравшего онемевшие пальцы. Конгост вскинул голову навстречу тестю, но промолчал, готовясь выслушать окончательное решение совета. В последний раз Раймон Роже Тренкавель поднялся на ноги. — Прежде чем объявить свое решение, я хочу поблагодарить каждого из вас, владетели Каркассэ, Разеса, Альбигои и дальних земель. Я отдаю должное вашей силе, решимости и верности. Мы говорили много часов, причем вы выказали большое терпение и выдержку. Нам не в чем упрекнуть себя. Мы — невинные жертвы войны, развязанной другими. Некоторых из вас разочарует то, что я намерен сказать, других — удовлетворит. Я молю Господа в его милосердии помочь нам сохранить единство. Он выпрямился. — Ради блага каждого из вас — и ради безопасности наших людей — я намерен просить аудиенции моего дяди и сюзерена, Раймона, графа Тулузского. Что даст наша встреча — неизвестно. Нет даже уверенности, что дядя согласится принять меня, а время работает против нас. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы наши намерения остались в тайне. Слухи расходятся быстро, а если наши цели хотя бы отчасти станут известны моему дяде, это ослабит нашу позицию в переговорах. Соответственно, приготовления к турниру будут продолжаться, как предполагалось. Я хотел бы вернуться задолго до праздника, и, надеюсь, с добрыми вестями. — Виконт помолчал. — Я намереваюсь выехать завтра на рассвете, с немногочисленной свитой шевалье и представителями — с вашего позволения — великих домов Кабарета, а также Минерве, Фуа, Кийана… — Прими мой меч, мессире! — выкрикнул один из шевалье. — И мой! — подхватил другой. Один за другим все рыцари в зале опускались на колени. Тренкавель с улыбкой поднял ладонь. — Ваша храбрость, ваша доблесть делают честь всем нам, — сказал он. — Мой кастелян уведомит тех из вас, в чьей службе будет надобность. Между тем, друзья мои, позвольте мне удалиться. Я предлагаю всем разойтись по своим покоям и отдохнуть. Мы встретимся снова за ужином. В сумятице, возникшей, едва виконт Тренкавель покинул зал, никто не заметил, как человек в синем плаще с накинутым капюшоном выдвинулся из тени и проскользнул за дверь.
ГЛАВА 8
Давно отзвонили к вечере, когда Пеллетье наконец выбрался из башни Пинте. Ощущая на плечах каждый год своей жизни, он откинул штору и вышел в большой зал. Усталой рукой кастелян растирал висок. В голове билась тупая боль. После окончания совета виконт Тренкавель уединился с сильнейшими из своих союзников, обсуждая с ними лучшие способы подхода к графу Тулузскому. По мере того как принимались решения, гонцы выезжали вскачь из ворот Шато Комталь, унося письма не только к Раймонду VI, но и к папским легатам, к аббату Сито, к консулам Тренкавелей в Безьере. Уведомили шевалье, избранных сопровождать виконта. В конюшнях и кузницах уже кипела работа, которая должна была продолжаться всю ночь. Зал был полон почтительной, но напряженной тишиной. По случаю раннего отъезда вместо ожидавшегося банкета состоялся менее торжественный ужин. Длинные столы, расставленные от северной к южной стене, не были покрыты скатертями. Посреди каждого из них тускло мерцали свечи. Яростно пылали факелы, укрепленные в кольцах высоко на стенах, и тени от них метались по залу. В заднюю дверь входили и выходили слуги. Блюда, которые они несли, полны были кушаньями скорее сытными, нежели праздничными. Оленина, говядина, цыплята на вертеле, глиняные горшки с бобами и соусами, свежий пшеничный хлеб, отваренные в меду сливы, розовое вино с виноградников Корбьера и кувшины эля для тех, у кого недостаточно крепкая голова. Пеллетье одобрительно кивал. Он был доволен. Франсуа, замещавший господина в его отсутствие, отлично справился. Все выглядело как должно: гости виконта Тренкавеля должны были остаться довольны его любезностью и гостеприимством. Из Франсуа получился хороший слуга, вопреки неудачному началу его жизни. Его мать прислуживала жене кастеляна, которую Пеллетье взял во Франции, и была повешена за воровство, когда Франсуа был совсем мальчиком. Отца его никто не знал. Девять лет назад, после смерти своей жены Маргарет, Пеллетье взялся за обучение Франсуа, после чего дал ему место при себе. И часто кастелян молча радовался собственному удачному выбору. Пеллетье вышел во двор, называемый Кур д'Онор.[185] Здесь было прохладнее, и он задержался в дверях, глядя на играющих у колодца детей. Когда игра становилась слишком буйной, няньки награждали шалунов шлепками пониже спины. Девочки постарше прохаживались вокруг рука об руку, перешептываясь о своих секретах. Он не сразу заметил маленького темноволосого мальчугана, сидевшего, поджав под себя ноги, у стены часовни. — Мессире, мессире! — окликнул его тот, вскакивая на ноги. — У меня для тебя что-то есть. Пеллетье не слышал. Мальчик настойчиво потянул его за рукав: — Кастелян Пеллетье, прошу тебя! Важное дело! Он почувствовал, как что-то вложили ему в ладонь. Опустил рассерженный взгляд и увидел письмо. На толстом коричневатом пергаменте выделялось его собственное имя, написанное знакомой уверенной рукой. Пеллетье успел убедить себя, что больше никогда не увидит этого почерка. Кастелян сцапал мальчишку за воротник. — Где ты это взял? — спросил он, грубо встряхивая посланца. — Говори. — Мальчик забился как рыба на крючке, пытаясь освободиться. — Говори сейчас же! Ну? — Какой-то человек у ворот дал, — заскулил мальчик. — Не бейте, я не виноват! Пеллетье тряхнул его сильней: — Что за человек? — Просто человек. — Этим не отделаешься! — повысив голос, прикрикнул Пеллетье. — Получишь сол,[186] если скажешь, что я хочу знать. Молодой человек? Или старый? Солдат? — Он задумался. — Или еврей? Задавая вопрос за вопросом, Пеллетье вытянул из мальчишки все, что было тому известно. Не слишком много. Понс с приятелями играл у рва Шато Комталь. Старались перебежать через мост и обратно, не попавшись стражникам. Когда стало уже смеркаться, подошел какой-то человек и спросил, кто знает в лицо кастеляна Пеллетье. Понс сказал, что он знает, и тогда человек дал ему сол за доставку письма. Сказал, это очень важно и очень срочно. Человек был самый обыкновенный. Не молодой и не старый, средних лет. Не особенно смуглый, но и не белокожий. Лицо без отметин: ни оспин, ни шрамов. Кольца на руке Понс не заметил, потому что человек прятал руки под плащом. Убедившись, что больше ничего не узнает, Пеллетье протянул мальчишке монету. — Вот тебе за услугу. А теперь иди. Понс не заставил себя упрашивать. Он вывернулся из рук Пеллетье и помчался со всех ног.Пеллетье вернулся в здание, крепко прижимая к груди письмо. Он никого не заметил в коридоре, по которому торопливо шагал к своим покоям. Дверь была заперта. Проклиная собственную предосторожность, он возился с ключами. От спешки руки сделались неуклюжими. Франсуа уже зажег светильник и поставил посреди комнаты поднос с кувшином вина и двумя глиняными кубками, который всегда приносил на ночь. Начищенный медный поднос блестел словно золотой. Чтобы успокоиться, Пеллетье налил себе вина. В голове мелькали картины, подернутые пыльной завесой, — воспоминания о Святой земле, о длинных красных тенях пустыни. О трех книгах, хранивших на своих страницах древние тайны. От крепкого вина стало кисло на языке и запершило в горле. Он осушил кубок одним глотком и сразу налил еще. Сколько раз он пытался нарисовать в воображении эту минуту, но когда она наступила, то оглушила его. Пеллетье присел к столу, положив письмо между ладонями. Он не читая знал, что в нем говорится. Этого послания он ожидал и боялся много лет, с тех самых пор, как прибыл в Каркассону. В те дни богатые и прославленные веротерпимостью земли Миди казались надежным укрытием. Времена года сменяли друг друга, и Пеллетье, поглощенный ежедневными заботами, почти перестал ожидать призыва. Мысли о книгах стерлись из памяти, и он понемногу стал забывать, чего ждет. Более двадцати лет прошло после первой встречи с пославшим письма. Только сейчас Пеллетье понял, что до этой минуты даже не знал, жив ли его учитель и наставник. А ведь это Ариф учил его читать в тени оливковой рощи на холмах под Иерусалимом. Это Ариф открыл ему неведомые прежде славу и величие мира. Это Ариф показал ему, что сарацины, иудеи и христиане всего лишь разными путями стремятся к одному Богу. Это Ариф открыл ему, что за пределами всего, что он знал, лежит истина много старше, много древнее, много совершеннее всего, что мог предложить современный мир. День, когда Пеллетье был посвящен в Noublesso de los Seres, оставался в его памяти свежим и ярким, словно это было вчера. Мерцающие золотые одеяния и беленый холст алтарного покрова, сверкающий белизной, подобно крепостным башням на вершинах холмов над Алеппо, среди кипарисов и апельсиновых рощ. Запах благовоний, возникающие и растворяющиеся в тишине голоса. Просвещение. Та ночь, бывшая, как представлялось теперь Пеллетье, целую жизнь назад, когда он впервые бросил взгляд в сердце лабиринта и поклялся охранять его тайну ценой жизни. Он ближе придвинул свечу. Даже не узнав печати, он не усомнился бы, что письмо пришло от Арифа. Его руку он узнал бы всегда и всюду — отчетливое изящество и точная соразмерность букв. Пеллетье тряхнул головой: еще немного, и он утонет в воспоминаниях. Глубоко вздохнул и поддел ножом печать. Воск сломался с легким треском. Пеллетье расправил пергамент. Письмо было коротким. По верху страницы тянулись символы, которые он запомнил начертанными на желтых стенах пещеры лабиринта у стен Святого города. Знаки древнего языка предков Арифа были понятны только посвященным Noublesso.

Пеллетье прочел вслух, ободряя себя знакомым звучанием надписи, прежде чем перейти к письму Арифа.
Fraire! Пора. Тьма собирается над этими землями. Зло висит в воздухе, ненависть, которая разрушит и осквернит все доброе. Писаниям небезопасно более оставаться на равнинах Ока. Пришел срок Троекнижию воссоединиться. Брат ожидает тебя в Безьере, сестра в Каркассоне. Тебе выпало унести книги от опасности. Поспеши. Летние тропы в Наварру закроются к Туссену, и даже прежде, если снег выпадет раньше обычного. Я ожидаю тебя к празднику Сен-Микеля.Кресло заскрипело под резко откинувшимся назад Пеллетье. Не более, чем он ожидал. Ариф дает ясные указания и требует не более того, что он клялся исполнить. Почему же он чувствует, будто душа покинула тело, оставив после себя пустоту? Он взял на себя охрану книг добровольно, но то было в юношеской простоте. Теперь для него, начинающего стареть человека, все сложнее. Здесь, в Каркассоне, он создал для себя иную жизнь, взял на себя иные обязательства. Здесь живут люди, которых он полюбил, которым обязан служить, кого должен защищать. Только сейчас Пеллетье осознал, как глубоко вросло в него убеждение, что срок исполнения клятвы не наступит при его жизни, что ему никогда не придется делать выбор между служением и верностью виконту Тренкавелю — и присягой, данной Noublesso. Пеллетье еще раз перечитал письмо, молясь, чтобы решение явилось само собой. На этот раз ему бросилась в глаза одна фраза: «Брат ожидает тебя в Безьере». Разумеется, Ариф имел в виду Симеона. Однако в Безьере? Пеллетье поднес к губам кубок и выпил, не почувствовав вкуса. Как странно, что Симеон пришел ему на ум именно сегодня, после стольких лет разлуки. Каприз судьбы? Совпадение? Пеллетье не верил ни в судьбу, ни в совпадения. Но чем объяснить ужас, охвативший его, когда Элэйс описала тело убитого, лежащего в водах Од? Не было никаких причин заподозрить в нем Симеона, и тем не менее он был так уверен… И еще: «Сестра в Каркассоне». Пеллетье в задумчивости чертил на тонком слое пыли, покрывавшем стол, сложный узор. Лабиринт. Неужели Ариф мог назначить хранителем женщину? И она все это время была здесь, в Каркассоне, у него под носом? Он покачал головой. Невероятно.Pas a pas, se va luènh.
ГЛАВА 9
Элэйс стояла у окна, ожидая возвращения Гильома. Над землями Каркассоны покрывалом раскинулось бархатно-синее небо. Сухой вечерний ветерок, дувший с севера, шуршал листвой деревьев и тростниками по берегам Од и обещал ночную прохладу. Из Сен-Микеля и Сен-Венсена пробивались тонкие лучики света. На мостовых города люди ели, выпивали, рассказывали истории и пели песни о любви и доблести. У главной площади еще светились горны кузницы. «Ждать. Вечно ждать». Элэйс натерла зубы пучком трав, чтобы придать им белизну, и спрятала за вырезом платья крошечный мешочек незабудок. В комнате стоял легкий аромат сожженной лаванды. Совет закончился довольно давно, и Элэйс ждала, что Гильом придет или хотя бы пришлет ей весточку. Со двора к ней наверх клочками дыма долетали обрывки разговоров. Она заметила, как муж сестрицы Орианы, Жеан Конгост, пробежал через двор. Она насчитала семь или восемь знакомых шевалье в сопровождении конюших, наперегонки спешивших к кузнице. Еще раньше она видела, как отец задал трепку мальчишке, болтавшемуся у часовни. Гильома не было. Элэйс вздохнула. Напрасно она приговорила себя к заключению в спальне. Отвернувшись от окна, она бесцельно прошла до кресла и обратно, не зная, чем занять руки. Остановилась перед ткацким станком, рассматривая начатый для дамы Агнесс узор — затейливый бестиарий диких зверушек и пышнохвостых птиц, карабкавшихся вверх по крепостной стене. Когда погода или чувство долга загоняли ее в покои, Элэйс обычно находила утешение в подобном изящном рукоделье. Но сегодня она ни на чем не могла успокоиться. Игла так и торчала в пяльцах, и подаренный Сажье моток пряжи лежал рядом неразвернутым. Бальзамы, которые она еще днем приготовила из дягиля и окопника, были снабжены ярлычками и расставлены в ряд в самом темном и прохладном уголке комнаты. Дощечку с лабиринтом Элэйс вертела и рассматривала до тошноты и едва не стерла пальцы, снова и снова прослеживая причудливый узор. Ждала, ждала. — Es totjorn lo meteis,[187] — бормотала она. — Вечно все та же песня. Элэйс прошла к зеркалу и уставилась на свое отражение. Маленькое серьезное личико сердечком, умные карие глаза. Ни красавица, ни дурнушка. Элэйс поправила вырез платья жестом, который подметила у других девушек. Может, если обшить кружевом… Отрывистый стук в дверь прервал ее размышления. Наконец-то! — Я здесь! — крикнула она. Дверь отворилась, и улыбка исчезла с ее лица. — Франсуа… Что такое? — Кастелян Пеллетье желает видеть тебя, госпожа. — В такой час? Франсуа неловко переминался с ноги на ногу. — Он ожидает в своих покоях. Думается, нужно поспешить, Элэйс. Она вскинула глаза, удивленная, что слуга зовет ее по имени. Прежде он не допускал подобных оплошностей. — Что-то случилось? — поспешно спросила она. — Отец нездоров? Франсуа замялся: — Он весьма… озабочен, госпожа. И был бы рад твоему обществу. Элэйс вздохнула: — Весь день не везет. Слуга озадаченно переспросил: — Госпожа? — Ничего, Франсуа. Я нынче не в себе. Конечно, я пойду, раз отец зовет. Идем?На другом конце жилой части замка в своих покоях сидела посреди просторного ложа, поджав под себя длинные стройные ноги, Ориана. Она по-кошачьи щурила зеленые глаза и с самодовольным видом позволяла гребешку гладить свои пышные черные кудри. Временами зубья гребешка нежно касались кожи головы. — Весьма… успокаивает, — промурлыкала Ориана. Мужчина, стоявший у нее за спиной, был без рубахи, и между лопаток у него на широких мощных плечах поблескивал пот. — Успокаивает, госпожа? — легко переспросил он. — У меня было иное намерение. Она почувствовала на шее его теплое дыхание, когда мужчина склонился, чтобы собрать ее упавшие на лицо волосы и уложить их косой по спине. — Ты так прекрасна, — прошептал он. Его руки мягко погладили ее плечи и шею, потом начали мять сильнее. Ориана склонила голову, чувствуя, как искусные пальцы прослеживают очертания ее щек, носа, подбородка, словно стремясь запечатлеть в памяти ее черты. Временами они соскальзывали ниже, к гладкой нежной коже горла. Ориана притянула его ладонь к губам, языком лизнула кончики пальцев. Он привлек женщину к себе. Спиной она чувствовала жар и твердость его тела, ощущала силу его желания. Мужчина развернул ее лицом к себе, пальцами приоткрыл ей губы, потом медленно склонился для поцелуя. Она не замечала звука шагов по коридору, пока в дверь не застучали. — Ориана! — выкрикнул высокий пронзительный голос. — Ты здесь? — Это Жеан, — чуть слышно шепнула женщина, скорее раздраженная, нежели встревоженная неожиданной помехой, и открыла глаза. — Кажется, ты уверял, что он задержится? Мужчина оглянулся на дверь. — Не думал, что он вернется так рано. Когда я уходил, было похоже, что он еще надолго останется при виконте. Заперто? — Конечно, — усмехнулась она. — Ему это не покажется странным? Ориана передернула плечами. — Он приучен не входить без приглашения. Однако лучше укройся. — Она ткнула пальчиком в сторону алькова позади занавесей балдахина. — И не тревожься, — с улыбкой добавила она, взглянув на его обеспокоенное лицо, — я постараюсь избавиться от него поскорее. — И каким же образом? Женщина обхватила руками его шею и притянула к себе так близко, что его ресницы защекотали ей кожу. — Ориана? — визгливо повторял Конгост, с каждым разом повышая голос. — Открой! Открой сейчас же! — А вот увидишь, — шептала она, наклоняясь и целуя его в грудь, в твердый живот, еще ниже. — А теперь ты должен исчезнуть. Он не будет ждать под дверью вечно. Уверившись, что любовник надежно спрятан, Ориана на цыпочках пробежала к двери, беззвучно повернула ключ, затем бросилась обратно в постель и расправила складки занавесей. Она была готова повеселиться. — Ориана! — Супруг? — ворчливо отозвалась она. — К чему столько шума? Дверь отперта. Она услышала шорох. Дверь открылась и со стуком захлопнулась за ворвавшимся в комнату мужем. Раздался звон — он с размаху опустил на стол медный подсвечник. — Где ты? — возмущенно спросил Конгост. — И почему здесь темно? Я не расположен к шуткам. Ориана усмехнулась, откидываясь на подушки, раскинув стройные ноги и заложив руки за голову. Она намерена была ничего не оставить его воображению. — Я здесь, супруг. Дверь была заперта, я пробовал с самого начала… — недовольно начал он, откидывая занавеси, и смолк, лишившись дара речи. — Но может быть… ты толкнул… слишком слабо? — промурлыкала она. Она видела, как побледнел и мгновенно залился краской ее муж. Глаза у него полезли на лоб, а рот приоткрылся при виде ее высокой полной груди с темными сосками, ее кудрей, змеями расползавшихся по подушке, мягкого холмика живота, изгиба тонкой талии и треугольника жестких черных завитков между бедрами. — Ты что затеяла? — взвизгнул он. — Прикройся немедленно! — Я спала, супруг, — отозвалась она. — Ты меня разбудил. — Я тебя разбудил? Я тебя разбудил… — брызгал слюной муж. — Ты спала… в таком виде? — Ночь жаркая, Жеан. Разве мне нельзя спать, как хочется, в одиночестве собственной спальни? — Кто угодно мог войти и застать тебя. Твоя сестра, твоя служанка Жиранда… кто угодно! Ориана медленно села на постели и невозмутимо уставилась на мужа, накручивая на палец прядь волос. — Кто угодно? — ехидно повторила она и холодно продолжала: — Жиранду я отпустила. Я сегодня больше не нуждаюсь в ее услугах. Она прекрасно видела, как борется с собой ее муж, желая отвернуться и не в силах этого сделать. В его иссохших жилах в равной мере смешались желание и отвращение. — Кто угодно мог войти, — повторил он уже не так уверенно. — Да, полагаю, ты прав. Однако никто не входил. Кроме тебя, разумеется, супруг мой. — Она хищно усмехнулась. — А теперь, раз уж ты здесь, может быть, скажешь мне, где ты был? — Тебе известно, где я был, — зарычал Конгост. — В совете! Она улыбнулась шире: — В совете? В такое время? Совет разошелся задолго до темноты. Конгост вспыхнул: — Не тебе допрашивать меня! Ориана прищурила взгляд. — Клянусь святой верой, как ты надменен, Жеан! «Не тебе!» — Она в точности передразнила его интонацию, и оба мужчины поморщились от жестокости насмешки. — И все же, Жеан, где ты был? Надо думать, занимался государственными делами? Или, может быть, любовными делами, Жеан? Уж не прячешь ли ты где-нибудь в Шато любовницу? — Как ты смеешь так говорить со мной?! Я… — Другие мужья рассказывают женам, где были. Почему бы и тебе не рассказать? Если, конечно, у тебя нет веских оснований молчать. Конгост сорвался на крик: — Другим мужьям следовало бы придержать языки. Это не женское дело. Ориана лениво потянулась к нему с ложа. — Не женское дело… — протянула она. — Неужто? Ее голос был тих и полон презрения. Конгост понимал, что с ним играют, но не мог понять правил, по которым ведется эта игра. Ему никогда не удавалось понять. Ориана протянула руку и погладила предательскую выпуклость под его накидкой, с удовлетворением отметив паническую растерянность на лице мужа. — Итак, супруг, — пренебрежительно продолжала она, — что ты считаешь неженским делом? Любовь? — Ее пальцы сжались сильней. — Или это? Как ты бы сказал, соитие? Конгост угадывал ловушку, но эта женщина гипнотизировала его, он не способен был сообразить, что следует сказать или сделать. Невольно он потянулся к ней, шевеля губами, как выброшенная на берег рыба, и крепко зажмурив глаза. Как бы ни презирал он жену, она умела пробудить в нем желание, и, при всей своей учености, он становился так же податлив, как любой мужчина, подчиненный тому, что болтается у него между ног. Она презирала его. Добившись желаемого результата, Ориана резко отдернула руку. — Ну, Жеан, — холодно проговорила она, — если тебе нечего мне сказать, ты можешь уйти. Здесь ты мне не нужен. И тут что-то в нем сорвалось, будто в памяти вспыхнули все разочарования и обиды, какие он терпел в жизни. Не успела Ориана сообразить, что происходит, как муж отвесил ей такую пощечину, что она опрокинулась на кровать. От неожиданности женщина задохнулась. Конгост замер, уставившись на свою руку, как на чужую. — Ориана, я… — Ты жалок, — взвизгнула жена, она чувствовала вкус крови на разбитых губах. — Я сказала, уходи, ну и уходи. Чтоб я тебя не видела! Ей показалось на минуту, что он попытается вымолить прощение. Но когда муж поднял глаза, она увидела в них ненависть, а не стыд, и с облегчением вздохнула. Все разыгрывается, как задумано. — Ты отвратительна! — выкрикнул он, отступая от кровати. — Ты не лучше животного. Нет, хуже животного, потому что ты знаешь, что делаешь. Он схватил с пола брошенный там синий плащ и швырнул ей в лицо. — И прикройся! Я не желаю больше видеть тебя в таком виде, бесстыдную, словно шлюха. Убедившись, что муж не собирается возвращаться, Ориана раскинулась на кровати, натянув на себя плащ. Ее чуть трясло от возбуждения. Впервые за четыре года брака глупому, слабодушному, бессильному старику, которого отец дал ей в мужья, удалось удивить жену. Разумеется, она нарочно злила его, но никак не ждала пощечины. Да какой! Ориана провела пальцами по обожженной ударом щеке. Пожалуй, останется отметина. Хорошо бы. Тогда отец увидит, на что ее обрек. Горький смешок оборвал ее размышления. Она не Элэйс. А отец, как бы ни старался этого скрыть, думает только об Элэйс. Ориана и внешностью и характером слишком походит на мать, чтобы стать его любимицей. Он и не почешется, если Жеан изобьет ее до полусмерти. Еще скажет, что она этого заслуживает. На минуту она позволила ревности, скрытой от всех, кроме Элэйс, прорваться сквозь идеальную маску красивого, непроницаемого лица. Злость на свое бессилие, недостаток влияния, разочарованность. Чего стоят ее молодость и красота, если она связана с мужчиной, лишенным честолюбия и будущего, с мужчиной, ни разу не бравшим в руки меч? Разве справедливо, что Элэйс, младшей сестре, достается все, о чем она напрасно мечтает? Что по праву должно принадлежать ей! Ориана вывернула в пальцах ткань плаща так, будто с вывертом щипала бледную тощую ручонку Элэйс. Избалованная, распущенная дурнушка Элэйс! Ориана сильней стиснула ткань, представляя себе расползающийся по коже багровый синяк. — Зачем ты его дразнила? — нарушил тишину голос любовника. Ориана совсем забыла о нем. — А почему бы и нет? — спросила она. — Единственное удовольствие, какое я от него имею. Мужчина выскользнул из ниши, положил ладонь ей на щеку. — Он сделал тебе больно? След остался… Она улыбнулась его заботе. Как же мало он ее знает! Видит в ней то, что хочет видеть, — созданный им самим образ женщины. — Пустяки, — ответила она. Серебряная цепь, украшавшая его шею, царапнула ей кожу, когда мужчина склонился к ней. Она почувствовала запах его желания обладать ею и шевельнулась, позволив синей ткани плаща волной стечь с ее тела. Она коснулась его чресел — белой и мягкой кожи, совсем не похожей на покрытую золотистым загаром кожу спины, рук и груди, подняла глаза и улыбнулась. Довольно испытывать его терпение. Ориана склонилась вперед, чтобы принять его в рот, но он толкнул ее обратно на постель и встал на колени рядом. — Чем порадовать тебя, моя госпожа? — спросил он, нежно раздвигая ей бедра. — Так? Она замурлыкала, когда он склонился ниже и поцеловал ее. — Или так? — Его губы склонились ниже, к ее потайному, скрытому местечку. Ориана затаила дыхание, чувствуя, как язык касается ее тела, дразня и лаская. — А может быть, так? Сильные руки уверенно подняли ее за пояс и притянули к себе. Ориана обхватила ногами его спину. — А может быть, вот чего тебе хочется? — Его голос задрожал от желания, когда он толчком вошел в нее. Она испустила вздох удовлетворения, царапнув ногтями его спину, обставляя на нем свою метку. — Так твой муж считает тебя шлюхой, вот как? — шепнул он. — Давай-ка докажем, что он прав.
ГЛАВА 10
Пеллетье мерил шагами комнату, ожидая прихода Элэйс. Стало прохладнее, но лоб у него блестел от пота, а лицо раскраснелось. Ему бы следовало спуститься в кухню, присмотреть за слугами, убедиться, что все готово. Но значительность этой минуты овладела им. Он стоял сейчас на перекрестке, откуда во все стороны расходились тропы, ведущие к неверному будущему. Все, чем была до сих пор его жизнь, все, чем она станет дальше, зависело от его решения. «Что же она не идет?» Пеллетье стиснул письмо в кулаке. Так или иначе, он успел запомнить его от слова до слова. Он отвернулся от окна, и что-то, блеснувшее в тенях и пыли под дверью, остановило его взгляд. Пеллетье нагнулся и поднял находку: тяжелую серебряную пряжку с медными вставками, достаточно большую, чтобы служить застежкой плаща или платья. Кастелян нахмурился. У него такой не было. Он поднес пряжку к свече, чтобы лучше видеть. Ничего особенного. На рынке такие продаются сотнями. Неплохого качества, но не слишком роскошная. Хозяин мог быть человеком состоятельным, однако не богач. Она не могла пролежать здесь долго. Франсуа каждое утроприбирал комнату и наверняка заметил бы ее. Другие слуги в комнату не допускались, и дверь весь день простояла запертой. Пеллетье огляделся, отыскивая следы вторжения. На душе у него было неспокойно. Кажется это или предметы на столе лежат чуточку не так, как он их оставил? И не ворошил ли кто-то постель? Сегодня его тревожила каждая мелочь. — Paire? Элэйс говорила тихо, и все же ее голос заставил его подскочить. Пеллетье поспешно опустил пряжку в карман. — Отец, — повторила она, — ты посылал за мной? Пеллетье собрался: — Да-да, посылал. Входи. — Угодно что-нибудь еще, мессире? — спросил из-за двери Франсуа. — Нет. Подожди снаружи, может быть, понадобишься. Он дождался, пока закроется дверь, и поманил Элэйс к столу. Налил ей вина и наполнил свой опустевший кубок, но садиться не стал. — У тебя усталый вид. — Устала немножко. — Что говорят о совете, Элэйс? — Никто не знает, что и думать, мессире. Много чего говорят. Все молятся, чтобы дела оказались не так плохи, как выглядят. Всем известно, что завтра виконт почти без свиты отправляется в Монпелье, чтобы просить аудиенции у своего дяди, графа Тулузы. Она помолчала. — Это верно? Он кивнул. — Однако объявлено, что турнир состоится? — И это верно. Виконт надеется закончить дело и вернуться домой в две недели. До конца июля точно. — Ты думаешь, он добьется успеха? Пеллетье не отвечал, продолжая расхаживать взад-вперед, и его беспокойство передалось дочери. Для храбрости она хлебнула вина. — Гильом тоже в свите? — Разве он тебе не сказал? — вскинулся отец. — Я не виделась с ним с тех пор, как собрался совет, — призналась она. — Где же он, во имя святой веры? — поразился Пеллетье. — Пожалуйста, скажи, да или нет? — Гильом дю Мас избран, хотя, признаюсь, против моего желания. Виконт отличает его. — Не без причины, paire, — тихо заметила она. — Он искусный шевалье. Пеллетье наклонился, чтобы долить вина в ее кубок. — Элэйс, ты ему доверяешь? Вопрос застал ее врасплох, однако она не промедлила с ответом. — Разве жена не должна доверять мужу? — Да-да. Я не ждал другого ответа, — отмахнулся он. — Но… он не расспрашивал, что случилось сегодня утром на реке? — Ты велел никому не рассказывать, — напомнила она, — и я повиновалась. — А я не сомневался, что ты сдержишь слово, — однако я спрашивал не о том. Разве Гильом не спросил тебя, где ты была? — Когда он мог спросить? — упрямо ответила она. — Я же сказала, что не виделась с ним. Пеллетье снова прошел к окну. — Тебя пугает приближение войны? — спросил он, не оборачиваясь к дочери. Элэйс подивилась неожиданной перемене темы, но ответила опять без запинки: — Мысль о войне пугает, мессире. Но ведь до этого не дойдет, верно? — Да, может, и обойдется. Он оперся рукой о край окна, затерявшись в собственных мыслях и, по-видимому, забыв о ее присутствии. — Я знаю, что мои расспросы удивляют тебя, но у меня есть причина спрашивать. Загляни поглубже в свое сердце. Тщательно взвесь ответ и скажи правду. Ты доверяешь мужу? Веришь, что он станет защищать тебя, что будет тебе верен? Элэйс понимала, что главное так и осталось невысказанным, но все равно не решалась ответить. Она не хотела предавать Гильома, но и солгать отцу не могла. — Я знаю, что ты им недоволен, мессире, — ровным голосом проговорила она. — Хотя не знаю, чем он мог вызвать… — Ты прекрасно знаешь, чем я недоволен, — нетерпеливо перебил Пеллетье. — Я тебе достаточно часто объяснял. Однако мое личное мнение о Гильоме дю Масе так и не определилось. Можно не любить человека, однако признавать его достоинства. Прошу тебя, Элэйс, ответь на вопрос. От твоего ответа зависит очень многое. Вспомнился спящий Гильом. Глаза, темные и влекущие, как магнитный камень; губы, целующие ее запястье. Вспомнилось так ярко, что закружилась голова. — Я не могу ответить, — наконец решилась она. — Ах так, — выдохнул Пеллетье. — Хорошо, хорошо. Я понимаю… — Со всем уважением, paire, но ничего ты не понимаешь, — вспыхнула Элэйс. — Я ничего не говорила. Он повернулся к дочери. — Ты сказала Гильому, что я за тобой послал? — Я же сказала, что с ним не виделась, и… и нехорошо тебе так допрашивать меня. Заставлять меня делать выбор между верностью ему и тебе. — Элэйс начала вставать. — Так что, мессире, если ты больше не нуждаешься в моем присутствии в такой поздний час, я прошу о позволении удалиться. Пеллетье понял, что пора разрядить ситуацию. — Сядь, сядь. Вижу, что обидел. Прости. У меня не было такого намерения. Он протянул дочери руку. Чуть помедлив, Элэйс приняла ее. — Я не собирался говорить загадками. Дело в том, что я сам не могу решиться. Сегодня вечером я получил очень важное сообщение, Элэйс, и последние несколько часов пытался решить, что делать, взвешивал разные возможности. Я уже думал, что избрал единственный путь, когда посылал за тобой, и тем не менее продолжал сомневаться. Элэйс встретила его взгляд: — И что же теперь? — Теперь мне ясно, что делать. Да, я думаю, что вижу единственный путь. Кровь отлила у Элэйс от щек. — Значит, война все-таки будет, — сказала она неожиданно мягко. — Да, думаю, это неизбежно. Судя по всему, ничего хорошего ждать не приходится. Ничего не поделаешь, мы попали в водоворот, с которым нашими силами не совладать, сколько бы мы ни старались убедить себя в обратном. — Он помолчал. — Но и это еще не главное, Элэйс. И если в Монпелье дело обернется плохо, то, возможно, у меня уже не будет возможности… рассказать тебе. — Что может быть важнее угрозы войны? — Я не могу сказать больше, пока ты не дашь слова, что сказанное сегодня здесь останется между нами. — Потому ты и спрашивал про Гильома? — Отчасти поэтому, — признал он, — но не только. Но сперва я должен поверить, что сказанное останется в этих четырех стенах. — Я обещаю, — твердо сказала Элэйс. Пеллетье еще раз вздохнул, но в голосе его послышалось облегчение. Жребий брошен, он сделал выбор. Осталось справиться с последствиями, каковы бы они ни были. — Эта история, — заговорил он, — началась в древней стране Египет несколько тысячелетий назад. Это — история Грааля.Пеллетье продолжал рассказ, пока не выгорело масло в светильнике. Двор под окном затих: шумный люд давно разошелся по постелям. Элэйс изнемогала от усталости. Пальцы ее побелели, а под глазами пролегли лиловые тени, похожие на синяки. И Пеллетье тоже постарел и осунулся за время рассказа. — Отвечая на твой вопрос, — закончил он, — делать тебе пока ничего не надо, а возможно, и никогда не придется. Если завтра мы получим согласие на наше прошение, у меня будет время и случай самому вывезти книгу, как мне и следовало. — А если нет, paire? Если с тобой что-нибудь случится? Элэйс осеклась, испугавшись собственных слов. — Все еще может обернуться к лучшему, — отозвался Пеллетье, но голос его казался безжизненным. — А если нет? — настаивала дочь, не давая себя успокоить. — Что, если ты не вернешься? Что мне тогда делать? Он на мгновение задержал ее взгляд. Затем опустил руку в кошель и достал крошечный сверток светлой ткани. — Если со мной что-нибудь случится, ты получишь вот такой знак. Он через стол подтолкнул сверток к дочери. — Открой. Элэйс послушно развернула материю, откидывая слой за слоем, пока не открылся маленький диск, выточенный из светлого камня, с выбитыми на нем буквами. Элэйс поднесла диск к свету и прочитала вслух: — NS? — Означает Noublesso de los Seres. — Что это? — Это мерель, тайный знак, который легко скрыть между большим и указательным пальцем. У него есть и другое, более важное назначение, но этого тебе пока знать не надо. Довольно того, что ты можешь довериться человеку, доставившему его. Элэйс кивнула. — Теперь переверни. На оборотной стороне диска был вырезан узор лабиринта — такой же, как на дощечке, попавшейся утром под руку Элэйс. У нее перехватило дыхание. — Я уже видела такой. Пеллетье стащил с большого пальца кольцо и протянул ей. — Резьба на внутренней стороне, — подтвердил он. — Такие носят все стражи. — Нет, видела здесь, в Шато. Я сегодня ходила на рынок за сыром и взяла из комнаты дощечку, чтоб донести. На ней такой же узор, вырезан на обратной стороне. — Невозможно! Наверное, не такой. — Ручаюсь, что такой же. — Откуда у тебя эта дощечка? — требовательно спросил кастелян. — Вспомни, Элэйс. Тебе ее кто-то дал? Подарил? Элэйс замотала головой. — Не помню, не помню, — в отчаянии повторяла она. — Я весь день старалась вспомнить, и не могла. Самое удивительное, мне сразу показалось, будто я и раньше видела где-то этот узор, хотя дощечка мне незнакома. — Где она теперь? — Оставила у себя на столе, — ответила она. — А что, ты думаешь, это важно? — Значит, кто угодно мог ее увидеть, — досадливо поморщился Пеллетье. — Наверно, — неуверенно отозвалась Элэйс. — Гильом или кто-нибудь из слуг… Не знаю. Она опустила взгляд на кольцо, и кусочки головоломки вдруг сложились у нее в голове. — Ты думал, тот человек в реке был Симеон? — медленно спросила она. — Он тоже хранитель, страж книг? Пеллетье кивнул. — Не было никаких причин подумать о нем, но я был так уверен… — А остальные хранители? Ты их знаешь? Он перегнулся через стол и сжал ее пальцы поверх мереля. — Довольно вопросов, Элэйс. Береги это. Спрячь хорошенько. И дощечку с лабиринтом убери подальше от чужих глаз. Когда вернемся, я с этим разберусь. Элэйс встала из-за стола. — Что это за дощечка? Пеллетье улыбнулся ее настойчивости. — Я сам еще не понимаю, filha. — Но раз она здесь, значит, еще кто-то в Шато знает о существовании книг? — Знать никто не может, — твердо возразил он. — Если бы я думал иначе, обязательно сказал бы тебе. Даю слово. Слова были тверды и голос звучал уверенно, но выражение глаз выдавало его. — А что, если… — Basta, — перебил он, вскинув ладонь. — Хватит. Элэйс спряталась в его просторных объятиях. От близости знакомого плеча на глаза навернулись слезы. — Все будет хорошо, — заверил ее отец. — Наберись храбрости. И делай только то, о чем я просил, не более. — Отец поцеловал ее в макушку. — А теперь прощай до рассвета. Элэйс кивнула, не доверяя своему голосу. — Ben, ben. А теперь поспеши. И да хранит тебя Бог.
Элэйс пробежала темными коридорами и, задержав дыхание, выскочила на темный двор. В каждой тени ей мерещились духи и демоны. В голове шумело. Старый знакомый мир вдруг показался зеркальным отражением прежнего — узнаваемым, и в то же время перевернутым. Сверточек, спрятанный за корсаж, казалось, прожигал кожу. За дверью ее встретила прохлада. Замок спал, лишь в нескольких окнах еще светились огоньки. Взрыв смеха со стороны сторожевого поста заставил ее подскочить. На минуту показалось, что в верхнем окне мелькнуло чье-то лицо. Но закружившаяся над головой летучая мышь отвлекла ее взгляд, а когда она взглянула снова, в окне было темно и пусто. Элэйс ускорила шаг. Слова отца кружились в голове, а с ними вопросы — заданные и незаданные. Еще несколько шагов, и по спине у нее побежали мурашки. Элэйс оглянулась: — Кто здесь? Никто не отзывался. Она окликнула снова. В темноте затаилось зло, она ощущала его, чувствовала его запах. Уже в полной уверенности, что за ней следят, Элэйс почти бежала. Она слышала шаркающие шаги за спиной и тяжелое дыхание. — Кто здесь? — снова вскрикнула она. Внезапно широкая потная ладонь, пропахшая пивом, зажала ей рот. Внезапный сильный удар по голове сбил девушку с ног. Казалось, она падала целую вечность. Потом чьи-то руки принялись шарить по телу, как крысы по кладовке, и вскоре нашли то, что искали. — Aqui es. Вот оно. Это было последнее, что услышала Элэйс до того, как тьма сомкнулась над ней.
ГЛАВА 11 ПИК ДЕ СОЛАРАК, ГОРЫ САБАРТЕ, ЮГО-ЗАПАДНАЯ ФРАНЦИЯ, понедельник, 4 июля 2005
— Элис! Элис, ты меня слышишь? Она моргнула и открыла глаза. Вокруг стояла сырая прохлада, как в неотапливаемой церкви. Она лежала навзничь на холодном жестком камне. «Где я, черт возьми?» Локтями и икрами Элис ощущала рытвины влажной земли. Она поерзала. Острые камушки наждаком царапали кожу. Нет, это не церковь. Проблесками возвращались воспоминания. Темный пыльный пещерный ход, каменный зал… А что дальше? Все виделось смутным, размытым по краям. Элис попробовала поднять голову. Ошибка. В основании черепа взорвалась боль. Тошнота поднялась к горлу, как вода в дырявой лодке. — Элис, ты меня слышишь? Кто-то говорил с ней. Знакомый, встревоженный, испуганный голос. — Элис, проснись! Она снова приподняла голову. На этот раз оказалось легче. Медленно, осторожно она привстала. — Господи, — с облегчением пробормотала Шелаг. Элис чувствовала поддерживающие ее руки. Ей помогли сесть. Все было темно и мрачно, только светился огонек фонарика. Двух фонариков. Прищурившись, Элис разглядела за спиной Шелаг Стивена, одного из старших членов группы. В темноте блеснула проволочная оправа его очков. — Элис, скажи что-нибудь. Ты меня слышишь? — твердила Шелаг. «Не уверена. Может, и слышу». Элис хотела заговорить, но губы онемели и не слушались. Тогда она попробовала кивнуть. От этого усилия сильней закружилась голова. Чтобы не потерять сознания, она пригнула голову к коленям. Поддерживая с двух сторон, Шелаг и Стивен усадили ее на каменные ступени. Элис сидела, сложив руки на коленях, а перед глазами мелькали и гасли картины воспоминаний. Как испорченная кинопленка. Шелаг что-то говорила, присев перед ней на корточки, но слов Элис не разбирала. Звук долетал до нее искаженным, будто магнитофонную запись пустили не на той скорости. Нахлынула новая волна тошноты, вызванная воспоминанием о стуке, с которым откатился из-под ноги череп. А вот ее рука тянется к кольцу, вот Элис сознает, что растревожила нечто, дремавшее в недрах горы, нечто зловещее. А потом пустота. Как она замерзла! Голые руки и ноги все в мурашках. А ведь она не так уж долго пробыла без сознания. Не больше нескольких минут. В отключившемся мозгу что-то продолжало отсчитывать время. Однако времени хватило, чтобы соскользнуть из этого мира в другой. Элис вздрогнула. Еще одно воспоминание. Снова тот же знакомый сон. Сперва ощущение легкости и покоя, все светло и ясно. Потом долгое, долгое падение сквозь пустоту небес, потом метнувшаяся навстречу земля. Ни сотрясения, ни удара, только зеленые башни деревьев, вырастающие над ней. А потом огонь, стена желтых, багровых, рыжих языков пламени. Элис крепко обхватила плечи голыми руками. Почему вернулся старый кошмар? Он повторялся все детские годы, вечно один и тот же обрывающийся в пустоту сон. В комнате напротив спокойно слали ничего не подозревающие родители, а Элис ночь за ночью сидела в темноте, крепко обхватив руками коленки, в одиночку сражаясь с демонами. Но ведь уже много лет такого не бывало. На долгие годы они оставили ее в покое. — Может, попробуешь встать? — спрашивала между тем Шелаг. «Это ничего не значит. Если только все не начнется сначала». — Элис, — уже резче повторила Шелаг, в голосе прорвалось раздражение. — Ты не сумеешь встать? Надо доставить тебя в лагерь. Кто-то должен тобой заняться. — Кажется, могу, — наконец отозвалась она, не узнавая своего голоса. — Что-то с головой неладно… — Ты сможешь, Элис. Ну, постарайся. Элис опустила взгляд на свои распухшие покрасневшие запястья. «Дрянь!» Она не могла, не хотела вспоминать. — Я плохо помню, что случилось. Это… — она подняла руку, — это еще снаружи было. Шелаг обняла Элис за плечи, поддерживая ее. — Ну как? Собравшись с силами, та позволила им со Стивеном поставить себя на ноги. Покачнулась, но быстро восстановила равновесие. В голове прояснилось, и к онемевшим руками и ногам начала поступать кровь. Элис осторожно согнула и разогнула пальцы, ощутив, как натянулась сбитая на костяшках кожа. — Все будет в порядке, только дайте минутку отдышаться. — Какая муха тебя укусила, что ты полезла сюда в одиночку? — Я… — Элис сбилась, не зная, чем оправдаться. Вечно она нарушает правила и наживает неприятности. — Ты посмотри, что там внизу! Там, в пещере. Шелаг проследила ее взгляд и направила в ту сторону луч фонаря. Свет скользнул по потолку и стенам пещеры. — Мет, не там, — поправила Элис. — Ниже. Шелаг опустила фонарь. — Перед алтарем. — Алтарь?.. Мощный белый луч прожектором прорезал чернильную темноту. На долю секунды черная тень алтаря очертаниями греческой буквы «пи» наложилась на чертеж лабиринта. Но Шелаг уже сдвинула луч, образ исчез, а пятно света легло на могилу. Из темноты выдвинулись светлые кости. И атмосфера мгновенно переменилась. Шелаг резко выдохнула. Машинально переставляя ноги, приблизилась к могиле на шаг, два, три. Она явно забыла о существовании Элис. Стивен шагнул было за ней. — Нет, — приказала Шелаг, — Останься там. — Я только… Вернее, сходи скорей за доктором Брайлингом. Расскажешь, что мы нашли. Сейчас же! — прикрикнула она, видя, что он не двинулся с места. Стивен молча сунул фонарик в руку Элис и скрылся в тоннеле. Она слышала хруст его ботинок по гравию, все слабее и слабее, пока темнота не поглотила звук. — Не надо было так на него кричать, — начала Элис. Шелаг перебила ее. — Ты что-нибудь трогала? — Вообще-то нет, только… — Что «только»? — Снова та же враждебность. — В могиле лежало несколько вещиц, — продолжала Элис. — Давай покажу. — Нет! — выкрикнула Шелаг и повторила уже спокойнее: — не надо. Ни к чему здесь топтаться. Элис хотела заметить, что думать об этом теперь поздновато, но воздержалась. Ей не так уж хотелось снова приближаться к скелетам. Слепые глазницы и сломанные кости слишком ясно отпечатались в мозгу. Шелаг остановилась над неглубокой могилой, с каким-то вызовом провела лучом фонаря по телам, с ног до головы и обратно, словно обыскивая их. Это выглядело почти кощунством. Тускло блеснул клинок ножа, когда Шелаг присела над скелетами, повернувшись к Элис спиной. — Говоришь, ничего не трогала? — резко спросила она, бросив через плечо сердитый взгляд. — А как сюда попал твой пинцет? Элис вспыхнула. — Ты же сама не дала мне договорить! Я как раз собиралась сказать, что подняла колечко — пинцетом, я хотела сказать, — и выронила его, когда услышала ваши шаги в тоннеле. — Кольцо? — повторила Шелаг. — Может, оно откатилось в сторону? — Во всяком случае, я его не вижу, — отозвалась подруга, неожиданно выпрямившись во весь рост. Она шагнула обратно к Элис. — Уйдем отсюда. Надо показать тебя врачу. Элис ошеломленно уставилась на нее. Чужое лицо, совсем не похожее на лицо ее доброй подружки. Сердитое, жесткое, осуждающее. — Разве ты не хочешь… — Господи, Элис, — перебила Шелаг, схватив ее за плечо, — ты уже натворила достаточно дел. Уходим!После бархатной темноты пещеры снаружи показалось очень светло. Солнце полыхнуло в лицо Элис, взорвавшись, как фейерверк в черном ноябрьском небе. Она прикрыла лицо ладонями. Никак не удавалось определиться во времени и пространстве. Казалось, на время, которое она провела под землей, мир прекратил существование, и сейчас все вокруг представлялось знакомым, и в то же время изменившимся. «Или я просто смотрю на все другими глазами?». Видневшиеся вдали пики Пиренеев потеряли отчетливость. Деревья, небо, даже сами горы стали словно бы менее вещественными, менее настоящими. Чудилось: коснись чего-то, и оно распадется под рукой, как старые декорации для съемок, а за ними откроется настоящий мир. Шелаг не пыталась ей помочь. Она уже шагала вниз, прижимая к уху мобильный телефон, и ничуть не беспокоилась, как справится ее подруга. Элис заторопилась за ней. — Шелаг, погоди немного. Подожди! — Она тронула подругу за плечо. — Извини, пожалуйста. Я знаю, что не надо было лезть туда самой. Просто не подумала. Шелаг словно не слышала. Даже не обернулась, только защелкнула чехольчик телефона. — Да подожди же! Мне за тобой не угнаться. — О'кей. — Шелаг резко развернулась к ней лицом. — Вот, я остановилась. — Да что с тобой? — Что со мной? А чего, хотелось бы знать, ты ждешь? Чтобы я сказала, что все хорошо? Мне что, еще тебя утешать, после твоих фокусов? — Нет, но… — Видишь ли, ничего хорошего тут нет. Просто невероятной, жуткой дурью было лезть туда одной. Ты создаешь помехи ходу раскопок и Бог знает, что еще. Какого черта? Элис вскинула руки. — Ладно, ладно, виновата. И прошу прощения, — повторила она, не сумев подобрать других слов, чтобы выразить свое раскаяние. Ты хоть понимаешь, в какое положение меня поставила? Я за тебя ручалась. Я уговорила Брайлинга допустить тебя на раскоп. А теперь ты вздумала поиграть в Индиану Джонса, и из-за твоих игр полиция может приостановить работы или вообще закрыть раскопки. И я буду виновата перед Брайлингом. Сколько я добивалась сюда попасть, получить это место. Сколько времени потратила… Махнув рукой, Шелаг взъерошила пальцами короткие выгоревшие волосы. «Несправедливо». — Слушай, притормози малость. — Элис понимала, что Шелаг вправе сердиться, но уж это было чересчур. — Ты несправедлива. Признаю, лезть в пещеру было глупо — не подумала, каюсь, — но и ты перебираешь через край. И ведь я не нарочно. А потом, зачем бы Брайлингу вызывать полицию? Я ничего не трогала. Никто не пострадал. Она попыталась удержать Шелаг за руку, но та с такой силой выдернула ладонь, что Элис пошатнулась. Брайлингу придется сообщить властям, — вызверилась на нее Шелаг, — потому что, как ты должна знать, если слушала хоть слово из того, что я говорила, — нам, несмотря на сопротивление полиции, разрешили вести здесь раскопки с условием, что при находке любых человеческих останков мы немедленно уведомим органы юстиции. У Элис душа ушла в пятки. — Я думала, это только для протокола. Никто вроде бы не принимал этого всерьез, все шуточки были. — Вижу, что ты этого всерьез не приняла, — огрызнулась Шелаг. — А вот остальные приняли — будучи профессионалами и уважая свою работу. «Да что же это такое?» — С чего бы полиции интересоваться археологическими раскопками? Шелаг взорвалась: — Боже мой, Элис, до тебя так и не дошло? Даже теперь? Кому какое дело, «с чего»? Главное, что заинтересовались. И не тебе решать, какие правила принимать всерьез, а о каких забывать. — Я и не говорила… — Почему ты всегда все делаешь наперекор? Всегда уверена, что лучше знаешь, что правила не для тебя, что ты из ряда вон… Теперь и Элис сорвалась на крик: — Вот это уж нечестно. Ничего такого, и ты это прекрасно знаешь. Я просто не подумала… — В том-то все и дело. Никогда ни о чем не думаешь, кроме как о себе. Как бы получить, чего хочется! — Да ты с ума сошла, Шелаг. Как будто я нарочно вам все испортила! Ты бы себя послушала! — Элис глубоко вздохнула и постаралась взять себя в руки. — Слушай, я скажу Брайлингу, что во всем виновата, хотя… понимаешь, я не стала бы рыться там без разрешения, если бы… — Если бы что? — Звучит глупо, но меня туда будто тянуло. Не знаю, как объяснить, но я чувствовала. Дежавю. Как будто я уже бывала здесь прежде. — Думаешь, это оправдание? — язвительно усмехнулась Шелаг. — Слушай, дай мне от тебя отдохнуть. Ты чувствовала, надо же! Как трогательно! Элис покачала головой. — Не только в этом дело. — А какого беса ты вообще полезла туда наверх? Сама по себе? Вот оно самое и есть! Лишь бы наперекор правилам. — Нет, — уже спокойнее возразила Элис. — Было совсем не так. Моего напарника сегодня не было, а я заметила что-то под валуном и решила: ведь сегодня у меня последний день, хорошо бы что-нибудь найти. Она поняла, что опять говорит не то, но поправляться было поздно, и Элис беспомощно закончила: — Я хотела только убедиться, что стоит вас звать. Я не собиралась… — Ты хочешь сказать, что, ко всему прочему, ты и вправду что-то нашла? И не потрудилась никому показать находку? — Я… Шелаг протянула к ней руку ладонью вверх: — Давай сюда. Минуту Элис смотрела подруге в глаза, потом залезла в карман брезентовых шортов, вытащила свернутый платок и молча, боясь расплакаться, протянула Шелаг. Та неторопливо развернула белую тряпицу, открыв брошку. Элис невольно потянулась к ней. — Красивая, правда? Смотри, медная оправа еще блестит, вот и вот. — Она помолчала. — Я думаю, может, она принадлежала кому-то из тех, в пещере? Шелаг взглянула на подружку. Настроение у нее снова переменилось. Злость как рукой сняло. — Ты не соображаешь, что делаешь, Элис. Совершенно не соображаешь. Она свернула платок. — Я отнесу ее вниз. — Я бы… — Перестань, Элис. Не хочу я сейчас с тобой разговаривать. Что бы ты ни сказала, только хуже делаешь.
«Из-за чего, черт побери, такой шум?» Элис остолбенело уставилась в спину Шелаг. Ссора возникла из ничего — слишком бурная даже для Шелаг, которая склонна был а взрываться по пустякам и так же быстро остывать. Элис присела на первый попавшийся камень, опустила на колени гудящие руки. Все у нее ныло, она чувствовала себя совершенно опустошенной и к тому же обиженной. Известно, раскопки ведутся частным образом, а не от какого-нибудь института или университета, и потому здесь менее строгие ограничения, чем в обычных экспедициях. Именно поэтому многие рвались сюда попасть, и конкуренция за место была бешеной. Шелаг работала в Мае д'Азиль, в нескольких километрах к северо-западу от Фуа, и там впервые прослышала о раскопках в горах Сабарте. Она рассказывала, как бомбардировала доктора Брайлинга письмами, электронными сообщениями и рекомендациями, пока, полтора года назад, не выжала из него согласия. Только сейчас Элис задумалась, отчего подруга проявила подобную настойчивость. Она бросила взгляд вниз. Шелаг далеко обогнала ее и почти скрылась из виду — ее тонкая худощавая фигурка затерялась в сухих зарослях на склоне. Теперь ее уже не догонишь. А не очень-то и хотелось! Элис вздохнула. Опять ничего не добилась. Как всегда. Все хочется сделать самой. Она всегда упрямо старалась справляться сама, не желала ни от кого зависеть. Вот только сейчас Элис сомневалась, что сумеет хотя бы добраться без посторонней помощи до лагеря. Слишком уж жарит солнце, слишком ослабели ноги. И порез на руке снова кровоточит, еще сильней, чем раньше. Элис обвела взглядом сожженные солнцем горы Сабарте, хранившие все тот же неподвластный времени вид. На миг ее охватило ощущение счастья. Потом подступило другое чувство — словно бы покалывание в затылке. Предвкушение? Ожидание? Узнавание. «Все кончается здесь». У Элис перехватило дыхание, часто забилось сердце. «Все кончается здесь, где и началось». Голову вдруг наполнили обрывочные звуки, шепотки. Будто эхо, долетевшее из прошлого. И снова возникли слова, прочитанные недавно на каменной ступени. «Pas a pas». Они без конца повторялись в памяти, как обрывок детского стишка. Не может такого быть. Глупости! Потрясенная, Элис оперлась руками о колени и заставила себя встать. Надо возвращаться в лагерь. Перегрев, обезвоживание… надо уйти с солнцепека и попить воды. Тщательно выбирая дорогу, она принялась спускаться. Каждый камень или ухаб отдавался болью в ногах. Элис торопилась уйти от шепчущего камня, от живущих в нем призраков. Не понимая, что с ней происходит, она думала только о бегстве. Она шла все быстрей и быстрей, в конце концов почти побежала, спотыкаясь и оступаясь на острых обломках кремня. Но слова застряли в памяти и повторялись громко и ясно, подобно мантре. Шаг за шагом мы проходим свой путь. Шаг за шагом…
ГЛАВА 12
Столбик термометра в тени подползал к тридцати трем градусам. Время близилось к трем часам. Элис сидела под полотняным навесом, послушно глотая «оранжино» из стакана, который сунули ей в руку. Теплые пузырьки щекотали горло, сахар поступал в кровь, возвращая силы. Резко пахло брезентом, палатками и полиэтиленом. Порез на локте ей промыли и заново перевязали. Чистые белые бинты лежали и на вспухшем до размеров теннисного мячика запястье. Мелкие ссадины и царапины, сверху донизу покрывавшие ноги, смазали обеззараживающей мазью. Сама виновата. Элис посмотрела в зеркальце, висевшее на опоре тента. Маленькое личико сердечком с умными карими глазами взглянуло на нее из-за стекла. Кожа была бы бледной, если бы не загар и веснушки. Да, ну и видок! Волосы в пыли, майка в пятнах крови… Больше всего ей хотелось вернуться в Фуа, в номере сбросить одежду и долго-долго стоять под прохладным душем. А потом выйти на площадь, заказать в кафе бутылочку вина и не двигаться с места до самого вечера. И не вспоминать о том, что случилось. Однако похоже, что удрать не выйдет. Полиция прибыла полчаса назад. На стоянке, рядом с потрепанными «рено» и «ситроенами» археологов, выстроились бело-голубые полицейские автомобили. Все это напоминало вражеское вторжение. Элис была уверена, что ею займутся в первую очередь, однако полицейские, выяснив только, что именно она обнаружила скелеты, и сообщив, что поговорят с ней позже, оставили ее в покое. Элис не возражала. Шум и суматоха ее угнетали. Все равно никто ничего не знал, и Шелаг куда-то подевалась. Появление полиции изменило привычный вид лагеря. Десятки полицейских в светло-голубых рубашках, в высоких черных сапогах, с пистолетами на поясе, осами облепили горный склон, взбивали ногами пыль, шумно и торопливо перекликались на французском, совершенно невразумительном для Элис из-за непривычного выговора. Гул стоял в воздухе. Стрекотание видеокамер заглушало хор цикад. Ветерок, дувший со стороны стоянки, донес до нее звук разговора. Обернувшись, Элис увидела доктора Брайлинга, поднимавшегося по ступеням в сопровождении Шелаг и коренастого офицера полиции — по-видимому, начальника. — Совершенно очевидно, что скелеты никак не могут оказаться вашими пропавшими, — настойчиво втолковывал доктор Брайлинг. — Возраст костей, несомненно, исчисляется столетиями. Уведомляя власти, я никак не предвидел, какой шум вы из-за них поднимете. — Он взмахнул руками. — Вы хотя бы понимаете, что ваши люди нам все снесут? Уверяю вас, я очень против этого. Элис разглядывала офицера: маленького смуглого мужчину средних лет, с обширным брюшком и еще более обширной лысиной. Он запыхался и явно страдал от жары, то и дело утирая лоб и шею зажатым в руке влажным носовым платком. Толку от этого было мало. Даже издалека Элис видела темные круги пота у него под мышками и вокруг ворота. — Приношу извинения за доставленные неудобства, monsieur le Directeur,[188] — отбивался он на правильном английском языке. — Но поскольку это частная экспедиция, вы, я уверен, сумеете объяснить положение вашим спонсорам. — То обстоятельство, что мы финансируемся частным образом, а не средствами института, никак не относится к делу, господин Нубель. Вы без всяких оснований вмешиваетесь в ход работ, раздражая и утомляя сотрудников. Между тем наши исследования имеют большое значение… — Доктор Брайлинг, — заговорил Нубель, по-видимому, не в первый раз повторяя одно и то же. — У меня связаны руки. Мы заняты расследованием убийства. Вы видели объявления о розыске двоих пропавших, oui?[189] А потому, удобно вам это или нет, мы вынуждены убедиться, что найденные вами скелеты не принадлежат никому из этих людей, после чего вы сможете продолжать работу. — Не говорите глупостей, инспектор! Можно ли сомневаться, что тем скелетам сотни лет? — Вы провели анализ? — Ну… нет… — запнулся доктор. — Тщательного анализа, конечно, не проводили. Но ведь это бросается в глаза. Ваши эксперты со мной согласятся. — Не сомневаюсь, доктор Брайлинг, но до тех пор… — Нубель пожал плечами. — Мне больше нечего вам сказать. Вмешалась Шелаг: — Мы сочувствуем вашим затруднениям, инспектор, но не могли бы вы сказать по крайней мере, сколько это продлится? Когда вы закончите? — Bientôt.[190] Скоро. Не я составлял инструкции. Доктор Брайлинг возмущенно взмахнул руками: — В таком случае я вынужден обратиться через вашу голову к кому-либо, обладающему властью. Это просто смешно! — Как пожелаете, — кротко отозвался Нубель. — А пока — кроме дамы, обнаружившей тела, я хотел бы получить список всех, входивших в пещеру. Закончив предварительное следствие, мы немедленно заберем тела на экспертизу, после чего ваши сотрудники будут свободны. Элис наблюдала за окончанием этой сцены. Брайлинг зашагал прочь, а Шелаг тронула инспектора за плечо, впрочем, тут же отдернув руку. Кажется, они тихо переговорили между собой, потом оба обернулись к автомобильной стоянке. Элис тоже взглянула в ту сторону, но не увидела ничего интересного.Прошло еще полчаса, а к ней так никто и не подошел. Элис порылась в своем рюкзачке — то ли Стивен, то ли Шелаг захватили его сверху — и вытащила блокнот для зарисовок. Открыла на первой свободной странице. «Представь, что стоишь у входа, заглядываешь в тоннель». Элис закрыла глаза, увидела себя стоящей, раскинув руки, ощупывая пальцами края прохода. Удивительно гладкая поверхность, отполированная человеческой рукой или стертая трением камня о камень. Шаг вперед, в темноту. «Тоннель идет под уклон». Удерживая в памяти образ и размеры, Элис делала быстрые зарисовки. Тоннель, вход в пещерный зал. На втором листке она изобразила нижнюю камеру, пол от ступеней до алтаря, со скелетами, лежащими на полпути между ними. Рядом с наброском пещеры поместился список обнаруженных предметов: нож, кожаный мешочек, фрагменты ткани, кольцо. Кольцо снаружи совершенно плоское и гладкое, необычайно широкое, с узким желобком посередине. Странно, что резьба помещена на внутренней стороне, где ее не видно. Миниатюрная копия чертежа лабиринта, изображенного на стене над алтарем. Элис откинулась на спинку раскладного кресла. Ей почему-то не хотелось доверять этот чертеж бумаге. Размеры? Диаметр футов шесть или больше? Сколько кругов? Она вычертила круг во всю ширину листа и остановилась. Сколько же там было кругов? Элис была уверена, что узнает лабиринт, если увидит его снова, но смотрела-то она на него всего пару секунд, и кольцо рассматривала в темноте, так что воспоминание было смутным. Где-то в пыльных закоулках сознания хранилось нужные знания. Школьные уроки истории и латыни, документальная программа, которую она смотрела, свернувшись на диванчике между родителями… Книжный стеллаж в спальне с любимыми книжками на нижней полке. Иллюстрированная энциклопедия древних мифов: блестящие яркие страницы с растрепанными от частого перелистывания уголками… «Там была картинка с лабиринтом». Мысленным взором Элис отыскала нужную страницу. «Но он был не такой». Она мысленно поместила рядом две картины, будто журнальную головоломку «найди различия». Подняла карандаш и решительно начала рисовать. Начертила второй круг внутри первого, попробовала соединить их. Вторая попытка оказалась не удачнее первой, и следующая тоже Элис уже поняла, что вопрос не только в том, сколько концентрических кругов составляло лабиринт. Было что-то в корне ошибочное в ее рисунках. Она продолжала старания. Первоначальное рвение сменялось глухим раздражением. Все больше вырванных и скомканных листков скапливалось у нее под ногами. — Мадам Таннер? Элис подскочила, оставив карандашный след поперек рисунка. — Docteur…[191] — машинально поправила она, вставая. — Je vous demande pardon, Docteur. Je m'appelie Noubel. Police Judiciare, Departament de l’Ariege.[192] Нубель раскрыл перед ней свое удостоверение. Элис притворилась, что читает, а сама поспешно запихивала все обратно в рюкзак. Она не собиралась показывать инспектору неудачные зарисовки. — Vous preferez parler en anglais?[193] — Да, это было бы удобнее, благодарю вас. Инспектора Нубеля сопровождал офицер в форме, с беспокойным, пристальным взглядом. На вид он казался едва со школьной скамьи. Его не представили. Нубель втиснулся в тонконогое походное креслице. Едва уместился. Его ляжки торчали над полотняным сиденьем. — Et alors, Madame…[194] Ваше полное имя, пожалуйста. — Элис Грейс Таннер. — Дата рождения? — Седьмое января 1974. — Замужем? — Это относится к делу? — огрызнулась она. — Для справки, доктор Таннер, — невозмутимо отозвался полицейский. — Нет, — сказала она, — не замужем. — Ваш адрес? Элис сообщила ему, в каком отеле остановилась в Фуа, и дала свой домашний адрес, по буквам произнося английские названия. — Не далековато добираться каждый день из Фуа? — В общежитии археологов не было места, поэтому… — Bien.[195] Вы волонтер, как я понимаю, да? — Правильно. Шелаг… то есть доктор О'Доннел, — очень давняя моя подруга. Мы вместе учились в университете, пока… «Отвечай только на вопросы. Его не интересует твоя биография». — Я здесь впервые, а доктор О'Доннел знает эти места, и когда выяснилось, что мне придется несколько дней провести в Каркасоне, она предложила заехать к ней, чтобы нам побыть вместе. Трудовой отпуск, можно сказать. Нубель чиркнул что-то в блокноте. — Вы не археолог? Элис покачала головой. — Но на раскопках часто берут любителей или студентов археологов на подсобную работу. — Сколько здесь добровольцев, кроме вас? Она покраснела, будто попалась на вранье. — Вообще-то сейчас ни одного. Только археологи и студенты. Нубель взглянул на нее. — А вы здесь до?.. — Сегодня последний день. Был бы… если бы не все это. — А в Каркасоне? — У меня назначена встреча в среду утром, и потом несколько дней, чтобы посмотреть город. В воскресенье улетаю в Англию. — Красивый городок, — заметил Нубель. — Никогда там не была. Полицейский вздохнул и вытер багровую лысину платком. — А какого рода встреча? — Точно не знаю. Какая-то родственница, жившая во Франции, кажется, упомянула меня в завещании. — Элис замялась, ей не хотелось вдаваться в подробности. — Узнаю, когда в среду встречусь с нотариусом. Нубель сделал еще одну запись. Элис попробовала подсмотреть, что он пишет, но прочесть его почерк вверх ногами не удалось. Она обрадовалась, когда он оставил эту тему. — Так вы доктор… — Он вопросительно взглянул на собеседницу. — Я не медик, — отозвалась она, с облегчением выбираясь на более твердую почву. — Преподавательница. У меня ученая степень в филологии — средневековая английская литература. Нубель обалдело уставился на нее. — Pas médecin. Pas géneraliste,[196] — пояснила Элис по-французски. — Je suis universitaire.[197] Нубель вздохнул и добавил в блокнот новую строчку. — Bien. Aux affaires.[198] — Он перешел на деловой тон. Вы работали там одна. Это обычная практика? Элис мгновенно насторожилась. — Нет, — осторожно заговорила она, — но сегодня у меня последний рабочий день, и мне не хотелось бездельничать, а мой напарник отсутствовал. Я была уверена, что мы что-то найдем. — Под плитой, перекрывавшей вход? Уточните, пожалуйста, кто решает, кому где копать? — У доктора Брайлинга и Шелаг — то есть доктора О'Доннел, есть план: что к какому сроку надо сделать. Соответственно они и распределяют участки. — Так что наверх вас послал доктор Брайлинг? Или доктор О'Доннел? «Инстинкт. Я чуяла, что там что-то есть». — Вообще-то нет. Я забралась повыше, потому что была уверена: там что-то… — Она запнулась. — Мне не удалось разыскать доктора О'Доннел, чтобы спросить разрешения, поэтому… я… решила самовольно. Нубель сдвинул брови: — Понятно. Итак, вы работали. Камень сдвинулся, упал. Что было дальше? У нее в памяти зиял настоящий провал, однако Элис старалась, как могла. Английский Нубеля был суховат, но точен, и вопросы он задавал в лоб. — Потом мне послышался шум в тоннеле за спиной, и я… Слова вдруг застряли у нее в глотке. Что-то, загнанное в глубины подсознания, вырвалось наружу. В груди кольнуло, словно… «Что словно?» Элис быстро нашла ответ. «Словно ножом ударили». Острый, тонкий клинок вошел между ребрами. Боль, толчок холодного воздуха и неосознанный ужас. «А потом?» Холодное прозрачное сияние. И скрытое в нем лицо. Женское лицо. Голос полицейского пробился сквозь всплывающие воспоминания и развеял их. — Доктор Таннер? «Галлюцинации у меня, что ли?» — Доктор Таннер? Позвать кого-нибудь? Минуту Элис тупо смотрела на него. — Нет, спасибо. Это ничего. Просто жарко. — Вы говорили, что услышали звук? Она заставила себя сосредоточиться. — Да. В темноте я не могла понять, откуда он исходит. Теперь-то ясно, что это Шелаг и Стивен… — Стивен? — переспросил он. — Стивен Киркленд. К-и-р-к-л-е-н-д. Нубель повернул к ней блокнот, проверяя, верно ли записал имя. Элис кивнула. Шелаг заметила камень и поднялась посмотреть, что происходит. И Стивен с ней, наверно. — Она снова задумалась. — Что потом было, точно не знаю. На сей раз ложь далась легче. — Должно быть, споткнулась о ступеньку. Следующее, что я помню, — это Шелаг зовет меня по имени. — Доктор О'Доннел рассказывает, что они нашли вас без сознания. — Короткий обморок. Не думаю, чтобы я пролежала там больше одной-двух минут. Чувствую, что отключилась ненадолго. — У вас уже бывали обмороки, доктор Таннер? Элис поежилась, с ужасом вспомнив, как это случилось в первый раз. — Нет, — соврала она. Нубель не заметил, как она побледнела. — Вы сказали, что было темно, — напомнил он, — и поэтомувы упали. Но до того у вас был свет? — Была зажигалка, но я ее выронила, когда услышала шаги. И кольцо тоже. Полицейский мгновенно встрепенулся: — Кольцо? Вы ничего не сказали про кольцо. — Маленькое каменное кольцо лежало между костями скелетов, — пояснила она, испуганная его резким тоном. — Я подняла его пинцетом, чтобы рассмотреть, но… — Что за кольцо? — перебил он, не дослушав. — Из чего сделано? — Не знаю. Какой-то камень, не серебро и не золото. Я же говорю, что не успела рассмотреть. — На нем что-нибудь было? Вырезанные буквы, печать, узор? Элис открыла рот, чтобы ответить, — и закрыла снова. Ни почему-то расхотелось рассказывать. — Извините. Все случилось так внезапно. Нубель обжег ее взглядом, затем щелкнул пальцами, обращаясь к стоявшему перед ним молодому помощнику. Паренек, подумалось Элис, тоже взбудоражен. — Biau. On a trouvé quelque-chose comme ca? — Je ne sais pas, Monsieur l'Inspecteur. — Depechez-vous, alors. Il faut le chercher. Et informez-en Monsieur Authié. Allez! Vite![199] У Элис в голове медленно разворачивалась лента боли: действие обезболивающего кончалось. — Что-нибудь еще вы трогали, доктор Таннер? Она потерла пальцами виски. — Случайно сместила один череп. Задела ногой. Кроме этого и кольца — ничего. Я уже говорила. — А что вы там нашли под плитой? — Брошку? Я ее отдала доктору О'Доннел, когда мы уже вышли из пещеры. Воспоминание было неприятным. — Понятия не имею, куда она ее дела. Нубель уже не слушал. Он то и дело оглядывался через плечо, потом откровенно оборвал разговор и захлопнул блокнот. — Будьте так добры, подождите еще, доктор Таннер. Возможно, возникнут новые вопросы. — Но мне больше нечего рассказывать, — попыталась возразить Элис. — Можно хотя бы посидеть с остальными? — Позже. Пока прошу вас оставаться здесь.
Она плюхнулась обратно в кресло, устало и обиженно глядя вслед Нубелю, который поспешно карабкался вверх по склону к группе полицейских, осматривавших скатившийся валун. При его приближении подчиненные расступились на секунду, и Элис успела заметить среди них высокого человека в штатском. У нее перехватило дыхание. Человек в летнем зеленом костюме — явно от хорошего портного — и крахмальной белой рубашке с галстуком был, несомненно, начальником. Властность его бросалась в глаза: привык отдавать приказы и встречать подчинение. Нубель рядом с ним казался помятым и неухоженным. По коже у Элис пробежали мурашки беспокойства. Этот человек выделялся среди других не только одеждой. Элис уловила издалека силу характера и харизму. Сухое бледное лицо — его бледность подчеркивалась темными волосами, зачесанными назад с высокого лба. При взгляде на него невольно приходил на ум монастырь. И он казался знакомым. «Не глупи. Откуда тебе его знать?» Элис поднялась и сделала несколько шагов из-под тента, чтобы не упустить из виду двоих мужчин, отделившихся от группы. Они разговаривали. Вернее, говорил Нубель, а второй слушал. Послушал несколько секунд, развернулся и полез наверх, к пещере. Охраняющий место следствия сержант приподнял ленточку, тот нырнул под нее и исчез из виду. Элис не сумела бы объяснить, почему ладони у нее взмокли от пота, а по спине побежали мурашки, точь-в-точь как тогда, когда она услышала шорох в темном тоннеле за спиной. Она едва дышала. «Это твоя вина. Ты привела его сюда». Элис оборвала сама себя. «О чем ты говоришь?» Но голос в голове не умолкал. «Ты его привела». Ее взгляд как магнитом влекло к устью пещеры. Ничего нельзя сделать. Но думать, что он там, внутри, после стольких усилий скрыть лабиринт… «Он найдет». — Что найдет? — пробормотала она про себя. Ответа не было. И все же Элис жалела, что не забрала кольцо, пока еще было время.
ГЛАВА 13
Нубель не пошел в пещеру. Остался ждать в серой тени нависающей скалы. Лицо багровое. «Он знает, что-то не так». Он перебрасывался отрывистыми словами с подчиненными и курил сигарету за сигаретой, прикуривая одну от другой. Чтобы скоротать время, Элис слушала музыку. Гром духовых инструментов заглушал все прочие звуки. Человек в зеленом костюме появился через пятнадцать минут. Нубель и его помощник, казалось, набрали за это время пару дюймов роста. Элис сняла наушники и переставила кресло на прежнее место, а сама вернулась на свой наблюдательный пост. Двое мужчин вместе спускались от пещеры. — Я уж думала, вы про меня забыли, инспектор, — заговорила она, когда они приблизились настолько, что могли ее слышать. Нубель пробормотал какое-то извинение, однако глаза прятал. — Доктор Таннер, je vous présente Monsieur Authié.[200] Вблизи первое впечатление силы личности и харизмы только усилилось. Но серые глаза холодно рассматривали ее, словно неодушевленный предмет. Элис немедленно насторожилась. Преодолевая неприязнь, протянула руку. Оти промедлил секунду, прежде чем ответить на рукопожатие. Пальцы у него оказались холодные и какие-то бестелесные. Элис пробрал озноб. Она поторопилась отнять руку. — Пойдем под тент? — спросил он. — Вы тоже из Police Judiciare, месье Оти? Что-то мелькнуло у него в глазах, однако он промолчал. Элис ждала, гадая, слышал ли он вопрос. Нубель поспешил снять неловкость. — Месье Оти из городской мэрии. В Каркасоне. — В самом деле? — Ей показалось удивительным, что Каркасон подчиняется тому же управлению, что и Фуа. Оти занял кресло Элис, не оставив ей выбора, как только сесть спиной к выходу. Девушка не спускала с него встревоженного взгляда. У него была улыбка опытного политика: ослепительная, осторожная и ничего не выражающая. Глаза в ней не участвовали. — У меня к вам один-два вопроса, доктор Таннер. — Не знаю, что еще могу вам сказать. Все, что могла вспомнить, я сообщила инспектору. — Инспектор Нубель дал мне полный отчет о вашей беседе, однако кое-что требует уточнения. Возможно, вы упустили какие-то подробности, мелочи, которые показались вам незначительными. Элис прикусила язык. — Я все сказала инспектору, — упрямо повторила она. Оти сложил вместе кончики пальцев. Улыбка исчезла. Он проговорил, словно не слышал ее протеста: — Давайте начнем с момента, когда вы впервые вошли в пещеру, доктор Таннер. Шаг за шагом. Элис невольно вздрогнула. Почему он выбрал именно это выражение? Шаг за шагом. Испытывает ее? Лицо непроницаемо. Она скользнула взглядом к золотому распятию, которое он носил на шее, и снова к лицу, столкнувшись с неподвижным взглядом серых глаз. Ничего не оставалось, как начать все сначала. Оти выслушал ее в напряженном пристальном молчании. Затем начался допрос. «Он хочет меня поймать!» — Слова, выбитые на ступенях, читались легко? Вы успели прочесть надпись, доктор Таннер? — Буквы почти стерлись, — упрямо сказала она, готовясь к спору. Однако возражений не последовало, и Элис самодовольно выпрямилась. — Я спустилась по ступеням вниз, пошла к алтарю, и только тогда заметила тела. — Вы их касались? — Нет. Он недоверчиво хмыкнул и опустил руку в карман пиджака. — Это принадлежит вам? — На его ладони лежала пластмассовая зажигалка. Элис потянулась взять ее, но Оти сжал кулак. — С вашего позволения? — Это ваша вещь, доктор Таннер? — Да. Он кивнул и опустил зажигалку обратно в карман. — Вы утверждаете, что не трогали тел, однако инспектору Нубелю говорили другое. Элис вспыхнула. — Это вышло случайно. Я задела череп ногой, а нарочно их не касалась. — Доктор Таннер, дело упростится, если вы станете отвечать на мои вопросы. — Тот же холодный жесткий голос. — Не вижу, чем… — Как они выглядели? — резко перебил Оти. Элис чувствовала, что инспектору неприятна его грубость, однако он не пытался прекратить допрос. У Элис сосало под ложечкой от страха, но она отбивалась, как могла. — И что вы увидели между телами? — Кинжал или какой-то нож. И еще мешочек, кожаный, по-моему. «Не давай ему себя запугать». — Наверняка не знаю, потому что его не трогала. Оти прищурил глаза. — Вы не заглядывали внутрь? — Я же сказала: я ничего не трогала… — Да, кроме кольца. — Он вдруг приподнялся, словно готовая ужалить змея. — И вот что представляется мне таинственным, доктор Таннер. Я спрашиваю себя, отчего вы так заинтересовались кольцом, что подняли его, оставив все остальное нетронутым. Вам понятно мое недоумение? Элис встретила его взгляд: — Оно бросилось мне в глаза, только и всего. Мужчина саркастически улыбнулся. — В почти непроглядной тьме пещеры вы заметили именно этот крошечный предмет? Какой оно величины? Скажем, в монету один франк? Или больше? Меньше? «Ничего ему не говори». — Я полагаю, вы сами способны оценить размеры, — холодно процедила она. Собеседник улыбнулся, и Элис почувствовала, как у нее упало сердце. Каким-то образом она сама попалась в расставленную им ловушку. — Если бы я мог, доктор Таннер, — невозмутимо отозвался он. — Но теперь мы переходим к сути дела. Кольца нет. Элис похолодела. — Что вы хотите сказать? — Именно то, что говорю. Там нет кольца. Все остальное более или менее как вы описывали. Кроме кольца. Элис отшатнулась, когда Оти оперся руками на спинку ее кресла и приблизил к ней узкое бледное лицо. — Куда ты его дела, Элис? — прошептал он. «Не позволяй себя запугать. Ты ничего плохого не сделала». Я рассказала все в точности как было, — сказала она, стараясь изгнать дрожь в голосе. — Кольцо выскользнуло у меня, когда я обронила зажигалку. Если его теперь там нет, значит, его взял кто-то другой. Но не я. — Она оглянулась на Нубеля. — Если бы я его взяла, зачем бы я стала вообще о нем рассказывать? — Никто, кроме вас, не признает, что видел ваше таинственное кольцо. — Оти опять пропустил ее слова мимо ушей. — Так что остается всего две возможности. Либо вам только показалось, будто вы его видели. Либо вы его взяли. Инспектор Нубель наконец вмешался: — Месье Оти, я в самом деле не думаю… — Вам не за то платят, чтобы вы думали, — прикрикнул тот, даже не оглянувшись на инспектора. Нубель залился краской. Оти не сводил взгляда с Элис. — Я всего лишь констатирую факт. — После меня в пещере побывало множество народу, — огрызнулась Элис. — Эксперты, полиция, инспектор Нубель, вы. — Она нарочито подчеркнула последнее слово. — Вы пробыли там довольно долго. Нубель с присвистом втянул в себя воздух. — Я говорила про кольцо Шелаг О'Доннел. Почему бы не спросить у нее? Он ответил все той же полуулыбкой. — Я спрашивал. Она говорит, что ничего не знает про кольцо. — Но я же ей рассказывала! — выкрикнула Элис. — Она сама его искала! — Говорите, доктор О'Доннел осматривала могилу? — тотчас же отозвался Оти. От страха Элис плохо соображала. Ей уже трудно было вспомнить, что она рассказала. Нубелю, а что оставила про себя. — Это доктор О'Доннел дала вам разрешение работать наверху? — Ничего подобного, — с нарастающей паникой отбивалась Элис. — Во всяком случае, она не возражала, чтобы вы работали на этом участке склона? — Все не так просто. Оти откинулся в кресле. — В таком случае, боюсь, у меня не остается выбора. — Какого выбора? Оти метнул взгляд на ее рюкзачок. Элис протянула руку, но опоздала. Оти перехватил рюкзак и перекинул инспектору Нубелю. — Вы не имеете права! — вскрикнула Элис и обернулась к инспектору. — Он ведь не смеет этого делать, верно? Почему вы молчите? — Если вам нечего скрывать, почему вы возражаете? — Это дело принципа! Никто не вправе рыться в моих вещах. — Monsiéur Authie, je ne suis pas certain…[201] — Делайте, что приказано, Нубель. Элис попыталась отнять рюкзак. Оти мгновенным движением перехватил ее руку. Элис остолбенела от возмущения. Ее затрясло — не то от страха, не то от ярости. Резко выдернув руку, тяжело дыша, она снова села. Нубель обшарил карманы рюкзака. — Continuez. Dépêchez-vous.[202] Элис смотрела, как он открывает главное отделение, понимая, что через несколько секунд ее блокнот будет обнаружен. Инспектор перехватил ее взгляд. «Ему тоже тошно». К несчастью, Оти уловил мгновенную заминку в обыске. — Что там, инспектор? — Pas de bague.[203] — Что вы нашли? Оти требовательно протянул руку. Нубель неохотно передал ему блокнот. Оти со снисходительной усмешкой перелистал страницы. Потом его взгляд застыл. Прежде чем он прикрыл веки, Элис успела заметить неподдельное изумление, мелькнувшее в глазах. Оти захлопнул блокнот. — Merci de votre… collaboration,[204] доктор Таннер, — сказал он. Элис тоже встала. — Прошу вас, мои рисунки, — потребовала она, стараясь, чтобы не дрожал голос. — Они будут возвращены вам в должное время, — ответил он, опуская блокнот в карман. — Как и рюкзак. Инспектор Нубель вручит вам расписку и даст подписать ваши показания, когда их отпечатают. Внезапное и резкое прекращение допроса застало Элис врасплох. Пока она собиралась с мыслями, Оти уже удалился, унося с собой ее имущество. — Почему вы его не остановили? — обратилась она к Нубелю. — Не рассчитывайте, что я это так оставлю! Лицо у него застыло. — Рюкзак я вам верну, доктор Таннер. Мой вам совет — отдыхайте и забудьте о том, что здесь случилось. — Я этого так не оставлю! — снова закричала Элис, но Нубель уже вышел, оставив ее в одиночестве под навесом удивляться, что, черт побери, происходит. С минуту она провела в растерянности и ярости, злясь не столько на Оти, сколько за себя. Даже возмутиться толком не сумела! «Но он совсем другой!» Никогда в жизни она не встречала человека, перед которым бы так растерялась. Постепенно Элис успокаивалась. Возникла мысль сообщить о самоуправстве Оти доктору Брайлингу или Шелаг, хоть что-то предпринять. Она выкинула эту мысль из головы. Она теперь на раскопках персона нон грата, и сочувствия ждать не приходится. Пришлось утешаться, мысленно составляя жалобу властям. Одновременно Элис пыталась разобраться в случившемся и понять его причины. Вскоре незнакомый полицейский принес на подпись ее показания. Элис внимательно прочитала бумагу от первой до последней строчки, но все было записано точно, и она, не задумываясь, расписалась внизу каждой страницы.Ко времени, когда скелеты наконец вынесли из пещеры, Пиренеи были омыты мягким закатным сиянием. Все молчали, пока мрачная процессия спускалась по склону к стоянке, где выстроились в ожидании бело-голубые автомобили. Одна из женщин перекрестилась им вслед. Элис вместе со всеми смотрела, как останки грузят в фургон. Никто не сказал ни слова. Дверцы захлопнулись, и фургон, поднимая облако пыли, умчался вниз. Люди разбрелись собирать свои вещи под надзором двух полицейских, оставленных на участке на ночь. Вскоре археологи разъехались. Элис немного задержалась. Ей ни с кем не хотелось встречаться: выносить сочувствие было бы еще труднее, чем укоризненные взгляды. Сверху ей было видно, как вереница машин спускается по дорожному серпантину в долину, становясь все меньше и меньше, пока они не превратились в темные кляксы у края горизонта. В лагере было тихо. Сообразив, что уж поздно, Элис собиралась было ехать, когда заметила, что Оти тоже задержался. Она затаилась, с интересом наблюдая, как он бережно складывает на заднее сиденье своей дорогой серебристой машины пиджак, захлопывает дверцу и достает из кармана телефон. Ей даже слышно было, как он барабанит пальцами по крыше машины, дожидаясь соединения. Когда он заговорил, сообщение оказалось кратким и деловым. — Ce n'est plus là,[205] — сказал он. — Оно пропало.
ГЛАВА 14 ШАРТР
Огромный готический Шартрский собор поднимался высоко над лоскутным одеялом острых черепичных крыш цвета красного перца, над теснящимися домами из желтоватого известняка, составлявшими исторический центр города. Ниже тесного лабиринта кривых улочек, где уже собрались вечерние тени, играла солнечной рябью река Ор. У западных дверей собора толпились туристы. Каждый старался первым попасть внутрь. Мужчины орудовали видеокамерами, загоняя в окошко видоискателя яркий калейдоскоп красок трех стрельчатых окон над Королевским порталом. Вплоть до XVIII столетия девять ворот, ведущих в город, крепко закрывались при угрозе нападения. Закрывавшие их створы давно сгинули, но направление мысли сохранилось. Шартр и теперь четко делился на две половины: Старый и Новый город. Самым роскошным и дорогим считался квартал к северу от монастыря, где прежде стоял дворец епископа. Светлые каменные здания величественно глядели на собор, источая дух векового царства католической церкви. Дом семьи Лорадор был главной приметой улицы Белого Рыцаря. Он пережил революцию и оккупацию и по сей день оставался свидетельством старины. Медные ручки и почтовые ящики ярко блестели, кусты в чашах по сторонам лестницы главного крыльца были тщательно подстрижены. Входные двери вели в просторный холл. Натертый мастикой темный паркет сиял, а в массивной стеклянной вазе на овальном столике стояли свежесрезанные лилии. Вдоль стен протянулись музейные витрины — неприметные глазки включенной сигнализации присматривали за внушительной коллекцией произведений египетского искусства, приобретенной семьей Лорадор после триумфального возвращения Наполеона из Северной Африки в начале XIX столетия. То была одна из крупнейших частных коллекций в стране. Мари-Сесиль Лорадор, возглавлявшая ныне семью, занималась скупкой произведений искусства всех времен и народов, однако от деда она унаследовала особое пристрастие к Средневековью. Два прекрасных французских гобелена, висевшие напротив двери, были приобретены ею лет пять назад, сразу после получения наследства. Остальные фамильные ценности: картины, камни, рукописи — не выставлялись, а хранились в сейфе.В хозяйской спальне, выходившей окнами на улицу Белого Рыцаря, на постели под столбиками балдахина лежал, до пояса натянув на себя простыню, Уилл Франклин — нынешний любовник Мари-Сесиль. Он лежал на спине, заложив руки за голову, и волосы, выгоревшие на солнце острова Мартас-Виньярд, где он с детства проводил каждое лето, обрамляли привлекательное лицо с чуть растерянной мальчишеской улыбкой. Сама Мари-Сесиль сидела в резном кресле времен Людовика Четырнадцатого у камина, скрестив длинные стройные ноги. Не шелковая блуза цвета слоновой кости, казалось, светилась на фоне темного синего бархата обивки. Она унаследовала резкий профиль Лорадоров, их орлиную красоту, но губы у нее были полные и чувственные, а зеленые кошачьи глаза скрывались под густыми длинными ресницами. Безукоризненно подстриженные темные локоны лежали на точеных плечах. — Потрясающая комната, — заговорил Уилл. — Превосходная оправа для тебя. Спокойная, дорогая, изящная. Крошечные бриллиантики в ушах Мари-Сесиль сверкнули, когда женщина склонилась вперед, чтобы загасить сигарету. — Здесь раньше жил мой дед. Она безупречно говорила по-английски, а легчайший французский акцент, с точки зрения Уилла, только украшал ее выговор. Женщина встала и прошла к нему через спальню, беззвучно ступая по толстому светло-голубому ковру. Уилл радостно улыбнулся атмосфере, смешавшей секс, ароматы от Шанель и изыск от Галуа. — Повернись, — приказала она, пальчиком описав в воздухе петлю. — Переворачивайся. Уилл повиновался, и Мари-Сесиль принялась массировать его широкие плечи. Он чувствовал, как расслабляется и вытягивается тело под ее умелыми прикосновениями. Ни он, ни она не обратили внимания на звук открывшейся и закрывшейся внизу двери. Уилл не заметил даже, что в прихожей зазвучали голоса, по лестнице, а потом в коридоре простучали торопливые шаги. Он напрягся только тогда, когда в дверь спальни резко постучали. — Это мой сын, — успокоила его Мари-Сесиль. — Oui? Qu'est que c'est?[206] — Maman, je veux te parler![207] Уилл поднял голову. — Я думал, он до завтра не вернется. — И не должен был. — Maman! — повторил Франсуа-Батист. — C'est important.[208] — Если я мешаю… — смущенно начал Уилл. Мари-Сесиль продолжала массаж. — Он приучен не беспокоить меня. Поговорю с ним позже. Она повысила голос: — Pas maintenant,[209] Франсуа-Батист. И ради Уилла добавила по-английски, погладив ладонями его спину: — Сейчас мне… неудобно. Уилл перекатился на спину и сел. Ему было неловко. С Мари-Сесиль он был знаком уже три месяца, но ни разу не встречался с ее сыном. Франсуа-Батист был сперва в университете, потом проводил каникулы у друзей. Ему только сейчас пришло в голову, что об этом позаботилась Мари-Сесиль. — Почему бы тебе не поговорить с ним? — Если тебе хочется… — Она соскользнула с кровати и приоткрыла дверь. Уиллу не было слышно приглушенного разговора, но вскоре шаги удалились обратно по коридору. Мари-Сесиль повернула ключ в замке и обернулась к нему. — Полегчало? — тихо спросила она и двинулась к любовнику, подчеркивая каждое движение, не сводя с него взгляда из-под темной каймы ресниц. Выглядело это излишне театрально, тем не менее Уилл почувствовал, как его тело послушно отзывается ей. Она толкнула мужчину, опрокинув его на спину, и ловко оседлала, обхватив его плечи изящными ладонями. Отточенные ноготки оставляли на коже легкие царапины. Колени сжимали бока. Уилл дотянулся, провел пальцами по гладкой золотистой коже рук, погладил сквозь шелк ее грудь. Тонкая шелковая ткань легко соскользнула вниз, открыв плечи статуи. В это время зазвонил мобильный телефон, лежавший у кровати. Уилл и головы не повернул, спуская к талии изящную блузу. Но Мари-Сесиль, бросив взгляд на высветившийся номер, изменилась в лице. — Придется ответить, — сказала она. Уилл попытался удержать ее, но женщина нетерпеливо стряхнула его руку. — Не сейчас, — бросила она, отходя с телефоном к окну. — Oui, j'écoute.[210] Ему был слышен треск помех в трубке. — Trouve-le, alors![211] — сказала она и сердито отключилась. Лицо у нее потемнело от гнева. Мари-Сесиль потянулась за сигаретой, закурила. Пальцы у нее дрожали. — У тебя неприятности? Сначала ему показалось, что женщина попросту не услышала его, забыла о его присутствии в комнате. Чуть погодя Мари-Сесиль скользнула по нему взглядом. — Дела, — отозвалась она. Уилл ждал, пока не понял, что продолжения не последует и женщина дожидается, пока любовник уйдет. — Извини, — суховато добавила она. — Я предпочла бы остаться с тобой, mais…[212] Обиженный, Уилл поднялся и потянулся за джинсами. — Пообедаем вместе? Она поморщилась: — У меня важная встреча. Деловая, видишь ли. Попозже, oui? — Когда попозже? В десять часов? В полночь? Она подошла, переплела его пальцы со своими. — Не сердись. Уилл хотел отстраниться, но она его не пустила. — Всегда ты так. Я никогда не знаю, чего ждать. — Это все дела, — промурлыкала она. — Незачем ревновать. — Я не ревную. — Он уже потерял счет таким разговорам. — Просто… — Ce soir,[213] — перебила она, отпуская его. — А сейчас мне надо собираться. Он не успел возразить. Мари-Сесиль скрылась в ванной и закрыла за собой дверь.
Выйдя из душа, Мари-Сесиль с облегчением увидела, что Уилл ушел. Она бы не удивилась, застав его по-прежнему валяющимся на кровати все с той же вечной растерянной улыбочкой на лице. Его навязчивость начинала действовать на нервы. Он все чаще предъявлял права на ее время и внимание. Явно неправильно понимает их отношения. Придется с ним разобраться. Мари-Сесиль выкинула Уилла из головы и огляделась. Служанка успела прибрать комнату. Ее вещи были разложены на застеленной постели. Рядом стояли золотистые туфли ручной работы. Она достала из портсигара новую сигарету. Слишком много курит. Все нервы. Перед тем как зажечь сигарету, постучала фильтром о крышку. Еще одна привычка, унаследованная от деда в числе прочего. Мари-Сесиль подошла к зеркалу, сбросила с плеч белый купальный халат и, склонив голову набок, критически оглядела свое отражение. Стройное тело, бледное, вопреки моде; высокая полная грудь, безупречная кожа. Она провела ладонью по темным соскам, проследила изгиб бедер, погладила плоский живот. Пожалуй, еще несколько морщинок появилось вокруг глаз и у рта, но в остальном время не тронуло ее. Бой золоченых бронзовых часов на каминной полке напомнил, что пора собираться. Потянувшись, она сняла с вешалки прямое воздушное длинное платье. Спинка высокая, на горле треугольный вырез — скроено специально для нее. Она поправила на прямых плечах узкие золотые лямочки и присела к туалетному столику. Расчесала волосы, приглаживая пряди, пока они не приобрели блеска полированного черного дерева. Она любила эти минуты преображения, когда она переставала быть собой, превращаясь в navigataire, словно сливаясь сквозь время со всеми, исполнявшими ту же роль до нее. Мари-Сесиль улыбнулась. Только дед мог бы понять, что она сейчас чувствует. Восторг, вдохновение, уверенность в победе. Еще не этой ночью, но в следующий раз она встанет на том месте, где стояли некогда ее предшественники. Не он. Больно было думать, как близко оказалась пещера к участку раскопок, которые вел ее дед пятьдесят лет назад. Он был прав с самого начала. Всего несколько километров к востоку, и возможность изменить ход истории выпала бы ему, а не ей. Она унаследовала фамильное предприятие Лорадоров после его смерти, пять лет назад. Ее отец — единственный его сын — не оправдал надежд деда. Мари-Сесиль поняла это очень рано. Ей было шесть лет, когда дед взял ее образование в свои руки — начал формировать светские привычки, кругозор и мировоззрение. Он питал страсть ко всему красивому и изысканному, прекрасно чувствовал цвет и разбирался в искусной и качественной работе. Мебель, ковры, наряды, картины, книги — во всем безупречный вкус. Всем, что она ценила в себе, Мари-Сесиль обязана ему. И он же обучил ее властвовать: пользоваться властью и сохранять ее. В восемнадцать лет он счел, что она готова, формально лишил сына наследства и назвал своей наследницей Мари-Сесиль. Всего один камень преткновения попался в их отношениях: ее случайная, нежеланная беременность. При всей преданности миссии и древним тайнам Грааля, дед был правоверным католиком и не одобрял детей, рожденных вне брака. Тем более не могло быть речи об аборте. И о том, чтобы отдать ребенка на воспитание в другую семью. Только убедившись, что материнство не поколебало ее решимости — что оно, напротив, только подхлестнуло ее рвение и честолюбие, — он снова допустил внучку в свою жизнь. Мари-Сесиль глубоко затянулась, радуясь, что сигаретный дым, обжигая горло и проникая глубоко в легкие, ослабляет власть воспоминаний. Даже через двадцать лет она приходила в отчаяние, вспоминая годы изгнания. Отлучения, как сказал бы дед. Очень подходящее слово. Она и чувствовала себя тогда мертвой. Она тряхнула головой, отгоняя мрачные мысли. Сегодня ничто не должно возмутить ее спокойствия. Ничто не должно бросить тень на эту ночь. Ошибки допустить нельзя. Снова повернувшись к зеркалу, она наложила бледную основу, а на нее — слой золотистой пудры, отражающей свет. Глаза и брови очертила жирным угольным карандашом, подчеркнувшим черноту зрачков и ресниц; положила на веки зеленые, переливчатые, как павлинье перо, тени; подкрасила губы помадой с медным блеском и промокнула их салфеткой, чтобы подольше не стирался макияж. И наконец распылила над собой духи, позволив ароматному туману осесть на кожу. Три ящичка выстроились в ряд на столике: алая кожа, медные замочки, блеск и полировка. Каждое из ритуальных драгоценных украшений насчитывало несколько столетий, а изготовлены они были по образцам тысячелетней древности. Первой была высокая остроконечная тиара, далее — два золотых амулета — змейки, сверкавшие изумрудами глаз. Третья шкатулка скрывала ожерелье — массивную золотую ленту со свисающим вниз символом. Блеск золота вызывал в воображении горячую пыль Древнего Египта. Подготовившись, Мари-Сесиль подошла к окну. Внизу картинно раскинулись улицы Шартра: дома, толпы людей, вереницы машин, огни кафе и ресторанов в тени огромного готического собора. Скоро из этих самых домов начнут выходить люди, избранные участвовать в ночном ритуале. Она закрыла глаза. На месте знакомого силуэта городских крыш, шпилей и серых монастырских стен перед ней раскинулся целый мир. Мир, к которому теперь достаточно протянуть руку.
ГЛАВА 15 ФУА
Громкий, пронзительный звонок прямо над ухом вырвал Элис из сна. «Где я, черт возьми?» Бежевый телефон на полочке над кроватью зазвонил снова. «Ну конечно!» Номер отеля в Фуа. Она вернулась с раскопа, упаковала часть вещей, потом отправилась в душ. Последнее, что запомнилось: как прилегла минут на пять отдохнуть. Элис дотянулась до трубки. — Oui? Allo?[214] Хозяин гостиницы, месье Анно, говорил с сильным местным акцентом: сплошные открытые гласные и носовые согласные. Элис трудно было понимать его даже при разговоре лицом к лицу, а по телефону, когда не прибегнешь к помощи бровей и рук, просто невозможно. Так иногда щебечут, изображая речь, персонажи мультфильмов. — Plus lentements, s'il vous plaît, — попросила она, надеясь притормозить его. — Vous parlez trop vite. Je ne comprends pas.[215] В трубке замолчали, на заднем плане послышалось невнятное бормотание голосов. Потом мадам Анно взяла трубку и объяснила, что Элис ждут в холле. — Une femme?[216] — ответила мадам Анно. Элис оставила записку для Шелаг в общежитии и пару раз просила позвонить по телефону, но ответа так и не получила. — Non, c'est un homme,[217] — ответила мадам Анно. — Ладно, — вздохнула разочарованная Элис. — Je'arrive. Deux minutes.[218] Она прошлась расческой по непросохшим волосам, натянула юбку и майку, сунула ноги в сандалии и вышла. Спускаясь по лестнице, она гадала, кто, черт побери, это мог быть. Вся постоянная команда осталась в трактирчике рядом с участком раскопок, и во всяком случае Элис уже распрощалась со всеми, кто захотел с ней прощаться. А больше никто не знал, где ее искать. Да и некому было искать, с тех пор как она порвала с Оливером. Столик портье пустовал. Она присмотрелась, в надежде увидеть в темном холле мадам Анно, сидящую за высокой деревянной конторкой, но и там никого не оказалось. Элис поспешно заглянула за угол. Старое плетеное кресло, копившее пыль под сиденьем, было свободно, пустыми стояли и две большие кожаные кушетки, поставленные торцами к камину, украшенному чеканкой на меди и рекомендациями благодарных посетителей. Покосившаяся вертушка с потрепанными открытками и видами Арьежа застыла в неподвижности. Элис вернулась в холл и позвонила в колокольчик. Звякнули унизанные бусинами шнурки, закрывавшие дверь в личные комнаты хозяев гостиницы, и вышел месье Анно. — Il ó a quelqu'un pour moi?[219] — Là,[220] — ответил он, перегибаясь через конторку, чтобы указать пальцем. — Personne.[221] Элис покачала головой. Он обошел конторку, выглянул и пожал плечами, обнаружив пустынную прихожую. — Dehors?[222] Снаружи? Он изобразил курящего человека. Гостиница стояла на узкой улочке между главными кварталами, полными муниципальных зданий, закусочных и почтовых контор в стиле арт деко тридцатых годов, и более живописным средневековым центром Фуа с его кафе и антикварными лавочками. Элис взглянула налево, потом направо, но никто, по-видимому, ее не ждал. Почти все магазины уже закрылись на ночь, и проезжая часть была свободна. Недоуменно пожав плечами, она собиралась вернуться в гостиницу, когда в дверях появился мужчина. Ему было немногим больше двадцати, светлый летний костюм сидел на нем несколько свободнее, чем следовало бы. Густые темные волосы аккуратно подстрижены, глаза скрыты за темными очками. В руке у него была сигарета. — Доктор Таннер? — Oui, — осторожно призналась она. — Vous me cherchez?[223] Он сунул руку в нагрудный карман. — Pour vous. Tenez,[224] — казал он и протянул ей конверт. Глаза его стреляли по сторонам, словно он боялся, что его застанут на месте преступления. Между тем Элис вдруг узнала этого человека. Днем она видела его в форме. Молодой помощник инспектора Нубеля. — Je vous déjà recontre, non? Au Pic le Soularac?[225] Он перешел на английский и настойчиво попросил: — Прошу вас, возьмите. — Vous etes avec Inspecteur Noubel?[226] — настаивала Элис. На лбу у него выступили капельки пота. Неожиданно молодой человек схватил Элис за руку и буквально втиснул в нее конверт. — Эй, — возмутилась девушка, — что такое? Но он уже скрылся, нырнув в один из проулков, тянувшихся к замку. С минуту Элис стояла, уставившись на пустую улицу и раздумывая, не броситься ли вдогонку. Потом опомнилась. По правде сказать, молодой человек ее напугал. Она взглянула на зажатое в руке письмо как на готовую взорваться бомбу, глубоко вздохнула и решительно поддела пальцем клапан конверта. Внутри обнаружился единственный листок дешевой писчей бумаги, на котором детскими печатными буквами было написано: «Appelez»,[227] а ниже стоял номер телефона: 02 68 72 31 26. Элис нахмурилась. Номер был не местный. Код Арьежа — 05. Она перевернула листок, надеясь найти объяснения на обороте, но там было пусто. Она чуть было не отправила записку в мусорную корзину, но, поразмыслив, передумала. «Почему бы не сохранить, раз уж взяла». Сунув листок в карман, она вернулась внутрь, обдумывая таинственное происшествие. Человека, вышедшего из кафе напротив гостиницы, Элис не заметила. К тому времени, как он нагнулся над урной, чтобы вытащить отброшенный конверт, она была уже в своем номере.Ив Бо, подстегнутый выплеснувшимся в кровь адреналином, наконец остановил бег и оперся руками о колени, чтобы отдышаться. Высоко над ним громадой возвышался, как и тысячу лет назад величественный Шато Фуа. Замок был символом независимости этого края — единственной крепостью, не взятой крестоносцами, громившими Лангедок. Здесь находили укрытие изгнанные из городов и деревень катары и те, кто пытался отстоять свободу своей земли. Бо знал, что за ним следят. Они — кто бы они ни были — даже не пытались прятаться. Рука потянулась к скрытому под пиджаком оружию. По крайней мере, просьбу Шелаг он выполнил. Теперь только бы успеть перебраться через границу в Андорру, прежде чем они поймут, что он решил бежать, — и все еще может кончиться хорошо. Молодой полицейский уже понял, что ему не остановить события, которые он сам помог привести в движение. Он исполнял все их приказы, но она всегда хотела большего. Что бы он ни делал, все было мало. Посылка с последней почтой отправилась к его бабушке. Она знает, как с ней поступить. Он не придумал другого способа исправить то, что натворил. Ив оглядел улицу. Ни справа, ни слева никого. Он вышел из переулка и направился к дому, выбрав окольный непривычный маршрут на случай, если они ждут его там. Подходя с другой стороны, он рассчитывал заметить их издалека. Когда он проходил крытый рынок, взгляд бессознательно отметил серебряный «мерседес» на пляс Сен-Волюсьен, но Ив не счел его стоящим внимания. Он не слышал, как тихо кашлянул заводившийся двигатель, и не оглянулся на автомобиль, почти беззвучно кативший по булыжной мостовой старого города. Бо шагнул с тротуара, чтобы перейти улицу, и тогда машина рванула вперед, взревев, как самолет на взлетной дорожке. Ив развернулся на месте. Лицо его свело ужасом. Глухой удар, и его ставшее невесомым тело взлетело над ветровым стеклом, перевалилось через крышу. Мгновение Бо казалось, что он летит, — а потом тело врезалось в стальную опору, поддерживавшую перекрытия рынка. Он повис на ней, распростершись в воздухе, как мальчишка на детской карусели. Затем земля притянула его к себе, и он сполз вниз, оставив на черной колонне красную полоску крови. «Мерседес» не остановился. Услышав шум, на улицу высыпали посетители окрестных баров. Две женщины смотрели из окон, выходящих на площадь. Хозяин ближайшего кафе кинул на лежащего всего один взгляд и бросился вызывать полицию. Закричала женщина — и сразу умолкла. Вокруг тела собиралась толпа.
Поначалу Элис не обратила внимания на шум. Но вой сирен приближался, и она вместе со всеми подошла к окну. «Тебя это не касается». Совершенно ни к чему было вмешиваться. И все же, сама не зная зачем, Элис вышла из гостиницы и направилась к площади. Полицейская машина перегородила переулок, отходивший от угла площади. На ее крыше беззвучно вспыхивала мигалка. Чуть дальше полукругом собрались люди. Все смотрели на что-то или на кого-то, лежащего на земле. — Нигде нельзя надеяться на безопасность, — пробормотала стоявшая рядом с Элис американка, обращаясь к мужу, — даже в Европе. Предчувствие, толкавшее Элис вперед, становилось все сильнее. Ей вовсе не хотелось видеть, однако ее будто что-то подталкивало к толпе. Еще один автомобиль полиции вырвался из боковой улицы и затормозил рядом с первым. Толпа развернулась к нему и раздалась ровно настолько, чтобы Элис успела увидеть тело на мостовой. Светлый костюм, черные волосы и валяющиеся рядом очки с темными стеклами и золотыми дужками. «Не может быть, чтобы он». Элис протолкалась в передний ряд. Парень лежал неподвижно. Рука Элис автоматически потянулась к листку в кармане. «Никакое это не совпадение». Оглушенная увиденным, Элис слепо побрела обратно. В это время хлопнула дверца автомобиля. Элис оглянулась и увидела инспектора Нубеля, выбирающегося из-за баранки. Она быстро отодвинулась в толпу. «Не дай ему себя заметить». Инстинкт заставил ее, не поднимая головы, перейти через площадь, подальше от инспектора. Едва завернув за угол, Элис бросилась бежать.
— S'il vous plaît, — покрикивал Нубель, раздвигая зевак. — Police. S'il vous plaît![228] Ив Бо лежал, распростершись на беспощадной земле, широко раскинув руки. Одна нога у него подогнулась, и белая сломанная кость лодыжки прорвала штанину. Другая, вытянутая во всю длину, казалась неестественно плоской. Коричневая туфля слетела с нее. Нубель присел на корточки, нащупал пульс. Юноша еще дышал, неглубоко и прерывисто, но кожа его сделалась влажной и холодной, глаза были закрыты. Вдали наконец послышалась сирена долгожданной «скорой помощи». — S'il vous plaît, — снова выкрикнул Нубель, поднимаясь. — Poussez vous.[229] Отойдите. Прибыли еще две полицейские машины. По связи уже сообщили, что был сбит офицер, так что полицейских собралось больше, чем случайных прохожих. Они оцепили улицы и отбирали среди зевак свидетелей происшествия. Действовали быстро и методично, однако лица у всех были напряжены. — Это не случайный наезд, инспектор, — обратилась к Нубелю американка. — Машина так и помчалась на него. Он и оглянуться не успел. Нубель пристально оглядел ее. — Вы видели, как это случилось, мадам? — Еще бы не видела! — Вы заметили марку машины? Женщина покачала головой. — Только то, что цвет серебристый. Она обернулась к мужу. Тот немедленно отозвался: — «Мерседес». Хотя сам я видел не все. Обернулся только на шум. — Регистрационный номер? — Кажется, кончается на одиннадцать. Все случилось так быстро… — Улица была совершенно пуста, господин офицер, — повторила жена, словно опасаясь, что ее не примут всерьез. — Вы заметили, сколько человек было в машине? — Один на переднем сиденье. Сидел ли кто-то сзади, не могу сказать. Нубель передал ее коллеге, который должен был снять подробные показания, и направился к фургону «скорой», куда сзади грузили уложенного на носилки Ива. Голова и шея раненого были прочно зафиксированы, но алая струйка крови протекла сквозь бинт на рубашку. Кожа у него была совсем восковая. В уголке рта виднелась дыхательная трубка, у запястья укреплена переносная капельница. — Выкарабкается? Врач поморщился. — На вашем месте, — сказал он, захлопывая дверцу, — я бы вызвал ближайших родственников. Нубель ударил кулаком по борту отъезжающей «скорой», затем, убедившись, что подчиненные делают все, что нужно, побрел к своей машине. Он проклинал себя, ощущая на плечах все свои пятьдесят лет, перебирая все сделанные в этот день ошибки, которые и привели к такому концу. Инспектор оттянул пальцем воротничок рубашки, ослабил галстук. Надо было давно поговорить с мальчиком. Бо был не в себе с первой минуты, как они прибыли на пик де Соларак. Обычно паренек так и рвался в бой, а сегодня не знал, куда деваться, потом вообще исчез на весь вечер. Нубель побарабанил пальцами по баранке руля. Оти уверяет, будто Бо ничего не сказал ему о кольце. И зачем бы ему лгать? Задумавшись о Поле Оти, Нубель ощутил резкую боль под ложечкой. Чтобы снять изжогу, сунул в рот мятную пастилку. Еще одна ошибка. Не следовало подпускать Оти к доктору Таннер, хотя, подумавши, он, право, не знал, как можно было ему помешать. Когда поступило сообщение о найденных на пике де скелетах, было приказано — и приказ был должным образом подкреплен — допустить на раскопки Поля Оти. Нубель до сих пор не мог понять, каким образом Оти так быстро прослышал о находке, и тем более пробил себе путь на территорию раскопок. До сих пор Нубель ни разу не сталкивался с Оти, но понаслышке отлично знал его. Его знала вся полиция. Адвокат, известный своей религиознойнетерпимостью, Оти держал в руках чуть не всю жандармерию Миди. Нубель лично знал одного коллегу, которого вызвали для дачи показаний по делу, в котором Оти выступал защитником. Двух членов ультраправой группировки обвиняли в убийстве алжирца-таксиста в Каркасоне. Ходили слухи о шантаже. Так или иначе, обоих обвиняемых оправдали, а несколько офицеров полиции вынуждены были уйти в отставку. Нубель опустил взгляд на очки Бо, поднятые им с мостовой. Ему и раньше все это не нравилось, а теперь стало совсем плохо. Рация закашлялась и выплюнула очередную порцию информации. Нубелю сообщили, кто числился ближайшим родственником Бо. Инспектор просидел еще немного, оттягивая неизбежное, и взял трубку, чтобы позвонить.
ГЛАВА 16
К одиннадцати часам, когда Элис добралась до пригородов Тулузы, она так вымоталась, что решила не ехать дальше, в Каркасон, а свернуть к центру города и остановиться где-нибудь на ночь. Дорога промелькнула перед глазами одной сплошной вспышкой. В голове вертелись белые кости скелетов, лежащий рядом нож, склоняющееся над ней из мертвенного серого сияния белое лицо, тело на мостовой Фуа… Выжил ли он? «И еще лабиринт». О чем бы она ни думала, мысли неизменно возвращались к лабиринту. Элис пыталась уверить себя, что ее одолевает паранойя, что все это не имеет к ней никакого отношения. «Просто не повезло. Оказалась где не следовало и когда не следовало» Но сколько бы Элис ни повторяла самой себе эти слова, поверить им не удавалось. Она скинула туфли и одетой повалилась на кровать. Все в этом номере отдавало дешевкой. Вездесущая пластмасса и фанера, серые плитки пола и имитация дерева. Слишком жестко накрахмаленные простыни царапали кожу, как бумажные. Элис достала из рюкзачка бутылку отборного виски «Бушмилл». В ней еще оставалось на два пальца жидкости. К горлу вдруг подкатил комок. Она-то берегла последние глотки, чтобы отметить последний вечер на раскопках. Элис снова набрала номер, но Шелаг опять не взяла трубку. Поборов раздражение, Элис оставила сообщение на автоответчике. Шелаг могла бы уже и перестать валять дурака. Запив пару таблеток болеутоляющего глотком виски, Элис улеглась в постель и погасила свет. Сил не осталось совершенно, но расслабиться не удавалось. Голова гудела, опухоль на запястье все не спадала, и порез на локте чертовски болел. Так плохо никогда не бывало. В номере было душно и жарко. Элис металась на кровати, слушая, как часы отбивают полночь, потом час ночи. Она встала и открыла окно. Лучше не стало. В голове теснились мысли. Она пыталась подумать о белых пляжах и голубом море, о Карибских островах и закатах на Гавайях, но перед глазами все снова и снова вставали серые камни и холодный мрак подземелья. И засыпать было страшно. Что, если кошмар повторится? Медленно ползли часы. Во рту пересохло, от выпитого виски сердце билось слишком часто. Только тогда, когда серый рассвет пробрался под бахрому потертых занавесок, ее разум сдался сну.На этот раз снилось другое. Она ехала на каштановой лошадке по заснеженной земле. Зимняя шерсть кобылы лоснилась, в белую гриву и хвост вплетены алые ленточки. Ради охоты Элис надела лучший плащ из беличьего меха, а капюшон и длинные кожаные перчатки были отделаны норкой. Рядом с ней ехал мужчина. Его конь выглядел крупнее, сильнее, сам серый, а грива и хвост у него были черными. Мужчина то и дело натягивал поводья, сдерживая его. Каштановые волосы, пожалуй, слишком длинные, спадали на плечи. За спиной струился синий бархатный плащ. Элис виден был кинжал на поясе спутника. Шею украшала серебряная цепь с подвеской из какого-то зеленого самоцвета, стучавшего ему в грудь в ритм движению коня. Мужчина то и дело поглядывал на нее с хозяйской гордостью. Они были тесно связаны между собой, близки. Элис зашевелилась и улыбнулась во сне. Невдалеке прозвучал рожок. В прозрачном зимнем воздухе он звенел пронзительно и чисто, возвещая, что свора взяла след волка. Элис знала, что сейчас декабрь — особый месяц для охоты. Она знала, что счастлива. Потом освещение изменилось. Теперь она была одна в незнакомой части леса. Деревья стали выше и гуще, черные ветви, будто костлявые мертвые пальцы, сплетались на фоне белесого, чреватого снегопадом неба. Где-то за спиной, невидимые и грозные, мчались по ее следу псы, взбудораженные запахом крови. Из охотницы она превратилась в добычу. Лес содрогался от ударов тысяч подков. Она уже слышала клич охотников. Они приближались, она уже различала слова незнакомого языка и, не понимая их смысла, знала, что ищут ее. Лошадь споткнулась под ней. Элис вышвырнуло из седла. Ударившись о застывшую на морозе землю, она услышала хруст кости, ощутила пронзительную боль в плече. Острый, твердый, как наконечник стрелы, сук проткнул ей рукав и вонзился в руку. Онемевшими, непослушными пальцами Элис выдернула щепку. Острая боль заставила ее зажмуриться. Сразу же потекла кровь, но задерживаться было нельзя. Замотав рану полой плаща, Элис поднялась с земли и бросилась в чащу, проламываясь сквозь переплетение ветвей. Под ногами хрустели сучки, мороз щипал за щеки и заставлял слезиться глаза. Звон в ушах становился все сильней, настойчивей. Она чувствовала себя слабой и прозрачной, как призрак. Внезапно лес расступился. Элис стояла на краю обрыва. Дальше пути не было: перед ней открывалась пропасть, далеко внизу темнел лес, а дальше, сколько видел глаз, вздымались увенчанные снегом горы. Они казались так близко, что можно было коснуться рукой. Элис беспокойно заметалась во сне. «Дайте проснуться. Пожалуйста!» Проснуться не удалось. Сон крепко сжимал ее в своих объятиях. Из-за оставшихся позади деревьев показалась свора разгоряченных псов. Их дыхание клубилось в воздухе, зубы щелкали, на клыках запеклась кровавая пена. В сгущавшихся сумерках блеснули наконечники охотничьих копий. Глаза охотников горели. Она слышала, как перешептываются преследователи, дразня и насмехаясь над ней. «Heretique, heretique — еретик, еретик». Решение было принято в долю секунды. Если настало ей время умирать — так не от рук этих людей. Элис раскинула руки и прыгнула, выбросив тело в воздух над обрывом. И мир сразу стал беззвучным. Время потеряло над ней власть, и падение было медленным и плавным. Зеленая юбка раскинулась вокруг тела. Теперь Элис осознала, что на спину на платье нашит кусок материи в форме звезды. Нет, не звезда — крест. Желтый крест. Rouelle. Пока незнакомое слово проплывало в ее мозгу, крест оторвался и поплыл в воздухе, как осенний лист на ветру. Земля не приближалась. Элис уже не чувствовала страха. Сон начинал разваливаться, распадаться на части, и теперь ее подсознание понимало то, чего не мог постичь разум. Падала не она, Элис — другая. И это был не сон, а воспоминание. Кусочек жизни, которая закончилась очень, очень давно.
ГЛАВА 17 КАРКАССОНА, джюлет 1209
Элэйс шевельнулась, и под ней захрустели сучки и палая листва. Густо пахло мхом, землей и лишайниками. Что-то твердое укололо ладонь — крошечные челюсти. Место укуса тут же зачесалось. Муравей или комар? Она чувствовала, как яд прокрадывается в кровь. Потерла ладонь о землю, чтобы смахнуть насекомое. От движения ее затошнило. «Где я?» Эхом пришел ответ: «Défora. Снаружи». Она лежала ничком на земле. Кожа была влажной от росы. Рассвет или сумерки? И сбившаяся одежда намокла. Элэйс кое-как приподнялась, села и привалилась спиной к стволу. «Doçament. Потихоньку, не спеши». За деревьями над склоном она видела светлое, розовеющее у горизонта небо. По краю небосклона плыли белые кораблики облаков. Она узнала склоненные очертания плакучих ив. А вокруг росли груши и вишни, потерявшие к концу лета почти всю листву. Стало быть, рассвет. Элэйс осмотрелась внимательней. Свет казался очень ярким, слепил глаза, хотя солнце еще не встало. Невдалеке слышно было ленивое журчание воды, медленно текущей между камней. Дальше слышалось отрывистое «квек-квек» совы, возвращающейся с ночной охоты. Элэйс поднесла к глазам ладони в ссадинах и укусах. Потом осмотрела исцарапанные икры. Тоже искусаны насекомыми, а кроме того, вокруг лодыжек запеклась кровь. И костяшки пальцев разбиты. Между пальцами — ржавые красные полоски. Воспоминание. Ее тащат куда-то, руки волокутся по земле… Нет, еще до того. Идет через двор. Свет в верхних окнах… Страх щекочет затылок. Шаги в темноте, вонючая рука, зажимающая рот, потом удар. «Perilhôs. Опасность». Элэйс подняла руку к голове, поморщилась, нащупав кровавый колтун волос за ухом. Крепко закрыла глаза, стараясь отогнать воспоминание о руках, крысами шарящих по телу. Двое мужчин. Обычный запах: лошадей, пива и соломы. Нашли они мерель? Элис заставила себя встать. Необходимо сейчас же рассказать отцу. Он собирался в Монпелье — это-то она помнила. Надо застать его до отъезда. Ноги не держали ее, голова закружилась. Она снова падала и падала, соскальзывала в невесомую дрему. Элэйс пыталась отогнать забытье, удержать сознание, но не сумела. Прошлое, настоящее, будущее слились в бесконечно е Время, белой дорогой протянувшееся перед ней. Цвета, звуки, свет — все утратило смысл.ГЛАВА 18
Последний раз с беспокойством оглянувшись через плечо, Бертран Пеллетье выехал из Восточных ворот. Он ехал рядом с виконтом Тренкавелем и все гадал, почему Элэйс не пришла их проводить. Погрузившись в размышления, Пеллетье ехал молча и почти не слышал разговоров вокруг. Она должна была выйти в Кур д'Онор пожелать отъезжающим доброго пути. Бертран был удивлен и, признаться, обижен. Он уже жалел, что не послал Франсуа разбудить дочь. Было совсем рано, однако улицы заполнил народ. Горожане махали руками на прощание, выкрикивали пожелания удачи. Для поездки были отобраны лучшие кони. Самые сильные и выносливые мерины и кобылы из конюшен Шато Комталь. Раймон Роже Тренкавель ехал на своем любимом жеребце, которого сам вырастил и объездил. Шкура у него была цвета зимнего меха лисицы, а на лбу ярко выделялось белое пятно, форма которого, как поговаривали, в точности повторяла очертания владений Тренкавеля. На всех щитах — герб виконта, и он же повторяется на вымпелах и накидках, которые шевалье носят поверх доспехов. Поднимающееся солнце играет на стальных шлемах, мечах и сбруе. Даже сумы вьючных лошадей начищены так, что конюхи могли глядеться в блестящую кожу, как в зеркало. Не сразу решили, сколько народу набрать в сопровождение. Слишком мало — и виконта Тренкавеля могут счесть нестоящим союзником, да и в пути слабый отряд легко станет добычей разбойников. А слишком сильный вы глядел бы как объявление войны. В конце концов отобрали шестнадцать шевалье, в том числе, несмотря на возражения Пеллетье, Гильома дю Маса. С ними их конюшие, несколько слуг и духовников, Жеан Конгост, да еще кузнец, чтобы подковывать расковавшихся в пути лошадей. Общим счетом тридцать человек. Они направлялись в Монпелье, главный город владений виконта Нимы, где родилась жена Раймона Роже, дама Агнесс. Владетель Нима, как и Тренкавель, принадлежал к вассалам короля Педро Второго, так что, хотя Монпелье был католическим городом и славился гонениями на еретиков, все же они могли рассчитывать на свободный проезд. Дорога от Каркассоны должна была занять три дня. Оставалось гадать, кто из них, Тренкавель или граф Тулузский, прибудет первым.Сперва они держали путь на восток, следуя течению реки Од, навстречу поднимающемуся солнцу. В Требе свернули на северо-запад через земли Минервуа, по старой римской дороге, которая проходила через Ла Редорт, стоявшую на холме крепость Азиль и вела к Олонзаку. Лучше участки были заняты полями конопли — canabieres, тянувшимися, сколько видел глаз. Направо лежали виноградники — иногда возделанные, другие — дикорастущие, густо застилавшие придорожные откосы за высокими живыми изгородями. Налево яркой изумрудной зеленью светились посевы ячменя, которым до жатвы предстояло еще стать золотыми. Крестьяне в широкополых шляпах усердно трудились, снимая последний за лето урожай пшеницы. Временами на солнце взблескивали железные серпы. Берег реки зарос дубравой и болотным ивняком, а дальше простиралась дремучая чаща, где селились орлы, в изобилии водились олени, рыси и медведи, а зимой хватало и волков, и лисиц. Над равнинными лесами и полями темнели горные леса Монтань Нуар, где царствовал дикий вепрь. Молодость быстро оправляется от удара, и виконт Тренкавель пребывал в наилучшем расположении духа, обменивался со свитой легкомысленными анекдотами и слушал рассказы о прошлых подвигах. Он затеял со своими людьми горячий спор о превосходстве легавой над мастифом, потом разговор зашел о ценах на породистых сук, потом сплетничали о проигравшихся в кости… Никто не вспоминал о цели путешествия и не думал о том, чем грозит неудача. Шумное веселье в задних рядах заставило Бертрана Пеллетье оглянуться. Гильом дю Мас ехал бок о бок с Алзу де Приксаном и Тьерри Казаноном — шевалье, которые, так же как он, обучались в Каркассоне и были посвящены в рыцари в ту же Страстную Пятницу. Перехватив неодобрительный взгляд старшего рыцаря, Гильом вздернул подбородок и ответил ему дерзким взглядом. Его хватило на минуту — потом молодой человек потупил глаза, словно признавая свое поражение, и отвернулся. Кровь у Пеллетье кипела, и сознание собственного бессилия не помогало ее остудить.
Час за часом они ехали по равнине. Разговоры затихли и вовсе сошли на нет, когда первое воодушевление сменилось задумчивостью. Солнце стояло уже высоко. Хуже всех приходилось церковникам в их черных одеяниях. По лбу епископа ползли ручейки пота. Рыхлое лицо Жеана Конгоста приобрело неприятный рыжеватый оттенок. В бурой траве гудели пчелы, стрекотали кузнечики и цикады. Мошкара впивалась в ладони и запястья, мухи терзали лошадей, и те то и дело раздраженно взмахивали хвостами. Только когда солнце достигло высшей точки, виконт позволил свернуть с дороги для краткого отдыха. Расположились на поляне у спокойного ручья, где хватало травы для лошадей. Конюшие сняли седла и остудили коням шкуры, протерев их смоченными в воде пучками ивовых листьев. Порезы и укусы лечили листьями щавеля или настоем горчицы. Шевалье поснимали дорожные доспехи и сапоги, смыли с лиц пот и пыль. Пару слуг отрядили к ближайшему крестьянскому хозяйству, и вскоре они вернулись, нагруженные хлебом и колбасами, белым козьим сыром, оливками и крепким местным вином. Едва селяне прослышали о приезде виконта, как густой ручеек крестьян, стариков и молодых женщин, ткачей и виноделов, потянулся к их скромной стоянке под деревьями. Каждый нес дары для сеньера: корзины вишен и слив, гуся, солонину или рыбу. Пеллетье забеспокоился. Они теряли драгоценное время. До того как ляжет вечерняя тень и придется искать ночлег, следовало бы проделать еще немалый путь. Однако Раймон Роже, достойный сын своих родителей, как и они, наслаждался общением с подданными и никого не желал обойти своим вниманием. — Разве не ради них мы проглотили свою гордость и едем мириться с дядей? — негромко сказал он. — Ради того, чтобы защитить всех добрых и невинных, защитить все, что есть настоящего в нашей жизни, да? И, если придется, за них мы будем сражаться. Подобно королям-воинам древности, виконт Тренкавель расположился в тени развесистого дуба. Он милостиво и величественно принимал дары своего народа, зная, что этот день станет историческим событием для жителей маленького селения. Одной из последних к нему приблизилась миловидная смуглая девочка лет пяти-шести, с блестящими, как черничины, глазками. Она склонилась в реверансе и протянула сеньеру венок, сплетенный из диких орхидей, клевера и полевой жимолости. Ручонки у нее дрожали. Склонившись к ребенку, Тренкавель достал из-за пояса льняной платок и протянул девчушке. Даже Пеллетье не удержался от улыбки, когда та робко взяла белый крахмальный квадратик материи тонкими пальчиками. — И как же тебя зовут? — спросил виконт. — Эрнестина, мессире, — прошептала девочка. Тренкавель кивнул. — Ну, madomaisèla Эрнестина, — сказал он, выдернув из гирлянды розовый цветок и приколов его к рубашке, — я буду носить его на счастье. Он станет напоминать мне о доброте жителей Пуйшерик. Только после того, как последний гость покинул лагерь, Раймон Роже отстегнул свой меч и принялся за еду. Насытившись, мужчины и мальчики один за другим растягивались на мягкой траве. Головы у них гудели от вина и полуденного зноя. Не знал покоя только Пеллетье. Видя, что виконт пока не нуждается в его услугах, он удалился в лес, чтобы поразмыслить в одиночестве. По воде скользили водомерки, над ними парили, ныряя к ручью и снова взмывая верх, яркие стрекозы. Едва деревья заслонили от него лагерь, Пеллетье присел на почерневший поваленный ствол и достал из кармана письмо Арифа. Он не читал, даже не развернул его, просто держал, зажав между большим и указательным пальцем, словно талисман. Из головы не шла Элэйс. Мысли качались взад-вперед, подобно коромыслу весов. То он сожалел, что вообще доверился дочери. Но кому же и доверять, если не Элэйс? Мгновение спустя он уже жалел, что открыл ей так мало. С божьей помощью, может, все будет хорошо. Если их прошение к графу Тулузскому будет принято благосклонно, они еще до конца месяца с триумфом вернутся в Каркассону, не пролив ни капли крови. А сам Пеллетье успеет отыскать в Безьере Симеона и узнает, кто та «сестра», о которой пишет Ариф. Если судьба будет благосклонна. Пеллетье вздохнул. Глаза его видели кругом мир и покой, а в воображении вставало другое. На месте старого, неизменного и устойчивого мира ему представлялся хаос и опустошение. Конец всему. Пеллетье склонил голову. Он не мог поступить иначе, чем поступил. Если вернуться в Каркассону ему не суждено, то, по крайней мере, умирая, он будет знать, что совесть его чиста. Он как мог старался сохранить Троекнижие. Элэйс сделает то, что клялся исполнить он. Тайна не сгорит в аду сражения и не сгниет в какой-нибудь французской тюрьме. Шум просыпающегося лагеря вернул Пеллетье к действительности. Пора двигаться дальше. До заката перед ними еще много часов пути. Он возвратил в карман письмо Арифа и быстро зашагал к лагерю, сознавая, что такие минуты мира и покоя вряд ли повторятся в ближайшем будущем.
ГЛАВА 19
Очнувшись, Элэйс почувствовала, что лежит на льняных простынях. В ушах стоял однообразный тихий свист, напоминавший об осеннем ветре в ветвях деревьев. Тело казалось непривычно тяжелым, чужим. Ей снилось, что Эсклармонда склоняется над ней, кладет прохладную руку на лоб, отгоняя жар. Ресницы затрепетали и распахнулись. Над головой был знакомый балдахин ее собственной кровати. Темно-синие складки отведены в стороны и перевязаны шнурком. Комнату заливал золотистый предвечерний свет. В жарком воздухе уже чувствовалось обещание ночной прохлады. Элэйс уловила в нем аромат сожженных трав. Розмарин и немного лаванды. Слышала она и женские голоса, хрипло перешептывавшиеся где-то поблизости. Они, как видно, опасались ее разбудить и шипели, как сало, пролитое над огнем. Элэйс медленно повернула голову, не поднимая ее с подушки. Альзетта, нелюбимая старшая служанка, и Рани, пронырливая злая сплетница, такая же сварливая, как ее боров-муженек, парой нахохлившихся ворон пристроились у потухшего камина. Сестрица Ориана часто прибегала к их услугам, но Элэйс не доверяла обеим и не могла понять, что они делают у нее в покоях Отец никогда бы такого не допустил. Потом она вспомнила. Отца нет. Он уехал в Сен-Жилль или в Монпелье — точно вспомнить не удавалось. И Гильом тоже. — И где же они были? — прошипела Рани, явно с удовольствием предвкушая скандальную сплетню. — В саду, у самого ручья под ивами, — отозвалась Альзетта. — Старшенькая Мазеллы видела, как они туда спускались, и сразу побежала сказать матери. Тут и сама Мазелла бросилась во двор, ломая руки, как, мол, ей стыдно сказать и какое, мол, горе, что именно от нее я такое услышу. — Она вечно ревновала к твоей девочке, а? Ее-то девицы все толстые как свиньи, и конопатые вдобавок. Все до единой, вот как! — Она склонилась еще ближе к собеседнице. — И что ты сделала? — Что ж я могла сделать, как не пойти самой взглянуть. Как туда спустилась, так сразу и увидала. Да они вовсе и не скрывались. Хватаю я Рауля за вихры — ну и грубые же у него волосья — и деру ему волосы. А он одной рукой штаны поддерживает, весь красный от стыда, что так попался. А когда я к Жаннет повернулась, она вырвалась и сбежала прочь. Даже не оглянулась. Рани поцокала языком. — Ну и Жаннет все воет, как, мол, Рауль ее любил и собирался взять замуж. Послушать ее, так она первая девица, которой вскружили голову ласковыми словечками. — Может, у него честные намерения? Альзетта фыркнула: — Куда ему жениться! Пятеро старших братьев, и всего двое из них женаты. А отец днюет и ночует в таверне. Все до последнего сола спускает Гастону в карман. Элэйс старалась не слушать пошлых сплетен. Эти женщины напоминали ей ворон, собравшихся на падаль. — Да и то, — хитро пробормотала Альзетта, — обернулось-то к лучшему. Не спустись я туда за ними, не нашла бы и ее. Элис застыла, чувствуя, как две головы повернулись к ее кровати. — Так-то оно так, — согласилась Рани. — И ручаюсь, когда вернется ее отец, ты получишь хорошую награду. Элэйс продолжала слушать, но не услышала больше ничего стоящего. Тени становились все длиннее. На нее волнами накатывала дремота. Спустя какое-то время Альзетту и Рани сменила ночная сиделка — тоже одна из доверенных служанок Орианы. Элэйс разбудил шум, с которым женщина тянула из-под кровати старый деревянный лежак. Она слышала, как сиделка, кряхтя, укладывается на комковатый тюфяк, как шуршит под ней солома. Еще немного, и кряхтение в ногах постели сменилось громким храпом и сопением, возвестившим, что служанка уснула. А Элэйс вдруг поняла, что совершенно не хочет спать. В голове звучали последние наставления отца. Спрятать дощечку с лабиринтом. Она осторожно села, поискала на тумбочке среди кусков ткани и свечей. Дощечки здесь не было. Стараясь не разбудить сиделку, Элэйс потянула дверцу тумбочки. Редко открывавшиеся петли поддавались с трудом и заскрипели. Элэйс провела пальцем между деревянной рамой и матрасом, на случай если дощечка завалилась туда. Res. Ничего. Ей не понравился ход собственных мыслей. Отец был уверен, что ему удалось сохранить тайну, но не ошибался ли он? Ведь и мерель, и дощечка пропали. Элэйс спустила ноги с кровати и на цыпочках пробежала через комнату к креслу, в котором занималась шитьем. Надо было убедиться. Ее плащ висел на спинке. Кто-то постарался отчистить его, но на красной вышивке каймы виднелись пятна грязи. На ткани остался запах двора или конюшни, кисловатый и едкий. Рука, как и следовало ожидать, осталась пустой. Кошелек пропал, а с ним и мерель. События развивались слишком стремительно. Давно знакомые тени вдруг показались полными угрозы. Опасность слышалась даже в кряхтении, доносившемся от изножья постели. «Что, если нападавшие до сих пор в Шато? А если они вернутся за мной?» Элэйс поспешно оделась, подняла и зажгла масляную лампу — calèth. При мысли в одиночку пересечь двор становилось страшно, но оставаться в комнате и ждать, что будет, она не могла. Coratge. Смелее…Элис пробежала через Кур д'Онор к башне Пинте, прикрывая рукой трепещущий огонек. Она искала Франсуа. Приоткрыла дверь и позвала. Из темноты никто не отзывался. Тогда Элэйс проскользнула внутрь. — Франсуа, — снова прошептала она. Лампада давала мало света, но его хватило, чтобы рассмотреть человека, лежащего на тюфяке в ногах отцовской кровати. Поставив светильник на пол, Элэйс нагнулась и тихонько потрясла спящего за плечо. И тут же, словно обжегшись, отдернула руку. Что-то было не так. — Франсуа? По-прежнему нет ответа. Элэйс ухватилась за краешек грубого одеяла, сосчитала в уме до трех и резко дернула на себя. Ей открылась груда старого тряпья и мехов, старательно уложенных в форме человеческого тела. Это было совершенно непонятно, однако Элэйс облегченно перевела дыхание. Какой-то шорох за дверью привлек ее внимание. Элэйс подхватила светильник и погасила его, а сама притаилась в тени за кроватью. Дверь заскрипела. Пришелец постоял в нерешительности, учуяв, быть может, запах горевшего масла или заметив сдвинутое одеяло, и потянул из ножен нож. — Кто здесь? — проговорил он. — Выходи. — Франсуа! — радостно вскрикнула Элэйс, выходя из-за балдахина. — Это я. Можешь убрать свое оружие. Он, как видно, был еще более изумлен, чем она сама. — Простите меня, госпожа. Я не думал… Элэйс с любопытством рассматривала слугу. Тот тяжело дышал, словно запыхался после бега. — Я сама виновата, но где это ты был в такой поздний час? — поинтересовалась она. «У женщины, надо полагать», — подумала Элэйс, не понимая, отчего он так смущен. Ей стало жалко парня. — В сущности, Франсуа, это неважно. Я пришла, потому что ты — единственный, кто может правдиво объяснить, что со мной случилось. Франсуа мгновенно побледнел и быстро, придушенно проговорил: — Я ничего не знаю, госпожа. — Но ведь наверняка ходят слухи, слуги сплетничают на кухне, правда? — Очень мало. — Ну, давай попробуем вместе восстановить ход событий, — предложила она, недоумевая, что с ним творится. — Я помню, как вышла из покоев отца, после того как ты провел меня к нему. Потом на меня напали двое мужчин. Я очнулась в саду у ручья. Рано утром. А когда пришла в себя второй раз, уже лежала в своей постели. — Ты смогла бы узнать тех людей, госпожа? Элэйс сердито взглянула на него. — Нет. Было темно, и все произошло слишком внезапно. — У тебя что-нибудь пропало? Она замялась и неумело солгала: — Ничего ценного. Я уже знаю, что тревогу подняла Альзетта Бешер. Слышала, как она хвасталась, хотя, убей, не понимаю, кто ее ко мне допустил. Почему не Риксенда со мной сидела или еще кто-то из моих служанок? — Так распорядилась госпожа Ориана. Она лично заботилась о тебе. — Никого не удивила подобная заботливость? — усмехнулась Элэйс: это было совершенно не похоже на Ориану. — Моя сестра довольно неопытна в этом… искусстве. Франсуа кивнул. — Но она проявила большую настойчивость, госпожа. Элэйс покачала головой. В голове промелькнуло полустершееся воспоминание: она заперта в каком-то заброшенном тесном помещении, пропахшем мочой и скотиной. Воспоминание не давалось в руки, ускользало. Она заставила себя вернуться к делам сегодняшним. — Отец, вероятно, отбыл в Монпелье, Франсуа? Он кивнул. — Два дня назад, госпожа. — Так сегодня уже среда! — ахнула Элэйс. Два дня потеряно. Она нахмурилась. — Франсуа, отец перед отъездом не спрашивал, почему я не пришла пожелать ему доброго пути? — Спрашивал, госпожа, но… он не позволил мне тебя разбудить. «Непонятно». — А мой муж? Разве Гильом так и не вернулся к себе? — Я полагаю, госпожа, что Гильом дю Мас допоздна задержался в кузнице, а потом вместе с виконтом посетил службу, благословлявшую их в дорогу. Мне кажется, он был так же удивлен твоим отсутствием, как кастелян Пеллетье, и к тому же… Он замялся. — Договаривай. Скажи, что у тебя на уме, Франсуа. Я не стану на тебя сердиться. — С твоего позволения, госпожа, мне думается, шевалье дю Мас не хотел обнаруживать перед твоим отцом, что не знает, где ты. Элэйс тут же сообразила, что Франсуа прав. Отношения между ее отцом и мужем были сейчас еще хуже, чем обычно. Элэйс поджала губы. Ей не хотелось подтверждать предположения слуги. — Но ведь они очень рисковали, — пробормотала она, возвращаясь мыслями к нападению. — Учинить разбой посреди замка — само по себе безумие. Но в довершение всего попытка захватить меня в плен… да как же они рассчитывали уйти? Она осеклась, только теперь осознав смысл своих слов. — Все были очень заняты, госпожа. Даже часовых не выставили. И заперли только Западные ворота, а Восточные всю ночь оставались открытыми. Двое мужчин без труда могли протащить тебя, поддерживая на ногах, если только закрыли ваше лицо и одежду. В ту ночь здесь было много дам… то есть женщин… в таком виде… Элэйс скрыла улыбку. — Благодарю, Франсуа. Я поняла, что ты хочешь сказать. Улыбка тут же погасла. Следовало все обдумать, решить, что делать дальше. Впервые в жизни она испытывала такое замешательство. А то, что происшедшее оставалось для нее тайной, только поддерживало ее опасения. «Трудно бороться против безликого врага». — Хорошо бы стало известно, что я ничего не помню о нападении, — помолчав, заговорила она. — Тогда, если нападавшие до сих пор в Шато, они не будут видеть во мне угрозу. Ей вдруг стало страшно одной возвращаться через двор. Да и спать под надзором сестрицыной служанки не хотелось. Элэйс не сомневалась, что та станет шпионить за ней и обо всем доносить Ориане. — Я останусь здесь до утра, — объявила она. К ее изумлению, Франсуа пришел в ужас. — Но, госпожа, не приличествует тебе… — Прости, что выгоняю тебя из постели, — сказала она, смягчая приказ улыбкой, — но я предпочитаю спать в одиночестве. Его лицо уже снова было бесстрастным и невыразительным. — Но я буду благодарна, если ты, Франсуа, на всякий случай устроишься где-нибудь поблизости. Он не ответил на улыбку. — Как тебе будет угодно, госпожа. Элэйс пристально взглянула на него и решила, что не стоит придавать так много значения странному поведению слуги. Она попросила его зажечь светильник и отпустила. Едва Франсуа ушел, как Элэйс свернулась клубочком посреди отцовской кровати. Ее заново настигла боль одиночества. И Гильом уехал! Она пыталась нарисовать в памяти лицо мужа, его глаза, линию подбородка, но картина расплывалась, исчезала. Элэйс понимала: ей мешает обида. Снова и снова она напоминала себе, что Гильом всего лишь выполняет свой рыцарский долг. Он не сделал ничего дурного. Напротив, поступил вполне достойно. Перед столь важным предприятием долг велит думать о сюзерене, а не о жене. Но сколько ни уговаривала себя Элэйс, голос обиды не смолкал у нее в голове. Разум ничего не мог поделать с чувствами. Гильом подвел ее как раз тогда, когда ей так нужна была его защита. Это было несправедливо, но она винила мужа. Если бы он на рассвете заметил, что ее нет, нападавших могли успеть задержать. И отец не уехал бы в обиде на нее.
ГЛАВА 20
На заброшенной ферме под Аньяном, на плодородном участке равнины к западу от Монпелье собрались вместе с пожилым Совершенным восемь добрых христиан. Они забились в угол, завешенный старой упряжью для волов и мулов. Один из мужчин был тяжело ранен. На месте лица виднелись кости, чуть прикрытые клочьями серой и розовой плоти. Удар, раздробивший и скулу, выбил глаз из глазницы. Вокруг зияющей дыры запеклась кровь. Остальные отказались бросить друга, когда дом, где они собрались на моление, был окружен отколовшимся от основного войска отрядом французских солдат, и унесли его с собой. Однако раненый замедлял их бегство и сводил на нет преимущество, которое давало им знание местности. Весь этот день крестоносцы травили их, как диких зверей, и с наступлением темноты загнали в ловушку. Катары слышали перекличку солдат во дворе и треск разгорающегося хвороста. Там складывали костер. Совершенный понимал — это конец. От этих людей, подстрекаемых ненавистью, жадностью и невежеством, нечего ждать пощады. Никогда еще в христианских землях не бесчинствовали подобные полчища. Совершенный не поверил бы рассказам, если бы не видел собственными глазами. Он долго продвигался к югу рядом с ними, держась в стороне от Воинства. Видел он и большие баржи, сплавлявшиеся вниз по Роне и груженные не только припасами и вооружением, но окованными железом сундуками, в коих заключались святые реликвии для благословения похода. Над Воинством стояло огромное облако пыли, вздымаемой тысячами ног и копыт. Горожане и селяне запирали ворота и выглядывали из-за частоколов, моля Господа, чтобы Воинство прошло мимо. Все больше рассказов о насилиях и жестокости крестоносцев расходилось по стране. Горели крестьянские дома, хозяева которых были виновны только в том, что не позволили солдатне разорять свою землю. Верующие катары, объявленные еретиками, были сожжены на костре в Пиларке. В Монтелимаре вся еврейская община, включая женщин и детей, была предана мечу, и окровавленные головы выставлены на шестах над городской стеной на корм стервятникам. В Шато Сен-Поль де Круа банда гасконских пехотинцев распяла захваченного ими Совершенного. Они соорудили крест из двух связанных веревками жердей и прибили несчастного за руки гвоздями. Катар, несмотря на мучения, упорно не желал отречься и хулить свою веру, и солдаты, наскучив пыткой, вспороли ему живот и оставили гнить. Эти и другие подобные варварские деяния либо отрицались аббатом Сито и французскими баронами, либо списывались на бесчинства отдельных выродков. Но скорчившийся в темном углу Совершенный знал, что слово начальников, священников и папских легатов — пустой звук для собравшейся за стеной солдатни. Жажда крови заставила этих людей загнать их сюда, на этот клочок созданного дьяволом земного мира. Он узнавал в них Зло. Единственное, что он мог сделать, это попытаться спасти души своих верующих, отслужив consolament,[230] чтобы те смогли узреть лик Господа. Переход из этого мира в следующий будет для них мучителен. Раненый до сих пор был в сознании. Он изредка постанывал, но все тише, и кожа его покрылась сероватой предсмертной бледностью. Возложив руки на лоб умирающего, Совершенный произвел обряд крещения утешением. Уцелевшие верующие встали в круг, сцепив руки, и начали молиться: «Святой Отец, справедливый Господь добрых душ, Ты, не знающий заблуждений, лжи и сомнений, даруй нам знание…» Солдаты уже ломали дверь, хохоча и выкрикивая издевательства. Младшая из женщин — ей было не больше пятнадцати — плакала. Слезы тихо, безнадежно катились по щекам. «Даруй нам знание того, что Тебе ведомо, любовь к тому, что Ты любишь, ибо мы не от мира сего, и мир сей не от нас, и страшимся мы встретить смерть в царстве бога чуждого». Совершенный возвысил голос, когда балка, служившая засовом на двери, раскололась надвое. Щепки дерева, острые, как стрелы, разлетелись по амбару, а следом ворвались солдаты. Освещенные ржавыми отблесками пылающего во дворе костра, они мало напоминали людей. В их глазах плясали отблески пламени. Катар насчитал десять мужчин, вооруженных мечами. Взор его обратился к командиру, вошедшему последним. Высокий человек с худым бледным лицом и холодными глазами, столь же сдержанный и бесстрастный, сколь распалены и бесчинны были его солдаты. В нем чувствовалась жестокая властность: этот человек привык встречать повиновение. По его приказанию беглецов выволокли из укрытия. Командир сам вонзил клинок в грудь Совершенного. На миг их глаза встретились. Во взгляде француза застыло презрение. Он вторично поднял руку и опустил меч на голову старика, забрызгав солому кровью и серыми потеками мозга. Убийство священника лишило мужества его паству. Оставшиеся пытались бежать, но земля под ногами уже стала скользкой от крови. Кто-то из солдат поймал за волосы женщину и воткнул меч ей в спину. Ее отец хотел оттолкнуть убийцу, и тот, развернувшись, вспорол ему живот. Глаза раненого широко распахнулись от боли, когда солдат провернул меч и ногой столкнул с клинка выпотрошенное тело. Младший из солдат отвернулся, его вырвало. Через несколько минут тела всех мужчин лежали на полу амбара. Начальник велел подчиненным вывести наружу двух старших женщин. Девушку он оставил позади, как и парня, которого выворачивало наизнанку. Ему полезен будет урок твердости. Девочка попятилась от него, глаза ее испуганно метались по сторонам. Мужчина улыбался. Спешить было некуда: девчонка не убежит. Он прошелся по кругу, словно волк, примеривающийся к добыче, и внезапно нанес удар. Одним движением мужчина схватил жертву за горло, ударил головой о стену, а другой рукой разорвал на ней платье. Девушка закричала, отчаянно отбиваясь, и он вбил кулак ей в лицо, с удовольствием ощутив, как хрустнули разбитые кости. Ноги у нее подогнулись. Она сползла вниз, оставляя на досках стены красную полосу. Мужчина наклонился и сверху донизу разорвал на ней нижнюю сорочку. Девочка заскулила, и тогда он поддернул подол юбки наверх до пояса. — Нельзя позволять им плодиться, наполняя мир себе подобными, — холодно пояснил он, доставая кинжал и по рукоять вонзая его в живот девочке. Ненависть заставляла его наносить удар за ударом по неподвижному уже телу. Под конец он ногой перевернул тело и двумя взмахами клинка вырезал на голой спине крест. Кровь алыми жемчужинами выступила на белой коже. — Будет урок другим, кто пройдет здесь, — спокойно произнес он. — А теперь убери это. Вытерев клинок о разорванное платье, он выпрямился. Мальчишка всхлипывал. Его платье было перепачкано кровью и блевотой. Он собирался исполнить приказ, но взялся за дело недостаточно проворно. Командир схватил парня за глотку. — Я сказал, убрать! Поторопись, если не хочешь присоединиться к ним. Он пнул солдата в копчик, оставив на его рубашке отпечаток перемазанного в кровавой грязи сапога. Ему ни к чему солдаты со слабым желудком. Наскоро сложенный во дворе фермы костер яростно пылал, раздутый жарким ночным ветром со Средиземного моря. Солдаты пятились от огня, прикрывая лица руками. Привязанные к изгороди кони горячились и били копытами. Им не нравился запах смерти. С женщин сорвали одежду и бросили на колени, связав ноги и заломив за спину руки. На их лицах, исцарапанных грудях и плечах остались следы насилия, но обе молчали. Кто-то ахнул только тогда, когда перед ними проволокли труп девочки. Начальник прошел к костру. Он уже скучал и торопился уехать. Не для того он принял крест, чтобы резать еретиков. Эта жестокая охота была затеяна только ради развлечения солдат. Люди должны быть заняты, чтобы не теряли навыков и не бросались друг на друга. В ночном небе вокруг полной луны горели белые огоньки звезд. Должно быть, полночь, а может, и позже. Давно уже следовало вернуться. Может быть, сообщение наконец доставлено. — Предать их огню, сударь? Он без предупреждения выхватил меч и сильным ударом снес голову ближайшей к нему женщине. Кровь фонтаном забила из рассеченных жил, забрызгав ему сапоги. Голова мягко ударилась о землю. Он пинком отбросил содрогающееся тело. — Убейте остальных сук-еретичек, сожгите тела, и амбар заодно. Мы спешим.ГЛАВА 21
Элэйс разбудил пролившийся в окно свет. Минуту она не могла припомнить, как оказалась в отцовских покоях. Села, потягиваясь спросонья, ожидая, пока оживет память прошедшего дня. За долгие часы, протянувшиеся от полуночи до рассвета, успело созреть решение. Несмотря на беспокойную ночь, мысли были прозрачны, как горный ручей. Нельзя сидеть в бездействии, дожидаясь возвращения отца. Неизвестно, какую цену придется заплатить за каждый потерянный день. Рассказывая дочери о своем священном долге перед Noublesso de los Seres, он не оставил сомнений: его гордость и честь зависели от исполнения обета сохранить тайну. А ее долг — помогать ему, рассказать обо всем, что случилось, и передать дело в его руки. «К тому же действовать легче, чем ждать». Элэйс прошла к окну, распахнула ставни утреннему ветру. Вдали сияли в рассветном огне Монтань Нуар, несокрушимые и неподвластные времени. Взгляд на их гордые вершины укрепил в ней решимость. Широкий мир манил Элэйс. Да, она подвергает себя опасности — женщина, пустившаяся в путь в одиночестве. Самоволие, сказал бы отец. Но ведь она превосходная наездница, отлично чувствует коня и сумеет ускакать от любой шайки мародеров или разбойников. Кроме того, до сих пор в землях виконта Тренкавеля не было слухов о разбое. Элэйс потрогала рукой ссадину на голове: напоминание, что кто-то желает ей зла. Если уж пришло ей время умереть, куда лучше встретить смерть с мечом в руке, чем сидеть, покорно ожидая удара из-за угла. Элэйс подняла со стола остывший светильник, мельком заметив свое отражение в закопченном стекле. Бледная кожа цвета снятого молока, и глаза блестят от усталости. Но в чертах появилась твердость, какой не было прежде.Возвращаться к себе в спальню не хотелось, но пришлось. Осторожно перешагнув спящего у дверей Франсуа, она прошла через двор и вернулась к жилым покоям. Здесь было пусто. Верная тень Орианы, Жиранда, спала у двери в спальню сестры. Ее пухлое смазливое личико во сне казалось одутловатым. Элэйс на цыпочках обошла служанку. Тишина, встретившая ее в спальне, подсказала, что сиделка ушла. Должно быть, проснулась ночью, увидела, что больной нет, и сочла себя свободной. Элэйс, не теряя времени, взялась за работу. Для успеха ее замысла необходимо было убедить всех, будто она так слаба, что не решится зайти далеко от дома. Никому из домочадцев не следовало знать, что она направилась в Монпелье. Она достала из сундука самый легкий охотничий кафтан: красноватый беличий мех, светлые рукава, просторные под мышками и сходящиеся к запястьям острыми углами. Затянула на поясе узкий кожаный кушак, прицепила к нему мешочек для съестного и борса — зимнюю охотничью суму. Охотничьи сапоги доходили ей до колен. Она затянула верх шнурками, спрятала за голенище запасной нож, застегнула пряжки и накинула простой коричневый плащ без отделки. Одевшись, Элэйс достала из шкатулки несколько драгоценностей: ожерелье из солнечного камня, кольцо и колье с бирюзой. Пригодится на обмен или чтоб заплатить за свободный проезд и ночлег, особенно когда она окажется за границей владений Тренкавеля. Наконец, убедившись, что ничего не забыла, она достала свой меч из тайника подкроватью, где он пролежал, забытый за время ее замужества. Элэйс сжала меч, подняла клинок к лицу, примериваясь к рукояти. Она давно не упражнялась, но хватка оставалась уверенной и твердой. Элэйс улыбнулась и клинком вычертила в воздухе восьмерку. Да, рука не забыла меча.
Пробравшись на кухню, Элэйс выпросила у Жакоба ячменного хлеба, фиг, соленой рыбы, кружок сыра и флягу вина. Он, как всегда, выдал ей много больше, чем она просила. На сей раз Элэйс не отказывалась и с благодарностью приняла щедрые дары. Она разбудила свою служанку, Риксенду, и шепотом попросила передать даме Агнесс, что Элэйс чувствует себя лучше и после обедни присоединится к ее дамам. Девушка смотрела удивленно, но промолчала. Обычно Элэйс под любым предлогом старалась увернуться от исполнения этой части придворных обязанностей. Среди женщин, болтающих над рукодельем, она чувствовала себя втиснутой в клетку и задыхалась от скуки.
Элэйс надеялась, что хватятся ее нескоро. Если повезет, в часовне отзвонят вечерю, пока они сообразят, что ее нигде нет, и поднимут тревогу. «А я к тому времени буду уже далеко». — Не ходи к даме Агнесс, пока та не позавтракает, — предупредила она служанку. — Пока луч солнца не тронет западной стены, понимаешь? Ос? До тех пор, если кто обо мне спросит — даже слуга моего отца, — говори, что я поехала прогуляться в поле за Сен-Микелем. Конюшни располагались в северо-восточной части цитадели, между Тур де Касарн и Тур дю Мажор. Почуяв Элэйс, лошади забили копытами, навострили уши, заржали в надежде на угощение. Элэйс задержалась у первого денника, погладила широкую морду своей старой серой кобылы. На лбу и щеках у нее уже блестела седина. — Не сегодня, старушка, — сказала Элэйс. — Не могу я от тебя так много требовать. В соседнем деннике стояла другая лошадь: арабская кобыла-шестилетка Тату, неожиданный свадебный подарок отца. Эта была цвета зрелого желудя, со светлой гривой и хвостом и с белыми носками на всех четырех ногах. В холке она была по плечо Элэйс, отличалась, как все лошади этой породы, изящной плоской головой, плотно сбитым телом, крепкой спиной и легким нравом. И, что еще важнее, выносливостью и быстрой побежкой. Элэйс с облегчением увидела, что в конюшне нет никого, кроме Амиля, старшего сына конюха, да и тот дремал на сене в дальнем углу. Впрочем, при ее появлении паренек вскочил, покраснев оттого, что его застали спящим. Элэйс не стала слушать его извинений. Амиль проверил копыта и подковы кобылы, убедился, что та может скакать, накинул чепрак, и на него, по просьбе Элэйс, охотничье седло и сбрую. У Элэйс ныло сердце. Она вздрагивала при каждом шорохе во дворе, оборачивалась на каждый отголосок разговора. Только когда лошадь была оседлана, она достала из-под плаща меч. — Клинок затупился, — сказала она. Амиль взглянул ей в глаза, не сказав ни слова, взял меч и понес к наковальне в кузницу. В горне день и ночь горел огонь, стараниями мальчиков, достаточно взрослых, чтобы перенести увесистую, колючую охапку хвороста из одного конца кузни в другой. Элэйс смотрела на взлетающие над каменной наковальней искры, видела, как напрягаются плечи парня, когда он вздымает тяжелый молот, оттачивая и выверяя баланс клинка. — У тебя хороший меч, госпожа Элэйс, — ровным голосом сказал он, возвращая оружие. — Он хорошо послужит тебе, хотя… я молю Господа, чтобы он тебе не понадобился. Она улыбнулась: — Ieu tanben. Я тоже. Парень подсадил ее в седло и под уздцы провел кобылу через двор. Сердце у Элэйс подкатило к самому горлу: что, если ее застанут в последнюю минуту? Все пойдет насмарку. Но двор был пуст, и они без задержки добрались до Восточных ворог. — Доброго пути, госпожа Элэйс, — прошептал Амиль, когда девушка сунула ему в руку монетку. Стражник открыл ворота, и Элэйс послала Тату вперед, через мост на пробуждающиеся улицы Каркассоны. Сердце у нее стучало.
Едва оказавшись за Нарбоннскими воротами, Элэйс пустила лошадь вскачь. — Libertat! Свобода! Она ехала на восток, навстречу поднимающемуся солнцу, и ощущала себя в гармонии со всем миром. Ветер раздувал волосы и холодил раскрасневшиеся щеки. Наслаждаясь легким галопом Тату, Элэйс задумалась: не так ли чувствует себя покинувшая тело душа в своем четырехдневном путешествии на небеса? Постигая божью благодать, оставляя позади все плотское, низменное, превращаясь в чистый дух? Элэйс улыбнулась. Совершенные учили, что наступит время, когда все души придут к спасению и на небесах найдут ответы на все вопросы. Но пока она может и подождать. Слишком многое осталось несделанным на земле, чтобы торопиться покинуть ее. Тени убегали за спину, и с ними уходили все мысли об Ориане, о доме, исчезали все страхи. Она была свободна. Позади желтоватые стены и башни цитадели становились все меньше и меньше, пока не исчезли совсем.
ГЛАВА 22 ТУЛУЗА, вторник, 5 июля 2005
Офицер службы безопасности в тулузском аэропорту Бланьяк больше смотрел на ножки Мари-Сесиль, чем в ее паспорт. Когда она проходила по белым плиткам терминала, все головы оборачивались ей вслед. Симметрично уложенные черные локоны, облегающий красный жакет, юбка, крахмальная белая блуза — всякому было ясно, что она не из тех, кто стоит в очереди. Ее личный шофер встречал ее у выходного турникета: его темный костюм сразу выделялся в толпе встречающих и отдыхающих, пестревшей яркими футболками. Мари-Сесиль улыбнулась ему и поинтересовалась здоровьем семьи, хотя мысли ее были уже далеко. Проходя к машине, она включила мобильный, увидела сообщение от Уилла и стерла, не читая. Автомобиль плавно двинулся с места и влился в поток машин на кольце автострады, обходящей Тулузу. Мари-Сесиль позволила себе расслабиться. Последняя церемония удалась, как никогда. Вооружившись знанием, открытым в пещере, она чувствовала себя преображенной: истинной наследницей предков, совершавших тот же обряд. Она готов а была поклясться, что, когда воздела руки, произнося заклинание, их сила влилась в ее кровь. Даже процедура избавления от Тавернье — посвященного, не оправдавшего доверия, — прошла без осложнений. Если больше никто не проговорится — а она была уверена, что они будут молчать, — беспокоиться не о чем. Мари-Сесиль не стала терять время, выслушивая оправдания виновного. С ее точки зрения, запись интервью, данного им газетчику, была достаточным доказательством вины. И все-таки… Мари-Сесиль открыла глаза. Кое-что в этом деле беспокоило ее. То, каким образом обнаружилась нескромность Тавернье; на удивление точные и полные сведения, записанные журналистом; да и то, что самого журналиста объявили в розыск. Больше всего ее тревожило совпадение по времени. Казалось бы, нет оснований связывать открытие пещеры на пике де Соларак с давно запланированной — и успешно приведенной в исполнение — казнью в Шартре, однако ей эти два события представлялись звеньями одной цепи. Машина затормозила ход. Водитель вышел, чтобы оплатить проезд в автоматической кассе. Мари-Сесиль постучала по стеклу и наманикюренными пальчиками протянула ему свернутую в трубочку пятидесятифранковую банкноту, пояснив: «Pour la péage».[231] Ей не хотелось оставлять за собой следы от банковских карточек. У нее было дело в Авиньонете, километрах в тридцати к юго-востоку от Тулузы. Оттуда она собиралась в Каркасон. Встреча была назначена на девять часов, но приехать она хотела заранее. Сколько времени придется провести в Каркасоне, зависело от человека, с которым она там встретится. Женщина закинула ногу на ногу и улыбнулась. Увидим, оправдает ли он свою репутацию.ГЛАВА 23 КАРКАСОН
Ровно в десять часов утра человек, известный под именем Одрик Бальярд, вышел с вокзала в Каркасоне и направился в город. Человек этот, одетый в светлый костюм, представлял собой фигуру примечательную, хотя несколько старомодную. Шел он быстрым шагом, опираясь, как на посох, на длинную дорожную трость. Глаза его защищала от солнца широкополая панама. Бальярд перешел канал дю Миди и миновал величественное здание гостиницы дю Терминус, сияющее зеркалами и блестящее стальными дверями-вертушками в стиле арт деко, модном в начале прошлого столетия. Он находил, что Каркасон сильно переменился. Свидетельства тому находились на каждом шагу. На пешеходной улочке в Нижнем городе — Basse Ville — Бальярд отметил взглядом новые магазины, торговавшие одеждой, книгами и ювелирными изделиями. Городок явно преуспевал и богател. Все повторяется. Город снова становится средоточием жизни. Белые мостовые пляс Карно блестели на солнце. Огромный фонтан XIX века отреставрировали, струи его были совершенно прозрачны. Тут и там виднелись яркие кресла и столики уличных кафе. Бальярд нашел взглядом бар «Феликс» и улыбнулся, увидев под деревьями его линялый навес. Хоть что-то осталось неизменным. Он прошелся по узкой, шумной боковой улочке, ведущей к Старым воротам. Коричневые плакаты возвещали, что Старый замок из неприметного пункта «можете также осмотреть» в путеводителе «Мишлен» превратился в «историческое наследие», находящееся под покровительством ЮНЕСКО, и достопримечательность международного масштаба. Переулок кончился. Он был на месте. У Бальярда щемило сердце. Каждый раз, попади сюда, он чувствовал, что вернулся домой, как бы сильно ни менялись знакомые места. Декоративное ограждение препятствовало въезду автомобилей на Старый мост. А ведь было время, когда пешему здесь приходилось жаться к парапету, сторонясь потока фургонов, прицепов, грузовиков и мотоциклов, втиснутого в узкий мостик. Тогда камень был изъеден городской копотью. Теперь парапеты отмыли дочиста. Пожалуй, даже перестарались. Но выщербленный каменный Иисус по-прежнему тряпичной куклой болтается на своем кресте, отмечая середину моста и границу между деревянным Сен-Луи и укрепленным Старым городом. Бальярд достал из верхнего кармана желтый платок и тщательно вытер лицо и лоб под шляпой. Берега реки, протекающей под мостом, были ухожены и чисты. Посыпанные песком дорожки вились между деревьями и кустами. На северном берегу среди просторных газонов пышно цвели большие клумбы. Нарядные дамы сидели на железных скамеечках в тени деревьев, болтая и любуясь видом на реку, а маленькие собачонки терпеливо пыхтели у ног хозяек или норовили цапнуть за пятки выдохшегося «бегуна трусцой». Старые ворота вели прямо в квартал Тривалль, преобразившийся из трущоб на окраине в нарядную оправу средневековой цитадели. Кованые чугунные перильца, расставленные вдоль мостовой, препятствовали парковке машин. Огненные, лиловые и синие анютины глазки свешивались из ящиков, как бантики в косичках маленьких девочек. У дверей кафе сверкали хромированные столики, а витые медные фонари вытеснили потемневшие бетонные столбы электропроводки. Даже водосточные трубы из железа или пластика, потрескавшиеся на солнце и морозе, сменились изящными новенькими водостоками, украшенными на концах головами разинувших пасти рыб. Пекарня и продуктовый магазин уцелели, как и отель «Старый город», однако в мясной лавке теперь торговали антиквариатом, а галантерейные лавочки перешли в руки эзотеристов, выставлявших в витринах магические кристаллы, колоды Таро и руководства по духовному просветлению. Сколько же лет он здесь не был? И счет потерян.Бальярд свернул направо, на рю де ла Гаффе, и здесь тоже нашел приметы нового богатства. Улочка была так узка, что не разъехаться двум машинам — обычный переулок, — но и здесь уместилась художественная галерея под вывеской «Мезон дю Шевалье», снабдившая два сводчатых окна чугунной решеткой, напоминавшей о голливудских темницах. На стене красовались шесть раскрашенных деревянных щитов, а к чугунному кольцу коновязи ныне, вероятно, предлагалось привязывать собак. Несколько дверей оказались свежевыкрашенными. На них выделялись фарфоровые кружочки с номерами домов, обведенные желто-синей каймой из крошечных цветочных венков. Прохожий с рюкзаком, сжимавший в руке карту и бутылку воды, остановился, чтобы, запинаясь, по-французски спросить у него дорогу в цитадель, а вообще-то народу почти не было.
Жанна Жиро проживала в маленьком домике, примостившемся у травянистого откоса, круто поднимавшегося к средневековым бастионам. На этом конце переулка было меньше обновленных домов. Кое-где виднелись обветшавшие пустые здания. Старик и старуха сидели в креслах, вынесенных из кухни. Бальярд на ходу приподнял шляпу, желая им доброго утра. Иных соседей Жанны он знал в лицо и много лет здоровался с ними, приезжая сюда. Жанна сидела под навесом крыльца, поджидая гостя. Волосы ее были убраны в пышный узел на затылке. Она неизменно сохраняла подтянутый и аккуратный вид: простая блузка с длинными рукавами и темная прямая юбка. Внешность школьной учительницы, каковой она и была двадцать лет назад, до ухода на пенсию. За все годы их знакомства Бальярд ни разу не застал ее в менее строгом наряде, одетой по-домашнему. Одрик улыбнулся, припомнив, какой любопытной она была когда-то, сколько задавала вопросов. Где он живет? Чем занимается в долгие месяцы между их свиданиями? Куда уезжает? — Путешествую, — отвечал он ей. — Занимаюсь исследованиями, собираю материалы для книг, навещаю друзей. — Кого? — спрашивала она. — Товарищей, с которыми вместе учились или пришлось кое-что пережить. О своей дружбе с Грейс он ей тоже рассказал. А позднее признался, что у него есть домик в горной деревеньке в Пиренеях, неподалеку от Монсегюра. Больше он ничего не рассказывал о себе, и за несколько десятилетии она отвыкла расспрашивать. Жанна была чутким и методичным исследователем, обладала неоценимыми качествами ученого: трудолюбием, точностью и беспристрастностью. Последние тридцать лет она помогала ему в работе над каждой книгой, и в особенности над последней, еще неоконченной: биографией семьи катаров XIII столетия в Каркассоне. Для Жанны эта работа была детективом, разгадыванием головоломки. Одрик вкладывал в свой труд душу и любовь. Увидев его, Жанна приветственно махнула рукой: — Одрик! Сколько лет, сколько зим! Он сжал ее руки в своих. — Bonjorn. Жанна поднялась, оглядела его с ног до головы. — Хорошо выглядишь. — Тè tanben, — отозвался он. — Ты тоже. — Явился минуту в минуту. Он кивнул: — Да, поезд пришел по расписанию. Она с веселым ужасом взглянула на него: — Уж не шел ли ты пешком от станции? — Не так уж далеко, — улыбнулся Одрик. — Признаться, мне хотелось посмотреть, как изменился Каркасон за те годы, что меня не было.
Бальярд вслед за хозяйкой вошел в прохладный маленький дом. Облицованные керамической плиткой стены и пол придавали комнатам строгий старомодный вид. Посреди гостиной стоял овальный столик. Из-под клеенчатой скатерти выглядывали щербатые ножки. В углу рядом с открытой на веранду стеклянной дверью приютилась конторка со старой пишущей машинкой. В комнату вошла Жанна. Она несла на подносе кувшин с водой, миску колотого льда, тарелочку сухариков и соленых крекеров с перцем, плошку соленых оливок и блюдце для косточек. Установив поднос посреди стола, она достала с полки, тянувшейся на высоте плеча по всей длине комнаты, бутылку гиньолета — горьковатой вишневой настойки, которую держала ради его редких визитов. Льдинки зазвенели под струей темно-красного ликера. Довольно долго они сидели в уютном молчании, как не раз сиживали прежде. В окно долетали многоязычные цитаты из путеводителей — туристский поезд совершал очередной тур по стенам цитадели. Одрик аккуратно опустил рюмку на стол. — Итак, — заговорил он, — расскажи, что произошло? Жанна подвинула свое кресло ближе к столу. — Как ты помнишь, мой внук Ив служит в полицейском департаменте Арьежа, в самом Фуа. Вчера их вызвали на археологические раскопки в горах Сабарте, на пике де Соларак. Там обнаружили два скелета. Ив удивился, что его начальство отнеслось к находке как к возможному свидетельству убийства, хотя, по его словам, было очевидно, что останки пролежали в пещере очень долго. Она помолчала. — Ив, правда, сам не допрашивал женщину, обнаружившую скелеты, но присутствовал при допросе. Он немного знает о работе, которой я для тебя занимаюсь, — достаточно, чтобы догадаться, как мне это будет интересно. Одрик задержал дыхание. Много лет он пытался вообразить, что будет чувствовать в эту минуту. Он никогда не переставал верить, что наступит время, когда он узнает правду об их последних часах. Десятилетие сменяло десятилетие. Он наблюдал бесконечный круговорот времен года: зелень весны, золото лета, пеструю палитру осени, исчезающую под холодной зимней белизной, первые ручьи талой воды на горных склонах… А вестей все не было. Е ara? А теперь? — Ив сам заходил в пещеру? — спросил он. Жанна кивнула. — И что увидел? — Алтарь. А за ним, на стене, чертеж лабиринта. — А тела? Где были тела? — В могиле. Вернее, это было простое углубление в земле перед алтарем. Между телами лежали какие-то предметы, но там толпилось столько народу, что он не сумел как следует рассмотреть. — Сколько их было? — Двое. Два скелета. — Так, значит… — Он оборвал фразу. — Ничего, Жанна. Продолжай, пожалуйста. — Под… под ними он подобрал вот это. Жанна через стол подтолкнула к нему маленькую вещицу. Одрик не шевельнулся. Так долго ждал, а теперь не смел коснуться. — Ив позвонил из полицейского управления в Фуа, вчера, поздно вечером. На линии были помехи, и я плохо слышала, но он сказал, что взял кольцо, потому что не доверяет людям, которые его ищут. Мне показалось, он встревожен… — помолчав, Жанна поправилась: — Нет, он казался испуганным, Одрик! Все делалось не так, как следовало. Нарушались обычные инструкции, на месте оказались люди, которым там совершенно нечего было делать. И мне показалось, он опасается, что его подслушивают. — Кому известно, что он входил в пещеру? — Не знаю. Дежурному офицеру? И его начальнику? А может, и другим. Одрик снова посмотрел на лежащее перед ним кольцо и протянул к нему руку. Сжав вещицу двумя пальцами, поднес к свету. На внутренней стороне ясно виднелась тонкая резьба: знак лабиринта. — Это его кольцо? — спросила Жанна. Одрик не решился ответить. Он не доверял своему голосу. Невероятный случай отдал кольцо в его руки. Если это случай. — Ив не сказал, что сделали с телами? Она покачала головой. — Ты не могла бы его спросить? И еще, если можно, список тех, кто был на раскопе, когда вскрыли пещеру. — Я спрошу. Конечно, он поможет, если сумеет. Бальярд легко надел кольцо на большой палец. — Пожалуйста, поблагодари от меня Ива. Ему это, должно быть, дорого досталось. Он даже не представляет, насколько важной может оказаться его расторопность. — Старик улыбнулся. — Он рассказал, что еще нашли на телах? — Кинжал, кожаный мешочек — пустой светильник… — Vuèg? — недоверчиво переспросил Бальярд. — Пустой? Не может быть! Инспектор Нубель, начальник Ива, видимо, особенно настойчиво расспрашивал ту женщину на сей счет. Ив сказал, она держалась, как кремень. Заявила, что не касалась ничего, кроме кольца. — И твой внук ей поверил? — Он не сказал. — Тогда… если его забрал кто-то другой… — пробормотал Бальярд себе под нос, задумчиво нахмурив брови. — Ив что-нибудь рассказывал об этой женщине? — Очень мало. Она англичанка, немногим старше двадцати, не археолог, а из добровольных помощников. Находилась в Фуа по приглашению подруги, которая на раскопе вторая по старшинству. — Имя назвал? — Кажется, он сказал Тейлор. — Она нахмурилась. — Нет, не Тейлор. Может быть, Таннер. Да, Элис Таннер. Время остановилось. Es vertat? Неужели правда? Имя эхом отозвалось у него в голове. «Es vertat?» — шепотом повторил он. — Могла она взять книгу? Узнать ее? Нет-нет, оборвал он себя, не складывается. Если забрала книгу, почему не взяла кольца? Бальярд плашмя положил ладони на стол, чтобы сдержать дрожь, и взглянул в глаза Жанне. — Нельзя ли спросить Ива, нет ли у него адреса? Не знает ли он, где мадемуазель… — Голос у него сорвался. — Спросить я могу, — кивнула она и добавила: — Что с тобой, Одрик? — Устал. — Он сложил губы в улыбку. — Только и всего. — Я думала, ты будешь больше… обрадован. Это ведь, возможно, кульминационный пункт многих лет твоей работы. — Слишком многое надо осмыслить… — Кажется, мои новости не просто взволновали, а потрясли тебя. Бальярд представил, как он сейчас выглядит: неестественно блестящие глаза, неестественно бледное лицо, руки трясутся… — Я очень рад, — заявил он. — И очень благодарен Иву, и, конечно, тебе тоже, однако… — Он глубоко вздохнул. — Ты не сумеешь позвонить сейчас Иву, чтобы я сам с ним поговорил? А может, даже встретился? Жанна встала из-за стола, прошла в маленькую прихожую, где на столике у лестницы стоял телефон. Бальярд смотрел в окно на склон, поднимающийся к стенам цитадели. А перед глазами стояла она, напевающая, склонясь над работой, и косые лучи света, падающие в просветы ветвей, и солнечная рябь на воде, А вокруг цвета и запахи весны: разноцветные всходы у корней — синеватые, розовые, желтые, влажная земля и теплое благоухание смолистых почек, возвещающее приближение теплых летних дней. Он вздрогнул, когда голос вернувшейся в гостиную Жанны рассеял нежные цвета прошлого. — Не отвечает, — сказала она.
ГЛАВА 24 ШАРТР
В доме на улице Белого Рыцаря в Шарт ре Уилл Франклин пил молоко на кухне прямо из пластиковой бутылки, в надежде избавиться от запаха вчерашнего бренди. Служанка сегодня накрыла к завтраку рано утром и ушла на весь день. На плите стояла итальянская кофеварка. Уилл решил, что кофе предназначается Франсуа-Батисту, поскольку о нем в отсутствие хозяйки дома прислуга такой заботы не выказывала. Впрочем, Франсуа-Батист, как видно, еще спал: завтрак стоял нетронутый, столовые приборы не сдвинуты с места. Две глубокие тарелки, две мелкие, две чашки с блюдцами. Четыре сорта варенья и мед, а посередине — большая миска, прикрытая салфеткой. Уилл приподнял краешек белой материи. Под ней оказались персики, нектарины, дыня и яблоки. Есть ему не хотелось. Вчера вечером, коротая время до прихода Мари-Сесиль, он налил себе бренди. Потом налил второй раз и третий. Она вернулась далеко за полночь. К тому времени все виделось ему сквозь туман. А Мари-Сесиль была в настроении загладить утреннюю размолвку. Они уснули только с рассветом. Уилл пошуршал зажатым в пальцах листком бумаги. Она даже не потрудилась собственноручно написать записку. Поручила экономке уведомить гостя, что уехала в город по делам и надеется вместе провести выходные. Уилл познакомился с Мари-Сесиль весной на открытии новой художественной галереи в Шартре. Кто-то из друзей или знакомых его партнера представил их. Уиллу как раз предстоял шестимесячный академический отпуск для научной работы, а Мари-Сесиль числилась одним из спонсоров галереи. Пожалуй, не он ее подцепил, а она его. Внимание женщины ему польстило; и в тот же вечер Уилл обнаружил, что уже рассказывает ей историю своей жизни за бутылкой шампанского. Они вместе ушли с вечеринки и с тех пор не расставались. Так сказать, не расставались… Уилл с кислой миной отвернул кран, плеснул в лицо холодной воды. Он дозванивался ей все утро, но телефон был отключен. Хватит с него этого подвешенного состояния, когда не знаешь, на каком ты свете! Кухонное окно выходило во дворик позади дома. Как и сам дом, он блистал чистотой и был оформлен со вкусом. Светло-серый щебень, темные терракотовые подставки для лимонных и апельсиновых деревьев у южной стены. В ящике под окном пышно цвела красная герань. Кованую решетку калитки завил столетний плющ. Все здесь говорило о постоянстве. Все останется так же и через много лет после его ухода. Уилл чувствовал себя как человек, вернувшийся после сна к жестокой действительности. Разумнее всего было бы просто уйти, без обид и сожалений. Мари-Сесиль не виновата, если он ждал от их отношений другого. Она была и щедра, и добра, и, между прочим, ничего ему не обещала. Только теперь Уилл сумел оценить иронию случившегося: он по собственной воле провел последние три месяца в доме, очень напоминавшем тот, где он вырос и из которого сбежал в Европу. Да, со скидкой на культурные различия, атмосфера этого дома точь-в-точь как в доме его родителей: стильная, элегантная. Скорее салон или выставка, чем дом, в котором хочется жить. И тогда, как и теперь, Уилл проводил большую часть времени в одиночестве, бродя от одной безупречной залы к другой. Нынешняя поездка давала Уиллу шанс обдумать, какой он хочет видеть свою жизнь. Он задумал проехать через Францию в Испанию в поисках новых идей и вдохновения, но за все время в Шартре не написал и двух фраз. Уилл собирался написать книгу о мятеже, гневе и беспокойстве — дьявольской троице американской жизни. Дома он находил широкое поле причин для мятежа. А здесь вдруг выяснилось, что сказать ему нечего. Единственной темой, занимавшей его ум, была Мари-Сесиль, а ее он не взялся бы описывать. Уилл допил молоко и швырнул бутылку в корзину для мусора. Еще раз окинул взглядом стол и решил позавтракать где-нибудь в другом месте. При мысли о вежливой застольной беседе с Франсуа-Батистом его тошнило.Уилл прошел по коридору в прихожую. Тишину здесь нарушало только громкое тиканье причудливых старинных часов. Направо от лестницы узкая дверца вела в изумительный винный погреб. Уилл подхватил с вешалки свою брезентовую курточку и собирался выйти, когда заметил, что ковер на стене висит криво. Сдвинут в сторону совсем немного, но среди совершенной симметрии остальной обстановки эта неряшливость резала глаз. Уилл протянул руку поправить его и замер. На полированную стенную панель падал тонкий серебристый луч. Уилл обвел взглядом окна над лестницей и над дверью, хотя и знал, что в это время дня солнце не заглядывает в прихожую. По-видимому, луч света пробивался сквозь темную деревянную обшивку. В поисках разгадки Уилл приподнял ковер. Маленькая дверца, утопленная в панели, точно соответствовала темному дереву по цвету и узору. Поблескивал медью небольшой засов и плоское кольцо, заменявшее ручку. Все очень скромно. Уилл попробовал засов. Тщательно смазанный стержень легко скользнул в сторону. Тихонько скрипнув, дверь отворилась перед ним, выпустив наружу слабый запах подземелья. Опершись руками о притолоку, Уилл заглянул вниз и сразу обнаружил источник света: матовую лампочку над крутым пролетом лестницы. Пару выключателей он нашел сразу за дверью. Один выключал верхнюю лампочку, другой зажег ряд напоминавших подсвечники светильников, укрепленных вдоль стены слева от ступеней. Вместо перил вниз тянулись синие плетеные шнуры, укрепленные в черных чугунных кольцах. Уилл шагнул на первую ступеньку. Низкий потолок, сложенный из старого кирпича и каменных плит, оказался всего в двух дюймах над головой. Тесно, как в темнице, но воздух свежий и чистый. Не похоже на заброшенное помещение. Чем глубже он спускался, тем холоднее становился воздух. Насчитав двадцать ступеней, он остановился внизу. Сырости не замечалось. Вентиляторов не видно, но легкий сквозняк приносит откуда-то свежий воздух. Уилл оказался в крошечной камере с голыми стенами. Позади — лестница, а впереди — дверь во всю стену. И все залито желтоватым лихорадочным светом электрических лампочек. Сердце замерло, когда Уилл шагнул к двери. Причудливый старинный ключ легко повернулся в замке. Он ступил за дверь, и все мгновенно переменилось. Исчез бетонный пол: его заменил толстый бургундский ковер, глушивший шаги. Простые лампочки уступили место витым железным светильникам. Стены были сложены все из той же смеси кирпича и камня, но здесь их почти полностью скрыли гобелены, изображавшие средневековых рыцарей, белокожих, как фарфоровые куколки, женщин и священнослужителей в белых одеждах, склонивших головы под клобуками и простерших руки в благословении. И воздух тоже стал другим. Пахло благовониями: сладкий густой запах, напомнивший Уиллу о Рождестве и Пасхе его детства. Он оглянулся через плечо. Отсюда была видна лестница, уводившая обратно в дом. Этот вид придал ему храбрости. Короткий проход закончился тупиком. С черного железного карниза свисал синий бархатный занавес. Его украшали вышитые золотом египетские иероглифы, астрологические символы и знаки зодиака. Уилл отвел занавес в сторону. За ним скрывалась еще одна дверь, явно старинная. Те же темные панели, что и в прихожей наверху, но по краям тянется сложная резьба. Гладкое дерево посередине источено червями: узор отверстий не толще булавочных уколов. На двери не было видно ни ручки, ни замка. Неясно, как она открывается. Притолока тоже резная, но уже каменная. Уилл пробежал пальцами по завитушкам, отыскивая потайной механизм. Как-то ведь попадают внутрь? Ему пришлось ощупать всю боковую притолоку и перейти на другую сторону, прежде чем он нащупал маленькое углубление над самым полом. Присев на корточки, Уилл сильнее надавил пальцами. Раздался слабый щелчок — словно каменный шарик упал на плитку иола. Механика сработала — дверь отскочила как на пружинах. Уилл выпрямился. От волнения дыхание сбилось, ладони стали влажными от пота. По спине побежали мурашки. Всего пару минут, сказал он себе. Только взглянуть и сразу назад. Успокоив себя этим заверением, он толкнул приоткрытую дверь. Внутри было черным-черно, но и в темноте угадывалось большое пространство — слишком большое для погреба. Запах сожженных благовоний стал сильней. Уилл пошарил по стене в поисках выключателя, но ничего не нашел. Тогда он догадался отодвинуть занавес, чтобы впустить свет снаружи, и, закрепив толстый бархатный жгут громоздким узлом, снова повернулся лицом в темноту. Сперва он увидел только собственную тень: длинный изломанный силуэт, протянувшийся через порог. Но глаза постепенно привыкли к темноте, и он увидел, что она скрывала. Он стоял на узком конце длинной прямоугольной залы. Сводчатый потолок висел низко над головой. Длинные столы — похожие он видел в монастырской трапезной — тянулись вдоль длинных стен, теряясь в полумраке. Вдоль верхнего края стены шел фриз: повторяющийся узор слов и символов. Те же египетские символы Уилл заметил раньше на занавесе. Он вытер ладони о джинсы. Прямо перед ним посреди камеры стоял массивный каменный ящик, напоминающий гробницу. Уилл обошел вокруг, ведя по крышке ладонью. Камень казался гладким, если не считать кругового узора в середине. Он склонился рассмотреть его вблизи, провел пальцами по канавкам резьбы. Расходящиеся круги, вроде колец Сатурна. Мрак, казалось, расступался, и теперь Уилл ясно видел буквы, выбитые по четырем сторонам резного круга: «Е» в головах, «N» и «S» у длинных сторон гробницы, друг против друга, и «О» в ногах. Стороны света? Он заметил каменную плиту, не более тридцати сантиметров в высоту, установленную у подножия ящика. На ней повторялась буква «Е», а посередине виднелся неглубокий прогиб, как на плахе. И пол вокруг нее был темнее, чем в других местах. И выглядел влажным, словно совсем недавно его тщательно вымыли. Уилл присел, тронул пальцем бороздки буквы на плите. Пахнет дезинфекцией и еще чем-то. Может быть, ржавчиной? Под углом камня что-то застряло. Уилл поддел ногтями и вытащил бесформенный клочок. Материя, хлопчатая или льняная, размахрившаяся по краю, словно оторвалась, зацепившись за гвоздь. В уголке темное пятнышко. Похоже на засохшую кровь. Уилл выронил тряпицу и побежал, захлопнув за собой дверь и распустив занавес. Он вряд ли сознавал, что делает. Промчался через вестибюль, прыгая через две ступеньки, взлетел по лестнице и остановился только в прихожей. Он стоял, опершись руками о колени, и пытался выровнять дыхание. Потом сообразил, что в любом случае надо скрыть следы своего открытия. Не переступая порога, повернул оба выключателя, дрожащими пальцами заложил засов и выровнял ковер так, что со стороны ничего нельзя было заметить. Постоял еще минуту и перевел взгляд на бабушкины часы. Стрелки показывали, что прошло не больше двадцати минут. Уилл посмотрел на свои ладони, поворачивая их перед глазами и разглядывая, как незнакомые предметы. Потер друг о друга большой и указательный пальцы, поднес их к носу. Пальцы пахли кровью.
ГЛАВА 25 ТУЛУЗА
Элис проснулась со страшной головной болью. Она не сразу вспомнила, где находится. Скосила уголок глаза на пустую бутылку, стоявшую в изголовье. «Так тебе и надо». Она перекатилась на бок и дотянулась до часов. Без четверти одиннадцать. Элис застонала и снова упала на подушку. Не рот, а пепельница в пабе, и на языке кислый привкус виски. «Мне нужен аспирин. И вода». Элис проковыляла в ванную и уставилась на свое отражение в зеркале. Вид не лучше самочувствия. На лбу пестрый калейдоскоп зеленоватых, желтых и лиловых синяков. Вокруг глаз темные круги. Ей смутно припоминалось, что во сне был лес, зимние заиндевевшие ветки. И лабиринт на клочке желтой материи? Вспомнить не удалось. И дорога от Фуа тоже припоминалась смутно. Она не помнила даже, что толкнуло ее свернуть в Тулузу, вместо того чтобы ехать прямиком до Каркасона. У Элис вырвался стон. Фуа, Каркасон, Тулуза… Никуда она не доберется, пока не придет в себя. Она улеглась на кровать и стала ждать, пока подействует обезболивающее. Двадцать минут спустя ее еще пошатывало, но удары молота в голове сменились ноющей болью. Она постояла под обжигающим душем, потом пустила холодную воду. Мысли вернулись к Шелаг и остальной команде. Хотелось бы знать, что они сейчас делают. Обычно выходили на раскоп в восемь и копали дотемна. Они жили и дышали археологией. Элис не могла представить, как они все обходятся без привычной работы. Завернувшись в тонкое, застиранное гостиничное полотенце, Элис просмотрела память телефона. Сообщений не оказалось. Вчера ночью она тосковала, сегодня начала злиться. Не в первый раз за десять лет их дружбы Шелаг погружалась в оскорбленное молчание. И улаживать ссору каждый раз доставалось Элис. Это начинало надоедать. «Пусть-ка на этот раз сама делает первый ход». Элис порылась в косметичке, отыскала старый тюбик с пудрой, которой почти никогда не пользовалась, и замазала самые яркие синяки. Подкрасила ресницы и мазнула по губам помадой. Наконец, выбрала самую удобную юбку, надела новенькую синюю блузку, уложила все остальное и спустилась вниз расплатиться. Необходимо осмотреть Тулузу. Ей все еще было нехорошо, однако свежий воздух и основательная порция кофе должны были помочь делу.Забросив дорожную сумку в багажник, Элис решила для начала отправиться куда глаза глядят. Во взятой напрокат машине кондиционер был не из лучших, так что она намеревалась дождаться вечерней прохлады, а тогда уже тронуться к Каркасону. Проходя в мозаичной тени деревьев, разглядывая выставленные в витринах духи и наряды, она понемногу приходила в себя. Ей уже было стыдно за безумный побег прошлой ночи. Настоящая паранойя, надо же так перетрусить! Утром сама мысль о слежке казалась нелепостью. Пальцы нащупали в кармане листок с номером. «Его-то ты не придумала!» Элис выбросила последнюю мысль из головы. Она твердо решила быть оптимисткой и с надеждой смотреть в будущее. И получить все возможные удовольствия от дня в Тулузе. Она бродила по улицам и переулкам, предоставив ногам самим выбирать дорогу. Красные кирпичные фасады зданий, украшенные резным розоватым камнем, выглядели скромно и элегантно. Таблички с названиями улиц, площадей и фонтанов напоминали о долгой и славной истории города. Имена полководцев, средневековых святых, поэтов XVIII столетия, борцов за свободу в XX веке — гордое прошлое от римских времен до наших дней. Элис зашла в собор Сен-Этьен в основном ради того, чтобы укрыться от солнца. Она с детства, с первых экскурсий с родителями, полюбила спокойную тишину церквей и соборов и с удовольствием провела полчаса, читая надписи на стенах и разглядывая витражи. Почувствовав голод, Элис решила закончить осмотр и пойти перекусить. Но не прошла она и пяти шагов, как услышала детский плач. Обернулась на голос, но никого не увидела. Пошла дальше, ощущая смутное беспокойство. Всхлипывания становились громче. Теперь она слышала и чей-то шепот. Мужской голос прошипел в самое ухо: «Hérétique, hérétique…» Элис развернулась как ужаленная. — Эй… — позвала она. — Allo? Il у a quelqu'un?[232] Никого. Только зловещий шепот снова и снова повторяется в ушах: «Hérétique, hérétique…» Элис зажала уши ладонями. На колоннах, на сером камне стены проступали лица. Искаженные мукой рты, молящие о помощи руки просачивались из тайных закоулков собора. Одна фигура оказалась ближе других. Женщина в длинном зеленом платье и красном плаще то появлялась, то пропадала среди теней. В руках она несла плетеную корзинку. Элис окликнула ее в тот самый миг, когда трое мужчин показались из-за колонны. Женщина вскрикнула, почувствовав схватившие ее руки. Монахи увлекали отбивающуюся жертву прочь. Элис пыталась крикнуть им, но из горла не вырвалось ни звука. Только женщина, казалось, услышала и, обернувшись, взглянула прямо в глаза Элис. Но монахи уже окружили ее. Просторные рукава черными крыльями распростерлись над ее головой. — Не трогайте ее! — выкрикнула Элис, бросившись к ним. Но видение отступало перед ней, удалялось, пока не исчезло совсем. Они словно растворились в каменной кладке стен. Элис ошеломленно потрогала камни. Оглядывалась по сторонам, ища объяснения, но собор уже снова опустел. Она метнулась к выходу, каждую секунду ожидая, что люди в черном погонятся следом, остановят. За дверями все было как прежде. «Все в порядке. Все хорошо». Тяжело дыша, Элис привалилась к стене. Приходя в себя, она начинала сознавать, что ее захлестывает не столько ужас, сколько горе. Ей не нужно было заглядывать в книги по истории, чтобы сказать: здесь произошло что-то ужасное. Здесь пахло страданием, и сквозь асфальт и бетон проступали шрамы. Призраки сами рассказывали свою историю. Она поднесла руки к щекам и поняла, что плачет.
Как только ноги снова согласились ее держать, Элис вернулась в центр города. Она была полна решимости уйти как можно дальше от собора Сен-Этьен. Что с ней происходит, Элис не понимала, но сдаваться не собиралась. Успокаивая себя зрелищем обычной будничной жизни города, она вышла на небольшую пешеходную площадь. В правом углу в окружении розовых цикламенов блестели серебром столики уличного кафе. Элис заняла единственный свободный столик и сразу сделала заказ, приказывая себе расслабиться. Выпив два стакана воды, она откинулась на спинку с твердым намерением радоваться мягкому солнечному теплу, согревающему щеки. Налила стакан розовой воды, добавила несколько кубиков льда, отпила. Не так-то легко ее сломать. Но и не скажешь, что с нервами все в порядке… Весь год у нее не удался. Элис порвала давние отношения со своим парнем. Их близость не один год явно умирала, и сам разрыв принес облегчение, но оттого не стал менее болезненным. Гордость ее была растоптана, и на сердце остались шрамы. Чтобы забыть о нем, она усердно работала и усердно развлекалась — лишь бы ни о чем не думать. Две недели на юге Франции должны были помочь подзарядить батареи. Поставить ее на ровный киль. Элис поморщилась. Ну и отдых получился! Появление официанта прервало сеанс самокопания. Омлет был великолепен: желтый, со слезой, щедро заправленный грибами и петрушкой. Элис сосредоточенно ела. Только вытирая хлебной коркой последние капли масла, она задумалась, как провести остаток дня. К тому времени, когда подали кофе, она уже знала как.
Библиотека Тулузы оказалась большим квадратным зданием. Элис махнула перед носом скучающего дежурного своим пропуском в читальный зал Британской библиотеки, и этого хватило, чтобы ее пропустили. Поблуждав немного по лестницам, она отыскала впечатляющий исторический отдел. Столы стояли четырехугольником посреди помещения, посередине тянулась цепочка настольных ламп. В этот жаркий июльский вечер почти все места оказались свободны. То, что искала Элис — компьютерный терминал, — располагалось на столах вдоль всей дальней стены. Зарегистрировавшись у дежурного, Элис получила пароль допуска и ей выделили один из входов. Дождавшись соединения, она сразу набрала в окошке поиска слово «лабиринт». Зеленое загрузочное окно в нижней части экрана быстро заполнилось. Чем мучиться, напрягая память, Элис надеялась найти копию своего лабиринта среди сотен сайтов. Удивительно, как такая простая мысль не пришла ей в голову раньше. Очень скоро обнаружилась разница между отпечатавшимся у нее в мозгу рисунком с кольца и пещерной стены и традиционными лабиринтами. Классический лабиринт представлял собой концентрические круги, соединенные проходами, ведущими к центру, между тем как Элис была почти уверена, что ее чертеж, найденный на пике де Соларак, состоял из тупиков и мертвых петель и не имел выхода. Она прочитала, что смысл и происхождение символа лабиринта, фигурирующего во множестве мифов и древних культур, считались сложными и многозначными. Первому из найденных лабиринтов насчитывалось более трех тысяч лет. Находили узоры лабиринтов, вырезанных на дереве и выбитых на камне, вычерченных на черепичных табличках и вытканных на полотне. Бывали и ландшафтные лабиринты, созданные на полях или из садовых изгородей. Первые лабиринты в Европе относили к бронзовому веку или к самому началу железного — от 1200 до 500 лет до н. э. Их обнаруживали вблизи древних торговых городов Средиземноморья. Резьбу на камне, датировавшуюся 900–500 годом до н. э., нашли в долине Вал Камоника на севере Италии, в Понтеведра в Галисии и на северо-западе Испании, в Кабо Фистерра Финистерре. Элис внимательно просмотрела иллюстрации. Они оказались ближе всего к тому, что она искала. И все же она покачала головой: похоже, но несовсем. Казалось разумным предположение, что символ проник с Востока или из Египта со странствующими купцами и торговцами и видоизменился, взаимодействуя с элементами новых культур. Естественным представлялось и то, что лабиринт — дохристианский символ — был усвоен христианской церковью. И византийское, и римское христианство беззастенчиво присваивало и включало в себя символику и мифы более древних религий. Несколько сайтов были посвящены самому знаменитому, Кносскому лабиринту на острове Крит, где, по преданию, был заключен мифический Минотавр — получеловек, полубык. Элис закрыла их, догадываясь, что эта линия поиска заведет в тупик. Правда, ее заинтересовало примечание, что чертеж минойского лабиринта был обнаружен при раскопках древнего города Аварис в Египте — датирован 1550 годом до н. э., в храмах Ком-Омбо в Египте и Севилье. Элис постаралась это запомнить. С XII–XIII веков и далее лабиринт регулярно появляется в рукописных средневековых манускриптах, расходившихся по монастырям и королевским дворам Европы. Писцы усложняли и отрабатывали рисунок, превращая его в собственную торговую марку. К началу Средневековья распространился математически точный лабиринт из одиннадцати кругов, с двенадцатью стенами и четырьмя осями. Элис нашла копию лабиринта, выбитого на стене пещерной церкви Св. Панталеона в Арсере, на севере Испании, и еще одного, из собора Лукки в Тоскане. Она щелкала мышью, просматривая на экране лабиринты из европейских церквей, соборов и часовен. Невероятно! Элис не верила своим глазам. Во Франции оказалось больше лабиринтов, чем в Италии, Бельгии, Испании, Англии и Ирландии, вместе взятых. Амьен, Сент-Квентин, Аррас, Сент-Омер, Кан и Байи в северной Франции: Поитер, Орлеан, Сенс и Оксен в центральной; Тулуза и Мирпуа на юго-западе… Список казался бесконечным. Самый известный из мозаичных иолов-лабиринтов располагался в нефе первого — и самого величественного — из готических зданий: собора в Шартре. Элис звонко хлопнула рукой по столу, не замечая укоризненных взглядов. Ну конечно же! Можно ли быть такой глупой? Ведь Шартр — побратим с ее родным Чичестером, на южном побережье Англии, Ну да, и первое ее заграничное путешествие — школьная экскурсия в Шартр. Ей тогда было одиннадцать, и запомнилось, что все время шел дождь, и они стояли в плащах, мокрые и продрогшие, под угрюмыми сводами и колоннадами собора. А вот лабиринта она не помнила. В Чичестерском соборе лабиринта нет, зато у города есть еще один побратим: итальянская Равенна. Элис провела пальцем по списку и нашла то, что искала. На мраморном полу церкви Сан-Витале в Равенне изображен лабиринт. Судя по примечанию, он вчетверо меньше того, что в Шартре, и гораздо древнее — возможно, относится к V веку, — но в остальном точная копия. Элис сохранила отобранные тексты и нажала «печать». Запустив принтер, отбила в окошке поиска: «Франция. Шартр. Собор». Какое-то строение существовало на этом месте уже в VIII веке, однако нынешний собор возведен в XIII. И с тех самых пор с ним связывается множество мистических верований и теорий. Ходили слухи, что в его сложной архитектуре зашифрована великая тайна. Вопреки усилиям католической церкви, легенды и мифы продолжали существовать и живы и доселе. Никому не известно, кто приказал создать лабиринт и с какой целью. Элис сохранила нужный абзац и нажала «выход». Отпечаталась последняя страница, и принтер замолчал. Читатели уже начинали собираться. Унылый дежурный перехватил ее взгляд и постучал по наручным часам. Элис кивнула, собрала листки и встала в очередь к кассе. Очередь продвигалась медленно. В луче закатного солнца, ворвавшегося сквозь высокое окно над крутой лестницей, плясали светлые пылинки. Женщина, стоявшая впереди, набрала полные руки книг на дом и из-за каждой затевала спор с кассиром. Чтобы отвлечься, Элис позволила себе задуматься над вопросом, который донимал ее целый вечер: возможно ли, что среди сотен и тысяч лабиринтов не нашлось ни одного, узор которого точно повторял бы лабиринт пика де Соларак? Возможно, но маловероятно. Мужчина, стоявший за ней, придвинулся слишком близко, как пассажир метро, который норовит читать через плечо соседа чужую газету. Элис обернулась и наградила его суровым взглядом. Мужчина отодвинулся на шаг назад. Лицо его показалось ей смутно знакомым. — Oui, merci,[233] — поблагодарила она, добравшись наконец до окошка и расплатившись за распечатку. Всего около тридцати листов. Выходя из библиотеки, Элис услышала, как колокола Сен-Этьена отбивают семь часов. Она и не заметила, как пролетело время. Пора было ехать, и Элис заторопилась к дальнему берегу реки, где оставила машину. Она так ушла в свои мысли, что не замечала мужчину из очереди, тоже спешившего за ней вдоль набережной на некотором расстоянии. И не видела, как он достал из кармана телефон и позвонил, провожая взглядом ее выезжавшую со стоянки машину.
Часть II СТРАЖИ КНИГ
ГЛАВА 26 БЕЗЬЕР, джюлет 1209
К сумеркам Элэйс выехала на поля городка Курсан. По старой римской дороге через Минервуа к Капестану, между бескрайними полями конопли и изумрудными полями пшеницы можно было скакать без задержки. С первого дня Элэйс ехала, пока не начинало слишком жарко припекать солнце. Тогда они с Тату находили местечко в тени и отдыхали, а потом снова ехали до сумерек, когда вылетала кусачая мошкара и в воздухе слышались крики сов и визг летучих мышей. Первую ночь провели в городке Азиль у подруги Эсклармонды. Дальше на восток народу в полях становилось меньше, а встречные не всегда внушали доверие и сами смотрели на нее с подозрением. В этих местах ходили слухи о жестокости Французских солдат и мародерствующих наемников — рутьеров и один рассказ был страшнее другого. Элэйс заставила Тату перейти на шаг и задумалась, стоит ехать в Курсан или лучше поискать ночлега на месте. На хмурое серое небо быстро наползали облака, и воздух замер, как перед грозой. Да и раскаты грома уже слышались вдали — словно поднятый от зимней спячки медведь ворчал в своей берлоге. Элэйс вовсе не хотелось под открытым небом дожидаться, пока разразится буря. Тату забеспокоилась. Элэйс чувствовала, как вздрагивает ее лошадка, едва заслышав у дороги зайца или лису. Впереди виднелась небольшая рощица — дубы и ясень. Лесок был слишком мал, чтобы дать приют крупному зверю вроде вепря или рыси. Зато раскидистые деревья обеспечили бы надежное укрытие путнику, спрятавшемуся под их широкими ветвями. Через рощу тянулась вытоптанная тысячами ног тропинка. Похоже, все окрестные селяне сворачивали в город напрямик через лес. Тату снова вздрогнула, когда темнеющее небо озарилось вспышкой молнии, и тогда Элэйс решилась. Надо по крайней мере переждать грозу. Ободряюще нашептывая в ухо испуганной кобылке, Элэйс направила ее под зеленые своды рощи.Охотники давно уже упустили свою добычу, и только приближение грозы помешало им вернуться прямиком в лагерь. За несколько недель похода бледные французские солдаты дочерна обгорели под яростным южным солнцем. Их походные доспехи и накидки со значками сюзерена были спрятаны от дождя в густых зарослях. Но они все еще не теряли надежды хоть чем-то загладить неудачную вылазку и выслужиться перед начальством. Шум… Хруст сухой ветки, встревоженное фырканье лошади, ударившей стальной подковой о подвернувшийся камень. Один из мужчин, скаля обломки черных гнилых зубов, пробрался вперед и выглянул. Невдалеке он разглядел фигуру всадника на малорослой светло-рыжей арабской лошадке, опасливо ступающей по лесной тропе, и радостно ощерился. Неплохая добыча. От всадника немного проку, а вот за лошадку молено взять хорошую цену! Он швырнул камушком в сторону приятеля, затаившегося по другую сторону тропы. — Regarde![234] — Он мотнул головой, указывая на Элэйс. — Есть на что посмотреть, — отозвался тот. — Une femme. Et seule.[235] — Уверен, что одна? — Других не слышно. Охотники подхватили концы веревки, уложенной под листьями поперек троны, и затаили дыхание.
Отвага Элэйс быстро растаяла под сводами леса. Земля была еще твердой, но верхний слой почвы пропитался влагой. Под ногами Тату шуршала палая листва. Элэйс старалась найти утешение в ободряющем щебете птиц над головой, но было страшно. Тишина вокруг что-то таила, и это что-то не было мирным. «Все ты выдумываешь со страху!» И Тату тоже чует… Внезапно что-то взметнулось с земли со свистом летящей стрелы. Змея? Фазан? Тату вздыбилась, колотя воздух передними копытами, и в ужасе заржала. Элис не успела ничего предпринять. Капюшон слетел с головы, а руки упустили поводья, когда ее выбросило из седла. Она больно ударилась плечом, задыхаясь, перекатилась в сторону и попыталась встать. Надо было поймать кобылу, пока та не умчалась. — Тату, doçament! — выкрикнула Элэйс, поднимаясь на ноги. — Тату! Она, пошатываясь, шагнула вперед и замерла. На тропе, перегородив ей дорогу, стоял мужчина. Он улыбался, показывая гнилые зубы, но в руке у него был нож с тусклым лезвием, покрытым у острия бурой ржавчиной. Движение справа. Элэйс стрельнула глазами в ту сторону. Второй мужчина с лицом, изуродованным шрамом, держал под уздцы Тату и небрежно помахивал дубинкой. — Не надо, — услышала она собственный голос. — Отпустите ее. Несмотря на боль в плече, рука потянулась к рукояти меча. «Отдам им все, только пусть отпустят». Мужчина шагнул к ней. Элэйс, вычертив в воздухе дугу, выдернула меч из ножен. Не сводя глаз с его лица, нащупала левой рукой кошелек и бросила на тропу горсть монет. — Возьмите. У меня нет при себе ничего ценного. Он мельком глянул на рассыпанное по земле серебро и презрительно сплюнул. Утер рукой рот и сделал еще один шаг. Элэйс подняла меч: — Предупреждаю, не подходи! — выкрикнула она, чертя в воздухе между ними восьмерку. — Ligote-la![236] — приказал он своему товарищу. Элис похолодела. Так это французские солдаты, а не разбойники. В голове разом промелькнули все слышанные в пути рассказы. Миг спустя она собрала волю в кулак и вскинула меч. — Ближе не подходи! — Голос звенел от страха. — Убью, если… Элэйс развернулась, встречая второго противника, подобравшегося к ней сзади, и, вскрикнув, выбила у него из рук палку. Мужчина мгновенно выхватил из-за пояса нож и, ворча, пошел на нее. Ухватив рукоять обеими руками, Элэйс направила острие ему в плечо и навалилась, как медведь на рогатину. Из проколотого плеча брызнула кровь. Она уже отводила руку для нового удара, когда в голове вспыхнули лиловые и белые звезды. Она повалилась лицом в землю, и тут же от боли на глаза навернулись слезы. Нанесший удар француз вздернул ее на ноги за волосы. Она почувствовала у горла холодную сталь. — Putain,[237] — прошипел раненый, наотмашь ударив ее по лицу окровавленной рукой. — Laisse-tomber![238] Брось! — приказал второй. Ничего не оставалось, как разжать державшие рукоять пальцы. Француз ногой отбросил меч в сторону, вытащил из-за пояса грубый полотняный клобук и с силой натянул ей на лицо. Элэйс вырывалась, но пыльная ткань мешала дышать. Ее сразу стал душить кашель. Все-таки она продолжала драться, пока удар кулаком в живот не отбросил ее, скрюченную вдвое, на тропу. Сил на сопротивление уже не осталось, и мужчины без труда заломили ей руки за спину и связали запястья. — Reste-la.[239] Они отошли, оставив ее на земле. Элэйс слышала, как они рылись в ее припасах, срывая кожаные завязки и разбрасывая вещи по земле. И все время переговаривались, а может быть, перебранивались. Она с трудом понимала их грубую речь. «Почему не убили сразу?» В голове непрошено зашевелился очень неприятный ответ. «Решили сперва позабавиться». Элэйс отчаянно забилась, пытаясь ослабить узлы и сознавая при этом, что, даже высвободив руки, не сумеет далеко уйти. Эти легко ее выследят. Теперь они хохотали. Пили вино. Никуда не спешили. Элэйс не сразу поняла, откуда доносится рокот. Спустя минуту сообразила. Кони. Железные подковы стучат по дороге. Она приникла ухом к земле. Пять, может, шесть лошадей направляются к роще. Вдали снова заворчал гром. Гроза приближалась. Теперь Элэйс знала, что делать. Еще можно спастись, если отбежать достаточно далеко. Двигаясь медленно, чтобы не нашуметь, она отползла к краю тропинки. Поднялась на колени, повертела головой и умудрилась сдвинуть с лица мешок. Смотрят? Никто не крикнул. Еще постаравшись, она совсем стряхнула с головы клобук, жадно глотнула чистый воздух и задумалась. Сейчас французам ее не видно, хотя, стоит им обернуться и заметить ее бегство, они мгновенно ее отыщут. Элис снова прижалась ухом к земле. Всадники ехали от Курсана. Охотники или дозорные? Раскат грома сотряс лес. Птицы с криками сорвались с ветвей и снова, хлопая крыльями, вернулись в свои гнезда. Пронзительно заржала Тату. Если бы только шум грозы не дал им услышать всадников, пока те не подъедут совсем близко… Элис забилась в кусты, поползла, извиваясь под колючими ветками, стараясь не шуршать листвой. — Эй! Элэйс замерла. Заметили!.. Она подавила крик, когда двое мужчин пробежали мимо нее к тому месту, где оставили пленницу. При новом ударе грома оба вскинули к небу испуганные лица. «Они не привыкли к ярости наших южных гроз». Даже отсюда было видно, как они боятся. Воспользовавшись их замешательством, Элэйс проползла еще немного, вскочила и бросилась бегом. Не успела. Тот, что со шрамом, перехватил ее и сбил ударом в висок. «Hérétique», — прошипел он, вместе с ней повалившись наземь. Элэйс пыталась вывернуться из-под него, но мужчина был слишком тяжел, а ее юбка запуталась в шипастых ветках кустов. Она успела почуять запах крови на его проколотом плече, и тут же он вмял ее лицом в сучья и сухую листву. — Я сказал лежать смирно, putain! Тяжело дыша, он расстегнул свой пояс, отбросил его в сторону. «Только бы они не услышали всадников». Она снова попыталась стряхнуть его тяжелое тело. Не удалось. Тогда Элэйс громко замычала: все, что угодно, лишь бы заглушить стук копыт. Новый удар рассек ей губу. Она ощутила во рту вкус крови. — Putain! И в тот же миг другой голос: — Ara! Ara! Пора. Элэйс услышала звон тетивы и свист первой стрелы, разорвавшей воздух, а потом целый дождь стрел обрушился из теней леса, сбивая кору на деревьях. — Avança! Ara, Avança![240] Француз еще успел вскочить, и стрела ударила его прямо в грудь, развернув на месте. Он словно завис в воздухе на мгновение, потом покачнулся, взгляд застыл, как глаза статуи. Одна-единственная капля крови выступила в углу губ и скатилась на подбородок. Колени у него подогнулись, на миг он замер, словно в молитве, а потом очень медленно, как подрубленное дровосеком дерево, повалился вперед. Элиас едва успела, опомнившись, вывернуться из-под мертвого тела. — Aval![241] Вперед! Всадники уже гнали второго француза. Тот метнулся за деревья, но стрелы догнали его. Одна ударила в плечо, заставив споткнуться. Вторая воткнулась сзади в бедро. Третья перебила позвоночник между лопатками. Тело упало, один раз дрогнуло и осталось лежать. Тот же голос произнес: — Хватит стрелять. Только теперь стрелки показались на глаза. — Не стрелять! Элэйс встала им навстречу. «Друзья или их тоже надо бояться?» У предводителя под дорогим плащом виднелся ярко-синий охотничий кафтан. Тяжелые сапоги, пояс, колчан были сшиты из светлой кожи местными мастерами. Он производил впечатление довольно состоятельного и влиятельного человека, но главное — человека Миди. Руки у Элэйс были связаны за спиной, и она сознавала, что производит не лучшее впечатление. Губа распухла и кровоточит, одежда в грязи. — Сеньер, прими мою благодарность за услугу, — заговорила она, силясь придать голосу уверенность. — Подними забрало и покажи себя, чтобы я знала в лицо своего спасителя. — И это вся твоя благодарность, госпожа? — отозвался он, исполнив ее просьбу, но Элэйс с облегчением увидела, что он улыбается. Спешившись, он вытащил из-за пояса нож. Элэйс попятилась. — Только веревки перережу, — весело пояснил спаситель. Элэйс вспыхнула и подставила ему запястья. — Конечно… Mercé. Он слегка поклонился: — Амьель де Курсан. Этот лес принадлежит моему отцу. Элэйс с облегчением перевела дыхание. — Прости мою резкость, но я должна была убедиться, что ты не… — Твоя осторожность в таких обстоятельствах благоразумна и понятна. А ты, госпожа?.. — Элэйс из Каркассоны, дочь кастеляна Пеллетье, наместника виконта Тренкавеля, и жена Гильома дю Маса. — Я польщен знакомством, госпожа Элэйс. Он склонился к ее руке. — Ты сильно пострадала? — Всего несколько царапин и ссадин, да ушибла плечо, когда упала с лошади. — Где твои люди? Элэйс замялась. — Я еду одна. Он удивленно взглянул на нее. — Странное ты выбрала время для путешествий без защиты, госпожа. Равнина кишит французскими солдатами. — Я не собиралась задерживаться в пути до ночи. Искала укрытия от грозы. Она подняла глаза, только теперь удивившись, что до сих пор на землю не упало ни одной капли. — Это только гнев небес, — объяснил де Курсан, поняв ее взгляд. — Сухая гроза. Пока Элэйс успокаивала Тату, ее спаситель приказал своим людям снять с убитых одежду и оружие. Их доспехи и значки нашлись в глубине леса рядом с привязанными лошадьми. Де Курсан кончиком меча приподнял уголок ткани. Под пятнами грязи на зеленом поле блеснуло серебро. — Из Шартра, — презрительно бросил молодой человек. — Самые подлые. Настоящие шакалы, все до одного. Нам сообщали… Он внезапно замолчал. Элэйс взглянула на него. — О чем сообщали? — Не стоит об этом, — поспешно ответил он. — Не вернуться ли нам в город? Один за другим они выехали на опушку рощи и поскакали через поля. — Ты не случайно оказалась в этих местах, госпожа Элэйс? — Я искала отца: он теперь в Монпелье с виконтом Тренкавелем. Мне нужно сообщить ему важное известие, которое не может ждать до его возвращения в Каркассону. Лицо де Курсана помрачнело. — Что такое? Ты что-то слышал? — Ты найдешь у нас ночлег, госпожа Элэйс. Прежде всего надо заняться твоими ранами, а потом мой отец расскажет тебе, что за вести мы получили. На рассвете я сам провожу тебя в Безьер. Элэйс повернулась к нему. — В Безьер, мессире? — Если слухи не лгут, ты найдешь своего отца и виконта Тренкавеля в Безьере.
ГЛАВА 27
На взмыленной лошади виконт Тренкавель скакал впереди своих людей к Безьеру, а вслед им перекатывался гром. Пена белела на удилах и стекала с губ коней. Бока были окровавлены кнутами и шпорами, беспощадно гнавшими их сквозь ночь. Серебряная луна, прорвавшись сквозь черные лохмотья туч над горизонтом, осветила белую отметину на носу жеребца. Пеллетье не отставал от виконта. Губы его были крепко сжаты. В Монпелье все обернулось неудачно. Он и не рассчитывал, что дядя окажет племяннику теплый прием — обиды могли оказаться сильнее уз крови и вассальных обязательств, — но все же надеялся, что граф заступится за младшего родича. Однако граф Тулузский отказался даже принять его. Это было намеренное и недвусмысленное оскорбление. Тренкавеля оставили дожидаться за пределами лагеря французов, как слугу у двери, пока сегодня наконец не пришло сообщение, что ему будет дарована аудиенция. Виконт должен был явиться на нее в сопровождении не более трех человек и взял с собой Пеллетье и двух шевалье. Их проводили к шатру аббата Сито, где всем им было приказано разоружиться. Они повиновались. В шатре вместо аббата их встретили два папских легата. Раймон Роже не успел открыть рот, как легаты обрушились на него с обвинениями: он допускает невозбранное распространение ереси в своих владениях! В его городах иудеи назначаются на самые высокие должности! Он словно не замечает пагубного и изменнического поведения катарских епископов! Закончив обвинительную речь, легаты отослали виконта Тренкавеля, словно он был каким-нибудь мелкопоместным дворянином, а не владетелем самой могущественной династии Миди. Даже сейчас кровь у Пеллетье вскипала при одном воспоминании об этом. Шпионы аббата хорошо осведомили легатов. Каждое обвинение, сколь бы злобным и злонамеренным оно ни было, подтверждалось фактами и показаниями свидетелей. Это обстоятельство, даже более, чем оказанный им оскорбительный прием, окончательно убедило Пеллетье, что Воинство нацелено именно против них. Воинство нуждалось в сражениях, а для сражений нужен враг. После капитуляции графа Тулузского другого кандидата на эту роль не оставалось. Они немедленно покинули лагерь крестоносцев под Монпелье. Пеллетье рассчитал, что, если удастся выдержать тот же аллюр, к рассвету будут в Безьере. Виконт Тренкавель хотел лично предупредить жителей Безьера, что французы не более чем в пятнадцати лигах от города и намерены драться. Римская дорога, связавшая Монпелье и Безьер, была свободна, и не было средств задержать идущее по ней войско. Предстояло просить отцов города приготовиться к осаде, и притом попытаться раздобыть подкрепление для каркассонского гарнизона. Если Воинство надолго застрянет у Безьера, Каркассона успеет подготовиться к встрече с ним. Виконт собирался, кроме того, пригласить тех, кому более всего угрожали французы, — евреев, нескольких сарацинских купцов из Испании и Bons Homes — укрыться в Каркассоне. Он не просто исполнял долг сеньера. Управление и власть в Безьере большей частью сосредоточилось в руках еврейских дипломатов и купцов. Даже под угрозой войны виконт не мог позволить себе лишиться такого множества ценных и искусных подданных. Решение Тренкавеля облегчило задачу Пеллетье. Он нащупал сквозь кожу кошелька свернутое письмо Арифа. Оказавшись в Безьере, будет не так уж трудно вырвать несколько свободных часов, чтобы отыскать Симеона.Над рекой Орб поднималось бледное солнце, когда измученный маленький отряд проехал по каменному горбатому мосту. Над ними, под защитой неприступных с виду древних стен, гордо высился Безьер. Шпили соборов и больших церквей, освященных во имя святой Магдалины, святого Иуды и святой Марии, блестели в рассветных лучах. Как бы ни устал Раймон Роже, но в прямой осанке читалась врожденная властность. Кони гордо выступали по мостовым крутых улочек. Звон подков будил жителей в тихих пригородах под крепостной стеной. Пеллетье, спешившись, кликнул стражу, приказывая открыть ворота и впустить сеньера. Толпа, собравшаяся при известии, что в город въезжает виконт, замедляла их продвижение, но в конце концов они добрались до резиденции сюзеренов. Раймон Роже тепло приветствовал сюзерена: старого друга и союзника, одаренного дипломата и правителя, верного династии Тренкавелей. Пеллетье терпеливо ждал, пока эти двое приветствовали друг друга по обычаю Миди и обменивались знаками взаимного почтения. С несвойственной ему спешкой покончив с формальностями, Тренкавель немедля перешел к делу, сюзерен слушал его все более озабоченно и, едва виконт кончил говорить, послал гонцов собрать на совет городских консулов. За время их беседы в зале накрыли стол: хлеб, мясо, сыр, фрукты и вино. — Мессире, — предложил сюзерен, — пока не собрался совет, окажи мне честь, приняв мое гостеприимство. Пеллетье не упустил благоприятной возможности. Выйдя вперед, он склонился к уху Тренкавеля. — Мессире, ты сможешь пока обойтись без меня? Я сам займусь людьми, присмотрю, чтоб у них было все необходимое, чтобы языки не болтали и на душе было спокойно. Тренкавель в изумлении воззрился на него: — Именно сейчас, Бертран? — С твоего позволения, мессире. — Я не сомневаюсь, что о наших людях позаботятся, — возразил виконт, улыбаясь хозяину. — Ты мог бы поесть и отдохнуть. — Смиренно извиняюсь, однако прошу меня отпустить. Раймон Роже пристально взглянул в глаза Пеллетье, ища объяснения — и не нашел его. — Очень хорошо, — уступил он, все еще недоумевая, — на час ты свободен.
На улицах было шумно, причем суматоха увеличивалась по мере того, как расходились слухи. На главной площади перед собором собиралась толпа. Пеллетье, не раз бывавший с виконтом в Безьере, хорошо знал город, но сегодня ему приходилось двигаться против течения, и его бы смяли в сутолоке, если бы не его видная, крупная фигура. Крепко сжимая в кулаке письмо Арифа, он добрался до еврейского квартала и сразу принялся расспрашивать прохожих о Симеоне. Кто-то потянул его за рукав. Обернувшись, Пеллетье увидел перед собой хорошенькую темноглазую малышку. — Я знаю, где он живет, — сказала девочка. — Идем со мной. Они миновали торговую улицу, где вели свои дела ростовщики, и прошли сквозь многолюдные, как крольчатник, и неотличимые на его взгляд переулки, где тесно стояли жилые дома и лавки. У одной из неприметных дверей девочка остановилась. Пошарив глазами, Пеллетье нашел то, что искал: торговый знак переплетчика над инициалами имени Симеона. Тот самый дом. Поблагодарив девочку, он сунул в маленькую ручку монету и отослал ребенка. Затем поднял тяжелое бронзовое кольцо и трижды постучал в дверь. Много лет прошло, больше пятнадцати. Осталась ли между ними та же теплая непринужденность? Дверь приоткрылась. В щелке показалось женское лицо, подозрительно изучавшее пришельца. Черные глаза смотрели враждебно. Зеленая вуаль скрывала волосы и нижнюю часть лица, а на ногах были обычные для еврейских женщин широкие светлые шаровары, собранные у щиколоток. Длинная желтая кофта доходила ей до колен. — Я хочу видеть Симеона, — сказал он. Женщина покачала головой и начала закрывать дверь, но Пеллетье сунул в щель ногу. — Передай ему, — сказал он, снимая кольцо с большого пальца и вкладывая ей в руку. — Скажи, что пришел Бертран Пеллетье. Тихонько ахнув, женщина отступила в сторону, пропустив его в дом. Она провела его за тяжелый алый занавес, украшенный нашитыми сверху донизу золотыми монетами. — Attendez![242] — женщина знаком попросила его подождать здесь и скрылась в переходе, позвякивая браслетами на руках и лодыжках. Снаружи дом казался высоким и узким, но впечатление оказалось обманчивым. И направо и налево от прохода помещались комнаты. Пеллетье с удовольствием оглядывался по сторонам. На полу вместо деревянных половиц лежали белые и голубые изразцы, а стены украшали яркие ткани. Обстановка напоминала ему изящные и необычные дома Иерусалима. Прошло много лет, но цвета, запахи и ткани этой чужой страны все еще взывали к нему. — Бертран Пеллетье, клянусь всем святым, что еще осталось в нашем старом усталом мире! Обернувшись на голос, Пеллетье увидел невысокого человека в просторной темно-красной накидке, приветственно вскинувшего руки ему навстречу. Блестящие черные глаза с возрастом не стали тусклее. Миг спустя Пеллетье, бывший на голову выше друга, едва не задохнулся в крепких дружеских объятиях. — Бертран, Бертран, — радостно повторял Симеон, и его низкий бас раскатывался по узкому коридору. — Где тебя носило так долго, а? — Симеон, старый дружище, — рассмеялся тот в ответ, переводя дыхание и хлопая друга по спине. — Как же утешительно видеть тебя, и притом в столь добром здравии! Погляди на себя… Он потянул Симеона за бороду — предмет его тайной гордости. — Малость седины здесь и там, а в остальном так же бодр, как всегда! Жизнь, как видно, тебя баловала? Симеон пожал плечами. — Могло быть лучше, а могло и хуже, — отозвался он, делая шаг назад. — Ну а ты, Бертран? На лице побольше морщин, зато все тот же горящий взгляд и широкие плечи. Маленький Симеон ладонью похлопал его по груди. — И силен как бык! Обняв Симеона за плечи, Пеллетье прошел с ним в комнатку, выходившую в маленький внутренний двор за домом. Здесь стояло два мягких дивана со множеством шелковых подушек — красных, голубых и бордовых. У стен на столиках черного дерева расставлены были изящные вазы и большие блюда со сладким миндальным печеньем. — Ну-ка, снимай свои сапоги. Эсфирь принесет нам чай. Симеон чуть отстранился и с ног до головы оглядел Пеллетье. — Бертран Пеллетье, — повторял он, покачивая головой. — Не знаю, верить ли своим старым глазам? Столько лет спустя — ты ли это, или твой дух? Или ожившие воспоминания старика? Пеллетье улыбнулся: — Жаль только, что мы встретились с тобой не в лучшие времена. Симеон кивнул: — Что верно, то верно. Проходи, Бертран, проходи. Сядь. — Я прибыл с виконтом Тренкавелем, Симеон, чтобы предупредить Безьер о приближающемся с севера войске. Слышишь, звон колоколов зовет городских консулов на совет? — Трудно не услышать ваших христианских колоколов, — поднял бровь Симеон, — хотя не всегда их звон нам на пользу. — Этот касается вас, иудеев, столько же — если не более, — сколь и так называемых еретиков. И ты это знаешь. — Так оно всегда бывает, — спокойно согласился Симеон. — Так ли велико Воинство, как о нем рассказывают? — Двадцать тысяч, а может быть, и больше. Открытого сражения нам не выдержать, Симеон, их слишком много, Если Безьер сумеет хоть на какое-то время задержать их, мы успеем собрать подкрепление с запада и подготовить Каркассону к осаде. Там будет предоставлено убежище всем, кто пожелает. — Я был счастлив здесь. Этот город хорошо обходился со мной — с нами. — Безьер теперь небезопасен. Ни для тебя, ни для книги. — Знаю. И все же… — он вздохнул, — жаль будет уезжать. — Даст бог, это не надолго. — Пеллетье замялся. Его сбивало с толку то, как невозмутимо принимал его друг приближающуюся опасность. — Эта война несправедлива, Симеон, ее глашатаи коварны и лживы. Как ты можешь принимать ее с такой легкостью? Симеон развел руками. — Принимать? А что мне остается, Бертран? Что я, по-твоему, должен сказать? Один ваш святой — Франциск — молил Бога дать ему силы принять то, чего он не может изменить. Что будет, то будет, хотим мы этого или нет. Так что, да, я принимаю. Что не означает, будто мне это нравится и я не хотел бы другого. Пеллетье покачал головой. Симеон продолжал: — Гнев ни к чему не ведет. Надо верить. Верить в великую цель, непостижимую для нашего разума, нелегко. Все великие религии — Святое Писание, Коран, Тора — по-своему объясняют смысл наших маленьких жизней. Он помолчал, и глаза его блеснули озорством. — Bons Homes, скажем, даже не пытаются найти разумное объяснение деяниям злых людей. Их вера учит, что земля, на которой мы живем, — не творение благого Господа, а испорченное и несовершенное создание. Они и не ждут, чтобы добро и любовь здесь восторжествовали над противником, зная, что на нашем кратком веку этого не случится. — Он усмехнулся. — Так не странно ли, что ты, Бертран, удивляешься, встретившись со злом лицом к лицу? Пеллетье вскинул голову, словно услышав разоблачение своей тайны. Неужели Симеон знает? Откуда? Симеон перехватил его взгляд, но не стал развивать тему. — Что до моей веры, она учит меня, что мир был создан Богом и совершенен в каждой малости. И только люди, отвращаясь от слова пророка, нарушают равновесие между собой и Господом, за что неизменно, как ночь за днем, следует воздаяние. Пеллетье открыл рот, хотел что-то сказать, но передумал. — Эта война нас не касается, Бертран, что бы ни велел тебе долг перед Тренкавелем. У нас с тобой более важная цель. Обет, связывающий нас, должен теперь направить наши шаги и определить выбор. Приподнявшись, он хлопнул Пеллетье по плечу. — Так что, друг мой, сдержи свой гнев и держи меч наготове для тех битв, в которых можешь одержать победу. — Как ты узнал? — спросил Пеллетье. — Слышал что-нибудь? Симеон хихикнул: — Насчет того, что ты следуешь вашей новой вере? Нет, ничего не слышал. Об этом мы поговорим в другой раз, Бертран. Я не прочь потолковать с тобой о богословии, но сейчас нас ждут более насущные дела. Появление служанки, которая внесла на подносе горячий мятный чай и сласти, прервало их беседу. Женщина поставила поднос на столик перед ними, а сама присела на скамеечку в углу комнаты. — Не тревожься, — успокоил Симеон, заметив, что присутствие служанки мешает Пеллетье говорить. — Эсфирь приехала со мной из Шартра. Она говорит на иврите да по-французски знает всего несколько слов. А вашего языка вовсе не понимает. — Вот и хорошо. Пеллетье достал письмо от Арифа и подал его Симеону. — Я получил такое же месяц назад, в шабат, — заговорил тот, пробежав глазами по строчкам. — Поэтому я тебя ждал, хотя, признаться, надеялся увидеть раньше. Пеллетье сложил и убрал письмо. — Так книги все еще у тебя, Симеон? Здесь, в доме? Надо забрать их и… Громкие удары в дверь нарушили тишину маленькой комнаты. Эсфирь немедленно поднялась, ее удлиненные глаза тревожно вспыхнули. Симеон жестом велел ей открыть. — Книги у тебя? — настойчиво повторил Пеллетье. Что-то в лице Симеона заставило его усомниться. — Не пропали? — Не пропали, друг мой, — начал тот, но его прервало возвращение Эсфирь. — Хозяин, там дама хочет войти. Слова иврита скатывались с ее языка слишком быстро для отвыкшего слуха Пеллетье. — Что за дама? Эсфирь покачала головой. — Не знаю, хозяин. Говорит, что хочет видеть твоего гостя, кастеляна Пеллетье. Все обернулись на звук шагов из коридора. — Ты оставила ее одну? — недовольно спросил Симеон, торопливо вставая. Поднялся и Пеллетье и тут же заморгал, не веря собственным глазам. Даже мысли о книгах улетучились у него из головы при виде Элэйс, остановившейся в дверях. Лицо дочери пылало, а в быстрых карих глазах смешались смущение и решимость. — Простите меня за вторжение, — заговорила она, переводя взгляд с отца на Симеона и обратно, — но я боялась, что служанка меня не впустит. Пеллетье в два шага пересек комнату и сжал дочь в объятиях. — Не сердись, что я тебя не послушалась, — продолжала та уже спокойнее, — но мне пришлось прийти… — Кто эта очаровательная девица?.. — напомнил о себе Симеон. Пеллетье взял дочь за руку и вывел на середину комнаты. — Ну конечно… Я забылся. Симеон, позволь представить тебе мою дочь, Элэйс. Правда, каким образом и почему она оказалась в Безьере, я сказать не сумею. Элэйс потупилась. — А это мой самый дорогой, самый старый друг, Симеон из Шартра, а прежде — из Святого Града Иерусалима. Лицо Симеона скрылось за морщинками улыбки. — Дочь Бертрана, Элэйс, — повторил он и взял ее руку. — Как я рад видеть тебя!
ГЛАВА 28
— Вы не расскажете мне историю своей дружбы? — попросила Элэйс, едва усевшись рядом с отцом на диван, и обернулась к Симеону. — Я уже просила его однажды, но тогда он был не в настроении довериться мне. Симеон оказался старше, чем ей представлялось. Плечи у него сутулились, лицо покрывала паутина морщин — карта жизни, знавшей и горе, и потери, и большое счастье. Но глаза под густыми кустистыми бровями светились ярким умом. Курчавые волосы почти поседели, зато длинная, надушенная и умащенная маслом борода чернела как вороново крыло. Теперь Элэйс понимала, почему отец мог принять найденного в реке человека за своего друга. Она скромно опустила глаза на его руки и с удовольствием убедилась, что не ошибалась: на большом пальце левой руки Симеон носил кольцо — такое же, как у отца. — Ну, Бертран, — говорил между тем Симеон, — она заслужила интересную историю. Ей далековато пришлось ехать, чтобы ее услышать. Элэйс почувствовала, как замер сидевший рядом с ней отец, и оглянулась на него. Он сидел, поджав губы так, что они слились в прямую линию. «Только теперь понял, что я наделала, и рассердился». — Надеюсь, ты не уехала из Каркассоны без эскорта? — проговорил он. — У тебя хватило ума не ехать в одиночку? Конечно, ты не стала бы так рисковать? — Я… — Отвечай на вопрос! — Мне показалось благоразумнее… — Благоразумнее! — взорвался отец. — Из всех дурацких… Симеон хихикнул. — Все тот же вспыльчивый Бертран. Элэйс скрыла улыбку и подсунула ладонь под локоть отцу. — Paire, — терпеливо сказала она, — ты же видишь, со мной ничего не случилось. Он кинул взгляд на ее исцарапанные руки. Элэйс поспешно спрятала их под плащ и поправилась: — Ничего серьезного. Это пустяки. Просто царапины. — Ты хоть оружие взяла? Она кивнула: — Ну конечно! — Так где же?.. — Мне показалось неразумным расхаживать с оружием по улицам Безьера, — невинно взглянула на него Элэйс. — Еще бы, — проворчал Пеллетье. — Так с тобой ничего не случилось? Ты не пострадала? Остро ощущая ушибленное плечо, Элэйс взглянула ему в глаза: — Ничуть. Отец продолжал хмуриться, но глядел немного мягче. — Как ты узнала, где нас искать? — Мне подсказал Амьель де Курсан, сын сеньера, который великодушно дал мне эскорт. Симеон закивал: — В этих местах он заслужил общую любовь. — Тебе посчастливилось, — бросил Пеллетье, не в силах оставить эту тему, — несмотря на большую, большую дурость. Тебя могли убить. Я до сих пор не могу поверить, что ты… — Ты собирался рассказать ей, как мы познакомились, — непринужденно напомнил Симеон. — Колокола звонят давно! Совет, должно быть, уже начался. У нас мало времени. Еще минуту Пеллетье сохранял суровый вид, потом плечи у него опустились, и на лице мелькнула улыбка: — Так уж и быть. Раз вы оба просите… Элэйс переглянулась с Симеоном. — У него такое же кольцо, как у тебя, paire. Пеллетье улыбнулся: — Ариф встретился с Симеоном в Святой земле, и со мной гам же, но немного раньше, и наши пути не пересекались. Когда армии Саладина стали серьезной угрозой, Ариф отослал Симеона на родину, в Шартр. Несколько месяцев спустя уехал и я, забрав с собой три пергамента. Дорога заняла больше года, однако, когда я наконец добрался в Шартр, меня, как и обещал Ариф, ждал там Симеон. — Он усмехнулся, как видно припомнив что-то. — Как я возненавидел этот промозглый сырой город после жаркого сияния Иерусалима! Каким унылым и запустелым казался он мне! Но с Симеоном мы с самого начала поняли друг друга. Ему пришлось переплести пергаменты в три отдельных тома. Пока он трудился над книгами, я успел проникнуться восхищением его учёностью, мудростью и мягким характером. — Право, Бертран! — скромно вставил Симеон, однако Элэйс показалось, что он с удовольствием принимает похвалы. — Спроси у самого Симеона, — продолжал Пеллетье, — что он нашел в невежественном, неграмотном солдате. Об этом уж не мне судить. — Ты, друг мой, хотел учиться и умел слушать, — мягко заметил Симеон, — в отличие от большинства твоих единоверцев. — Я заранее знал, что книги следует разделить, — вернулся к рассказу Пеллетье. — Едва Симеон успел закончить работу, пришла весть от Арифа. Я должен был вернуться на родину, где меня ждало место кастеляна при молодом виконте Тренкавеле. Теперь, оглядываясь на прошедшие годы, я сам не понимаю, почему ни разу не спросил, что сталось с двумя другими книгами. Одна, как я полагал, осталась у Симеона, хотя мне никогда не приходило в голову спросить об этом у него самого. Куда делась вторая? Я не спрашивал. Я был так нелюбопытен, что теперь стыдно признаться. Как бы то ни было, я просто забрал доверенную мне книгу и уехал на юг. — Нечего стыдиться, — мягко заметил Симеон. — Ты исполнил, что от тебя требовалось, с верой и твердостью. — Пока не явилась ты и не выбила все мысли у меня из головы, мы как раз говорили о книгах, — обратился Пеллетье к дочери. Симеон нерешительно кашлянул: — Да, книги… У меня только одна. — Как? — вскинулся Пеллетье. — Из письма Арифа я понял, что у тебя хранятся обе? Или ты, по крайней мере, знаешь, где искать вторую? Симеон качал головой. — Знал когда-то, но тому уже много лет. «Книга Чисел» здесь. Что до остальных, признаться, я надеялся, что ты меня просветишь. — Если не у тебя, то у кого же? — нетерпеливо спросил Пеллетье. — Разве ты не обе увез из Шартра? — Обе. — Но тогда… Элэйс тронула отца за локоть: — Дай Симеону объяснить. Пеллетье готов был взорваться, но быстро овладел собой. — Ладно, — ворчливо согласился он, — рассказывай. — Как она похожа на тебя, друг мой, — хмыкнул Симеон. — Итак, вскоре после твоего отъезда из Шартра я получил сообщение navigataire. Новый страж должен явиться за второй книгой — «Книгой Бальзамов». В письме не говорилось о том, кто будет этот человек. Я стал ждать. Проходили годы, я старел, а за книгой никто не являлся. Потом, в лето Господа вашего 1194, незадолго до ужасного пожара, уничтожившего собор и большую часть Шартра, прибыл человек: христианин, рыцарь по имени Филипп де Сен-Map. Имя оказалось мне знакомо. Он был в Святой земле в одно время со мной, хотя мы и не встречались. — Симеон сдвинул брови. — Почему он медлил так долго? Вот о чем я спрашивал себя, мой друг. Сен-Map передал мне мерель — все как должно. И носил кольцо, какое и мы с тобой, мой друг, имеем честь носить. Не было причин усомниться в нем… — Симеон пожал плечами. — И все же… мне почудилось в нем что-то фальшивое. У него был лисий взгляд. Я не доверял этому человеку, не верил, что Ариф мог избрать такого. Не было в нем чести. И тогда я, несмотря на внушающие доверия знаки, решился испытать его. Неожиданно для нее самой у Элэйс вырвалось: — Как же так? — Элэйс! — одернул ее отец. — Ничего, Бертран. Я изобразил неведение. Ломал руки, смиренно извинялся… Должно быть, меня принимают за другого? Он обнажил меч. — Чем подтвердил твои подозрения, что он не тот, за кого себя выдает? — Он угрожал мне смертью, но на помощь пришли мои слуги, и, оказавшись один против многих, он был вынужден удалиться. — Симеон склонился вперед, понизив голос дошепота. — Едва уверившись, что он ушел, я завязал обе книги в узел старого тряпья и отнес в христианскую семью, жившую по соседству. Я знал, что эти люди не выдадут меня и моего тайника. Но что делать дальше, я не мог решить. Я не знал, явился ли ко мне самозванец, или настоящий страж, чье сердце развращено посулами богатства и власти, стал предателем. Если первое, оставалась надежда, что за книгой явится настоящий страж — и не найдет меня. Если второе: я чувствовал, что мой долг — выяснить все. До сих пор не знаю, верен ли был мой выбор. — Ты сделал то, что тебе казалось правильным, — промолвила Элэйс, не замечая предостерегающего взгляда отца. — Кто может сделать больше? — Прав я был или ошибался, но я осмелился задержаться еще на два дня. За это время из реки Эр выловили изуродованный труп. У убитого был вырван язык и выколоты глаза. Разошелся слух, что это был рыцарь, служивший старшему сыну Шарля д'Эвре, земли которого лежат недалеко от Шартра. — Филипп де Сен-Map? Симеон кивнул. — В убийстве обвинили евреев, и начались гонения. Я оказался удобным козлом отпущения. Меня успели предупредить: нашлись свидетели, которые видели его у моих дверей и утверждали, что мы не только ссорились, но и обменялись ударами. Теперь у меня не оставалось выбора. Был ли Сен-Мар честным человеком или предателем, но убили его — так я полагал — за то, что он узнал о книгах лабиринта. Его смерть и то, как он умер, доказывала, что в этом деле участвуют и другие. Что тайна Грааля открыта. — Как вам удалось спастись? — спросила Элэйс. — Слуги мои уже бежали и были, как я надеялся, в безопасности. Я прятался у друзей до следующего утра. Дождавшись открытия ворот, выскользнул из города в одежде старухи. Пришлось сбрить бороду! Со мной была Эсфирь. — Так тебя не было, когда они выстроили новый собор с каменным лабиринтом? — усмехнулся Пеллетье. Элэйс удивленно покосилась на него, не понимая, что смешного находит отец в этих словах. — Ты, значит, не видел… — Что такое? — не выдержала Элэйс. Симеон хмыкнул, явно разделяя веселье друга. — Не видел, но знаю, как он оказался полезен. Многих привлекает это кольцо мертвого камня. Смотрят, ищут и не ведают, что под ногами у них — поддельная тайна. — Да что за лабиринт? — повторила Элэйс. Они ее не услышали. — Я бы дал тебе убежище в Каркассоне. Крышу над головой и защиту. Почему ты не пришел ко мне? — Поверь, Бертран, я только об этом и мечтал. Но ты забываешь, как отличается Север от ваших прославленных веротерпимостью земель Ока. Я не мог разъезжать свободно, друг мой. В те годы евреям жилось трудно. Нас допускали далеко не всюду, а наше имущество то и дело грабили и разворовывали. — Симеон перевел дыхание. — Кроме того, я никогда не простил бы себе, если бы навел их — кто бы они ни были — на тебя. В ту ночь, когда я бежал из Шартра, я сам не знал, куда направляюсь. Казалось, безопаснее всего затаиться, пока не уляжется шум. А вскоре пожар заставил меня забыть обо всем. — Как же ты оказался в Безьере? — решительно вмешалась в разговор Элэйс. — Тебя прислал сюда Ариф? Симеон покачал головой. — Случай и удача, Элэйс. Прежде всего я уехал в Шампань и там провел зиму. Весной, как только сошел снег, направился к югу. Мне посчастливилось пристать к английским евреям, которые, спасаясь от преследований на родине, ехали в Безьер. Место было не хуже других. Город славился терпимостью — евреям здесь доверяли, уважая в нас ученость и искусство. И Каркассона была недалеко — так что я оказался бы под рукой, если бы понадобился Арифу. — Он обратился к Бертрану. — Видит Бог, тяжело было знать, что ты всего в нескольких днях езды, но осторожность и благоразумие предписывали не сообщать о себе. Он откинулся назад, сверкнув черными глазами. — Уже тогда по дворам Европы ходили стихи и баллады. В Шампани трубадуры и менестрели пели о чудесной чаше, о дарующем жизнь эликсире, и бывало, попадали слишком близко к истине, чтобы можно было этого не замечать. Пеллетье кивнул. Такие песни приходилось слышать и ему. — Так что, взвесив все, я решил держаться в отдалении. Никогда не простил бы себе, если бы привел их к твоим дверям, мой друг. Пеллетье протяжно вздохнул. — Боюсь, Снмеон, несмотря на все наши усилия, нас предали, хотя прочных доказательств у меня нет. Но убежден: кому-то известно, что между нами есть связь. Не берусь сказать, известна ли им природа этих уз. — Случилось что-то, что заставило тебя так думать? — Примерно неделю назад Элэйс наткнулась на труп человека, плававшего в реке лицом вниз. Ему перерезали горло и отрубили большой палец на левой руке. Почему-то я подумал о тебе — без всяких причин. Но думается, его приняли за тебя. — Он помолчал. — Было кое-что и до того. И потому я доверил часть своих обязанностей Элэйс, на случай, если не сумею вернуться в Каркассону. «Самое время рассказать им, почему ты здесь!» — Отец, после того… Пеллетье поднял руку, не дав дочери перебить себя. — А тебя ничто не наводило на мысль, что твое убежище открыто, Симеон? Теми, кто искал тебя в Шартре, или другими? Симеон качал головой. — В последнее время — ничего. Я уже пятнадцать лет живу на Юге и, признаюсь, не было дня, когда бы я не ожидал, что мне вот-вот приставят нож к горлу. Но ничего определенного. Элэйс больше не могла молчать. — Отец, я как раз об этом и хочу сказать. Дай мне рассказать, что случилось после вашего отъезда из Каркассоны. Пожалуйста!К концу ее рассказа Пеллетье стал багровым. Элэйс боялась, что отцовская вспыльчивость вырвется наружу. Он не позволил ни ей, ни Симеону себя успокоить. — О книгах знают! — провозгласил он. — Сомнений больше нет. — Успокойся, Бертран, — твердо остановил его Симеон. — Гнев затемняет ясность суждений. Элэйс повернулась к окну, только теперь обратив внимание, что уличный шум стал отчетливей. Поднял голову и Пеллетье. — Колокола замолчали, — сказал он. — Мне надо возвращаться в резиденцию сюзерена. Виконт Тренкавель ждет. Он встал. — Мне надо обдумать твой рассказ, Элэйс, и решить, что делать. Но прежде всего необходимо подумать о возвращении. Он обернулся к Симеону. — Ты едешь с нами. Пока он говорил, Симеон открыл узорный деревянный ларец, стоявший у дальней стены. Элэйс придвинулась ближе нему. Крышка ларца была выложена алым бархатом, собранным в складки, как занавесь балдахина над ложем. Симеон покачал головой. — С вами не поеду. Останусь или уйду со своим народом. А потому, на всякий случай, возьми это. Он запустил руку в глубь ларца. Раздался щелчок — отскочила скрытая пружина, и внизу открылся потайной ящичек. Когда Симеон выпрямился, Элэйс увидела у него в руках небольшой предмет, завернутый в овчинную накидку. Мужчины обменялись взглядами, и Пеллетье, взяв книгу из рук Симеона, спрятал ее под плащом. — В письме Ариф упоминает какую-то сестру из Каркассоны, — напомнил Симеон. Пеллетье кивнул. — Я понял его так, что эта женщина дружественна Noublesso, — сказал он. — Не могу вообразить, чтобы он имел в виду нечто большее. — За второй книгой ко мне пришла женщина, Бертран, — ровным голосом продолжал его друг. — Признаться, тогда я, как и ты, счел, будто она послана лишь доставить книгу, однако в свете этого письма… Пеллетье недоверчиво отмахнулся: — Ни при каких обстоятельствах Ариф не сделал бы стражем — женщину. Он не мог так рисковать. Элэйс было что сказать, но она прикусила язык. Симеон пожал плечами. — Нельзя сбрасывать со счетов и такую возможность. — Ну и что это была за женщина? — нетерпеливо спросил Пеллетье. — Казалась она достойной такого великого доверия? — По правде сказать, нет, — покачал головой Симеон. — Она не принадлежала ни к низшим, ни к высшим в этой жизни. Уже миновала детородный возраст, хотя с ней был ребенок. В Каркассону она направлялась через Сервиан, ее родной город. Элэйс едва не вскочила с места. — Скудные сведения, — проворчал Бертран. — Что же, она не назвала своего имени? — Нет, да я и не спрашивал. При ней было письмо Арифа. Я дал ей на дорогу хлеба, сыра и плодов, и она ушла. За разговором они дошли до входной двери. — Я не хочу тебя здесь оставлять, — вырвалось у Элэйс. Ей вдруг стало страшно за Симеона. — Тот улыбнулся. — Со мной все будет хорошо, дитя. Эсфирь соберет то немногое, что я возьму с собой в Каркассону. В толпе меня никто не узнает. Так будет безопаснее для всех нас. Пеллетье кивнул. — Еврейские кварталы расположены на берегу к востоку от Каркассоны, неподалеку от пригорода Сен-Венсен. Пришли мне весточку, когда доберешься. — Обязательно. Мужчины обнялись, и Пеллетье шагнул на людную улицу. Элэйс двинулась за ним следом, но Симеон задержал ее. — Тебе не занимать отваги, Элэйс. Ты твердо и верно выполнила свой долг перед отцом. И перед Noublesso тоже. Но присмотри за ним. Он слишком горяч и может сбиться с пути, а впереди нас ждут трудные времена и трудный выбор. Элэйс оглянулась через плечо и понизила голос, чтобы не услышал отец. — Что это была за книга? Та, что вы отдали женщине в Каркассоне? Та, которой пока не хватает? — «Книга Бальзамов», — ответил он. — Список лекарственных растений и трав. Твоему отцу была доверена «Книга Слов», а мне — «Книга Чисел». «Каждому свое…» — Ты получила ответ на свой вопрос? — Симеон проницательно взглянул на нее из-под кустистых бровей. — Утвердилась в своих предположениях? Элэйс улыбнулась ему: — Benlèu. Может быть. Она поцеловала его и бросилась догонять отца. «Дал еды на дорогу… И дощечку, наверно». Элэйс решила держать свои мысли при себе, пока не проверит их, хотя в душе не сомневалась, что уже знает, где искать книгу. Мириады связей, паутиной протянувшихся через их жизни, вдруг стали ей ясны. Все намеки и ключи, упущенные только оттого, что их не искали.
ГЛАВА 29
Поспешно возвращаясь назад, они видели, что исход начался. К главным воротам двигались евреи и сарацины: кто пеший, кто с тележкой, нагруженной скарбом — книгами, картами, мебелью… Торговцы нагрузили лошадей корзинами, сундуками, весами, свитками пергаментов. Заметила Элэйс в толпе беженцев и несколько христианских семейств. Двор резиденции сюзерена казался белым под лучами утреннего солнца. Когда они проходили через ворота, Элэйс приметила, как отец с облегчением вздохнул: совет еще не завершился. — Кто-нибудь знает, что ты здесь? Элэйс остановилась как вкопанная, сообразив, что даже не вспомнила о Гильоме. — Нет. Я сразу пошла искать тебя. Пеллетье кивнул: — Подожди здесь. Я сообщу виконту и попрошу дозволения для тебя ехать с нами. И твоему супругу следовало бы сказать. Элэйс смотрела ему вслед, пока он не скрылся в тени дома. Оставшись одна, она стала осматриваться. В прохладных уголках у стен прятались от жары животные. Они растянулись на прохладных камнях, и им не было никакого дела до людских забот. Несмотря на все, что пришлось пережить ей самой и что рассказывал Амьель де Курсан, ей плохо верилось в близкую опасность. За спиной у нее распахнулась дверь, и поток людей хлынул во двор. Элэйс прижалась к стене, чтобы толпа не унесла ее за собой. Двор наполнился криками: отдавались и исполнялись приказания, конюшие торопились подвести лошадей своим хозяевам. В единый миг двор преобразился из резиденции правителя в шумный военный лагерь. Сквозь гомон Элэйс послышалось, что кто-то окликает ее по имени. Гильом! Сердце чуть не выскочило из груди. Она обернулась, поискала глазами, откуда доносится голос. — Элэйс? — недоверчиво глядя на нее, выкрикнул муж. — Откуда? Что ты здесь делаешь? Она уже увидела его: он широко шагал, расталкивая толпу, пробился к ней и подхватил на руки, стиснув так, что она задохнулась. На миг лицо мужа, его запах заставили ее забыть обо всем, все простить. Элэйс даже застеснялась его откровенной радости. Она зажмурилась и прижалась к его груди, вообразив, что они снова вдвоем в Шато Комталь, а все волнения и беды последних дней стали всего лишь вчерашним кошмаром. — Как я по тебе скучал! — говорил Гильом, целуя ее лицо, шею, руки. Элэйс поморщилась. — Что такое? — Ничего, — поспешно отозвалась она. Гильом сдвинул плащ, открыв свежий багровый синяк у нее на плече. — Святая вера! Ничего! Как, во имя… — Упала, — объяснила Элэйс. — Плечу досталось хуже всего. Это только на вид страшно. Пожалуйста, не обращай внимания. Гильом с сомнением взглянул на нее. — Так вот как ты проводишь время без меня, — сказал он. Подозрения сгущались в его глазах. — Почему ты здесь? Она запнулась: — Доставила сообщение отцу. Элэйс пожалела о своих словах, едва они сорвались с языка. Радость совсем исчезла с его лица, лоб нахмурился. — Какое сообщение? Она ничего не могла придумать. Что сказал бы отец? Чем ей оправдаться? — Элэйс, какое сообщение? Элэйс задыхалась. Больше чем когда-либо, ей хотелось поговорить с ним открыто, но она обещала отцу. — Прости, мессире, но я не могу сказать. Только для его ушей. — Не можешь или не хочешь? — Не могу, Гильом, — с сожалением сказала она. — И мне очень жаль. — Это он послал за тобой? — В голосе мужа звучала ярость. — Он послал за тобой, не спросив моего позволения? — Нет, никто за мной не посылал, — возразила Элэйс. — Я сама решила приехать. — И не желаешь сказать мне зачем? — Умоляю, Гильом, не требуй, чтобы я нарушила слово, данное отцу. Пожалуйста, постарайся понять. Он ухватил ее за плечи и встряхнул. — Ты мне не скажешь? Не скажешь? — Он отрывисто, горько рассмеялся. — И подумать только, я вообразил, будто первый в твоем сердце. Каков глупец! Элэйс хотела удержать мужа, но он вырвался и зашагал прочь сквозь толпу. — Гильом, подожди! — В чем дело? Она развернулась и увидела перед собой отца. — Мой муж обижен, что я отказалась ему довериться. — Ты сказала, что это я запретил тебе говорить? Хотела сказать, но он не в настроении слушать, Пеллетье ощерился: — Он не вправе требовать, чтобы ты нарушила слово. Элэйс твердо взглянула в лицо отцу. В ней нарастал гнев. — Со всем почтением, paire, но он в полном праве требовать от меня и повиновения, и верности. — Ты не нарушила верности, — нетерпеливо возразил Пеллетье. — Он остынет. Теперь не время и не место… — Он такой вспыльчивый. Оскорбления глубоко ранят его. — Как всех нас, — огрызнулся отец. — Все мы вспыльчивы. Однако не все позволяют чувствам возобладать над здравым смыслом. Хватит, Элэйс, забудь. Гильом здесь, чтобы служить своему сеньеру, а не для того, чтобы ссориться с женой. Ручаюсь, вернувшись в Каркассону, вы с ним быстро все уладите. — Отец поцеловал ее в макушку. — Дай ему остыть. А теперь приведи Тату. Приготовься к отъезду. Она медленно побрела вслед за отцом к конюшням. — Тебе бы поговорить обо всем с Орианой. По-моему, она должна кое-что знать о том, что со мной случилось. Пеллетье махнул рукой. — Ты несправедлива к сестре. Слишком долго я не замечал разлада между вами, в надежде, что все уладится само собой. — Прости, paire, мне кажется, ты плохо ее знаешь. Пеллетье пропустил слова дочери мимо ушей. — Ты склонна слишком строго судить Ориану, Элэйс. Уверяю тебя, она взялась о тебе заботиться из лучших побуждений. Ты хотя бы спросила ее? Элэйс покраснела. — Вот именно. По лицу видно, что даже не подумала. Отец помолчал. — Вы же сестры, Элэйс. Ты должна лучше думать о ней. Несправедливость упрека заставила ее возмущенно вспыхнуть: — Ты думаешь, я?.. — Если у меня выдастся время, я поговорю с Орианой, — твердо заключил отец, давая понять, что разговор окончен. Элэйс сдержалась. Она с детства была любимицей отца и понимала, что именно вина за отсутствие родительской любви заставляла его закрывать глаза на недостатки старшей дочери. От младшей он требовал куда большего. Она пристроилась рядом с отцом и постаралась идти в ногу. — Ты постараешься выяснить, кто забрал мерель? Разве не… — Довольно, Элэйс. Ничего больше нельзя сделать, пока мы не вернемся в Каркассону. Пошли нам Господь быстрой и безопасной дороги домой! — Пеллетье остановился и обвел глазами двор. — А Безьеру да пошлет Он силы задержать их здесь.ГЛАВА 30 КАРКАСОН, вторник, 5 июля 2005
Удаляясь от Тулузы, Элис чувствовала, как с каждой минутой улучшается настроение. Дорога прямо, как стрела, прорезала желтые и зеленеющие поля. Мелькали посевы подсолнечников, склонивших головы от вечернего солнца. После гор и угрюмых долин Арьежа эта часть Франции казалась ручной и дружелюбной. На вершинах холмов притулились деревушки. Отдельные домики, заслонившиеся от зноя ставнями и cloche-mur[243] с колоколами, чернеющими на фоне пыльного розоватого неба. Проезжая, Элис читала названия деревень и городков: Авиньонет, Кастельнодари, Сен-Папол, Брам, Мирпуа… — смакуя их на языке, как глоток вина. Перед ее мысленным взором вставали старинные мостовые и светлый камень стен, насквозь пропитанный тайнами прошлого. Она въехала в департамент Од. Коричневый плакат возвещал: «Vous êtes en Pays Cathare».[244] Элис улыбнулась. Страна катаров. Она быстро поняла, что эти места жили не только настоящим, но и прошлым. Не только Фуа — и Тулуза, и Безье, и Каркасом: на городах Юго-Западной Франции лежала тень событий, случившихся здесь восемьсот лет назад. Книги, сувениры, открытки, видеофильмы — вся индустрия туризма выросла на их плечах. Вечерние тени все дальше протягивались к западу, словно каждый плакат указывал ей путь в Каркасон. К девяти часам Элис проехала платный въезд и, следуя указателям, направилась к центру города. Пробираясь через серые промышленные окраины и парки брошенных машин, она ощущала в себе странную приподнятость, нетерпеливую и беспокойную радость. Она чувствовала, что уже близко. Загорелся зеленый сигнал светофора, и Элис погнала машину дальше, вместе с потоком других огибая площади и переезжая мосты. Неожиданно впереди снова открылась сельская местность: обтрепанные придорожные кусты вдоль кольца автострады, некошеная трава и кривые деревца, протянувшие ветви по ветру. Элис выехала на гребень холма и — вот оно! Средневековая цитадель господствовала над округой и была еще величественнее, чем рисовалось Элис, — более вещественной, цельной, чем представлялась ей. Увиденная издалека на фоне зубчатого гребня далеких лиловых гор, крепость казалась волшебным городом, плывущим в небе. Элис влюбилась с первого взгляда. Она свернула к обочине и вышла из машины. Сверху были видны два кольца укреплений: внутреннее и внешнее. Можно было найти взглядом собор и замок. Одна высокая прямоугольная башня — очень стройная и симметричная — поднималась над всеми другими строениями. Цитадель стояла на вершине поросшего травой холма. Его склоны круто спускались к черепичным крышам тянувшихся понизу улочек. На равнине зеленели виноградники, фиговые и оливковые деревья, длинные гряды тяжелых, зрелых помидоров. Элис не торопилась ехать дальше. Ей было страшно, что взгляд вблизи разрушит очарование, и она дождалась, пока село солнце и погасли все цвета. Неожиданная прохлада тронула мурашками ее голые плечи. В памяти сами всплыли слова: «…вернулись к своему началу и с первого взгляда узнали место». Впервые Элис поняла, что хотела сказать Элиот.ГЛАВА 31
Юридическая консультация Поля Оти располагалась в Нижнем городе Каркасона. Его практика за последние два года сильно разрослась, и адрес изменился соответственно преуспеванию. Здание из стекла и бетона, выстроенное по проекту известного архитектора. Элегантный, отгороженный стеной дворик, комнатный сад, отделяющий коридоры от деловых помещений. Все скромно и стильно. Оти находился в своем кабинете на четвертом этаже. Огромное окно смотрело на запад — на собор Сен-Микель и казармы парашютного полка. Комната являла собой отражение человека: сдержанное достоинство и старомодный вкус. Вся наружная стена была стеклянной. После полудня жалюзи поднимали, чтобы защитить помещения от солнца. Стены украшали фотографии в строгих рамках, свидетельства и дипломы. Здесь же висели несколько старинных карт — оригиналы, не репродукции — одни с отмеченными на них маршрутами Крестовых походов, другие показывали изменявшиеся из года в год границы Лангедока. Бумага пожелтела, красная и зеленая краска местами вылиняла, так что цвет выглядел пестро и неровно. Широкий длинный стол, соответствующий просторному помещению, был развернут к окну. На нем было пусто, если не считать большой конторской книги в кожаном переплете и нескольких фотографий в рамках: большие студийные портреты бывшей жены владельца и двух его детей. Оти держал их на столе ради клиентов, которым такое доказательство надежности и приверженности семейным ценностям внушало уверенность. Были и еще три карточки: его собственный портрет в возрасте двадцати одного года, сразу после окончания Национальной школы администрации в Париже, сохранивший момент рукопожатия с Жаном-Мари Ле Пеном, вождем Национального фронта; вторая была сделана в Компостелло; третья — в прошлом году, на ней он вместе с аббатом Сито. Оти в тот день сделал самое крупное на сей день из своих пожертвований Обществу Иисуса. Каждая из фотографий напоминала ему, как далеко он продвинулся по социальной лестнице. На столе зажужжал телефон. — Oui?[245] Секретарша сообщила, что пришли посетители. — Пусть поднимутся. Хавьер Доминго и Сирил Бриссар были отставными полицейскими. Бриссар был отставлен от службы в 1999 году за неоправданное применение силы при допросе арестованных; Доминго — годом позже за вымогательство и взяточничество. Оба они избежали срока только благодаря его успешной защите. И оба с тех пор работали на него. — Ну? — встретил их Оти. — Если у вас имеются оправдания, самое время их представить. Они закрыли дверь и молча стояли перед столом. — Нет? Нечего сказать? — Он ткнул пальцем в воздух. — Тогда молитесь, чтобы Бо не пришел в себя и не вспомнил, кто вел машину. — Он не придет в себя, месье. — Вы у нас теперь доктор, а, Бриссар? — Сегодня его состояние ухудшилось. Оти повернулся к ним спиной и уставился на собор за окном. — Ну, с чем пришли? — Бо передал ей записку, — сказал Доминго. — Каковая исчезла, — язвительно подхватил Оти, — вместе с самой девицей. Зачем вы пришли, Доминго, если вам нечего сказать? Тратить мое время? Лицо Доминго залила краска гнева. — Мы знаем, где она сейчас, месье. Сантини выловил ее днем в Тулузе. — И?.. Она выехала из Тулузы час назад, — сказал Бриссар. — Полдня провела в библиотеке. Сантини прислал факс со списком сайтов, которыми она интересовалась. — За машиной следят? Или я слишком многого требую? — Следим. Она едет в Каркасон. Оти откинулся в кресле, сверля подчиненных взглядом. — В таком случае вам следовало бы сейчас отправиться в отель и ждать ее там, не так ли, Доминго? — Да, месье… Но в каком?.. — «Монморанси»! — рявкнул он. Потом сложил кончики пальцев: — Она не должна заметить, что за ней следят. Обыщите машину, номер — все, но так, чтобы она не знала. — Что-нибудь, кроме кольца и записки, искать, месье? — Книгу. Примерно вот такую. Оти показал. — Деревянные доски переплета, скрепленные кожаными шнурками. Книга чрезвычайно ценная и очень хрупкая. Он достал лапку, извлек фотографию и кинул им. — Такая же, как эта. Дав Доминго несколько секунд на изучение, Оти отобрал карточку. — Если это все… — Еще мы получили от медсестры в больнице вот это, — торопливо заговорил Бриссар, протягивая маленький бумажный прямоугольник. — Было у Бо в кармане. Оти взял листок. Это была квитанция на посылку, отправленную с главного почтамта в Фуа вечером в понедельник на каркасонский адрес. — Что за Жанна Жиро? — спросил он. — Бабушка Бо с материнской стороны. — Вот как… — протянул он. Склонился над столом и нажал кнопку внутренней связи. — Аврели, мне нужны сведения на Жанну Жиро. Ж-и-р-о. Проживает на улице Гаффе, Срочно. Оти снова опустился в кресло. — Она знает о несчастье с внуком? Бриссар молчал. — Узнать, — резко приказал Оти. — Пожалуй, пока Доминго присматривает за доктором Таннер, вы нанесете визит мадам Жиро — без шума. Жду вас на стоянке у Нарбоннских ворот через… — он бросил взгляд на часы, — тридцать минут. Опять зажужжал телефон интеркома. — Да, Аврели? Оти слушал секретаршу, поглаживая золотое распятие на груди. — Она хочет перенести встречу на час вперед? Да, конечно, затруднительно, — заговорил он, прерывая ее извинения. Достал из кармана мобильный телефон и просмотрел память. Сообщений не было. Прежде она всегда связывалась с ним лично и напрямую. — Мне придется уйти, Аврели, — сказал он. — По дороге домой занесите досье на Жиро ко мне на квартиру. До восьми часов. Оти сорвал со спинки кресла пиджак, выдернул из ящика стола пару перчаток и вышел.Одрик Бальярд сидел за столиком в передней спальне дома Жанны Жиро. Ставни были прикрыты, но в щель просачивался свет клоняющегося к закату солнца. За его спиной стояла узкая старомодная кровать с резными деревянными изголовьем и изножьем, свежезастеленная простыми полотняными простынями. Жанна выделила ему эту комнату много лет назад, и с тех нор она всегда была к его услугам, когда бы ни потребовалось. Бальярда неизменно трогала деревянная полочка над кроватью с подшивками всех его публикаций. У него было немного имущества. В этой спаленке он хранил только смену одежды да письменные принадлежности. В первые годы их дружбы Жанна поддразнивала его за приверженность перу и чернилам да бумаге, толщиной и грубостью напоминающей пергамент. Он только улыбался, уверяя ее, что слишком стар, чтобы менять привычки. Теперь он был не так уверен. Перемен уже не избежать. Он откинулся в кресле, задумавшись о Жанне и о том, как много значила для него их дружба. В каждую пору своей жизни он находил добрых людей, мужчин и женщин, готовых ему помочь, но Жанна среди них стояла особняком. Именно с помощью Жанны он отыскал Грейс Таннер, хотя друг с другом эти две женщины никогда не встречались. Звон посуды в кухне вернул его мысли к настоящему. Бальярд поднял перо и ощутил, как растаяли годы, оставив его вдруг молодым и неопытным. Снова молодым. Слова пришли сами собой, и он начал писать. Письмо вышло коротким и деловым. Закончив, Одрик промакнул блестящие чернила и сложил листок втрое, превратив в конверт. Можно отправить, как только он раздобудет ее адрес. После этого все в ее руках. Решать только ей. Si es atal es atal. Что будет, то будет.
Зазвонил телефон, и Бальярд открыл глаза. Он слышал, как Жанна сняла трубку, ответила. Потом вдруг вскрикнула. Ему даже показалось сначала, что крик донесся с улицы, но тут же раздался стук трубки, упавшей на изразцовый пол. Он сам не заметил, как оказался на ногах. Атмосфера в доме переменилась. Бальярд обернулся на звук шагов. Жанна поднималась по лестнице. — Что такое? — сразу спросил он и повторил, уже настойчивее: — Что стряслось, Жанна? Кто звонил? Она ответила бесцветным голосом: — Насчет Ива. Он ранен. Одрик в ужасе уставился на нее: — Когда? — Прошлой ночью. Сбит неопознанным автомобилем. Они только сейчас сумели связаться с Клодеттой. Это она звонила. — Насколько тяжело ранен? Жанна, по-видимому, не слышала вопроса. — Они послали кого-то отвезти меня в больницу в Фуа. — Кто? Это Клодетта организовала? Жанна покачала головой. — Полиция. — Хочешь, я поеду с тобой? — Да, — сказала она, чуть помедлив, и походкой лунатика вышла из комнаты. Почти сразу Бальярд услышал, как хлопнула дверь ее спальни. Бальярд вернулся к себе. Он вдруг почувствовал себя слабым и беспомощным. Новость испугала его. Он был уверен — совпадение не случайно. Взгляд упал на написанное только что письмо. Он шагнул к столу, думая о том, что мог бы остановить неизбежный ход событий, пока еще оставалось время. И опустил поднятую было руку. Можно сжечь письмо, но тогда все, за что он боролся, все, что он вынес, окажется напрасным. Бальярд упал на колени и начал молиться. Давние слова сперва застревали на губах, но скоро потекли легко, связав его с теми, кто когда-то говорил на том же языке. Автомобильный гудок, протрубивший под окном, вернул его к действительности. Он тяжело, устало поднялся на ноги. Опустил письмо в нагрудный карман, снял висевший за дверью пиджак и пошел сказать Жанне, что пора ехать.
Оти оставил машину на одной из множества больших муниципальных стоянок перед Нарбоннскими воротами. Орды иностранцев, вооруженных путеводителями и камерами, роились кругом. Как он презирал все это — эксплуатацию истории, распродажу прошлого на потеху японцам, англичанам, американцам. Ему внушали отвращение восстановленные стены и заново отстроенные башни из серого плитняка: прошлое в подарочной обертке для тупых и лишенных веры. Бриссар ждал его на условленном месте и немедленно приступил к докладу. Дом был пуст, и проникнуть в него из сада не составило труда. Соседи говорят, что пятнадцатью минутами раньше мадам Жиро увезла машина полиции. С ней был пожилой мужчина. — Кто такой? — Его видели и раньше, но имени не знают. Отослав Бриссара, Оти стал спускаться с холма. По левой стороне на три четверти пути тянулись дома. Двери были заперты и ставни закрыты, но улица казалась все еще обитаемой. Он дошел до перекрестка и повернул налево по улице Барбакан к площади Сен-Гимер. Несколько местных жителей сидели на ступенях своих домов, разглядывая припаркованные на площади машины. Группка подростков-велосипедистов, голых до пояса и дочерна обожженных солнцем, болтали на ступенях церкви. Оти даже не взглянул на них. Он размашисто шагал по асфальтированному спуску, открывавшемуся позади первых домов и скверов улицы Гаффе. От него ответвлялась каменистая тропинка, уходившая вверх по травяному склону к самой стене. Скоро Оти оказался над участком, принадлежавшим Жанне Жиро. Задняя стена была выкрашена той же желтоватой известкой, что и фасад домика. Узкая калитка, ведущая в садик, была незаперта. Фиговое дерево, увешанное черными плодами, почти скрывало от глаз соседей маленькую террасу. Переспелые фиги падали на терракотовые плитки дорожки и взрывались чернильными пятнами. Стеклянная задняя дверь скрывалась за решетчатой беседкой, увитой плющом. Оти заглянул внутрь и увидел, что ключ оставлен в замке, но дверь заложена двумя засовами — внизу и вверху. Ему не хотелось оставлять следов, и потому он огляделся, ища другого средства попасть в дом. Рядом со стеклянной дверью осталась открытой форточка маленького окошка. Оти натянул резиновые перчатки, просунул руку в отверстие и возился со старомодной оконной защелкой, пока она не поддалась. Окно давно не открывалось, и петли жалобно заскрипели, уступая его усилиям. Запах оливок и хлеба встретил его в небольшой прохладной кухне. Полку с сырами огораживали проволочные перильца. На соседних полках стояли бутыли, банки солений, джема и горчицы. На столе лежала деревянная разделочная доска и белое кухонное полотенце, прикрывающее остатки черствого батона. В раковине он увидел дуршлаг с абрикосами — их собирались вымыть. На сушилке — два перевернутых стакана. Оти прошел в комнаты. На бюро в углу гостиной — старая электрическая пишущая машинка. Нажав кнопку, он включил механизм. Вставил листок бумаги и попробовал несколько клавиш. На бумаге остался ровный ряд четких ярких букв. Сдвинув машинку на себя, Оти осмотрел отделения для бумаг. Жанна Жиро любила порядок: все было разложено и надписано — в первом отделении счета, во втором личная переписка, в третьем пенсионные документы и страховка, в последнем смесь случайных записей и рекламы. Ничего интересного. Он перешел к ящикам. Первые два обнаружили обычный набор: карандаши, скрепки, конверты, марки и пачку бумаги формата А-4. Нижний был заперт. Карманным ножом Оти осторожно поддел язычок замка. Внутри лежал всего один предмет — маленькая почтовая бандероль. В такой могло поместиться кольцо, но не книга. На штемпеле стояло: «Арьеж, 18:20, 4 июля 2005». Оти сунул палец внутрь. Конверт был пуст, если не считать расписки мадам Жиро в получении — в 8:20. Копия квитанции, которую доставил ему Доминго. Оти опустил ее во внутренний карман пиджака. Нельзя назвать это неопровержимым доказательством, что Бо взял кольцо и отправил его своей бабушке, но можно считать косвенной уликой. Оти продолжал поиски. Покончив с нижним этажом, он поднялся по лестнице. Прямо перед ним оказалась дверь в заднюю спальню. Комната явно принадлежала Жиро: очень яркая, чистая и женственная. Он обыскал платяной шкаф и сундук, опытными пальцами прощупывая маленькие, но добротные предметы белья и одежды. Все было аккуратно сложено и разложено, тонко благоухало розовой водой. Шкатулка с украшениями стояла на туалетном столике перед зеркалом. Пара брошек, нитка пожелтевшего жемчуга и золотой браслет, а между ними несколько пар серег и серебряный крестик. Обручальное и венчальное кольца глубоко ушли в потертый красный бархат — как видно, их давно не доставали. Передняя спальня оказалась совсем иной — простой и почти пустой, если не считать кровати и столика с настольной лампой под окном. Оти одобрительно кивнул. Комната напомнила ему суровые кельи аббатства. Здесь остались приметы недавнего пребывания жильца. Полупустой стакан на столике у кровати рядом с томиком окситанской поэзии Рене Нелли. На полях книги — отметки карандашом. Оти перешел к столу. Старинное перо и чернильница, несколько листков толстой бумаги. И почти новая промокашка. Оти не верил своим глазам. Кто-то сидел за этим столиком и писал письмо к Элис Таннер. Имя читалось совершенно отчетливо. Перевернув промокашку, Оти попытался расшифровать расплывшуюся подпись в нижнем углу. Почерк тоже отдавал стариной, иные буквы находили друг на друга, но он сумел все же более или менее угадать имя. Оти сложил листок и сунул в нагрудный карман. Он уже собирался покинуть комнату, когда взгляд упал на обрывок бумаги, застрявший на полу у дверного косяка. Оти поднял клочок. Это оказался железнодорожный билет на Каркасон, помеченный сегодняшним числом. Станция отправления отсутствовала. Звон колокола Сен-Гимера, отбившего час, напомнил ему, как мало времени остается на обратный путь. Убедившись, что оставляет все, как было, Оти ушел той же дорогой, какой вошел. Двадцать минут спустя он сидел на балконе своего дома на Куай де Пашеро, любуясь видом средневекового города за рекой. На столике перед ним стояла бутылка «Шато Виллерамбер Моро» и два бокала. На коленях лежала папка с материалами, которые успела собрать его секретарша на Жанну Жиро. Второе досье содержало предварительное заключение эксперта-антрополога по поводу найденных в пещере останков. Поразмыслив, Оти выбрал и отложил несколько листов из первой папки. Затем снова тщательно закрыл и стал ждать посетительницу.
ГЛАВА 32
Вдоль всей высокой набережной Куай де Пашеро расселись на металлическом ограждении люди. Мужчины и женщины любовались видом на реку Од. Широкие ухоженные газоны были разделены на квадраты пестрыми рабатками и чистыми дорожками. Яркие цвета детских площадок гармонировали с буйными клумбами, где светились будто раскаленные докрасна мальвы, огромные лилии, дельфиниумы и герань. Мари Сесиль одобрительно окинула взглядом дом Поля Оти. Как она и ожидала, скромное и достойное жилище, ничем не выделяющееся: нечто среднее между семейным особняком и частным коттеджем. Пока она осматривала дом, мимо прокатила на велосипеде женщина в бордовом шелковом шарфике и ярко-красной рубашке. Мари-Сесиль почувствовала на себе чей-то взгляд. Не поворачивая головы, она нашла глазами мужчину, стоявшего на невысоком балконе, опершись руками на перила. Он смотрел вниз на ее машину. Мари-Сесиль улыбнулась. Она знала Поля Оти по фотографиям. Насколько можно судить с такого расстояния, снимки были не слишком удачные. Ее шофер нажал кнопку звонка. Ей видно было, как Оти повернулся и скрылся в доме. Ко времени, когда шофер открыл перед ней дверцу машины, он уже стоял в дверях, готовый приветствовать гостью. Она сегодня выбирала одежду особенно тщательно: бежевое льняное платье без рукавов и жакет в тон: строго, но не слишком официально. Очень простой, очень стильный наряд. Вблизи первое впечатление подтвердилось. Оти был высок и хорошо сложен, одет в свободный, отличного покроя костюм с белой рубашкой. Волосы зачесаны назад ото лба, подчеркивая тонкую лепку бледного лица. Слишком проницательный взгляд. Под цивилизованной внешностью Мари-Сесиль ощутила жесткую решительность кулачного бойца. Десятью минутами позже, приняв предложенный бокал вина, она сочла, что начинает понимать, с каким человеком имеет дело. Улыбнувшись, склонилась вперед, чтобы погасить сигарету в тяжелой стеклянной пепельнице. — Bon, aux affaires.[246] В доме, полагаю, будет удобнее. Оти посторонился, пропустив ее через стеклянную дверь в безупречную и безликую гостиную. Светлые ковры и абажуры, стулья с высокими спинками вокруг стеклянного стола. — Еще вина? Или вы предпочитаете другие напитки? — Пастис,[247] если у вас есть. — Со льдом? С водой? — Со льдом. Мари-Сесиль уселась в кремовое кожаное кресло перед стеклянным кофейным столиком и стала смотреть, как он смешивает коктейль. Тонкий аромат аниса наполнил комнату. Оти передал ей бокал и сел напротив. — Благодарю. — Она добавила к благодарности улыбку. — Итак, Поль. Если не возражаете, я бы хотела услышать короткий отчет обо всем, что произошло. Если он и почувствовал раздражение, то ничем этого не показал. Она не спускала глаз с собеседника, однако его сообщение оказалось кратким и точным и ни словом не противоречило сказанному им прежде. — А сами скелеты? Их увезли в Тулузу… — На экспертизу в лабораторию при университете. Совершенно верно. — Когда вы ожидаете узнать результат? Вместо ответа он передал ей большой белый конверт, лежавший на столе. «Не прочь показать себя», — отметила Мари-Сесиль. — Уже? Быстро работаете. — Пришлось напомнить об услуге. Мари-Сесиль положила конверт на колени. — Благодарю. Я прочитаю позже, — небрежно сказала она, — а пока только общий итог. Вы успели прочесть — ваше мнение? — Это всего лишь предварительное заключение, не подтвержденное подробными анализами, — предупредил Оти. — Понимаю. — Она откинулась в кресле. — Кости принадлежат мужчине и женщине. По предварительной оценке, костям — от семисот до девятисот лет. Останки мужчины свидетельствуют о незалеченном ранении в области таза, вероятно причиненном незадолго до смерти. Имеются свидетельства более старых, залеченных переломов правого плеча и ключицы. — Возраст? — Взрослый, не старик и не юноша. Что-нибудь между двадцатью и шестьюдесятью. Дальнейшие анализы позволят уточнить. На черепной коробке справа вмятина. Причиной могло быть падение или удар по голове. Женщина выносила по крайней мере одного ребенка. Также признаки залеченных повреждений правой ступни и свежий перелом левой локтевой кости выше запястья. — Причина смерти? — Эксперт не готов делать выводы и предполагает, что однозначного заключения сделать не удастся. Учитывая особенности времени, о котором идет речь, не исключено сочетание ранений, потери крови и, возможно, истощения. — Он полагает, что оба попали в пещеру еще живыми? Оти пожал плечами, но в его серых глазах, заметила Мари-Сесиль, мелькнула искра интереса. Она взяла из ящичка сигарету, задумчиво покатала между пальцами. — А что касается найденных рядом предметов? — Она наклонилась к поднесенному им огоньку зажигалки. — С теми же оговорками он датирует их концом XII — началом XIII века. Светильник на алтаре может быть несколько старше, арабской работы. Возможно, привезен из Испании, но вероятнее, из более отдаленных областей. Нож — обычный нож для еды, чтобы резать мясо, хлеб и фрукты. На клинке следы крови. Анализы покажут, человеческой или животного. Мешок из кожи изготовлен в Лангедоке и типичен для этого периода. Что находилось внутри, предположить трудно, однако в швах на внутренней поверхности имеются частицы металла и овечьей шерсти. Мари-Сесиль пришлось приложить усилие, чтобы голос звучал ровно: — Что еще? Женщина, обнаружившая пещеру, доктор Таннер, нашла крупную пряжку из меди с серебряной отделкой. Она лежала под валуном, закрывшим выход. Пряжку относят к тому же периоду времени и считают местной или, может быть, арагонской работы. В конверте есть фотография. Мари-Сесиль отмахнулась: — Пряжка меня не интересует, Поль. — Она выдохнула вверх струйку дыма. — Однако мне хотелось бы узнать, почему вы не нашли книгу. Она заметила, как его тонкие пальцы плотнее обхватили подлокотник. — У нас нет доказательств, что книга там вообще была, — спокойно проговорил он, — хотя нельзя отрицать, что в кожаном кошеле могла бы поместиться книга, соответствующая по размеру той, которую вы ищете. — А что с кольцом? Вы тоже сомневаетесь? И снова ей не удалось нарушить его невозмутимость. — Напротив, я убежден, что кольцо там было. — И?.. — Оно там было, но в промежуток времени между открытием пещеры и моим прибытием вместе с полицией его оттуда забрали. — Однако доказательств у вас нет! — Теперь она заговорила резко. — И, как я понимаю, нет и самого кольца? Она следила взглядом, как Оти достает из кармана и разворачивает бумажный листок. — Доктор Таннер была весьма настойчива. Настолько, чтосделала этот набросок, — пояснил он, передавая ей листок. — Грубый набросок, признаю, но он довольно точно отвечает вашему описанию, не так ли? Мари-Сесиль рассматривала рисунок. Размер, форма и пропорции были не совсем точны, но достаточно близки к чертежу лабиринта, который хранился у нее в сейфе в Шартре. За последние восемьсот лет его видели только члены семьи Л'Орадор. О подлоге не могло быть и речи. — Настоящая художница, — пробормотала она. — Это ее единственное творение? Собеседник, не дрогнув, встретил ее взгляд. — Там были и другие, но только этот стоит внимания. — Почему бы вам не позволить судить об этом мне? — негромко спросила она. — Боюсь, мадам Л'Орадор, я взял только этот. Остальные, видимо, не имели отношения к делу. — Оти извинительно улыбнулся. — Кроме того, Нубель, офицер местной полиции, и без того выказывал подозрительность к моим расспросам. — В следующий раз… — начала Мари-Сесиль и тут же прервала себя, потушила сигарету, с такой силой ткнув в пепельницу, что разломала окурок. — Вы, как я понял а, обыскали имущество доктора Таннер? Он кивнул. — Кольца там не было. — Кольцо совсем маленькое. Она легко могла спрятать его где-нибудь еще. — Теоретически могла, — согласился он, — но я так не думаю. Если бы она взяла кольцо, зачем ей вообще понадобилось о нем упоминать? Кроме того… — он нагнулся ближе, — если у нее есть оригинал, к чему трудиться над копией? Мари-Сесиль снова взглянула на рисунок. — Для сделанного по памяти он удивительно точен. — Согласен. — Где она сейчас? — Здесь, в Каркасоне. У нее на завтра назначена встреча с юристом. — По поводу? Он пожал плечами. — Какие-то дела о наследстве. В воскресенье она улетает домой. Сомнения, одолевавшие Мари-Сесиль со вчерашнего дня, когда она впервые услышала о находке, усиливались с каждой минутой. Что-то не складывалось. — Как эта доктор Таннер попала к археологам? — спросила она. — Ее рекомендовали в группу? Оти выглядел удивленным. — Доктор Таннер не была членом группы, — ответил он. — Я, конечно, об этом упоминал? Мари-Сесиль поджала губы: — Не упоминали. — Прошу прощения, — непринужденно извинился он. — Я был уверен, что сказал. Доктор Таннер — волонтер. Большая часть раскопок ведется за счет неоплачиваемых помощников, так что, когда на прошлой неделе ее попросили включить в команду, для отказа не нашлось оснований. — Кто за нее просил? — Шелаг О'Доннел, как мне помнится, — уверенно сказал он. — Номер второй на раскопе. — Она подруга О'Доннел? — не скрыв удивления, спросила Мари-Сесиль. — Очевидно. Мне приходило в голову, что она могла отдать той кольцо. К сожалению, в понедельник мне не представилось возможности ее допросить, а теперь она, кажется, исчезла. — Что она?.. — резко переспросила Мари-Сесиль. — Когда? Кому об этом известно? — Прошлую ночь О'Доннел провела с остальными археологами. Ей кто-то звонил, и вскоре после того она вышла. С тех пор ее никто не видел. Чтобы успокоить нервы, Мари-Сесиль снова закурила. — Почему мне не сообщили немедленно? — Не думал, что вы заинтересуетесь обстоятельствами, так мало связанными с основной нашей заботой. Прошу прощения. — В полицию заявляли? — Еще нет. Доктор Брайлинг, начальник группы, всех на несколько дней отпустил. Он считает возможным — и даже вероятным, — что О'Доннел просто отправилась по своим делам, не потрудившись никого поставить в известность. — Я не желаю участия полиции, — с силой выговорила она. — Вмешательство полиции было бы весьма некстати. — Совершенно согласен с вами, мадам Л'Орадор. Доктор Брайлинг далеко не дурак. Если он заподозрил, что О'Доннел что-то забрала с раскопа, то не в его интересах вовлекать в это дело власти. — Вы думаете, кольцо у О'Доннел? Оти уклонился от ответа. — Я думаю, ее надо найти. — Я не о том спросила. И где книга? По-вашему, тоже у нее? Оти прямо встретил взгляд женщины. — Я уже сказал, что для меня остается открытым вопрос, была ли там вообще книга. — Он выдержал паузу. — Если была, не думаю, что ее удалось бы вынести незаметно. Кольцо — дело другое. — Однако кому-то удалось! — гневно бросила Мари-Сесиль. — Как я уже сказал, если она там была. Женщина вскочила с места и, не дав собеседнику опомниться, обошла стол так, что оказалась стоящей прямо над ним. И впервые поймала в холодных серых глазах отблеск тревоги. Она наклонилась и приложила ладонь к его груди. — Я чувствую, как бьется ваше сердце, — тихо заговорила она. — Так сильно бьется. С чего бы это, Поль? Удерживая его взгляд, она толкнула Оти к спинке кресла. — Я не терплю ошибок. И не люблю, когда от меня что-то утаивают. Вы меня поняли? Оти не отвечал. Она и не ждала ответа. — Все, что от вас требуется, — доставить мне предметы, которые вы обещали и за которые вам заплачено. Так что найдите эту молодую англичанку, разберитесь, если необходимо, с Нубелем — остальное ваше дело. Я не желаю больше об этом слышать. — Если какие-то мои действия создали у вас впечатление, что… Она приложила пальцы к его губам и ощутила, как он сжался от этого прикосновения. — Я не хочу больше слушать. Она отпустила его, шагнула назад, вышла на балкон. Вечер стер все краски города. Мосты и здания силуэтами чернели на фоне потемневшего неба. Оти вышел вслед за ней и встал рядом. — Я не сомневаюсь, что вы прикладываете все усилия, — тихо сказала она, опустив руки на перила и на миг коснувшись его руки. — Есть и другие члены Noublesso Véritable, которые могли бы заменить вас. Однако учитывая, насколько глубоко вы вовлечены… Она оставила конец фразы висеть в воздухе. И по его напряженной неподвижности поняла, что намек попал в цель. Мари-Сесиль подняла руку, привлекая внимание ожидавшего внизу шофера. — Я хотела бы сама посетить пик де Соларак. — Вы задержитесь в Каркасоне? — мгновенно отозвался он. Она спрятала усмешку. — Да, на несколько дней. — У меня сложилось впечатление, что вы не хотели входить в зал до ночи церемонии… — Я передумала, — сказала она, оборачиваясь к нему лицом. — У меня еще есть дела, так что если бы вы заехали за мной в час, я бы успела до того прочитать ваш отчет. Я остановилась в гостинице «Старый город». Мари-Сесиль вошла в комнату, взяла со стола конверт и спрятала в сумочку. — Bien. A demain,[248] Поль. Спокойного сна. Спускаясь по лестнице и ощущая спиной его взгляд, Мари-Сесиль невольно подивилась самообладанию этого человека. Однако, садясь в машину, она удовлетворенно усмехнулась: наверху, в квартире Оти, раздался звон бокала, в бешенстве брошенного в стену.В гостиничном баре висел густой сигаретный дым. Желающие выпить после обеда утопали в больших кожаных креслах. Их летние костюмы белели в сумраке уютных, отгороженных ширмами красного дерева уголков. Мари-Сесиль медленно поднималась по плавно изгибающейся лестнице. Со стен на нее смотрели черно-белые снимки — свидетельства многовекового прошлого изысканной гостиницы. Войдя в номер, она прежде всего переоделась в купальный халат. Как всегда, перед отходом ко сну постояла перед зеркалом, разглядывая себя пристально и бесстрастно, словно произведение искусства. Сияющая кожа, высокие скулы, четкий фамильный профиль Л'Орадоров. Она пальцами разгладила кожу лица и шеи. Мари-Сесиль не желала позволять времени стереть эту красоту. Если все пойдет хорошо, она добьется того, о чем мечтал ее дед. Обманет старость. Обманет смерть. Она нахмурилась. Для этого надо еще найти кольцо и книгу. В ней с новой силой разгоралась решимость. Закурив, Мари-Сесиль подошла к окну и стояла, глядя в сад, дожидаясь ответа на свой звонок. С нижней террасы долетали обрывки вечерних бесед. За бастионами цитадели, за рекой, рождественскими гирляндами светились огни Нижнего города. Она сняла трубку, набрала номер. — Франсуа-Батист? Это я. По моему личному номеру за последние сутки никто не звонил? — Она выслушала ответ. — Нет? А тебе она звонила? — Снова пауза. — Мне здесь только что сообщили. Она барабанила пальцами по стеклу, слушая сына. — А по другому делу что-нибудь новое было? Ответ ей не понравился. — Междугородний или местный? — Пауза. — Держи меня в курсе. Звони, если будут изменения, а если нет, вернусь в четверг вечером. Отключившись, Мари-Сесиль позволила себе на минутку задуматься о другом мужчине, жившем в ее доме. Уилл был довольно милым, старался доставить ей удовольствие, однако их отношения себя исчерпали. Слишком многого он требует, да и его мальчишеская ревность начала утомлять. Постоянные расспросы. А ей сейчас ни к чему лишние сложности и лишний человек в доме. Она включила настольную лампу и достала из сумочки отчет Оти, а также и досье на него самого, собранное, когда его два года назад выдвинули в члены Noublesso Veritable. Просмотрела досье, которое и без того неплохо помнила. В студенческие годы пара обвинений в сексуальном насилии. Вероятно, от женщин откупились, поскольку официального следствия не было. Сообщение о нападении на женщину-алжирку во время происламистского митинга — и тоже никаких официальных обвинений. Сведения об участии в университетской газете антисемитского толка; обвинения бывшей жены в сексуальном и психологическом насилии — также без последствий. Более существенно — постоянные и увеличивающиеся со временем пожертвования Обществу Иисуса, иезуитам. И в последние годы — все более активное участие в фундаменталистских организациях, противодействующих движению за модернизацию католической церкви. Мари-Сесиль казалось странным сочетание жестких религиозных взглядов с членством в Noublesso. Оти поклялся служить их организации и до сих пор был в самом деле полезен. Удачно организовал раскопки на пике де Соларак и, казалось, успешно ведет дело к завершению. И сообщение о нарушении правил секретности в Шартре прошло через одного из его агентов. Разведка у него была надежная и работала четко. И все же Мари-Сесиль ему не доверяла. Слишком честолюбив. И поражения последних сорока восьми часов перевешивали все его успехи. Она не предполагала, что Оти мог оказаться так глуп, чтобы самому забрать книгу и кольцо, но и упускать вещи из под носа было ему не свойственно. Поразмыслив, она сделала еще один звонок. — У меня для вас работа. Интересуюсь книгой, приблизительно двадцать на десять сантиметров, переплет — доски, обтянутые кожей, скреплены кожаными шнурками. И каменное кольцо на мужскую руку, гладкое снаружи, только тонкая линия посередине окружности, и резьба на внутренней стороне. При нем может оказаться диск величиной с десятифранковую монету. — Она молча выслушала ответ. — Каркасон. Квартира на Куай де Пашеро и контора на рю де Вердюн. То и другое — собственность Поля Оти.
ГЛАВА 33
Гостиница, в которой остановилась Элис, располагалась прямо напротив ворот средневекового города, в красивом сквере, скрывавшем от взгляда улицу. Ее проводили в уютный номер на первом этаже. Отворив окно, она впустила в комнату запах жарящегося мяса, чеснока, ванили и сигарного дыма. Элис быстро разобрала вещи, приняла душ и снова, больше по привычке, чем с надеждой, набрала номер Шелаг. По-прежнему нет ответа. Пожала плечами. Никто не скажет, будто она не старалась. Вооружившись путеводителем, который купила на заправке по пути из Тулузы, Элис покинула гостиницу и, перейдя улицу, вошла в Старый город. Крутые бетонные ступени вели в небольшой парк, окаймленный кустами и высокими вечнозелеными деревьями. В дальнем конце возвышалась яркая карусель XIX века, нелепая в тени сложенных из плит песчаника крепостных стен. Полосатый тент, кайма, расписанная фигурами дам и рыцарей на белых конях, золотые и розовые сиденья, декорированные под скачущих лошадок, сказочные кареты и чайные чашки. Даже билетный киоск выглядел как ярмарочная палатка. Прозвонил колокол, карусель начала вращаться, завизжали детишки, заглушая звуки старинной шарманки. За каруселью Элис разглядела серые верхушки надгробий и склепов за кладбищенской стеной и строем кипарисов и тисов, стерегущих покойных от случайных взглядов. Направо от ворот компания мужчин играла в петанк.[249] На минуту Элис остановилась перед воротами, подготавливая себя к встрече с городом. С каменной колонны на нее уставилась серая горгулья. Ее тупая непроницаемая рожа выглядела недавно отреставрированной. SUM CARCAS. Я — Каркас. Дама Каркас, королева Сарацинии, жена короля Балаака, в честь которой, говорят, после того, как она выдержала пятилетнюю осаду войска Карла Великого, и назван Каркасон. Элис прошла по крытому подъемному мосту, почти протискиваясь между бревнами, камнем и цепями. Под ногами скрипели и прогибались доски. Во рву не было воды — только трава, пестревшая полевыми цветами. Мост вел на ристалище — широкую пыльную полосу между внешним и внутренним кольцом укреплений. Со всех сторон мальчишки пытались вскарабкаться на стены или затевали поединки на пластмассовых мечах. Прямо перед ней были Нарбоннские ворота. Проходя под узкой высокой аркой, Элис подняла глаза и с удивлением встретила взгляд статуи Девы Марии, смотревшей на нее из-под свода. Едва Элис миновала ворота, кругом стало тесно. Рю Крос-Майревиль — мощенная камнем главная улица города — оказалась совсем узкой и круто уходила вверх. Дома стояли так близко друг к другу, что человек, склонившийся с верхнего этажа одного дома, мог бы пожать руку соседу напротив. Звуки метались между высокими стенами, как в ловушке. Разноязычная речь, крики, смех, когда по улочке, оставляя не больше ладони пространства между собой и стенами, проползала машина. Повсюду прилавки, торгующие открытками, и путеводителями, и куколками в колодках — реклама музея орудий пытки инквизиции — мылом, подушками, посудой, непременно украшенной изображением мечей и щитов. Витая скоба из кованого железа торчала из стены, поддерживая деревянную вывеску: «Средневековая Шпора» — «l'Èpron Mèdievale» — торговля сувенирными мечами и фарфоровыми фигурками. В лавке «Сен-Луи» продавали мыло, сувениры и посуду. Ноги вынесли Элис на главную площадь, пляс Марко. И она оказалась мала, к тому же заполнена кафе и подстриженными деревцами. Их ветки, подобно переплетенным ладоням, защищали столики от яркого солнца, смешивая свою тень с тенями ярких навесов, расписанных названиями кафе: «Марко», «Трувер»,[250] «Менестрель». Элис перешла мощенную булыжником площадь и по рю Крос-Майревиль вышла на пляс де Шато, где треугольник магазинов, кафе и ресторанов окружал каменный обелиск около восьми футов высокой, с бюстом историка XIX века Жан-Пьера Крос-Майревиля и бронзовым барельефом с планом крепости на постаменте. Она пошла дальше, пока не уперлась в широкую полукруглую стену бастиона, защищавшего Шато Комталь. Мощные запертые засовы охраняли башни и укрепления замка. Крепость в крепости. Здесь Элис остановилась, поняв, что достигла цели. Сюда она и шла с самого начала. Шато Комталь, жилище семьи Тренкавель. Она заглянула в щелку высоких деревянных ворот. Во всем здесь чудилось что-то знакомое, словно она уже бывала здесь однажды когда-то давно, а потом позабыла. По обе стороны ворот стояли стеклянные будки с опущенными изнутри шторками и печатными объявлениями о часах работы. Дальше лежала серая площадь, засыпанная пылью и щебнем, а за ней узкий мост около шести футов шириной. Элис отошла от ворот, пообещав себе, что утром первым делом придет сюда. Она свернула направо и по указателю вышла к воротам де Родец. Над воротами стояли две заметные издали башни подковообразной формы. Вниз вели широкие каменные ступени, выбитые посередине бесчисленным множеством ног. Здесь была особенно заметна разница в возрасте между внешней и внутренней стеной. Внешнее кольцо стен, как она прочитала в путеводителе, возводилось в конце XIII и обновлялось в XIX веке. Серые плиты были примерно равной величины, что возмутило бы сурового критика, приверженца точного воспроизведения старины. Элис не заботила точность реставрации. Ее трогал сохранившийся здесь дух места. Внутренняя стена была отделана красной керамической плиткой галло-романского периода вперемешку с крошащимся плитняком XII столетия. После шумного города Элис ощутила здесь покой, чувство сопричастности. Она была дома здесь, между горами и небом. Опершись локтями на парапет, она стояла, глядя на реку и представляя, как холодные струйки щекочут пальцы ног. Только когда остаток дня растаял в сумерках, Элис повернула назад в город.ГЛАВА 34 КАРКАССОНА, джюлет 1209
Приближаясь к Каркассоне, они растянулись одной цепочкой: во главе Раймон Роже Тренкавель, сразу за ним Бертран Пеллетье. Шевалье Гильом дю Мас держался в самом конце. Элэйс ехала среди священнослужителей. Меньше недели прошло с ее бегства, а казалось — много дольше. Знамена с гербом Тренкавеля невредимыми плыли по ветру, и ни одного человека они не потеряли в пути, но лицо виконта говорило о поражении. Перед воротами их кони замедлили шаг. Элэйс наклонилась вперед, похлопала Тату по шее. Кобыла устала и потеряла подкову, но всю дорогу не отставала от остальных. Толпа выстроилась по сторонам дороги в несколько рядов, встречая проезжающую под висящим на Нарбоннских воротах гербом Тренкавелей кавалькаду. Дети бежали рядом с лошадьми, бросали им под ноги цветы и радостно кричали. Женщины выглядывали из верхних окон, размахивали самодельными флагами и платками. Въезжая по узкому мосту к Восточным воротам Шато Комталь, Элэйс не ощутила ничего, кроме облегчения. Кур д'Онор гудел от приветственных возгласов. Конюшие бросились вперед, чтобы подхватить поводья у своих рыцарей, слуги помчались готовить баню, поварята тащили в кухню воду, чтобы немедля начать готовить праздничный пир. Среди радостно машущих рук и улыбающихся лиц Элэйс отыскала лицо Орианы. За ее плечом стоял отцовский слуга, Франсуа. Элэйс покраснела, вспомнив, как провела его и ускользнула прямо из-под носа. Она видела, как Ориана обшаривает глазами толпу. Скоро ее взгляд остановился, отыскав супруга, Жеана Конгоста. По лицу Орианы скользнула тень презрения, и она перевела взгляд дальше, к неудовольствию Элэйс, остановившись на ней самой. Элэйс сделала вид, что не замечает сестры, но чувствовала на себе ее пристальный взгляд через море голов. А когда она все же взглянула в ту сторону, Ориана уже скрылась. Элэйс слезла с седла, стараясь не задеть ушибленное плечо, и отдала поводья Амилю, чтобы тот отвел кобылу в конюшню. На нее зимним туманом опускалась тоска. Все вокруг обнимали жен, матерей, тетушек, сестер, а Гильома нигде не было видно. «Наверно, сразу пошел в баню». Даже отец куда-то подевался. Элэйс захотелось побыть одной, и она выбралась в соседний маленький дворик. В голове вертелась строка Раймона де Мираваля, и от нее на душе становилось еще тоскливее. «Res contr' Amor non es guirens, lai on sos poders s'atura».[251] Когда Элэйс впервые услышала эти стихи, ей еще незнакомы были чувства, о которых в них говорилось. Но и тогда, сидя во дворе Кур д'Онор, сложив руки на детских коленках, она прониклась тем, что стояло за словами. На глаза навернулись слезы, и Элэйс сердито утерла их кулаком. Нечего жалеть себя! Она присела на скамеечку в тени. Перед свадьбой они с Гильомом часто захаживали в Кур дю Миди. Деревья тогда стояли в золоте, и землю устилал ковер осенних листьев — горячая медь и охра. Носком сапога Элэйс чертила в пыли узор, раздумывая, как помириться с Гильомом. Ей недоставало умения, а ему недоставало желания. Ориана часто по нескольку дней не разговаривала с мужем. Потом недовольство исчезало так же внезапно, как возникало, и до следующего раза сестрица была с Жеаном слаще меда. И давние воспоминания о браке родителей тоже представлялись полосами света и тьмы. Элэйс надеялась, что ее минует эта судьба. С накинутым на голову красным покрывалом она стояла перед священником в часовне и произносила слова обета. Алые огоньки рождественских свечей окрашивали алтарь, устланный цветущим зимним боярышником. Она верила тогда, и в душе продолжала верить и сейчас, что любовь их будет длиться вечно. Ее подругу и наставницу, Эсклармонду, вечно осаждали влюбленные, просившие трав и настоев, вызывающих или сохраняющих любовь. Винный настой мяты и пастернака, незабудки, чтобы сделать любовь плодородной, пучки желтых первоцветов… При всем почтении к Эсклармонде, Элэйс подобные средства казались глупыми суевериями. Не хотелось верить, что любовь можно купить в лавке и подмешать в суп. Она знала, что существует и другая, более опасная магия: черное колдовство, чтобы очаровать или причинить вред неверному. Эсклармонда предостерегала ее против темных сил — свидетельства господства дьявола над миром. От зла не происходит добро. Сегодня впервые в жизни Элэйс, кажется, начала понимать, что толкает женщин обращаться к таким отчаянным средствам.— Filha… Элэйс подскочила. — Где ты была? — задыхаясь, спросил Пеллетье. — Я звал тебя, искал повсюду… — Я тебя не слыхала, paire. Виконт, едва успев обнять жену и сына, занялся подготовкой города к обороне. Нас ждут дни, когда некогда будет перевести дыхание. — А когда ты ждешь Симеона? — Через день-два. — Отец нахмурился. — Жаль, что я не сумел уговорить его ехать с нами. Но он считает, что среди своих привлечет меньше внимания. Может, он и прав. — Как только он появится, — не отставала Элэйс, — вы станете решать, что делать? У меня есть мысль насчет… Элэйс осеклась, сообразив, что сперва следовало бы проверить свою догадку, чтобы не выглядеть глупо перед отцом. И перед Симеоном. — Мысль? — повторил отец. — Нет, ничего, — торопливо ответила она. — Я только хотела спросить, нельзя ли мне присутствовать при вашем с Симеоном разговоре? Пеллетье задумался. Углубившиеся морщины на лице явно говорили, как трудно дается ему решение. — Ты уже столько сделала для нас, — сказал он наконец, — что можешь и послушать наш разговор. Однако… — он предостерегающе поднял палец, — только послушать. Пойми хорошенько — ты больше не участвуешь в этом деле. Рисковать собой я тебе больше не позволю. Элэйс с восторгом слушала отца. «Когда дойдет до дела, я его уломаю». И она потупила глаза, покорно сложив руки на коленях: — Ну конечно, paire. Все будет, как ты скажешь. Пеллетье подозрительно покосился на дочь, однако заговорил о другом. — Я хотел попросить тебя еще об одной услуге, Элэйс. Виконт Тренкавель затевает большое празднество в честь возвращения — сейчас же, пока не разошлись слухи о неудаче переговоров с графом Тулузским. Дама Агнесс сегодня будет стоять вечерю не в часовне, а в большом соборе. — Он помолчал. — Мне бы хотелось, чтобы ты была там. И твоя сестра тоже. У Элэйс перехватило дыхание. Службы в часовне она время от времени посещала, но отец никогда не настаивал, чтобы она входила в собор. — Я знаю, ты устала, но для виконта Тренкавеля очень важно сейчас не давать действительных поводов для обвинений — в том числе и против близких к нему людей. Если в городе есть шпионы — а я в этом не сомневаюсь, — очень важно, чтобы слух о наших духовных провинностях, как они это понимают, не дошел до ушей врагов. — Дело не в усталости, — горячо возразила Элэйс. — Епископ де Рошфор со своими церковниками — лицемеры. Они проповедуют одно, а делают другое! Пеллетье покраснел, и Элэйс не поняла, была то краска гнева или стыда. — А ты, значит, тоже пойдешь? — возмутилась она. Пеллетье отвел глаза. — Как ты понимаешь, мы с виконтом будем слишком заняты. Элэйс бросила на отца сердитый взгляд. — Очень хорошо! — сказала она, помолчав. — Я исполню твою просьбу. Но не жди, что стану преклонять колени перед статуей сломленного человека на деревянном кресте или молиться ему. Она тут же испугалась, что наговорила лишнего. Но к ее изумлению, отец в ответ расхохотался. — Так-так, — сказал он. — Я и не ждал от тебя иного, Элэйс. Но будь осторожна. Не спеши открывать свои взгляды перед каждым встречным. Они только того и ждут.
Элэйс провела несколько часов в своих покоях. Приготовила припарки из дикого майорана на распухшее плечо и прилегла, прислушиваясь к добродушной болтовне своей служанки. Если послушать Риксенду, мнения по поводу ее бегства из замка разделились. Одни восхищались твердостью и отвагой Элэйс. Другие — и среди них Ориана — осуждали ее. Ее самовольство выставило якобы дураком ее супруга. Более того, поставило под удар всю миссию. Элэйс надеялась, что Гильом так не думает, однако надежда была слабой. Муж ее вообще склонен был думать и рассуждать заодно с большинством. И к тому же был болезненно самолюбив. Элэйс по опыту знала, как он жаждет всеобщего восхищения, как стремится выделяться среди других и как часто это желание заставляет его говорить и делать вещи, вовсе не свойственные его истинной природе. Если Гильому покажется, что его оскорбили, невозможно предсказать, что он натворит. — Но теперь уж им придется замолчать, госпожа Элэйс, — уверила ее Риксенда, смывая с плеча и шеи остатки травяного настоя. — Все вернулись благополучно, а значит, Господь за нас, не так разве? Элэйс выдавила слабую улыбку. Она опасалась, что Риксенда увидит дело в ином свете после того, как в городе проведают об истинном положении дел.
Гул колоколов взлетал в пестревшее розоватыми облаками небо, когда они вышли из Шато Комталь и двинулись к собору Святого Назария. Во главе шествия выступал облаченный в белое священник, воздевший высоко вверх золотой крест. За ним тянулись другие священники, монахи и монахини. Дальше шла дама Агнесс, жены консулов, а в самом конце — придворные дамы. Элэйс волей-неволей пришлось занять место рядом с сестрой. Ориана не перемолвилась с ней ни единым словом — ни добрым, ни злым. Она, как обычно, привлекала к себе восхищенные взгляды. Сегодня сестрица нарядилась в темно-багровое платье. Тонкий золотой с чернью поясок, туго обхвативший стройную талию, подчеркивал ее пышные бедра. Черные волосы были вымыты и умащены маслом, руки молитвенно сложены перед грудью, так что всем был виден изящный кошель для милостыни, свисавший с запястья. Элэйс подозревала, что кошелек подарен поклонником, и не бедным, если судить по нашитым вокруг горловины жемчужинам и гербу, вышитому золотой нитью. Элэйс за церемонным видом сестры угадывала злость и подозрительность. Франсуа она заметила только тогда, когда слуга тронул ее за плечо. — Эсклармонда вернулась, — шепнул он ей на ухо. — Я сейчас от нее. Элэйс развернулась к нему: — Ты с ней говорил? Он замялся. — По правде сказать, нет, госпожа. Элэйс поспешно стала выбираться из рядов. — Я пошла. — Прости, госпожа, не лучше ли дождаться конца службы? Они уже вошли в собор. Элэйс оглянулась на дверь. Едва пропустив шествие богомольцев, вдоль задней стены сомкнулся ряд монахов. Из-под клобуков смотрели бдительные глаза. Эта стража никого не пропустила бы незамеченным. — Ваш уход может повредить отцу или даме Агнесс. Его могут истолковать как знак вашего сочувствия новой церкви. — Конечно, ты прав. — Элэйс помолчала, соображая. — Передай Эсклармонде: я приду, как только смогу.
Элэйс обмакнула палец в кропильницу и перекрестилась святой водой. Она помнила, что за ней могут наблюдать. Место для себя она выбрала в боковом нефе, так далеко от Орианы, как можно было отойти, не привлекая внимания. В подвешенных под сводами люстрах мигали свечи. Снизу эти люстры казались пылающими железными колесами, готовыми обрушиться с высоты на головы грешников. Элэйс удивило, как много народу собралось сегодня в соборе, давно стоявшем пустым. Голос епископа едва пробивался сквозь шепот дыхания задыхающейся в давке толпы. Как непохоже это все на простые служения в церкви Эсклармонды! Церкви, к которой принадлежит и ее отец. Bons Homes ставили внутреннюю веру выше внешних проявлений. Им ни к чему были святые храмы, суеверные обряды, унизительная покорность, отделяющая простых людей от Бога. Они не почитали идолов, не падали ниц перед изображениями орудий пытки. Для Bons Chrétiens сила Господа таилась в Слове. Им нужны были лишь книги и молитва: слово, произнесенное или прочитанное вслух. Спасение не достигалось через раздачу милостыни, почитание мощей или субботние молитвы, прочитанные на языке, понятном одним церковникам. В их глазах перед милостью Святого Отца все были равны: евреи и сарацины, мужчины и женщины, зверь в полях и птица в небе. Не будет ни ада, ни Страшного суда, потому что милость Божия даст спасение каждому — только иным, прежде чем достигнуть царства Божия, придется прожить много жизней. Правда, сама Элэйс не посещала служб, но от Эсклармонды знала слова молитв и ход обрядов. Однако важнее для нее было то, что в эти темные времена Bons Chrétiens оставались добрыми людьми, мирными и терпимыми, и почитали Светоносного Господа, вместо того чтобы трепетать в страхе перед жестоким божеством католиков. Наконец Элэйс разобрала в бормотании епископа слова «Benedictus».[252] Теперь можно незаметно ускользнуть. Медленно, сложив руки, стараясь держаться незаметно, Элэйс бочком продвигалась к дверям. Еще минута — и она свободна.
ГЛАВА 35
Дом Эсклармонды скрывался в тени башни Балтазара. Элэйс помешкала, прежде чем постучать в ставень. Сквозь большое окно ей видна была хозяйка дома, расхаживающая по комнате. На женщине было простое зеленое платье, тронутые сединой волосы туго стянуты на затылке. «Наверняка я не ошиблась». Элэйс преданно смотрела на подругу. Она уже не сомневалась, что ее догадка верна. Эсклармонда подняла взгляд, вскинула руку, помахала. Улыбка осветила ее лицо. — Элэйс! Как я тебе рада! Мы с Сажье по тебе скучали. В дверях Элэйс встретил знакомый запах трав и пряностей. Она переступила порог, входя в единственную комнату, занимавшую весь нижний этаж маленького жилища. Над небольшим очагом посередине кипел котелок с водой. Ближе к стене стояли стол, лавка и два стула. Тяжелый занавес отделял заднюю часть комнаты, где Эсклармонда принимала приходящих за советом просителей. Сейчас у нее никого не было: отдернутый занавес открывал ряды глиняных кувшинов и горшков, расставленных на длинных полках. С потолка свисали пучки засушенных трав и цветов. На столе рядом со светильником стояла ступка с пестиком — точь-в-точь такая же, как у самой Элэйс. Эсклармонда и подарила ей на свадьбу инструменты травницы. Приставная лестница вела наверх, на полати, где спали бабушка и внук. Сажье свесил голову и, увидев, кто пришел, издал восторженный вопль. Мальчуган скатился по ступеням и обхватил гостью руками за пояс. Ни минуты не медля, он пустился в рассказ о своих приключениях, обо всем, что видел и слышал за то время, как ее не было. Сажье был отличный рассказчик, красноречивый и пылкий, а в особенно интересных местах его янтарные глаза так и светились от волнения. Дав ему поболтать немного, Эсклармонда вмешалась. — Я хотела попросить тебя доставить пару посылок, — обратилась она к мальчику. — Госпожа Элэйс тебя извинит. Сажье собирался возразить, но взгляд на лицо прабабушки остановил его. — Я быстро вернусь! Элэйс потрепала его по волосам. — У тебя зоркий взгляд, Сажье, и дар слова. Не станешь ли ты поэтом, когда подрастешь? Паренек замотал головой: — Я буду шевалье, госпожа. Я хочу сражаться! — Сажье, — строго одернула его Эсклармонда. — Послушай-ка меня. Она назвала имена людей, которым он должен был сообщить, что через три ночи в роще к востоку от Сен-Микеля назначена встреча с двумя Совершенными. Мальчик кивнул. — Вот и хорошо. — Эсклармонда поцеловала его в макушку и тут же приложила палец к губам. — Помни: только тем, кого я назвала. Теперь отправляйся. Чем скорей уйдешь, тем скорее вернешься, чтобы закончить свой рассказ госпоже Элэйс. — Ты не боишься, что его подслушают? — спросила та, когда Эсклармонда закрыла дверь. — Сажье толковый мальчишка. Он знает, что слышать его должны только те, кому назначаются послания. Высунувшись из окна, она подтянула и закрыла ставни. — Кому-нибудь известно, что ты здесь? — Только Франсуа. Это он мне сказал, что ты вернулась. Что-то странное мелькнуло во взгляде Эсклармонды, но она промолчала. Потом кивнула: — Лучше, чтобы никто и не знал, да? Она присела за стол и поманила Элэйс к себе. — Ну как, поездка в Безьер оказалась успешной? Элэйс покраснела: — Ты уже знаешь? — Вся Каркассона знает. Ни о чем другом и не говорят. Лицо ее стало строгим. — Я тревожилась за тебя. Сперва то нападение, а потом… — Ты и об этом знаешь? От тебя не было вестей, и я решила, будто ты в отъезде. — Ничего подобного. Я пришла в замок, как только тебя нашли, но тот же Франсуа меня не впустил. Твоя сестрица приказала никого к тебе не пропускать без ее дозволения. — Он мне ничего не сказал, — озадаченно пробормотала Элэйс. — И Ориана тоже, но она-то меня не удивляет. — Вот как? — Да, она все время за мной следит, и это, мне кажется, не от большой любви. У нее есть какая-то цель. — Элэйс помолчала. — Прости, Эсклармонда, что я тебе не доверилась. Просто не было времени. Эсклармонда отмахнулась: — Послушай-ка лучше, что здесь творилось, пока вас не было. Через несколько дней после того, как ты пропала из Шато, туда явился какой-то человек и стал расспрашивать о Рауле. — Кто это, Рауль? — Паренек, который нашел тебя в саду. — Эсклармонда усмехнулась. — Эта находка его прославила. Послушав его рассказы, можно было подумать, будто он, спасая твою жизнь, в одиночку отразил армию Саладина. — Я его совсем не помню, — покачала головой Элэйс. — Думаешь, он что-то видел? Эсклармонда пожала плечами. — Вряд ли. Тревога поднялась, когда тебя не было уже целый день. Если бы Рауль застал разбойников на месте преступления, он бы проговорился раньше. Как бы то ни было, незнакомец увел парня в таверну Святого Иоанна Евангелиста. Накачал его пивом, расхваливал на все лады. Рауль, при всем своем бахвальстве, всего-навсего мальчишка, притом туповатый, так что ко времени, когда Гастон стал закрывать, он уже на ногах не держался. Незнакомец обещал, что проводит его домой. — Да, и?.. — Домой Рауль не вернулся. И никто его с тех пор не видел. — А того мужчину? — Пропал, как не бывало. В таверне он говорил, будто явился из Альзонны. Пока вы были в Безьере, я туда съездила. Никто там о таком и не слыхивал. — Так что с этой стороны мы ничего не узнаем… Эсклармонда покачала головой. — И как это ты так поздно очутилась во дворе? — спросила она негромко. За спокойным и ровным тоном вопроса ясно слышалась серьезная озабоченность. Элэйс рассказала ей. Когда рассказ закончился, Эсклармонда еще долго молчала. — Остаются два вопроса, — сказала она наконец. — Первый: кто знал, что тебя вызывает отец? Я уверена, что нападавшие оказались на твоем пути не случайно. И второй — были то сами заговорщики или они исполняли чей-то приказ, а если так, то чей? — Я никому не говорила. Отец меня предупредил. — Тебя вызвал Франсуа. — Верно, — признала Элэйс, — но я не поверю, что Франсуа мог… — Кто угодно из слуг мог увидеть, как он идет за тобой, или подслушать ваш разговор, — Она не сводила с Элэйс прямого проницательного взгляда. — Что заставило тебя поехать за отцом в Безьер? Неожиданный оборот беседы застал Элэйс врасплох. — Я… — начала она тщательно подбирая слова. Она ведь пришла к Эсклармонде за ответом на свой вопрос, а сама оказалась на месте свидетеля. — Я получила от отца знак, — сказала она, не сводя взгляда с лица подруги. — Знак с вырезанным на нем лабиринтом. Воры забрали его. Из сказанного мне отцом я поняла, что каждый день в неведении о его пропаже может поставить в опасность… — Она умолкла, не зная, как закончить. К ее удивлению, Эсклармонда заулыбалась. — Ты ему и о дощечке рассказала? — мягко спросила она. — Да, еще до его отъезда, перед… нападением. Он очень тревожился, особенно когда я призналась, что не помню, откуда она у меня. — Элэйс помолчала и договорила: — Хотя теперь я, по-моему, знаю. — Сажье ее заметил, когда помогал тебе выбирать сыр, и рассказал мне. Как ты заметила, у него зоркий глаз. — Странно, что одиннадцатилетний мальчуган обращает внимание на такие вещи. — Он знает, как это важно для меня, — объяснила Эсклармонда. — Так же важно, как мерель? — Их глаза встретились. Эсклармонда отозвалась не сразу. — Нет, — сказала она, — нет, не совсем так. — Она у тебя? — медленно спросила Элэйс. Эсклармонда кивнула. — Но почему было просто не попросить? Я бы сама тебе отдала. — В ночь, когда ты исчезла, Сажье приходил к тебе как раз с такой просьбой. Он ждал и ждал, а ты все не возвращалась, и тогда он взял ее без спроса. И оказывается, правильно сделал. — Она и сейчас у тебя? Эсклармонда кивнула. Элэйс преисполнилась гордости. Разве не она угадала в своей наставнице последнего из стражей? «Я видела узор. Он подсказал мне…» — Скажи, Эсклармонда, — попросила она, не в силах больше сдерживаться, — если это твоя дощечка, почему мой отец об этом не знал? Женщина улыбнулась. — По той же причине, по которой не знает, откуда она у меня. Так захотел Ариф. Он заботился о сохранности книг. Элэйс не решилась заговорить, боясь, что сорвется голос. — Ну а теперь, когда мы друг друга поняли, расскажи мне все.Эсклармонда внимательно выслушала повесть Элэйс. — Стало быть, Симеон направляется в Каркассону? — Да, но книгу он пока отдал на хранение отцу. — Разумная предосторожность, — кивнула Эсклармонда. — Я рада буду получше узнать его. По твоему рассказу, он прекрасный человек. — Мне он ужасно понравился, — призналась Элэйс. — Но отец был очень разочарован, узнав, что у Симеона осталась всего одна книга. Он ожидал найти в Безьере обе. Эсклармонда собиралась ответить, но тут кто-то заколотил в дверь и в ставень. Обе они вскочили на ноги. — Atencion! Atencion! — Что там? Что случилось? — вскрикнула Элэйс. — Солдаты! Пока твой отец был в отъезде, в городе прошло много обысков. — Чего же они ищут? — Говорят, что преступников, но по правде — Bons Homes. — А кто их послал? Консулы? Эсклармонда покачала головой. — Беренгьер де Рошфор, наш благородный епископ; испанский монах Доменико де Гусман со своими братьями проповедниками… кто знает? Они не объявляют себя. — Наш закон не позволяет… Эсклармонда приложила палец к губам: — Тс-с! Может, они еще пройдут мимо. В то же мгновение тяжелый удар обрушился на дверь. Брызнули во все стороны щепки, засов отскочил, и дверь, распахнувшись, с глухим стуком ударилась о каменную стену. Двое вооруженных людей ворвались в комнату. Их лица скрывали низко надвинутые шлемы. — Я Элэйс дю Мас, дочь кастеляна Пеллетье! Я желаю знать, от чьего имени вы действуете. Мужчины не опустили оружие и не подняли забрал. — Я требую… В дверях мелькнуло что-то красное, и, к ужасу Элэйс, на пороге появилась Ориана. — Сестра? Что привело сюда тебя и этих людей? — Я исполняю приказ нашего отца: препроводить тебя в Шато Комталь. Весть о твоем излишне поспешном исчезновении с вечери уже дошла до его ушей. Опасаясь, что с тобой случилось несчастье, он послал меня искать тебя. «Лжешь!» — Он бы ничего подобного и не подумал, если бы ты не вложила ему в голову эту мысль. — Говоря это, Элэйс смотрела на солдат. — И к чему тебе вооруженная стража? — Мы думаем только о тебе, — натянуто улыбнулась сестра. — Признаюсь, может быть, я слишком сильно о тебе беспокоилась. — Тебе вовсе незачем беспокоиться. Я сама вернусь в Шато, когда закончу разговор. Элэйс вдруг заметила, что сестра вовсе не слушает ее, а взглядом шарит по комнате. Холодный ком встал у Элэйс под ложечкой. Неужели Ориана подслушала их разговор? Она тут же изменила тактику. — Впрочем, пожалуй, я пойду с тобой. Здесь я уже закончила дела. — Дела, сестрица? Ориана принялась бродить по комнате, гладить ладонями спинки стульев, столешницу. Она открыла крышку стоявшего в углу сундука, заглянула внутрь и со стуком захлопнула. Элэйс с беспокойством наблюдала за сестрой. Та остановилась на пороге рабочей половины комнаты. — Чем это ты тут занимаешься, колдовством? — презрительно бросила она, впервые замечая Эсклармонду. — Зелья и заговоры для слабоумных? — Она с отвращением огляделась и отступила назад. — Многие считают, что ты ведьма, Эсклармонда из Сервиана, faitilhièr, как говорят простолюдины. — Как ты смеешь так с ней разговаривать? — негодующе крикнула Элэйс. — Если желаешь, госпожа Ориана, можешь осмотреть все, — невозмутимо проговорила Эсклармонда. Ориана неожиданно вцепилась в плечо сестре. — Хватит с тебя, — процедила она, запуская острые ногти ей в кожу. — Ты сказала, что готова вернуться в замок? Так идем! Не успев опомниться, Элэйс оказалась за порогом. Солдаты дышали ей в затылок. Мелькнуло воспоминание: запах вчерашнего пива, вонючая рука, зажавшая рот. — Живо, — приказала Ориана, подталкивая ее в спину. Ради Эсклармонды Элэйс не стала противиться ей. На углу она сумела обернуться через плечо. Эсклармонда стояла в дверях, глядя им вслед. Поймав взгляд Элэйс, она прижала палец к губам. Ясный знак: молчать.
ГЛАВА 36
В главной башне тер глаза и потягивался, разгоняя ломоту в костях, Пеллетье. Час за часом из Шато Комталь рассылали гонцов с письмами к тем из шестидесяти вассалов Тренкавеля, кто еще не выступил к Каркассоне. Сильнейшие из них, хотя и числились вассалами виконта, были вполне независимы, так что в письмах к ним Приходилосьскорее убеждать и уговаривать, нежели приказывать. В каждом послании он не скрывая описывал грозящую опасность. Французы собрали на границе Миди невиданную доселе армию вторжения. Гарнизон Каркассоны необходимо усилить. Исполните свои вассальные клятвы, соберите, сколько возможно, добрых людей и приходите. — A la perfin, — сказал Тренкавель, разогревая на светильнике воск, чтобы приложить печать. — Наконец. Пеллетье подошел к виконту, кивнув Жеану Конгосту. У него редко находилось время для мужа Орианы, но сегодня он должен был признать: Конгост со своей армией писцов трудились неутомимо и успешно. Сейчас слуга унес последнее послание, чтобы вручить его последнему из гонцов, и кивком Пеллетье отпускал эскриванов отдохнуть. Следом за Конгостом вставали, хрустя онемевшими пальцами, и другие писцы — терли покрасневшие глаза, собирали свитки пергаментов, перья и чернильницы. Пеллетье молчал, пока они с виконтом не остались наедине. — Тебе надо отдохнуть, мессире, — заговорил он тогда. — Следует беречь силы. Тренкавель рассмеялся. — Força e vertu, — повторил он слова, сказанные в Безьере. — Сила и храбрость. Не беспокойся, Бертран, со мной все хорошо. А вот у тебя, старый друг мой, усталый вид. — Признаюсь, мысль о постели кажется очень привлекательной, мессире, — кивнул кастелян. Две недели бессонных ночей и пятьдесят два года за плечами давали себя знать. — Сегодня все мы будем спать в собственных постелях, Бертран, но боюсь, им придется еще час-другой подождать нас. — Виконт погрустнел. — Я должен как можно скорее встретиться с консулами — со всеми, кого удастся собрать в такой спешке. Пеллетье кивнул и спросил: — Ты хочешь от них еще чего-то? — Даже если на мой призыв откликнутся все вассалы до единого, даже если они приведут с собой сильные отряды, все равно людей нам не хватит. — Ты будешь просить, чтобы они открыли сундуки с казной? — Нужны деньги, чтобы купить отряды опытных дисциплинированных наемников. В Арагоне или в Каталонии — чем ближе, тем лучше. — Ты не думал поднять налоги? Скажем, на соль? Или на муку? — Для таких мер время еще не пришло. Я предпочел бы получить нужные средства в дар, а не вымогать их. — Виконт помолчал. — Если не выйдет, тогда придется обдумать другие способы. Как идет работа на укреплениях? — Собраны все каменщики и плотники из города, Сен-Венсена и Сен-Микеля, а также и из северных деревень. Уже начали разбирать хоры в соборе и монастырскую трапезную. — Беренгьер де Рошфор будет недоволен, — усмехнулся виконт. — Епископу придется потерпеть, — заворчал Пеллетье. — Нам понадобится дерево, чтобы сейчас же приступить к сооружению ambans и cadefalcs. Его дворец и трапезная — самый подходящий источник. Раймон Роже вскинул руки в притворном отчаянии. — Я не оспариваю твоих распоряжений, — засмеялся он. — Укрепления важнее епископских удобств! Скажи лучше, Бертран, Пьер Роже де Кабарет уже прибыл? — Еще нет, мессире, но его ждут с минуты на минуту. — Когда появится, пришли его прямо ко мне. Я бы хотел, если возможно, увидеться с ним до встречи с консулами. Из Терма или из Фу а нет вестей? — Пока нет, мессире.Чуть позже Пеллетье стоял, подбоченившись, посреди Кур д'Онор. Он был доволен: работа продвигалась быстро. Звенели пилы, стучали молотки, скрипели колеса телег, подвозивших дерево, гвозди и вар, гудели в кузницах пылающие горны. Краем глаза он заметил спешащую к нему через двор Элэйс и нахмурился. — Зачем ты послал за мной Ориану? — с ходу накинулась она на отца. Тот ошеломленно оглянулся. — Ориану? Куда послал? — Я гостила у подруги, у Эсклармонды из Сервиана, в южной части города, когда туда вломилась Ориана в сопровождении двух солдат. Она заявила, будто ты послал ее доставить меня в Шато. — На лице отца она увидела неподдельное изумление. — Она правду сказала? — Я не виделся с Орианой. — Ты ведь обещал поговорить с ней о ее поведении в твое отсутствие. — Не было времени. — Прошу тебя, не думай, что это пустяки. Она что-то знает — что-то, что может тебе повредить. Я уверена. Пеллетье побагровел. — Я не желаю слышать, как ты клевещешь на родную сестру! Это зашло… — Дощечка с лабиринтом принадлежит Эсклармонде, — выпалила Элэйс. Он осекся, словно дочь ударила его. — Что? О чем ты говоришь? — Вспомни, Симеон отдал ее женщине, которая приходила за второй из книг. — Не может быть! — выговорил он с такой силой, что Элэйс отшатнулась. — Эсклармонда и есть третий страж, — заторопилась она, не давая отцу времени возразить. — Та сестра из Каркассоны, о которой пишет Ариф. И про мерель она знает! — И твоя Эсклармонда утверждает, что она — страж? — требовательно спросил отец. — Потому что если так, то… — Я не спросила ее напрямик, — сказала Элэйс и добавила: — Но это вовсе не глупо, paire. Она как раз такой человек, которого мог бы выбрать Ариф. Что ты знаешь об Эсклармонде? — спросила она, чуть помолчав. — Знаю, что ее считают мудрой женщиной. И у меня есть основания благодарить ее за любовь и заботу о тебе. Ты говорила, у нее есть внук? — Да, вернее, правнук, Сажье. Ему одиннадцать лет. Эсклармонда сама из Сервиана, мессире. Она перебралась в Каркассону, когда Сажье был младенцем. И по времени сходится с рассказом Симеона. — Кастелян Пеллетье! Оба они обернулись на голос слуги. — Мессире, виконт Тренкавель желает немедля видеть вас у себя. Прибыл Пьер Роже, владетель Кабарета. — Где Франсуа? — Не знаю, мессире. Пеллетье досадливо заворчал, покосился на Элэйс. — Передай виконту, что я сейчас буду, — бросил он. — Потом разыщи Франсуа и пришли ко мне. Его никогда нет под рукой, когда он нужен. — Хотя бы поговори с Эсклармондой! Выслушай ее. Я передам ей твое приглашение, — не отступалась Элэйс. Пеллетье на мгновенье задумался и сдался: — Дождемся Симеона, и тогда я послушаю, что скажет нам твоя мудрая подруга… — Он уже поднимался по лестнице, но остановился, договаривая на ходу: — Еще одно, Элэйс. Откуда Ориана знала, где тебя искать? — Должно быть, шла за мной от собора Святого Назария, хотя… — Она осеклась. У Орианы не хватило бы времени заручиться помощью солдат и вернуться так быстро. — Не знаю, — призналась Элэйс. — Но я уверена, что… Пеллетье уже уходил. Проходя по двору, Элэйс с облегчением заметила, что Орианы нигде не видно. И тут же замерла как вкопанная при мысли: «Что, если она вернулась туда?» Элэйс подобрала подол и пустилась бегом.
Едва свернув на улицу, где жила Эсклармонда, Элэйс увидела, что опоздала. С окон были сорваны ставни, дверь выбита. Эсклармонда, ты здесь?! Элэйс вбежала внутрь. Мебель перевернута, ручки кресел прогнулись, как сломанные кости. Содержимое сундука разбросано по всему полу, угли очага кто-то пнул ногой, засыпав все кругом слоем серого пепла. Она поднялась на несколько ступенек по лестнице. Солома, одеяла, тюфяки — все ложе перерыто, распорото. Нетрудно догадаться, что в перины тыкали копьями или остриями мечей. Еще худший беспорядок царил в рабочей половине Эсклармонды. Занавес просто сорвали, пол усыпан черепками горшков, залит лужами лекарственных настоев и отваров — бурыми, красными, белыми. Пучки трав сорваны с потолка и втоптаны в цветную жижу. Застали вернувшиеся солдаты Эсклармонду дома? Элэйс вернулась на улицу, надеясь узнать что-нибудь от соседей. Но все двери были заперты, ставни плотно закрыты. — Госпожа Элэйс… Сперва она подумала, будто ослышалась. — Госпожа Элэйс! — Сажье! — выдохнула она. — Где ты? — Здесь, наверху. Элэйс вышла из тени дома, подняла взгляд. В собирающихся сумерках она едва разглядела светлую копну волос и блеск янтарных глаз над крутым карнизом крыши. — Сажье, — с облегчением улыбнулась она, — ты убьешься! — Вот и нет, — ухмыльнулся мальчишка. — Я сколько раз так лазал. Я и в Шато Комталь могу по крышам забраться, и обратно тоже! — Ну а у меня голова кружится на тебя смотреть. Слезай. У нее перехватило дыхание, когда Сажье повис на руках и спрыгнул на улицу прямо перед ней. — Что здесь было? Где Эсклармонда? — Menina в безопасности. Она велела дождаться тебя. Знала, что ты придешь. Оглянувшись через плечо, Элэйс втянула мальчика в пустой дверной проем. — Рассказывай, — поторопила она. Сажье с несчастным видом уставился себе в ноги. — Солдаты вернулись. Я почти все слышал через окно. Menina догадалась, что они придут назад, как только ваша сестра доведет вас до Шато, так что мы спрятались в погребе. — Мальчик глубоко вздохнул. — Они очень спешили. Мы слышали, они ходили от двери к двери, выспрашивали о нас у соседей. Топали прямо у нас над головами, пол трясся, но люка они не нашли. — Голос у него задрожал, обычного озорства не осталось и следа. — Они все у бабушки перебили. Все ее лекарства. — Я знаю, — мягко сказала Элэйс. — Видела. Элэйс взяла мальчика за подбородок, подняла к себе его лицо. — Это очень важно, Сажье. Солдаты были те же, что в первый раз? Ты их видел? — Не видел… — Ну ничего, — быстро сказала она, видя, что мальчик готов расплакаться. — Ты, видно, храбрец. Настоящая опора для Эсклармонды. — Элэйс замялась. — С ними был кто-нибудь? — По-моему, нет, — жалобно отозвался мальчуган. — Я ничего не мог сделать. Элэйс обняла его за плечи, увидев, как по щеке скатилась первая слеза. — Тише, тише, все будет хорошо. Не отчаивайся. Ты старался, как лучше, Сажье. Никто из нас не может сделать большего. Мальчик кивнул. — Где теперь Эсклармонда? — В одном доме в Сен-Микеле. — Он сглотнул слезы. — Она сказала, мы там будем ждать, пока ты нам не скажешь, где встретиться с кастеляном Пеллетье. Элэйс замерла. — Она так и сказала, Сажье? Что ждет известия от моего отца? Сажье поднял на нее озадаченный взгляд. — Разве она ошиблась? — Нет-нет, просто я не знаю, как… — Элэйс не договорила. — Ничего. Это неважно. — Своим платком она вытерла мальчику лицо. — Вот так-то лучше. Отец хочет поговорить с Эсклармондой, но он ждет еще одного… друга, который должен добраться из Безьера. Сажье кивнул: — Симеона. Элэйс широко открыла глаза, потом с улыбкой признала: — Верно, Симеона. Сажье, есть ли что-то, чего бы ты не знал? Мальчик уже почти улыбался: — Такого мало. — Ты передай Эсклармонде, что я все расскажу отцу, но пока ей… вам обоим лучше подождать в Сен-Микеле. К удивлению Элэйс, мальчик взял ее за руку. — Скажи ей сама, — предложил он. — Menina рада будет тебя повидать. И вам еще надо поговорить. Она говорит, вам не дали закончить разговор. Элэйс заглянула в его янтарные глаза, горевшие азартом. — Так ты пойдешь? Элэйс засмеялась: — С тобой, Сажье? Куда угодно. Но не сейчас. Это слишком опасно. За домом могут следить. Я пришлю весточку. Сажье кивнул и исчез так же неожиданно, как появился. — Deman al vesprè! — крикнул он уже издалека.
ГЛАВА 37
После возвращения из Монпелье Жеан Конгост мало виделся с женой. Ориана не приветствовала его, как должно, не выказала почтения к выстраданным мужем превратностям и унижениям. К тому же он не забыл еще бесстыдной сцены в спальне накануне его отъезда. Жеан поспешал через двор, бормоча себе под нос. У входа в жилые помещения он встретил Франсуа, слугу Пеллетье. Конгост не доверял этому человеку, полагая, что тот непозволительно заносчив и вечно шныряет кругом, донося обо всем своему господину. Да и нечего ему было делать в покоях в такое время. Франсуа поклонился ему: — Мое почтение, эскриван. Конгост посмотрел сквозь него. К тому времени, как он добрался до своих покоев, Конгост успел взрастить в себе праведное негодование. Пора преподать Ориане урок. Недопустимо оставлять безнаказанной столь наглую и откровенную непокорность. И он без стука распахнул дверь. — Ориана, где ты? Поди сюда! Комната была пуста. В досаде супруг смел все со столика отсутствующей супруги. Разлетелись вдребезги кувшинчики, со стуком раскатились по полу свечи. Жеан бросился к гардеробу, вывернул из него всю одежду, сдернул с ложа покрывало, еще хранившее следы ее распутства. Затем он в ярости бросился в кресло и осмотрел плоды своих усилий: разорванные тряпки, разбитые горшки, поломанные свечи. Ориана сама виновата. Если бы она вела себя как следует, ничего бы не случилось. Он пошел искать Жиранду, чтобы та прибрала в спальне, раздумывая, как призвать к порядку отбившуюся от рук супругу.Гильом в облаке горячего пара показался в дверях бани и увидел ожидавшую его Жиранду. Женщина хитровато усмехалась, загнув кверху уголки губ. Гильом сразу помрачнел. — Что тебе? Служанка хихикнула, окинув его взглядом из-под густых ресниц. — Ну? — прикрикнул он. — Говори, если есть что сказать, а нет, так оставь меня в покое. Жиранда склонилась к нему, зашептала на ухо. Гильом выпрямился: — Чего она хочет? — Не могу сказать, мессире. Моя госпожа не поверяет мне своих желаний. — Жиранда, ты не умеешь лгать! — Ответ будет? Гильом задумался. — Скажи госпоже, что я сейчас буду, — он сунул ей в руку монетку, — и держи рот на замке. Он посмотрел ей вслед, потом вышел на середину двора и присел под раскидистым вязом. Не надо бы ходить. Зачем подвергать себя искушению? Это слишком опасно. Она слишком опасна. Он вовсе не намеревался заходить так далеко. Зимняя ночь, теплая кожа под мехами, кровь, разгоряченная вином с пряностями, и не остывший еще охотничий азарт… Что за безумие им овладело? Она просто околдовала его. Утром он раскаивался и клялся себе, что это никогда не повторится. И первые несколько месяцев после женитьбы держал слово. Потом снова случилась такая ночь, потом вторая, третья и четвертая. Она овладела им, захватила целиком. При нынешнем положении дел он особенно беспокоился, как бы не просочились наружу скандальные слухи. Следует быть осторожнее. Важно хорошо закончить дело. Он увидится с ней только ради того, чтобы сказать, что больше им нельзя встречаться. Заторопившись, пока не растаяла решимость, он вскочил и направился в сад. У ворот остановился, задержал руку, уже тронувшую засов. Дальше идти не хотелось. Но тут он увидел ее, стоящую в густой тени ивы — темная фигура, тающая в сумерках. Сердце подпрыгнуло у него в груди. Она походила на темного ангела, ее волосы, свободными локонами рассыпавшиеся по плечам, даже в полумраке блестели гагатом. Гильом глубоко вздохнул. Еще не поздно вернуться. Но тут Ориана, словно почувствовав его колебание, обернулась, и власть ее взгляда притянула Гильома к себе. Он приказал своему конюшему охранять ворота и по мягкой траве пошел к ней. — Я боялась, что ты не придешь, — сказала она, когда любовник поравнялся с ней. — Не смог устоять. Он почувствовал на руке прикосновение ее нежных пальцев, потом ее ладонь мягко легла ему на запястье. — Тогда я молю простить за то, что нарушила твой покой, — шепнула Ориана, привлекая его к себе. — Увидит кто-нибудь, — прошипел Гильом, отстраняясь. Ориана придвинулась совсем близко, так что он ощутил аромат ее духов. Гильом пытался не замечать пробуждающегося желания. — Отчего ты так неласков со мной? — уговаривала она. — Здесь некому нас видеть. Я велела сторожить ворота. К тому же сегодня все слишком заняты, чтобы думать о нас. — Не настолько уж погружены в собственные дела, чтобы не сунуть нос в чужие, — возразил он. — Все следят, подслушивают, надеются подметить что-нибудь, что можно обернуть в свою пользу. — Какая гадкая мысль, — бормотала она, гладя его по волосам. — Забудь о них. Сейчас думай лишь обо мне. Ориана была уже так близко, что он чувствовал, как бьется под тонкой тканью платья ее сердце. — Отчего ты так холоден, мессире, разве я чем-нибудь оскорбила тебя? Он чувствовал, как стынет его решимость по мере того, как разогревается кровь. — Ориана, мы грешим. Тебе это известно. Ты предаешь мужа, а я жену нашей нечестивой… — Любовью? — подсказала она и рассмеялась милым, легким смешком, от которого перевернулось в нем сердце. — Любовь не грех. То добродетель, обращающая дурное в хорошее, а хорошее в лучшее. Разве ты не слышал трубадуров? Гильом только теперь заметил, что уже держит в ладонях ее прекрасное лицо. — Песни есть песни. Наши обеты даны были не в балладе, а в жизни. Не извращай моих слов. — Он набрал в грудь побольше воздуха. — Я говорю, что мы не должны больше встречаться. Она замерла в его ладонях, прошептала: — Ты больше не любишь меня, мессире? Густые волосы упали ей на лицо, скрыв ее от глаз Гильома. — Не надо, — сказал он уже не так твердо. — Чем я могу доказать тебе свою любовь? — шептала она так тихо, так безнадежно, что он едва слышал ее слова. — Если ты недоволен мною, мессире, тогда скажи… Он переплел ее пальцы со своими. — Ты ни в чем не виновата. Ты прекрасна, Ориана, ты… — Он умолк, не находя больше слов. Пряжка на плаще Орианы отстегнулась, упала в траву, мерцающая синяя материя волной стекла к ее ногам. Она казалась такой беззащитной, такой слабой, что ему ничего не оставалось, как сжать ее в своих объятиях. — Нет, — бормотал он, — я не… Гильом пытался вызвать в памяти лицо Элэйс, ее прямой взгляд, доверчивую улыбку. Как ни странно для мужчины с его титулом и положением, он верил в святость брачных уз. Он не хотел предавать жену. Сколько раз в первые ночи их брака, глядя, как она мирно спит в тишине их опочивальни, он понимал, что стал — мог стать — лучше, чем был, потому что был любим ею. Он попытался высвободиться, но в ушах стоял голос Орианы, и к нему примешивались шепотки челяди, болтавшей, каким дураком выставила его Элэйс, отправившись за мужем в Безьер. Гул в ушах разрастался, заглушая звонкий голосок жены. Ее лицо, стоявшее перед глазами, бледнело, таяло. Она уплывала, оставляя его в одиночку бороться с искушением. — Я тебя обожаю, — шептала Ориана, между тем как ее ладонь проскальзывала у него между бедрами. Он зажмурил глаза, не в силах противиться этому голосу. Он звучал, как шум ветра в лесу. — С самого вашего возвращения из Безьера я только мельком видела тебя издалека. Гильом хотел ответить, но в горле было сухо. — Говорят, виконт Тренкавель отличает тебя среди всех своих шевалье, — шепнула Ориана. Гильом уже не различал слов: слишком громко шумело в ушах, слишком сильно билась кровь, слишком отяжелела голова… Он уложил женщину на траву. — Расскажи мне, что было между тобой и виконтом, — нашептывала она ему в ухо. — Расскажи, что было в Безьере. Гильом тихо ахнул, когда она обвила его ногами и притянула к себе. — Расскажи, какая судьба нас ждет. — Об этом нельзя рассказывать, — выдохнул он, чувствуя только, как движется под ним ее тело. — Мне можно. — Ориана прикусила его губу. Он выкрикнул ее имя. Его больше не заботило, кто может подсмотреть или подслушать их. Он не видел ни жадной радости в ее зеленых глазах, ни крови — его крови — у нее на губах.
Пеллетье с неудовольствием оглядывался. Ни Элэйс, ни Ориана не явились к ужину. Подготовка к обороне не совсем затмила дух празднества, царивший среди собравшихся в Большом зале на лир по случаю возвращения виконта. Встреча с консулами прошла удачно. Пеллетье не сомневался, что они соберут нужную сумму. Из самых близких к Каркассоне замков уже прибывали гонцы. Пока никто не отказался исполнить долг вассала, не отказался помочь людьми или деньгами. Едва виконт Тренкавель и дама Агнесс удалились, Пеллетье тоже под каким-то предлогом вышел на воздух. Сомнения тяжело давили ему на плечи. «Брат ожидает тебя в Безьере, сестра в Каркассоне». Судьба вернула ему Симеона и вторую книгу скорее, чем осмеливался надеяться Бертран. А теперь, если Элэйс не ошиблась, и третья книга, оказывается, совсем рядом. Рука Пеллетье потянулась к карману, где против сердца лежала книга Симеона.
Элэйс разбудил громкий стук ставня, ударившегося о стену, Она села на постели, чувствуя, как колотится в груди сердце. В сновидении она снова видела себя в роще под Курсаном, снова билась со связанными руками, пытаясь сбросить грубый капюшон. Она подняла одну из подушек, еще теплую от ее щеки, и прижала к груди. Постель еще хранила запах Гильома, хотя уже неделю его голова не лежала на этой подушке. Снова загремели ставни. Буря свистела вокруг башен, сотрясала кровли. Элэйс вспомнила еще, как, засыпая, попросила Риксенду принести чего-нибудь поесть. В дверь постучали, и Риксенда робко вошла в комнату. — Прости, госпожа. Мне не хотелось вас будить, но он настаивает. — Гильом? — встрепенулась Элэйс. Риксенда покачала головой. — Ваш отец. Он просит вас сейчас же прийти к нему в караульню у Восточных ворот. — Сейчас? Но ведь, должно быть, уже за полночь? — Двенадцать еще не пробило, госпожа. — Почему он послал тебя, а не Франсуа? — Не знаю, госпожа. Оставив Риксенду присмотреть в спальне, Элэйс накинула плащ и сбежала по лестнице. Над горами еще гремела гроза. Отец встретил ее у ворот. — Куда мы идем? — крикнула Элэйс, перекрикивая ветер. — В собор Святого Назария, — ответил он. — Там спрятана «Книга Слов».
Ориана по-кошачьи потянулась на кровати, прислушиваясь к шуму ветра. Жиранда хорошо потрудилась, прибрав комнату и починив кое-что из испорченного Жеаном добра. Что привело мужа в такую ярость, Ориана не знала и знать не хотела. Все мужчины — скороходы, писцы, шевалье, священники в сущности своей одинаковы. Сколько твердят о чести и достоинстве, а потом ломаются, как сухая ветка. Первая измена дается всего трудней, а потом остается лишь удивляться, как легко они выбалтывают все тайны, как делами отрицают все, чем дорожат на словах. Она узнала больше, чем ожидала. Самое забавное, что Гильом даже не сознает значения того, что рассказал ей нынче вечером. Она и раньше подозревала, что Элэйс отправилась в Безьер за отцом, но теперь знала наверняка. И узнала кое-что из того, что произошло между ними в ночь перед его отъездом. Ориана так заботилась о здоровье сестрицы единственно ради того, чтобы подвигнуть ту поделиться отцовскими тайнами. Уловка не сработала. Правда, ее служанка донесла, в какое отчаяние пришла Элэйс, заметив пропажу деревянной дощечки. В бреду, разметавшись на постели, она только о ней и говорила. Но отыскать эту дощечку пока не удавалось, несмотря на все усилия Орианы. Она заложила руки за голову. Ей и во сне бы не приснилось, что в руках отца — вещь, обладающая такой властью, что за нее готовы отдать целое состояние. Нужно только набраться терпения. Из слов Гильома она поняла, что дощечка была не столь уж важна. Будь у нее побольше времени, она выманила бы у любовника и имя человека, с которым встречался в Безьере ее отец. Если он знал это имя. Ориана села. «Франсуа должен знать». Она хлопнула в ладоши. — Отнеси это Франсуа, — велела она. — И смотри, чтобы тебя никто не видел.
ГЛАВА 38
На лагерь крестоносцев пала ночь. Гай д'Эвре вытер жирные руки о полотенце, протянутое суетливым прислужником, осушил чашу и взглянул на восседавшего во главе стола аббата Сито: готов ли тот встать. Не готов. Аббат, облаченный в белое, лучащийся самодовольством, расположился между герцогом Бургундским и графом Неверским. Эти двое, вместе со своими приверженцами, соперничали из-за мест с самого выступления Воинства из Лиона. Судя по их бессмысленно застывшим лицам, Арнольд-Амальрик продолжает бичевать пороки. Ересь, геенна огненная, неуместность просторечия в богослужении — он способен часами изводить слушателей. Ни к одному из них Эвре не питал уважения. Их амбиции представлялись ему жалкими: добыть несколько золотых, вина и шлюх, подраться забавы ради и, отбыв законные сорок дней, со славой отправиться по домам. Слушал церковника, кажется, только де Монфор, сидевший за столом чуть дальше. У этого глаза горят неприятным огнем, соперничающим с фанатическим пламенем в глазах аббата. Эвре знал Монфора только понаслышке, хотя они и были близкими соседями. Гай унаследовал земли с добрыми охотничьими угодьями к северу от Шартра. Благодаря хорошо рассчитанным бракам и безжалостному взиманию податей состояние семьи последние пятьдесят лет неуклонно росло. Никакие братья не оспаривали у него титул, он не был обременен никакими существенными долгами. Земли Монфора под Парижем лежали в двух днях конного пути от поместья Эвре. Тот знал, что Монфор принял крест после персонального обращения к нему герцога Бургундского, однако его амбиции были известны всем, так же как благочестие и храбрость. Монфор был ветераном восточных кампаний в Сирии и Палестине, он же был в числе немногих крестоносцев, отказавшихся участвовать в осаде христианского города Зара во время четвертого Крестового похода в Святую землю. Теперь ему было за сорок, но Монфор до сих пор был силен как бык. Самолюбивый и вспыльчивый, он прославился небывалой преданностью людям, воевавшим под его началом, зато многие бароны ему не доверяли, подозревая в интригах и честолюбии, не подобающих его положению. Его Эвре презирал, как презирал всякого, объявляющего свои делишки деяниями Господа. У Эвре была всего одна, но веская причина принять крест. Достигнув цели, он немедленно вернется в Шартр с книгами, на охоту за которыми потратил полжизни. У него нет ни малейшего желания умирать на алтаре чужой веры. — Что еще? — буркнул он, заметив появившегося за плечом слугу. — К вам посланец, сударь. Эвре поднял голову: — Где? — Ждет за границей лагеря, сударь. Имени назвать не пожелал. — Из Каркассоны? — Он не говорит, сударь. Склонившись к внимающим аббату, Эвре извинился за ранний уход и выбрался из-за стола. Его бледное лицо окрасил румянец. Пробираясь среди палаток и коновязей, крестоносец поспешно зашагал к поляне на восточной стороне лагеря. Сперва в темноте ему удалось разглядеть лишь неясную тень, но, подойдя ближе, Эвре узнал слугу своего шпиона в Безьере. — Ну? В его голосе звучало жестокое разочарование. Посланец упал на колени. — Мы нашли их тела в лесу под Курсаном. Серые глаза Эвре напоминали сейчас щели в забрале шлема. — Под Курсаном? Их дело было следить за Тренкавелем и его людьми. Как их занесло к Курсану? — Не могу сказать, сударь, — пролепетал посланец. Повинуясь взгляду Эвре, еще двое выдвинулись из-за деревьев, непринужденно положив ладони на рукояти мечей. — Что еще там нашли? — Ничего, сударь. Накидки, оружие, даже стрелы, убившие их… там ничего не было. Голые тела. Все остальное унесли с собой. — Стало быть, их опознали? Слуга отступил на шаг. — В замке больше говорят об отваге Амьеля де Курсана, а кто были разбойники, почти не обсуждают. Там еще была девица, дочь наместника виконта Тренкавеля, Элэйс. — Она ехала одна? — Не знаю, сударь, но де Курсан сам проводил ее до Безьера. Она встретилась с отцом в еврейском квартале. Оба провели там некоторое время. В частном доме. Эвре задумался. — Вот оно как, — пробормотал он, и на его губах проступила улыбка. — А как зовут еврея? — Имени мне не сообщили, сударь. — Когда беженцы двинулись в Каркассону, он участвовал в исходе? — Да, сударь. Эвре не пожелал выказывать облегчение, которое принесла ему эта весть. — Кто еще об этом знает? — Никто, сударь, клянусь вам. Я никому не говорил. Эвре нанес удар без предупреждения. Нож легко вошел в горло гонца. Тот задохнулся, выкатил глаза, последний выдох выплеснулся на землю вместе с алой струей крови. Посланец упал на колени, потянулся к торчавшему в горле ножу, но руки его обмякли, и он ткнулся лицом в землю. Еще минуту тело корчилось в кровавой луже, потом содрогнулось в последний раз и замерло. Эвре безразлично взглянул на мертвеца, протянул руку ладонью вверх, ожидая, чтобы один из солдат вернул ему кинжал, вытер клинок угол ком рубахи убитого и вложил в ножны. — Избавьтесь от него, — приказал Эвре, толкнув тело носком сапога. — И найдите этого еврея. Я хочу знать, здесь он или уже в Каркассоне. Описание у вас есть? Солдат кивнул. — Хорошо. Если оттуда не будет известий, больше меня сегодня ночью не тревожьте.ГЛАВА 39 КАРКАСОН, среда, 6 июля 2005
Элис двадцать раз переплыла бассейн, затем позавтракала на веранде гостиницы, глядя, как лучи солнца пробираются сквозь листву. В девять тридцать она уже стояла в очереди, ожидающей открытия Шато Комталь. Заплатила за билет и получила в руки буклетик на причудливом английском с изложением истории замка. Деревянные помосты были возведены справа от ворот и вокруг вершины башни-подковы Тур де Касарн — как «воронье гнездо» на верхушке мачты. Тишина обняла Элис, едва она сквозь мощные двойные ворота из окованного металлом дерева вошла в крепостной двор. Кур д'Онор еще лежал в тени. В нем уже было множество посетителей, так же как и она, тихо бродивших кругом с путеводителями в руках. Во времена Тренкавелей посреди двора стоял большой вяз, под которым три поколения виконтов вершили суд. Теперь от дерева не осталось и следа. На его месте росли два безукоризненно подстриженных деревца. Когда солнце заглянуло через восточную стену укреплений, от них через весь двор протянулась длинная тень. Теперь дальний северный угол двора полностью осветился. В расщелинах стен и в дверных проемах над входами в башни Тур дю Мажор и Тур де Дегри гнездились голуби. Промелькнуло воспоминание: грубые деревянные ступеньки под ногами, крышки люков, откидывающиеся на веревочных петлях, ватага мальчишек, шныряющих с площадки на площадку. Элис подняла голову, чтобы зрелище вещественных свидетельств прошлого прогнало возникшие в голове картинки, живое ощущение занозистого дерева на кончиках пальцев. Смотреть было не на что. Ее вдруг охватило сокрушительное чувство утраты. Горе будто зажало сердце в кулак. Здесь он лежал. Здесь она плакала над ним. Элис опустила взгляд. Две рельефные бронзовые полосы на земле обозначали место, где когда-то стояло здание. Между ними тянулись строки надписи. Присев на корточки, Элис прочла, что на этом месте в Шато Комталь находилась часовня, посвященная святой Марии. Ничего не осталось. Элис, удивляясь силе нахлынувших чувств, тряхнула головой. Мир, лежавший под этим высоким небом восемь столетий назад, все еще существовал где-то. Он будто стоял у нее за плечом. Казалось, граница между прошлым и настоящим растаяла без следа. Элис зажмурила глаза, закрывшись от цветов и звуков современности, прислушиваясь к голосам тех, кто жил здесь до нее, мысленно рисуя перед собой их лица. Когда-то жить здесь было хорошо. Огоньки свечей красили розовым лежащий на алтаре боярышник; сомкнув руки, стояли перед алтарем новобрачные… Голоса туристов вернули Элис к действительности. Прошлое растаяло, и она продолжила обход замка. Теперь, оказавшись внутри, она видела, что деревянные галереи, тянувшиеся вдоль стен, были открыты с тыла. В камне виднелись такие же глубокие квадратные отверстия, какие она заметила во время вчерашней прогулки. Буклет пояснял, что здесь крепились опоры верхних надстроек. Элис взглянула на часы и с удовольствием убедилась, что до назначенной встречи у нее остается время посетить музей. В сохранившихся от первоначального здания помещениях XII–XIII веков были собраны каменные алтарные плиты, колонны, консоли, фонтаны и надгробия — от римского периода до XV века. Элис рассеянно бродила по музею. Чувство, властно захватившее ее во дворе, исчезло, оставив после себя смутное беспокойство. Подчиняясь указаниям стрелок, она переходила из комнаты в комнату, пока не оказалась в Круглой зале, имевшей, вопреки своему названию, форму прямоугольника. И тут по спине у нее побежали мурашки. Под круглыми сводами потолка виднелись остатки фрески со сценами сражения. Табличка поясняла, что Бернард Атон Тренкавель, участник первого Крестового похода, сражавшийся с маврами в Испании, заказал эту фреску в конце XI века. Среди украшавших фриз мифических созданий затесались леопард, зебу, лебедь, бык и животное, отдаленно напоминавшее верблюда. Элис залюбовалась небесно-синим потолком, сохранявшим красоту, несмотря на поблекшую и растрескавшуюся краску. На панели слева сражались два шевалье: одному, одетому в черное, поднявшему круглый щит, явно суждено было пасть от копья второго. На противоположной стене разыгралось сражение между восемью сарацинами и христианскими рыцарями. Эта роспись сохранилась лучше, и Элис подошла рассмотреть ее вблизи. В центре сошлись в поединке двое: один — на коне цвета охры, второй — христианин — на белом коне, с мечом в виде ромба. Она невольно потянулась к нему рукой. Служительница неодобрительно поцокала языком, покачала головой. Прежде чем уйти из замка, Элис зашла еще в маленький сад за главным крепостным двором: Кур дю Миди. Здесь все было заброшено, и только руины стен с высокими стрельчатыми окнами напоминали о былом. Зеленые стебли плюща и еще каких-то трав обвивали обломки колонн, тянулись вдоль трещин в стене. Здесь пахло былым величием. Элис медленно обошла сад кругом и снова вышла на солнце. Теперь ее переполняло уже не горе — сожаление.Выйдя из Шато Комталь на улицы Старого города, Элис сразу оказалась в шумной людской сутолоке. Ей еще предстояло убить немного времени до встречи с юристом, так что она свернула в сторону, противоположную той, куда ходила накануне вечером, и вышла к пляс Сен-Назари, над которой возвышалась базилика. Впрочем, ее взгляд в первую очередь притягивал фасад здания конца века — гостиница «Старый город», все еще по-своему величественная. Увитая старым плющом стена с коваными воротами и сводчатыми витражными окнами, вишневый навес — все здесь нашептывало о старине и достатке. Пока она любовалась зданием, дверь открылась, показав кусок стенной панели и дорогого ковра. На крыльцо вышла женщина — высокая, с четко очерченными скулами, тщательно причесанными черными волосами и в темных очках в золотой оправе. Бежевая блузка без рукавов и подобранные в тон брюки словно светились и отражали свет при каждом ее движении. Золотой браслет на запястье, колье, обнимающее шею, — она выглядела египетской принцессой. Элис сразу поняла, что где-то уже видела эту женщину. В журнале или в кино, а может, по телевизору? Женщина села в машину. Элис смотрела ей вслед, пока та не скрылась, потом прошла к дверям базилики. Нищенка у дверей протянула к ней руку. Элис порылась в кармане, нашла монетку, вложила в протянутую ладонь и шагнула внутрь. И замерла, забыв выпустить дверную ручку. Она словно застряла в тоннеле, по которому проносился ледяной сквозняк. «Не глупи!» Она упрямо пыталась заставить себя двигаться, не желала поддаваться мистическим предчувствиям. Но тот же ужас, что охватил ее в тулузском соборе, приковал к месту и сейчас. Извинившись перед напиравшими сзади туристами, Элис отошла в сторону и присела на ступеньку у северного входа. «Что за черт со мной творится?» Родители научили ее молиться. Повзрослев и встав перед вопросом, откуда в мире зло, она обнаружила, что церковь не может дать удовлетворительного ответа, и молиться перестала. Но ей с детства помнилось ощущение уверенности, которое дает вера. Обещание спасения, понимание высшего смысла жизни никогда полностью не покидало ее. Если у нее бывало время, она, как и Филипп Ларкин, всегда останавливалась. В церквях она чувствовала себя дома. Они будили в ней чувство, будто история, общее прошлое говорит с ней языком архитектуры, окон, галерей… «Но не здесь…» В католических соборах Миди она ощущала не покой, а угрозу. Словно самые кирпичи стен сочились здесь злобой и ненавистью, пахли кровью. Элис подняла взгляд. Над ней скалились в издевательской усмешке горгульи. Элис поспешно встала и ушла с площади. Она то и дело оглядывалась назад, тщетно стараясь отогнать чувство, будто кто-то идет за ней по пятам. «Опять у тебя воображение разыгралось». Ома не успокоилась, даже выйдя из Старого города на широкую рю Тривалль. Что бы она ни твердила сама себе, все равно была уверена: кто-то за ней следит.
Офис Даниеля Делагарда располагался на улице Жоржа Брассанса. Медная табличка блестела на солнце. Элис все-таки явилась чуть раньше назначенного времени, поэтому задержалась, читая имена. Карен Флери нашлась посередине — одна из двух женщин среди множества мужских имен. Элис поднялась по серым каменным ступеням, толкнула двустворчатую стеклянную дверь и оказалась в приемной. Она назвала свое имя женщине за высоким темным столиком, после чего ее попросили посидеть в комнате ожидания. Тишина здесь подавляла. Пожилой мужчина довольно патриархальной внешности кивнул вошедшей Элис. На кофейном столике лежала аккуратная стопка журналов «Пари Матч», «Иммо Медиа» и несколько старых французских номеров «Вог». На мраморной каминной полке тикали часы из золоченой бронзы и стояла высокая стеклянная ваза с подсолнухами. Элис присела в черное кожаное кресло под окном и притворилась, что читает. — Мисс Таннер? Я Карен Флери. Очень приятно. Уже вставая, Элис понимала, что эта женщина ей по душе. Госпожа Флери, которой было немногим больше тридцати, одетая в строгий черный костюм с белой блузкой, производила впечатление знающей свое дело дамы. На шее она носила маленький золотой крестик. — Мой похоронный костюм, — пояснила она, перехватив взгляд Элис. — В такую погоду в нем страшно жарко. — Могу себе представить. Флери открыла перед Элис дверь. — Пройдем? — Вы давно здесь работаете? — поинтересовалась Элис, минуя вслед за ней сеть все более обшарпанных коридоров. — Переехали пару лет назад. Муж у меня француз, Луи. Здесь бывает много англичан, и им часто нужны услуги юриста, так что дело идет неплохо. Карен провела ее в маленькое конторское помещение в задней части здания. — Очень удачно, что вы сумели приехать сами, — заговорила она, жестом приглашая Элис садиться. — Я полагала, что придется вести дело большей частью по телефону. — Так совпало. Я как раз получила ваше письмо, когда подруга пригласила меня к ней приехать. Она работает под Фуа. Нельзя же было упустить такой случай. — Элис помолчала. — Кроме того, учитывая, сколько я получу по завещанию, я, самое малое, должна была побывать у нее. Карен улыбнулась. — Ну что ж, тем проще для меня, а для вас это ускорит дело. Она подвинула к себе коричневую папку. — Из нашего телефонного разговора мне показалось, что вы не слишком хорошо знали тетушку? Элис сморщила нос. — Честно говоря, даже не знала о ее существовании. Не думала, что кто-то из папиных родных еще жив, а тем более сводная сестра. У меня почему-то сложилось впечатление, что родители оба были единственными детьми. Во всяком случае никаких дядюшек и тетушек не бывало ни на днях рождениях ни на Рождество. Карен заглянула в свои заметки. — Вы уже несколько лет как потеряли родителей… — Оба погибли в автомобильной катастрофе, когда мне исполнилось восемнадцать, — кивнула Элис. — В мае девяносто третьего. Я как раз готовилась к выпускным экзаменам. — Ужасно для вас. Элис снова кивнула. Сказать было нечего. — У вас нет братьев или сестер? — Думаю, мои родители слишком долго с этим затянули. Когда я родилась, оба были относительно старыми. Около сорока. Карен кивнула и продолжала: — Ну что ж, в таком случае мне, наверное, лучше просто сообщить вам условия завещания вашей тети и сведения о ее имуществе. После этого вы, если захотите, можете съездить осмотреть дом. Это в городке примерно в часе езды отсюда: Саллель д'Од. — Звучит замечательно. — Итак то, что у меня здесь. — Карен похлопала ладонью по папке. — Все довольно сухая материя: имена, даты и тому подобное. Думаю, побывав в ее доме, вы сможете лучше представить себе характер вашей родственницы. И тогда уже решите, хотите вы, чтобы мы занялись разборкой дома, или предпочтете заняться им лично. Сколько вы еще предполагаете здесь пробыть? — Собиралась до воскресенья, хотя у меня появилась мысль задержаться. Никакие срочные дела меня дома не ждут. Карен кивала, не поднимая глаз от своих заметок. — Ну, начнем и посмотрим, куда это нас приведет. Грейс Элис Таннер была сводной сестрой вашего отца. Родилась в Лондоне в 1912 году, младшая и единственная, кто выжил, из пятерых детей. Две другие девочки умерли в младенчестве, а двое мальчиков погибли во время Первой мировой войны. Мать скончалась… — она пробежала пальцами по строкам, отыскивая дату, — после продолжительной болезни в 1928 году, после чего отец сменил место жительства и через некоторое время вступил во второй брак. Единственный ребенок от этого брака — ваш отец. Он родился через год после свадьбы. Насколько можно судить по этим бумагам, начиная с этого момента между мисс Таннер и ее отцом — вашим дедом — связь практически не поддерживалась. — Как вы думаете, мог мой отец знать, что у него есть сводная сестра? — Совершенно не представляю. Могу предположить, что скорее всего не знал. — Но Грейс очевидно знала, что у нее есть брат? — Несомненно, хотя, каким образом и когда она об этом узнала, неизвестно. Она переписала завещание в 1993 году, после гибели ваших родителей, и тогда назвала вас своей единственной наследницей. К этому времени она уже довольно давно жила во Франции. Элис насупилась. — Если она знала про меня и про то, что случилось, не понимаю, почему она со мной не связалась. Карен пожала плечами. — Может быть, она не была уверена, что вы ей обрадуетесь. Если она не знала, что привело к распаду семьи, то могла опасаться, что отец настроил вас против нее. В подобных случаях такое предположение довольно естественно — и часто оправдывается. — Насколько я понимаю, завещание составляли не вы? Каренулыбнулась: — Нет, это было до меня. Но я говорила с ее адвокатом. Он теперь не практикует, но вашу тетушку помнит. Она действовала очень по-деловому, никаких страстей и сантиментов, И точно знала, чего хочет: все оставить вам. — А вы не знаете, как она оказалась во Франции? — Боюсь, что нет. — Карен помолчала. — Но для вас все очень просто, так что, как я уже говорила, вам лучше всего съездить осмотреть дом. Таким образом вам, может быть, удастся что-нибудь о ней узнать. Раз вы пробудете здесь еще несколько дней, мы можем снова встретиться в конце недели. Завтра и в пятницу я в суде, но утром в субботу буду рада вас видеть, если вас это устраивает. — Она встала и протянула руку. — Передайте через мою помощницу о своем решении. — Я хотела бы побывать на ее могиле. — Конечно. Я узнаю поточнее. Как мне помнится, похороны были не совсем обычными. — Провожая Элис, Карен остановилась перед столиком своей помощницы. — Доминик, tu peux me trouver le numéro du lot de cimetière de Madame Tanner. La cimetière de la Cité. Merci.[253] — Чем необычными? — спросила Элис. — Мадам Таннер хоронили не в Саллель д'Од, а здесь, в Каркасоне, на кладбище под стеной Старого города, в семейном захоронении ее подруги. Карен взяла у секретарши распечатку и просмотрела ее. — Да, так и есть, теперь я вспомнила. Жанна Жиро, местная жительница, хотя у меня нет никаких сведений, что две эти женщины были знакомы. Здесь есть и адрес мадам Жиро, и номер участка, где расположена могила. — Спасибо. Я с вами свяжусь. — Доминик поможет вам отсюда выбраться. — Она улыбнулась. — Дайте мне знать, как идут дела.
ГЛАВА 40 АРЬЕЖ
Поль Оти ждал, что Мари-Сесиль воспользуется поездкой в Арьеж для продолжения вчерашнего разговора или предложит ему доложить о дальнейшем развитии дел. Однако она, если не считать нескольких случайных замечаний, молчала. В замкнутом пространстве салона он особенно сильно ощущал близость ее тела, запах духов, запах кожи. Сегодня она надела бежевую блузку без рукавов и брюки того же цвета. Глаза скрывались за стеклами темных очков, а губы и ногти, как и накануне, были огненно-красными. Оти незаметно сдвинул манжет рубашки, чтобы бросить взгляд на часы. Допустим, пара часов на раскопках, обратный путь — вряд ли они вернутся в Каркасон раньше вечера. Как все это досадно! — Есть известия об О'Доннел? — спросила она. Оти вздрогнул, услышав собственную мысль, высказанную вслух чужим голосом. — Пока нет. — А о полицейском? Она повернула к нему лицо. — О нем можно больше не беспокоиться. — С каких пор? — Сегодня рано утром. — Узнали о нем что-нибудь еще? Оти покачал головой. — Если только от него не тянется ниточка к вам, Поль… — Не тянется. Минуту она молчала, затем спросила: — А та англичанка? — Добралась в Каркасон прошлой ночью. За ней присматривают. — Вам не кажется, что она заезжала в Тулузу, чтобы оставить там книгу или кольцо? — Если только она не передала их кому-то в стенах отеля — нет, невозможно. К ней никто не заходил, она ни с кем не встречалась ни на улицах, ни в библиотеке. На пик де Соларак они прибыли ровно в час дня. Стоянку огородили деревянным заборчиком, ворота стояли на запоре. Согласно его распоряжению, сторожа не было — никаких свидетелей их визита. Оти отпер ворота и завел машину на площадку. После шумного понедельника сегодня на территории раскопок было необычайно тихо. Стены палаток опущены и закреплены, все горшки, сковородки и инструменты разложены в ряд и снабжены ярлычками. — Где вход? Оти указал наверх, туда, где ветер еще играл лентой, огораживавшей место преступления. Он достал из машины фонарь. Они молча поднимались по склону, задыхаясь в тяжкой послеполуденной жаре. Оти указал на валун, так и лежавший на боку, словно низверженный идол, и вскарабкался первым на несколько метров крутого подъема ко входу в пещеру. Оказавшись на месте, Мари-Сесиль заговорила: — Я войду одна. Оти скрыл раздражение. Разумеется, ничего она там не найдет. Он сам прочесал частым гребнем каждый сантиметр. И он протянул ей фонарик: — Как пожелаете. Он смотрел, как она уходит в глубь тоннеля. Свет фонаря становился слабее и наконец совсем исчез. Тогда он отошел подальше, так что не услышал бы даже крика. Сама близость этой пещеры будила в нем гнев. Рука тянулась к распятию на груди, как к талисману, отвращающему зло этих мест. — Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. — Оти перекрестился, постоял, успокаивая дыхание, и только потом позвонил в свой офис. — Что у вас для меня? Он слушал, и лицо его выражало все большее удовольствие. — В самой гостинице? Они говорили друг с другом? — Он выслушал ответ. — Прекрасно. Не спускайте с нее глаз. Посмотрим, что она будет делать. Он улыбнулся и нажал «отбой». Еще один вопрос в длинном списке вопросов к О'Доннел. О Бальярде удалось раскопать на удивление мало. Машины нет, паспорта нет, телефона нет — никаких связей с системой. С официальной точки зрения он не существует. Человек без прошлого. Оти приходило в голову, что Бальярд мог оказаться разочаровавшимся членом Noublesso Veritable. Возраст, окружение, интерес к истории катаров, знание иероглифики — все это связывало его с трилогией лабиринта. Что связь существовала, Оти не сомневался. Надо только выявить ее. Пещеру он уничтожил бы, не медля ни минуты, но его останавливало исчезновение книг. Он был орудием, посредством коего Господь сотрет с лица земли четырехтысячелетнюю ересь. Но для этого полные скверны пергаменты должны вернуться в пещеру. Тогда только можно предать огню все и всех. Мысль, что на поиски книг осталось только два дня, подстегнула его к действию. Решительно сощурив серые глаза, Оти набрал еще один номер. — Завтра утром, — сказал он в трубку. — Подготовьте ее.В тишине больницы Фуа очень громко щелкали по линолеуму коричневые туфельки Жанны. Все, кроме них, здесь было белым. Стены, униформа персонала, их обувь на резиновых подошвах, указатели, бумаги… Инспектор Нубель, помятый и растерянный, стоял среди этой стерильной белизны и выглядел так, словно много дней не менял одежду. К ним по коридору катили каталку, колесики мучительно громко поскрипывали. Они отступили в сторону, пропуская ее, и санитарка поблагодарила их, чуть качнув головой в белом колпачке. Бальярд заметил, что все обращаются к Жанне с особым участием. Несомненно, искреннее сочувствие окрашивалось опасением, что она не перенесет удара. Он невесело усмехнулся. Молодежь вечно забывает, что поколение Жанны повидало и перенесло столько, сколько не вынести им. Войны, оккупация, Сопротивление… Они сражались, и умирали, и видели, как умирают друзья. Они закалились. Ничто их уже не удивляет, кроме, может быть, упрямой стойкости человеческого духа. Нубель остановился перед большой белой дверью. Открыл ее толчком и отступил, предлагая спутникам войти первыми. Наружу вырвался холодный воздух с запахом дезинфекции. Бальярд снял шляпу и держал ее у груди. Все приборы были отключены. На кровати посреди комнаты под свисающей простыней угадывались очертания тела. — Они сделали все возможное, — пробормотал Нубель. — Инспектор, мой внук был убит? — спросила Жанна. Это были ее первые слова с тех пор, как, добравшись до больницы, они услышали, что опоздали. Бальярд заметил, как нервно передернулся стоявший рядом с ним инспектор. — Еще рано что-либо утверждать, мадам Жиро, однако… — Обстоятельства смерти кажутся вам подозрительными, инспектор? Да или нет? — Да. — Благодарю, — проговорила она тем же тоном. — Это все, что я хотела узнать. — В таком случае, — инспектор протиснулся к двери, — я оставлю вас совершить прощание. Если понадоблюсь, вы найдете меня в комнате для родственников с мадам Клодеттой. Дверь щелкнула, закрываясь. Жанна подошла к кровати. Лицо у нее было серое и рот плотно сжат, но спина и плечи оставались такими же прямыми, как всегда. Она отогнула край простыни. В комнату ворвалась тишина смерти. Бальярд видел, что Ив казался сейчас совсем мальчиком. Очень белая и гладкая кожа, ни одной морщинки. Голова скрыта бинтами. Из-под повязки выбиваются пряди черных волос. Руки с разбитыми в кровь костяшками сложены на груди, как у юного фараона. Бальярд смотрел, как Жанна склонилась, поцеловала внука в лоб и, снова закрыв лицо простыней, отвернулась. — Идем? — Она взяла Одрика под руку. Они вышли в пустой коридор. Бальярд огляделся по сторонам и подвел Жанну к ряду пластиковых сидений, закрепленных у стены. Оба невольно перешли на полушепот, хотя слушать их было некому. — Я уже довольно давно беспокоилась о нем, Одрик. Он изменился, стал замкнутым, нервным. — Ты спрашивала его, в чем дело? Она кивнула. — Уверял, что ничего не случилось. Просто устал, перерабатывает. Одрик положил ладонь ей на руку. — Он любил тебя, Жанна. Может быть, ничего и не было. А может, было. — Бальярд помолчал. — Если Ив оказался втянутым во что-то дурное, это было против его природы. Совесть не давала ему покоя. И в конечном счете он поступил правильно. Послал кольцо тебе, не думая о последствиях. — Инспектор Нубель спросил меня о кольце. Хотел знать, говорил ли со мной Ив в понедельник. — Что ты ответила? — Правду: что не говорил. Одрик облегченно вздохнул. — Но ты думаешь, что Ив за деньги выдавал кому-то информацию, да, Одрик? — Она говорила с трудом, но голос звучал твердо. — Скажи мне. Я предпочитаю знать правду. Он поднял руку: — Как я могу сказать правду, если не знаю сам? — Скажи мне, что подозреваешь. Неизвестность… — Голос у нее сорвался. — Нет ничего хуже. Бальярду представилось, как обваливается сверху каменная плита, перекрывая выход из пещеры, захлопывая их в капкане. Неизвестность — что сталось с ней? Запах самшита, рев пламени, крики набегающих солдат. Полузабытые места, полустершиеся картины. Неизвестность. Жива она или умерла? — Да, — негромко сказал он, — тяжелее всего перенести незнание. — Бальярд снова вздохнул. — Хорошо. Я действительно подозреваю, что Иву платили за сведения — главным образом о трилогии, но может быть, и о чем-нибудь еще. Полагаю, вначале все выглядело вполне безобидно: телефонный звонок, совет найти того-то, поговорить с тем-то, — но, вероятно, очень скоро они потребовали с него больше, чем он готов был выдать. — Ты говоришь — «они». Значит, ты их знаешь? — Не более чем общие рассуждения, — поспешно оговорился Одрик. — Человечество, Жанна, не слишком меняется со временем. На поверхностный взгляд мы совсем другие. Мы развиваемся, создаем новые законы, новые жизненные правила. Каждое поколение принимает современные ценности и отвергает старые, каждое полагает себя умудренным и гордится своей мудростью. Кажется, у нас так мало общего с теми, кто жил до нас. — Он постучал себя по груди. — Но под этой одеждой плоти человеческие сердца бьются так же, как бились всегда. Жадность, жажда власти, страх смерти — все это не меняется. Так же как любовь, мужество, готовность отдать жизнь за то, во что веришь, доброта… — Будет ли этому конец? Бальярд запнулся: — Я молюсь об этом. Часы над их головами отщелкивали минуты. В дальнем конце коридора прозвучали приглушенные голоса, проскрипели тихонько резиновые подошвы и снова все стихло. — Ты не пойдешь в полицию? — ровным голосом спросила Жанна. — Думаю, не стоит. — Не доверяешь инспектору Нубелю? — Может быть. Кстати, полиция возвратила тебе личные вещи Ива? Одежду, в которой его доставили; то, что было в карманах? — Одежда… оказалась совершенно испорченной. Инспектор Нубель сказал, в карманах были только ключи и бумажник. — И больше ничего? Ни удостоверения личности, ни бумаг, ни телефона? Он не находит это странным? — Он ничего не сказал, — ответила Жанна. — А его квартира? Там они что-нибудь нашли? Бумаги? Жанна повела плечом: — Не знаю. — И, помолчав, добавила: — Я попросила одного из его друзей написать мне список всех, кто был в понедельник на раскопе. — Она подала Бальярду листок с именами. — Правда, всех он не вспомнил. Одрик опустил глаза. — А это что? — удивился он, заметив название гостиницы. Жанна проследила его взгляд. — Ты хотел узнать, где остановилась англичанка. — Она продолжала уже менее уверенно: — По крайней мере, инспектору она дала этот адрес. — Доктор Элис Таннер, — еле слышно пробормотал Одрик. Сколько лет он ждал ее… — Значит, по этому адресу я и отправлю свое письмо. — Я могу передать сама, когда вернусь домой, — предложила Жанна и тут же вздрогнула от резкого тона ответа. — Нет! — Перехватив ее взгляд, Бальярд поспешно извинился. — Прости, ты очень добра, но, думаю, тебе благоразумнее будет не возвращаться пока домой. — Почему же нет? — Они очень скоро установят, что Ив послал кольцо тебе. Может быть, уже знают. Пожалуйста, погости у друзей. Уезжай, с Клодеттой, с кем угодно. Здесь опасно. К его удивлению, она не стала спорить. — С той самой минуты, как мы сюда приехали, ты ежеминутно озираешься через плечо. Бальярд улыбнулся. Он-то думал, что успешно скрывает тревогу. — А ты сам, Одрик? — Я — другое дело, — сказал он. — Я ждал этого… даже не могу сказать, как долго. Жанна, со мной будет то, чему суждено быть. Минуту она молчала, потом мягко спросила: — Кто она, Одрик? Почему эта молоденькая англичанка так много значит для тебя? Он улыбнулся, но ответить не сумел. — Куда ты теперь? — спросила она под конец. У Бальярда перехватило дыхание. Родная деревня предстала перед глазами такой, какой она была когда-то. — Oustâou, — тихо ответил он. — Я вернусь домой. A la perfin. Наконец.
ГЛАВА 41
Шелаг начала привыкать к темноте. Ее держали в конюшне или в стойле. Здесь стоял резкий запах навоза, мочи, соломы и еще какой-то тошнотворный сладковатый запах, похожий на запах падали. Под дверь пробивалась полоска белого света, но отличить утро от вечера было невозможно. Она даже не сумела бы точно сказать, который день она здесь. Веревка натирала лодыжки до крови. Запястья тоже были стянуты петлей, а свободный конец притянут к металлической скобе, вбитой в стену. Шелаг поерзала, пытаясь найти более удобное положение. По рукам и лицу ползали насекомые. Она была вся в волдырях от укусов. Кроме натертых запястий болели и плечи — оттого что руки так долго были заломлены назад. По углам в соломе шуршали мыши или крысы, но Шелаг успела привыкнуть к ним да и боль почти перестала замечать. Если бы она только позвонила Элис! Ошибка за ошибкой. Шелаг задумалась: продолжает подруга к ней дозваниваться или бросила? Если она звонила в общежитие и обнаружила, что ее нет, то должна была забеспокоиться, или нет? И что с Ивом? Брайлинг вызвал бы полицию… Шелаг чувствовала, как глаза наполняются слезами. Скорее всего, они и не догадываются, что она исчезла. Кое-кто из команды говорил, что собирается уехать на день-другой, пока все не рассосется. Решили, наверное, что и она с ними. Голода она уже не ощущала, а вот жажда мучила. В горле словно застрял кусок промокашки. Ту воду, что ей оставили, она давно допила, и губы потрескались оттого, что она непрерывно облизывает их сухим языком. Шелаг попробовала припомнить, сколько времени нормальный здоровый человек может прожить без воды. День? Неделю? Ей послышался хруст щебня. Сердце сжалось, в кровь выплеснулся адреналин. Так бывало всякий раз, когда она слышала звуки за стеной. Но до сих пор к ней никто не входил. Она успела сесть, опираясь о стену, пока кто-то возился с амбарным замком. С тяжелым звоном упала цепь, заскрипели грубые петли. Шелаг отвернула лицо от мучительно яркого солнечного света, успев только заметить, как темная коренастая фигура, пригнувшись под притолокой, шагнула внутрь. Несмотря на жару, мужчина был одет в куртку и прятал глаза за темными очками. Шелаг вжалась в стену. Страх комом встал в горле. Мужчина в два шага пересек загон, схватил веревку и силой вздернул ее на ноги. Другой рукой он успел достать из кармана нож. Шелаг съежилась, стараясь отстраниться от него. — Non, — прошептала она, — пожалуйста! Ей самой был противен собственный умоляющий лепет, но она ничего не могла с собой поделать. Ужас заглушил гордость. Поднося лезвие к ее горлу, мужчина оскалил в улыбке прокуренные до желтизны зубы. Потом просунул руку с ножом ей за спину, нащупал и перерезал веревку, притягивавшую ее к скобе, и подтолкнул вперед. Шелаг не удержалась на ослабевших ногах и неуклюже упала на колени. — Я не могу идти. Вам придется меня развязать. Она оглянулась на связанные лодыжки. — Mes pieds.[254] Мужчина обдумал что-то и, одним движением полоснув по толстым веревкам, перерубил их. — Lève-toi! Vite![255] — Он поднял руку, угрожая ударить, но вместо этого снова дернул за веревку и подтянул пленницу к себе. — Vite! Ноги у нее подгибались, но Шелаг была слишком напугана, чтобы ослушаться. При каждом шаге от израненных щиколоток в икры ударяла острая боль. Земля раскачивалась под ней, но Шелаг сумела доковылять до выхода во двор. Здесь ее встретило яростное солнце. Его лучи насквозь прожигали глаза. Воздух был тяжелый и влажный. Ей представилось, что небо расселось на этом дворе, словно некий злобный Будда. Отойдя немного от своей импровизированной темницы — теперь она видела, что это один из нескольких загонов коровника — Шелаг стала оглядываться по сторонам. Возможно, у нее не будет другого случая вычислить, куда ее увезли. И кто увез, мысленно добавила она. Несмотря ни на что, она еще не была уверена… Все это началось с марта. Он был очарователен, засыпал ее комплиментами, готов был извиняться за то, что доставил беспокойство. Он выполнял, по его словам, поручение другого лица, пожелавшего остаться неизвестным. Все, что от нее требовалось, — один телефонный звонок. Немного сведений, ничего больше. Он готов был щедро заплатить. Немного позже договоренность изменилась: половина за информацию, половина за доставку. Оглядываясь назад, Шелаг уже не могла вспомнить, когда начала сомневаться. Клиент не походил на обычного фанатика-коллекционера, готового заплатить любые деньги, лишь бы не задавали вопросов. Прежде всего, голос звучал молодо. Обычно они напоминали средневековых охотников за реликвиями: суеверных, подозрительных, тупых маньяков. В этом не было ничего подобного. Почему она не насторожилась сразу? Теперь Шелаг не могла понять: как ей не пришел в голову вопрос — за что он готов платить такие деньги, если кольцо и книга для него всего лишь памятные сувениры, не имеющие рыночной цены? Она уже много лет как рассталась с угрызениями совести по поводу распродажи археологических находок. Слишком намучилась она с бюрократическими порядками старомодных музеев и научных заведений, чтобы верить, будто они более достойны хранить сокровища древности, нежели частные коллекционеры. Она брала деньги, они получали желаемое, и все оставались довольны. Что дальше, ее не касается. Оглядываясь назад, она вспоминала, что начала бояться задолго до второго телефонного звонка. И уж конечно, неделями раньше, чем позвала Элис погостить у нее на пике де Соларак. Но когда с ней связался Ив Бо и они сравнили истории… Комок в груди стал ледяным. Если с Элис случилась беда, это она виновата. Они приближались к крестьянскому дому: небольшой постройке, окруженной развалюхами-сараями, среди которых она узнала гараж и винный пресс. Если бы не две стоящие перед домом машины, хозяйство казалось бы совершенно заброшенным. Кругом раскинулись горы и долины. По крайней мере, они в Пиренеях. Почему-то эта мысль показалась обнадеживающей. Дверь распахнута, словно их ждали. Внутри было прохладно и, на первый взгляд, пусто. На всем слой пыли. Кажется, когда-то здесь была маленькая гостиница или auberge.[256] Прямо напротив двери — конторка портье, а над ней ряд крючков, где когда-то, наверно, висели ключи от номеров. Рывок за веревку заставил ее поторопиться. Вблизи от мужчины пахнуло дешевым лосьоном после бритья и плохим табаком. Из комнаты слева доносились голоса. Дверь была приоткрыта. Скосив глаза, Шелаг успела заметить человека, стоявшего спиной к ней у окна. Кожаные ботинки и ноги в легких летних брюках. Ее втащили по ступенькам на второй этаж и протолкнули по коридору к узкой лестнице. Наверху оказался душный чердак, занимавший почти все пространство под крышей. Мужчина пнул ее в спину, и Шелаг, рухнув на грязный пол, услышала, как захлопнулась за ней дверь и щелкнул замок. Не замечая боли, она приподнялась и замолотила кулаками по железной створке, но сломать ее нечего было и думать. Дверь явно поставили недавно для особой цели, и на косяке блестела сталь. В конце концов она сдалась и стала исследовать новое жилище. У дальней стены лежал матрас, на нем — аккуратно сложенное одеяло. Напротив двери — маленькое окошко, забранное изнутри решеткой. Добравшись до него, Шелаг выглянула на задний двор. Прутья оказались прочными и не поддавались. Да и все равно вниз падать далековато. В углу висела маленькая раковина, рядом стояло ведро. Шелаг первым делом облегчилась, потом поспешно повернула кран. Трубы закашляли и заперхали не хуже курильщика, высаживающего по две пачки в день, но вслед за парой плевков появилась мутноватая струйка воды. Сложив чашечкой грязные ладони, Шелаг пила до боли в животе. Потом как могла отмылась, оттерла запекшуюся кровь на запястьях и щиколотках. Чуть позже ей принесли еду. Больше, чем обычно. — Зачем вы меня сюда привезли? Охранник опустил поднос на пол посреди комнаты. — Зачем? Pourquoi je suis là?[257] — Il te le dira.[258] — Кто хочет со мной говорить? Он показал на еду: — Mange.[259] — Вам придется меня развязать. — Затем она повторила: — Кто? Скажите же! Он ногой подтолкнул к ней поднос. — Ешь. Когда он ушел, Шелаг набросилась на еду. Съела все до крошки, даже яблоки с кожурой и косточками, и снова вернулась к окну. Первые лучи солнца вырвались из-за гребня гор, и мир из серого стал белым. Вдали послышался звук медленно ползущей к дому машины.ГЛАВА 42
Карен хорошо объяснила дорогу. Через час после выезда из Каркасона Элис увидела впереди пригороды Нарбонна. Найдя указатель на Куке д'Од и Капестан, свернула на красивую дорожку, окаймленную высоким тростником и полоской склоняющейся под ветром травы, за которой тянулись зеленые поля. Совсем непохоже на горный пейзаж Арьежа и засушливые окрестности Корбье. Около двух часов дня она въехала в Саллель д'Од. Оставила машину под большими лимонами и зонтичными соснами, разросшимися по берегу канала дю Миди чуть ниже шлюзовых ворот, и бродила по симпатичным улочкам городка, пока не отыскала рю де Бурже. Трехэтажный дом Грейс стоял на углу, окнами прямо на улицу. Сказочные розовые кусты, склоняющие ветки под тяжестью алых цветов, сторожили старинную деревянную дверь и ставни окон. Замок заржавел, и Элис пришлось помучиться с тяжелым бронзовым ключом, не желавшим поворачиваться в скважине. Наконец она справилась и решительно пнула дверь ногой. Створка со скрипом отошла, процарапав по груде свежих газет, скопившихся на черно-белых плитках пола. Прямо за дверью открывалось единственное помещение нижнего этажа. Налево здесь была устроена кухня, а правая половина обставлена как гостиная. Жилой дух давно покинул этот дом, внутри было холодно и сыро. Промозглый сквозняк кошкой терся о голые колени Элис. Она поискала выключатель и обнаружила, что электричество отключено. Собрав с пола груду ненужной уже почты, она по пути свалила ее на кухонный стол и склонилась над подоконником, чтобы открыть окно. С причудливой защелкой ставен тоже пришлось повозиться. Самым современным из кухонных приспособлений оказались у тетушки электрический чайник и плитка со спиралью. На сушилке было пусто, в раковине чисто, и только за краном виднелась пара высохших, как старые кости, губок. Элис прошла в другую половину, открыла большое окно гостиной, распахнула тяжелые коричневые ставни. Хлынув шее внутрь солнце мгновенно преобразило комнату. Стоя у окна, Элис вдохнула аромат нагретых солнцем роз и на минуту отдалась блаженству, чувствуя, как отступает неловкость. А ведь только что она чувствовала себя чуть ли не воровкой, без спросу шарящей по чужим вещам. Перед очагом стояли два высоких деревянных кресла. Камин был выложен из серого камня, на полке пылилось несколько современных китайских статуэток. На решетке лежали остывшие угли. Элис тронула их носком сандалии, и они рассыпались, взметнув над собой облачко пепла. На стене у камина висела картина маслом: увитый плющом каменный дом с крутой черепичной крышей среди поля подсолнухов. Элис разобрала нацарапанную в нижнем углу подпись художника: БАЛЬЯРД. Остальную часть комнаты занимали обеденный стол с четырьмя стульями и сервант. Открыв его дверцы, Элис нашла набор подносов и подставок, украшенных видами французских соборов, стопку льняных салфеток и набор столового серебра, негромко зазвеневший, когда она закрыла ящик. На нижних полках была расставлена прекрасная фарфоровая посуда: тарелки, сливочник, салатницы и соусники. Из комнаты вели две двери. За первой, как выяснилось, скрывалась кладовка: гладильная доска, метелки для пыли, швабра, пара вешалок и множество пакетов для покупок из магазина «Geant», сложенных один в другой. За второй дверью начиналась лестница. Поднимаясь, Элис в потемках цепляла сандалиями за деревянные ступеньки. Наверху обнаружилась аккуратная ванная комната, скромно выложенная розовой плиткой. На раковине лежал засохший обмылок, а на крючке рядом с небольшим зеркалом — сухое полотенце. Спальня Грейс располагалась налево от площадки. Узкая кровать застелена простынями, одеялами и толстой пуховой периной. На тумбочке из черного дерева стояли в изголовье бутылочка магнезии с белой полоской кристаллов на горлышке и биография Алиеноры Аквитанской, написанная Элисон Уэйр. При виде старомодной закладки у Элис дрогнуло сердце. Представилось, как Грейс перед сном выключает свет, заложив закладкой недочитанную страницу. И не знает, что время ее истекло и дочитать книгу не придется. В порыве несвойственной ей сентиментальности Элис отложила томик в сторону. Она возьмет книгу с собой, даст ей новый дом. В ящиках тумбочки лежали мешочки лаванды, перевязанные розовыми, побледневшими от времени ленточками, несколько аптечных пузырьков и коробочка новых носовых платков. Еще несколько книг выстроились на полке под ящиком, Элис склонила голову набок, читая заглавия на корешках. Она никогда не могла устоять перед искушением сунуть нос на чужую книжную полку. Подборка в основном оправдала ее ожидания. Пара томиков Мэри Стюарт, пара — Фанни Троллоп, роман «Пейтон Плэйс» в издании книжного клуба и книга, посвященная катарам. Имя автора было крупно напечатано на обложке: БАЛЬЯРД. Элис подняла бровь. Не тот ли, что писал картину из гостиной? Ниже стояло имя переводчика: Ж. Жиро. Элис перевернула книгу, прочитала рекламу на обложке. Автор перевода «Евангелия от Иоанна» на окситанский и нескольких трудов по Древнему Египту, а также отмеченной премией биографии Жана-Франсуа Шампольона, разгадавшего в XIX веке тайну иероглифов. Что-то сверкнуло в памяти: тулузская библиотека, мелькающие на экране монитора карты, схемы и иллюстрации. «Опять Египет…» На обложке книги Бальярда помещалась фотография окутанного багровым туманом полуразрушенного замка, примостившегося на самом краю высокого утеса. По открыткам и путеводителям Элис уже запомнила его название: Монсегюр. Она открыла книгу. Страницы сами раскрылись на двух третях от начала, потому что здесь между ними был заложен обрезок открытки. Элис пробежала глазами строки:Укрепленная цитадель Монсегюр стоит высоко на горной вершине. Подъем к ней от деревни Монсегюр занимает более часа. Три стены замка, часто скрывающегося за облаками, высечены прямо в скале. Эта необыкновенная крепость создана самой природой. Сохранившиеся руины датируются не XIII веком, а более поздними временами войн за независимость. Однако самый дух крепости напоминает посетителям ее трагическое прошлое. С Монсегюром — название означает «Гора-убежище» — связано великое множество легенд. Кое-кто видит в ней храм солнцепоклонников, другие утверждают, что именно она подсказала Вагнеру идею «Мунсальвеше» — Горы Грааля — в его великом творении — «Парцифаль». Иные и теперь верят, что здесь нашел последнее свое пристанище Грааль. Предполагается, что катары были хранителями Чаши Христа, доставшейся им вместе с другими сокровищами Храма Соломона в Иерусалиме. Рассказывают и о золоте визиготов и о других таинственных кладах. Предполагается, что пресловутые сокровища катаров им удалось вынести из осажденной крепости в январе 1244 года, незадолго до ее падения, однако никому так и не удалось отыскать эти богатства. Слухи о том, что драгоценнейшие из сокровищ пропали, неточны.Элис нашла глазами сноску внизу страницы. Вместо примечания там стояло: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными (Ин 8:32)». Она изумленно подняла бровь. Казалось бы, никакого отношения к тексту? Книгу Бальярда она тоже отложила, чтобы забрать с собой, после чего прошла в глубину спальни. Здесь стояла зингеровская швейная машинка, неуместно английская в этом французском доме. Точно такая же была у ее матери, и та часами сидела за шитьем, наполняя дом уютным жужжанием колесика и постукиванием иглы. Элис стерла ладошкой пыль. Кажется, машинка в рабочем состоянии. Она по очереди открывала ящички и находила в них шпульки с хлопчатобумажной нитью, иголки, булавки, обрезки кружева и тесьмы, картонку со старомодными серебристыми кнопками и коробочку пуговиц всех сортов и размеров. Элис повернулась к дубовому столу под окном, выходившим на маленький огороженный двор за домом. Первые два ящика, выстеленные обрезками обоев, были совершенно пусты. Третий удивил ее, оказавшись запертым, хотя ключ торчал в замке. Чтобы его открыть, понадобилось приложить и силу, и ловкость — не так легко было справиться с крошечным серебряным ключиком. На дне ящика стояла обувная коробка. Элис достала ее и поставила на стол. В коробке царил образцовый порядок. Пачка фотографий была перевязана бечевкой, а поверх нее отдельно лежал конверт, адресованный мадам Таннер. Адрес был выведен тонкими паутинными линиями. Почтовый штемпель: «Каркасон, 16 марта 2005» Красными чернилами наискосок отпечатано: «В собственные руки». Вместо обратного адреса тоже штамп: «Expéditeur Audric S. Baillard». Элис сунула палец в конверт и вытянула наружу единственный листок толстой коричневатой бумаги. Ни даты, ни адреса, ни пояснений — одно четверостишие, выведенное тем же тонким почерком, теми же черными чернилами.
ГЛАВА 43
Обратная дорога до Каркасона промелькнула как в тумане. В холле гостиницы Элис застала толпу новоприбывших, так что она сама взяла с крючка свой ключ и прошла наверх, никем не замеченная. Собиралась отпереть замок, и тут заметила, что дверь приоткрыта. Элис призадумалась. Опустила на пол обувную коробку и книги, осторожно открыла дверь пошире. — Эй! Есть кто-нибудь? Она обвела глазами комнату. Все вроде бы так, как она оставила. Элис опасливо перешагнула через оставленные на пороге вещи и шагнула внутрь. Остановилась. В номере пахло ванилью и застоявшимся табачным дымом. Шорох за дверью. Сердце у нее подкатилось к горлу. Она успела обернуться как раз вовремя, чтобы заметить отразившиеся в стекле серую куртку и черные волосы, и тут же ее сбил с ног жестокий удар в грудь. Она врезалась головой в зеркальную дверцу шкафа, отчего плечики внутри забренчали, как раскатившиеся по жестяной крыше камешки. Комната затуманилась по краям, все заплясало перед глазами, но она услышала бегущие шаги по коридору. «За ним. Быстро!» Элис кое-как поднялась на ноги и устремилась в погоню. Она слетела по лестнице в холл и завязла в толпе итальянских туристов, перегородившей выход. В панике она пробежала глазами по холлу и поймала взглядом спину скрывающегося в боковой двери мужчины. Она протолкалась сквозь лес людей и завалы багажа, прыгая через сумки и чемоданы, и наконец оказалась в саду, окружавшем здание. Грабитель уже выбрался на стоянку. Элис собрала последние силы, пытаясь перехватить его, но вор бежал быстрее. Выбравшись на дорогу, она его уже не увидела — он растворился в толпе туристов, возвращавшихся из Старого города. Элис оперлась руками о колени, стараясь восстановить дыхание. Потом выпрямилась, ощупала пальцами затылок. Там уже вздувалась шишка. Напоследок окинув взглядом улицу, Элис вернулась в холл и, извинившись, пробралась в голову очереди, стоявшей перед портье. — Простите, вы не могли бы мне помочь? Девушка-администратор подняла на нее усталый взгляд. — Я к вашим услугам, как только закончу с этим джентльменом, — сказала она. — Боюсь, это срочно, — возразила Элис. — Кто-то был в моем номере. Он только что выбежал на улицу. Всего пару минут назад. — Право, мадам, если вы минутку подождете… Элис повысила голос, так что все могли ее слышать. — Кто-то был в моем номере. Вор. Толпа у прилавка замолкла. Девушка округлила глаза, соскользнула с высокой табуретки и скрылась. Через несколько секунд владелец гостиницы искусно оттер Элис в сторонку. — У вас что-то случилось, мадам? — тихо спросил он. Элис объяснилась. Он вместе с ней прошел наверх, попробовал замок и заметил: — Дверь не взломана. Он подождал у дверей, пока Элис проверяла, не пропало ли что-нибудь из вещей. К ее смущению, все оказалось на месте. Паспорт лежал на нижней полке шкафа, но не там, куда она его положила. То же относилось к содержимому ее рюкзака. Ничего не пропало, но все лежало не так. Слабое доказательство. Элис заглянула в ванную и здесь наконец кое-что нашла. — Monsieur, s'il vous plaît, — позвала она и показала ему на раковину. — Regardez.[262] От изрезанного на кусочки мыла сильно пахло лавандой. Тюбик с зубной пастой был открыт, все его содержимое выдавлено наружу. — Voilà![263] Как я вам и говорила. Он озабоченно оглядывался, не скрывая сомнения. Желает ли мадам обратиться в полицию? Разумеется, он мог бы спросить других гостей, не заметили ли они чего-нибудь, но ведь ничего не пропало?.. Он вопросительно взглянул на нее. Элис наконец настигла слабость. Это не обычный взломщик. Человек, который здесь побывал, искал что-то определенное и был уверен, что эта вещь находится у нее. Кто знает, где она остановилась? Нубель, Поль Оти, Карен Флери и ее служащие, Шелаг… Кажется, больше никто. — Нет, — поспешно отозвалась она. — Не надо полиции, раз ничего не пропало… Но мне хотелось бы перебраться в другой номер. Хозяин начал объяснять, что гостиница переполнена, но замолчал, поймав ее взгляд. — Я посмотрю, можно ли это устроить.Двадцать минут спустя Элис предоставили номер в другой части здания. Она никак не могла успокоиться. Второй или третий раз проверила, заперто ли окно и дверной замок, присела на кровать и задумалась, что делать. Встала, еще раз обошла небольшой номер, села, снова встала. Может быть, вообще сменить гостиницу? «А если он вернется ночью?» Элис чуть не выпрыгнула из собственной кожи, когда у нее в нагрудном кармане зазвонил телефон. — Allo, oui?[264] Она с облегчением услышала голос Стивена, одного из сотрудников Шелаг по раскопу. — Привет, Стив. Нет, извини, я только что вошла. Еще не успела просмотреть сообщения. А что такое? Она выслушала ответ, и кровь отлила от щек. Стивен рассказал, что раскопки закрывают. — Но почему? Брайлинг хоть что-нибудь объяснил? — Сказал, это от него не зависит. — Неужели из-за тех скелетов? — Полиция молчит. Сердце у нее гулко забилось. — А они присутствовали, когда Брайлинг объявил о закрытии? — Они, вообще-то, больше интересовались Шелаг, — начал он и сбился. — Элис, я ведь звоню узнать, ты с ней связывалась после отъезда? — С понедельника ни разу. Вчера несколько раз пробовала дозвониться, но она на мои звонки не отвечает. А что? Элис сама не заметила, как вскочила на ноги, ожидая ответа Стивена. — Она, похоже, сбежала, — наконец отозвался тот. — Брайлинг склонен видеть ее отъезд в мрачном свете. Подозревает, что онаувезла что-то с раскопа. — Шелаг не могла! — воскликнула Элис. — Ни за что. Она не из тех, кто… Но, еще не договорив, Элис вспомнила необъяснимую злость подруги в последний день. Она чувствовала себя предательницей, но ее уверенность поколебалась. — И полиция тоже так считает? — резко спросила она. — Не знаю. Просто все это странновато, — уклончиво отозвался Стивен. — Один из полицейских, которые в понедельник приезжали на раскоп, в тот же день был насмерть сбит машиной в Фуа, — продолжал он. — Об этом было в газетах. Похоже, они с Шелаг были знакомы. Элис опустилась на кровать. — Извини, Стив. Мне это нелегко слышать. Кто-нибудь ее ищет? Вообще что-нибудь делается? — Есть одна мысль, — неуверенно протянул он. — Я бы сам этим занялся, но я завтра утром уезжаю домой. Теперь нет смысла здесь торчать. — Что за мысль? — До начала раскопок Шелаг останавливалась у друзей в Шартре. Мне пришло в голову, что она снова отправилась туда, просто не потрудилась никого уведомить. Элис мысль не показалась слишком обнадеживающей, но это было лучше, чем ничего. — Я звонил по тому номеру. Ответил какой-то парень. Он вроде бы никогда не слышал о Шелаг, но номер был точно тот, который она мне давала. Я его сохранил в трубке. Элис нашла карандаш и бумагу. — Продиктуй мне. Попробую сама, — сказала она, готовясь писать. Рука у нее застыла. — Извини. Стив, — голос звучал словно издалека, — повтори, пожалуйста, еще раз. — 02 68 72 31 26, — послушно повторил он. — Сообщишь мне, если что-нибудь узнаешь? Этот самый номер она получила от Бо. — Я все сделаю, — отозвалась Элис, почти не понимая, что говорит. — Свяжусь с тобой. Элис понимала: нужно звонить Нубелю. Рассказать ему о странном взломщике и о своей встрече с Бо. Но она медлила. Она сомневалась, что Нубелю можно доверять. Он ведь ничего не сделал, чтобы остановить Оти. Элис полезла в рюкзак, нашла дорожную карту Франции. «Не сходи с ума. Туда гнать не меньше двух суток». Какая-то мысль толкнулась в сознание. Она достала сделанные в библиотеке заметки. В грудах слов, относящихся к собору в Шартре, мелькнуло упоминание о Святом Граале. И там тоже есть лабиринт. Элис нашла нужный параграф. Перечитала его дважды, чтобы убедиться, что все поняла правильно, потом выдернула из-под письменного стола стул, села и открыла книжку Бальярда на том месте, которое было отмечено закладкой. «Иные и теперь верят, что здесь нашел последнее свое пристанище Грааль. Предполагается, что катары были хранителями Чаши Христа…» Сокровище, вынесенное катарами из Монсегюра. Куда? На пик де Соларак? Элис открыла карту на первой странице книги. Монсегюр не так далеко от гор Сабарте. Что, если сокровище скрыли там? «Какая связь между Шартром и Каркасоном?» Вдалеке послышались первые раскаты грома. Комнату заливал странный оранжевый свет уличных фонарей, отраженный от ночных облаков. Ветер гремел ставнями и швырял пригоршни песка в машины на стоянке под окнами. Элис закрыла окно, когда первые тяжелые капли расплылись по подоконнику чернильными кляксами. Она бы выехала тотчас же, но было уже поздно, да и вести машину в грозу опасно. Элис проверила все замки, поставила будильник и одетой улеглась в постель дожидаться утра.
Сперва сон показался знакомым и мирным. Она плыла в белом, лишенном тяжести мире, прозрачном и молчаливом. Потом словно люк открылся под виселицей, и она начала падать сквозь пустое небо к рванувшимся навстречу лесистым горам. Она узнала это место. Монсегюр ранней весной. Едва ноги коснулись земли, Элис уже бежала, спотыкаясь на крутой лесной тропинке между колоннами древесных стволов. Она хваталась за ветви, пытаясь замедлить бег, но руки проходили насквозь, горсти молодых листочков проскальзывали сквозь пальцы, как волосы сквозь гребень, пачкая кожу зеленым соком. Тропинка под ногами стала ровнее, камни и скальные выступы сменили мягкую лесную землю, мох и сучья. А вокруг было все так же тихо, ни птичьих, ни людских голосов, только ее прерывистое дыхание. Тропа изгибалась, сворачивалась петлями, заставляя ее метаться то вправо, то влево, пока за новым поворотом впереди не встала огненная стена. Элис вскинула руки к лицу, защищаясь от синих, желтых, багровых языков пламени, тянувшихся к ней, как водоросли тянутся к поверхности воды. Здесь сон изменился. Теперь вместо множества корчащихся в пламени лиц перед ней возникло одно: лицо юной женщины, нежное и в то же время сильное. Женщина протянула руку и взяла из руки Элис книгу. Она пела, голос свивался серебряной нитью. Bona nuèit, Bona nuèit…[265] На этот раз не было холодных пальцев, хватающих ее за лодыжки, приковывающих к земле. И огонь больше не грозил поглотить ее. Она струйкой дыма поднималась вверх, и тонкие сильные женские руки обнимали и поддерживали ее. Она была в безопасности. Braves amies, pica mièja-nuèit. Элис улыбнулась, вместе с ней взлетая все выше и выше, к свету, оставляя мир далеко внизу.
ГЛАВА 44 КАРКАССОНА, джюлет 1209
Ранним утром Элэйс разбудил шум пил и молотков во дворе. Она встала и подошла к окну, разглядывая деревянные надстройки и галереи, которые возводили на стенах Шато. Скелет из мощных бревен быстро обретал форму. С крытых переходов лучникам легко будет засыпать стрелами врага, если он, вопреки ожиданию, сумеет ворваться за городскую стену. Элэйс поспешно оделась и сбежала во двор. В кузницах ревели горны, звенели молоты, оттачивавшие и исправлявшие оружие, отрывисто перекликались саперы, готовившие оси, канаты и противовесы для баллист. У конюшни Элэйс увидела Гильома. Сердце у нее перевернулось. «Посмотри на меня!» Он не обернулся, не поднял глаз. Элэйс махнула рукой, хотела позвать, но не осмелилась и бессильно опустила руку. Не станет она унижаться, выпрашивая любви, которой он не хочет ей дать. В городе царила та же деловитая суета, что и в Шато Комталь. Посреди площади громоздился привезенный из Корберы камень — снаряды для баллист и катапульт. Остро воняло мочой из кожевенных мастерских, где готовили шкуры для защиты галереи от пожара. От Нарбоннских ворот тянулась непрерывная вереница повозок с припасами для города: солонина из Ла Пиге и Лораге, вино из Каркассэ, пшеница и ячмень с равнины, бобы и чечевица с овощных рынков Сен-Микеля и Сен-Венсена. Город гордо и целеустремленно готовился к осаде. Только клубы черного дыма с заречных болот на севере — от сожженных по приказу виконта мельниц и посевов — напоминали о том, как близка и неизбежна угроза. Элэйс поджидала Сажье, чтобы условиться о месте встречи. В голове, как птицы над рекой, кружились десятки вопросов, которые хотелось задать Эсклармонде. К тому времени, как появился мальчик, ей казалось уже, что язык устал заранее. Элэйс прошла за ним безымянной улочкой в пригороде Сен-Микель к низкой дверце у самой внешней стены. Здесь громко звучали голоса землекопов, роющих рвы, чтобы помешать солдатам подойти под стены. Сажье пришлось почти кричать, перекрывая шум. — Menina ждет там, — сказал он, и его лицо вдруг стало угрюмым. — А ты не войдешь? — Она велела привести тебя и сразу идти в Шато за кастеляном Пеллетье. — Ищи его в Кур д'Онор, — посоветовала Элэйс. — Найду! — мальчишка снова ухмыльнулся. — Еще увидимся. Элэйс толкнула дверь и позвала, ожидая увидеть Эсклармонду, но тут же остановилась. В кресле в дальнем углу виднелась вторая фигура. — Входи, входи! — В голосе Эсклармонды слышалась улыбка. — Помнится, ты уже знакома с Симеоном? Элэйс ахнула: — Симеон? Уже? Она подбежала к нему, протянула руки. — Какие новости? Ты давно в Каркассоне? Где остановился? Симеон от души расхохотался. — Сколько вопросов! Все хочется знать, и все сейчас же! Бертран рассказывал, что девочкой ты задавала вопросы без передышки. Элэйс улыбнулась. Отец, пожалуй, нисколько не преувеличивал. Она проскользнула на скамью у стола и приняла от Эсклармонды чашу вина, прислушиваясь к их с Симеоном беседе. Эти двое уже успели подружиться. Симеон был искусный рассказчик. Истории из его жизни в Безьере и Шартре переплетались с воспоминаниями о Святой земле, и время пролетало незаметно. Он рассказывал, как цветут по весне холмы Иудеи, как поля Сефаля покрываются лилиями, желтыми и лиловыми ирисами, как розовеет над простирающимся до небосклона ярким ковром цветущий миндаль. Элэйс слушала и не могла наслушаться. Но тени становились длиннее, и незаметно для Элэйс атмосфера переменилась. Она чувствовала дрожь ожидания под ложечкой и гадала, не то ли ощущают ее отец и Гильом перед сражением? Чувство, будто время застыло на чашечках весов… Элэйс покосилась на Эсклармонду. Та сидела, сложив руки на коленях, спокойная и собранная. — Отец вот-вот придет, — заговорила Элэйс, чувствуя себя виноватой за его долгое отсутствие. — Он мне обещал. — Мы не сомневаемся. Симеон похлопал ее по руке. Кожа у него была сухая, как пергамент. — Если он задержится, мы не сможем его дождаться, — заметила Эсклармонда, поглядывая на закрытую дверь, — Хозяева дома скоро вернутся. Элэйс перехватила взгляд, которым обменялись ее друзья, и, не выдержав напряжения, склонилась вперед. — Вчера ты мне не ответила, Эсклармонда. — Она удивилась, как ровно звучит ее голос. — Скажи, ты тоже страж? Книга, которую ищет отец, у тебя? На минуту слова повисли в воздухе, словно ушли в пустоту. Затем Элэйс с удивлением заметила, что Симеон хихикает. — Много ли рассказал тебе отец о Noublesso? — спросил он, блеснув черными глазами. — Сказал, что всегда есть пятеро стражей, хранящих три книги лабиринта, — храбро ответила Элэйс. — А почему пятеро, не объяснил? Элэйс покачала головой. — Navigataire — кормчий — всегда избирает себе в помощь четверых посвященных. Вместе они представляют пять точек человеческого тела и священную силу числа «пять». От каждого стража требуется сила, решимость и верность. Он может быть христианином, сарацином, евреем — в счет идут души, отвага, а не кровь, не род и не цвет кожи. Того требует сама природа тайны, которая принадлежит каждой вере и ни одной из них. — Симеон улыбнулся. — Более двух тысячелетий существуют Noublesso de los Seres — хотя прежде они хранили и оберегали нашу тайну под другими именами. Бывало, мы таились, в иные времена жили открыто. Элэйс повернулась к Эсклармонде. — Мой отец не хочет тебя признавать. Просто не может поверить. — Он обманулся в своих ожиданиях. — Бертран всегда был такой, — хмыкнул Симеон. — Он просто не предвидел, что среди пяти стражей может оказаться женщина, — вступилась за отца Элэйс. — Прежде такое не было редкостью, — заметил Симеон. — В Ассирии, в Египте, в Риме и Вавилоне — ты слыхала рассказы об этих древних государствах — женщина занимала более высокое положение, чем в наши темные времена. Элэйс задумалась. — По-вашему, Ариф прав, считая, что в горах книги будут в безопасности? — спросила она. Симеон поднял руку. — Не нам искать истину или судить, что будет. Наше дело — просто хранить книги и защищать их, чтобы они были наготове, когда возникнет в них нужда. — Потому Ариф и поручил унести их твоему отцу, а не ему и не мне, — вставила Эсклармонда. — Он, с его положением, станет самым надежным хранителем. Он может собрать охрану, ему легко достать людей и лошадей, и пропустят его легче, чем любого из нас. Элэйс промолчала. Ей не хотелось выдавать отцовские секреты. — Ему трудно будет оставить виконта. Отец разрывается между старыми и новыми клятвами. — Все мы встаем перед подобным выбором, — кивнул Симеон. — Каждый из нас стремится избрать путь, который представляется ему лучшим. Бертрану выпало счастье прожить долгую жизнь прежде, чем ему пришлось решать. — Он взял руки Элэйс в свои. — Ему нельзя медлить, Элэйс. Поддержи его, помоги вынести это испытание. Каркассона до сих пор не сдавалась врагу, но это не значит, что она выстоит теперь. Элэйс чувствовала на себе их взгляды. Она встала, отошла к очагу. Сердце часто забилось. — А позволено ли кому-то заменить его? — спросила она. Эсклармона поняла ее мысль. — Не думаю, чтобы твой отец позволил, — сказала она. — Ты слишком дорога ему. Элэйс снова обернулась к ним. — Уезжая в Монпелье, — заговорила она, — он счел меня достойной доверия. В сущности, он уже дал мне свое дозволение. — Это верно, — кивнул Симеон, — но положение изменяется с каждым днем. Французы стоят почти на границе владений виконта Тренкавеля, и дороги день ото дня становятся опаснее. Я сам убедился в этом. Скоро вообще нельзя будет выехать из города. Элэйс не собиралась уступать. — Но ведь мне ехать в противоположную сторону, — возразила она, умоляюще поглядывая то на одного, то на другого из старших. — И вы еще не ответили на мой вопрос. Если обычаи Noublesso не воспрещают мне снять эту ношу с отцовских плеч, то я предлагаю себя вместо него. Я вполне способна постоять за себя. Я отлично держусь в седле, владею и луком, и мечом. И никто даже не заподозрит во мне… Симеон жестом остановил ее. — Ты неправильно истолковала наши сомнения, дитя. Я не оспариваю твоей отваги или решимости. — Тогда дайте мне свое благословение. Симеон со вздохом обернулся к Эсклармонде. — Что ты скажешь, сестра? Если, конечно, согласится Бертран. — Ну, пожалуйста, Эсклармонда, — упрашивала Элэйс, — отдай свой голос за меня. Своего отца я уговорю. — Ничего не стану обещать, — отозвалась та после долгого молчания, — но и против тебя говорить не стану. Элэйс не сдержала улыбки. — Последнее слово за твоим отцом, — продолжала Эсклармонда. — Если он скажет «нет», тебе придется повиноваться. «Не сможет он отказать! Я его уговорю!» — Конечно, я всегда повинуюсь отцу, — сказала она вслух.Дверь распахнулась, и в комнату ворвался Сажье. За ним вошел Пеллетье. Он обнял дочь, горячо и радостно приветствовал Симеона, потом более сухо поклонился Эсклармонде. Пока Симеон пересказывал суть их беседы, Элэйс помогла Сажье принести вино и хлеб. К удивлению Элэйс, отец слушал молча, ни разу не перебив друга. Сажье поначалу не сводил с рассказчика круглых глаз, но скоро задремал, припав на бабушкины колени. Элэйс не вмешивалась в разговор, понимая, что Симеон с Эсклармондой скорее, чем она, убедят Пеллетье. Временами она поглядывала на лицо отца, и видела, какие глубокие морщины пролегли по землистой коже, чувствовала, как он растерян. Наконец все было сказано. Выжидательное молчание повисло в тесной комнатушке. Каждый молчал, ожидая решения Пеллетье. Элэйс не выдержала: — Ну, paire. Что ты решил? Разреши мне ехать! Пеллетье вздохнул. — Я не хочу подвергать тебя опасности. Элэйс понурилась: — Я понимаю и благодарна за твою любовь… Но я хочу тебе помочь. И могу! — У меня есть предложение, которое могло бы устроить вас обоих, — вставила Эсклармонда. — Позвольте Элэйс выехать вперед с книгами, но не всю дорогу, а только, скажем, до Лиму. Там у меня есть друзья, которые приютят ее. А когда ваши обязанности здесь будут исполнены и виконт Тренкавель сможет вас отпустить, вы нагоните ее и проделаете остаток пути вместе. Пеллетье поморщился: — Не вижу, чем это лучше. Столь безрассудное путешествие в наши ненадежные времена только привлечет внимание, которого мы как раз и стремимся избежать. К тому же я совершенно не представляю, как долго мои дела будет удерживать меня в Каркассоне. У Элэйс загорелись глаза. — Тут все просто. Я всем объясню, что еду во исполнение обета, данного по случаю венчания, — сказала она, придумывая на ходу. — Объявлю, что собираюсь принести дар аббату Сент-Илер, а оттуда уж до Лиму недалеко. — Подобный припадок благочестия вряд ли кого-нибудь убедит, — невольно усмехнулся Пеллетье, — и прежде всего ему не поверит твой муж. Симеон погрозил ему пальцем. — Отличная мысль, Бертран. В такое время никто не посмеет удерживать паломницу. Да к тому же Элэйс — дочь самого кастеляна. Кто осмелиться сомневаться в ее намерениях? Пеллетье поерзал в кресле и упрямо возразил: — Я по-прежнему считаю, что книгам безопаснее всего оставаться в стенах города. Нам здесь виднее, чем Арифу издалека. Мы не сдадим Каркассону. — Любая крепость, даже самая мощная и несокрушимая, может пасть, и тебе это известно. Navigataire приказал доставить книги к нему в горы. — Черные глаза Симеона уставились в лицо Пеллетье. — Я понимаю, ты считаешь, что не можешь в такое время покинуть виконта. Ты это сказал, и мы это принимаем. К добру или к худу, ты слушаешься голоса своей совести. — Симеон помолчал. — Но если не ты, тогда другой должен заменить тебя. Элэйс видела, как мучительно дается отцу это решение. Она сочувственно накрыла его ладонь своей. Пеллетье не поднял глаз, но благодарно пожал ее пальцы. — Aquà es vôstre, — попросила она. — Позвольте мне сделать это для вас. У Пеллетье вырвался протяжный вздох. — Ты подвергаешь себя огромной опасности, filha. Элэйс кивнула. — И все-таки ты хочешь ехать? — Послужить тебе — честь для меня. Симеон положил руку на плечо другу. — Она отважна, твоя дочь. И упряма. Как ты, мой старый друг. Элэйс не смела дышать. — Сердцем я против этого, — заговорил наконец Пеллетье. — Но разум подсказывает другое, так что… — Он запнулся, словно боялся выговорить свое решение. — Если тебя отпустит твой муж и дама Агнесс — и если Эсклармонда будет сопровождать тебя, — я согласен. Элэйс перегнулась через стол и расцеловала отца. — Ты принял мудрое решение, — просиял и Симеон. — Сколько человек вы сможете послать с нами, кастелян Пеллетье? — спросила Эсклармонда. — Четверых солдат, самое большее шестерых. — И как скоро мы сможем выехать? — Примерно через неделю. — Пеллетье пояснил: — Излишняя торопливость покажется подозрительной. Я должен испросить дозволения у дамы Агнесс, а ты, Элэйс, — у супруга. Она открыла рот, чтобы сказать, что Гильом и не заметит ее отсутствия, но передумала и промолчала. — Чтобы твой замысел, filha, сработал, следует соблюсти этикет. — Пеллетье больше не колебался, он стоя отдавал четкие приказания: — Элэйс, возвращайся в Шато Комталь и найди Франсуа. Сообщи ему в общих чертах о своих намерениях, и пусть ждет моих распоряжений. — А ты не идешь? — Чуть позже. — Хорошо. Мне взять с собой книгу Эсклармонды? Пеллетье сухо усмехнулся: — Поскольку Эсклармонда намерена сопровождать тебя, думаю, книга вполне может еще некоторое время остаться у нее. — Я не хотела… Пеллетье похлопал себя по груди: — А вот книга Симеона… Он достал из-под плаща овчинный сверток, который Элэйс мельком видела в Безьере. — Забери ее в Шато. Зашей в дорожный плащ. Позже я передам тебе «Книгу Слов». Элэйс приняла сверток и вложила в свой кошель, потом подняла глаза на отца. — Спасибо, paire, что ты мне веришь. Пеллетье залился краской. Проснувшийся Сажье вскочил на ноги. — Я провожу госпожу Элэйс до дому, чтобы с ней не случилось беды, — заявил он. Все рассмеялись. — Да, позаботься о ней, gentilome, — сказал Пеллетье, хлопнув мальчика по спине. — На нее теперь вся наша надежда.
— Узнаю в ней тебя, — заговорил Симеон, вместе с Пеллетье направляясь к воротам на Сен-Микель, за которым лежало еврейское поселение. — Храбрая, преданная и упрямая. Не из тех, кто легко отступает. Старшая дочь тоже похожа на тебя? — Она удалась в мать, — отрывисто бросил Пеллетье. — И лицом и характером походит на Маргарет. — Так часто бывает. Один из детей похож на одного из родителей, другой на другого. — Симеон помолчал, припоминая: — Она замужем за эскриваном виконта Тренкавеля? Пеллетье вздохнул. — Брак не из счастливых. Конгост уже не молод и не может смириться с ее привычками. Впрочем, он занимает высокое положение среди людей виконта. Еще несколько шагов они прошли в молчании. — Если она пошла в Маргарет, то, должно быть, красавица? — Обаяние и грация Орианы привлекают все взгляды. В нее влюблены многие, и кое-кто не делает из этого тайны. — Видимо, дочери для тебя большое утешение. Пеллетье покосился на друга. — Что касается Элэйс, ты прав. — Он замялся. — Наверно, я виноват, но общество Орианы нахожу менее… Я стараюсь держаться с обеими одинаково, но боюсь, они не слишком хорошо ладят между собой. — Жаль, — пробормотал Симеон. У ворот они остановились, и Пеллетье вернулся к прежнему разговору. — Хотел бы я убедить тебя остаться в городе. Или хотя бы в Сен-Микеле. Когда подойдет враг, я не смогу помочь тебе вне стен… Симеон похлопал друга по плечу. — Не стоит беспокоиться обо мне, друг мой. Моя роль сыграна. Доверенную мне книгу я передал тебе, и две другие под защитой стен. Тебе помогут Элэйс и Эсклармонда. Кому я теперь нужен… — Он не сводил с Пеллетье ярко заблестевших глаз. — Мое место с моим народом. Что-то в его голосе насторожило Пеллетье. — Ты как будто прощаешься навсегда! — сердито воскликнул он. — А ведь не пройдет и месяца, как мы с тобой встретимся за чашей вина, попомни мои слова! — Мечи французов могут оказаться крепче твоего слова, друг мой. — Ручаюсь, к весне все это кончится. Французы подожмут хвосты и поплетутся по домам, граф Тулузский станет искать новых союзников, а мы с тобой будем сидеть у огня, вспоминая далекую молодость. — Pas a pas, se va luénh, — проговорил Симеон, обнимая его. — И обними за меня Арифа. Напомни, что тридцать лет назад он обещал сыграть со мной в шахматы и до сих пор не собрался! Пеллетье махнул рукой вслед уходящему за ворота Симеону. Тот не обернулся. — Кастелян Пеллетье? Симеон уже затерялся в толпе народа, направляющейся к реке. — Мессире! — повторил задыхающийся посланец. — Что такое? — Ты нужен у Нарбоннских ворот, мессире.
ГЛАВА 45

Элэйс стремительно вбежала в свои покои. — Гильом? В сущности, ей нужно было побыть одной, да она и не ждала ничего другого и все же разочарованно вздохнула, увидев, что комната пуста. Элэйс заперла за собой дверь, отцепила от пояса кошель, положила на стол, вытащила и развернула книгу. Та была не больше дамского молитвенника, дощечки переплета обтянуты гладкой, источенной по углам червями кожей. Элэйс развязала кожаные шнурки, и книга открылась у нее на ладонях, как расправившая крылышки бабочка. Первая страница была пуста, если не считать золотой чаши посредине, которая, как самоцвет, блеснула на темном пергаменте. Чаша была не больше, чем узор на кольце отца или на мереле, так недолго пробывшем у нее в руках. Она перевернула страницу. Перед ней были четыре строки надписи, сделанной черными чернилами, изящным и тонким почерком. По краям тянулась кайма картинок и значков: повторяющийся узор, словно вышивка по краю плаща. Птицы, животные, фигурки людей с длинными руками и заостренными пальцами. У Элэйс перехватило дыхание. Эти лица и фигурки она видела во сне. Элэйс переворачивала страницу за страницей. Все были исписаны с одной стороны тем же почерком. Вторая оставалась чистой. Она узнавала слова языка Симеона, хотя и не понимала их. Но большая часть книги была написана на ее родном языке. Каждая страница начиналась яркими буквицами, украшенными алой, голубой или золотой краской, но это было их единственное украшение. Ни картинок на полях, ни красивых букв в начале строк. Слова переходили друг в друга почти без пробелов или иных знаков, показывающих, где кончается одно и начинается другое. В середине книги Элэйс наткнулась на вставной лист пергамента. Он был темнее и толще других страниц — как видно, выделан не из телячьей, а из козлиной кожи. Вместо знаков и картинок на нем стояли лишь несколько слов среди столбцов чисел и измерений. Все это напоминало карту. Элэйс едва разглядела крошечные стрелки, указывающие в разные стороны. Несколько были начерчены золотом, остальные черные. Элэйс попробовала прочитать страницу сверху вниз и слева направо, — получалась бессмыслица. Тогда она попробовала начать снизу, читать справа налево, как на витражах в церкви. Все равно ничего не складывалось. В конце концов она принялась читать строки через одну, потом выбирать слона из каждой третьей строки, но так ничего и не поняла. «Ищи тайну, скрытую за видимым глазу». Элэйс задумалась. Каждому стражу вручена книга согласно его искусствам и знаниям. Целительнице Эсклармонде Ариф отдал «Книгу Бальзамов»; Симеону, изучившему древнюю иудейскую науку чисел, досталась «Книга Чисел» — вот эта книга. Что видел Ариф в ее отце, когда отдавал ему «Книгу Слов»? Глубоко уйдя в размышления, Элэйс зажгла светильник и подошла к своему столику. Достала лист пергамента, перо и чернила. Пеллетье, приобретший в Святой земле уважение к учености, сделал все, чтобы обучить дочерей грамоте. Ориана ничего не желала знать, кроме искусств, приличествующих придворной даме: танцы, пение, соколиная охота и вышивание. Пачкать пальцы в чернилах, не уставала повторять она, пристало только старикам да священникам. Однако Элэйс ухватилась за представившуюся возможность обеими руками. Она быстро схватывала науку и не забывала выученного, хотя ей редко представлялась возможность применить свое умение. Элэйс разложила пергамент на столе. Надпись была непонятна, и она даже не надеялась во всей красоте и в цвете воспроизвести начерченные искусным писцом знаки. Но сделать точную копию она могла. Времени ушло немало, однако в конце концов работа была закончена, и Элэйс отложила лист в сторону, чтобы просохли чернила. Потом, вспомнив, что в любую минуту может вернуться отец с «Книгой Слов», поспешила исполнить его приказ и спрятать книгу. Ее любимым красный плащ не годился. Слишком тонкой была ткань, слишком узкой — кайма. Она достала другой: толстый коричневый плащ, сшитый для зимней охоты. Ничего не поделаешь, придется обойтись этим. Элэйс умело распускала шов спереди, пока не образовалось отверстие, в которое можно было протиснуть книгу. Потом взяла подаренный Сажье моток — нить точно подходила по цвету — и надежно зашила томик в двойную широкую кайму. Подняв плащ, Элэйс накинула его на плечи. Немного оттягивается на сторону, но это ничего. Она зашьет с другой стороны отцовский том, и равновесие восстановится. Оставалось еще одно дело. Оставив плащ на спинке кресла, Элэйс вернулась к столу. Чернила успели просохнуть. Поминутно оглядываясь на дверь, она поспешно засунула свернутый в трубочку листок в горловину мешочка с лавандой, намертво зашила отверстие, чтобы никто случайно не открыл тайник, и сунула мешочек обратно под подушку. Потом она обвела глазами комнату, улыбнулась, гордясь своей хитростью, и принялась убирать иглу и нитки.
В дверь постучали. Элэйс бросилась открывать. Она ожидала увидеть отца, но на пороге стоял Гильом. Вид у него был смущенный. Шевалье явно не был уверен в том, какой прием окажет ему супруга. Знакомая полуулыбка, растерянный мальчишеский взгляд. — Могу я войти, госпожа? — тихо спросил он. Первым ее движением было броситься ему на шею, но Элэйс сдержалась. Слишком много было сказано. Слишком мало прощено. — Можно? — Это ведь и твои покои, — спокойно ответила Элэйс. — Могу ли я воспретить тебе войти? — Какой холодный прием, — вымученно усмехнулся Гильом, закрывая за собой дверь. — Мне бы хотелось, чтобы меня принимали по доброй воле, а не из чувства долга. — Я… — Элэйс запнулась, выбитая из равновесия нахлынувшим на нее желанием. — Я счастлива видеть тебя, мессире. Как легко было бы уступить. Отдаться ему целиком! Она закрыла глаза, почти ощущая, как гладят ей кожу его пальцы, легкие, как шепот, естественные, как дыхание. Ей представилось, как она склоняется к нему, прячется в его объятиях. Голова у нее закружилась, ноги подгибались. «Я не могу. Не должна». Элэйс заставила себя открыть глаза и отступить на шаг. — Не надо, — шепнула она. — Пожалуйста, не надо. Гильом взял ее руку в свои. Элэйс видела, что ему не по себе. — Скоро… если не воспретит Господь, мы сойдемся с ними лицом к лицу. Когда придет срок, мы все — Альзо, Тьерри — все выедем в поле и, быть может, не вернемся. — Я знаю, — мягко сказала она, с жалостью глядя в его помертвевшее лицо. — С самого возвращения из Безьера я дурно обходился с тобой, Элэйс. Тому нет ни причин, ни оправданий. Я сожалею и пришел просить у тебя прощения. Я слишком ревнив, и ревность часто заставляет меня говорить то… в чем я после раскаиваюсь. Элэйс взглянула ему в глаза, но заговорить не решилась, не понимая собственного сердца. Гильом шагнул ближе. — Но тебе не противно видеть меня? Она улыбнулась: — Мы так давно не виделись, Гильом, что я не знаю, что и думать. — Ты хочешь, чтоб я ушел? Слезы подступили к глазам, и это помогло Элэйс устоять. Она не желала показывать ему своих слез. — Думаю, так будет лучше. — Она вынула из-за корсажа платок и вложила ему в руку. — Еще будет нам время исправить все между собой. — Как раз времени нам и не хватает, Элэйс, — нежно возразил он. — Но если позволит Бог и французы, я приду завтра. Элэйс вспомнила о книгах, об ответственности, возложенной на ее плечи. «Может, мы больше не увидимся». Сердце у нее дрогнуло. Помедлив одно мгновение, она изо всех сил обняла мужа, словно старалась запомнить его всем телом. И так же внезапно выпустила. — Все мы в руках Господа, — сказала она. — А теперь, Гильом, пожалуйста, уходи. — До завтра? — Увидим. Элэйс стояла, как статуя, сжав перед собой руки, чтобы они не дрожали, пока за Гильомом не закрылась дверь. Потом задумчиво прошла к столу, гадая, что заставило его прийти. Любовь? Раскаяние? Или что-то другое?
ГЛАВА 46
Симеон глядел в небо. Серые облака неслись наперегонки, закрывая солнце. Он забрел далеко от города и хотел вернуться под крышу, пока не разразилась гроза. Добравшись до опушки леса, отделявшего Каркассону от реки, Симеон зашагал медленней, тяжело опираясь на посох. Он распустил завязки ворота. Теперь уж недалеко. Эсфирь приготовит к его возвращению обед, может быть, нальет вина. При этой мысли он встрепенулся. Как знать, может, Бертран и прав, и все будет кончено к весне? Он не заметил, как за его спиной на тропу выступили двое. Не видел он и занесенной над его головой дубинки, пока удар не погрузил его в темноту.Пока Пеллетье добирался до Нарбоннских ворот, там успела собраться толпа. — Пропустите! — кричал он, расталкивая зевак и пробиваясь в первый ряд. Прямо перед ним стоял на четвереньках человек. Из его разбитого лба стекала кровь. Двое стражников стояли над ним, нацелив ему в грудь свои пики. Их пленник, как видно, был музыкантом. Рядом с ним валялся проколотый барабанчик, а трубки флейты были переломаны и разбросаны по земле, как кости после пира. — Святая вера, что здесь происходит? — сурово вопросил Пеллетье. — Чем провинился этот человек? — Не остановился, когда ему было приказано, — доложил стражник с иссеченным старыми шрамами лицом. — У него нет пропуска. Пеллетье присел на корточки рядом с музыкантом. — Я Бертран Пеллетье, кастелян виконта. Что привело тебя в Каркассону? У раненого дрогнули ресницы. — Кастелян Пеллетье, — невнятно повторил он, цепляясь за его руку. — Это я. Говори, друг. — Besiérs es presa. Безьер захвачен. Стоявшая рядом женщина вскрикнула и сразу зажала себе рот. Потрясенный Пеллетье не заметил, как оказался на ногах. — Вы, — приказал он стражникам, — вызовите себе смену и помогите этому человеку добраться до Шато. Плохо вам придется, если он из-за вашего рвения не сможет говорить. Пеллетье обернулся к толпе. — Запомните мои слова, — крикнул он, — о том, что видели здесь, не болтать! Мы скоро узнаем, в чем дело.
В Шато Комталь Пеллетье распорядился проводить музыканта на кухню, перевязать ему голову и накормить, а сам немедленно пошел предупредить виконта. Скоро в донжон привели и музыканта, подкрепившего силы сладким вином и медом. Тот был бледен, но держался твердо. Видя, что он едва стоит на ногах, кастелян распорядился принести табуретку и усадил рассказчика. — Назови свое имя, amic,[266] — начал он. — Пьер де Мурвиль, мессире. Виконт Тренкавель сидел в центре, вокруг него полукругом стояли его союзники. — Benvenguda, Пьер де Мурвиль, — сказал он. — Ты принес нам известия? Выпрямив спину, сложив руки на коленях, музыкант с белым как молоко лицом начал говорить. Он родом из Безьера, хотя последние годы провел при дворах Наварры и Арагона. Он учился музыке у самого Раймона де Мираваля, лучшего трубадура Миди. Потому и получил приглашение от сюзерена в Безьер и принял его, чтобы снова побывать дома и повидать родных. Он говорил так тихо, что всем им приходилось напрягать слух. — Расскажи, что с Безьером, — сказал виконт Тренкавель. — Не умалчивай ни о чем. — Французская армия подошла под стены накануне дня Святой Марии Магдалины и встала лагерем на левом берегу реки Орб. У самой воды стояли пилигримы и наемники, нищие и убогие, одетые в лохмотья человеческие обрубки, босые, раздетые, без доспехов. Дальше над шатрами развевались знамена баронов и служителей церкви — зеленые, золотые, красные. Они ставили шесты для флажков и валили деревья на загоны для скота. — Кому было поручено вести переговоры? — Епископу Безьера, Рено де Монтеперу. — Говорят, что он изменник, мессире, — шепнул Пеллетье, наклонясь к уху Тренкавеля, — и что он уже принял крест. — Епископ вернулся со списком обвиняемых в ереси, составленным папскими легатами. Не знаю, сколько имен было на пергаменте, мессире, но сотни наверняка. И среди них имена самых влиятельных, самых богатых, самых благородных граждан Безьера, и последователей новой церкви, и тех, в ком подозревали Bons Chrétiens. Безьер обещали пощадить, если консулы выдадут поименованных еретиков. Если нет… — Он не договорил. — Какой ответ дали консулы? — спросил Пеллетье. Сейчас впервые решалось, насколько прочен окажется союз против французов. — Что скорее они дадут утопить себя в морском рассоле, чем подчинятся и выдадут своих сограждан. Виконт чуть слышно перевел дыхание. Епископ покинул город и увел с собой некоторых из священников. Комендант города, Бернар де Сервиан, приказал готовиться к осаде. Рассказчик остановился и с трудом сглотнул. Даже скрючившийся над своими пергаментами Конгост перестал писать и поднял голову. — Утром двадцать второго июля рассвело рано. Уже на рассвете было жарко. Горсточка крестоносцев — даже не солдат, а сброда, увязавшегося за войском, вышли к реке под южной стеной. Со стены их заметили. Один из бродяг взобрался на самый мост, кривлялся, бранился и так раздразнил городскую молодежь, что те вооружились кто копьями, кто дубинками, даже раздобыли барабан и соорудили самодельное знамя. Никто и оглянуться не успел, как они вылетели из ворот, крича во всю глотку, и бросились на оскорбителя. В минуту все было кончено. Они скинули мертвое тело в реку. Пеллетье взглянул на виконта. Тот был бледен. — Горожане со стены кричали парням, чтобы те вернулись, но они так разгорячились, что не слыхали. Шум схватки привлек внимание капитана наемников, «roi», как называют его французы. Увидев открытые ворота, он дал приказ к атаке. Когда мальчишки заметили опасность, было уже поздно. Наемники — routiers — перебили их на месте. Немногим удалось вернуться, но отстоять ворота им не удалось. Хорошо вооруженные наемники ворвались внутрь и удерживали ворота до подхода остальных. Тут же к стенам хлынули французские солдаты с пиками, мотыгами, штурмовыми лестницами. Бернар де Сервиан сделал все возможное, чтобы удержать бастионы и привратные укрепления, но ему не хватило времени. Ворота остались за наемниками. Едва крестоносцы ворвались в город, началась резня. Повсюду были мертвые и изувеченные тела; мы были по колено в крови. Детей вырывали из рук матерей, порой отрубая и руки, и насаживали на мечи и копья. Отрубленные головы расставляли по стенам на корм воронью, так что казалось, наши бастионы уставлены кровавыми горгульями, высеченными не из камня, а из плоти и кости. Они убивали всех, без различия пола и возраста. Виконт Тренкавель не мог больше молчать. — Как же не остановили этого зверства бароны и папские легаты? Или они не знали? Де Мурвиль поднял голову: — Знали, мессире. — Но убийство невинных — поруха чести, нарушение законов войны! — вмешался Пьер Роже де Кабарет. — Не могу поверить, что аббат Сито, при всей его ненависти к еретикам, мог благословить убийство христианских младенцев и женщин, не очищенных даже от греха. — Говорили, что аббата спрашивали, как отличить доброго католика от еретика. «Tuez-les tous. Dieu reconnaîtra les siens, — повторил Мурвиль безжизненным голосом. — Убивайте всех. Господь отличит своих». Так, говорят, он ответил. Тренкавель и де Кабарет обменялись взглядами. — Продолжай, — мрачно приказал Пеллетье. — Закончи свой рассказ. — Большие колокола Безьера звонили набат. Женщины и дети устремились толпой к церкви Святого Иуды и Святой Марии Магдалины — той, что в Верхнем городе. Людей там набилось, как овец в загоне. Католические священники облачились для службы и запели «Реквием», но крестоносцы взломали двери и перебили всех. Голос у него сорвался. — За несколько часов город превратился в кладбище. Тогда начались грабежи. Все наши богатые дома обобрали дочиста и разгромили. И только тогда вмешались французские бароны, которыми двигала не совесть, а алчность. Они попытались обуздать наемников, однако те, разъярившись из-за потери законной добычи, подожгли город, чтобы его богатства не достались никому. Деревянные дома на окраинах вспыхнули как сухой трут. От жара затлели и рухнули перекрытия собора, задавив всех, кто искал в нем убежища. — Скажи мне, многие ли выжили? — прервал его виконт. Музыкант уронил голову. — Никто, мессире. Кроме тех немногих, кому удалось бежать из города, все мертвы. — Двадцать тысяч перебито за одно утро, — в ужасе пробормотал Раймон Роже. — Возможно ли это? Никто не ответил ему. Для такого у них не было слов. Тренкавель поднял голову, взглянул на музыканта. — Твои глаза видели то, что не должно видеть никому, Пьер де Мурвиль. Доставив нам эту весть, ты выказал храбрость и мужество. Каркассона в долгу перед тобой, и я позабочусь, чтобы ты получил достойную награду. — Он помолчал. — Прежде чем ты уйдешь, еще один только вопрос; мой дядя, граф Тулузский, принимал участие в разграблении города? — Не думаю, мессире. Я слышал, он не покидал лагеря французов. Тренкавель многозначительно взглянул на Пеллетье. — Хоть что-то… — По дороге в Каркассону тебе кто-нибудь повстречался? — спросил Пеллетье. — Разошлись ли уже слухи о бойне в Безьере? — Не знаю, мессире. Я держался в стороне от главных дорог, пробирался старыми тропами через перевал Лаграсс. Ни одного солдата не видел. Виконт Тренкавель обернулся к своим консулам, взглядом разрешая им задавать вопросы, но те молчали. — Ну что ж, — заговорил он, вновь оборачиваясь к музыканту, — ты можешь идти. Прими еще раз нашу благодарность. Как только музыканта увели, Тренкавель обратился к Пеллетье. — Почему мы ничего не знаем? Хоть какие-то слухи должны были разнестись по стране? Ведь прошло четыре дня! — Если де Мурвиль не лжет, некому было разносить вести, — мрачно заметил де Кабарет. — Пусть так, — дернул плечом Тренкавель. — Немедленно вышлите конных разведчиков, всех, кого можно оторвать от подготовки к осаде. Пусть узнают, стоит ли еще Воинство под Безьером или двинулось на восток. Победа ускорит их продвижение. Он встал, и все склонились в поклоне. — Пусть консулы объявят по городу злую весть. Я отправляюсь в капеллу Святой Марии. Сообщите моей супруге, что я жду и ее.
Пеллетье тяжело, словно облаченный в доспехи, переставлял ноги, поднимаясь но лестнице к жилым покоям. Казалось, грудь его стянута тугой повязкой, которая не дает свободно вздохнуть. Элэйс ждала отца у двери. — Ты принес книгу? — тут же спросила она и осеклась, увидев его лицо. — Что такое? Что случилось? — Я не был в соборе Святого Назария, filha. Пришло известие… — Пеллетье тяжело опустился в кресло. — Какое известие? — В ее голосе уже звучал ужас. — Безьер пал, — сказал он. — Три или четыре дня назад. В живых никого не осталось. Элэйс упала на скамью. — Все убиты? — помертвевшим голосом повторила она. — И женщины, и дети? — Близятся последние времена, — проговорил Пеллетье. — Если они способны творить такое с невинными… Элэйс придвинулась к отцу, села рядом. — Что же теперь будет? Впервые в жизни Пеллетье уловил в голосе дочери нескрываемый страх. — Остается только ждать, — ответил он, и скорее почувствовал, чем услышал ее вздох. — Но это ничего не меняет в нашем деле, — осторожно заговорила она. — Ты позволил мне унести от опасности книги… — С тех пор все изменилось. Лицо дочери жарко вспыхнуло. — Со всем уважением, paire, тем больше причин отпустить нас! Если мы останемся, книги окажутся заперты в стенах города. Ты, конечно, не хочешь этого! — Она помолчала, но не услышала ответа. — Ты, Симеон, Эсклармонда стольким пожертвовали, чтобы годами прятать и хранить книги, — не для того же, чтобы потерять их в конечном счете! — То, что случилось в Безьере, не повторится здесь, — твердо сказал Пеллетье. — Каркассона выстоит осаду. Выстоит! Книгам здесь ничто не грозит. Элэйс сжала его руку. — Прошу тебя, не отступай от данного слова. — Все, Элэйс, — резко прервал ее отец. — Нам неизвестно, где сейчас Воинство. Трагедия Безьера — уже старая новость. С тех пор минулонесколько дней, хотя мы услышали о том только сейчас. Авангард армии может уже подступать к городу. Отпустив тебя, я сам подпишу тебе смертный приговор. — Но… — Я запрещаю. Слишком опасно. — Я готова рискнуть. — Нет, Элэйс! — выкрикнул Пеллетье, уже не скрывая страха. — Я не принесу тебя в жертву. Это мой долг, а не твой! — Тогда едем вместе! — воскликнула она. — Нынче же ночью. Возьмем книги и едем, пока еще есть время. — Слишком опасно, — упрямо повторил он. — Ты думаешь, я не понимаю? Да, может быть, наш путь окончится на острие французских мечей. Но не лучше ли погибнуть, пытаясь исполнить свой долг, чем позволить опасениям лишить нас отваги? К удивлению и даже к досаде Элэйс, Пеллетье неожиданно улыбнулся. — Такая решимость делает тебе честь, filha, — сказал он голосом, в котором уже не слышалось твердости, — но книги останутся в городе. Элэйс, задыхаясь от бессилия, взглянула на отца, потом вдруг отвернулась и выбежала из комнаты.
ГЛАВА 47 БЕЗЬЕР
Три дня после нежданно свалившейся им в руки победы французы оставались на плодородных равнинах, окружавших город. Казалось чудом захватить подобный трофей почти без потерь. Господь не мог яснее показать, что справедливость на их стороне. Над ними догорали развалины некогда великого города. Клочья серого пепла взлетали в синеву летнего неба, и ветер разносил их над землями побежденных. Временами слышался грохот рушащихся в пламени домов. На четвертое утро войско снялось с лагеря и двинулось на юг по равнинной римской дороге на Нарбонну. Во главе колонны ехал аббат Сито, окруженный папскими легатами. Сокрушительное поражение города, осмелившегося дать пристанище ереси, укрепило его временную власть. Белые и золотые кресты сверкали на спинах воинов Господа. Каждое распятие горело под лучами ослепительного солнца. Армия завоевателей змеей растянулась среди соляных ям, стоячих прудов и островков высокого желтого бурьяна. Яростный ветер с Лионского залива стегал траву. Вдоль дороги рос дикий виноград, оливы и миндаль. Французские солдаты, непривычные к южным походам, впервые видели подобные земли. Они крестились, в уверенности, что воистину видят страну, от которой отступился Господь.Посольство, возглавляемое архиепископом Нарбоннским и виконтом города, встретило крестоносцев в Капестане двадцать пятого июля. Нарбонна была богатым торговым портом, хотя сердце города располагалось в стороне от Средиземноморского побережья. Слухи об ужасной участи Безьера смутили умы, — и в надежде спасти Нарбонну от подобной судьбы церковная и государственная власть готова была пожертвовать и независимостью, и честью. На глазах множества свидетелей архиепископ Нарбонны и виконт преклонили колени перед аббатом и признали полное и беспрекословное подчинение Римской церкви. Они согласились выдать легатам всех известных еретиков, конфисковать имущество катаров и иудеев и даже уплатить налог на свое имущество, лишь бы умиротворить крестоносцев. На подписание договора не понадобилось много времени. Нарбонне была дарована пощада. Никогда еще казна не доставалась никому столь малыми усилиями. Если аббата и легатов и удивила легкость, с какой нарбонцы пожертвовали своими исконными правами, они ничем не выказали удивления. И если солдат, шедших под пунцовыми знаменами графа Тулузского, устыдила робость их соотечественников, они не сказали о том ни слова. Был отдан приказ повернуть колонну. После ночевки под Нарбонной они должны были повернуть на Олонзак. Оттуда оставалось всего несколько дневных переходов до Каркассоны.
На следующий день без боя распахнул ворота перед захватчиками Азиль — укрепленный город, стоявший на вершине холма. Несколько семей, обвиненных в ереси, сожгли на сложенных наспех кострах на рыночной площади. Черный дым стекал по крутым улочкам, переваливался через мощные стены и растекался по равнине. Одно за другим сдавались без сопротивления городки и селения. Город Ла Редорт последовал примеру соседнего с ним Азиля; так же поступили деревни и поселки, лежавшие между ними. Другие крепости — places fortes — крестоносцы находили покинутыми. Воинство беспрепятственно запасалось съестным в брошенных амбарах и двигалось дальше. Малейшее сопротивление крестоносцы подавляли повсюду яростно и мгновенно. Страшная слава армии протянулась перед ней зловещей черной тенью. Мало-помалу распадались старинные узы, связывавшие население Восточного Лангедока с династией Тренкавелей. Накануне дня Святого Назария, через пять дней после победы над Безьером, авангард войска, на два дня пути опередивший главные силы, достиг Требе. С каждым часом после полудня воздух становился все тяжелее. Знойное марево сменилось свинцовым сумраком. В небе пророкотали раскаты грома, сверкнули ослепительные зарницы. Когда крестоносцы въехали в открытые городские ворота, упали первые капли дождя. Улицы устрашали своей пустотой. Жители исчезли, растворились, как духи или призраки. Лилово-черное небо нависало над головами. Когда наконец разразилась буря, казалось, само небо рушится на пришельцев. Лошади метались в страхе, оскальзываясь на мокрых булыжниках. Каждый переулок превратился в ущелье, по которому несся бурный поток. Ливень беспощадно бил по щитам и шлемам. Спасаясь от потопа, карабкались на церковные ступени крысы. Молнии беспрестанно били по городу, но он не горел. Солдаты-северяне пали на колени, крестились и молили Господа пощадить их. Ни в плоских землях Шартра, ни в полях Бургундии, ни в лесах Шампани они не видали подобных гроз. Но гроза рассеялась так же быстро, как накатила. Воздух стал свеж и прохладен. Крестоносцы услышали звон колоколов из близлежащего монастыря, словно благодарившего не беса за спасение. Приняв этот звон как знак, что худшее миновало, они повыскакивали из-под деревьев, принялись развязывать вьюки, доставая сухую одежду для своих предводителей, и искать сухие дрова на растопку. Вскоре разбили обычный лагерь. Смеркалось. Небеса горели розовым и пурпурным огнем. Когда ветер унес последние белые хвосты облаков, северяне впервые увидели вдали башни и шпили Каркассоны, возникшей вдруг на горизонте. Крепость, казалось, вырастала из земли, в своем величии взирая сверху вниз на мир людской. Ничто до сих пор не подготовило крестоносцев к зрелищу города, который им предстояло штурмовать. Слова не передавали его великолепия. Город стоял величественно и грозно. Он казался несокрушимым.
ГЛАВА 48
Придя в себя, Симеон увидел над головой не листву, а крышу какого-то стойла. В памяти остался долгий путь. Ребра еще болели от тряской рыси лошади. Здесь стояла ужасающая вонь: смесь пота, козлиной шерсти, гнилой соломы и еще какого-то незнакомого запаха. На стенах висели ремешки упряжи, в углу у низкой двери стояли ухваты. В стену напротив вбиты были пять или шесть колец для привязи скотины. Симеон опустил взгляд ниже. Мешок упал у него с головы и валялся рядом на земле, но руки и ноги оставались связанными. Откашливаясь и сплевывая изо рта грубые нити мешковины, он сумел кое-как сесть. Отталкиваясь ногами и превозмогая боль разбитого тела, переполз к двери. На это потребовалось немало времени, зато ощущение твердой опоры за спиной принесло ему невыразимое облегчение. Терпеливые усилия дали возможность подняться на ноги, отчего голова едва не уперлась в крышу. Симеон всем телом ударил в дверь. Доски жалобно заскрипели, но дверь явно была приперта чем-то снаружи и не открылась. Он понятия не имел, далеко ли его увезли от Каркассоны. Сохранились смутные воспоминания: словно бы его везли на спине лошади через лес, потом по открытому полю. Насколько он знал местность, это могло означать, что его похитители направлялись к Требе. В щели под дверью он видел тусклую вечернюю синеву. Поздно, однако еще не совсем стемнело. Прижавшись ухом к земле, он расслышал неподалеку голоса похитителей. Они кого-то ждали. От этой мысли он похолодел, хотя едва ли нуждался в лишнем подтверждении, что это была не случайная засада. Симеон отполз к дальней стене и понемногу задремал, то вскидываясь, то снова склоняясь на бок, соскальзывая в тревожный сон. Крики за стеной заставили его очнуться. Он мгновенно напрягся каждым нервом, услышав тяжелые шаги и звук отодвигаемого тяжелого засова. В дверях очертилась темная фигура, освещенная сзади сиянием встающего солнца. Симеон моргнул. — Où est-il? Где он? — Голос образованного северянина, холодный и уверенный. Короткое молчание, и услужливо поднесенный факел выхватил из темноты прижавшегося к стене Симеона. — Давайте его сюда! Симеона подхватили под мышки и бросили на колени перед французом. Симеон медленно поднял глаза. Над ним стоял человек с жестоким худым лицом и бесстрастным взглядом. Глаза цвета кремня. Добротная одежда северного покроя ничего не говорила о его титуле или положении. — Где она? — требовательно заговорил тот. Симеон поднял голову. — Не понимаю, — произнес он по-еврейски. Сильный пинок обрушился без предупреждения. Симеон опрокинулся назад, почувствовав, как хрустнуло ребро. Грубые руки вздернули его в прежнее положение. — Я знаю тебя, еврей, — заговорил стоявший перед ним мужчина. — Не стоит вести со мной игру. Спрошу еще раз: где книга? Симеон снова поднял голову и ничего не сказал. На этот раз удар был направлен в лицо. В голове вспыхнула боль, рот наполнился кровью и обломками зубов. — Я выслеживал тебя, как зверя, еврей, — продолжал стоящий, — от самого Шартра, в Безьере и здесь. Выследил, как зверя. Ты отнял у меня много времени, и терпение мое на исходе. — Он шагнул ближе, и Симеон увидел ненависть в его мертвых серых глазах. — Еще раз: где книга? Ты отдал ее Пеллетье? Две мысли одновременно мелькнули в голове Симеона. Первая — что себя уже не спасти. Вторая — что он должен прикрыть друзей. Это еще в его силах. Глаза заплыли и уже не видели. — Я вправе знать имя того, кто обвиняет меня, — выговорил он разбитым ртом. — Я стану молиться за тебя. Человек сощурил глаза: — Не сомневайся, ты скажешь мне, где книга. Он слегка повел подбородком. Симеона вздернули на ноги, сорвали одежду и перегнули через телегу. Двое держали его, один за руки, другой за ноги, открывая спину. Симеон услышал резкий свист ременного пояса за миг до того, как пряжка рассекла ему кожу. Тело мучительно дернулось. — Где она? Симеон зажмурился, услышав, как снова свистнул ремень. — Уже в Каркассоне? Или еще при тебе, еврей? Он вскрикнул от удара. — Ты скажешь мне. Ты. Или они. Кровь стекала по спине. Симеон читал молитву своих предков; древние священные слова уходили в темноту, отгораживая разум от боли. — Где книга? — повторял мучитель, выговаривая по слову на удар. Это было последнее, что услышал Симеон перед тем, как темнота дотянулась до него и унесла с собой.ГЛАВА 49
Из Каркассоны авангард крестоносцев увидели в день Святого Назария. Стража на башне Пинте зажгла сигнальный огонь. Ударили в набат. К вечеру следующего дня, первого августа, на дальнем берегу реки вырос французский лагерь — словно второй город соперничал с блеском первого роскошью шатров и палаток, блеском знамен и золотых крестов. Северяне-бароны, гасконские наемники, солдаты из Шартра, Бургундии и Парижа, лучники, церковники, обоз и приставшее к войску отребье… После вечери виконт поднялся на бастион. С ним были Пьер Роже де Кабарет, Бертран Пеллетье и еще двое. Вдали поднимались в воздух струйки дыма, серебряной ленточкой тянулась река. — Много их… — Не больше, чем мы ожидали, мессире, — возразил Пеллетье. — Скоро ли подтянется основное войско? — Трудно сказать, мессире, — отозвался кастелян. — Чем больше армия, тем медленнее она движется. Да и жара их задержит. — Задержит, да, — сказал Тренкавель, — но не остановит. — Мы готовы их встретить, мессире. Припасы в город завезены. Возведены деревянные галереи для защиты стен от саперов, все разрушенные и слабые места в укреплениях восстановлены и укреплены, на всех башнях достаточно людей. — Пеллетье махнул рукой, указывая: — Канаты, удерживавшие на реке мельничные колеса, перерезаны, посевы сожжены. Французам трудно будет найти здесь пропитание. Тренкавель вдруг сверкнул глазами и сказал, обернувшись к де Кабарету. — Оседлаем коней и сделаем вылазку! До захода солнца соберем четыре сотни лучших бойцов, искусных с мечом и копьем, и отгоним французов. Они не ждут, что мы развяжем сражение. Что скажете? Пеллетье сочувствовал его желанию первым нанести удар. Понимал он и то, насколько безрассудно это желание. — Эти наемники на равнине, мессире, малая часть наступающей армии. Его поддержал Пьер Роже: — Не бросайся жизнями своих людей, Раймон. — Но если мы ударим первыми… — Мы готовились к осаде, мессире, а не к битве в поле. Гарнизон силен. Самые храбрые и опытные шевалье ждут случая показать себя. — Но?.. — вздохнул Тренкавель. — Но ты бы пожертвовал ими впустую, — твердо закончил де Кабарет. — Твои люди любят и верят тебе, — добавил Пеллетье. — Если надо, они умрут за тебя. Но нам придется выждать. Пусть французы развяжут сражение. — Боюсь, что до этого нас довела моя гордость, — тихо заговорил виконт. — Я просто не ожидал, что до этого дойдет, и так скоро. — Он грустно улыбнулся. — Помнишь, Бертран, при моей матери Шато был полон песен и танцев. Лучшие трубадуры и жонглеры собирались, чтобы показать ей свое искусство. Аймерик де Пегульям, Арно де Каркассэ, сам Гильом Фабр и Бернарт Аланхам из Нарбонны. Вечные пиры и празднества… — Я слышал, этот двор был прекраснейшим в землях Ока. — Пеллетье положил руку на плечо своего господина. — И будет таким снова. Колокола замолчали. Все глаза обратились к виконту Тренкавелю. Он заговорил, и Пеллетье с гордостью отметил, что все следы колебаний исчезли из его голоса. Теперь он был не мальчик, вспоминающий детство, но муж накануне битвы. — Прикажи закрыть потерны и запереть ворота, Бертран. И вызови в донжон командиров гарнизона. Когда подойдут французы, мы будем готовы их встретить. — Не следует ли послать подкрепление в Сен-Венсен, мессире? — предложил де Кабарет. — Воинство начнет штурм с него, а нам нельзя отдавать подходы к реке. Тренкавель согласно кивнул.Пеллетье задержался на стене, оглядывая округу так, словно стремился отпечатать в памяти. Стена Сен-Венсена на севере была невысока и плохо защищена башнями. Если наступающие ворвутся в этот пригород, то смогут подойти к цитадели на расстояние выстрела от стены под защитой домов. И южный пригород, Сен-Микель, долго не продержится. Да, Каркассона готова к осаде. Запасено достаточно провизии: хлеба, сыров, бобов — и дойных коз. Но в стенах города скопилось слишком много беженцев, и Пеллетье тревожился об источниках воды. По его приказу у всех колодцев выставили охрану и воду выдавали пайками. Спускаясь с башни Пинте во двор, Пеллетье снова задумался о Симеоне. Он дважды посылал Франсуа в еврейский квартал, но тот возвращался, ничего не узнав, и Пеллетье с каждым днем все больше тревожился за друга. Кастелян быстро осмотрел двор и пришел к выводу, что несколько часов без него обойдутся. Он свернул к конюшням.
Пеллетье выбрал самый короткий путь через луга и лес. Он ни на минуту не забывал о стоящем невдалеке вражеском лагере. Еврейский квартал был переполнен, и улицы кишели народом, однако здесь стояла странная тишина. Люди переговаривались шепотом, и на всех лицах, молодых и старых, Пеллетье видел страх. Они знали, что скоро начнется бой. Проезжая узкими переулками, Пеллетье встречал тревожные взгляды детей и женщин, с надеждой заглядывавших ему в лицо. Ему нечем было утешить их. О Симеоне никто ничего не знал. Дом, где он остановился, Пеллетье отыскал без труда, но дверь была заложена засовом. Спешившись, он постучал в дверь напротив. — Я ищу человека по имени Симеон, — крикнул он опасливо выглянувшей на стук женщине. — Ты знаешь такого? Женщина кивнула: — Он пришел из Безьера вместе с другими. — Не помнишь, когда видели его последний раз? — Он ушел в Каркассону несколько дней назад, еще до известий о Безьере. За ним пришли. Пеллетье нахмурился: — Кто пришел? — Слуга знатного господина. Волосы как апельсин. — Она наморщила нос. — Симеон его, видно, знал. Пеллетье совсем растерялся. Описание подходило к Франсуа, но ведь это не мог быть он? Он говорил, что не нашел Симеона. — Тогда я его последний раз и видела. — Говоришь, Симеон не вернулся из Каркассоны? — Конечно, он умно поступил, если остался. Там безопаснее, чем здесь. — А не могла ты не заметить, как он возвращался? — безнадежно предположил Пеллетье. — Может быть, спала? Могла ведь ты пропустить его возвращение? — Смотри сам, мессире, — отвечала она, указывая на дом напротив. — Сам видишь. Vuèg. Пусто.
ГЛАВА 50
Ориана на цыпочках прокралась по коридору к комнате сестры. — Элэйс! Жиранда уверяла, что сестрица опять у отца, но проверить не мешает. — Sorre! Никто не отозвался. Ориана открыла дверь и, войдя, с искусством опытной воровки принялась обыскивать вещи сестры. Бутылочки, кувшинчики и миски, сундук, полный одежды, благовоний и сладко пахнущих трав. Прощупав подушки, наткнулась на мешочек лаванды и отбросила не глядя. Пересмотрела все еще раз, заглянула под кровать и не нашла там ничего, кроме пыли и паутины. Снова обернувшись лицом к комнате, она заметила толстый охотничий плащ на спинке кресла. Рядом на столике для рукоделья были разбросаны нитки и иглы. Ориана встрепенулась. Зачем бы среди лета понадобился зимний плащ? И с какой стати Элэйс сама чинит свою одежду? Она подняла плащ и мгновенно почувствовала: что-то не так. Ткань перекосилась и отвисала с одной стороны. Подняв отвисший угол, она убедилась: в кайму что-то зашито. Она торопливо распустила шов, запустила пальцы в дыру и извлекла небольшой прямоугольный предмет в полотняной обертке. Рассмотреть находку не осталось времени — в коридоре послышался шум. Быстрее молнии Ориана скрыла сверток за корсажем, а плащ кинула на то же кресло. Тяжелая рука опустилась ей на плечо. Женщина подскочила. — Какого черта тебе здесь понадобилось? — спросил голос за спиной. — Гильом! — Извернувшись, она уперлась ладонями в грудь любовнику. — Ты напугал меня. — Что ты делала в комнате моей жены, Ориана? Она вздернула подбородок: — Я могла бы задать тебе тот же вопрос! В комнате темнело, но Ориана видела, как застыло его лицо, и поняла, что стрела попала в цель. — Я нахожусь здесь по праву, в то время как ты… Он бросил взгляд на плащ и снова взглянул ей в лицо. — Чем ты занималась? Она не дрогнула под его взглядом. — Тебя это не касается. Гильом ударом ноги захлопнул дверь. — Ты забываешься, госпожа, — заметил он, схватив ее за руки. — Не валяй дурака, Гильом, — негромко бросила она. — Тебе же будет хуже, если нас застанут здесь вдвоем. Открой дверь. — Не играй со мной, Ориана. Я не в настроении шутить. И я не выпущу тебя, пока ты не скажешь, что здесь делала. Это он тебя послал? Ориана в неподдельном недоумении уставилась на него: — Даю слово, Гильом, я не понимаю, о ком ты говоришь? Он крепче сжал ей запястья: — Ты думала, я не замечу, да? Я видел вас вместе, Ориана. Она с облегчением перевела дух. Теперь ясно, почему он так подозрителен. Что ж, если только Гильом не опознал ее собеседника, еще можно обернуть его ошибку в свою пользу. — Отпусти меня, — велела она, стараясь вырваться из его хватки. — Позволю себе напомнить, мессире, что ты первым заговорил о разрыве. Она отбросила назад свои блестящие локоны и сверкающим взглядом уставилась на него. — Так отчего тебя тревожит, если я нашла, с кем утешиться? У тебя нет на меня никаких прав! — Кто он? Ориана поспешно соображала. Нужно было назвать имя, которое бы его удовлетворило. — Я скажу, только если ты обещаешь, что не сделаешь ничего безрассудного, — заговорила она, выигрывая время. — Ты, госпожа моя, не в том положении, чтобы ставить условия. — Тогда по крайней мере уйдем отсюда ко мне или хотя бы во двор. Если вернется Элэйс… По его лицу Ориана поняла, что Гильом в ее руках. Больше всего на свете он боится, что Элэйс узнает о его измене. — Ладно, — грубо отозвался он и свободной рукой распахнул дверь. Пока он тащил ее по коридору к ее покоям, Ориана успела собраться с мыслями. — Говори, госпожа! — приказал Гильом. Скромно потупив взгляд, Ориана призналась, что подарила свое внимание новому поклоннику — сыну одного из союзников виконта. Юноша давно восхищался ею издалека… — Я должен этому верить? — спросил Гильом. — Клянусь жизнью, — шепнула Ориана, глядя на него сквозь повисшую на ресницах слезу. Гильом ответил недоверчивым взглядом, но уверенность его поколебалась. — Это не объясняет, что ты делала в комнате моей жены! — Всего лишь старалась сохранить твою репутацию, — отозвалась она. — Возвращала на законное место одну из твоих вещиц. — Что за вещица? — Мой муж нашел в спальне пряжку от мужского плаща. — Она показала пальцами: — Вот такую примерно, медную с серебряной отделкой. — Я потерял такую, — признал Гильом. — Жеан твердо решил отыскать владельца и объявить всем его имя. Я узнала твою пряжку и решила, что безопаснее всего будет вернуть ее в твои покои. Гильом хмурился: — Почему было просто не отдать мне? — Ты избегал меня, мессире, — мягко напомнила она. — Я не знала, когда увижусь с тобой, если увижусь вообще. Кроме того, увидев нас вместе, он только утвердился бы в своих подозрениях. Считай, если хочешь, мой поступок глупостью, но не сомневайся в моих намерениях! Ориана видела, что не убедила его, но не решилась настаивать далее. Его рука потянулась к рукояти клинка. — Если ты хоть словом намекнешь об этом Элэйс, — сказал он, — я убью тебя, Ориана. Порази меня Бог, если я лгу. — От меня она ничего не узнает, — ответила Ориана и с коварной улыбкой продолжала: — Разве что мне не оставят выбора. Тогда я буду защищаться. И между прочим… Гильом сквозь зубы втянул в себя воздух. — …Между прочим, я тоже хотела просить тебя об услуге. Он жестко сощурил глаза. — А если я не желаю оказывать тебе услуг? — О, я всего лишь хотела бы знать, не передал ли наш отец на хранение сестре какие-нибудь ценности. — Ты хочешь, чтобы я шпионил за собственной женой? — не веря своим ушам переспросил Гильом. — Этого не будет, Ориана. И ты ничем не посмеешь огорчить ее! Тебе ясно? — Я ее огорчаю? Это ты стал разыгрывать рыцаря только в страхе перед разоблачением! Это ты предавал ее каждую ночь со мной, Гильом! Мне всего лишь нужно знать. И я узнаю то, что хочу, с твоей помощью или без нее. Но если ты вздумаешь мне мешать… Она не договорила, но угроза повисла в воздухе. — Ты не посмеешь! — Нет ничего проще, как рассказать Элэйс обо всем, что было между нами, поделиться словами, которые ты мне нашептывал, подарками, которые ты мне дарил. Она поверит мне, Гильом. Ведь у тебя на лице отражается все, что творится в душе. Гильом распахнул дверь. Сейчас он от всей души презирал и ее, и себя. — Провались ты в ад, Ориана, — бросил он и выбежал в коридор. Ориана улыбалась. Этот у нее на крючке.Элэйс весь вечер искала отца. Никто его не видал. Она выбралась в город в надежде поговорить с Эсклармондой. Но та вместе с Сажье уже покинула дом в Сен-Микеле, а к себе, по всей видимости, они не возвращались. В конце концов усталая и встревоженная Элэйс одна вернулась в спальню. Но ей было не до сна. Она зажгла светильник и присела к столу. Колокол прозвонил первый час, когда ее разбудили громкие шаги за дверью. Элэйс вскинула упавшую на руки голову и обернулась на шум. — Риксенда? — шепнула она в темноту. — Это ты? — Нет, не Риксенда, — отозвался он. — Гильом? Он вышел на свет, нерешительно улыбаясь. — Прости, я помню, что обещал оставить тебя в покое, но… разреши? Элэйс выпрямилась. — Я был в часовне, — пояснил Гильом. — Молился, но, вижу, напрасно. Он присел на краешек кровати. Немного помешкав, Элэйс подошла к нему. Она видела, что муж чем-то обеспокоен. — Ну-ка, — шепнула она. — Дай я помогу. Она распустила завязки его сапог, помогла снять пояс и перевязь. Пряжки негромко звякнули о пол. — Чего ждет виконт Тренкавель? — спросила она. Гильом откинулся на спину и прикрыл глаза. — Он ожидает, что Воинство нанесет первый удар по Сен-Венсену, потом по Сен-Микелю, чтобы отбить подходы к стенам города. Элэйс подсела к нему, отвела волосы у него со лба и вздрогнула, ощутив под пальцами тепло его кожи. — Тебе надо поспать, мессире. Набраться сил перед сражением. Он лениво приоткрыл глаза и улыбнулся ей. — Я бы лучше отдохнул с твоей помощью. Элэйс улыбнулась ему и взяла со столика приготовленный с вечера настой розмарина. Плеснула на ладонь и тихонько принялась втирать в виски мужу. — Я сегодня искала отца и хотела зайти к сестре. С ней в комнате кто-то был. — Надо думать, Конгост, — резко откликнулся Гильом. — Не думаю. Он со всеми писцами спит сейчас в башне Пинте, чтобы быть под рукой у виконта. Она помолчала. — Они смеялись. Гильом приложил ей палец к губам. — Хватит об Ориане, — шепнул он, обняв ее рукой и привлекая к себе. Элэйс почувствовала вкус вина у него на губах. — Ты пахнешь медом и ромашкой, — сказал он, распуская ей волосы так, что они водопадом упали на лицо. — Mon cor. Она замирала от его прикосновений, таких пугающих и нежных. Медленно, бережно, не свода взгляда карих глаз с ее лица, Гильом спустил ее платье с плеч, сдвинул до пояса. Элэйс шевельнулась. Ткань свободно соскользнула на пол, словно не нужная больше зимняя шкурка. Гильом поднял край одеяла, помогая ей забраться в постель, и прилег рядом на еще не забывшую его подушку. Минуту они лежали рядом, и она грела озябшие ноги об его теплую кожу. Потом он склонился над ней. Его дыхание показалось Элэйс теплым летним ветерком. Его губы плясали по телу, язык скользил по груди, гладил ее. Элэйс затаила дыхание, когда он забрал сосок в рот, облизывая, лаская и дразня. Гильом поднял голову, чуть улыбнулся и, не отпуская ее взгляда, опустил свое тело между ее голых ног. Элэйс серьезно, не мигая, смотрела ему в лицо. — Mon cor, — повторил он. Гильом входил в нее нежно, понемногу, пока она не впустила его целиком. Тогда он на мгновение замер в ней, отдыхая. Сейчас Элэйс ощущала себя сильной, могучей, любое дело было ей по силам, она готова была справиться с кем угодно. Колдовское тяжелое тепло расходилось по членам, наполняя ее, поглощая все чувства. Голову наполнил гул бьющейся крови. Не стало ни времени, ни пространства. Остался только Гильом да мигающий огонек лампы. Медленно они начали двигаться. — Элэйс… — Слово выскользнуло из его губ. Она обхватила руками его спину, раскинув пальцы лучами звезды. Она чувствовала его силу — силу загорелых рук, твердых бедер. Мягкие волоски у него на груди щекотали ей кожу. Ее язык, влажный, горячий, жадный, метнулся к нему в рот. Он, охваченный желанием, дышал все чаще, все глубже. Элэйс прижала его к себе, услышав, как он снова выкрикнул ее имя. По его телу прошла дрожь, и он замер. Гул в голове у нее постепенно затихал, сменяясь тишиной полутемной спальни. Позже, вдоволь наговорившись и многое пообещав друг другу, оба задремали. В светильнике догорало масло. Огонек мигнул и погас. Элэйс и Гильом этого не заметили. Не видели и серебряного серпика луны, проползавшего по небу за окном, и лилового рассвета, вливавшегося в комнату. Они спали, обняв друг друга, и ничего больше не знали — муж и жена, возвратившие прежнюю любовь. Покой. Мир.
ГЛАВА 51 Четверг, 7 июля 2005
Элис проснулась за несколько секунд до звонка будильника и обнаружила, что лежит поперек кровати, а вокруг нее раскиданы бумаги. Перед ней лежало генеалогическое древо, а рядом — заметки, сделанные в тулузской библиотеке. Элис усмехнулась. Точно так же она засыпала над работой, когда была студенткой. Честно говоря, она чувствовала себя неплохо. Она не забыла вчерашнего взломщика, однако проснулась в хорошем настроении. Довольная, можно даже сказать, счастливая. Элис потянулась и встала, чтобы открыть шторы и окно. Небо было разрезано светлыми полосками облаков. Склоны крепостного холма еще лежали в тени, и трава на откосе горела капельками росы. Над крепостными башнями ярким шелком голубело небо. С крыши на крышу перекликались крапивники и жаворонки. Повсюду еще виднелись следы ночной бури: клочья бурьяна на оградах, перевернутые мусорные бачки и разбросанные коробки, клочья газет в лужах на стоянке. Элис с тревогой думала об отъезде из Каркасона. Ей чудилось, что этот поступок станет решительным шагом в неизвестность. Но что-то делать было надо, и к тому же единственный след Шелаг оставался в Шартре. Да и день был хорош для поездки. Собирая листки, она призналась себе, что принятое решение выглядело вполне разумным. Ей вовсе не хотелось покорно дожидаться возвращения вчерашнего непрошеного гостя. Портье она объяснила, что уезжает на весь день, но комнату хочет оставить за собой. — Вас ждет какая-то женщина, мадам, — отозвалась дежурная, кивнув в сторону холла. — Я как раз собиралась вам звонить. — О? — Элис обернулась. — Она не сказала, чего хочет? Портье покачала головой. — Ну хорошо, спасибо. — И еще, пришло утром, — добавила девушка, протягивая ей конверт. Элис взглянула на штемпель. Отправлено вчера из Фуа. Почерк был ей незнаком. Элис не успела вскрыть письмо, потому что ожидавшая ее женщина подошла к ней. — Доктор Таннер? — неуверенно спросила она. Элис спрятала письмо в карман, чтобы прочесть погодя. — Да? — У меня для вас сообщение от Одрика Бальярда. Он хотел узнать, не сможете ли вы встретиться с ним на кладбище. Женщина показалась смутно знакомой, но припомнить, где ее видела, Элис не сумела. — Мы с вами где-то встречались? — спросила она. Женщина замялась, потом выпалила: — Даниель Дегарде. В нотариате. Элис пригляделась. Она не помнила, чтобы видела ее вчера, но ведь в главном офисе было много народу. — Месье Бальярд ждет вас на могиле семьи Жиро-Бо. — В самом деле? — удивилась Элис. — А почему он сам не пришел? — Мне надо идти. Женщина развернулась и мгновенно сбежала, оставив Элис озадаченно смотреть ей вслед. Потом Элис взглянула на портье. Та пожала плечами.Элис посмотрела на часы. Ее тянуло уехать, но, с другой стороны, десять минут разницы не делают. — A demain,[267] — попрощалась она с портье, которая уже вернулась к своим делам. Элис свернула к машине, чтобы оставить там рюкзачок, и перебежала дорогу, направляясь к кладбищу.
Едва она прошла в высокие железные ворота, атмосфера переменилась. Шум пробуждающегося города сменился звенящей тишиной. Справа стояло низкое, беленное известкой здание. На его стене в ряд висели на крюках черные и зеленые лейки. Заглянув в окно, Элис увидела наброшенную на спинку стула старую куртку и развернутую на столе газету. Как видно, кто-то только что вышел. Элис медленно пошла по главной аллее. Утренней радости как не бывало. Самый воздух казался тяжелым. Серые скульптурные надгробия, фотографии на фарфоре, черные буквы на граните, даты рождений и смертей — фамильные могильные участки, откупленные местными семьями. Фотографии тех, кто умер молодым, теснили лица стариков. У подножия многих памятников лежали цветы — живые, увядающие, или шелковые, пластмассовые, фарфоровые. Вспоминая указания Карел Флери, Элис довольно легко отыскала участок Жиро-Бо. Над большой плоской плитой стоял раскинувший руки каменный ангел с поникшими крыльями. Элис проследила пальцем надпись. Здесь лежала почти вся семья Жанны Жиро — женщины, о которой Элис ничего не знала, но которая была единственным звеном, связывающим Одрика Бальярда с Грейс. Только сейчас, разглядывая вырезанные в камне имена под одной фамилией, Элис осознала, как странно было хоронить здесь ее тетю. Шум на боковой аллее прервал ее размышления. Она обернулась, ожидая увидеть старика, виденного на фотографии. — Доктор Таннер? Их было двое — мужчины в легких костюмах, оба темноволосые, скрывающие глаза за темными очками. — Да? Тот, что был меньше ростом, на секунду приоткрыл значок. — Полиция. Мы должны задать вам несколько вопросов. Элис похолодела. — По какому поводу? — Мы не задержим вас надолго, мадам. — Я хотела бы видеть ваши удостоверения. Он достал из нагрудного кармана карточку. Элис понятия не имела, как отличить настоящую от поддельной. Зато пистолет в кобуре у него под пиджаком выглядел вполне настоящим. Сердце у нее забилось чаще. Прикинувшись, будто изучает карточку, она обводила взглядом кладбище. Вокруг никого. Аллеи во все стороны пусты. — Так в чем же дело? — спросила она, сдерживая дрожь в голосе. — Прошу вас, пройдемте с нами. «Ничего они мне не сделают среди бела дня». Элис с опозданием сообразила, почему ей показалось знакомым лицо доставившей вызов женщины. Та немного напоминала мужчину, увиденного мельком вчера в номере. Вот этого мужчину. Краем глаза Элис заметила бетонные ступени, спускающиеся к новой части кладбища. За ними была калитка. Мужчина взял ее за локоть. — Доктор Таннер, мада… Элис рванулась вперед, как спринтер со старта. От неожиданности мужчины на мгновение остолбенели, а когда кто-то их них крикнул, она уже сбежала по ступенькам и вылетела за ворота на Шемен де Англе. Завизжала тормозами машина, мирно пыхтевшая вверх по склону. Элис даже не оглянулась. Она перевалилась через деревянную калитку виноградника и, спотыкаясь на вспаханной земле, прорвалась сквозь рядок старых лоз. Спиной она чувствовала, что те уже близко, догоняют. В ушах стучала кровь, мышцы ног натянулись, как рояльные струны, но Элис не останавливалась. Снизу виноградник оказался огорожен проволочной сеткой, слишком высокой, чтобы через нее прыгать. В панике озираясь, она приметила в дальнем углу место, где можно было проползти под изгородью. Бросилась туда, упала на живот, чувствуя, как острые камни обдирают ладони и колени. Вскочила на той стороне — клок разодранной блузки зацепился за проволоку, она дернулась, как муха в паутине, оставила на сетке кусок плотной синей ткани. И оказалась в огороде, где длинные ряды бамбуковых рам поддерживали плети баклажанов, кабачков и гороха. Пригнув голову, Элис завиляла между скрывающими ее грядками, надеясь спрятаться в сараюшке. Из-за угла, гремя тяжелой цепью, выскочил здоровенный мастиф, злобно залаял, щелкнул зубами. Элис задушила крик и отскочила. Главные ворота фермы выходили прямо на людную городскую улицу, тянувшуюся под холмом. Оказавшись на тротуаре, Элис рискнула оглянуться через плечо. За спиной было пусто и тихо. Они отказались от преследования. Элис уперлась руками в колени, согнулась вдвое, облегченно переводя дух после долгого бега. Мало-помалу руки и колени перестали дрожать, зато мысли понеслись вскачь. «И что ты собираешься делать?» Они наверняка вернутся в гостиницу и будут ждать ее там. Нет, туда она не пойдет. Элис сунула руку в карман и убедилась, что в спешке не выронила ключей от машины. И рюкзак с вещами там, запихнут под переднее сиденье. «Позвони Нубелю!» Листок с номером Нубеля лежал в рюкзачке под сиденьем вместе с остальными вещами. Элис стала отряхиваться. Джинсы в пыли, лопнули на колене. Ничего не поделаешь, придется возвращаться к машине и надеяться, что ее там не ждут. Элис быстро шла по рю Барбакан. Всякий раз, как мимо проносилась машина, она невольно втягивала голову в плечи. Обошла церковь и свернула вправо по узкой дорожке с табличкой рю де ла Гаффе. Элис старалась держаться в тени. Дома мелькали по сторонам, сливаясь в непрерывную линию. Что-то вдруг неопределенно кольнуло, в спину. Она остановилась, обернулась на хорошенький желтый домик, ожидая встретить чей-то взгляд. Однако дверь была заперта и ставни плотно закрыты. Задерживаться Элис не решилась и торопливо пошла дальше. «Ехать в Шартр или не ехать?» Как ни странно, убедившись, что опасность — не плод ее воображения, Элис избавилась от неуверенности. Чем больше она размышляла, тем сильнее становилось подозрение, что за всем этим стоит Оти. Этот тип решил, будто она украла кольцо, и твердо намерен его вернуть. «Позвони Нубелю!» И снова она пропустила мимо ушей собственный совет. До сих пор инспектор ничего не предпринимал. Притом что убит его подчиненный, пропала Шелаг… Лучше уж полагаться только на саму себя. Элис вышла к стоянке со стороны рю Тривалл, рассудив, что если ее ждут, то скорее у главных ворот. Отсюда к стене, огораживавшей площадку, вело несколько крутых ступеней. Всякий мог видеть ее сверху, а для Элис обзор был закрыт. Если они там, она их увидит, когда будет уже поздно. «Другого способа нет…» Элис набрала в грудь побольше воздуха и взбежала по ступеням. Страх подстегивал ее и придавал силы ногам. Наверху она остановилась и осмотрелась. Машин здесь было порядочно, но людей почти не видно. Ее машина стояла на том же месте. Элис прошла к ней, прячась за рядом припаркованных легковушек, низко пригибая голову. Когда она наконец скользнула на водительское сиденье, руки у нее тряслись. Казалось, вот-вот над ней вырастут мужские фигуры. В ушах до сих пор стояли их крики. Едва оказавшись внутри, она захлопнула и заперла дверцу и сердито повернула ключ зажигания. Стреляя глазами во все стороны, до боли в пальцах сжав баранку руля, Элис дожидалась, пока туристский фургон освободит ей дорогу и охранник поднимет шлагбаум. Потом вдавила педаль скорости и, нарушая все правила, рванула через асфальтовую площадку к воротам. Охранник кричал и махал руками ей вслед, но Элис и не подумала останавливаться.
ГЛАВА 52
Одрик Бальярд с Жанной стояли на платформе в Фуа, дожидаясь поезда на Андорру. — Через десять минут, — сказала Жанна, взглянув на часы. — Еще не поздно. Может, передумаешь и все-таки поедешь со мной? Он улыбнулся ее настойчивости: — Ты же знаешь, не могу. Жанна нетерпеливо махнула рукой. — Ты тридцать лет отдал их истории, Одрик. Элэйс, ее сестра, отец, муж — ты провел жизнь в их компании. — Голос ее смягчился: — Не пора ли жить самому? — Их жизнь — это моя жизнь, Жанна, — со спокойным достоинством отозвался он. — Слова — всего лишь оружие против лжи истории. Мы должны свидетельствовать истину. Если мы не исполняем этот долг, те, кого мы любили, умирают дважды. — Он помолчал. — Мне не будет покоя, пока я не узнаю, чем все кончилось. — Восемьсот лет спустя? Правда может оказаться слишком глубоко похороненной. — Жанна запнулась. — И может быть, оно и к лучшему. Некоторым тайнам лучше оставаться тайнами. Одрик смотрел прямо перед собой на вершины гор. — Ты знаешь, как я сожалею, что принес в твою жизнь горе. — Я не о том говорю, Одрик. — Но, — продолжал он, словно не услышав, — я живу затем, Жанна, чтобы искать истину и открывать ее. — Истину! А те, против кого ты сражаешься? Чего ищут они? Истину? Сомневаюсь. — Да, — признался он, помолчав, — думаю, у них другая цель. — Какая же? — нетерпеливо спросила она. — Я послушалась тебя и уезжаю. Почему бы не сказать мне хоть теперь? Он стоял в нерешительности. Жанна не отступалась: — Noublesso Veritable и Noublesso de los Seres — это разные имена одной и той же организации, верно? — Нет! — Слово прозвучало строже, чем он намеревался. — Нет. — Тогда что же? Одрик вздохнул. — Целью Noublesso de los Seres было хранить пергаменты Грааля. Они исполняли свою роль тысячелетиями. До времени, когда пергаменты оказались разделены. — Он помедлил, осторожно подбирая слова. — Общество Noublesso Veritable, с другой стороны, было создано всего сто пятьдесят лет назад, когда стало возможным вновь понять забытый язык этих пергаментов. Имя «Veritable» — «истинные» или «настоящие» стражи — намеренная попытка придать вес своему обществу. — Так Noublesso de los Seres больше не существуют? Одрик покачал головой. — Когда трилогия была разделена, их существование утратило смысл. Жанна нахмурилась: — Разве они не пытались вернуть утерянное? — Поначалу пытались, — признал Одрик, — но потерпели поражение. Со временем такие попытки прекратились. Было бы глупостью рисковать последним сохранившимся пергаментом в надежде вернуть остальные два. А когда язык записей был окончательно забыт, тайна оказалась надежно скрыта. Только один человек… — Бальярд осекся. Он чувствовал на себе взгляд Жанны. — Единственный человек, который еще мог прочитать пергаменты, предпочел ни с кем не делиться своим знанием. — И что было потом? — Четыреста лет ничего не было. В 1798 году император Наполеон отплыл в Египет. Кроме армии он взял с собой ученых и исследователей. Те открыли руины древней цивилизации, правившей этими землями тысячелетия назад. Сотни произведений искусства, священных таблиц, камней с надписями были доставлены во Францию. После этого разгадка древних языков — демотического, клинописного, иероглифического письма — стала только делом времени. Как тебе известно, Жан-Батист Шампольон первым догадался, что знаки иероглифов следует читать не как символы или знаки слов, а как фонетическую азбуку. В 1822 году он «расколол шифр» — если использовать вульгарное выражение. Для древних египтян письменность была даром богов — само слово «иероглиф» означает «божественная речь». — Но если пергаменты Грааля написаны наязыке древнего Египта… — Жанна сбилась и начала заново. — Если я правильно поняла, что ты пытаешься сказать… Одрик! — Она покачала головой. — Что существовало общество Noublesso — верю. Что верили, будто в трилогии скрыты древние тайны — опять же, согласна. Но остальное? Невероятно. Одрик грустно усмехнулся. — Можно ли защитить тайну лучше, чем скрыв ее под другой? Цивилизация извечно существует, присваивая и усваивая чужие символы и секреты. — О чем ты говоришь? — Люди докапывались до истины. И верили, что обрели ее. Прекращали поиски, не подозревая, какие поразительные открытия лежат под верхним слоем тайн. На протяжении всей истории люди крадут у старых культур религиозные символы, ритуалы, понятия, чтобы выстроить свою, новую культуру. — К примеру, день, который христиане празднуют как Рождество Иисуса из Назарета — двадцать пятое декабря — был празднеством Солнца Непобедимого, днем зимнего солнцестояния. Крест, как и идею Грааля, они похитили у египтян. Император Константин заимствовал и видоизменил египетский крест жизни — «анкх». «In hoc signo vinces» — «Сим победиши» — слова, которые, как говорят, он произнес, увидев крест, явившийся в небе. В новейшие времена Третий рейх присвоил знак свастики — древний индийский символ колеса жизни. — Лабиринт… — поняла Жанна. — L'antica simbol del Miègjorn. Древний символ Миди. Жанна сидела задумавшись, сложив руки на коленях. — Что же теперь? — спросила она. — Я всегда понимал, что рано или поздно пещеру откроют, — откликнулся он. — Не я один знал о ее существовании, Жанна. — Но ведь раскопки в горах Сабарте вели и наци во время войны, — напомнила она. — Нацистские охотники за Граалем руководствовались слухами, что в тех горах скрыты сокровища катаров. Они несколько лет рылись по всем местам, с которыми связывали легенды. Как получилось, что они не наткнулись на пещеру еще шестьдесят лет назад? — Мы постарались, чтобы им это не удалось. — Ты был там? — От удивления голос ее прозвучал резко. Одрик улыбнулся. — В рядах Noublesso Veritable, — сказал он, уклоняясь от вопроса, — нет согласия. Организацию возглавляет женщина: Мари-Сесиль Л'Орадор. Она верит в Грааль и стремится заполучить его в свои руки. Она верит в миссию. Он помолчал, и его лицо помрачнело. — Есть и другие. Они руководствуются другими мотивами. — Ты должен поговорить с инспектором Нубелем! — горячо сказала Жанна. — А если он все-таки работает на них? Слишком велик риск. Резкий гудок разорвал тишину станции. Оба обернулись к поезду, который, скрипя тормозами, подползал к платформе. — Не хочется мне оставлять тебя одного, Одрик. — Я знаю, — кивнул он, помогая ей подняться в вагон. — Но все кончается, как должно было кончиться. — Кончается? Она опустила окно, протянула ему руку. — Пожалуйста, будь осторожен. Побереги себя хоть немного. Вдоль всей платформы хлопнули, закрываясь, тяжелые двери. Поезд тронулся, сперва медленно, понемногу набирая скорость, пока не скрылся в складке горного ущелья.ГЛАВА 53
Шелаг почувствовала, что рядом с ней кто-то есть. Она с трудом подняла голову. Тошнило, во рту было сухо, а в голове пульсировал глухой гул, напоминавший гудение кондиционера. Двигаться она не могла. Через несколько минут пришло понимание, что она сидит на стуле, руки связаны за спиной, а лодыжки туго притянуты к деревянным ножкам. Она услышала легкий шорох, скрипнули половицы, словно кто-то переступил с ноги на ногу. — Кто здесь? Ладони стали скользкими от страха. Ручеек пота пополз по спине. Шелаг заставила себя открыть глаза, но все равно ничего не увидела. Она испуганно затрясла головой, заморгала, пытаясь вернуть зрение, и только тогда поняла, что на голову натянут мешок. Мешковина пахла землей и плесенью. Все тот же дом? Она вспомнила иглу, без предупреждения воткнувшуюся в тело. Укол сделал тот же мужчина, что приносил еду. Но должен же кто-нибудь явиться и сласти ее? Почему они не приходят? — Кто здесь? Ответа не было, но Шелаг чувствовала, что кто-то стоит совсем рядом. Воздух казался сальным от запаха мужского лосьона и табака. — Что вам надо? Открылась дверь. Шаги. Шелаг ощутила перемену обстановки. Инстинкт самосохранения заставил ее дернуться, но веревки только стянулись туже. Плечи заломило. Дверь захлопнулась с глухим зловещим стуком. Шелаг замерла. Мгновение длилась тишина, затем вошедший двинулся к ней, все ближе и ближе. Шелаг вжалась в спинку стула. Он остановился прямо перед ней. Она ощущала его всем телом: словно тысячи тонких проволочек натягивали кожу. Он, как хищник, кружащий вокруг добычи, обошел ее раз-другой, потом опустил руки ей на плечи. — Кто вы? Уберите хотя бы мешок! — Нам надо еще раз поговорить, доктор О'Доннел. Знакомый голос, холодный и четкий, ножом резанул слух. Шелаг поняла, что с самого начала ожидала услышать именно его. Боялась услышать. Он внезапно опрокинул назад ее стул. Шелаг взвизгнула, не в силах остановить падение. Он не дал ей коснуться земли — подхватил в нескольких дюймах от пола, так что она оказалась лежащей на спине, с запрокинутой головой и торчащими в воздух ногами. — Вы не в том положении, чтобы о чем-то просить, О'Доннел. Ей показалось, он не один час продержал ее в таком положении. Потом, так же внезапно, выпрямил стул. От силы рывка у Шелаг хрустнула шея. Она потеряла чувство направления, как ребенок при игре в жмурки. — На кого вы работаете, О'Доннел? — Мне нечем дышать, — прошептала она. Он не отозвался. Шелаг услышала, как он щелкнул пальцами. Судя по звуку, перед ней поставили второй стул. Он сел и подтянул ее к себе, так что его колени втиснулись ей между бедер. — Вернемся к событиям понедельника. Почему вы допустили свою подругу работать на том участке? — Элис тут ни при чем, — вскрикнула она. — Я ей не разрешала, она сама ушла. Я даже не знала. Вышла ошибка. Она ничего не знает. — Тогда расскажите, что знаете вы, Шелаг. В его устах ее имя прозвучало угрозой. — И я ничего не знаю! — воскликнула она. — Поверьте, все что знала, я рассказала вам в понедельник. Удар обрушился из темноты на правую щеку. Голова откинулась назад. Шелаг почувствовала на языке вкус крови. Тонкая струйка стекала в горло. — Кольцо взяла ваша подруга, — ровным голосом проговорил он. — Нет, нет, клянусь, она не брала! — Кто же тогда? — настаивал он. — По словам доктора Таннер, вы довольно долго оставались там наедине со скелетами. — Зачем бы мне его брать? Для меня оно ничего не стоит. — Почему вы так уверены, что его не взяла доктор Таннер? — Она бы не стала. Просто она бы этого не сделала! — крикнула Шелаг. — В пещеру входили многие. Любой из них мог его взять. Доктор Брайлинг, полицейские… Шелаг осеклась. — Полицейские, говорите, — повторил он. У Шелаг перехватило дыхание. — Любой из них мог взять кольцо… Скажем, Ив Бо. Она замерла. Ей слышно было его ровное, спокойное дыхание. Он знает. — Кольца там не было! Он вздохнул. — Бо отдал кольцо вам? Чтобы вы передали подруге? — Я не понимаю, о чем вы говорите, — сумела выговорить Шелаг. Новый удар, на этот раз кулаком, а не ладонью. Кровь хлынула из носа на подбородок. — Чего я не понимаю, — продолжал он, как будто ничего не случилось, — это почему он не передал вам также и книгу, доктор О'Доннел? — Он ничего мне не отдавал, — задыхаясь, проговорила она. — По словам доктора Брайлинга, вечером в понедельник вы покинули общежитие с большой сумкой. — Он лжет. — На кого вы работаете? — вкрадчиво, почти нежно повторил он. — Все это кончится. Если ваша подруга не замешана, никто не причинит ей вреда. — Она ни при чем, — проскулила Шелаг. — Элис даже не знала… Шелаг сжалась, почувствовав его руку у себя на горле. Сперва он гладил ее в пародии на страсть, потом стал сжимать сильнее и сильнее. Ей казалось, будто на горле затягивается железный воротник. Шелаг металась из стороны в сторону, пытаясь глотнуть воздуха, но мужчина был слишком силен. — Вы с Бо работали на нее? — спросил он. Она уже теряла сознание, когда он выпустил ее горло и принялся одну за другой расстегивать пуговицы на ее рубашке. — Что вы делаете? — прошептала она, ощущая на себе его холодные бесстрастные пальцы. — Вас никто не ищет. Что-то щелкнуло, и по запаху Шелаг поняла, что перед ней зажгли зажигалку. — Никто сюда не придет… — Пожалуйста, не надо… — Вы с Бо работали вместе? Она кивнула. — На мадам Л'Орадор? Она кивнула еще раз и сумела выговорить: — Ее сын. Франсуа-Батист. Я говорила только с ним. Она почувствовала тепло огня у самой кожи. — А как насчет книги? — Я ее не нашла. Ив тоже. Кажется, он вздрогнул и отдернул руку. — Так зачем же Бо ездил в Фуа? Вам известно, что он виделся с доктором Таннер? Шелаг пыталась покачать головой, но от этого в ней взорвалась боль и новая волна озноба прошла по телу. — Он ей что-то передал. — Только не книгу, — проговорила она, с трудом втягивая в грудь воздух, чтобы продолжить фразу. В это время дверь открылась, из коридора донеслись приглушенные голоса, запах пота и табачного дыма. — Как вы должны были передать мадам Л'Орадор книгу? — Через Франсуа… — Говорить ей было больно. — Встретиться на пике де… мне дали номер, куда позвонить. Она отпрянула, почувствовав его руку на груди. — Прошу вас, не… — Видите, как все просто, стоит только захотеть? А теперь вы сделаете для меня этот звонок. Шелаг в ужасе замотала головой. — Если они узнают, что я рассказала, меня убьют. — А я убью вас и мадемуазель Таннер, если вы этого не сделаете, — холодно ответил он. — Вам выбирать. Шелаг понятия не имела, где сейчас Элис. В безопасности или тоже здесь? — Он ждет звонка о том, что вы нашли книгу, не так ли? Она уже не осмеливалась лгать. Покорно кивнула. — Их больше интересовал маленький диск, размером с кольцо, чем само кольцо. Шелаг с ужасом поняла, что впервые сказала ему что-то, чего он не знал заранее. — Для чего этот диск? — Не знаю. Шелаг услышала собственный крик, когда пламя лизнуло ее кожу. — Для че-го он? — медленно, по слогам проговорил допрашивающий. Голос, был совершенно спокоен. Шелаг стало холодно. Сладко и тошнотворно запахло горелым мясом. Она уже не различала слов. Боль уносила ее, она уплывала, падала. Шея больше не держала головы. — Мы ее потеряем. Снимите мешок. Мешковина сползла с лица, цепляя порезы и ссадины. — Вложить в кольцо… — Собственный голос слышался как из-под воды. — Как ключ… К лабиринту… — Кто еще об этом знает? — выкрикнул он ей в лицо, но Шелаг понимала, что он уже ничего не может ей сделать. Подбородок уткнулся в грудь. Он вздернул ей голову. Один глаз совершенно заплыл, но второй моргнул, приоткрываясь. Перед ней расплывались, качались пятна лиц. Она без сознания… — Кто? — Он склонился над ней. — Мадам Л'Орадор? Жанна Жиро? — Элис, — прошептала она.ГЛАВА 54
В Шартр Элис добралась только во второй половине дня. Она нашла гостиницу, купила там карту и отправилась прямо по адресу, который получила в справочной службе. Элис с удивлением разглядывала элегантный особняк с блестящим медным почтовым ящиком и дверным молотком, с элегантными растениями в ящиках на подоконниках и в высоких клумбах у ступеней. Трудно было вообразить Шелаг в этом доме. «И что, черт возьми, ты скажешь, когда откроют дверь?» Элис глубоко вздохнула, поднялась по ступеням и позвонила. Ответа не было. Она подождала, отступила назад, посмотрела на окна и позвонила еще раз. Потом набрала телефонный номер. Секунду спустя в доме зазвонил телефон. По крайней мере, дом тот самый. Она была разочарована, однако, честно сказать, вздохнула с облегчением. Выяснение отношений откладывалось.Площадь перед собором кишела туристами, сжимающими камеры и путеводители, вздымающими над головами цветные флажки и зонтики. Благопристойные немцы, застенчивые англичане, блестящие итальянцы, тихие японцы, восторженные американцы… У детей всех наций был одинаково скучающий вид. За время долгого пути на север Элис отказалась от мысли, что шартрский лабиринт подскажет ей решение загадки. Очень уж очевидной была связь: пещера на пике де Соларак, Грейс, она сама… слишком очевидно. Что-то подсказывало Элис, что ее вывели на ложный след. Тем не менее она купила билет и пристроилась к экскурсии на английском, которая должна была начаться через десять минут. Экскурсоводом оказалась деловитая дама средних лет с учительскими повадками и отрывистой манерой речи. — Современному взору соборы представляются серыми, устремленными в небо строениями, строгими молитвенными домами. Однако в Средневековье они скорее напоминали пестротой красок индуистские храмы и святилища Таиланда. Украшавшие вход статуи и тимпаны шартрезского собора, как и всех других храмов, лучились многоцветьем. — Экскурсоводша воспользовалась острием зонтика как указкой. — Присмотритесь, и вы увидите в трещинах камня остатки розовой, желтой и голубой краски. Туристы рядом с Элис послушно закивали. — В 1149 году, — продолжала женщина, — пожар уничтожил большую часть Шартра, в том числе и собор. Сперва предполагали, что в огне погибла и святейшая реликвия собора — sancta camisia, родильная сорочка, в которой святая Мария, по преданию, родила Христа. Но три дня спустя реликвия, скрытая монахами в склепе, была обретена вновь. Ее возвращение сочли чудом, знаком, что собор должен быть отстроен. Здание, которое вы видите, было завершено в 1223 году, а в 1260-м освящено как соборная церковь Успения Богородицы. Это первый из французских соборов, посвященных Деве Марии. Элис слушала вполуха, пока они не перешли к северной стороне собора. Экскурсоводша представила им жутковатую процессию ветхозаветных царей и цариц, высеченных над северным порталом. Элис внутренне содрогнулась. — Это единственное существенное напоминание о ветхозаветной истории в данном соборе, — говорила экскурсоводша, знаком призывая их подойти ближе. — Многофигурная композиция на этой колонне изображает, как предполагается, перенесение в Иерусалим Ковчега Завета Менеликом, сыном царя Соломона и царицы Савской, хотя историки утверждают, что история Менелика до XV века не была известна в Европе. А вот… — она немного опустила указку, — еще одна тайна. Если у вас острое зрение, вы сможете прочитать латинскую надпись: «HIC AMITITUR ARCHA CEDERIS». — Она обвела глазами группу и снисходительно улыбнулась. — Если среди вас есть знатоки латыни, они согласятся, что эта фраза лишена смысла. В некоторых путеводителях «ARCHA CEDERIS» переводится как «действуй посредством ковчега». Тогда надпись можно перевести: «Здесь вещи обретают свой ход; действуй посредством ковчега». Однако если вы, подобно некоторым комментаторам, увидите в «CEDERIS» испорченное «FOEDERIS», то вся надпись обретет смысл: «Отсюда он отпущен, Ковчег Завета». Она оглядела слушателей. — Эта дверь, кроме всего прочего, дала начало множеству мифов и легенд, связанных с собором. Имена строителей здания не дошли до нас, хотя обычно они сохранялись в хрониках, По-видимому, по тем или иным причинам записи о строительстве не велись, и имена со временем просто забылись. Однако люди с более живым воображением толкуют отсутствие сведений иначе. Упорно циркулируют слухи, что собор возведен в соответствии с Таблицами Закона, добытыми одним из девяти рыцарей-тамплиеров, как зашифрованная каменная книга, гигантская головоломка, разгадать которую доступно лишь посвященным. Многие верят, что под лабиринтом некогда захоронили кости Марии Магдалины, если не сам Святой Грааль. — А кто-нибудь проверял? Элис тотчас же пожалела о сорвавшемся с языка вопросе. На нее обратилось множество укоризненных взглядов. Экскурсовод подняла бровь: — Разумеется, и не раз. Но вряд ли вы удивитесь, услышав, что поиски ли к чему не привели. Всего лишь еще один миф. — Выдержав паузу, она предложила: — Войдем внутрь. Смущенная Элис вслед за группой прошла к Западному входу, где стояла очередь, медленно втягивавшаяся внутрь. Все здесь говорили приглушенными голосами: делала свое дело магия запаха древнего камня и ладана. В боковых приделах и у главного входа мерцали ряды поставленных верующими свечей. Элис внутренне приготовилась к встрече с видениями прошлого, к повторению пережитого в Тулузе и Каркасоне. Но здесь ничего подобного не было, и спустя несколько минут она расслабилась и стала с интересом осматриваться. Она уже читала, что собор в Шартре представляет лучшее в мире собрание витражей, однако ослепительное сияние цветных окон потрясло ее. Калейдоскоп переливчатых цветов, ярчайшие сценки будничной жизни и библейской истории, «Окно Розы» и «Окно Голубой Девы», «Окно Ноя», с изображением потопа и животных, пара за парой уходящих в ковчег… Элис бродила по собору, пытаясь представить его блистающим свежими фресками, увешанным золотой парчой. Как должен был поражать человека Средневековья контраст между величием божьего храма и обыденным миром. Наверно, им виделось здесь вещественное воплощение Царства Божия на земле. — И наконец, — продолжала ведущая, — мы переходим к самой знаменитой достопримечательности: мозаичному лабиринту из одиннадцати кругов. Центральный камень утерян еще в древности, но остальной узор полностью сохранился. Для средневекового христианина лабиринт предоставлял возможность совершить духовное странствие, заменяющее действительное паломничество в Иерусалим. Поэтому лабиринты, выложенные на полу, — в отличие от стенных росписей и мозаик — часто известны под названием «chemin de Jérusalem» — то есть дорога, или тропа, иерусалимская. Паломники проходили маршрут к центру, часто по многу раз, что символизировало растущее постижение Господа. Кающиеся зачастую совершали это путешествие на коленях, так что на него мог уйти не один день. Элис протолкалась вперед. Только сейчас, почувствовав, как замирает сердце, она поняла, что до сих пор бессознательно оттягивала эту минуту. «Вот она и настала». Элис вздохнула. Симметрия была нарушена рядами скамей, расставленных лицом к алтарю по сторонам нефа для вечерней службы. Но ни скамьи, ни заранее известные размеры мозаики не уменьшили впечатления. Огромный лабиринт несомненно был самой потрясающей деталью собора. Элис медленно шла за цепочкой туристов, протянувшихся по сужающимся кругам, словно в детской игре «змейка». Наконец она достигла центрального круга. И не почувствовала ничего. Ни трепета, ни мгновенного просветления или преображения. Ровным счетом ничего. Она присела на корточки, коснулась земли. Гладкий и холодный камень ничего не говорил ей. Элис сухо усмехнулась. «А ты чего ждала?» Ей даже не пришлось доставать из рюкзачка свой набросок пещерного лабиринта. Она и так знала: для нее здесь ничего нет. Не привлекая внимания, Элис отделилась от группы и выбралась наружу.
После яростного зноя Миди приятно было погулять под мягким северным солнцем, и Элис несколько часов бродила по историческому центру города. Не признаваясь самой себе, она высматривала тот угол, на котором сфотографировались когда-то Грейс и Одрик Бальярд. Его то ли не было вообще, то ли он оказался за пределами туристской карты. Улицы большей частью назывались по занятию ремесленников, селившихся здесь прежде: часовщиков, дубильщиков, конюхов и переплетчиков — последнее название напоминало, что в XII–XIII веках Шартр был важным центром бумажной и книжной промышленности. Улицы де Тру а Дегре не было. Наконец Элис вернулась туда, откуда начинала прогулку: к Западному входу в собор. Она присела на ограду, прислонившись к перильцам, и лениво пробежала глазами табличку на угловом здании напротив. Вскочила и перебежала площадь, чтобы еще раз прочесть: «Рю де Летруа Марше, бывшая де Тру а Дегре». Просто ее переименовали! Улыбнувшись про себя, Элис отступила назад, чтобы лучше видеть, и налетела спиной на уткнувшегося в газету прохожего. — Pardon, — извинилась она, уступая дорогу. — Это я должен извиниться, — возразил он с приятным выговором Восточного побережья. — Сам виноват, что не смотрел, куда иду. Вы не ушиблись? — Все в порядке. К ее удивлению, прохожий пристально разглядывал ее. — Что-нибудь?.. — Вы Элис, верно? — Да? — осторожно призналась она. — Ну конечно. Элис! Привет, — улыбнулся он, приглаживая пятерней взлохмаченную каштановую шевелюру. — Вот так встреча! — Извините, но я… — Уильям Франклин, — напомнил он, протягивая ей руку. — Уилл. Мы встречались в Лондоне году в девяносто четвертом или пятом. Целая компания собралась. Ты была с парнем… как бишь его… Оливер! Верно? А меня привел двоюродный брат. Элис с трудом припомнила полную народу квартирку, где собирались университетские приятели Оливера. Кажется, был там молодой американец, веселый и симпатичный, но она тогда была влюблена по уши и никого толком не замечала. «Тот самый парень?» — У тебя прекрасная память, — заметила она. — Это было так давно… — А ты совсем не изменилась, — улыбнулся он. — Ну, как поживает Оливер? Элис помрачнела. — Мы расстались. — Какая жалость… — После короткой заминки он добавил: — А кто это на фотографии? Элис совсем забыла, что до сих пор держит в руке старую карточку. — Моя тетушка. Я нашла это в ее вещах и, раз уж сюда попала, решила попробовать отыскать место, где она снималась. — Она ухмыльнулась. — Не думай, что это было просто! Уилл заглянул ей через плечо. — А с ней кто? — Какой-то знакомый. Писатель. Новая заминка, будто оба хотели продолжить разговор и подыскивали подходящую тему. Уилл снова вернулся к фотографии. — На вид она симпатичная. — Симпатичная? Мне кажется, у нее довольно решительный вид, хотя соответствует ли он характеру, я не знаю. Мы не были знакомы. — Правда? Тогда зачем же ты носишь с собой ее фото? Элис убрала фотографию. — Это трудно объяснить. — Трудности меня не пугают, — усмехнулся он. — Слушай… как насчет выпить кофе или еще чего? Если ты, конечно, не торопишься. Элис удивилась, хотя сама подумывала о том же. — И часто ты так подбираешь женщин на улице? — Обычно нет. Встречный вопрос: ты часто соглашаешься?
Элис казалось, что она видит эту сцену с высоты. Видит мужчину и женщину, похожую на нее, входящих в старомодную паттисери,[268] с разложенными в стеклянных шкафчиках пирожными и выпечкой. «Просто не верится, что это я». Виды, запахи, звуки… Официанты, лавирующие между столиками, горячий, горький аромат кофе, шипение закипающего молока в машинке, звон вилок о тарелки — все было необычайно живым и ярким. И прежде всего сам Уилл: как он улыбался, как поворачивал голову, как за разговором теребил пальцами серебряную цепочку на шее. Они выбрали столик на улице. Шпиль собора чуть виднелся за крышами. Едва усевшись, оба почувствовали легкое смущение — и заговорили разом. Элис рассмеялась, Уилл извинился. Медленно, на ощупь, они начали заполнять шестилетний пробел, разделявший их встречи. — Ты прямо с головой ушел в чтение, — заметила Элис, разворачивая к себе газету Уилла, чтобы прочитать заголовок. — Знаешь, когда вылетел на меня из-за угла. Он улыбнулся: — Да, извини уж. Местные газеты не часто бывают так увлекательны. В реке прямо посреди города выловили убитого. Заколот ударом в спину, руки и ноги были связаны. Местное радио сходит с ума. Кажется, подозревают ритуальное убийство и связывают его с исчезновением журналиста, пропавшего на прошлой неделе. Он как раз писал репортажи о тайных религиозных обществах. Улыбка сошла с лица Элис. Она потянула к себе газету: — Можно посмотреть? — Конечно, на здоровье. Прочитав список названий, Элис забеспокоилась еще больше. Noublesso Veritable. Звучит знакомо… — Тебе нехорошо? Элис подняла глаза и встретила внимательный взгляд Уилла. — Извини, — отозвалась она. — Задумалась. Что-то в этом роде мне уже попадалось. Просто я удивилась совпадению. — Совпадение? Звучит интригующе. — Это долгая история. — А я не спешу, — ответил Уилл, опираясь локтями на стол и ободряюще улыбаясь ей. Элис настолько долго оставалась наедине с собственными мыслями, что ее так и подмывало с кем-то поговорить. К тому же он вроде как знакомый… И можно рассказывать не все… — Ну, не знаю, какой в этом смысл, — заговорила она. — Пару месяцев назад меня вдруг известили — как гром с ясного неба, — что умерла моя тетушка и все оставила мне, в том числе и дом во Франции. — Та леди с фотографии? Она кивнула. — Ее звали Грейс Таннер. Я все равно собиралась во Францию, навестить подружку, которая работала на археологических раскопках в Пиренеях, вот я и решила убить двух зайцев одним выстрелом. — Она помялась. — На раскопках… ну, не стану надоедать тебе подробностями… в общем, там, кажется… не будем об этом. — Она перевела дыхание. — Вчера я побывала у юристов и отправилась посмотреть дом. И нашла там… кое-что. Узор, такой же, как видела на раскопках. — Она мучительно искала слова. — Еще там была книга некоего Одрика Бальярда, и я почти на сто процентов уверена, что на этой карточке он и есть. — Он еще жив? — Насколько мне известно. У меня не было времени его разыскать. — А что его связывает с твоей тетей? — Сама не знаю. Надеялась, что он мне объяснит. Он единственное звено между мной и ею. И еще кое-чем. «Лабиринт, фамильное древо, мои сны…» Подняв глаза, она увидела, что Уилл, хоть и мало что понимает, захвачен ее рассказом. — Пока я в тумане, — подмигнул он, словно отвечая на ее мысли. — Я не слишком толково объясняю, — согласилась Элис. — Давай поговорим о чем-нибудь попроще. Ты еще не сказал, что делаешь в Шартре. — Как положено американцу во Франции — пытаюсь писать. Элис улыбнулась: — Кажется, по традиции место писателя — в Париже? — Я там и начинал, но большой город показался слишком… безликим, если я понятно выражаюсь. А здесь живут знакомые моих родителей. И мне здесь понравилось, вот я и задержался. Элис кивнула, ожидая продолжения. Но он предпочел вернуться к прежней теме. — Тот узор, о котором ты говорила, — начал он. — Который попался тебе на раскопках и в тетином доме. Что в нем особенного? Поколебавшись, Элис ответила: — Это лабиринт. — Ради него ты и приехала в Шартр? Побывать в соборе? — В соборе немножко не такой… — Осторожность заставила ее замолчать. — Вообще-то я искала подругу, Шелаг… Мне сказали, она могла уехать в Шартр. — Порывшись в кармане, Элис достала и протянула Уиллу листок с нацарапанным адресом. — Я туда уже заходила, но никого не застала. Вот и решила посмотреть достопримечательности, а через часок-другой вернуться еще раз. Элис ошеломленно замолчала. Уилл страшно побледнел и, кажется, лишился дара речи. — Ты в порядке? — спросила она. — Почему ты решила, что там может оказаться твоя подруга? — с трудом выговорил он. — Да я точно не знаю… Она не понимала, что с ним творится. — Это та, к которой ты приезжала на раскопки? Элис кивнула. — И она тоже видела лабиринт? О котором ты говоришь? — Должно быть… хотя мы с ней об этом не говорили. Ее больше интересовали мои находки, которые… Она замолчала, потому что Уилл резко поднялся. — Куда ты? — беспокойно спросила она, когда он потянул ее за руку. — Идем со мной. Хочу тебе кое-что показать.
— Куда мы идем? — повторила Элис, с трудом поспевая за ним. Они свернули за угол, и Элис узнала рю Шеваль Бланк, хотя они вышли на нее с другой стороны. Уилл решительно подошел к дому и взбежал по ступеням крыльца. — Ты с ума сошел? А если там кто-нибудь есть? — Никого нет. — Откуда ты знаешь? Элис, остолбенев, наблюдала, как Уилл достает из кармана ключ и открывает переднюю дверь. — Давай скорей, пока нас кто-нибудь не заметил. — У тебя ключ… — с недоверием выговорила она. — Не пора ли, черт возьми, объяснить мне, что происходит? Уилл сбежал к ней по ступеням и потянул наверх. — Здесь тоже есть лабиринт, — прошипел он. — Ну что, идешь или нет? «А если это опять ловушка?» После всего, что с ней случилось, идти за ним было чистым безумием. Никто даже не знает, куда она собиралась. Но любопытство одолело здравый смысл. Элис взглянула в лицо Уилла, возбужденное и нетерпеливое… И решила поверить ему.
ГЛАВА 55
Элис оказалась в огромной прихожей, больше похожей на вестибюль музея, чем на жилое помещение. Уилл прямиком направился к ковру, висевшему напротив двери, и отогнул его от стены. — Ты что делаешь? Подбежав к нему, она увидела маленькую медную ручку, вделанную в стенную панель. Уилл подергал, повертел ее и досадливо бросил: — Чтоб его! Заперли изнутри. — Это дверь? — Точно. — И за ней твой лабиринт? Уилл кивнул. — Надо спуститься по лестнице и пройти коридор. За ним такая жутковатая комнатка. Египетские знаки на стенах, надгробие с лабиринтом — вроде того, который ты описала, — вырезано на плите. А теперь… — Он запнулся. — Эта статейка в газете. И то, что твоя подруга бывала по этому адресу… — Ты слишком уж торопишься с выводами, — заметила Элис. Уилл опустил угол ковра и прошел через прихожую. Элис не сразу решилась последовать за ним. — Что ты делаешь? — прошипела она, видя, что Уилл открывает дверь. Войти в библиотеку было все равно что оказаться в прошлом. Здесь царила строгая атмосфера мужского клуба. В щель полузакрытых ставен врывался столб света, и казалось, по ковру проложена золотая дорожка. Здесь пахло постоянством, стариной и мастикой. По трем сторонам комнаты от пола до потолка тянулись книжные полки. К верхним надо было добираться по стремянкам. Уилл точно знал, чего ищет. Здесь был целый раздел, посвященный Шартру, — альбомы с фотографиями и серьезные исследования по архитектуре и истории. То и дело оглядываясь на дверь, сдерживая биение сердца, Элис смотрела, как ее спутник вытащил из ряда книг и положил на стол том с тисненным на обложке семейным гербом. Он листал страницы, а Элис заглядывала ему через плечо. Глянцевые цветные фотографии, карты старого города, схемы и наброски пером мелькали перед глазами, пока Уилл не нашел нужный раздел. — Что это? — Книга об особняке Л'Орадор. Вот об этом доме, — ответил он. — Их семья живет здесь четыреста лет, с тех пор как он был построен. Здесь есть архитектурные планы всех этажей и переходов. — Уилл перевернул еще пару страниц, повернул книгу к ней. — Вот. Оно? У Элис перехватило дыхание. — О господи, — прошептала она. Перед ней была точная копия ее лабиринта. От хлопка наружной двери оба подскочили на месте. — Уилл, дверь! Мы ее не заперли! В прихожей послышался негромкий разговор: мужской и женский голос. — Они войдут сюда, — прошипела Элис. Уилл сунул ей в руки книгу. — Быстро, — шепнул он, указывая на большую трехместную софу под окном. — Положись на меня. Элис подхватила рюкзак, бросилась к софе и втиснулась в щель между стеной и спинкой. Ноздри защекотал запах старой кожи, сигар и пыли. Она услышала, как Уилл стукнул дверцей стеллажа и вышел на середину комнаты, как раз когда заскрипела входная дверь. — Qu'est-ce vous foutez là?[269] Чуть повернув голову, Элис увидела в стеклянной дверце отражение вошедшего. Высокий юноша, ростом примерно с Уилла, но более угловатый. Волнистые черные волосы, высокий лоб и нос патриция. Элис нахмурилась. Он ей кого-то напоминал. — Франсуа-Батист! Привет! — даже на слух Элис радость в голосе Уилла прозвучала фальшиво. — Какого черта вы здесь делаете? — повторил молодой человек по-английски. Уилл махнул перед ним прихваченным со стола журналом. — Заскочил взять что-нибудь почитать. Франсуа-Батист мазнул взглядом по обложке и рассмеялся. — Кажется, это не в вашем вкусе. — Как знать. Парень шагнул к Уиллу. — Вам здесь долго не продержаться, — тихо и зло проговорил он. — Вы ей наскучите, и она вышибет вас вон, как всех прочих. Вы ведь даже не знали, что она уезжает из города, верно? — Что происходит между нами, тебя не касается, так что если ты не против… Франсуа-Батист загородил ему дорогу. — Куда это вы вдруг заспешили? — Не доводи меня, Франсуа-Батист. Честно предупреждаю… Парень уперся ладонью в грудь Уиллу, удерживая его на месте. Тот сбросил его руку: — Не трогай меня! — А что, если и трону? — Ça suffit![270] Мужчины разом обернулись на голос. Элис вытянула шею, но женщина стояла у самых дверей и не была ей видна. — Что здесь происходит? — продолжала она. — Ребяческие ссоры! Франсуа-Батист? Уильям? — Rien, maman. Je lui demandais…[271] У Уилла был ошеломленный вид, словно он только сейчас осознал, кто пришел с Франсуа. — Мари-Сесиль… я не думал… — Он сбился. — Я не ждал тебя так рано. Женщина вошла в библиотеку, и Элис увидела ее лицо. «Не может быть!» Сегодня она была в более строгом костюме, чем в тот раз, когда Элис увидела ее впервые. Юбка до колена цвета охры и такой же жакет. И волосы были свободно распущены, а не повязаны шарфиком. Но ошибки быть не могло. Та самая женщина, которую Элис видела у гостиницы «Старый город» в Каркасоне. Мари-Сесиль Л'Орадор. Она перевела взгляд от матери к сыну. Явное фамильное сходство. Тот же профиль, та же надменная манера держаться… Теперь понятно, чем вызвана ревность Франсуа-Батиста и его неприязнь к Уиллу. — Однако по сути дела мой сын прав, — говорила между тем Мари-Сесиль. — Что ты здесь делаешь? — Просто искал почитать… что-нибудь новенькое. Без тебя мне было… одиноко. Элис поморщилась. Он совершенно не умеет врать. — Одиноко? — повторила женщина. — На лице у тебя другое написано, Уилл. Мари-Сесиль потянулась к нему и поцеловала его в губы. Элис ощутила копящееся в комнате напряжение. Поцелуй был слишком интимным. Она заметила, как Уилл стиснул кулаки. «Ему не нравится, что я это вижу». Неожиданная мысль промелькнула и тут же забылась. Мари-Сесиль отпустила его. Лицо у нее было довольное. — Еще увидимся, Уилл. А сейчас, извини, у нас с Франсуа-Батистом срочное дело. Desolée.[272] Так что с твоего позволения… — Здесь? «Слишком торопится. Выдает себя». Мари-Сесиль прищурилась: — Почему бы и нет? — Нипочему, — резко отозвался Уилл. — Maman. Я не могу найти. — Постарайся, — отозвалась она, не сводя с Уилла подозрительного взгляда. — Но я не… — Va le chercher! — огрызнулась она. — Иди поищи. Элис слышала, как хлопнул дверью Франсуа-Батист. Мари-Сесиль тотчас же обняла Уилла за пояс, притянула к себе. Элис видела ее ярко-красные на фоне его белой футболки ногти. Она бы сбежала, да некуда было деваться. — Tiens, — сказала Мари-Сесиль. — A bientôt![273] — Ты уже уходишь? — спросил Уилл. Элис услышала в его голосе панику: он понял, что оставляет ее в ловушке. — Toute a l'heure.[274] Позже. Элис ничего не могла поделать. Оставалось только беспомощно слушать шаги скрывающегося за дверью Уилла. Мужчины столкнулись в дверях. — Вот, — сказал юноша, протягивая матери тот же выпуск газеты, который недавно читал Уилл. — Как им удалось так быстро все раскопать? — Понятия не имею, — кисло сказал он. — Оти, надо полагать. Элис затаила дыхание. «Тот самый Оти?» — Ты знаешь или гадаешь, Франсуа-Батист? — услышала она голос Мари-Сесиль. — Ну, кто-то ведь должен был им сказать? Полиция во вторник направила на Эр ныряльщиков — точно в то самое место. Знали, чего ищут. Подумай сама. Кто первым сообщил об утечке сведений в Шартре? Оти. А он представил какие-нибудь доказательства, что с журналистом болтал именно Тавернье? — Тавернье? — Человек, которого нашли в реке, — ехидно пояснил Франсуа-Батист. — А, конечно… — Мари-Сесиль закурила сигарету. — В статье называют Noublesso Veritable. — Оти мог и это сказать. — Пока ничто не связывает Тавернье с этим домом, не о чем и говорить, — сказала она скучающе. — Еще что-нибудь? — Я сделал все, что ты велела. — И к субботе все готово? — Да, — признал он, — хотя не знаю, стоит ли беспокоиться, раз нет ни кольца, ни книги. По ярким губам Мари-Сесиль порхнула улыбка. — Вот видишь, Оти нам еще нужен, даже если ты ему не доверяешь, — сказала она спокойно. — Он говорит, ему удалось — miracle![275] — вернуть кольцо. — Какого черта ты мне раньше не сказала! — возмутился ее сын. — Вот теперь и говорю, — отозвалась она. — Он утверждает, что его люди нашли кольцо прошлой ночью в номере молодой англичанки. У Элис прошел озноб по коже. «Не может такого быть!» — Ты думаешь, он лжет? — Не будь дураком, Франсуа-Батист, — мать поморщилась. — Разумеется, лжет. Если бы кольцо взяла доктор Таннер, Оти не понадобилось бы четырех дней на поиски. Не говоря о том, что я распорядилась обыскать его квартиру и контору. — Значит… Она не дала ему договорить: — Если! Если кольцо у Оти, в чем я сомневаюсь, значит, он либо получил его у бабки Бо, либо оно с самого начала было у него. Он мог и сам взять его из пещеры. — Тогда к чему столько хлопот? Телефонный звонок прервал разговор. От резкого звука у Элис чуть не выскочило сердце. Франсуа-Батист взглянул на мать. — Ответь, — приказала та. Он повиновался. — Oui? Элис не смела дышать, боясь выдать себя. — Oui. Je comprends. Attends.[276] — Юноша прикрыл трубку рукой. — Это О'Доннел. Говорит, что книга у нее. — Спроси, почему она не связалась с тобой раньше. Он кивнул. — Где вы были с понедельника? — выслушал ответ. — Кому-то известно, что она у вас? — Ответ. — Хорошо. Demain soir.[277] Он вернул трубку на место. — Уверен, что это она говорила? — Голос ее. Все, как мы договаривались. — Он, конечно, слушал разговор? — О чем ты говоришь? — не понял он. — Кто? — Тебе все надо разъяснять? — огрызнулась Мари-Сесиль. — Оти, разумеется! — Я… — Сколько дней не было Шелаг О'Доннел? А стоит мне очистить дорогу — уехать в Шартр, — она тут же находится! Сперва кольцо, теперь книга… Франсуа-Батист наконец вышел из себя. — Ты же только что его защищала! — заорал он. — Меня винила, что я тороплюсь с выводами! Если тебе известно, что он работает против нас, — почему было мне не сказать? Что ты делаешь из меня дурака! И, главное, почему его не остановишь? Ты никогда не спрашивала себя, зачем ему так нужна эта книга? Что он, на аукцион ее выставит? — Я совершенно точно знаю, зачем ему книга, — ледяным голосом ответила Мари-Сесиль. — Сколько можно! Почему ты постоянно меня унижаешь?! — Дискуссия окончена, — оборвала она. — Завтра выезжаем. Таким образом у нас останется вдоволь времени: тебе устроить свидание с О'Доннел, а мне приготовиться. Церемония состоится в полночь, как назначено. — Ты хочешь, чтоб я с ней встретился? — недоверчиво повторил он. — Ну, разумеется! — Впервые за все время разговора в ее голосе прозвучал намек на какое-то чувство. — Мне нужна эта книга, Франсуа-Батист. — А если у нее нет книги? — Не думаю, чтобы он потратил зря столько усилий, не будь у него книги. Элис услышала, как Франсуа-Батист прошел через библиотеку и открыл дверь. — А с ним что? — спросил он, понемногу оживая. — Не оставишь же ты его здесь… — Уилла предоставь мне. Он тоже не твоя забота.Уилл спрятался в кухонном чулане. Было тесно, пахло старыми кожаными плащами, сапогами и непромокаемыми куртками, но зато отсюда хорошо видна была дверь библиотеки и кабинета. Он увидел Франсуа-Батиста, который вышел первым и сразу прошел в кабинет. Мари-Сесиль появилась минуту спустя. Уилл дождался, пока за ней закроется тяжелая дверь, и, выскочив из шкафа, метнулся через коридор в библиотеку. — Элис, — шепотом позвал он, — быстро. Надо отсюда убираться. Послышался легкий шорох, и девушка выбралась из укрытия. — Извини, — с раскаянием сказал он. — Это все из-за меня. Ты в порядке? Она кивнула, хотя была страшно бледна. Уилл протянул ей руку, но Элис не двинулась с места. — Что все это значит, Уилл? Ты здесь живешь. Ты знаком с этими людьми — и ты готов погубить все, помогая чужому человеку? Не понимаю. Уилл хотел сказать, что она ему не чужая, но не решился. — Я… Он и не знал, что сказать. Обстановка комнаты поблекла. Он видел только лицо Элис и ее прямой взгляд. Карие глаза, казалось, смотрят ему прямо в сердце. Он не выдержал ее взгляда. Элис еще мгновение смотрела ему в глаза, потом быстро, не оглядываясь на Уилла, пробежала из библиотеки в прихожую. — Что ты собираешься делать? — безнадежно спросил тот, догоняя ее. — Ну, я убедилась, что Шелаг в этом доме известна, — сказала Элис. — Она на них работает. — На них? — недоуменно повторил он, следом за ней выскальзывая в приоткрытую дверь. — Что ты имеешь в виду? — Но здесь ее нет. Мадам Л'Орадор с сыном тоже ее ищут. Из их разговора я поняла, что ее держат где-то под Фуа. На нижней ступеньке Элис вдруг застыла как вкопанная. — Уилл, — с ужасом пролепетала она. — Я рюкзак забыла. За софой, вместе с книгой. Больше всего на свете Уиллу сейчас хотелось ее поцеловать. Момент был самый неподходящий, вокруг творилось что-то непонятное, Элис ему не доверяла — и все-таки это казалось вполне уместным. Уилл не раздумывая протянул ладонь к ее щеке. Он словно заранее знал, какой гладкой и прохладной будет ее кожа — словно в тысячный раз повторял этот жест. И тут ему вспомнилось, как она отстранялась от него в кафе, и оностановился, на волосок не донеся руки. — Извини, — начал он, словно Элис могла прочитать его мысли. Она уставилась на него, и вдруг по усталому и бледному лицу скользнула быстрая улыбка. — Я не хотел обидеть, — запинался он, — просто… — Не стоит об этом, — перебила она, но в ее голосе не было обиды. Уилл облегченно вздохнул. Он знал, что она не права. Только об этом и стоило говорить — но по крайней мере она на него не сердится. — Уилл, — чуть резче заговорила Элис. — Рюкзак! У меня там все. Все записи… — Конечно, конечно, — с готовностью отозвался он. — Извини. Я его достану. И принесу тебе. — Он попытался сосредоточиться. — Ты где остановилась? — Гостиница «Пти Монарх». На площади Эпар. — Хорошо, — бросил он, уже взбегая обратно на крыльцо. — Жди меня через полчаса.
Уилл провожал ее взглядом, пока она не скрылась из виду, потом вошел в дом. Под дверью кабинета светилась серебристая полоска. Внезапно дверь распахнулась. Уилл отскочил назад, забившись в угол у двери. Из кабинета появился Франсуа-Батист, прошел в кухню. Открылась и закрылась задняя дверь, потом все стихло. Уилл осторожно высунулся из своего угла. Теперь ему видна была Мари-Сесиль, сидевшая за столом. Она рассматривала какой-то предмет, блеснувший, когда она повернула его к свету. Увидев, как женщина встала, Уилл забыл, зачем пришел. Мари-Сесиль сдвинула одну из картин, висевших на стене. Это было ее любимое полотно — она много говорила о нем с Уиллом в первые дни их знакомства. Золотистый фон с яркими мазками краски: французские солдаты, разглядывающие опрокинутые колонны и руины дворцов Древнего Египта. Называлось это, как ему помнилось: «Взирая на пески времен». За картиной в стене обнаружилась темная металлическая дверца с электронным замком. Мари-Сесиль набрала шестизначный код. Послышался резкий щелчок, и замок открылся. Она достала из сейфа два черных пакета, бережно переложила их на стол. Уилл вытянул шею. Ему отчаянно хотелось увидеть, что там внутри. Он так увлекся, что не услышал шагов за спиной. — Не двигаться! — Франсуа-Батист, я… К виску прижалось холодное дуло пистолета. — И держи руки на виду. Он попробовал обернуться, но парень схватил его за шею и притиснул лицом к стене. — Qu'est-ce qui se passe?[278] — окликнула из кабинета Мари-Сесиль. Франсуа-Батист едва не проткнул ему стволом висок. — Je mon occupe, — отозвался он, — я сам разберусь.
Элис в который раз взглянула на часы. «Он не придет». Она стояла в холле гостиницы, не сводя взгляда со стеклянной двери, словно могла взглядом заставить Уилла возникнуть из пустоты. Почти час прошел, как она вернулась с улицы Белого Рыцаря. Элис не знала, что делать. Кошелек, телефон и ключ от машины лежали в кармане. Все остальное осталось там, с рюкзаком. В том числе ее имя и адрес. «Забудь об этом. Главное, поскорей отсюда убраться». Чем дольше она ждала, тем большим недоверием проникалась к Уиллу. Как он возник ни с того ни с сего… Элис мысленно пробежала последовательность событий. Так ли случайно они столкнулись? Она никому не говорила, куда собирается. «Ну почему же он не идет?» В половину девятого Элис решила, что ждать больше не чего. Объяснила, что номер ей не понадобится, написала записку для Уилла, на случай, если он все-таки появится, оставила свой номер телефона и вышла. Бросив куртку на переднее сиденье, она заметила выглядывающий из кармана конверт. Утреннее письмо. Она совсем о нем забыла! Элис вытащила конверт и положила на приборную доску, чтобы прочесть, когда остановится передохнуть. Когда она выехала на южное шоссе, уже стемнело. Фары встречных машин слепили глаза. Привидениями вставали из темноты придорожные кусты и деревья. Орлеан, Пойтер, Бордо — мелькали за стеклом указатели. Запертая в своем крошечном мирке, Элис час за часом повторяла один и тот же вопрос. И каждый раз выходил другой ответ. Зачем? Ради сведений… Сведений она им предоставила в избытке. Все свои записи, рисунки, фотографию Грейс и Бальярда… «Он обещал показать комнату с лабиринтом». Ничего он не показал. Только картинку в книжке. Элис покачала головой. Верить не хотелось. Зачем тогда он помог ей выбраться? Потому что уже получил, чего хотел, — вернее, чего хотела мадам Л'Орадор. «И они легко могут тебя выследить…»
ГЛАВА 56 КАРКАССОНА, агост 1209
Французы штурмовали Сен-Венсен на рассвете третьего августа, в понедельник. Элэйс взобралась на Главную башню и встала рядом с отцом, сверху наблюдавшим за ходом сражения. Она искала в толпе Гильома, но не могла найти. Над звоном мечей, над боевыми кличами солдат, подступавших к невысокому внешнему валу, с равнины под холмом Гравета к ним долетели звуки пения:Она спустилась с башни и замешалась в толпу женщин, ожидавших возвращения воинов. Элэйс молила бога, чтобы среди них был и Гильом. «Пусть он спасется!» Наконец подковы загремели по мосту. Элэйс сразу увидела мужа, и сердце у нее радостно подпрыгнуло. Лицо и доспехи его были заляпаны кровью, потемнели от золы, в глазах еще дотлевала ярость битвы, но Гильом был невредим. — Твой муж сражался доблестно, дама Элэйс, — обратился к ней виконт. — Он сразил множество и многим спас жизнь. Мы в долгу перед его искусством и отвагой. Элэйс вспыхнула. — Скажи мне, где твой отец? Элэйс указала в северо-западный угол двора. — Мы следили за битвой с башни, мессире. Гильом спешился и отдал поводья своему конюшему. Элэйс застенчиво приблизилась к нему. — Мессире? Он взял ее холодную бледную руку, поднес к губам. — Тьерри сбили, — сказал он бесцветным голосом. — Сейчас его принесут. Тяжело ранен. — Мессире, я сожалею… — Мы были как братья, — продолжал он. — И Альзо тоже. Он всего на месяц старше меня. Мы всегда друг за друга заступались. Вместе зарабатывали на меч и кольчугу. И в рыцари его посвятили в ту же Пасху, что меня. — Я знаю, — мягко сказала она, притянув к себе его голову. — Идем, я помогу тебе разоблачиться, а потом постараюсь помочь Тьерри. Она видела, что глаза у него блестят от слез, и заторопилась, чтобы он не подумал, что она заметила. — Идем, Гильом. Отведи меня к нему.
Тьерри вместе с другими тяжелоранеными отнесли в Большой зал. Искалеченные и умирающие люди лежали вдоль стены в три ряда. Женщины хлопотали над ними, пытаясь облегчить их страдания. С заплетенными в косы волосами Элэйс выглядела совсем девочкой. Час за часом воздух в помещении делался все тяжелее, мухи все назойливее. Женщины редко переговаривались и трудились с упорной решимостью, зная, что, если штурм возобновится, станет еще тяжелей. Священники переходили от одного раненого к другому, выслушивая исповеди и совершая последние обряды. Двое Совершенных, укрывшись под такими же темными одеяниями, произносили последнее утешение раненым катарам. Тьерри был в тяжелом положении. Он получил несколько ударов. Сломанная лодыжка, копейная рана в бедро, раздробленная кость… Элэйс понимала, что он потерял слишком много крови, но ради Гильома пыталась что-то сделать. Разогрела воск и, смешав с настоем листьев и корневищ костевяза, наложила остывший компресс на рану. Оставив с Тьерри Гильома, Элэйс перешла к другим, у кого еще была надежда выжить. Она размешала в отваре лопуха толченый дягиль и, заручившись помощью одного из поварят, разносила лекарство в чашках, вливая из ложечки в рот каждому, кто еще мог глотать. Раны затянутся, если избежать заражения и не дать ему проникнуть в кровь. Если удавалось улучить свободную минуту, Элэйс возвращалась к Тьерри, меняла повязки, хотя и видела, что надежды нет. Он был без сознания, и кожа у него приняла смертный голубовато-белый оттенок. Элэйс тронула Гильома за плечо. — Прости, — сказала она. — Ему уже недолго осталось. Гильом только кивнул. Элэйс отошла в дальний конец зала. Молодой шевалье, немногим старше ее, вскрикнул, когда она проходила мимо. Элэйс остановилась, склонилась над ним. Его детское лицо сморщилось, выражая боль и недоумение, в карих глазах застыл мучительный страх. — Тише-тише, — пробормотала она. — С тобой никого нет? Он чуть мотнул головой. Элэйс погладила ему лоб ладонью и приподняла кусок ткани, прикрывающий щитовую руку. И тут же отпустила. У мальчика было размозжено плечо. Сквозь кожу торчали осколки костей — как камни в мутном потоке. И в боку зияла дыра. Кровь стекала из раны и лужей собиралась под ним. Правая рука у него так и закостенела на рукояти меча. Элэйс хотела высвободить ее, но пальцы не разгибались. Тогда она оторвала от юбки кусок подола и заткнула кровоточащую дыру тряпичным комом. Достала из мешочка на поясе пузырек с валерианой и влила ему в губы двойную дозу, чтобы облегчить смертную муку. Больше здесь ничего нельзя было сделать. Смерть не была милостивой и не торопилась с приходом. Постепенно всхлипы у него в груди становились громче, дыхание все тяжелее. Когда у мальчика потемнело в глазах, он не выдержал ужаса и заплакал вслух. Элэйс сидела над ним, напевала что-то на ухо, гладила ему лоб, пока душа не покинула тело. — Прими Господь твою душу, — прошептала она, закрывая ему глаза. Потом прикрыла лицо и перешла к другим. Элэйс трудилась весь день: разносила лекарства, меняла повязки. Глаза болели, руки покраснели от чужой крови. В конце дня потоки закатного света протекли в высокие окна Большого зала. Умерших унесли. Живые были устроены удобно, насколько позволяли их раны. Изнемогающую Элэйс поддерживала только мысль, что ее ждет еще одна ночь в объятиях Гильома. У нее ныли кости, отказывалась разгибаться спина, но все это уже не имело значения.
Воспользовавшись царившей во всем замке суматохой, Ориана незаметно ускользнула к себе, чтобы встретиться со своим агентом. — Давно пора! — буркнула она, наконец дождавшись его. — Рассказывай, что узнал. — Еврей умер, ничего так и не сказав, но мой господин уверен, что книгу он передал вашему отцу. Ориана скрыла улыбку и промолчала. Она никому не говорила о том, что нашла за швом плаща Элэйс. — А что с Эсклармондой из Сервиана? — Она храбро держалась, но в конце концов сказала, где мы найдем вторую книгу. Зеленые глаза Орианы загорелись: — Нашли? — Еще нет. — Но она в городе? Владетель Эвре знает? — Он полагается на тебя, госпожа, и ждет от тебя вестей. Ориана на минуту задумалась. — Старуха мертва? И мальчишка? Они не вмешаются в наши планы? Человек натужно усмехнулся: — Женщина умерла. Щенок сбежал, но он не опасен. Когда найду, прикончу. Ориана кивнула: — Ты говорил владетелю Эвре о моем… интересе? — Говорил, госпожа. Он польщен, что ты готова на такую услугу. — И о моих условиях? Он обеспечит свободный выход из города? — Обеспечит, госпожа, если ты передашь ему книгу. Ориана встала, принялась расхаживать по комнате. — Хорошо, все это хорошо. А с моим муженьком вы разберетесь? — Только скажи, где и когда его найти, сударыня. Остальное проще простого. — Чуть помолчав, он продолжал: — Только обойдется подороже, чем прежде. Риск много больше, хоть время сейчас и беспокойное. Как-никак, эскриван самого виконта! Человек с положением. — Это мне известно, — холодно бросила она. — Сколько? — В три раза больше, чем за Рауля, — выпалил он. — И не думай, — мгновенно отозвалась она. — Где я возьму столько золота? — Не знаю, госпожа, но на меньшее я не соглашусь. — А книга? На этот раз он откровенно усмехнулся: — А за книгу, госпожа, поторгуемся отдельно.
ГЛАВА 57
Обстрел продолжался всю ночь. Непрерывный рокот каменных ядер, тучи пыли, взметавшиеся в небо от каждого удара… Из окна Элэйс видны были кучи щебня, оставшиеся от домов на равнине. Над вершинами деревьев, словно запутавшись в ветвях, навис черный дым. Немногим из их жителей удалось добежать до развалин Сен-Венсена и оттуда пробраться в город. Почти всех перехватили и убили. В часовне на алтаре горели свечи. На рассвете четвертого августа, во вторник, виконт Тренкавель с Пеллетье снова поднялись на стену. Утренний туман с реки окутал лагерь французов. Палатки, загоны, коновязи, шатры: казалось, над рекой вырос целый город. Пеллетье взглянул на небо. Знойный будет день. Сокрушительное поражение — в самом начале осады потерять выход к реке. Без воды им долго не продержаться. Если их не победят французы, так добьет жажда. Вечером он узнал от Элэйс, что в квартале у ворот Сен-Венсен, где собралось больше всего беженцев, уже ходят слухи о первых случаях «болезни осажденных». Кастелян сходил туда сам и, несмотря на успокоительные заверения консула квартала, опасался, что дочь не ошиблась. — Ты глубоко задумался, друг мой… Бертран обернулся: — Прости, мессире. Тренкавель отмахнулся от извинений. — Взгляни на них, Бертран. Их слишком много… а у нас нет воды. — Говорят, Педро II Арагонский стоит всего в дневном переходе от нас, — возразил Пеллетье. — Ты — его вассал, мессире. Он обязан тебе помочь. Сам Пеллетье не слишком надеялся на его помощь — Педро был стойким католиком и к тому же приходился зятем Раймону VI, графу Тулузскому. Однако, хотя между сюзереном и вассалом не было особой любви, все же дома Тренкавеля и Арагона связывали давние узы. — Дипломатические интересы короля прочно связаны с Каркассоной, мессире. Он не захочет отдать земли Ока французам. — Он помолчал. — И Пьер Роже де Кабарет, и другие твои союзники поддержат тебя. Виконт тронул ладонью выступ стены перед собой: — Да, они говорили. — Так ты пошлешь к нему, мессире?Педро ответил на зов и явился перед городом вечером в среду, пятого августа. — Откройте ворота! Откройте, едет король! Ворота Шато Комталь распахнулись. Услышав шум, Элэйс сбежала вниз посмотреть, что случилось. Сперва она собиралась только расспросить кого-нибудь, но, увидев над собой окна Большого зала, не устояла перед любопытством. Ей надоело получать вести из третьих или четвертых рук. Нишу в Большом зале отделяла от покоев виконта толстая занавесь. Элэйс не бывала здесь с детских лет, когда пробиралась подслушивать, как ее отец беседует с виконтом о делах. Сейчас она даже не была уверена, что сумеет протиснуться в узкую щель. Взобравшись на каменную скамью, Элэйс дотянулась до нижнего окна башни Пинте, выходившего в Кур дю Миди. Извиваясь, подтянулась на подоконник и спрыгнула внутрь. Ей повезло. Комната оказалась пуста. Стараясь не шуметь, Элэйс прокралась к двери и, открыв ее, шмыгнула в нишу за занавеской. Прижалась к отверстию и увидела прямо перед собой спину виконта. Протяни она руку, и смогла бы коснуться его плаща. Она успела вовремя. Двери в дальнем конце Большого зала широко распахнулись, и вслед за ее отцом в зал вошел король Арагона и несколько союзников Каркассоны, среди них — сеньеры Лавора и Кабарета. Виконт Тренкавель преклонил колени перед своим сюзереном. — Этого не нужно, — сказал Педро, знаком приказывая ему подняться. Внешне эти двое были разительно несхожи. Король был много старше Тренкавеля. Ровесник отца, подумала Элэйс. Высокий и мощный как бык, с лицом, отмеченным шрамами многих военных кампаний. Тяжелое угрюмое лицо казалось еще мрачнее из-за смуглой кожи и черных усов. Волосы, тоже черные от природы, поседели на висках, как у ее отца. — Удали своих людей, — отрывисто приказал он. — Я хочу говорить наедине, Тренкавель. — С твоего позволения, государь, я прошу разрешения остаться для моего кастеляна. Я ценю его советы. Король подумал и кивнул. — Нет слов, способных выразить нашу благодарность… Педро не дал виконту договорить. — Я явился не поддерживать тебя, а помочь тебе увидеть твои заблуждения. Вы сами навлекли на себя беду, отказываясь очистить свои владения от еретиков. У вас было четыре года — четыре года! — но вы ничего не предприняли за это время! Вы позволили катарским епископам открыто проповедовать в ваших городах и селениях. Твои вассалы открыто поддерживают Bons Homes. — Ни один вассал… — Ты станешь отрицать, что нападения на монахов и священников оставались безнаказанными? Что служителей церкви оскорбляли? В твоих землях открыто отправляются еретические службы! Твои союзники защищают еретиков. Всем известно, что владетель Фуа оскорбил Святые мощи, отказавшись склониться перед ними, а его сестра столь далеко отклонилась с пути благочестия, что приняла consolament, и граф счел пристойным присутствовать на этой церемонии! — Я не в ответе за графа Фуа. — Он твой вассал и союзник, — бросил ему в ответ Педро. — Как ты мог допустить подобное? Элэйс заметила, как виконт перевел дыхание. — Государь, ты сам ответил на свой вопрос. Мы живем рядом с теми, кого ты зовешь еретиками. Мы росли вместе с ними, среди них — ближайшие наши родственники. Совершенные ведут добрую и честную жизнь, так же как их все умножающаяся паства. Я так же не в состоянии изгнать их, как не могу воспрепятствовать восходу солнца. Его слова не тронули Педро. — Единственная надежда для тебя — примириться со Святой Матерью Церковью. Ты ровня всем северным баронам, которых привел с собой аббат, и они обойдутся с тобой с честью, если ты согласишься загладить свою вину. Если же ты хоть на минуту дашь им основание думать, что разделяешь мысли еретиков, хотя бы сердцем, а не поступками, — они сокрушат вас. — Король вздохнул. — Ты в самом деле веришь, что можешь выстоять, Тренкавель? Вас превосходят стократно! — У нас достаточно провизии. — Съестного, да, но не воды. Реку вы потеряли. Элэйс заметил, какой взгляд бросил ее отец на виконта. Он явно опасался, что тот дрогнет. — Я не хотел бы отвергать твой совет и лишать себя твоей благосклонности, однако неужели ты не видишь, государь, что им нужны не наши души, а наши земли? Эта война ведется не во славу Господа, а ради утоления людской алчности. Эта армия захватчиков, сир. Если я провинился перед церковью — и тем самым перед тобой, государь, — я готов просить прощения. Но я не давал вассальной клятвы ни графу Неверскому, ни аббату Сито. У них нет ни духовного, ни мирского права на мои земли. Я не отдам свой народ на растерзание французским шакалам по столь низкому обвинению. Элэйс захлестнула гордость, и по лицу отца она поняла, что и он разделяет ее чувства. Даже король, казалось, дрогнул перед мужеством и стойкостью Тренкавеля. — Благородные слова, виконт, но слова тебе теперь не помогут. Ради блага твоих людей, которых ты любишь, позволь мне хотя бы передать аббату Сито, что ты выслушаешь его условия. Тренкавель подошел к окну и выглянул наружу. — У нас не хватит воды, чтобы снабдить и Шато, и город? Отец Элэйс покачал головой: — Не хватит. — Хорошо. Я выслушаю аббата. Только руки, белые, как камень подоконника, показывали, чего стоят виконту эти слова.
Тренкавель долго молчал после ухода короля Педро. Он остался стоять, глядя, как солнце покидает небосвод. Только когда были зажжены свечи, он наконец сел. Пеллетье распорядился принести с кухни еды и вина. Элэйс не смела шевельнуться из страха, что ее обнаружат. У нее затекли руки и ноги, стены словно сдвигались, сжимая ее, но приходилось терпеть. Под занавеской она видела иногда ноги отца, расхаживавшего туда-сюда, и временами слышала тихие голоса. Педро Арагонский вернулся к ночи. По его лицу Элэйс мгновенно поняла, что переговоры не принесли удачи. Она пала духом. Провалилась последняя возможность вынести трилогию из города до начала серьезной осады. — Ты принес вести? — спросил виконт Тренкавель, вставая ему навстречу. — Не те, какие мне хотелось бы принести, виконт, — отозвался король. — Я чувствую себя оскорбленным, даже передавая столь оскорбительные слова. Он принял поданную ему чашу и одним глотком осушил ее. — Аббат Сито дозволяет тебе и двенадцати людям по твоему выбору беспрепятственно покинуть город в эту ночь, унося с собой столько, сколько вы в состоянии унести. Элэйс видела, как сжались в кулаки руки виконта. — А Каркассона? — Город со всем и всеми, кто в нем есть, переходит к Воинству. Бароны желают возместить упущенное в Безьере. Целую минуту после того, как он окончил говорить, длилось молчание. Потом Тренкавель наконец дал волю гневу, швырнув в стену чашей. — Как смел он нанести мне подобное оскорбление! — вскричал он. — Как смел оскорбить нашу честь, нашу гордость! Я не выдам французским шакалам ни единого из своих подданных! — Мессире, — пробормотал Пеллетье. Тренкавель стоял, уперев руки в бока, ожидая, пока схлынет гнев. Затем он вновь обратился к королю. — Государь, я благодарен тебе за посредничество и за усилия, которые ты взял на себя ради нас. Однако если ты не желаешь — или не можешь — сражаться вместе с нами — нам придется расстаться. Тебе лучше удалиться. Педро кивнул, понимая, что говорить больше не о чем. — Да пребудет с тобой Господь, Тренкавель, — скорбно проговорил он. Тренкавель упрямо встретил его взгляд. — Я думаю, Он с нами, — сказал он. Пока Пеллетье провожал короля из зала, Элэйс воспользовалась случаем и убежала.
Праздник Преображения Девы прошел тихо. Ни одна сторона не делала первого движения. Тренкавель продолжал осыпать крестоносцев дождем стрел и ядер, в то время как на город непрерывно падали снаряды катапульт. Обе стороны несли потери, но оставались на прежних позициях. Равнина стала похожей на бойню. Тела не хоронили, и они гнили там, где упали, раздувшись на жаре и покрывшись тучами черных мух. Ястребы и стервятники, кружившие над полем, дочиста обклевывали кости. В пятницу, седьмого августа, крестоносцы начали штурм южного предместья Сен-Микель. Им удалось на время занять траншеи под стенами, но град стрел и камней заставил их остановиться, и несколько часов спустя они оттянулись назад, под насмешливые и торжествующие крики каркассонцев.
С рассветом следующего дня, когда мир золотился в первых лучах солнца и тонкий туман окутал склоны, где выстроились лицом к Сен-Микелю более тысячи крестоносцев, начался новый приступ. Под бледным солнцем сверкали мечи и шлемы, щиты, наконечники пик и глаза. У каждого воина на груди был нашит лоскут с белым крестом на фоне цветов Невера, Бургундии, Шартра и Шампани. Виконт Тренкавель занял место на стенах Сен-Микеля, плечом к плечу со своими людьми, готовыми отразить атаку. Лучники и копейщики были наготове. Внизу стояли пешие, вооруженные топорами, мечами и пиками. В городе, укрывшись до срока за стеной, ждали шевалье. Вдалеке послышался бой французских барабанов. Воины в такт ударяли в твердую землю древками копий, и земля отвечала глухой дрожью. «Вот и началось…» Элэйс стояла на стене рядом с отцом и не знала, куда смотреть: искать глазами мужа или следить за потоком крестоносцев, скатывающихся с холма. Когда Воинство приблизилось, виконт вскинул руку, отдавая приказ. Небо мгновенно потемнело от стрел. На обеих сторонах падали люди. Заскребла о стену первая штурмовая лестница. Стрелы арбалетов, свистя, разорвали воздух, со стуком впились в толстые грубые жерди и расщепили их. Лестница покачнулась и опрокинулась. Она падала сперва медленно, затем все быстрее, и карабкавшиеся на нее люди рухнули наземь в брызгах крови, расколотых щеп и костей. Крестоносцам удалось подвести к стенам предместья гату — осадную машину. Укрывшись под ней, облитые водой саперы принялись вынимать из стен булыжники и подкапывать основания, чтобы ослабить укрепления. Тренкавель подозвал лучиков. Новый вихрь горящих стрел разорвал воздух над деревянным сооружением. Повалил черный смоляной дым, и дерево наконец занялось. Люди в горящей одежде разбегались из вспыхнувшей клетки. Их сбивали стрелами. Но было поздно. Осажденные бессильно наблюдали, как поджигают фитили мин, приготовленных за эти дни крестоносцами. Элэйс упала ничком, закрывая лицо от взметнувшихся в огненном взрыве камней и пыли. Крестоносцы ворвались в пролом. Рев пламени заглушал крики детей и женщин, бегущих из этого ада. Тяжелые городские ворота, соединявшие город с Сен-Микелем, отворились. Рыцари Каркассоны пошли в первую атаку. «Спаси его!» — не помня себя, шептала Элэйс, словно словами можно было отвратить стрелы. Теперь катапульты крестоносцев перебрасывали через стены отрубленные головы, словно засевая город семенами страха и смятения. Крики и вопли становились громче. Тренкавель повел вперед своих людей. Он же одним из первых и пролил кровь, пронзив мечом горло крестоносца и сапогом спихнув с клинка тело. Гильом не отставал от него, направляя своего боевого коня в гущу крестоносцев, сшибая наземь каждого, кто вставал у него на пути. Элэйс разглядела в схватке Альзо де Приксена и с ужасом увидела, как поскользнулся и упал его конь. Гильом в тот же миг развернул лошадь к нему. Подняв на дыбы своего могучего скакуна, он прикрыл друга от навалившихся крестоносцев, давая ему подняться на ноги и выбраться из боя. Но их слишком превосходили числом. И на пути у них оказалась орда обезумевших, изувеченных детей и женщин, искавших спасения в городе. Крестоносцы неумолимо наступали. Улица за улицей оставались в руках французов. И наконец Элэйс услышала крик: — Repli! Repli![280] Назад! Под покровом темноты горстка защитников пробралась в разоренный пригород. Они перебили оставленных на страже крестоносцев и подожгли оставшиеся дома, чтобы по крайней мере лишить крестоносцев укрытия, из которого те могли бы беспрепятственно обстреливать город. Но правда была горька. Сен-Микель пал, как и Сен-Венсен. Осталась лишь Каркассона.
ГЛАВА 58
Виконт Тренкавель пожелал, чтобы в Большом зале были накрыты столы. Сам он вместе с дамой Агнесс расхаживал между ними, благодаря своих людей за службу, уже исполненную, и ту, что еще предстояла. Пеллетье чувствовал, что заболевает. Зал наполнили запахи горящего воска, пота, остывшей еды и подогретого пива. Он не знал, долго ли еще сумеет продержаться. Все чаще и сильнее накатывала боль в животе. Пеллетье попытался выпрямиться, однако ноги неожиданно подогнулись. Вцепившись, как в подпорку, в край стола, он упал лицом вперед, разбросав тарелки, чаши и кости. В живот словно вгрызался дикий зверь. Виконт Тренкавель обернулся к нему. Кто-то вскрикнул, слуги бросились ему на помощь, и кто-то позвал Элэйс. Он чувствовал поддерживавшие и направлявшие его к двери руки. Выплыло из тумана и снова растаяло лицо Франсуа. Показалось, будто он слышит ее голос: Элэйс что-то говорила, приказывала, но как будто бы издалека и на незнакомом, непонятном языке. — Элэйс, — позвал он, протянув руку в темноту. — Я здесь. Мы отнесем тебя в постель. Сильные руки подняли его, ночной воздух во дворе охладил лицо, потом его подняли по лестнице. Они двигались слишком медленно. Каждый приступ боли, скручивавший внутренности, был сильнее предыдущего. Он чувствовал, как расходится по телу зараза, отравлявшая кровь и дыхание. — Элэйс, — прошептал Пеллетье, теперь уже с испугом.Едва оказавшись в отцовских покоях, Элэйс послала Риксенду найти Франсуа и принести из ее комнаты нужные лекарства. Еще двух слуг отрядила на кухню за драгоценной водой. Отца уложили на кровать. Она стянула с него испачканную верхнюю одежду и сложила в стороне, чтобы ее сожгли. Зараза, казалось, сочилась у него из всех пор. Приступы поноса становились чаще и тяжелее, вынося теперь из внутренностей большей частью кровь и гной. Элэйс приказала жечь в очаге цветы и травы, чтобы забить дурной запах, но целые горы лаванды и розмарина не могли скрыть правды. Рнксенда проворно принесла все нужное и помогла Элэйс смешать толченые ягоды красного терна с горячей водой, чтобы получилась жидкая мазь. Стянув всю грязную одежду и прикрыв отца новой тонкой простыней, Элэйс из ложки влила лекарство в бледные губы больного. Первую ложку он проглотил — и его сразу стошнило. Она попробовала снова. На этот раз он сумел проглотить и удержать лекарство в себе, хотя все его тело сотрясали судороги. Время перестало существовать, не двигалось ни быстро, ни медленно. Элэйс делала все, чтобы замедлить развитие болезни. В полночь в покои зашел виконт Тренкавель. — Как он, Элэйс? — Он очень болен, мессире. — Тебе что-нибудь нужно? Врачи, лекарства? — Еще немного воды, если можно! И я довольно давно послала Риксенду за Франсуа, но он так и не вернулся. — Все будет сделано. — Тренкавель через ее плечо заглянул на кровать. — Отчего он так быстро поддался? — Трудно судить, отчего эта болезнь сражает одного и обходит другого, мессире. Здоровье отца было подорвано трудностями похода в Святую землю. Он особенно подвержен брюшным расстройствам. — Она помолчала. — Даст Бог, это не пойдет дальше. — Нет сомнений, что это «болезнь осажденных»? — угрюмо спросил виконт. Элэйс покачала головой. — Это грустно. Пошлите за мной, если будут какие-нибудь перемены. Час от часу отец ее все слабее цеплялся за жизнь. Случались минуты просветления, когда он, кажется, понимал, что с ним происходит. Но большей частью он не сознавал, где он и кто он. Ближе к рассвету дыхание больного стало прерывистым. Задремавшая над ним Элэйс услышала перемену и мгновенно встрепенулась. — Filha… Она пощупала его лоб, руки и поняла, что осталось недолго. Горячка покинула тело, оставив предсмертный холод. «Душа его рвется на свободу». — Помоги… — выговорил он, — …сесть. С помощью Риксенды Элэйс сумела приподнять отца. Болезнь за одну ночь превратила его в старика. — Не разговаривай, — прошептала она. — Не трать силы. — Элэйс, — мягко упрекнул он, — ты ведь знаешь, мое время пришло. В груди у него что-то плескалось, клокотало при каждом вздохе, глаза провалились, на руках и на шее проступили коричневатые пятна. — Ты пошлешь за Совершенным? — Он сумел разлепить пожелтевшие веки — Я хочу умереть по-хорошему. — Тебе нужно утешение, paire? — осторожно спросила Элэйс. Он растянул губы в бледной улыбке, на одно мгновение снова став прежним Пеллетье. — Я внимательно слушал слова добрых христиан. Я отлично знаком и с melhorament[281] и с consolament… — Голос у него сорвался. — Я родился христианином и хочу умереть им, но не в грязных объятиях тех, кто во имя Божие принес войну к нашим дверям. Милостью Господа, если я прожил не слишком дурную жизнь, я буду принят на Небесах с другими славными душами. Его прервал приступ кашля. Элэйс в отчаянии обежала глазами комнату. Отослала слугу предупредить виконта, что отцу стало хуже, и, едва тот вышел, обратилась к Риксенде: — Надо найти Совершенного. Раньше я видела их во дворе. Скажи, здесь человек нуждается в утешении. Риксенда с ужасом уставилась на нее. — Тебя не в чем будет обвинить — ты просто посыльная, — попыталась утешить девушку Элэйс. — И тебе не обязательно возвращаться с ними. Отец шевельнулся, и она снова повернулась к ложу. — Скорей, Риксенда. Поспеши! Элэйс склонилась над отцом. — Что, paire? Я здесь, с тобой. Он пытался заговорить, но слова застревали в горле. Элэйс влила ему в рот немного вина и вытерла платком растрескавшиеся губы. — Грааль — это слово Господа, Элэйс. Ариф объяснял мне, но я тогда не понял. — Голос его дрожал. — Но без мерель… без истинного лабиринта… Это ложный путь. — Что — мерель? — настойчиво прошептала она, не понимая. — Ты была права, Элэйс. Зря я упрямился. Надо было отпустить тебя, пока было время. Она пыталась найти смысл в его словах. Или он бредит? — Какой путь, отец? — Я его не увидел, — бормотал он. — Теперь уж не увижу. Пещера… ее мало кто видел. Элэйс развернулась к двери: «Где же Риксенда!» В коридоре послышались торопливые шаги. Вбежала Риксенда, за ней двое Совершенных. Старшего Элэйс узнала: этого смуглого мужчину с жесткой бородой и мягким взглядом она встречала в доме Эсклармонды. Оба были в темно синих одеяниях, перепоясанных веревочными поясами с пряжками в виде рыбы. Мужчина поклонился ей: — Госпожа Элэйс! — И сразу перевел взгляд на кровать. — Это твоему отцу, кастеляну Пеллетье, нужно утешение? Она кивнула. — Он может говорить? — Найдет силы. За дверью вновь послышался шум, и на пороге появился виконт Тренкавель. Элэйс встревоженно обернулась к нему. — Мессире… он просил позвать Совершенного… Отец хочет умереть достойно, мессире. В его глазах мелькнуло удивление, однако виконт приказал закрыть дверь. — Все равно, — сказал он. — Я останусь с ним. Элэйс пристально взглянула на него и вернулась к отцу. Совершающий службу катар обратился к ней: — Кастелян Пеллетье сильно страдает, но разум его ясен и мужество не покинуло его. Элэйс кивнула. — Он ничего не делал во вред нашей церкви и не в долгу перед нами? — Он всегда защищал всех друзей Господа. Элэйс с Раймоном Роже отступили назад, давая Совершенному приблизиться к ложу и склониться над умирающим. Глаза Бертрана заблестели, когда он прошептал слова благословения. — Клянешься ли ты следовать путем истины и справедливости, предать себя Господу и церкви Bons Chrétiens? Пеллетье с трудом вытолкнул одно слово: — Клянусь. Совершенный возложил ему на голову пергаментный свиток Нового Завета. — Да благословит тебя Господь, сделав добрым христианином и приведя к доброму концу. И он прочитал «Benedicté» и трижды — «Adoremus». Простота службы растрогала Элэйс. Виконт Тренкавель смотрел прямо перед собой. Казалось, он огромным усилием воли сдерживает себя. — Бертран Пеллетье, готов ли ты принять дар Господней молитвы? — Да, — выдохнул отец. Твердым, чистым голосом Совершенный семь раз повторил над ним «Pater Noster»,[282] останавливаясь, только чтобы дать Пеллетье произнести «amen». — Молитву эту принес в мир Иисус Христос и научил ей добрых людей. Никогда больше не ешь и не пей, не повторив прежде этой молитвы, если же нарушишь этот долг, должен будешь вновь принести покаяние. Пеллетье уже не мог даже кивнуть. При каждом вздохе в груди у него словно свистел осенний ветер. Совершенный стал читать из Евангелия от Иоанна. — «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Тот, кто был Словом, был с Богом с самого начала…» Когда он дошел до слов: «И вы узнаете истину, и истина сделает вас свободными», рука Пеллетье вдруг дернулась на покрывале. Глаза широко раскрылись. — Vertat, — прошептал он. — Да, истина. Элэйс испуганно схватила его за руку, но отец уходил. Она слышала, что катар говорит все быстрее, боясь, что не успеет закончить обряд. — Он должен произнести последние слова, — предостерег он Элэйс. — Помогите ему. — Paire, ты должен… — Горе лишило ее голоса. — За всякий грех… мной совершенный… словом или делом… — прохрипел он, — я… я прошу прощения перед Богом и Церковью… и всеми присутствующими здесь. Не скрывая облегчения, Совершенный возложил ладони на голову Пеллетье и поцеловал его в лоб. У Элэйс перехватило дыхание. Лицо отца преобразилось под благодатью утешения, выражая невиданное облегчение. Это был миг постижения тайны и просветления. Душа его была теперь готова покинуть страдающее тело и державшую его землю. — Дух его подготовлен, — проговорил Совершенный. Элэйс кивнула и подсела к отцу, держа его за руку. Виконт Тренкавель взял вторую. Пеллетье лежал недвижим, но, видимо, почувствовал их присутствие. — Мессире? — Я здесь, Бертран. — Каркассона не должна пасть. — Даю тебе слово, честью, любовью и долгом, связывавшими нас много лет, я сделаю все, что в моих силах. Пеллетье попытался поднять руку с покрывала: — Служить тебе было честью для меня. Элэйс видела, что глаза виконта полны слез. — Это я должен благодарить тебя, старый мой друг. Пеллетье чуть приподнял голову: — Элэйс? — Я здесь, отец, — поспешно отозвалась она. Все краски уже покинули его лицо, кожа под глазами отвисла серыми складками. — Ни у кого никогда не бывало такой дочери. Он, кажется, вздохнул, и душа покинула его тело. Тишина. Мгновение Элэйс не двигалась и не дышала. Потом горе, копившееся в груди, переполнило ее, выплеснулось наружу, и она разрыдалась.
ГЛАВА 59
В дверях появился солдат: — Виконт Тренкавель? Тот обернулся: — Что там? — Поймали вора, мессире. Крал воду на площади. Виконт знаком показал, что идет. — Госпожа, я должен тебя покинуть. Элэйс кивнула. У нее уже не осталось слез. — Я позабочусь, чтобы его похоронили с почестями, подобающими его положению. Он был доблестным воином, мудрым советчиком и верным другом. — Его вера не требует этого, мессире. Плоть — ничто. Дух его уже удалился. Он бы хотел, чтобы ты думал только о живых. — Тогда считай, что я делаю это ради себя, желая оказать ему последние почести, достойные любви и уважения, которые я испытывал к твоему отцу. Я прикажу перенести тело в капеллу Святой Марии. — Он счел бы честью для себя такое выражение твоей любви, мессире. — Не прислать ли кого-нибудь посидеть с тобой? Без твоего супруга я обойтись не могу, но сестру? Или женщин, чтобы помочь обрядить покойного? Элэйс вскинула голову, только сейчас вспомнив, что ни разу не подумала о сестре. Забыла даже известить ее о болезни отца… — Я сама схожу за сестрой, мессире. Она поклонилась, провожая его, и отошла от двери. Не было сил оставить отца. Она сама начала обряжать тело. Приказала перестелить постель, унести и сжечь зараженное белье. Потом, с помощью Риксенды, приготовила свивальники и погребальное миро. Сама обмыла тело и расчесала волосы, чтобы и в смерти он выглядел достойно, как при жизни. Постояла еще немного, глядя в опустевшее лицо. «Больше тянуть нельзя». — Передай виконту, что тело готово и его можно перенести в капеллу, — попросила она Риксенду. — А я скажу сестре. На полу перед дверью Орианы спала Жиранда. Элэйс перешагнула ее и открыла дверь. Сегодня она была не заперта. Ориана одна спала на ложе за откинутым занавесом. Ее черные кудри рассыпались по подушке, а кожа в бледном рассветном полумраке казалась молочно-белой. Элэйс не понимала, как она может спать. — Сестра! Ориана мгновенно открыла зеленые кошачьи глаза. На ее лице тревога сменилась удивлением, а удивление — обычным пренебрежением. — Я принесла дурную весть, — сказала Элэйс. Голос был мертвым, холодным. — Нельзя ли с ней подождать? Еще не звонили примы! — Нельзя. Наш отец… «Могут ли такие слова быть правдой?» Элэйс глубоко вздохнула, собираясь с силами. — Наш отец умер. — Как? Как он умер? — И тебе больше нечего сказать? — поразилась Элэйс. Ориана вылетела из постели: — Говори, от чего он умер? — От болезни. Все случилось быстро. — И ты была с ним до конца? Элэйс кивнула. — А меня позвать не догадалась? — злобно спросила Ориана. — Прости, — прошептала Элэйс. — Все было так быстро. Я понимаю, что надо было… — Кто еще был с ним? — Тренкавель, наш господин, и… Ориана не упустила ее заминки. — Но отец покаялся в грехах и принял последнеепричастие? — резко спросила она. — Церковь приняла его? — Отец не остался без духовного утешения, — проговорила Элэйс, тщательно выбирая слова. — Он примирился с Богом? «Она догадывается». — Разве в этом дело? — воскликнула она, почти испуганная деловитым безразличием сестры. — Наш отец мертв, Ориана. Неужто это ничего не значит для тебя? — Ты не исполнила свой долг, сестрица. — Ориана ткнула ей в грудь пальцем. — И у меня, как старшей, было больше прав быть с ним. Я должна была там быть. И если, мало того, я узнаю, что ты позволила еретикам лапать умирающего, я позабочусь, чтобы ты о том пожалела! — И тебе не горько, не жаль его? Элэйс прочла ответ на лице сестры. — Я жалею его не больше, чем уличного пса. Он не любил меня. Я уже много лет не позволяла себе чувствовать боль от его равнодушия. Так с чего бы мне горевать? — Она шагнула к сестре. — Это тебя он любил. В тебе он видел себя. — На ее лице возникла мерзкая улыбка. — Тебе он доверял. Делился с тобой самыми потаенными секретами. Эти слова пробились сквозь горестное оцепенение, охватившее Элэйс, и краска бросилась ей в лицо. — О чем ты говоришь? — пролепетала она, с ужасом предугадывая ответ. — Ты превосходно знаешь, о чем я говорю, — прошипела ей в лицо сестра. — Или ты решила, что я не ведаю о ваших полуночных беседах? — Ориана шагнула еще ближе. — В твоей жизни кое-что изменится, сестрица, теперь, когда некому тебя защищать. Слишком долго все выходило по-твоему. — Пальцы Орианы жестко стиснули запястье сестры. — Говори. Где третья книга? — Я не понимаю, о чем ты? Ориана дала ей пощечину. — Где? — шипела она. — Я знаю, она у тебя! — Отпусти! — Не шути со мной, сестра. Он должен был отдать ее тебе. Кому еще мог он довериться? Говори, где? Все равно я ее получу! По спине Элэйс пробежали ледяные мурашки. — Не смей. Кто-нибудь войдет. — Кто же? — усмехнулась сестра. — Забыла, что отец тебя уже не защитит? — Гильом. Ориана расхохоталась: — Ах да, я забыла, что ты помирилась с муженьком! А хочешь знать, что он на самом деле о тебе думает? — продолжала она. — Хочешь? Дверь распахнулась, ударившись в стену. — Хватит! — заорал Гильом. Ориана мгновенно выпустила руку Элэйс. Гильом в три шага пересек комнату и прижал жену к груди. — Mon cor, я пришел тотчас же, как узнал о его смерти. Мне так жаль. — Как трогательно! — с издевкой оборвала его Ориана. — А спроси-ка его, чего ради он вернулся на супружеское ложе! — Она с презрением выплевывала слова, не сводя глаз с побледневшего лица Гильома. — Или боишься услышать ответ? Спроси его, Элэйс! Не любовь и не страсть. Он помирился с тобой из-за книги, только и всего. — Предупреждаю, придержи язык! — А почему? Ты боишься того, что я могла бы сказать? «Нет. Только не это». — Не ты ему нужна, Элэйс. Он ищет книгу. Вот что привело его в твою спальню. Или ты в самом деле ослепла? Элэйс отступила от мужа. — Она говорит правду? Он развернулся к ней. В глазах его горело отчаяние. — Она лжет, клянусь жизнью. Мне нет дела до книги! Я ей ничего не сказал. Разве я мог? — Пока ты спала, он обыскивал твои вещи. Он не сможет этого отрицать. — Нет! — выкрикнул Гильом. Элэйс взглянула на него. — Но ты знал, что есть такая книга? Мелькнувшая у него в глазах тревога ответила за него. Этого ответа она боялась. Он заговорил надтреснутым голосом: — Она хотела заставить меня ей помогать, Элэйс, но я отказался. Отказался! — Что же дало ей такую власть над тобой, чтобы требовать помощи? — тихо, почти шепотом спросила она. Гильом потянулся к ней, но Элэйс отступила. «Даже сейчас я бы хотела, чтобы он все отрицал». Гильом уронил руки. — Один раз, да, я… Прости меня. Немного запоздалое раскаяние. Элэйс будто не слышала Ориану. — Ты ее любишь? Гильом замотал головой. — Ты понимаешь, что она делает? Старается обратить тебя против меня, Элэйс! Элэйс молчала. Он еще может думать, что она снова поверит ему?! Он с мольбой протянул к ней руки: — Прошу тебя, Элэйс. Я люблю тебя. — Ну, довольно, — заговорила Ориана, встав между ними. — Где книга? — У меня ее нет. — А у кого есть? — с угрозой настаивала Ориана. Элэйс встретила ее взгляд. — Зачем она тебе? Что в ней такого, чем она так важна для тебя? — Лучше скажи, — процедила Ориана. — Тогда здесь все и кончится. — А если не скажу? — Недолго и заболеть, — протянула сестра. — Ты ведь ухаживала за отцом. Может, в тебе уже затаилась зараза. — Она обернулась к Гильому. — Ты меня понимаешь? Если ты пойдешь против меня… — Я не дам тебе причинить ей вред! Ориана смеялась. — Ты не в том положении, чтобы мне угрожать. У меня довольно доказательств твоей измены, чтобы тебя повесили. — Доказательства, изготовленные тобой же! — выкрикнул он. — Виконт не поверит тебе. — Ты меня недооцениваешь, Гильом, если надеешься, что я оставила место сомнениям. — Она снова повернулась к Элэйс. — Говори, где спрятана книга, или я иду к виконту. Элэйс с трудом сглотнула. Что же натворил Гильом? Она не знала, что и думать. И как ни сердилась на мужа, не могла заставить себя отречься от него. — У Франсуа, — сказала она. — Отец отдал книгу Франсуа. По лицу Орианы пробежало смятение — и мгновенно исчезло. — Прекрасно. Но предупреждаю тебя, сестрица: ты пожалеешь, если солгала мне. Она развернулась и направилась к двери. — Куда ты? — Отдать последний долг отцу, куда же еще? Однако прежде хочу убедиться, что ты надежно заперта в своей спальне. Элэйс подняла голову и твердо встретила взгляд сестры. — В этом нет необходимости. — О, есть! Если Франсуа не сможет мне помочь, мне захочется еще раз переговорить с тобой. Гильом пытался перехватить ее: — Она лжет. Я не сделал ничего дурного. — Меня больше не касается, что ты делал и чего не делал, — отозвалась Элэйс. — Ты понимал, что делаешь, когда ложился с ней. А теперь оставь меня в покое. Высоко подняв голову, Элэйс вышла за дверь. За ней последовали Ориана с Жирандой. — Я скоро вернусь. Только побеседую с Франсуа. Дверь спальни захлопнулась за ней. Мгновением позже Элэйс услышала, как в замке повернулся ключ. Что-то гневно выкрикнул Гильом. Она заткнула уши, чтобы не слышать их голосов. Она старалась отогнать отравленные видения, вызванные в мозгу ревностью. Невозможно было представить Гильома в объятиях Орианы, непереносима мысль, что он нашептывал ей те нежные слова, которые она хранила в сердце, как драгоценные жемчужины. Элэйс прижала к груди дрожащую ладонь. Сердце, обманутое и обиженное, колотилось о ребра. Она перевела дыхание. «Не думай о себе». Она открыла глаза, уронила руки, беспомощно стиснутые в кулачки. Не может она позволить себе быть слабой. Иначе Ориана отберет у нее все, чем она дорожила. Еще будет время сожалеть и упрекать. Но сейчас важнее разбитого сердца данное отцу обещание: сберечь книгу. Гильома, как бы это ни было трудно, надо выбросить из головы. Стоило Ориане приказать, и она позволила запереть себя в комнате! Третья книга… Ориана спрашивала, где спрятана третья книга. Элэйс бросилась к креслу, на спинке которого так и висел плащ, схватила его и похлопала рукой по кайме, где была зашита книга. Книги там не было. Элэйс в отчаянии опустилась в кресло. Скоро она узнает, что про Франсуа Элэйс ей солгала, и вернется. «А что с Эсклармондой?» За дверью больше не слышалось криков Гильома. «Ушел с ней?» Она не знала, что думать. И не хотела знать. Предал раз — предаст снова. Придется запереть свои раненые чувства в кровоточащем сердце. Элэйс вспорола лавандовую подушечку, выдернула пергамент с копией страницы из «Книги Чисел», окинула напоследок взглядом комнату, которую прежде считала своим домом. Она понимала, что больше не вернется сюда. Потом она подбежала к окну, выходившему на карниз крыши. Сердце едва не выскакивало из груди. Надо было бежать, пока не вернулась Ориана.Ориана ничего не чувствовала. Она стояла в ногах погребальных носилок, глядя в лицо отца, освещенное колеблющимся светом свечей. Отослав служителей, Ориана наклонилась, словно хотела поцеловать отца в лоб. Накрыв его руку своей, стянула с большого пальца кольцо, почти не веря, что сестра оказалась так глупа, чтобы оставить его на руке мертвого. Выпрямляясь, Ориана опустила кольцо в карман. Затем поправила на покойном покрывало, преклонила колена перед алтарем, перекрестилась и вышла, чтобы найти Франсуа.
ГЛАВА 60
Элэйс со скамейки вскарабкалась на подоконник. Голова у нее заранее кружилась. «Непременно упадешь!» Если и так, что ж теперь? Отец умер, Гильом для нее больше не существует… Оказалось, отец в конечном счете был прав, когда не верил ее мужу. «Что мне еще терять?» Глубоко вздохнув, Элэйс спустила ногу с подоконника, дотянулась носком до черепицы карниза. Пробормотала короткую молитву и отпустила руки. Ноги заскользили, и она растянулась во всю длину, судорожно ища опоры. Трещину между плитками, выбоину в стене — все, что угодно, лишь бы остановиться. Ей уже казалось, что падение длится вечно, когда резкий рывок остановил ее. Подол юбки зацепился за гвоздь — и не порвался. Элэйс замерла, не смея шевельнуться. Ей слышалось тихое потрескивание ниток. Ткань добротная, но ведь натянулась, как кожа на барабане, и неизвестно, сколько продержится. Она взглянула вверх. Даже если бы удалось дотянуться до гвоздя, нужны обе руки, чтобы распутать намотавшийся на железный стержень подол. Отпустить руки было страшно. Остается одно — ползти вдоль крыши к западной галерее Шато Комталь. Крыша примыкала к самой стене, и Элэйс надеялась, что сумеет протиснуться между деревянными брусьями галереи. Щели в укреплениях узкие, но ведь и она не толстая. Попробовать стоило. Осторожно, стараясь не делать резких движений, Элэйс подтянулась наверх и стала дергать подол, пока он не затрещал. Она потянула в одну сторону, потом в другую и, оставив на гвозде порядочный клок юбки, высвободилась. Не поднимаясь с колен, она выдвинула вперед одну ногу, потом другую. Капли пота собирались на висках и скатывались за пазуху, туда, где лежал свернутый пергамент. Кожу на коленях она сразу ободрала о края черепицы. И все же мало-помалу галерея приближалась. Вытянув руку, Элэйс достала выступающую балку и перевела дух, ощутив под пальцами надежную опору. Потом подтянула колени и застыла на корточках, заклинившись в углу между стеной и деревянной надстройкой. Щель оказалась еще уже, чем ей представлялось: не больше трех мужских ладоней в ширину. Элэйс распрямила правую ногу, прочно зацепилась левой и протиснулась в дыру. Мешочек с пергаментным свертком повис на шнурке, болтаясь между ногами, но она извернулась и ловко вынырнула с другой стороны. Забыв о саднящих коленках, Элэйс вскочила и пробежала вдоль парапета. Она не боялась, что часовые выдадут ее Ориане, но лучше поскорее выбраться из Шато и добраться до собора Святого Назария. Заглянув вниз и убедившись, что там никого нет, Элэйс почти соскользнула по деревянному трапу на землю. От сильного удара ноги подогнулись, и она шлепнулась на спину. Остатки воздуха толчком вышибло из груди. Элэйс оглянулась на часовню. Ни Орианы, ни Гильома не видать. Держась у самой стены, она прокралась в конюшню, задержалась на минуту у денника Тату. Отчаянно хотелось пить, еще больше хотелось напоить несчастную лошадь, но та малость воды, которая здесь осталась, предназначалась только для боевых коней. Улицы были полны беженцами. Элэйс прикрывала рот рукавом, защищаясь от запаха страдания и болезни, туманом висевшего над улицами. Раненые мужчины и женщины, бездомные, баюкавшие на руках младенцев, провожали ее тупыми безнадежными взглядами. На площади перед собором Святого Назария собралась толпа. Оглянувшись через плечо и убедившись, что за ней не следят, Элэйс приоткрыла дверь и вошла. В нефе спали и просто лежали люди, но им уже ни до кого не было дела. На главном алтаре горели свечи. Элэйс свернула в северный трансепт и оказалась в боковой часовне с простым алтарем. Сюда приводил ее отец. Мыши прыснули по углам, шурша и царапая пол, Элэйс просунула руку за алтарь, как показывал ей Пеллетье, постучала пальцами по стене. Потревоженный паук защекотал ладонь и скользнул прочь. Раздался тихий щелчок. Медленно, осторожно Элэйс сдвинула в сторону каменную плитку и просунула пальцы в пыльную нишу. Извлекла длинный тонкий ключ и вставила его в скважину деревянной дверки у самого пола. Скрипнули петли, и дверца медленно отошла. Казалось, отец стоит рядом с ней. Элэйс закусила губу, чтобы не расплакаться. «Это все, что ты теперь можешь сделать для него». Она вытащила наружу ящичек, который уже видела у него в руках. Не больше шкатулки для драгоценностей, но без украшений, с простой защелкой. Элэйс откинула крышку. Внутри лежал мешочек из овчины — тот самый, что показывал ей отец. Она перевела дыхание, только теперь осознав, как боялась, что Ориана сумела опередить ее. Нельзя было терять время. Элэйс проворно сунула книгу за пазуху, а остальное вернула на место, оставив в точности как было. Если этот тайник известен Ориане или Гильому, они могут потерять время, считая, что шкатулка нетронута. Она пробежала через церковь, прикрыв лицо капюшоном. Снова открыла тяжелую дверь и растворилась в толпе несчастных, бессмысленно толпившихся на площади. Болезнь, убившая ее отца, быстро распространялась. Переулки полны были разлагающихся гниющих туш — овечьих, козьих, даже коровьих. Раздувшиеся тела испускали отравленное зловоние. Элэйс заметила, что не задумываясь выбрала дорогу к дому Эсклармонды. Она не надеялась найти ее там — за последние дни не раз проверяла, не вернулась ли подруга, — но больше идти было некуда. Большая часть домов южного квартала стояли заколоченными так же, как и дом Эсклармонды. Все же Элэйс постучала в дверь и окликнула: — Эсклармонда? Постучала снова, подергала дверь: — Сажье? Она услышала шорох, топот бегущих ног, звякнул отодвинутый засов. — Госпожа Элэйс? — Сажье, слава Богу! Скорей, впусти меня! Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы пропустить ее. — Где же ты была, госпожа? Элэйс крепко обняла мальчика. — Что случилось? Где Эсклармонда? Маленькая ладошка Сажье скользнула в руку Элэйс. — Пойдем… Он провел ее в отгороженную занавеской половину дома. В полу чернел открытый люк. — Ты все это время был там? — Элэйс заглянула в темный проем и увидела горящую под лестницей масляную лампу. — В погребе? Значит, моя сестра вернулась и… — Это не она, — сказал он дрожащим голосом — скорее, госпожа. Элэйс спустилась первой. Сажье захлопнул за собой крышку люка и спрыгнул на пол погреба. — Сюда. По темному сырому проходу он вывел ее в маленькую клетушку и поднял светильник над головой. Здесь Элэйс увидела Эсклармонду, неподвижно лежащую на груде тряпок и шкур. — Нет! — вырвалось у нее. Элэйс бросилась к подруге. Голова ее была обмотана бинтами. Элэйс приподняла краешек и ахнула. Левый глаз был залит кровью. Его прикрывала чистая припарка, но под кожей разбитой глазницы угадывались размозженные кости. — Ты ей поможешь? — спросил Сажье. Элэйс приподняла одеяло. Желудок свела судорога. Поперек груди тянулась багровая полоса свежих ожогов. Местами кожа совсем обуглилась. — Эсклармонда, — прошептала она, склонившись над подругой. — Ты меня слышишь? Это я, Элэйс. Кто это сделал? Ей почудилось слабое движение в лице Эсклармонды. Чуть шевельнулись губы, Элэйс повернулась к Сажье. — Как ты сумел перенести ее сюда? — Гастон с братом помогли. Элэйс снова обернулась к искалеченному телу на постели. — Как это случилось, Сажье? Мальчик помотал головой. — Она тебе не сказала? — Она… — Впервые он не совладал с собой. — Она не может говорить… язык… Элэйс побелела. — Не может быть, — в ужасе прошептала она, потом громче добавила: — Тогда расскажи, что знаешь ты. Ради Эсклармонды, им обоим приходилось быть сильными. — Когда мы узнали, что Безьер пал, menina забеспокоилась, как бы Пеллетье не передумал отпустить тебя к Арифу. — И была права, — угрюмо вставила Элэйс. — Menina знала, что ты будешь его уговаривать, но решила, что кастелян Пеллетье послушает одного только Симеона. Я не хотел ее отпускать, — всхлипнул мальчик, — но она все равно ушла. В еврейский квартал. Я пошел за ней, но приходилось прятаться, чтоб она не заметила, и в лесу я отстал. Потерял ее из виду. Ждал до заката, а потом как представил, что она скажет, если вернется, а меня нет… ну, я и пошел домой. Вот тогда и… Голос у него сорвался, а янтарные глаза ярко блеснули на побледневшем личике. — Я ее сразу узнал. Лежала без чувств у ворот. Ноги в крови, как будто долго шла. — Сажье поднял голову. — Я хотел тебя позвать, госпожа, да не посмел. Гастон помог ее сюда перенести. Я старался вспомнить, что бы она сделала, какие мази прикладывала… — Он шевельнул плечом. — Делал, что мог. — Ты все сделал как надо! — горячо заверила его Элэйс. — Эсклармонда может гордиться тобой! Услышав шорох на постели, оба разом повернулись туда. — Эсклармонда, — заговорила Элэйс, — ты слышишь? Мы оба здесь. Тебе ничего не грозит. Она хочет что-то сказать. Элэйс перевела взгляд на ее руки. Пальцы сжимались и разжимались. — Кажется, просит пергамент и чернила. Сажье поддерживал руку бабушки, пока та писала. — По-моему, «Франсуа», — предположила Элэйс, разбирая дрожащие буквы. — Что бы это значило? — Не знаю. Может, он мог бы помочь? Слушай, Сажье, — сказала Элэйс. — У меня плохие новости. Симеон почти наверняка погиб. И мой отец… он тоже умер. Сажье взял ее за руку. Движение было таким ласковым, что на глазах у Элэйс выступили слезы. — Мне очень жаль… Элэйс прикусила губу, чтобы не расплакаться. — Ради него — и ради Симеона и Эсклармонды — я должна сдержать слово, добраться до Арифа… — Она с трудом заставила себя договорить. — Жаль, но у меня только «Книга Слов». Книга Симеона пропала. — Но ведь твой отец ее тебе отдал? — Ее унесла моя сестра. Мой муж впустил ее в нашу спальню. Он… он отдал сердце моей сестре. Ему больше нельзя доверять, Сажье. Так что мне нельзя возвращаться в замок. Теперь, когда отец умер, никто их не остановит. Сажье посмотрел на бабушку и перевел взгляд на Элэйс. — Она выживет? — спросил он. — Она тяжело ранена, Сажье. Левый глаз она потеряет, но… если не будет заражения… Она сильна духом, Сажье. Выздоровеет, если решит, что так надо. Он кивнул и вдруг показался гораздо старше своих одиннадцати лет. — Только, если ты разрешишь, я хотела бы взять на хранение и ее книгу, Сажье. Минуту ей казалось, что мальчику не удастся сдержать слез. Наконец он заговорил: — Эта книга тоже пропала. — Нет! — вскрикнула Элэйс. — Как же так? — Те люди… они забрали у нее… — сказал он. — Menina, когда пошла к Симеону, взяла книгу из тайника. Я видел. — Только одна осталась… — Элэйс сама чуть не плакала. — Значит, мы проиграли. Все было напрасно.Следующие затем пять дней они вели странное существование. Под покровом темноты Элэйс и Сажье по очереди выбирались на улицу. Сразу стало ясно, что выбраться из Каркассоны незамеченными невозможно. Кольцо осады плотно охватило город. У каждого выхода, у ворот, у башен стояли часовые — непроницаемое кольцо людей и стали. День и ночь продолжался обстрел города, так что его жители уже не знали, слышат ли они грохот осадных машин или только эхо его, отдающееся у них в ушах. Элэйс и Сажье с облегчением возвращались в сырое прохладное подземелье, где время остановилось и не было ни дня, ни ночи.
ГЛАВА 61
Гильом стоял под старым вязом посреди Кур д'Онор, где собрались шевалье виконта Тренкавеля. Только что граф Оксерский, подъехав к Нарбоннским воротам, от имени аббата Сито предложил перемирие на время переговоров. Это неожиданное предложение снова оживило природный оптимизм виконта. Это было заметно и по его лицу, и по тону, каким он обращался к домочадцам. Отчасти надежда и вера в победу передались и его окружению. Много споров вызвали причины такой перемены в намерениях аббата. Крестоносцы не слишком продвинулись вперед, но ведь осада длится всего неделю — едва началась. Впрочем, какое значение имели побуждения аббата? Виконт решил, что никакого. Гильом почти не слушал его речь. Он запутался в паутине, которую сам же и сплел, и не видел выхода из нее. Ни слова, ни меч не могли ему помочь. Он жил как на лезвии ножа. Пять дней, как пропала Элэйс. Гильом втайне высылал людей в город на поиски и сам обшарил все уголки Шато, но так и не сумел узнать, где заперла ее Ориана. Он запутался в собственных ошибках, слишком поздно осознав, как тщательно Ориана приготовила ловушку. Стоит ему выйти из повиновения, и он будет объявлен изменником. И тогда Элэйс несдобровать. — Итак, друзья мои, — заключил речь виконт Тренкавель, — кто согласится сопровождать меня? Острый палец Орианы уткнулся в бок Гильому. Он сам не помнил, как выступил вперед. Преклонил колено, положив руку на рукоять меча, и предложил свою службу. Лицо залила краска стыда, когда Раймон Роже благодарно сжал ему плечо. — Мы от всей души благодарим тебя, Гильом. Кто еще? Шестеро шевалье присоединились к Гильому. Ориана проскользнула между ними и склонилась перед виконтом. — Мессире, с твоего позволения… Конгост не видел своей жены в толпе. Теперь он побагровел и суматошно замахал на нее руками, словно отгонял с грядки ворону. — Удались, госпожа! — неуверенно и пронзительно приказал он. — Тебе здесь не место. Ориана даже не оглянулась на него. Тренкавель поднял руку, подзывая ее к себе. — Что ты желаешь сказать, госпожа? — Простите меня, мессире, достойные шевалье, друзья… супруг. С вашего позволения и благословения Господня, я хотела бы предложить свои услуги. Я лишилась отца, а теперь, как видно, и сестры. Трудно перенести такое горе. Однако, если дозволит мой супруг, я хотела бы этим способом выказать мою любовь к тебе, мессире. Я знаю, что мой отец желал бы этого. Конгост готов был провалиться сквозь землю. Гильом не поднимал глаз. Виконт Тренкавель не скрыл удивления. — Со всем почтением, госпожа, это не место для женщины. — Тогда позволь мне стать добровольной заложницей, мессире. Мое присутствие послужит доказательством честности твоих намерений и подтверждением, что Каркассона не нарушит условий переговоров. Поразмыслив, Тренкавель обернулся к Конгосту. — Она твоя жена. Отпустишь ли ты ее? — Все, чего я желаю, это служить тебе, — промямлил эскриван. Тренкавель знаком предложил Ориане подняться. — Сегодня твой покойный отец, Ориана, гордился бы тобой, — сказал он. Ориана взглянула на него из-под темных ресниц. — Я прошу еще позволения взять с собой Франсуа. Он, как и все мы, поражен смертью моего достойного отца и мечтает восполнить его потерю своей службой тебе. Гильом почувствовал, как рвется из горла горький хохот. Невозможно было вообразить, что кто-то поверит этой фальшивой трагедии, — однако поверили все. Даже на лице ее мужа выразилось восхищение. Гильому стало горько. Только он и Конгост знали настоящую цену Ориане. Прочим мутила зрение ее красота и нежный голос. Как и ему не так давно. Гильом с отвращением покосился на Франсуа, бесстрастно замершего чуть поодаль от рыцарей. — Если ты полагаешь, что твое присутствие будет нам полезно, госпожа, — проговорил Тренкавель, — я даю тебе свое позволение. Ориана присела в низком реверансе. — Благодарю тебя, мессире. Тот хлопнул в ладоши: — Седлайте лошадей!Пока они проезжали через выжженную полосу земли к шатру графа Неверского, где были назначены переговоры, Ориана держалась бок о бок с Гильомом. Горожане — те, у кого еще остались силы подняться на стену, — молча следили за парламентерами сверху. Едва они въехали в лагерь, Ориана незаметно уклонилась в сторону и, не слушая грубых окриков солдатни, вслед за Франсуа проскакала через море палаток туда, где развевались на ветру цвета Шартра — зеленый с серебром. — Сюда, госпожа! Франсуа указал на шатер, стоявший чуть в стороне от Других. Солдаты, бдительно следившие за их продвижением, склонили пики, перегораживая путь. Один из них кивнул Франсуа как старому знакомому. — Скажите своему господину, что дама Ориана, дочь покойного кастеляна Каркассоны, здесь и желает встречи с владетелем Эвре. Ориана страшно рисковала, явившись сюда. Со слов Франсуа она знала о жестокости и вспыльчивости владетеля. Но и ставка была высока. — По какому делу? — осведомился солдат. — Моя госпожа скажет об этом только самому владетелю Эвре. Немного помедлив, часовой скрылся в шатре и почти сразу появился снова, знаком приглашая их войти. Первый взгляд на Гая д'Эвре нисколько не успокоил Ориану. Войдя в шатер, она увидела обращенную к ней спину. Когда же он обернулся, перед ней осколками кремня сверкнули глаза, горящие на бледном лице. Черные волосы, блестевшие маслом, были, как принято у французов, гладко зачесаны назад. Больше всего он напоминал готового нанести удар коршуна. — Госпожа, я много слышал о тебе. — Голос звучал сдержанно и ровно, но в нем слышалась сталь. — Однако никак не ожидал удовольствия встретиться с тобой лично. Чем могу быть полезен? — Я надеялась услышать, чем я могу быть полезна тебе, господин, — отозвалась она. И не успела опомниться, как Эвре сжал ее запястье. — Советую не играть со мной словами, госпожа Ориана. Здесь неуместны манеры ваших южных простолюдинов. Она услышала за спиной испуганный вздох Франсуа. — Ты принесла мне известия или нет? Говори! Ориана сдержалась. — Не слишком приветливо ты меня встречаешь, а ведь я доставила тебе то, чего ты больше всего желал, — проговорила она, встречая его взгляд. Эвре поднял руку. — Проще выбить из тебя все, что тебе известно, нежели терпеть, чтобы меня заставляли ждать. Мы оба напрасно тратим время. Ориана не опустила глаз. — Так ты узнаешь лишь часть того, что я готова сказать, — стараясь говорить так же твердо, произнесла она. — Ты много сил отдал поискам трилогии лабиринта. Я могла бы отдать тебе желаемое. Эвре всмотрелся в ее лицо и опустил руку. — Тебе не откажешь в отваге, госпожа. Посмотрим, что можно сказать о твоем благоразумии. Он щелкнул пальцами, и слуга тотчас поднес вино на подносе. Ориана не решилась взять чашу, опасаясь выдать, как дрожат у нее руки. — Благодарю тебя, но сейчас не время, — отказалась она. — Как пожелаешь. — Он знаком предложил ей сесть. — Так чего ты хочешь, госпожа? — За то, что я отдам тебе то, что ты ищешь, ты, возвращаясь на север, возьмешь меня с собой. — Взглянув в лицо собеседника, Ориана поняла, что наконец сумела его удивить. — Как свою супругу, — закончила она. — У тебя есть супруг… — Эвре через ее голову взглянул на Франсуа, и тот послушно кивнул. — Писец Тренкавеля, как мне помнится. Не так ли? Ориана выдержала его взгляд. — Сожалею, но мой супруг погиб. Зарезан в стенах крепости, исполняя свой долг. — Прими мои соболезнования! — Эвре свел вместе концы гонких длинных пальцев, соорудив из ладоней подобие церковного свода. — Однако осада может продлиться не один год. Что заставляет тебя предположить, что я вернусь на север? — Я полагаю, господин, — заговорила она, тщательно выбирая слова, — что ты находишься тут ради одной цели. Если с моей помощью цель эта будет достигнута, не вижу, что удержит тебя здесь сверх обязательных сорока дней. Эвре натянуто улыбнулся. — Ты не доверяешь дипломатическим способностям виконта Тренкавеля? — Со всем уважением к тем, под чьими знаменами ты выступаешь, господин, не думаю, что аббат удовлетворится мирным окончанием переговоров. Эвре не сводил с нее взгляда. Ориана затаила дыхание. — Ты разбираешься в игре, — наконец признал Эвре. Она поклонилась, не решаясь заговорить. Он встал и подошел к ней, протянув руку в латной перчатке. — Я принимаю твое предложение. Ориана коснулась его руки. — Еще одно, господин… — сказала она. — В свите виконта есть один шевалье, Гильом дю Мас. Он муж моей сестры. Было бы разумно, если это в твоих силах, ослабить его влияние. — Раз и навсегда? Ориана покачала головой. — Он может еще сыграть роль в наших замыслах. Однако ограничить его влияние было бы полезно. Виконт Тренкавель прислушивается к нему и после смерти моего отца… Эвре кивнул и жестом отослал Франсуа. — А теперь, благородная дама Ориана, — заговорил он, оставшись с ней наедине, — довольно намеков. Рассказывай, что ты можешь предложить.
ГЛАВА 62
— Элэйс, Элэйс, проснись! Кто-то тряс ее за плечо. Это было нехорошо. Она сидела на речном берегу, купаясь в тишине и солнечной ряби, на любимой полянке. Прохладные струйки щекотали пальцы ног, мягкий солнечный луч гладил по щеке. На языке еще держался вкус крепкого корбьерского вина, а ноздри щекотал пьянящий аромат свежего хлеба. Рядом с ней спал в траве Гильом. Таким зеленым был мир, таким голубым — небо… Она очнулась и увидела над собой сырой полумрак подземелья. Над ней стоял Сажье. — Проснись же, госпожа? Элэйс села, моргнула спросонья. — Что случилось? Что-нибудь с Эсклармондой? — Виконта Тренкавеля захватили! — Захватили… — бессмысленно повторила она. — Кто? Как? — Говорят — измена. Люди говорят, французы заманили его в свой лагерь и задержали силой. А другие, что он сам отдался им в руки, чтобы спасти город. И еще… Даже в полутьме погреба Элэйс разглядела, как замялся и покраснел Сажье. — Что еще? — Еще говорят: госпожа Ориана и шевалье дю Мас были с виконтом. — Мальчик помолчал. — И тоже не вернулись. Элэйс вскочила, склонилась над спокойно спящей Эсклармондой. — Она отдыхает. Мы ей пока не нужны. Идем, надо все узнать. Они пробежали по тоннелю, вскарабкались по лесенке. Элэйс откинула люк и втянула за собой Сажье. На улице толпился народ, люди бестолково метались туда-сюда, не понимая, что делать. — Ты не знаешь, что случилось? — окликнула Элэйс пробегавшего мимо мужчину. Тот не останавливаясь мотнул головой. Сажье поймал ее за руку и потянул к дому, стоявшему через улицу напротив. — Гастон расскажет. Элэйс послушно вошла за ним. Гастон и его брат Понс поднялись, приветствуя ее. — Здравствуй, госпожа! — Правда, что виконт в плену? — с порога спросила Элэйс. Гастон кивнул. — Вчера утром граф Оксерский предложил виконту встретиться с графом Неверским в присутствии аббата. Виконт взял с собой всего несколько человек, и среди них — твою сестру. Что было потом, никто не знает, госпожа Элэйс. То ли виконт сам им сдался, чтобы купить нам свободу, то ли его заманили в ловушку. — Никто не вернулся, — добавил Понс. — Так или иначе, сражения не будет, — тихо продолжал Гастон. — Гарнизон сложил оружие. Французы уже заняли главные ворота и башни. — Как! — Элэйс недоверчиво переводила взгляд с лица на лицо. — На каких условиях сдались? — Что всем горожанам, будь то катары, католики или евреи, позволено будет выйти из города, без опасения за свою жизнь, но с собой унести только ту одежду, которая на себе. — Но допросов не будет? И костров? — Кажется, нет. Все население изгоняют, но не трогают. Элэйс упала на скамью. Ее не держали ноги. — А дама Агнесс? — Ей и маленькому наследнику предоставят возможность отправиться во владения графа Фуа, при условии, что она отречется от всех прав от своего имени и от имени сына. — Гастон прокашлялся. — Мне очень жаль, что ты потеряла сестру и мужа, госпожа… — Кто-нибудь знает, что сталось с нашими? Понс покачал головой. — Ты думаешь, ловушка? — яростно спросила она. — Откуда нам знать, госпожа. Вот начнется исход, тогда и увидим, как французы держат слово. — Все должны выйти через одни ворота — Порте д'Од в западной стене по сигналу вечернего колокола. — Значит, все кончено, — прошептала Элэйс. — Город сдали. «Пожалуй, к лучшему, что отец не увидел виконта в руках французов». Эсклармонда поправляется с каждым днем, но все еще очень слаба. Если ты еще не исчерпал свою доброту, могу ли я просить тебя проводить ее из города? — Она помолчала. — Я не смею объяснить причины, но и для тебя, и для Эсклармонды будет лучше, чтобы мы вышли порознь. Гастон кивнул. — Ты опасаешься, что те, кто изуродовал ее, захотят закончить дело? Элэйс с изумлением взглянула на него. — И это тоже, — признала она. — Мы будем рады помочь тебе, госпожа. — Он смутился. — Твой отец… он был правильный человек. Она кивнула: — Был…Когда лучи умирающего заката окрасили стены Шато Комталь яростным багрянцем, двор, переходы и покои замка опустели. Всюду стояла тишина. А у ворот Од сбились в кучу испуганные недоумевающие горожане. Каждый старался не потерять из виду любимые лица, не отбиться от своих, и каждый отворачивался от презрительных взглядов французских солдат, обращавшихся с горожанами, как со скотиной. Французы не выпускали мечей из рук, словно ждали только предлога пустить их в ход. Элэйс надеялась, что узнать ее невозможно. Она шаркала ногами, обутыми в слишком большие для нее мужские сапоги, и старалась держаться за спиной шедшего впереди мужчины. Грудь она туго перевязала, чтобы скрыть ее выпуклость и чтобы надежнее скрыть за пазухой книги и пергамент. В штанах, рубахе и неописуемой соломенной шляпе она ничем не отличалась от городских мальчишек. За щеки Элэйс, чтобы изменить лицо, набила камушки, а волосы обрезала и натерла грязью, так что они стали почти черными. Череда людей медленно втягивалась в ворота. Элэйс не поднимала глаз, боясь случайно столкнуться взглядом со знакомым, который мог бы ее выдать. У самых ворот людей выстраивали по одному. Четверо крестоносцев с тупыми, презрительными рожами останавливали каждого и заставляли раздеться, проверяя, не спрятал ли человек на себе чего-нибудь ценного. Элэйс видела, как они остановили носилки с Эсклармондой. Гастон, прижимая ко рту платок, объяснял, что его мать очень больна. Солдат откинул занавеску и резко отшатнулся. Элэйс спрятала улыбку. Не зря они набили свиной пузырь тухлым мясом и намотали ей на ноги грязные окровавленные тряпки. Стражник махнул им рукой: — Убирайтесь! Сажье пропустил вперед несколько семей. Он шел с семейством Коза, в котором было шестеро детей, похожих на него. Он тоже натер волосы грязью, чтобы сделать их темнее. Цвета глаз скрыть было нельзя, но ему строго-настрого наказали не поднимать их, пока возможно. Очередь продвинулась еще на одного. «Мой черед». Они договорились, что Элэйс притворится непонимающей, если при ней заговорят. — Toi! Paysan! Qu'est-ce que tu porte là?[283] Элэйс низко склонила голову, поборола искушение прижать руку к повязке на груди. — Eh, toi![284] В воздухе мелькнуло древко пики, и Элэйс подобралась, но удар предназначался не ей. Он сбил наземь шедшую впереди девочку. Та забарахталась в пыли, прижимая к себе шляпу. — Canhôt. — Что она бормочет? — выругался стражник. — Ничего не понимаю. — Chien. Щенок у нее. Никто не успел опомниться — солдат выхватил собачонку у нее из рук и проткнул пикой. Кровь брызнула девочке на платье. — Allez! Vite![285] Девочка обмерла и не могла шевельнуться. Элэйс подняла ее на ноги и протолкнула сквозь ворота, поборов искушение оглянуться на Сажье. «Вот они». На холме против ворот собрались французские бароны. Не предводители, ожидавшие конца исхода, чтобы въехать с победой в опустевший город, а шевалье, носящие цвета Бургундии, Невера и Шартра. В конце ряда французов, ближе всех к тропе, сидел на сером жеребце высокий худой воин. Южное солнце не тронуло его белой, как молоко, кожи. Рядом с ним Элэйс увидела Франсуа. Чуть дальше мелькнуло знакомое красное платье Орианы. Гильома не было. «Иди, не поднимай глаз». Она была уже так близко, что чувствовала запах кожи от седла и сбруи лошади бледного рыцаря. Ей казалось, что взгляд Орианы прожигает ее насквозь. Старик с полными боли и горя глазами уцепился за ее локоть. Ему нужна была поддержка на крутом склоне. Элэйс подставила ему плечо. Повезло. Теперь каждый принял бы их за деда и внука, и она неузнанной прошла под взглядом Орианы. Казалось, тропе не будет конца. Спустя целую вечность они выбрались к краю болот за холмом. Здесь тянулась лесистая полоска. Элэйс передала старика с рук на руки его сыну и невестке, а сама отделилась от толпы и нырнула за деревья. Спрятавшись от взглядов, Элэйс первым делом выплюнула изо рта камешки, которые натерли ей щеки изнутри. Потерла подбородок, пытаясь избавиться от неприятного ощущения. Сняла шляпу и пальцами расчесала свалявшиеся волосы. На ощупь они были как сырая солома и больно кололи шею. Крики у ворот заставили ее обернуться. «Нет, пожалуйста, только не его!» Один из солдат ухватил за шиворот Сажье. Мальчик отбивался ногами, пытаясь вырваться. Руки у него были чем-то заняты. Маленькая коробочка… Сердце у нее вырывалось из груди. Вернуться было слишком опасно. Элэйс ничем не могла помочь мальчику. Тетушка Коса заспорила было с солдатом, но тот отпустил ей такую затрещину, что женщина растянулась на земле. Сажье воспользовался заминкой, вывернулся из рук солдата и бросился вниз по склону. Элэйс не дышала. Мгновение ей казалось, что все обойдется. Солдат равнодушно отвернулся от мальчишки. Но тут же послышался крик женщины. Ориана указывала на Сажье и громко требовала, чтобы солдаты поймали беглеца. «Она его узнала». Ей нужнее всего Элэйс, но как замена годится и Сажье. На холме возникла суматоха. Два солдата устремились за мальчишкой, но тот был проворнее и не спотыкался на знакомой до камушка земле. Отягощенным оружием взрослым мужчинам не угнаться было за одиннадцатилеткой. Элэйс беззвучно торопила мальчика, через канавы бежавшего к лесу. Поняв, что упускает добычу, Ориана послала в погоню Франсуа. Его конь прогрохотал копытами по тропе, спотыкаясь и оскальзываясь на сухой земле, но быстро сокращая расстояние. Он почти настиг мальчика, когда Сажье метнулся в густые кусты. Элэйс поняла, что Сажье бежит к болотистому берегу Од. Там в реку впадало несколько ручьев, и земля зеленела, как весенняя поляна, но под травой скрывалась смертельная топь. Местные туда не ходили. Она высунулась из-за дерева, чтобы лучше видеть. Франсуа то ли не понял, что задумал Сажье, то ли не решился остановиться. Он пришпорил лошадь. «Догонит…» Сажье споткнулся, но удержался на ногах и помчался дальше, виляя между кустами, уводя преследователя в заросли черничника и чертополоха. Внезапно у Франсуа вырвался сердитый вскрик, который тут же сменился испуганным воплем. Задние ноги лошади увязли в топкой грязи. Животное забилось, но каждый рывок только погружал его глубже в предательскую трясину. Франсуа выскочил из седла, надеясь добраться до твердой земли, но и его тело погружалось все глубже. На мгновенье показались кончики его пальцев — и скрылись. Стало тихо. Кажется, умолкли даже птицы. Трепеща за судьбу Сажье, она шагнула вперед — и тут же увидела мальчика. Лицо его было пепельно-серым, нижняя губа дрожала, но он так и не выпустил из рук деревянного ящичка. — Я завел его в болото, — сказал он. Элэйс взяла его за плечи. — Я видела. Молодец. — Он тоже был предателем? Она кивнула. — Наверно, Эсклармонда об этом и пыталась нас предупредить. Элэйс сжала губы, радуясь, что отец так и не узнал о предательстве своего воспитанника. Она выбросила из головы эту мысль. — А вот ты о чем думал, Сажье? Как тебе пришло в голову выносить какую-то коробочку! Ты едва не погиб из-за нее! — Menina велела мне ее сберечь. Сажье перехватил коробочку так, чтобы с двух сторон сжать ее пальцами. Раздался резкий щелчок, и внизу открылось неглубокое плоское отделение. Мальчик вытащил из него клочок ткани. — Это карта. Menina сказала, она нам понадобится. Элэйс мгновенно поняла. — Она не собиралась идти с нами? — тяжело сказала она, чувствуя, как в глазах копятся слезы. Сажье помотал головой. — Почему она мне не сказала? — У Элэйс дрожал голос. — Она мне не доверяет? — Ты бы ее не отпустила. Элэйс прижалась лбом к дереву. Огромность предстоящего дела ошеломила ее. Без Эсклармонды, где она возьмет силы справиться с тем, что от нее требовалось? Сажье, словно угадав ее мысли, сказал: — Я позабочусь о тебе. И ведь это не так уж долго. Отдадим Арифу «Книгу Слов» и вернемся за ней. Si es atal es atal. Что будет, то будет. — Всем бы нам быть такими мудрыми, как ты… Мальчик вспыхнул. — Вот куда нам надо. — Он указал точку на карте. — Здесь не написано, но menina говорила, деревня называется Лос Серес. «Ну конечно. Не только имя стражей, но и название места…» — Видишь, — продолжал он. — Это в горах Сабарте. Элэйс послушно кивала. — Да-да… Кажется, вижу.
Часть III ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОРЫ
ГЛАВА 63 ГОРЫ САБАРТЕ, пятница, 8 июля 2005
Одрик Бальярд сидел за столом из темного полированного дерева. Дом его стоял в тени горы. Потолок низко нависал над головой, а пол был выложен большими квадратными плитками цвета здешних гор. Одрик не любил перемен. Здесь, вдали от цивилизации, не было ни электричества, ни водопровода, ни машин и телефонов. Только тиканье больших стенных часов отмечало время. На столе стояла керосиновая лампа — сейчас погашенная. Стеклянный графин, почти до краев полный гиньолета, наполнял комнатутонким ароматом вишневой настойки. На Дальней стороне стола стояли на подносе два стакана, неоткупоренная бутылка красного вина и коробочка сдобного печенья, прикрытая белой льняной салфеткой. Бальярд распахнул ставни, чтобы увидеть рассвет. Весной деревья на околице деревушки покрывались белыми и серебристыми бутонами, с изгородей и откосов робко выглядывали желтые и розовые цветы. Но в середине лета краски выгорали, и оставалась только тусклая зелень горных пастбищ — неизменных свидетелей его долгой жизни. Занавеска отделяла спальню от большой комнаты. Вся задняя стенка была занята узкими полочками — теперь почти пустыми. Старинная ступка и пестик, пара мисок и ковш, несколько кувшинов… И книги: написанные им самим и великие голоса катарской истории — Дельтей, Дювернуа, Нелли, Марти, Бренон, Рокетт. Труды по арабской философии соседствовали с переводами древнеиудейских текстов и монографиями древних и современных авторов. Ряд книжечек в бумажных обложках, неуместных в этом окружении, заполнил место, прежде отведенное для сборников травных настоев и бальзамов. Он приготовился к ожиданию. Бальярд поднес к губам стакан и сделал большой глоток. Что, если она не придет? Если он так и не узнает правду о тех последних часах? Он вздохнул. Если она не придет, он должен будет пройти последние шаги своего долгого пути в одиночестве. Этого он боялся всю жизнь.ГЛАВА 64
К рассвету Элис была в нескольких километрах к северу от Тулузы. Завернула на станцию обслуживания и выпила две чашки горячего сладкого кофе, чтобы успокоить нервы. Она еще раз перечитала письмо. Отправлено из Фуа в среду утром. В письме Одрик Бальярд объяснял, как добраться до его дома. Элис не сомневалась, что письмо подлинное — узнала тонкий почерк и черные чернила. Других возможностей она не видела. Надо было ехать. Элис расправила на стойке карту, попробовала найти нужную точку. Деревушка, в которой жил Бальярд, не попала на карту, но он обозначил достаточно примет и ориентиров, чтобы наметить дорогу среди близлежащих городков и поселков. Он уверен, писал Бальярд, что Элис узнает место, как только увидит его.Из осторожности — Элис уже понимала, что следовало подумать о ней давным-давно, — она взяла в аэропорту машину в наем. Решив, что преследователи будут высматривать ее в машине другого цвета и марки, она продолжала путь на юг. Проехала мимо Фуа в сторону Андорры, и дальше через Тараскон, следуя наставлениям Бальярда. Свернула с главного шоссе в Лузенаке и проехала через Лордат и Бестиак. Ландшафт менялся на глазах. Местность напоминала Элис альпийские предгорья. Мелкие горные цветы, высокая трава и дома, похожие на швейцарские шале. Она проехала овраг, большим белым шрамом прорезавший горный склон. В голубом летнем небе чернели опоры линии электропередач, тянувшей провода к зимнему горнолыжному курорту. Элис переехала реку Лаузэ. Пришлось переключиться на вторую передачу, потому что дорога пошла круто вверх, складываясь резким зигзагом. Ее уже затошнило от бесконечных поворотов, когда за очередным вдруг открылась маленькая деревушка. Здесь имелись две лавочки и кафе, выставившее пару столиков на мостовую перед зданием. Элис, решив, что неплохо бы уточнить дорогу, прошла внутрь. Здесь висел густой дым и толпились сутулые усталые мужчины с обветренными лицами. Стойки бара не было видно из-за синих комбинезонов. Элис заказала кофе и неловко развернула на стойке дорожную карту. Никто долго не хотел с ней разговаривать — сказывалась неприязнь к чужакам, особенно к женщинам, однако в конце концов Элис удалось завязать беседу. Названия «Лос Серес» здесь никто не слыхал, однако местность знали хорошо и подробно описали ей дорогу. Элис продолжила путь, постепенно привыкая к горному серпантину. Впрочем, дорога вскоре превратилась в колею, а потом в пешеходную тропу. Элис остановила машину и вышла. Только теперь, узнав привычный вид и втянув носом запах гор, она сообразила, что описала петлю и оказалась на дальней стороне пика де Соларак. Элис выбралась на вершину и ладонью прикрыла глаза от солнца. Она узнала причудливого вида озеро Де Торт, на которое посоветовали ориентироваться люди в баре. Неподалеку виднелся другой водоем, известный в этих местах под названием озеро Дьявола. Последним она опознала пик Сент-Бартелеме, отделявший пик де Соларак от Монсегюра. Прямо перед ней через зеленые кустарники, бурые проплешины земли и желтый бурьян вилась узкая тропинка. Резко пахли острые темные листья самшита. Элис коснулась ветки и растерла пальца ми капельку росы. Она поднималась десять минут. Потом тропа вышла на прогалину — и Элис увидела. Небольшой приземистый дом одиноко возвышался в окружении развалин. Серый камень стен сливался с горным склоном. А в дверях стоял мужчина, очень старый и очень худой, с шапкой белых волос, в светлом летнем костюме, который она помнила по фотографии. Ноги сами понесли ее вперед. На последних шагах земля выровнялась. Бальярд молча и неподвижно смотрел на нее. Он не улыбнулся, не поднял руки, даже когда она подошла совсем близко. Он не сводил глаз с ее лица. Очень необычные были у него глаза. «Цвета янтаря, смешанного с осенней листвой». Элис остановилась перед ним. Он наконец улыбнулся. Как будто солнце выглянуло из-за тучи, преобразив его морщинистое лицо. — Madomaisèla Таннер, — заговорил он. Голос был густой, старый, как ветер пустыни. — Я знал, что вы придете. Он шагнул в сторону, открывая ей проход. — Прошу вас. Элис, ставшая вдруг неуклюжей от смущения, нырнула под низкую притолоку и шагнула в дом, чувствуя на себе его неотступный взгляд. Он словно хотел запечатлеть в памяти каждую ее черту. — Месье Бальярд, — начала она и осеклась. Она не находила слов. Его радостное изумление, что она пришла, смешанное с верой в то, что должна была прийти, делало невозможной обычную беседу. — Вы на нее похожи, — медленно заговорил он. — В вашем лице многое — от нее. — Я видела только фотографии, но мне тоже так показалось. Он улыбнулся: — Я говорил не о Грейс, — и поспешно отвернулся, словно испугавшись, что сказал лишнее. — Садитесь, пожалуйста. — Месье Бальярд, — заново начала Элис. — Я рада с вами познакомиться. Я только не поняла… откуда вы знали, где меня искать? Он вновь улыбнулся: — Это важно? Элис подумала и решила, что не важно. — Я знаю, что произошло на пике де Соларак, madomaisèla Таннер. Прежде чем мы пойдем дальше, я должен задать вам один вопрос: вы нашли книгу? Больше всего на свете Элис хотелось бы ответить: да. — Извините, — сказала она, покачав головой. — Он тоже меня об этом расспрашивал, но я не видела там книги. — Он? Элис нахмурилась: — Человек по имени Поль Оти. Бальярд отрывисто кивнул. — Ах да, — произнес он так, что Элис поняла: больше ничего не нужно объяснять. — Зато вы, надо думать, нашли это? Он поднял и положил на стол левую ладонь, как делают девушки, хвастаясь обручальным колечком, и Элис с изумлением увидела у него на пальце каменное кольцо. Она улыбнулась ему, как старому знакомцу, хотя видела его всего несколько секунд. — Можно? — робко попросила она. Бальярд снял кольцо с большого пальца. Элис взяла вещицу в руки, повертела между пальцами и снова поежилась под его пристальным взглядом. — Это ваше? — услышала она собственный голос и испугалась: если он ответит «да», то что же это значит? Он ответил не сразу. — Нет, — сказал он наконец, — хотя когда-то и у меня было такое. — Чье же тогда? — А вы не знаете? На долю секунды Элис почудилось, что знает, но искорка понимания тут же погасла, и память снова затянуло туманом. — Не знаю. — Она покачала головой. — Но, по-моему, ему недостает вот этого. — Она достала из кармана диск с лабиринтом. — Я нашла в доме тети, вместе с фамильным древом. Это вы ей прислали? — Она протянула ему диск. Бальярд не ответил. — Грейс была очаровательная женщина: умная, образованная. При первой с ней встрече мы обнаружили много общих интересов и кое-какие общие воспоминания. — Зачем этот диск? — Элис не давала себя отвлечь. — Он называется «мерель». Когда-то их было много. Теперь остался только этот. Элис с изумлением наблюдала, как Бальярд вставляет каменный кружок в паз кольца. — Aqui. Вот, — улыбнулся он, вернув кольцо на палец. — Это только для красоты или есть другое назначение? Бальярд взглянул на нее одобрительно, как на сдавшую экзамен ученицу. — Это необходимый ключ, — тихо сказал он. — Для чего необходимый? И снова он заговорил не о том. — Элэйс приходит к вам во сне, правда? Она не ожидала такого вопроса и не знала, что отвечать. — Мы носим свое прошлое в себе, в костях и крови, — сказал он. — Элэйс всегда была с вами, заботилась о вас. У вас с ней много общего. Отвага, спокойная решимость. И еще Элэйс была верна друзьям и слову — как и вы, мне кажется. — Он помолчал, улыбаясь ей. — И она тоже видела сны. О старых днях, о начале. Те сны открывали ей ее судьбу, хотя она и не желала ее видеть. А теперь они освещают ваш путь. Его слова долетали к Элис словно издалека, словно бы звучали отдельно от нее, от Бальярда, от всех людей, словно они вечно существовали во времени и пространстве. — Она мне всегда снилась, — заговорила Элис, не зная еще, куда заведет ее это признание. — И еще огонь, горы и книга. Эти горы? Он кивнул. — Мне казалось, она пытается мне что-то сказать. В последние несколько дней я отчетливей увидела ее лицо, но голоса так и не услышала. — Она помолчала. — Я не понимаю, что ей нужно от меня? — А может быть, вам от нее? — небрежно заметил Бальярд, наливая вина и протягивая Элис стакан. Час был ранний, однако Элис отпила несколько глотков и почувствовала, как согревает ее пролившаяся в горло струйка жидкости. — Месье Бальярд, я должна узнать, что сталось с Элэйс? Пока не узнаю, мне ничего не понять. Вы ведь знаете, да? Бескрайняя печаль затуманила его лицо. — Она осталась жива? — медленно заговорила Элис, боясь услышать ответ. — После Каркассоны… они не… схватили ее? Он положил ладони на стол. Худые пальцы, усеянные старческими пигментными пятнами, напомнили Элис птичьи лапы. — Элэйс не погибла до времени, — осторожно произнес он. — Это не ответ, — начала она. Бальярд остановил ее, вскинув ладонь. — На пике Соларак пришли в движение события, которые дадут вам, то есть нам, ответ. Только поняв настоящее, можно постичь прошлое. Вы ищете подругу, ос? И снова Элис поразилась, как он изменил тему. — Откуда вы знаете про Шелаг? — удивилась она. — Я следил за раскопками и знаю, что там произошло. Сейчас ваша подруга пропала, и вы хотите ее найти. Элис решила оставить попытки выяснять, что и откуда ему известно, и ответила: — Она ушла из общежития дня два назад. С тех пор ее никто не видел. Я уверена, что ее исчезновение связано с открытием лабиринта… — Она замялась. — На самом деле, я, кажется, знаю, кто за этим стоит. Сперва я подумала, что Шелаг могла украсть кольцо. Бальярд покачал головой: — Кольцо взял Ив Бо и послал своей бабушке, Жанне Жиро. У Элис округлились глаза: еще один кусочек головоломки встал на место. — Ив, как и ваша подруга, работал на одну женщину, мадам Л'Орадор. Вздохнув, Бальярд продолжил: — К счастью, Ив одумался. Может быть, и ваша подруга тоже. Элис кивнула: — Бо передал мне номер телефона. Потом я узнала, что Шелаг звонили по тому же номеру. Узнала адрес, а телефон не отвечал, и тогда я решила сама сходить туда и посмотреть, не там ли Шелаг. Оказалось, это дом мадам Л'Орадор в Шартре. — Вы ездили в Шартр? — повторил Бальярд, и глаза у него загорелись. — Рассказывайте, рассказывайте! Что вы там видели? Он молча выслушал рассказ Элис обо всем, что ей удалось увидеть и подслушать. — Однако этот молодой человек, Уилл, так и не показал вам тайную комнату? Элис покачала головой. — Я даже подумала в конце концов, что, может, ее и вовсе не существует. — Существует, — сказал он. — Я оставила там свой рюкзак. И в нем все заметки о лабиринте и фотографию, на которой вы с тетей. Он сразу наведет их на меня. — Элис помолчала. — Вот Уилл и пошел его забрать. — И теперь вы боитесь, что с ним тоже случилась беда? — По правде сказать, я не знаю. Я то боюсь за него, а то мне кажется, он с ними связан. — А почему вы с самого начала решили, что ему можно довериться? Элис подняла голову, удивленная резкой переменой тона. Куда девалась мягкая снисходительность? — Вам казалось, что вы перед ним в долгу? — В долгу? — Еще больше, чем тон, Элис поразили его слова. — Да нет же, я его почти не знаю. Ну, должно быть, он мне понравился. С ним было спокойно. Я чувствовала… — Que? Что? — Скорее уж наоборот. Не знаю почему, но как будто он был чем-то обязан мне. Как будто хотел загладить какую-то вину. Неожиданно Бальярд оттолкнул стул и шагнул к окну. Вся его фигура выражала смятение. Элис ждала, не понимая, что происходит. Наконец он снова повернулся к ней. — Я расскажу вам историю Элэйс, — сказал он. — Зная ее, вы, возможно, смелее будете смотреть в будущее, которое нас ожидает. Но знайте, madomaisèla Таннер, услышав мой рассказ, вы уже должны будете идти по этой дороге до конца. Элис насупилась. — Звучит угрожающе. — Нет, — торопливо возразил он. — Ничего подобного. Но нам нельзя забывать о ваших друзьях. Судя по подслушанному вами разговору, по крайней мере до сегодняшнего вечера им ничто не грозит. — Но я так и не узнала, где назначена встреча, — усомнилась Элис. — Франсуа-Батист назвал только время: завтра в девять тридцать вечера. — Место легко угадать, — спокойно возразил Бальярд. — К сумеркам мы будем там и подождем их. Он взглянул в открытое окно на поднимающееся солнце. — У нас будет время наговориться. — А если вы ошибаетесь? Старик пожал плечами. — Будем надеяться, что нет. Минуту Элис молчала. — Я просто хочу узнать правду. Она поразилась, как ровно прозвучал ее голос. Одрик улыбнулся. — Ieu tanben, — сказал он. — Я тоже.
ГЛАВА 65
Уилл смутно сознавал, что его тащат по узкой лестнице вниз, в подвал, потом через бетонный проход, сквозь две двери. Голова у него свешивалась вперед. Благовониями пахло уже не так сильно, но запах еще держался, как воспоминание, в глухой подземной темноте. Сперва Уилл решил, что его несут вниз, чтобы убить. В памяти встала каменная плита у подножия надгробия, пятнышко крови на полу. Однако носильщики, не задерживаясь в церемониальном зале, перевалили его через порог. В лицо повеяло свежестью раннего утра, и он понял, что оказался в переулке позади улицы Шеваль Бланк. Пахло жареным кофе и помойкой, неподалеку прогрохотал мусоровоз. «Вот так, — прикинул Уилл, — и оказалось в реке тело Тарнье». Движимый страхом, он дернулся и попытался высвободиться, но сразу понял, что руки и ноги крепко связаны. Хлопнул открывающийся багажник. Его волоком затащили и втиснули в темноту. Багажник оказался необычным — что-то вроде большого ящика, пахнувшего пластмассой. Он неловко перекатился на бок и задел головой угол контейнера. Рана сразу открылась, и по виску потекла струйка крови. Уилл разозлился — даже руки не поднять, чтобы ее стереть. Он уже вспомнил, как стоял у двери кабинета. Потом ослепляющая вспышка боли — Франсуа-Батист опустил ему на голову рукоять пистолета. Колени подогнулись, но он еще услышал раздраженный голос Мари-Сесиль, спрашивающей, что происходит. Потная рука ухватила его за предплечье. Уилл почувствовал, как ему задирают рукав. Потом в кожу воткнулось острие иглы. Опять. Потом щелкнула крышка, и над его тюрьмой задернулся брезентовый полог. Лекарство расходилось по венам приятным холодком, уносило боль. Уилл то приходил в себя, то уплывал в забытье. Он чувствовал, как машина набирает скорость. Голова, перекатывавшаяся на поворотах из стороны в сторону, закружилась. Уилл думал об Элис. Больше всего на свете ему хотелось увидеть ее, сказать, что он старался как мог. Что он не предал ее. Начались галлюцинации. Ему виделась мутно-зеленая вода реки Эр, подступающая к горлу, вливающаяся в рот, в нос, в легкие. Уилл пытался представить в памяти лицо Элис, ее серьезные карие глаза, улыбку. Если только удержать эту картину перед глазами, все еще, может быть, обойдется. Но страх утонуть, умереть в этой чужой, ненужной ему стране был сильнее. Уилла унесло в темноту.Поль Оти стоял на балконе дома в Каркасоне, глядя вниз, на реку Од. В руке у него была чашка черного кофе. Он сделал из О'Доннел наживку для Франсуа-Батиста де Л'Орадор, но мысль подсунуть тому фальшивку вместо книги инстинктивно отвергал. Парень сумеет распознать обман. Кроме того, плохо, если он увидит, в каком она состоянии, и сообразит, что попался в ловушку. Поставив чашку на стол, Оти поддернул белый накрахмаленный манжет рубахи. Единственный вариант — побеседовать с Франсуа-Батистом самому, один на один, и обещать ему, что и О'Доннел, и книга будут доставлены на пик де Соларак ко времени церемонии. Жаль, что не удалось вернуть кольцо, но Оти не сомневался, что Жиро передала его Одрику Бальярду, а тот наверняка по собственной воле явится на пик де Соларак. Он и сейчас наверняка следит за Оти, не упускает его из виду. С Элис Таннер дело было не так просто. Когда О'Доннел упомянула о диске, ему пришлось серьезно задуматься. Хуже всего, что он понятия не имел о его назначении. А Таннер удивительно ловко ускользала из его рук. Сначала ушла от Доминго и Бриссара на кладбище. Потом вчера они на несколько часов потеряли ее машину, а когда обнаружили этим утром, то оказалось, девица оставила ее на стоянке в Тулузском аэропорту. Оти сжал в кулаке крест. К полуночи все это кончится. Еретические тексты, а с ними и сами еретики будут уничтожены. Вдали зазвонили колокола собора, созывая верующих к обедне. Пятница. Оти взглянул на часы. Надо пойти к исповеди. Очистившись от грехов, в состоянии благодати, он преклонит колени перед алтарем и примет Святое причастие. Тогда душой и телом он будет готов исполнить Божью волю.
Уилл почувствовал, как машина замедлила ход и свернула на неровный проселок. Водитель осторожно объезжал ухабы, но все же у Уилла стучали зубы: машина дергалась и раскачивалась на крутом подъеме. Потом она встала, качнулась, когда двое мужчин вылезли наружу. Выстрелами прогремели захлопнувшиеся двери. Руки у него были связаны не спереди, а за спиной, но Уилл извивался что было сил, пытаясь хотя бы ослабить веревку. Отчасти ему это удалось. К пальцам понемногу возвращалась чувствительность. Плечи, занемевшие от неудобного положения, опоясывала боль. Крышку пластмассового ящика откинули неожиданно. Уилл замер, сдерживая колотившееся сердце. Его подхватили: один под мышки, другой под колени, вытащили из багажника и сбросили на землю. Даже в наркотическом дурмане Уилл сразу понял, что оказался далеко от цивилизованных мест. В лицо било яростное солнце, воздух был так резок и свеж, как бывает только на высоте, далеко от человеческого жилья. Уилл моргнул, пытаясь сосредоточить взгляд, но солнце слишком ярко прожигало прозрачный воздух, и перед глазами кружились белые пятна. Игла шприца снова воткнулась в руку, и по венам тепло разлился наркотик. Его грубо подняли на ноги и поволокли вверх по склону. Подъем был крутой, и Уилл слышал их тяжелое дыхание, чувствовал запах их пота, выступившего от тяжелой работы на жаре. Под ногами захрустел гравий, потом его волочащиеся ноги проехались по деревянным ступеням, по мягкой траве… Уходя в забытье, он подумал, что свистящий звук у него в ушах — призрачные вздохи ветра.
ГЛАВА 66
Комиссар уголовной полиции Верхних Пиренеев ворвался в кабинет инспектора Нубеля и захлопнул за собой дверь. — Ну, если вы выдернули меня зря, Нубель… — Спасибо, что пришли. Я не стал бы отрывать вас от обеда, если бы не считал, что дело не терпит отлагательства. Комиссар недовольно хмыкнул. — Опознали убийц Бо? — Сирил Бриссар и Хавьер Доминго, — подтвердил Нубель, взмахнув листком только что полученного факса. — Оба опознаны без колебаний. Один незадолго до происшествия в ночь на понедельник, другой вскоре после. Машину нашли вчера брошенной на испано-андоррской границе. — Нубель прервал доклад, чтобы стереть пот со лба и с носа. — Они работают на Поля Оти, комиссар. Тот тяжело оперся о край стола. Стол скрипнул. — Слушаю вас. — Вам известны сведения об Оти? Что он — член Noublesso Veritable? Комиссар кивнул. Нубель продолжил: — Я сегодня связался с Шартром по делу Шелаг О'Доннел, и они подтвердили, что занимаются этим обществом в связи с убийствами недельной давности. — При чем тут Оти? — Тело было обнаружено так быстро благодаря анонимной наводке. — Есть доказательство, что это был Оти? — Нет, — признал Нубель, — зато есть свидетельства, что он встречался с погибшим журналистом. Полиция Шартра считает, что тут есть связь. Увидев на лице начальника весьма скептическое выражение, Нубель заторопился: — Раскопки на пике де Соларак субсидировала мадам Л'Орадор. Имя спонсора скрывали, но это ее деньги. Брайлинг, начальник раскопок, проталкивал идею, что О'Доннел скрылась, похитив одну из находок. Но ее подруга думает иначе. — Он помолчал. — Я уверен, что ее захватил Оти: либо по приказу мадам Л'Орадор, либо из собственных соображений. Вентилятор в кабинете не работал, и Нубель обильно потел. Он чувствовал, как под мышками расплываются круги пота. — Сплошные догадки, Нубель. — Мадам де Л'Орадор со вторника по четверг находилась в Каркасоне, комиссар. Дважды встречалась с Оти. Я полагаю, что она вместе с ним ездила на пик де Соларак. — Это не преступление, Нубель. — Сегодня утром я нашел оставленное для меня сообщение, комиссар, — продолжал полицейский, — и решил, что у нас уже достаточно оснований просить о встрече. Он нажал кнопку повтора автоответчика, и комнату наполнил голос Жанны Жиро. Лицо комиссара мрачнело с каждой секундой. — Кто она? — спросил он, когда Нубель прокрутил сообщение второй раз. — Бабушка Ива Бо. — А этот Одрик Бальярд? — Писатель. Друг. Он был с ней в больнице в Фуа. Комиссар подбоченился, склонил голову. Ясно было, что в уме он подсчитывает, во что обойдется выступление против Оти, если оно окажется неудачным. — Вы на сто процентов уверены, что можете связать Бриссара и Доминго и с Бо, и с Оти? — Они подходят под описание. — Под описание подходит половина Арьежа, — проворчал комиссар. — О'Доннел отсутствует уже три дня. Комиссар тяжело вздохнул и уселся на стол. — И мне понадобится ордер на обыск нескольких принадлежащих Оти объектов, в том числе на заброшенную ферму в горах, оформленную на имя бывшей супруги. Если О'Доннел не увезли далеко, она, скорее всего, там, — сказал Нубель. Комиссар качал головой. — Возможно, если вы лично свяжетесь с префектом… Нубель выжидательно молчал. — Ладно-ладно. — Пожелтевший от никотина палец нацелился на него. — Но даю вам слово, Клод, если провалитесь, я не стану вас вытаскивать. Что касается мадам де Л'Орадор… — Комиссар уронил руку. — Если не будет неопровержимых доказательств, они вас на куски порвут, и я ничем не смогу вам помочь. Он развернулся и пошел к двери, но у самых дверей остановился: — Напомните-ка, кто этот Бальярд? Я его знаю? Имя знакомое… — Пишет о катарах. И по Древнему Египту специалист. — Это не?.. Нубель ждал. — Нет, забыл, — тряхнул головой комиссар. — Однако эта мадам Жиро могла сделать из мухи слона. — Могла, конечно, но, должен сказать, разыскать Бальярда мне не удалось. После ночи в среду, когда он вместе с мадам Жиро покинул больницу, его никто не видел. Комиссар кивнул. — Я вам позвоню, когда бумаги будут готовы. Будете здесь? — Вообще говоря, — осторожно отозвался Нубель, — я хотел еще поискать молодую англичанку. Они с О'Доннел — подруги. Она может что-то знать. — Ладно, я вас найду. Проводив комиссара, Нубель первым делом сделал несколько звонков, после чего подхватил пиджак и направился к машине. По его расчетам, он вполне успевал прокатиться до Каркасона и вернуться обратно прежде, чем на ордере просохнет подпись префекта.К половине пятого Нубель беседовал со своим каркасонским коллегой. Арно Моро был его старым другом, и инспектор мог говорить с ним без обиняков. — Доктор Таннер сказала, что остановится в гостинице «Монморанси». Всего несколько минут ушло на то, чтобы удостовериться: она там зарегистрировалась. — Уютный отель у самого Старого города. Пять минут неспешного хода от рю де Гаффе. Подвезти? Девушка-дежурная занервничала при виде сразу двух офицеров полиции. Она оказалась никудышной свидетельницей, и притом явно готова была расплакаться. Терпение Нубеля почти истощилось, когда в допрос вмешался Моро. Он держался отечески-снисходительно и сумел добиться лучших результатов. — Ну-ну, Сильви, — мягко заговорил он. — Стало быть, доктор Таннер ушла вчера рано утром, так? — Девушка кивнула. — Она сказала, что вернется сегодня? Я просто хочу уточнить. — Да. — И не предупредила, что задерживается? Не позвонила, не передавала? Девушка покачала головой. — Хорошо. Ну, не расскажете ли нам что-нибудь еще? Скажем, посетители к ней приходили? Девушка задумалась. — Вчера очень рано приходила женщина, что-то передала ей. Нубель едва не подскочил на месте. — Во сколько? Моро знаком посоветовал ему молчать. — Рано — это сколько, Сильви? — Я заступила на дежурство в шесть. Вскоре после того. — Доктор Таннер ее узнала? Это была ее приятельница? — Не знаю. Вряд ли. По-моему, она удивилась. — Вы очень помогли нам, Сильви, — похвалил Моро. — А почему вам так показалось? — Она сказала, доктор Таннер должна встретиться с кем-то на кладбище. Довольно странное место встречи. — С кем? — не выдержал Нубель. — Вы имя расслышали? Вконец испуганная Сильви замотала головой. — Я даже не знаю, пошла она или нет. — Это ничего. Вы умница. Еще что-нибудь вспомните? — Еще ей пришло письмо. — По почте или с курьером? — Еще эта история с переездом в другой номер, — прозвучал голос у нее из-за спины. Сильви обернулась и кинула испепеляющий взгляд на мальчишку, прятавшегося за пирамидой картонных коробок. — Тебя кто спрашивает?! — Что за история? — вмешался Нубель. — Меня там не было, — заупрямилась Сильви. — Но знать-то вы наверняка знаете? — Ну, доктор Таннер сказала, кто-то залез к ней в комнату. Вечером в среду. Потребовала другой номер. Инспектор Нубель насторожился, встал и направился к задней двери. — Сколько хлопот всем создала, — посочувствовал Моро, отвлекая внимание Сильви. Нубель тем временем пошел на запах кухни и безошибочно отыскал мальчишку. — Ты в среду вечером здесь был? Тот самоуверенно ухмыльнулся: — Я работаю в баре. — Видел что-нибудь? — Видел, как какая-то женщина выскочила в дверь и бежала целый квартал. Тогда я не знал, что это доктор Таннер. — А мужчину видел? — Вообще-то, нет. Я больше на нее не смотрел. Нубель достал из кармана фотографии и разложил их перед мальчиком: — Кого-нибудь узнаешь? — Вот этого видел. Ничего себе костюмчик! Он не турист. Даже не похож. Болтался здесь, то ли во вторник, то ли в среду. Точно не помню. Ко времени, когда Нубель вернулся в холл, Сильви уже улыбалась его симпатичному коллеге. — Он узнал Доминго. Видел его в гостинице и рядом. — Не доказательство, что он побывал в номере, — пробормотал Моро. Нубель раскинул карточки перед Сильви. — Кто-нибудь из этих людей вам знаком? Она покачала головой. — Нет. Хотя… — Помедлив, она указала на фотографию Доминго. — Женщина, которая спрашивала Таннер, была на него очень похожа. Нубель переглянулся с Моро: — Сестра? — Проверю. — Боюсь, нам придется попросить вас открыть нам номер доктора Таннер, — обратился к девушке Нубель. — Нельзя! Моро не слушал возражений. — Всего пять минут, Сильви. Так для всех будет проще. Если придется просить разрешения управляющего, мы явимся с целой командой экспертов. Зачем портить репутацию гостиницы? Сильви сняла с крючка ключ и провела их к номеру Элис. Она то и дело оглядывалась через плечо, и вид у нее был мрачный. В номере, где были закрыты ставни и задернуты шторы, стояла духота. Постель оказалась аккуратно застелена. Заглянув в ванную, сыщики убедились, что там сменили полотенца и поставили чистые стаканы для воды. — Со вчерашней уборки здесь никого не было, — пробормотал себе под нос Нубель. — В ванной не было ни одной личной вещи. — Ну как? — спросил Моро. Нубель покачал головой и перешел к гардеробу. Там стоял чемодан — собранный. Похоже, она даже вещи не разбирала. Паспорт, телефон и самое необходимое у нее, конечно, при себе. — Нубель провел пальцем по краю матраса, через носовой платок захватил ручку ящика тумбочки и потянул на себя. Внутри оказалась серебристая пластинка таблеток от головной боли и книга Одрика Бальярда. — Моро, — резко окликнул он и протянул другу книгу. При этом из нее выпал заложенный между страниц листок. — А это что? Нубель подхватил бумажку и нахмурился. — Что-то не так? — поинтересовался Моро. — Это почерк Ива Бо, — сказал Нубель. — Номер в Шартре. Он потянулся к телефону, но тот зазвонил прямо у него под рукой. — Нубель, — отрывисто ответил инспектор. Моро не сводил с него взгляда. — Превосходная новость, комиссар. Да. Немедленно. Он нажал рычаг. — Есть ордер на обыск, — сказал он, выходя. — Скорее, чем я ожидал. — А ты как думал? — заметил Моро. — Он беспокоится.
ГЛАВА 67
— Посидим на улице? — предложил Одрик. — Пока не стало жарко. — С удовольствием, — согласилась Элис, выходя вслед за ним. Она чувствовала себя как во сне. Время замерло. Просторы гор и свод неба жили в ритме медленных уверенных движений Бальярда. Смятение и страх, в которых она провела последние несколько дней, отступали. — Вот здесь будет хорошо, — проговорил он мягким голосом, подходя к травянистому взгорку, и сел, по-мальчишески раскинув длинные тонкие ноги. Элис помялась и села у его ног. Она подтянула колени, обхватила их руками и тут заметила, что он снова улыбается. — Что такое? — вдруг смутилась она. Одрик покачал головой: — Los reasons. Просто вспомнилось. Простите, maidomasela Таннер. Простите старику его чудачества. Элис не знала, чем вызвана его улыбка, но видеть ее было отрадно. — Пожалуйста, зовите меня Элис. «Maidomasela» звучит ужасно официально. Он склонил голову: — Хорошо. — Вы предпочитаете французскому окситанский? — полюбопытствовала Элис. — Да, я говорю и на нем. — И на других языках? Старик скромно улыбнулся, перечисляя: — Английский, арабский, испанский, иврит. Повествование изменяется, меняет и тон, и окраску в зависимости от того, какими словами его передают, на каком языке рассказывают. Становится то серьезным, то легкомысленным, то звучит как песня… Здесь, в этой части страны, которую теперь называют Францией, исконные хозяева земли говорили на langue d'Oc. Langue d'Oil, предшественник современного французского, был языком захватчиков. Выбор языка разделял людей. Впрочем, — он махнул рукой, — вы хотели услышать не об этом. Вас интересуют люди, а не теории, верно? Теперь улыбалась Элис. — Я, месье Бальярд, читала вашу книгу. Нашла ее в доме тети, в Саллель д'Од. Он кивнул: — Красивое место. Канал де Джонктион. Вдоль берегов растут лимоны и приморские сосны… — Он помолчал. — Вы знаете, один из вождей крестоносцев, Арнольд Амальрик, получил там земли. А также дома в Каркассоне и в Безьере. — Не знала, — отозвалась Элис. — Но вы сказали сейчас, что Элэйс не умерла до времени… Значит, она пережила падение Каркассоны? Элис с удивлением заметила, что у нее зачастило сердце. Бальярд кивнул: — Элэйс ушла из города вместе с мальчиком, Сажье, внуком хранительницы книг лабиринта. — Он взглянул на Элис и, убедившись, что та внимательно слушает, продолжал: — Они шли сюда. На старом языке Лос Серес означало «горная цепь, хребет». — Почему же сюда? — Потому что navigataire, возглавлявший общество Noublesso de los Seres, которому присягнули в верности отец Элэйс и бабушка Сажье, ждал их здесь. Элэйс опасалась, что за ними будет погоня, поэтому они выбрали кружной путь: сперва на запад в Фанжо, а оттуда к югу через Пуивер и Лавлане. И снова к западу, в горы Сабарте. После падения Каркассоны страну наводнили солдаты. Они как крысы рыскали по деревням. Хватало и разбойников, не миловавших беззащитных беженцев. Элэйс с Сажье пробирались вперед под покровом ночи до рассвета, а днем прятались от палящего солнца. То лето выдалось особенно жарким, так что можно было ночевать под открытым небом. Ели орехи, ягоды, плоды — все, что удавалось найти. Элэйс старалась обходить города, кроме тех, где могла рассчитывать на безопасное убежище. — А откуда они узнали дорогу? — спросила Элис, вспомнив, с каким трудом добиралась сама. — У Сажье была карта. Ему дала ее… — Голос у него прервался. Элис не понимала причины волнения, но невольно потянулась и пожала ему руку. Кажется, это прикосновение утешило старика. — Они добрались довольно быстро, — продолжал он. — К празднику Сен-Микеля, в конце сентября, когда деревья начали золотиться, прибыли в Лос Серес. Здесь, в горах, уже пахло осенью и влажной землей. Над полями висел дым: выжигали стерню. Для них, выросших на шумных городских улицах, в переполненных людьми переходах замка, это был новый мир. Такой свет… такое небо, простиравшееся, казалось, до самых райских врат. — Он замолчал, обводя глазами лежавшие перед ними просторы. — Вы понимаете? Она кивнула, зачарованная его голосом. — Navigataire, Ариф, ждал их. — Бальярд склонил голову. — Услышав о том, что произошло, он оплакал души отца Элэйс и Симеона. И потерю книг, и великодушие Эсклармонды, отпустившей их от себя ради спасения «Книги Слов». Бальярд снова умолк и молчал долго. Элис не смела перебить или поторопить его. История идет своим чередом. Он заговорит, когда будут силы. — То было благословенное время: и в горах и на равнине. — Голос его смягчился. — По крайней мере, таким оно казалось им. Несмотря на неописуемый ужас гибели Безьера, многие каркассонцы надеялись, что им вскоре позволят вернуться домой. Многие доверяли Римской церкви. Они думали, что, изгнав еретиков, их пощадят и оставят в покое. — Но крестоносцы не ушли, — вспомнила Элис. Бальярд покачал головой. — Нет. Война велась не за веру, а за земли. После сдачи города в 1209 году виконтом был избран Симон де Монфор — хотя Раймон Роже Тренкавель был еще жив. В наше время трудно понять, насколько небывалым, насколько тяжким оскорблением было это избрание. Оно нарушало все обычаи, все правила чести. Войны, в сущности, велись тогда на деньги, полученные за выкуп членов благородных семейств. Но сеньера, если только он не был осужден за преступления, никогда не лишали владений, чтобы передать их другому. Северяне не могли яснее выказать презрения, которое они питали к Pay d'Oc. — А что сталось с виконтом Тренкавелем? — спросила Элис. — По-моему, город до сих пор помнит его. Бальярд кивнул. — Он заслужил эту память. Он умер, точнее был убит, через три месяца заключения в тюрьме Шато Комталь, в ноябре 1209 года. Монфор объявил, что он скончался от приступа «болезни осажденных», как ее тогда называли. Дизентерия. Никто ему не поверил. То и дело начинались волнения и мятежи, так что де Монфору пришлось выкупить законное право виконтства у двухлетнего наследника и его вдовы за ежегодную ренту в 3000 солей. Перед глазами Элис вдруг встало лицо. Любящая, серьезная женщина, благочестивая, преданная мужу и сыну. — Дама Агнесс, — прошептала она. Бальярд бросил на нее короткий пронзительный взгляд. — В стенах города сохранилась память и о ней, — тихо сказал он. — Монфор был благочестивым католиком. Он, может быть, единственный из крестоносцев, верил, что исполняет Божью волю. Он назначил подать с дома и очага в пользу церкви и ввел десятину от первых плодов, как велось на севере. Город пал, но крепости Минервуа, Монтань Нуар, Пиренеев не желали сдаваться. Король Арагона, Педро, не принял Монфора в число своих вассалов; Раймон VI, дядя виконта Тренкавеля, удалился в Тулузу; граф Неверский и Сен-Поль, а с ними и другие, в том числе Гай д'Эвре, вернулись в свои северные владения. Каркассона досталась Монфору, но он остался в одиночестве. Купцы, бродячие торговцы, ткачи приносили вести об осадах и битвах — и хорошие и дурные. Монреаль, Прейксан, Савердюн и Памье пали, Кабарет держался. В апреле 1210 года после трехмесячной осады де Монфор взял город Брам. Он приказал своим солдатам окружить плененный гарнизон и выколоть людям глаза. Пощадили только одного и отправили его проводником шествия слепых через всю страну — в Кабарет, как предупреждение всем, кто продолжает сопротивляться, что им нечего рассчитывать на милосердие. В ответ на новые жестокости вспыхивали новые мятежи. В 1210 году Монфор осадил Минерве — крепость на вершине холма. С двух сторон город защищали глубокие расщелины, за тысячи лет пробитые в скале реками. Монфор установил высоко над укреплениями гигантскую стенобитную машину, прозванную «Злой Сосед» — La Malvoisone. — Он прервал рассказ и обернулся к Элис. — Здесь есть его копия. Странно видеть. Шесть недель Монфор обстреливал крепость. Когда Минерве наконец пала, сто сорок Совершенных отказались покаяться и были сожжены на общем костре. В мае 1211 года после месяца осады был взят Лавор. Католики называли его «троном самого сатаны». По-своему, они были правы. Там находилась резиденция катарского епископа Тулузы, и в городе открыто и мирно жили сотни Совершенных. Бальярд поднес к губам стакан, сделал глоток. — Они сожгли четыреста добрых христиан и Совершенных, и среди них Амори Монреальского, возглавившего сопротивление, и восемьдесят его рыцарей. Под их тяжестью провалился эшафот. Французам пришлось перерезать им глотки. Воспламененные жаждой крови захватчики рыскали по городу в поисках владетельницы Лавора Жиранды, покровительствовавшей Bons Homes. Они схватили ее и обесчестили. Проволокли по городу как преступницу и бросили в колодец, а сверху наваливали камни, пока она не умерла. Она была похоронена заживо. Или, может быть, захлебнулась. — Они знали об этих несчастьях? — спросила Элис. — Некоторые новости доходили до Сажье и Элэйс, но порой много месяцев спустя. Война пока шла на равнине. Они жили в Лос Серес с Арифом. Вели простую жизнь, но счастливую. Собирали хворост, солили впрок мясо на долгие темные зимние месяцы, учились печь хлеб и крыть крышу соломой, чтобы защититься от зимних бурь. Бальярд говорил негромко и мечтательно. — Ариф научил Сажье читать и писать — сперва на языке Ока, потом на наречии захватчиков. Обучил его и начаткам арабского и еврейского. — Старик улыбнулся: — Сажье не был прилежным учеником, руки и ноги у него были сильнее головы, но с помощью Элэйс он делал успехи. — Может, он хотел что-то доказать ей? Бальярд покосился на девушку, но не ответил ей. — Так все и шло до той Пасхи, когда Сажье исполнился тринадцатый год. Тогда Ариф объявил, что его примут пажом в дом Пьера Роже де Мирпуа, где он начнет обучаться рыцарским искусствам. — А Элэйс согласилась? — Она была рада за него. Мальчик ведь только об этом и мечтал. Он еще в Каркассоне с завистью глазел на конюших, чистивших сапоги и шлемы своим господам. Пробирался на ристалище подсматривать их поединки. Происхождение не позволяло ему стать шевалье, но вовсе не мешало мечтать о гербе и шпорах. И теперь казалось, что мечта его все-таки сбудется. — И он уехал? Бальярд кивнул. — Пьер Роже де Мурпуа был строгим господином, но справедливым, и имел репутацию хорошего наставника будущих рыцарей. Дело было нелегким, но Сажье был проворным, сильным мальчишкой и очень старался. Он научился пронзать копьем «квентина»,[286] упражнялся с мечом, палицей, ядром на цепи, с кинжалом… Научился прямо держаться в высоком седле. Старик устремил невидящий взгляд на вершины гор, а Элис не в первый раз подумала, глядя на него, что исторические персонажи, в обществе которых Бальярд провел большую часть жизни, стали для него живыми людьми из плоти и крови. — А что тем временем было с Элэйс? — Пока Сажье жил в Мирпуа, Ариф посвящал Элэйс в обряды и ритуалы Noublesso. Она уже прославилась как целительница и знахарка. Редкую болезнь души или тела она не могла излечить. Ариф много рассказывал ей о движении звезд, о законах, движущих миром, черпая из источников древней мудрости своей родины. Элэйс догадывалась, что это делается неспроста. Что он готовит ее — а может быть, и Сажье — к исполнению их миссии. Сажье между тем редко вспоминал о маленькой деревушке в горах. Крохи вестей об Элэйс временами доходили в Мирпуа. Их приносили пастухи и добрые христиане, но сама она не приезжала. Сестрица Ориана позаботилась, чтобы за ее голову назначили награду золотом. Ариф прислал Сажье деньги на покупку коня, кольчуги, доспехов и меча. В пятнадцать лет его уже посвятили в рыцари. — Бальярд помолчал. — Вскоре после того он отправился на войну. Те, кто, в надежде на милость, отдали свой жребий французам, сменили покровителей. В их числе был граф Тулузский. На этот раз его сюзерен, Педро Арагонский, откликнулся на призыв и в январе 1213 года двинул войско на север. К нему присоединился владетель Фуа, и вместе у них хватало сил, чтобы нанести значительный ущерб оставшемуся без союзников Монфору. Всентябре 1213 года северная и южная армии сошлись лицом к лицу в Мюре. Педро был отважным полководцем и искусным стратегом, но атака захлебнулась, и в разгар битвы Педро пал. Южане остались без предводителя. Помолчав, Бальярд добавил: — Среди тех, кто сражался за независимость Каркассоны, был шевалье дю Мас. Он хорошо показал себя. Его любили. Люди шли за ним… Странно он говорил. Восхищение в его голосе смешивалось с другим чувством, которого Элис не могла понять, а поразмыслить над этим ей было некогда, потому что рассказ Бальярда шел дальше. — В 1218 году Волк был сражен. — Какой волк? Он вскинул ладонь. — Простите. В балладах того времени, например в «Canso de lo Crosada», Монфора именуют Волком. Он погиб, осаждая Тулузу. Был убит попаданием в голову снаряда катапульты. Говорят, из нее стреляла женщина. Элис невольно улыбнулась. — Его тело перенесли в Каркассону и похоронили по обычаю северян. Сердце и внутренности отправили в Сен-Сернен, а тело — в собор Святого Назария, где похоронили под могильной плитой, которая теперь находится на стене в южном трансепте базилики. — Бальярд помолчал. — Вы, может быть, заметили ее, когда осматривали город? Элис вспыхнула. — Я… я не смогла зайти в собор, — призналась она. Бальярд взглянул на нее и не стал больше говорить о могиле. — Сын Симона де Монфора, Амори, сменил его, но оказался плохим военачальником и сразу стал терять земли, захваченные отцом. В 1224 году Амори отступил. Род де Монфор отказался от прав на земли Тренкавелей. Сажье теперь мог вернуться домой. Пьер Роже де Мирпуа отпустил его неохотно, однако Сажье должен был… Он вдруг вскочил и порывисто отмерил несколько шагов вниз по склону. Заговорил снова, не оборачиваясь к Элис. — Ему было двадцать шесть, — сказал он. — Элэйс была старше, но Сажье… он надеялся. Он теперь смотрел на нее другими глазами — не как брат на сестру. Понятно, они не могли пожениться, потому что Гильом дю Мас был еще жив, но он надеялся, что теперь, когда он показал себя, между ними будет нечто большее. Элис решительно встала и подошла к нему. Когда она взяла его под руку, Бальярд дернулся, словно совсем забыл о ее существовании. — И что? — тихо спросила она, ощущая странное беспокойство. Ей казалось, она подслушивает рассказ, не предназначенный для чужих ушей. — Он осмелился заговорить с ней. — Голос его дрогнул. — Ариф знал. Если бы Сажье спросил у него совета, он дал бы совет. А так — молчал. — Может быть, Сажье не хотел слышать совета Арифа, потому что знал, каким он будет? Бальярд слабо улыбнулся: — Benleu. Может быть. Элис ждала. — И что же, — не выдержала она, когда стало ясно, что старик не собирается продолжать. — Сажье сказал ей о своих чувствах? — Сказал. — Ну, — жадно спросила Элис. — Что она ответила? Бальярд повернулся и взглянул ей в лицо. — А вы не знаете? — тяжело спросил он. — Дай вам Бог никогда и не узнать, что значит так любить, без надежды на ответную любовь. — Но она же его любила! — горячо воскликнула Элис. — Как брата! Разве этого недостаточно? Бальярд улыбнулся ей. — Он удовольствовался этим, — твердо сказал он. — Но ему было этого недостаточно. Он повернулся и зашагал к дому. — Прошу, — сказа он, пропуская вперед Элис и снова возвращаясь к официальным манерам. — Я немного разгорячился, а вы, maidomasela Таннер, должно быть, устали в дороге. Он вдруг показался Элис очень измученным и бледным. Она виновато покосилась на часы и увидела, что они проговорили много дольше, чем она думала. Был почти полдень. — Ну конечно, — сказала она, предлагая ему руку. Они вместе медленно прошли к дому. — Если вы меня извините, — обратился он к Элис, когда они оказались внутри, — я должен немного поспать. Может быть, и вы отдохнете? — Я и правда устала, — призналась она. — Я проснусь и приготовлю поесть, а потом закончу рассказ. Пока не стало смеркаться и есть время не думать о других вещах. Она смотрела, как он уходит в заднюю половину комнаты и задергивает за собой занавеску. Потом, отчего-то чувствуя себя обделенной, прихватила подушку и одеяло и вышла наружу. Она устроилась под деревом и только тогда поняла, насколько захватило ее прошлое. Она ни разу за утро не вспомнила про Шелаг. И про Уилла.ГЛАВА 68
— Чем ты занята? — спросил Франсуа-Батист, входя в комнату маленького безымянного шале неподалеку от пика де Соларак. Мари-Сесиль держала перед собой на мягкой черной подставке для книг открытую «Книгу Чисел». Она не взглянула на сына. — Изучаю расположение зала. Франсуа-Батист присел к столу рядом с ней. — Зачем? — Чтобы запомнить различия между этим чертежом и настоящей пещерой. Он заглянул ей через плечо. — И много их? — Несколько. Вот. — Ее палец завис над книжной страницей, алый ноготь чуть просвечивал сквозь защитную нитяную перчатку. — Наш алтарь расположен здесь, как обозначено. В пещере он ближе к стене. — Но ведь тогда он должен заслонять резьбу на стене? Она обернулась, не скрывая, что удивлена столь разумным замечанием, прозвучавшим из его уст. — Если первые стражи так же, как Noublesso Veritable, пользовались для своих ритуалов «Книгой Чисел», расположение должно совпадать, верно? — Этот вывод напрашивается, — признала она, — однако там нет надгробия — наиболее очевидное из различий, хотя, надо заметить, могила, где лежали скелеты, оказалась точно на том же месте. — О тех телах больше ничего не известно? — спросил он. Она покачала головой. — Так мы и не узнаем, кто они были? Она пожала плечами. — Это важно? — Вероятно, нет, — отозвался он, хотя мать заметила, что ее равнодушие к этому вопросу тревожит юношу. — В сущности, — продолжала она, — я полагаю, все это не имеет значения. Главное — чертеж, тропа, которой проходит navigataire, произнося слова. — Ты вполне уверена, что сумеешь прочесть слова по «Книге Слов»? — Если она относится к тому же времени, что остальные пергаменты, — да, уверена. Иероглифы достаточно просты. Предвкушение нахлынуло на нее так внезапно и остро, что она вскинула руку, словно невидимая рука схватила ее за горло. Сегодня ночью она произнесет забытые слова. Сегодня сила Грааля снизойдет на нее. Время покорится ей. — А если О'Доннел лжет? — сказал Франсуа-Батист. — Если у нее нет книги? И Оти тоже ее не нашел? Мари-Сесиль распахнула глаза, пораженная его жестким, вызывающим тоном. Она с неприязнью взглянула на сына. — «Книга Слов» там, — сказала она. Настроение ушло. Мари-Сесиль досадливо захлопнула «Книгу Чисел» и вложила ее в чехол. На ее место поставила «Книгу Бальзамов». Внешне книги казались одинаковыми. Те же деревянные, обтянутые кожей доски переплета, скрепленные кожаными шнурами. Первая страница пуста, если не считать выведенной в центре золотом маленькой чаши. Пуст и оборот первого листа. На третьей странице слова и знаки, которые повторялись на стенах подземелья на рю дю Шеваль Бланк. Первая буква каждой страницы была выведена голубой, красной или желтой краской и обведена золотой каймой, но остальной текст шел сплошняком, без пробелов, показывающих, где кончается одна мысль и начинается другая. Мари-Сесиль развернула пергамент, вшитый в середину книги. Между иероглифами виднелись выведенные зеленым цветом рисунки растений и символы. Годы исследований, на которые ушла немалая часть состояния Л'Орадоров, убедили ее деда, что ни один из этих значков не имеет значения. В счет шли только иероглифы, начерченные на двух пергаментах Грааля. Все прочее: слова, картинки, краски — использовалось только чтобы затемнить, приукрасить и скрыть истину. — Она там, — повторила Мари-Сесиль, с бешенством глядя на сына. На его лице оставалось сомнение, но юноша благоразумно промолчал. — Принеси мои вещи, — приказала мать. — А потом узнай, где сейчас машина.Минуту спустя он вернулся с ее квадратной косметичкой. — Куда положить? — Туда. Она кивнула на туалетный столик. Как только сын вышел, она пересела к нему. На коричневой коже чемоданчика было золотое тиснение — ее инициалы. Подарок деда. Она открыла крышку. Внутри было крупное зеркальце и несколько футлярчиков для кисточек, пуховок и золотых маникюрных ножниц. Косметика аккуратными рядами крепилась к внутренней стороне крышки. Помады, тени, тушь для ресниц, пудра, угольный карандаш. В более глубоком отделении под второй крышкой скрывались три красные кожаные шкатулки, украшенные драгоценными камнями. — Где они? — спросила Мари-Сесиль, не поворачивая головы. — Недалеко, — ответил сзади Франсуа-Батист. Голос звучал напряженно. — С ним все в порядке? Он подошел сзади, положил ладони ей на плечи. — Тебе не все равно, мама? Мари-Сесиль перевела взгляд со своего отражения в зеркальце на лицо сына, видневшееся в рамке зеркала, как на семейном портрете. Голос звучал непринужденно, но глаза его выдавали. — Все равно, — сказала она, и он чуть расслабился. — Просто интересуюсь. Он сжал ее плечи и тут же отдернул руки. — Жив, раз уж тебе интересно. Доставил некоторое беспокойство при выгрузке. Пришлось немного утихомирить. Она подняла бровь: — Надеюсь, они не перестарались. От полумертвого мне никакого проку! — Мне? — резко повторил он. Мари-Сесиль прикусила язык. Франсуа-Батист был нужен ей послушным, а не бунтующим. — Нам, — поправилась она.
ГЛАВА 69
Когда пару часов спустя Одрик вышел из дома, Элис дремала в тени под деревьями. — Я приготовил поесть, — сказал он. Сон пошел ему на пользу. Кожа уже не выглядела восковой, и глаза ярко блестели. Элис подобрала постель и прошла в комнату. На столе были разложены козий сыр, оливки, помидоры, персики, стоял кувшин с вином. — Прошу вас, берите, что угодно. Как только они уселись, Элис высказала вопрос, давно вертевшийся в голове. Тем более что старик почти не ел, только выпил немного вина. — А Элэйс не пыталась вернуть те книги, которые у нее украли муж и сестра? — Ариф вознамерился собрать трилогию вместе, как только над землями Ока нависла угроза войны, — ответил Одрик. — Но благодаря стараниям Орианы за голову Элэйс была назначена награда, поэтому она не могла свободно передвигаться. Если иногда и спускалась в долину, то всегда переодетой. Ей нечего было и думать пробраться на север. Вот Сажье несколько раз пробовал проникнуть в Шартр. Но ни одна попытка не удалась. — Ради Элэйс? — Отчасти, но больше ради своей бабушки, Эсклармонды. Из-за нее он чувствовал себя связанным с Noublesso de los Seres — так же как Элэйс из-за отца. — Что сталось с Эсклармондой? — Многие Bons Homes переселились на север Италии. Эсклармонда была слишком слаба для такого дальнего пути. Гастон с братом увезли ее в маленькую наваррскую деревушку, и там она жила до самой смерти — не так уж много лет. Сажье всегда навещал ее, если выпадала возможность. — Бальярд помолчал. — Элэйс очень горевала, что они так больше и не увиделись. — А что с Орианой? — спросила Элис немного погодя. — О ней Элэйс что-нибудь знала? — Вести доходили очень редко. Самой интересной была новость о строительстве лабиринта в кафедральном соборе Нотр-Дам в Шартре. Никто не знал, чьей волей он выстроен и что должен означать. Отчасти потому Эвре с Орианой обосновались там, вместо того чтобы вернуться в его северные владения. — Да и сами книги были изготовлены в Шартре… — А на самом деле он был сооружен, чтобы отвлечь внимание от пещеры лабиринта на юге. — Я его вчера видела, — сказала Элис. «Неужели это было только вчера?» — …И ничего не почувствовала. То есть он очень красивый, впечатляющий — и только. Одрик кивнул. — Ориана добилась, чего хотела. Гай д'Эвре увез ее на север и сделал своей женой. Она расплатилась, передав ему «Книгу Бальзамов» и «Книгу Чисел», и обещала продолжить поиски «Книги Слов». — Женой? — нахмурилась Элис. — Но ведь… — Жеан Конгост? Он был хороший человек. Педант, ревнивый и скучноватый, но он был верным слугой. Его убил Франсуа по приказу Орианы. — Бальярд замолчал на минуту, прежде чем продолжить: — Франсуа заслужил смерть. Он плохо кончил, но лучшего не заслужил. Элис покачала головой. — Я вообще-то думала о Гильоме. — Он остался в Миди. — Разве Ориана не подавала ему надежды? — Он неустанно пытался изгнать с юга захватчиков. Через несколько лет он собрал в горах множество сторонников. Сперва предложил свой меч Пьеру Роже де Мирпуа. Впоследствии, когда виконт Тренкавель пытался вернуть земли, отнятые у его отца, Гильом сражался за него. — Он переметнулся на другую сторону? — поразилась Элис. — Нет, он… — Бальярд вздохнул. — Нет. Нет, Гильом дю Мас никогда не изменял Тренкавелю. Он был дураком, бесспорно, но не предателем. Ориана использовала его. Перед падением Каркассоны его захватили в плен вместе с виконтом Тренкавелем. Но ему удалось бежать. — Одрик глубоко вздохнул и с явным усилием заключил: — Он не был предателем. — Но Элэйс считала его подлецом, — тихо проговорила Элис. — Он сам разрушил свое счастье. — Да, понимаю, и все же… жить с таким раскаянием, зная, что Элэйс считает его не лучше… — Гильом не заслужил сочувствия, — резко перебил Бальярд. — Он изменил Элэйс, нарушил брачный обет, унизил ее. И несмотря на все, она… — Он осекся. — Простите. Не всегда легко сохранять объективность. «Отчего это так волнует его?» — Он никогда не пытался увидеться с Элэйс? — Он ее любил, — просто сказал Одрик. — И боялся навести французов на ее след. — И она тоже не пыталась? Одрик покачал головой: — А как бы вы поступили на ее месте? Элис задумалась: — Не знаю. Если она его любила, несмотря на все, что он сделал… — Вести о подвигах Гильома время от времени доходили и в деревушку. Элэйс молчала, но втайне гордилась им. Элис заерзала на стуле. Одрик заметил ее нетерпение и заговорил быстрее. — Пять лет после возвращения Сажье держался неустойчивый мир. Они с Арифом и Элэйс жили хорошо. В горы переселились и другие беглецы из Каркассоны. В их деревне жила бывшая служанка Элэйс, Риксенда. Жизнь была простой, но хорошей… — Одрик помолчал. — В 1226 году все рухнуло. На французский престол взошел новый король. Святой Людовик был яростным защитником святой веры. Он не мог спокойно видеть живых еретиков. А в Миди, несмотря на многолетние преследования и гонения, церковь катаров по-прежнему соперничала с католической в могуществе и влиянии. Пять катарских епископов: в Тулузе, Альби, Каркассоне, Агене и Разесе — многими почитались более, чем католические пастыри. Поначалу все это не коснулось Сажье и Элэйс. Они жили как прежде. Зимой Сажье уехал в Испанию, чтобы собрать деньги и оружие для сопротивления. Элэйс осталась. Она была опытной наездницей, хорошо владела мечом и луком и отважно взяла на себя долг связной между вождями сопротивления в Арьеже и в ущельях гор Сабарте. Она проводила Совершенных в убежища, доставляла еду и припасы, разносила вести о том, где молено получить помощь. Совершенные большей частью бывали странствующими проповедниками и кормились своим трудом. Чесали шерсть, пекли хлеб, пряли. Они путешествовали по двое: более опытный наставник с молодым учеником. Обычно двое мужчин, конечно, но бывали и женщины. Элис улыбнулась. — Такие же как Эсклармонда, когда-то учившая Элэйс в Каркассоне. — Отлучения, индульгенции для крестоносцев, новые кампании по искоренению ереси — все могло бы тянуться еще долго, если бы не новый папа. Папа Гонориус III. Он не желал ждать. В 1233 году он взял святую инквизицию под свой непосредственный контроль. Ее назначением было уничтожать еретиков повсюду и любыми средствами. Своими агентами он избрал доминиканцев, «черных братьев». — Я думала, инквизиция возникла в Испании. Чаще всего упоминается в этом контексте… — Распространенное заблуждение, — возразил Бальярд. — Нет, инквизиция была учреждена для борьбы с катарами. Начался террор. Инквизиторы разъезжали по городам, обвиняя, отлучая, вынося приговоры. Повсюду у них были соглядатаи. Выкапывали даже трупы, похороненные в освященной земле, чтобы сжечь на кострах, как еретиков. Пользуясь признаниями и полупризнаниями, инквизиторы выслеживали катаров в деревнях, селениях, городах. Земли Ока захлестнула война убийств, совершаемых под личиной правосудия. Добрых, честных людей приговаривали к смерти. В каждом крупном городе, от Тулузы до Каркассоны, был суд инквизиции. Осудив свою жертву, инквизиторы передавали ее в руки светской власти для заключения в тюрьму, наказания кнутом или сожжения. Их руки были чисты. Оправдывали немногих. И даже те, кого освобождали, должны были носить на одежде желтый крест — клеймо еретика. В памяти Элис мелькнула картина: бегство по лесу от охотников. Падение. И клочок материи, осенним листом плывущий в воздухе рядом с ней. «Приснилось?» Заглянув в лицо Одрику, Элис увидела в нем такое отчаяние, что у нее перевернулось сердце. — В мае 1234 года инквизиция появилась в Лиму. К несчастью, в то самое время, когда Элэйс с Риксендой приехали туда. В общей сумятице — быть может, их, женщин, путешествующих вдвоем, приняли за катарских священниц — их схватили и отправили в Тулузу. «Этого я и боялась…» Они не назвали своих настоящих имен, и потому Сажье услышал об этом только несколько дней спустя. Он помчался туда, не думая о собственной безопасности. Но ему не повезло. Заседания суда инквизиции обычно проводились в соборе Сен-Сернен, и он надеялся найти ее там. Однако Элэйс с Риксендой отправили в монастырь Сен-Этьен. Элэйс задохнулась, вспомнив черных монахов, увлекающих прочь призрачную женщину. — Я была там… — сумела выговорить она. — Их содержали в ужасных условиях. Грязь, издевательства, унижения. Пленниц держали в темноте, в холодных камерах, и только крики других заключенных помогали отличить день от ночи. Многие умерли, не дождавшись суда. Элис пыталась заговорить, но у нее пересохло в горле. — Она… — Голос сорвался. — Дух человека способен перенести многое, но, однажды сломленный, он распадается в прах. Вот что делали инквизиторы. Они ломали наши души так же верно, как палачи ломали кости, и мы уже не помнили, кем были… — Расскажите, — коротко попросила Элис. — Сажье опоздал, — ровным голосом проговорил он, — Но Гильом успел вовремя. Он узнал, что для допроса доставили знахарку из гор, и угадал, что это Элэйс, хотя ее имени не было в списках. Он подкупил охрану — подкупил или запугал, не знаю, — и его пропустили к ней. Он нашел Элэйс. Их с Риксендой держали отдельно от других, и потому он сумел вывести ее из Сен-Этьена, а потом и из Тулузы, прежде чем побег был замечен. — Но… — Элэйс была уверена, что ее схватили по приказу Орианы. Так или иначе, за время заключения ее ни разу не допрашивали. Глаза Элис наполнились слезами. — Он проводил ее за горы? — спросила она, поспешно вытирая лицо кулаком. — Она вернулась домой? Бальярд кивнул. — Вернулась. В августе, как раз перед Успением. Риксенда была с ней. — А Гильом? — вырвалось у Элис. — Гильома не было. И они больше не встречались, пока… — Он замолчал, и Элис скорее почувствовала, чем услышала его вздох. — Через шесть месяцев у нее родилась дочь. Элэйс назвала ее Бертраной, в память отца, Бертрана Пеллетье. Слова Одрика, казалось, повисли в воздухе между ними. «Еще один кусок головоломки…» — Гильом и Элэйс, — прошептала она. В памяти стоял лист с фамильным древом, развернутый на полу в комнатке Грейс. Имя «Элэйс Пеллетье дю Мас (1193–?)», обведенное красными чернилами. Тогда ей не удалось прочитать имени, стоявшего рядом, — только имя Сажье, вписанное зелеными чернилами внизу и чуть в стороне. — Элэйс и Гильом, — повторила она вслух. «Прямая линия потомков от них ко мне…» Элис отчаянно хотелось узнать, что произошло за те три месяца, когда Элэйс с Гильомом были вместе. Почему они снова расстались? И еще ей хотелось знать, почему символ лабиринта вставлен рядом с именами Элэйс и Сажье. «И рядом с моим». Она подняла взгляд, сдерживая подступившее волнение. И неминуемо разразилась бы чередой вопросов, если бы ее не остановило лицо Одрика. Элис чутьем поняла, что не надо больше говорить о Гильоме. — Что было дальше? — тихо спросила она. — Элэйс с дочерью остались в Лос Серес, с Арифом и Сажье? По его лицу скользнула улыбка, и Элис поняла: он благодарен ей за то, что она сменила тему. — Чудесная была малышка, — сказал он. — Добрая, красивая, вечно смеялась или напевала. Ее все обожали, и особенно Ариф. Бертрана часами сидела с ним, слушала рассказы о Святой земле и о дедушке, Бертране Пеллетье. Когда подросла, бегала по его поручениям. Ей было шесть лет, когда Ариф научил ее играть в шахматы. Одрик умолк. Лицо его снова помрачнело. — Но тем временем черная рука инквизиции протягивалась все дальше. Подчинив равнинные земли, крестоносцы обратились наконец к непокорным твердыням Сабарте и Пиренеев. Сын Тренкавеля, Раймон, в 1240 году вернулся из изгнания с отрядом шевалье. К нему присоединилась почти вся знать Корбьер. Он без труда отбил большую часть городов между Лиму и Монтань Нуар. Вся страна взялась за оружие: Сайссак, Азиль, Лаура, крепости Кверибуса, Пейрепертрузы, Агвилара. Но взять Каркассону ему не удалось. После месяца сражений, в октябре, Раймон отступил к Монреалю. Никто не пришел ему на помощь, и в конце концов, он должен был отойти в Арагон. Одрик помолчал. — Немедленно начался террор. Монреаль, и Монтолье тоже, сровняли с землей. Лиму и Алет сдались. Элэйс, как любому из нас, было ясно, что народу придется расплачиваться за неудачу восстания. Он вдруг прервал себя и поднял глаза. — Вы не бывали в Монсегюре, maidomasela Элис? Она покачала головой. — Это необыкновенное место. Может быть, святое. Даже теперь дух его сохранился. Крепость, врезанная в склон горы, Господень храм в небесах. — Гора-убежище, — непроизвольно повторила Элис и покраснела, сообразив, что цитирует Бальярду слова из его же книги. — За много лет до того, в самом начале Крестового похода, главы катарских церквей обратились к сеньеру Монсегюра, Раймону де Перелье, с просьбой восстановить полуразрушенный кастеллум и усилить укрепления. В 1243 году гарнизоном его командовал Пьер Роже де Мирпуа, в доме которого обучался Сажье. Элэйс боялась за Бертрану и Арифа и не хотела больше оставаться в Лос Серес. И тогда Сажье помог им с другими беглецами пробраться в Монсегюр. Одрик кивнул: — Да, но в пути их заметили. Может, им следовало разделиться. Имя Элэйс было теперь и в реестре инквизиции. — Элэйс принадлежала к катарам? — спросила вдруг Элис, сообразив, что до сих пор не получила ответа на этот вопрос. Он ответил не сразу. — Катары верили, что мир, который мы видим, слышим, ощущаем и обоняем, создан дьяволом. Они верили, что дьявол обманом выманил чистые души из Божьего царства и заключил их в одежды плоти здесь, на Земле. Верили, что, если достойно прожить земную жизнь и «хорошо умереть», души их смогут освободиться из плена и в небесной славе вернуться к Богу. А если нет, то на четвертый день душа перевоплощается на Земле, чтобы начать новый круг. Элис вспомнила слова в библии Грейс: «Что рождено от плоти, есть плоть, и что рождено от Духа, есть дух». Одрик кивнул. — Вы должны понять: люди любили Bons Homes. Они не наживались на совершении брачных обрядов, крещении и заупокойных службах. Они не взимали подати и не требовали десятины. Рассказывали, как один Совершенный увидел в поле крестьянина, стоящего на коленях. «Что ты делаешь?» — спросил он. «Благодарю Бога за хороший урожай». Совершенный с улыбкой поднял крестьянина на ноги: «Благодари не Бога, а самого себя. Ведь это твоими руками вспахана по весне земля, и ты заботился о посевах». — Одрик взглянул в лицо Элис. — Вы понимаете? — Кажется, да, — неуверенно сказала она. — Они считали, что личность сама распоряжается своей жизнью. — В пределах и рамках времени и места, где мы родились, — да. — Но Элэйс придерживалась этого образа мыслей или нет? — Элэйс была такой же, как они. Помогала людям, больше заботилась о других, чем о себе. Поступала так, как считала верным, даже вопреки обычаям и традициям. — Он улыбнулся. — И, так же как они, не верила в Страшный суд. Она считала, что зло, которое мы видим вокруг, не может быть делом Господа, но… в конечном счете, нет. Она не исповедовала веру катаров. Она верила в мир, который можно видеть и осязать. — А Сажье? Одрик уклонился от прямого ответа. — Сейчас все используют термин «катары», но верующие во времена Элэйс называли себя «Bons Homes». А латинские документы на латыни именуют их «albigenses» или «heretici». — Откуда же пошло название «катары»? — А, знаете, нельзя позволять победителям писать за нас нашу историю, — усмехнулся Бальярд, словно вспоминая какую-то старую шутку. — Это название мы… Существуют, знаете ли, разные объяснения. В том числе, что «catar» по-окситански — «cathare» по-французски — происходит от греческого «katharos» — чистые. Кто знает? Элис нахмурила брови, пытаясь уловить скрытый смысл, но так и не поняла намека. — Ну ладно, а сама религия? Она откуда происходит? Не из Франции? — Истоки европейского катарства лежат в учении богомилов — дуалистической религии, процветавшей в Болгарии, Македонии и Далмации за век до того. Богомилы в родстве с более древними религиями — персидским зороастризмом и манихейством. Те тоже допускали перевоплощение душ. В голове у Элис потихоньку связывались прежние знания с тем, что она услышала от Одрика, и начали возникать новые идеи. «Потерпи, и все проявится само». — В библиотеке Лиона, — продолжал он, — хранится рукописная копия катарского текста евангелия от Иоанна — один из немногих документов, избежавших уничтожения инквизиторами. Он написан на langue d'Oc, владение которым в те времена считалось преступным и наказуемым деянием. Из всех священных текстов Bons Homes евангелие от Иоанна было самым важным. В нем особое ударение делается на персональном, индивидуальном просветлении посредством «гнозиса» — знания. Bons Homes отказывались поклоняться идолам, крестам и алтарям, вырезанным из камня и дерева — низкие творения дьявола, но слово Божие они глубоко чтили. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». — Перевоплощение, — повторила она, размышляя вслух. — Как это примирить с каноническим христианством? — В христианском завете главным считается дар вечной жизни для верующих в Христа и возрождение во мгле которого он претерпел муки на кресте. Перевоплощение — тоже одна из форм вечной жизни. «Лабиринт. Путь к вечной жизни». Одрик встал и прошел к открытому окну. Элис смотрела в его тонкую прямую спину и ощущала в нем решимость, которой не было прежде. — Скажите, maidomasela Таннер, — заговорил он, оборачиваясь к ней, — вы верите в судьбу? В дороги, которые мы выбираем, чтобы стать теми, кто мы есть? — Я… — начала она и остановилась. Она уже не была так уверена в своих мыслях. Здесь, среди живущих в вечности гор, высоко над облаками, будничные слова и привычные ценности теряли смысл. — Я верю своим снам, — сказала она. — Вы верите, что можно изменить свою судьбу? — настойчиво повторил Одрик. Элис невольно кивнула. — Иначе, какой смысл? Если мы просто идем по уготованной нам дороге, тогда мы сами — наша любовь, горе, радость, учение, любые перемены — ничто. — И вы не стали бы мешать другому сделать свой выбор? — Смотря по обстоятельствам, — медленно проговорила она, внезапно встревожившись. — А что? — Я прошу вас запомнить этот разговор, — мягко сказал он. — Только и всего. Когда придет время, я попрошу вас вспомнить. Si es atal es atal. Его слова что-то затронули в ней. Элис была уверена: она их уже слышала. Тряхнула головой, но память не возвращалась. — Что будет, то будет, — тихо повторил он.ГЛАВА 70
— Месье Бальярд, я… Одрик: вскинул ладонь. — Benleu, — сказал он, садясь к столу и подхватывая нити рассказа, словно и не прерывал его, — обещаю, я расскажу все, что вам нужно знать. Элис открыла рот — и закрыла снова. — Цитадель была переполнена, — заговорил он, — и все-таки то было счастливое время. Элэйс здесь ничего не боялась. Бертрана, которой скоро должно было исполниться десять, сдружилась с ребятишками, жившими в крепости и в окрестных селениях. И Ариф, состарившийся и одряхлевший, был доволен: у него была Бертрана, чтобы ею любоваться, и множество Совершенных, с которыми можно было поспорить о природе мира и божества. Сажье почти все время проводил с ней. Элэйс была счастлива. Элис прикрыла глаза, впуская в себя ожившее прошлое. — То было хорошее время, и оно могло бы продолжаться долго, если бы не несчастье, вызванное безрассудной мстительностью. Двадцать восьмого мая 1242 году Пьеру Роже сообщили, что в городке Авиньонет появились четверо инквизиторов. Значит, новые верующие и Совершенные будут схвачены и отправлены на костер. Он решил действовать. Вопреки советам своих подчиненных, в том числе и Сажье, он вывел из гарнизона Монсегюра восемьдесят пять рыцарей. По дороге к ним присоединились многие другие. Пятьдесят миль до Авиньонета они преодолели за один день. Инквизитор Гильом Арно и трое его соратников уже легли, когда кто-то в доме отпер дверь и впустил пришедших. Двери спален взломали, инквизиторов вместе с охраной изрубили. Семеро шевалье спорили потом, доказывая, каждый, что именно он нанес первый удар. Говорят, Гильом Арно умер с молитвой «Те Deum» на устах. Несомненно одно — протоколы инквизиции унесли прочь и уничтожили. — Так это хорошо! — Они только и ждали подобного предлога. Ответ последовал незамедлительно. Король приказал полностью и навеки уничтожить Монсегюр. У подножия горы собралось войско северных баронов, католических инквизиторов и наемников. Началась осада, однако это не мешало обитателям цитадели выходить и возвращаться в крепость, когда им вздумается. За пять месяцев гарнизон потерял всего трех человек, и казалось, осаждающие уйдут ни с чем. Крестоносцы подрядили отряд баскских наемников, и те, вскарабкавшись на скалы, разбили лагерь у самых стен, не больше расстояния броска камнем. Это было как раз в начале жестокой горной зимы. Они не представляли большой опасности, однако Пьер Роже решил отвести своих людей с внешних укреплений более слабой, восточной стороны крепости. Это ошибка обошлась дорого. Пособники из местных донесли католикам об отступлении, и наемники без опаски взяли крутую стену юго-восточного склона. Они перерезали часовых и овладели Башенной скалой — каменным шпилем, высившимся на самой восточной оконечности гребня Монсегюр. Нам оставалось только бессильно наблюдать, как они втаскивают на Башенную скалу катапульты и баллисты. В то же время установленная на восточном склоне большая стенобитная машина постепенно разрушала укрепления у моста. В рождественскую ночь 1243 года французы захватили подъемный мост. От крепости их отделяло теперь не более нескольких десятков метров. Они устанавливали новые осадные машины. Южная и восточная стены крепости остались без прикрытия. Говоря, Бальярд непрестанно поворачивал на пальце каменное кольцо. Элис смотрела на него и вспоминала другого человека, так же крутившего кольцо за рассказом.— Тогда мы впервые, — продолжал Одрик, — задумались о том, что будет, если Монсегюр не выстоит. Внизу, в долине развевались штандарты и знамена Римской католической церкви и «Флер-де-лиль» короля Франции — выгоревшие под летним солнцем, потрепанные, изорванные осенними дождями и зимними бурями, — но все же развевались. Армия крестоносцев под предводительством сенешаля Каркассоны Хьюго де Арсиса насчитывала шестнадцать тысяч человек. В крепости способных к бою мужчин было не больше сотни. Элэйс хотела… — Он недоговорил. — Собрались на совет вожди катарской церкви: епископ Бертран Мартен и Раймон Агвильяр. — Катарские сокровища… Значит, это не сказка? Бальярд кивнул. — Двое кредентов, Мэтью и Петер Бонне, вызвались исполнить дело. Тепло укутавшись, чтобы вытерпеть жестокий новогодний мороз, они под покровом ночи на спинах вынесли сокровища из крепости и, не выходя на охраняемые равнинные дороги, ушли на юг, к горам Сабарте. Элис вскинула на него округлившиеся глаза. — На пик де Соларак? Он снова кивнул. — Там сокровища передали другим хранителям. Горные перевалы были непроходимы из-за зимнего снега, поэтому они направились в порт и отплыли в Ломбардию. В Северной Италии еще жили в относительном спокойствии общины Bons Homes. — А братья Бонне? — Мэтью вернулся один — в конце джанвиера. Часовые на дороге были местные, парни из Камон сюр л'Эр под Мирпуа. Они пропустили знакомца. Матью говорил, что будет подмога — ходили слухи, будто новый король Арагона весной придет на помощь. Все это были слова: кольцо осады сомкнулось так плотно, что никакие подкрепления уже не могли бы прорвать его. Одрик глянул янтарными глазами на Элис. — Доходили к нам слухи и о том, что Ориана в сопровождении мужа и сына приехала с севера и привела помощь осаждающим. Это могло означать лишь одно: она впервые узнала точно, что Элэйс жива, и знала, где она скрывается. Ей нужна была «Книга Слов». — Но неужели Элэйс взяла книгу с собой? Одрик оставил вопрос без ответа. — В середине февраля крестоносцы начали новый штурм. Первого марта 1244 года, после последней попытки сбросить басков с Башенной скалы, на бастионе осажденной крепости прозвучал одинокий рожок. — Он с трудом сглотнул. — Раймон де Перейль, сеньер Монсегюра, и Пьер Роже де Мирпуа, командующий гарнизоном, вышли из главных ворот, чтобы сдаться Уго де Арсису. Сражение было окончено. Пал Монсегюр, последняя твердыня. Элис откинулась назад. Ей не нравился такой конец. — Зима выдалась жестокая и морозная — и в горах, и в долине. Обе стороны были измотаны. Переговоры не затянулись надолго. На следующий день архиепископ Нарбонны, Петр Амелий, подписал акт капитуляции. Условия сдачи были великодушными. Можно сказать, небывало мягкими. Крепость переходила в собственность католической церкви и французской короны, но каждый из ее обитателей получал помилование за все прошлые преступления. Прощены были даже убийцы четверых инквизиторов в Авиньонете. На сражавшихся, после исповеди перед инквизиторами, будет наложена легкая епитимья, и они получат свободу. И всякий, кто отречется от еретической веры, будет освобожден с единственным наказанием — он должен будет носить на одежде крест. — А кто не отречется? — спросила Элис. — Кто не отречется, будет сожжен на костре, как еретик. Бальярд глотнул вина. — Обычай требовал передачи заложников в закрепление договора. Заложниками стали брат епископа Бертрана, Раймон, старый рыцарь Арно Роже де Мирпуа и младший сын Раймона де Перейля. Необычным в этом договоре было обещание двухнедельного перемирия перед сдачей. Вожди катаров испросили позволения на две недели задержаться в крепости, прежде чем спуститься с горы, и такое позволение было им дано. У Элис застучало сердце: — Зачем? Одрик усмехнулся: — Историки и теологи уже сотни лет спорят друг с другом: зачем потребовалась катарам отсрочка приговора. Что они не успели сделать? Сокровища переправлены в безопасное место. Зачем оставаться в промерзшей полуразрушенной крепости? Разве они не достаточно настрадались? — Так зачем же? — Затем, что с ними была Элэйс, — ответил Одрик. — Ей нужно было выиграть время. У подножия горы ждала Ориана со своими людьми. А в цитадели, с ней, были Сажье, и Ариф, и дочь. Она не могла рисковать. Если их схватят, все, чем пожертвовали Симеон, и ее отец, и Эсклармонда, чтобы сохранить тайну, окажется тщетным. Теперь все кусочки головоломки улеглись на место, и Элис видела картину целиком, отчетливо и ярко, словно сама была свидетельницей тех давних событий. Она взглянула в окно на вечно суровые горы. Точно такими были они при Элэйс. То же солнце, те же дожди, то же небо. — Расскажите мне правду о Граале, — попросила она.
ГЛАВА 71 МОНСЕГЮР, марс[287] 1244
Элэйс стояла на стене цитадели Монсегюр — тонкая одинокая фигурка под плотным зимним плащом. С годами к ней пришла красота. Она так и не обрела пышных форм, но в чертах лица, посадке головы, осанке сквозило изящество и благородство. Элэйс посмотрела на ладони. В свете раннего утра они казались голубоватыми, почти прозрачными: «Руки старухи». Элэйс улыбнулась. Не так уж она стара. Моложе, чем был ее отец. Мягкое сияние поднимающегося солнца заливало мир, наполняя цветом и полнотой ночные силуэты. Перед глазами были снежные пики Пиренеев — неровные зубцы на бледном небосклоне — и яркие сосны на восточном склоне горы. Скалистые бока пика Сент-Бартелеми скрывал утренний туман. Дальше виднелся пик де Соларак. Ей представился их дом, простой и гостеприимный, спрятанный в складках холмов. Вспомнился дым, столбом стоявший над трубой в такое же холодное утро. В горах весна запаздывает, и зима эта выдалась жестокой, но теперь уже недолго ждать. Розоватое на заре небо предвещало тепло. Скоро зацветут деревья в Лос Серес. К апрелю горные луга покроются нежными голубыми, белыми и желтыми цветами. Далеко внизу виднелись развалины на месте деревни Монсегюр — после десяти месяцев осады уцелели всего две-три хижины. Вокруг теснились знамена и шатры французского лагеря — заплатанные цветные полотнища палаток и обтрепанные по краям флаги. Для них зима оказалась не легче, чем для защитников крепости. На западном склоне в самом низу стоял деревянный частокол. Осаждающие потратили на него не один день. Вчера они вкопали посреди ограды ряд столбов и каждый окружили поленницей дров и хвороста, переложенных вязанками соломы. В сумерках Элэйс видела, как они приставляют к каждому короткие лесенки. «Костры, приготовленные для еретиков». Элэйс вздрогнула. Еще несколько часов — и все кончится. Она не боялась умереть, когда придет ее время. Но слишком много раз она видела, как сжигают людей, чтобы верить, будто вера защищает их от боли. Тем, кто соглашался, она давала травы, притупляющие страдание. Но большинство хотели перейти из этого мира в следующий без чужой помощи. Лиловые камни у нее под ногами покрывала скользкая изморозь. Носком сапожка Элэйс прочертила по инею узор лабиринта. Если их уловка сработает, ее труд стража «Книги Слов» будет завершен. Если нет — она поставила на кон жизни тех, кто укрывал и защищал ее все эти годы, ради спасения Грааля. О последствиях страшно было подумать. Элэйс закрыла глаза и отпустила память лететь сквозь годы назад, к пещере лабиринта. Ариф, Сажье, она сама… Она помнила мягкий сквозняк, гладивший ее нагие плечи, мерцание свечей, прекрасные голоса, свивающиеся во тьме. Слова звучали так живо, словно она до сих пор чувствовала их вкус на языке. Элэйс содрогнулась, вспомнив миг, когда она наконец поняла и заклинание само слетело с ее губ. Тот единственный миг восторга, просветления, когда прошлое и будущее слились воедино в снизошедшем к ней Граале. «И, через ее голос, из ее рук — к нему». Элэйс задохнулась. Пережить такое… Какой-то звук прервал ее воспоминания. Элэйс открыла глаза. Память растаяла. Обернувшись, она увидела Бертрану, бегущую к ней по узкому гребню стены. Улыбнувшись, Элэйс протянула к ней руки. Дочь росла не такой серьезной девочкой, как Элэйс в ее возрасте, но с виду была ее живым подобием. То же личико сердечком, тот же прямой взгляд и длинные каштановые волосы. Если бы не седина в волосах Элэйс, не морщины, их могли бы принять за сестер. Дочь подняла на нее напряженный взгляд. — Сажье говорит, подходят солдаты, — неуверенно проговорила она. Элэйс покачала головой. — Они придут только завтра, — твердо сказала она. — А до тех пор у нас еще много дел. Она взяла в ладони холодные ладошки Бертраны. — Я полагаюсь на то, что ты поможешь Сажье и позаботишься о Риксенде. Ты будешь нужна им, особенно этой ночью. — Я боюсь потерять тебя, мама, — дрожащими губами выговорила девочка. — Не потеряешь, — с улыбкой уверила ее Элэйс, молясь в душе, чтобы ее слова оказались правдой. — Скоро мы все снова будем вместе. Потерпи. Бертрана слабо улыбнулась. — Вот так-то лучше. А теперь идем, filha. Надо спускаться.ГЛАВА 72
На рассвете среды, шестнадцатого марта, они собрались в главных воротах Монсегюр. Гарнизон следил со стен, как поднимаются посланные арестовать Bons Homes крестоносцы, оскальзываясь на последнем, самом крутом взлете горы. Бертрана вместе с Сажье и Риксендой стояла в первых рядах толпы. Было очень тихо. После месяцев непрестанного грохота обстрелов она еще не привыкла к тишине. Последние две недели прошли мирно. Отпраздновали Пасху. Совершенные постились. Несмотря на обещанное отрекшимся прощение, почти половина кредентов в крепости, и среди них Риксенда, решили принять consolament. Они предпочли умереть как добрые христиане, чем жить побежденными под французской короной. Обреченные на смерть за веру завещали свое имущество обреченным жить, лишившись любимых. Бертрана помогала раздавать предсмертные дары: воск, перец, соль, одежду, башмаки, даже войлочные шляпы. Пьер Роже де Мирпуа пожертвовал покрывало, полное монет. Другие отдавали зерно и куртки для его людей. Маркиза де Лантар оставила все, что имела, своей внучке Филиппе, жене Пьера Роже. Бертрана обвела глазами замкнутые лица и начала беззвучно молиться за мать. Элэйс тщательно выбрала одежду для Риксенды: темно-зеленое платье, красный плащ с каймой, расшитой сложным узором перекрещивающихся квадратов и ромбов с желтыми цветами между ними. По словам матери, точно в таком плаще она венчалась вкапелле Святой Марии в Шато Комталь. Элэйс не сомневалась, что этот плащ Ориана вспомнит и много лет спустя. Из предосторожности она добавила к этому наряду еще и овчинный мешочек — такой же, в каком хранились прежде книги лабиринта. Бертрана помогала набить его тканью и обрывками пергамента, так что издалека отличить его было невозможно. Девочка не понимала, зачем нужны все эти приготовления, но знала, что это валено, и гордилась, что ей позволили помогать. Бертрана подвинулась ближе к Сажье и взяла его за руку. Главы катарской церкви, епископы Бертран Мартен и Раймон Агвильяр — оба уже старики, одетые в темно-синие рясы — спокойно стояли среди других. Долгие годы они совершали обряды в Монсегюр или уходили из цитадели, чтобы проповедовать и нести причастие жителям далеких селений в горах и на равнине. Теперь они готовы были вести своих людей в огонь. — С мамой все будет хорошо, — шепнула Бертрана, утешая не столько Сажье, сколько себя. На плечо ей легла рука Риксенды. — Лучше бы ты не… — Это мой выбор, — быстро отозвалась Риксенда. — Я выбрала смерть за свою веру. — А если маму схватили? — прошептала Бертрана. Риксенда погладила ее по голове. — Мы можем только молиться за нее. При виде подходивших солдат из глаз Бертраны потекли слезы. Риксенда подставила руки для оков. Молоденький солдат покачал головой. Они не ожидали, что смерть выберут столь многие, и на всех не хватало цепей. Сажье и Бертрана молча смотрели вслед Риксенде, которая вместе с другими вышла из главных ворот и начала свой последний спуск по крутой извилистой горной тропе. Красный плащ Элэйс ярко выделялся на буром склоне и сером зимнем небе. Вслед за епископом Мартеном пленники запели. Монсегюр пал, но они не были побеждены. Бертрана рукавом утерла глаза. Она обещала матери быть сильной и сделает все, чтобы сдержать слово.На нижних травянистых склонах возвели трибуны для зрителей. Они были полны. Новая аристократия Миди, старая знать, покорившаяся захватчикам, католические легаты и инквизиторы, приглашенные Уго де Арсисом, сенешалем Каркассоны, — все собрались посмотреть, как свершится правосудие после тридцати лет гражданской войны. Гильом плотно завернулся в плащ, укрываясь от случайных взглядов. Многие из французов, сталкивавшиеся с ним в сражениях, знали врага в лицо. Он не мог допустить, чтобы его схватили сейчас. Гильом осмотрелся. Если его не обманули, где-то в этой толпе находилась и Ориана. Он твердо решил, что не даст ей добраться до Элэйс. Прошло много лет, но от одной мысли об этой женщине в нем вспыхивал гнев. Он стиснул кулаки. Если бы можно было действовать! Не таиться и выжидать, а воткнуть ей в сердце нож, как надо было сделать еще тридцать лет назад. Гильом понимал, что надо быть терпеливым. Если он выдаст себя сейчас, его зарубят, не дав даже выхватить меч. Он обводил глазами ряды зрителей, пока не нашел то, что искал. Лицо Орианы. В ней ничего не осталось от прежней знатной южанки. Дорогие одежды были скроены по северной моде — строгой и изысканной. Синий бархатный плащ, отороченный золотом, высокий горностаевый воротник и капюшон, такие же перчатки. Лицо по-прежнему поражало бы красотой, если бы его не портила жесткая, презрительная гримаса. Рядом с ней стоял юноша, настолько похожий на нее, что Гильом не усомнился: ее сын. Вероятно, старший, Луи. Говорили, что он вступил в ряды крестоносцев. У него были глаза и темные кудри Орианы, и отцовский хищный профиль. Обернувшись на крики, Гильом увидел, что вереница пленников достигла подножия горы и теперь направляется к кострам. Они шли со спокойным достоинством. И пели. Хор ангелов, подумал Гильом, видя, как смущенно вытягиваются лица зрителей от звуков этой сладостной мелодии. Сенешаль Каркассоны стоял плечом к плечу с нарбоннским архиепископом. Он подал знак, и колонна черных монахов и священников растянулась вдоль частокола, воздев над головами золотой крест. За их спинами Гильом видел солдат с горящими факелами. Зловонный дым тянуло на трибуны. Пламя билось и трещало на ветру. Одно за другим выкликали имена еретиков, и те, выступив вперед, по лестницам поднимались на костер. Гильом словно онемел от ужаса происходящего. Самое страшное, что он был бессилен остановить казнь. Даже будь с ним достаточно людей, он знал, казнимые сами не пожелали бы этого. Не вера, но сила обстоятельств заставила Гильома провести много времени в обществе Bons Homes. Он научился уважать их, он ими восхищался, но так и не смог понять. Поленницы дров пропитали смолой. Несколько солдат, поднявшись наверх, цепями приковывали Совершенных и их последователей к столбам. Епископ Мартен начал читать молитву. «Payre Sant, Dieu dreiturier dels bons esperits…» Один за другим его поддерживали другие голоса. Шепот разрастался, превращаясь в крик. Зрители в рядах неловко переглядывались, беспокойно шевелились. На такое зрелище они не рассчитывали. По торопливому знаку архиепископа священники в черном запели псалом, ставший гимном крестовых походов. «Veni Spirite Sancti» — «Явись, Святой Дух», — кричали они, пытаясь заглушить молитву катаров. Выступив вперед, епископ сам бросил за частокол первый факел. Солдаты последовали его примеру. Один за другим взлетали горящие факелы. Огонь не спешил разгораться, но скоро треск искр и хвороста слился в ровный гул, соломенные жгуты завились огненными змеями, заколебались, как водоросли в речной струе. Гильом всматривался в клубы дыма — и вдруг похолодел. Он увидел в дыму красный плащ, вышитый цветами, и под ним зеленое платье цвета болотного мха. Он не мог — не хотел — верить своим глазам. Годы растаяли, и он снова был юным шевалье, заносчивым, гордым, уверенным. Он снова стоял на коленях в капелле Святой Марии. И рядом была Элэйс. Говорят, венчаться в Сочельник — к счастью. Цветущий боярышник на алтаре и красные огоньки свечей. Они обмениваются обетами. Гильом бежал вдоль ряда костров, отчаянно пробиваясь ближе. Пламя было жадным. Сладковатый запах горящей плоти плыл к зрителям. Солдаты пятились от огня. Даже монахи вынуждены были отступить перед яростным жаром костров. Гильом задыхался, но не мог остановиться. Закрыв полой плаща рот и нос, защищаясь от омерзительной вони, он проталкивался к самому частоколу, уже затянувшемуся густым облаком черного дыма. Внезапно изнутри ясно и отчетливо прозвенел крик: — Ориана! Был ли то голос Элэйс? Гильом не знал. Закрыв лицо руками, он бросился на голос. — Ориана! На этот крик отозвались на трибунах. Развернувшись, Гильом разглядел сквозь дым искаженное бешенством лицо Орианы. Вскочив на ноги, она яростно махала стражникам. Гильому казалось, что имя Элэйс рвется у него из груди, но он не смел привлекать к себе внимание. Он пришел спасти ее, помочь ей сбежать от Орианы, как уже помог однажды. Те три месяца, которые он провел с Элэйс, скрывавшейся от инквизиции в Тулузе, были, попросту, счастливейшим временем его жизни. Остаться дольше она не захотела, и он не сумел ни уговорить ее задержаться, ни даже узнать, что заставляет ее уйти. Но она сказала тогда — и Гильом ей поверил — что однажды, когда этот ужас кончится, они снова будут вместе. — Mon cor! — со всхлипом вырвалось у него. Это обещание и память о проведенных с ней днях поддерживали его последние десять долгих пустых лет. Как свет во тьме. Гильом чувствовал, что у него разрывается сердце. — Элэйс! Поверх красного плаща на груди у нее висел и горел белый овчинный мешочек размером с книгу. Рук, прикрывавших его, больше не было. Они разжались, когда плоть на них обгорела до кости. Ничего не осталось. Для Гильома погасли все звуки. Не было ни криков, ни боли — только чистый белый простор. Исчезли горы, небо и дым. Исчезла надежда. Ноги больше не держали его. Гильом упал на колени под тяжестью отчаяния.
ГЛАВА 73 ГОРЫ САБАРТЕ, пятница, 8 июля 2005
Острая вонь привела его в чувство. Смесь аммиака, козьего помета, грязного белья и остывшего жареного мяса. От вони першило в горле и жгло в ноздрях, словно к носу поднесли нюхательную соль. Уилл лежал на жесткой койке — вернее, на лавке, встроенной в стену хижины. Он кое-как спустил ноги и оперся спиной о каменную стену. Грубая кладка царапнула руки, по-прежнему стянутые за спиной. Он был весь в синяках, как будто провел несколько раундов на боксерском ринге. Болел разбитый рукоятью пистолета висок. В ссадине бился пульс, а кожу вокруг стянуло запекшейся кровью. Сколько прошло времени, Уилл не знал. Еще пятница? Из Шартра они выехали на рассвете, пожалуй, около пяти. Когда его выволокли из машины, миновал полдень, но солнце стояло еще высоко и было жарким. Уилл попробовал изогнуть шею, чтобы взглянуть на часы, но от резкого движения его затошнило. Он подождал, пока отступит тошнота. Потом открыл глаза и стал осматриваться. Кажется, его засунули в пастушью хижину. Решетка на маленьком окошке, не больше книги в высоту. В дальнем углу — встроенные полки, что-то вроде стола и табуретки. Жаровня с остывшими углями, серой золой и клочьями то ли коры, то ли бумаги. На крюке над жаровней — тяжелый железный котел с застывшими на кромке потеками жира. Уилл снова опустился на жесткий матрас, каждой ссадиной ощутив складки одеяла, и задумался, где теперь Элис. Снаружи послышались шаги, звякнул ключ в замке. Уилл услышал, как зазвенела сброшенная на землю тяжелая цепь, потом скрипнули петли открывшейся двери и смутно знакомый голос произнес: — C'est le heure. Пора.Шелаг ощущала движение воздуха на голых руках и ногах, и сознавала, что ее перевозят на другое место. Среди голосов, звучавших, когда ее выносили из горного домика, она узнала голос Поля Оти. Потом почувствовала знакомый холод подземелья, легкую сырость, уклон земли. Рядом находились оба мужчины, державшие ее пленницей. Она уже научилась распознавать их по запаху. Лосьон, дешевые сигареты, грубая мужская сила, заставлявшая ее сжиматься от каждого прикосновения. Ей снова связали ноги, скрутили за спиной руки, вывернув локтевые суставы. Заплывший глаз не хотел открываться. От голода и наркотиков, которые ей давали, чтоб вела себя тихо, голова кружилась, но это не помешало Шелаг понять, где она находится. Оти привез ее обратно в пещеру. Она узнала запах подземного зала, ощутила связанными ногами ступени, у которых нашла тогда лежащую без сознания Элис. Где-то впереди, может быть, на алтаре, горел свет. Люди, тащившие ее, остановились. У самой дальней стены — так далеко она в прошлый раз не заходила. Ее как мешок свалили на землю. От удара в боку вспыхнула боль, но ей было уже все равно. Она не понимала, почему они до сих пор ее не убили. Теперь ее подхватили под мышки и потащили волоком. Острые камни царапали подошвы и щиколотки. Шелаг почувствовала, как ее связанные за спиной руки притягивают к чему-то холодному — железная петля или крюк, вбитые в пол? Мужчины полагали, что она без сознания, и негромко переговаривались: — Ты сколько зарядов заложил? — Четыре. — И на какое время? — После десяти. Он сам хочет это сделать. Шелаг по голосу поняла, что мужчина усмехнулся. — В кои-то веки сам выпачкает ручки. Нажал кнопочку, и ба-бах! Все взлетает на воздух. — Не понимаю, зачем понадобилась тащить ее в такую даль, — пожаловался второй. — Чего проще было там и оставить. — Не хочет, чтоб ее опознали. А здесь через несколько часов полгоры обрушится. Надежно похоронит. Страх вернул Шелаг силы. Она натянула веревку, пытаясь встать. Ноги не держали. Падая на землю, она услышала над собой смех. А может, почудилось. Она уже плохо отличала бред от реальности. — А нам что, при ней торчать? Второй хмыкнул: — Куда она денется? Встанет и пойдет прогуляться? Ты на нее посмотри! Свет начал меркнуть. Голоса мужчин отдалялись, шаги затихали, и скоро она осталась наедине с тишиной и темнотой.
ГЛАВА 74
— Я хочу знать правду, — повторила Элис. — Хочу понять, какая связь между лабиринтом и Граалем. Если есть связь. — Правду о Граале, — проговорил он, не сводя с нее взгляда. — Скажите, maidomasela, что вы знаете о Граале? — Что все знают, надо думать, — буркнула Элис, заподозрив, что он уходит от ответа. — Нет, в самом деле. Я хочу понять, много ли вам известно. Элис неловко заерзала. — Ну, обычно считают, что это чаша, содержащая в себе эликсир, дарующий вечную жизнь. Она замялась и смущенно покосилась на Бальярда. — Дарующий… — Он покачал головой и вздохнул. — Нет, это не дар. А как вы полагаете, что дало начало этим легендам? — Думаю, Библия. А может, свитки Мертвого моря. Или еще какие-то писания первых христиан. Не знаю, никогда раньше не задумывалась. Одрик кивнул: — Распространенное заблуждение. На самом деле первые версии упомянутых вами преданий встречаются в XII веке, хотя подобные мотивы можно найти и в классической, и в кельтской литературе. Но прежде всего в средневековой Франции. Элис вдруг вспомнила карту, которая попалась ей в тулузской библиотеке. — Как и лабиринт… Он улыбнулся, но не поддержал тему. — В последней четверти XII столетия жил поэт, известный под именем Кретьен де Труа. Первой его покровительницей была Мария, дочь Алиеноры Аквитанской от брака с графом Шампанским. После ее смерти в 1181 году ему покровительствовал ее кузен, граф Фландрии. Кретьен в те дни был весьма известной фигурой. Его прославили переводы классических легенд с греческого и латыни, но позднее он обратил свое искусство на сочинение цикла сказаний о рыцарях, в которых вы узнали бы Ланцелота, Гавейна и Персеваля. Эти аллегорические рассказы породили волну историй о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. — Бальярд помолчал. — История Персеваля — «Li contes del graal» — содержит первое известное упоминание Святого Грааля. — Но… — Элис хотела возразить, потом нахмурилась. — Он ведь не просто выдумал свою историю. Не могла она возникнуть из ничего? — И вновь на лице Одрика мелькнула легкая улыбка. — Сам Кретьен на вопросы об источнике отвечал, что нашел свою историю в книге, подаренной ему его покровителем, Филиппом. Да и посвящена история Грааля Филиппу. К сожалению, Филипп погиб в 1191 году, во время третьего Крестового похода, и поэма осталась неоконченной. — А что случилось с Кретьеном? — После смерти Филиппа о нем ничего не известно. Просто исчезает. — Разве это не странно, ведь он был знаменит? — Возможно, он умер, а записей о смерти не сохранилось, — осторожно ответил Бальярд. — Но вы так не думаете? Одрик не ответил. — Хотя Кретьен предпочел не заканчивать свою повесть, но история Святого Грааля обрела собственную жизнь. Из Франции она попала в Скандинавию и Уэльс. Несколькими годами позже другой поэт, Вольфрам фон Эшенбах, написал довольно вульгарную версию «Парсифаля» — примерно в 1200 году. Причем объявил, что не пересказывает Кретьена, а использует другую историю неизвестного автора. Элис глубоко задумалась: — А Кретьен в самом деле описывал Грааль? — Он избегает конкретных описаний. В его повести фигурирует скорее не чаша, а блюдо — gradalis в средневековой латыни. От нее и пошло французское «gradal» или «Graal». Эшенбах высказывается точнее. Его Грааль — «grâl» — это камень. — А откуда взялось представление о Святом Граале как о чаше Тайной Вечери? Одрик переплел пальцы: — Это тоже изобретение писателя — Роберта де Борона. Он создал стихотворную поэму «Иосиф Аримафейский» — позже кретьеновского «Персеваля», но до 1199 года. Грааль Борона не просто чаша Тайной Вечери, именуемая «san greal», — она еще и полна крови, собранной с креста. В современном французском созвучное «sang réal» означает «истинная, или царственная» кровь. Он помолчал, многозначительно глядя на Элис. — Для стражей трилогии лабиринта это лингвистическая путаница между «san greal» и «sang réal» оказалась удобным прикрытием. — Но Святой Грааль — это миф, — упрямо возразила Элис. — Не мог он существовать. — Святой Грааль — безусловно миф, — с намеком произнес Бальярд, не отпуская ее взгляда. — Увлекательная сказка. При внимательном рассмотрении убеждаешься, что все эти рассказы разрабатывают одну и ту же тему. Средневековую христианскую идею жертвенности, во имя возрождения и спасения. В глазах христианина Святой Грааль был скорее символом вечной жизни, чем реальным предметом. Знаком, что жертвой Христа и милостью Божьей человечество обретает жизнь вечную. — Он улыбнулся. — Однако Грааль существует на самом деле. Эта истина и скрыта на страницах трилогии лабиринта. И ради сохранения ее в тайне отдавали жизни стражи Грааля, Noublesso de los Seres. Элис недоверчиво тряхнула головой. — Вы хотите сказать, что Грааль — вовсе не христианское понятие? Что все эти мифы и легенды построены на… недоразумении? — Вернее сказать, на подлоге. — По ведь две тысячи лет ведутся споры о существовании Святого Грааля. А теперь оказывается, что легенды о Граале не лгут, но при том… — Элис с трудом заставила себя закончить невероятную мысль. — Это вовсе не христианская реликвия, и я даже вообразить не берусь… — Грааль — это состав, который обладает свойством исцелять болезни и значительно продлевает жизнь. Такова была цель тех, кто изобрел его в Древнем Египте около четырех тысяч лет назад. Но тогда же, едва осознав его силу, они поняли, что следует сохранить это изобретение в тайне от тех, кто захотел бы использовать его для собственного блага и во зло другим. Священная тайна была записана иероглифами на трех отдельных листах папируса. Один давал точное описание зала Грааля, то есть лабиринта; во втором перечислялись необходимые для приготовления ингредиенты. Третий представлял словесную формулу, которую следовало произнести для преображения эликсира в Грааль. Египтяне скрыли свои папирусы в пещере близ древнего города Аварис. — В Египте! — воскликнула Элис. — Я, когда рылась в библиотеке, еще удивилась, как часто в связи с темой лабиринта всплывает Египет. Одрик кивнул. — Записи на папирусах были сделаны классическими иероглифами: само это слово означает «слова Бога» или «божественная речь». Когда рухнула и обратилась в прах великая цивилизация Египта, умение читать эти письмена было утеряно. И поколение за поколением стражи передавали из рук в руки папирусы с заклинанием, которого никто уже не мог прочитать. — Это случилось непреднамеренно, но способствовало сохранению тайны, — продолжал он. — Правда, в IX веке христианской эры некий арабский алхимик, Ибн Вахшиах ан — Набати, расшифровал тайну иероглифов. К счастью, Ариф, который был тогда navigataire стражей, вовремя осознал опасность и не дал ему обнародовать свое открытие. В те дни научные центры были немногочисленны, а связь между ними затруднена и ненадежна. После этого папирусы были переправлены в Иерусалим и скрыты в подземельях Сефаля. С 800 по 1800 год никто не сумел существенно продвинуться в постижении иероглифов. Никто. Их сумели прочитать только после открытия африканской экспедицией Наполеона надписей, сделанных параллельно иероглифическим, демотическим и древнегреческим письмом. Вы слышали о Розеттском камне? Элис кивнула. — Тогда мы стали бояться, что расшифровка — только вопрос времени. Француз Жан-Франсуа Шампольон упорно бился над разгадкой и в 1822 году нашел ее. Чудеса древности, ее магия, заклинания: от записей на пеленальных папирусах мумий до «Книги Мертвых» — все стало открытым для прочтения. — Он помолчал. — И с тех пор то обстоятельство, что две из трех книг лабиринта находятся в руках людей, способных обратить их во зло, стало нас серьезно тревожить. Слова его прозвучали как предостережение. Элис поежилась. Только сейчас она заметила, что стало прохладней. Вечерело, и солнечный свет за окном окрасился в розовые и оранжевые тона. — Но если это такое опасное знание, почему Элэйс или другие стражи не уничтожили книги, пока они были в их руках? — спросила она. И почувствовала, как замер Одрик. Элис поняла, что ее вопрос попал в самое сердце, затронул главное, ради чего и велся весь рассказ, хотя сама она еще не видела сути. — Если бы знание было ненужным, тогда да, может быть, так и следовало поступить. — Если бы? А для чего оно нужно? — Стражи всегда знали, что Грааль дает долгую жизнь. Вы сказали, это дар, и… — он вздохнул, — я понимаю, что многим это так видится. Но не всем. Резко замолчав, Одрик потянулся к стакану, сделал несколько больших глотков и тяжело опустил его обратно на стол. — Вечная жизнь дается с определенной целью. — С какой? — торопливо спросила Элис, испугавшись, что он замолчит. — За прошедшие четыре тысячелетия силу Грааля не раз призывали, когда была нужда в свидетелях. Великие патриархи-долгожители христианской Библии, Талмуда, Корана… Адам, Иаков, Моисей, Магомет, Мафусаил — пророки, чей труд нельзя было исполнить за один срок жизни, назначенный человеку. Каждый из них прожил сотни лет. — Да ведь это иносказание, — заспорила Элис. — Аллегория. Одрик покачал головой: — Они жили веками. Жили, чтобы донести до потомков свидетельства истины своего времени. Ариф, убедивший Абу Бакра утаить разгадку письменности древних египтян, дожил до падения Монсегюра. — Пятьсот лет?! — Они жили, — просто повторил Одрик. — Представьте себе жизнь бабочки, Элис. Целая жизнь, такая яркая, но с точки зрения человека она длится всего один день. Время можно понимать по-разному… Элис оттолкнула назад стул и отошла от стола. Она уже не понимала, какие чувства испытывает, чему верит. — Символ лабиринта, который я видела на стене пещеры и на вашем кольце, — это символ подлинного Грааля? — спросила она, обернувшись. Он кивнул. — А Элэйс? Она знала? — Сперва сомневалась, как и вы. Не верила в истину скрытого на странице книги, но берегла ее из любви к отцу. — Она поверила, что Арифу больше пятисот лет? — настаивала Элис, даже не пытаясь скрыть сомнения в голосе. — Сперва не поверила, — признал Одрик. — Но со временем увидела правду. И когда пришел ее черед, сумела произнести слова — и понять их. Элис вернулась к столу, села. — Почему Франция? Зачем было переносить туда папирусы? Почему было не оставить на месте? Одрик улыбнулся. — Ариф перенес папирусы в Святой Град в X веке христианского летоисчисления, и там они оставались спрятанными под полями Сефаля. Почти сотню лет, пока к Иерусалиму не подступила армия Саладина. Тогда Ариф выбрал одного из стражей, молодого христианского шевалье по имени Бертран Пеллетье, чтобы отправить папирусы во Францию. «Отца Элэйс…» Элис заметила, что улыбается, словно получила весточку от старого друга. — Ариф понимал, — продолжал Одрик, — во-первых, что вставленные в книгу папирусы будет легче сохранить. И во-вторых, с тех пор как по дворам Европы начали кружить слухи о Граале, легче всего было скрыть истину под наслоениями мифов и легенд. — Рассказывали, что Чаша Христова хранилась у катаров, — подхватила Элис. Бальярд кивнул. — Последователи Иисуса из Назарета не ожидали, что он умрет на кресте, но он умер. Его смерть и воскресение вызвали к жизни множество рассказов о священной чаше или кубке, дающем вечную жизнь, — о Граале. Не знаю, как воспринимали эти рассказы тогда, но несомненно одно — распятие Назарянина породило волну гонений. Многие бежали из Святой земли, и среди них — Иосиф Аримафейский и Мария Магдалина. Они отплыли во Францию и принесли с собой, по преданию, древнюю тайну. — Папирусы Грааля? — Или сокровища, драгоценности из Храма Соломона. Или чашу, из которой Иисус Назарянин пил на Тайной Вечере и в которую собрали его кровь, пролитую на кресте. Или пергаменты, свидетельствующие, что Христос не умер на кресте, а остался жив, на сотни лет скрылся в горах и пустынях вместе с избранными учениками. Элис, онемев, смотрела на Одрика, но прочитать что-либо на его лице было не легче, чем в закрытой книге. — Что Христос не умер на кресте… — повторила она, не веря ни своим ушам, ни словам. — Или другие истории, — спокойно продолжал Бальярд. — Кое-кто утверждает, что Мария с Иосифом высадились не в Марселе, а в Нарбонне. Из века в век в народе рассказывают, что в Пиренеях скрыты сокровища. — Так значит, не катары хранили тайну Грааля, — проговорила Элис, складывая в уме кусочки головоломки, — а Элэйс. Они передали ей свою святыню. Элис перебрала в голове цепочку событий. — А теперь пещера лабиринта открыта. — И впервые за сотни лет книги могут быть собраны вместе, — продолжил Бальярд. — И хотя вы, Элис, не знаете, поверить мне или пропустить мимо ушей россказни сбрендившего старика, есть люди, которые не сомневаются. «Элэйс поверила в существование Грааля!» В глубине души, глубже доводов рассудка, Элис не сомневалась: старик говорит правду. Хотя здравому смыслу трудно было примириться с этим знанием. — Мари-Сесиль, — тяжело напомнила она. — Этой ночью мадам Л'Орадор войдет в пещеру лабиринта и попытается призвать Грааль. Элис стало не по себе. — У нее ничего не выйдет, — поспешила она успокоить себя. — «Книги Слов» у нее нет, и кольца тоже. — Боюсь, она понимает, что «Книга Слов» все еще в пещере. — А это так? — Наверняка не знаю. — А кольцо? Кольца-то у нее нет? — Элис опустила взгляд на худую руку старика, лежащую на столе. — Она уверена, что я приду. — Но это же бред! — взорвалась Элис. — Неужто не ясно, что вам к ней и близко нельзя подходить? — Сегодня она попытается призвать Грааль, — ровно и тихо повторил он, — и потому они знают, что я приду. Элис ударила ладонью по столу. — А как же Уилл? Шелаг? О них вы не думаете? Без вас разве я смогу их спасти? — Вот потому, что я думаю о них и о вас, Элис, я и должен идти. Мари-Сесиль намерена принудить их участвовать в обряде. Участников должно быть пятеро: navigataire и четверо других. — Мари-Сесиль с сыном, Уилл, Шелаг и Оти? — Нет, не Оти. Другой. — Тогда кто? Он уклонился от ответа. — Я не знаю, где сейчас Шелаг и Уилл, — громко сказал он, — но уверен, что к ночи их доставят в пещеру. — Кто, Одрик? — твердо повторила Элис. — Нам пора ехать. Элис была раздражена, встревожена, недоумевала и, в первую очередь, трусила. Но в то же время другого выхода она не видела. Она вспомнила имя Элэйс на фамильном древе — имя, отделенное от ее имени восемью веками. И символ лабиринта, соединяющий их через века и пространство. «Две истории сплетаются воедино». Элис взяла свои вещи и вслед за Одриком вышла в угасающий день.ГЛАВА 75 МОНСЕГЮР, марс 1244
Элэйс, затаившаяся в подземелье цитадели, зажимала уши, стараясь не слышать мучительных звуков пытки. Но крики ужаса и боли проникали сквозь толщу скалы. Крики умирающих и оставшихся в живых, будто чудовища, пробирались в их укрытие. Элэйс молилась за душу Риксенды, за ее возвращение к Богу, за всех друзей, добрых мужчин и женщин, о милости к ним. Она могла только надеяться, что их уловка сработает. Только время покажет, удалось ли убедить Ориану, что «Книга Слов» вместе с Элэйс погибла в пламени. Огромный риск. Элэйс, Ариф и двое проводников должны были оставаться в каменной могиле до темноты, когда крепость совсем опустеет. Затем, под покровом ночи, им предстояло спуститься с обрыва по тайной тропе и направиться в Лос Серес. Если счастье не изменит им, завтра к сумеркам они будут дома. Они откровенно нарушали условия сдачи. Если их обнаружат, немедленно последует жестокая кара. Элэйс не сомневалась в этом. Пещера, где они прятались, была неглубокой — просто впадина под камнями, у самой поверхности. Вздумай солдаты тщательно обыскать крепость, их мгновенно найдут. Подумав о дочери, Элэйс закусила губу. Ариф в темноте нашел и сжал ее руку. Кожа у него была сухая и шершавая, как песок пустыни. — Бертрана сильная, — заговорил он, угадав, что ее мучило. — Вся в тебя, да? Она выдержит. Скоро вы будете вместе. Ждать не долго. — Но она еще ребенок, Ариф. Слишком мала, чтобы видеть такое. Как ей должно быть страшно… — Она храбрая, Элэйс. И Сажье тоже. Они нас не подведут. «Если бы знать наверное, что ты прав…» В темноте сердце ее разрывали сомнения и страх перед будущим. Элэйс сидела с сухими глазами, дожидаясь, пока пройдет этот день. Неизвестность была невыносима. Ее преследовало воспоминание о побледневшем, белом личике Бертраны. И крики Bons Homes звучали в ушах еще долго после того, как замолчала последняя жертва.Черное облако едкого дыма грозовой тучей нависло над долиной, погасив день. Сажье крепко держал Бертрану за руку. Они вышли из главных ворот, покинув крепость, которая два года была для них домом. Он запер боль глубоко в сердце — там, куда не могли добраться инквизиторы. Сейчас нельзя было горевать о Риксенде, нельзя было бояться за Элэйс. Его делом было оберегать Бертрану и вместе с ней добраться в Лос Серес. Инквизиторы расставили свои столы под самым склоном и готовы были взяться за дело прямо в тени костров. Сажье узнал среди них Ферье — человека, заслужившего ненависть и отвращение всей округи своей стойкой приверженностью духу и букве церковного закона. Рядом стоял инквизитор Дуранти, внушавший не меньше страха. Сажье крепче сжал ручку Бертраны. Спускаясь на пологую площадку, Сажье заметил, что пленников разделяют. Стариков, мальчиков-подростков и солдат гарнизона направляли в одну сторону, женщин и детей — в другую. Бертране придется предстать перед инквизиторами без него. Девочка что-то почувствовала и испуганно заглянула ему в лицо: — Что там? Что они с нами сделают? — Они будут допрашивать мужчин и женщин порознь, — объяснил он. — Не бойся. Отвечай на вопросы. Держись смело и не уходи никуда, пока я за тобой не приду. Никуда и ни с кем, понимаешь? Ни с кем, кроме меня. — А о чем они будут спрашивать? — жалобно спросила Бертрана. — Как зовут, сколько лет… — Сажье еще раз повторил ей все, что девочка должна была помнить. — Что я сражался в гарнизоне крепости, им известно, но нас с тобой в их глазах ничто не связывает. Спросят об отце — говори, что ты его не знаешь. Риксенду назови матерью и тверди, что всю жизнь провела в Монсегюре. Что бы ни случилось, ни слова о Лос Серес. Ты все поняла? Бертрана кивнула. — Умница… — Чтобы ободрить ее, Сажье добавил: — Когда я был не старше тебя, бабушка часто посылала меня с поручениями. Она повторяла все по нескольку раз, так что я запоминал слово в слово. Бертрана слабо улыбнулась: — Мама говорит, у тебя ужасная память. Говорит, как решето. — Она права, — улыбнулся он и снова стал серьезным. — Еще они могут спрашивать тебя про Bons Homes и во что ты веришь. Отвечай правду. Тогда ты не попадешься на противоречиях. Что бы ты ни сказала, им это и так известно. — Помолчав, он добавил напоследок самое главное: — И ни слова об Арифе и Элэйс. У Бертраны выступили слезы на глазах. — А если солдаты обыщут крепость и найдут их? — спросила она. — Что, если их найдут? — Не найдут, — поспешно уверил ее Сажье. — Помни, Бертрана, после того, как инквизиторы тебя отпустят, никуда не уходи. Я вернусь за тобой, как только смогу.
Сажье едва успел договорить, когда стражник подтолкнул его в спину, направляя к деревне под холмом. Бертрану увели в противоположную сторону. В деревянном загоне, куда его втолкнули, Сажье увидел командира гарнизона, Пьера Роже де Мирпуа. Он уже прошел допрос. Сажье увидел в этом обнадеживающий признак. Подобная любезность могла означать, что условия сдачи не собираются нарушать и с пленниками будут обращаться как с военнопленными, а не как с преступниками. Он присоединился к толпе солдат, ожидавших вызова. Каменное кольцо Сажье заранее снял с большого пальца и спрятал под одеждой. Без него он чувствовал себя, будто голый. С тех пор как Ариф двадцать лет назад передал ему кольцо, Сажье носил его, почти не снимая. Допрос велся в двух палатках одновременно. Монахи братства держали наготове желтые кресты, чтобы пришить их на спины тем, кого уличили в братании с еретиками, после чего пленников, как скотину, перегоняли в другой загон. Ясно было, что никого не отпустят до тех пор, пока все, от старика до последнего мальчишки, не будут допрошены. Это могло затянуться не на один день.
Наконец Сажье дождался своей очереди. Его впустили в палатку без охраны. Он остановился перед Ферье и молча ждал. Восковое лицо следователя было бесстрастным. Прежде всего он спросил Сажье об имени, возрасте, месте рождения и чине. Гусиное перо скребло по пергаменту. — Веришь ли ты в рай и ад? — неожиданно резко спросил инквизитор. — Верю. — Веруешь ли в чистилище? — Верю. — Веруешь ли, что Бог создал человека совершенным? — Я солдат, а не монах, — ответил Сажье, уставив глаза в землю. — Веруешь ли, что душа человека имеет только одно тело, в котором и с которым она обретет возрождение? — Так говорят священники. — Слышал ли ты когда-либо, чтобы кто-то утверждал, будто клясться грешно? Если так, то кто? Теперь Сажье поднял глаза. — Не слышал, — упрямо ответил он. — Что ты говоришь, сержант? Ты больше года провел в крепости и не слышал, что еретики отказываются приносить клятвы? — Я служу Пьеру Роже де Мирпуа, инквизитор, и слушаю только его. Допрос продолжался, но Сажье упорно держался роли простого солдата, невежественного в вопросах веры и писания. Он никого не обвинял и утверждал, что ничего не знает. В конце концов инквизитор Ферье отпустил его. Солнце уже садилось. Ранние сумерки прокрались в долину, похитив формы вещей и укрыв все черной тенью. Сажье отослали к другим допрошенным солдатам. Каждому из них дали одеяло, ломоть черствого хлеба и чашку вина. Сажье видел, что эта забота не распространялась на гражданских пленников.
К ночи Сажье совсем извелся. Его мучила неизвестность: прошла ли Бертрана испытание? Где ее держат? Что с Элэйс? Беспокойство сгущалось вместе с темнотой, наполняя его недобрыми предчувствиями. Хуже всего, что он был бессилен чем-нибудь помочь им. Ему не сиделось на месте, и Сажье встал, чтобы немного размяться. Промозглая сырость пробирала до костей, и ноги ныли от неподвижного сидения. — Assis![288] — проворчал стражник, постучав его по плечу древком пики. Он готов был повиноваться, когда заметил движение на склоне горы. Поисковая партия поднималась к скалистому выступу, на котором укрылись Элэйс с Арифом и проводниками. Огоньки их факелов освещали трепещущие на ветру кусты. Сажье похолодел. Они уже обыскивали замок днем и ничего не нашли. Он надеялся, что тем все и кончится. А теперь они явно собираются прочесать кусты и тропы у основания стен. Стоит им пройти еще немного в ту же сторону, и они окажутся прямо над выходом из пещерки. Почти стемнело, и Элэйс вот-вот должна выйти. Сажье бросился к ограде. — Эй! — заорал вслед стражник. — Ты что, не слышишь? Arrete![289] Сажье не остановился. Не думая о последствиях, он перескочил деревянную изгородь и большими прыжками понесся вверх по склону, прямо на поисковый отряд. Стражник у него за спиной скликал на помощь товарищей. Но Сажье было не до них. Он должен был отвлечь внимание от Элэйс. Солдаты наверху замедлили шаг, не понимая, что происходит. Сажье закричал, словно приглашая их присоединиться к погоне. Один за другим они оборачивались к нему. Недоумение на их лицах сменялось охотничьим азартом. Скучающие, продрогшие солдаты увидели возможность размяться. Сажье еще успел понять, что добился своего, прежде чем тяжелый кулак врезался ему в живот. Он скрючился вдвое, задохнувшись от боли. Двое солдат заломили ему руки за спину, и удары посыпались со всех сторон. Рукоятями оружия, сапогами, кулаками. Избиение было безжалостным. Рот у него наполнился кровью. Только теперь Сажье понял свою ошибку. В страхе за Элэйс он забыл обо всем. Бледное личико дожидающейся его Бертраны встало перед глазами в тот самый миг, когда удар по голове погрузил его в темноту.
ГЛАВА 76
Ориана посвятила жизнь поискам «Книги Слов». Вскоре после падения Каркассоны и возвращения в Шартр ее новый муж стал проявлять нетерпение, требуя представить трофей, за который он заплатил вперед. Любви между ними не было никогда, а когда привычка свела на нет и желание, разговоры сменились побоями. Она терпела побои, утешаясь планами будущей мести. Впрочем, его владения и богатства росли вместе с влиянием на короля, и понемногу он стал забывать об упущенной добыче. Тогда он оставил Ориану в покое. Получив свободу действий, она наняла соглядатаев и завела в Миди целую шпионскую сеть. Всего один раз Элэйс оказалась в пределах ее досягаемости. В мае 1234 года Ориана выехала из Шартра на юг, к Тулузе. Но, добравшись до монастыря Сен-Этьен, узнала, что стражу подкупили и сестра снова исчезла, будто ее и не было. Ориана твердо решилась не повторять ошибку. На сей раз, получив сведения о женщине, подходящей по возрасту и внешности, она вместе с сыном присоединилась к Воинству крестоносцев и немедленно выехала на юг. И в багровом свете восхода увидела, как горит ее книга. Потерпеть поражение у самой цели! Ни сын Луи, ни слуги не сумели смягчить ее бешенства. Однако к вечеру Ориана успокоилась сама и стала заново обдумывать увиденное. Если она видела на костре Элэйс — а теперь Ориана уже не была в этом уверена, — могла ли та допустить, чтобы «Книга Слов» погибла в пламени, разожженном инквизиторами? «Не могла», — решила Ориана. Она послала слуг в лагерь, и те вернулись с известием, что у Элэйс была дочь — девочка лет девяти-десяти. Отцом ее считали служившего Пьеру Роже де Мирпуа солдата. Ориана не допускала, чтобы сестра доверила свое сокровище кому-то из гарнизона. Солдат должны были обыскать. А вот ребенка?.. Она дождалась темноты и прошла туда, где держали женщин и детей. Заплатила охране, и стражники безропотно пропустили ее. Спиной она чувствовала на себе неодобрительные взгляды черных братьев, но их осуждение ее не трогало. Луи, сын, неожиданно возник перед ней. Его надменное лицо раскраснелось. Он всегда был слишком жаден до похвалы, слишком старался услужить. — Oui? — резко произнесла Ориана. — Qu'est-ce que tu veux?[290] — Il y a une fille que vous devez voir, maman.[291] Он провел мать в дальний угол, где, поодаль от других, спала девочка. Ее поразило сходство ребенка с Элэйс. Если бы не прошедшие годы, Ориана могла бы принять девочку за свою сестру. То же выражение отчаянного упорства на лице, те же черты, что у Элэйс в ее возрасте. — Отойди, — приказала она. — Пока ты рядом, девочка мне не доверится. У Луи вытянулось лицо. — Уходи, — повторила мать, поворачиваясь к нему спиной. — Пойди займись лошадьми. Здесь ты мне не нужен. Когда сын ушел, Ориана присела на корточки и похлопала девочку по плечу. Та мгновенно проснулась и села. В глазах блеснул испуг. — Кто ты? — Una amiga, — сказала Ориана, переходя на язык, от которого отказалась тридцать лет назад. — Друг. Бертрана не двигалась. — Ты француженка, — упрямо возразила она, разглядывая прическу и одежду Орианы. — Ты не из крепости. — Нет, — отозвалась Ориана, стараясь говорить терпеливо, — но родилась я в Каркассоне, как и твоя мать. Мы вместе росли в Шато Комталь. Я даже помню твоего дедушку, кастеляна Пеллетье. Наверняка Элэйс часто рассказывала тебе о нем. — Меня назвали в честь него, — живо откликнулась девочка. Ориана скрыла улыбку. — Ну вот, Бертрана, я пришла забрать тебя отсюда. Девочка насупилась. — Сажье велел мне здесь его ждать, — сказала она чуть менее настороженно. — Он сказал, ни с кем не уходить. — Так сказал Сажье? — с улыбкой повторила Ориана. — Ну да, он и мне говорил, что ты осторожная девочка, и мне придется кое-что тебе передать в доказательство, что я заслуживаю доверия. И она раскрыла ладонь с каменным кольцом, украденным когда-то с мертвой руки отца. Как она и ожидала, девочка сразу узнала кольцо и потянулась к нему. — Это тебе Сажье дал? — Возьми, убедись сама. Бертрана повертела кольцо, пристально его разглядывая. Потом встала: — А он где? — Я не знаю. — Ориана сдвинула брови. — Если только… — Да? — подняла к ней голову Бертрана. — Ты не думаешь, что он хотел увезти тебя домой? Бертрана поразмыслила и осторожно согласилась: — Может, и так. — Это далеко? — небрежно спросила Ориана. — День верхом, а может, чуть больше по зимнему пути. — А как называется деревня? — еще небрежнее продолжала Ориана. — Лос Серес, — ответила Бертрана, — только Сажье велел не говорить инквизиторам. Noublesso de los Seres… Не просто имя стражи Грааля, но и место, где его можно найти! Ориана закусила губу, чтобы не расхохотаться вслух. — Прежде всего, давай избавимся от этой гадости, — предложила она, срывая крест с платья Бертраны. — Ни к чему, чтобы нас принимали за беглецов. А теперь, тебе нужно что-нибудь взять с собой? Если книга у девочки, никуда ехать не придется. Поиски здесь и окончатся. Бертрана покачала головой: — Ничего. — Ну что ж. Теперь тихонько. Не привлекай внимания. Бертрана еще немного дичилась, но Ориана, пробираясь с ней между спящими, болтала об Элэйс, о жизни в Шато Комталь. Она была очаровательна, убедительна и внимательна. Очень скоро девочка совершенно доверилась ей. Сунув еще одну монету в руку стражника у ворот, Ориана провела Бертрану туда, где ждал ее сын, Луи д'Эвре и с ним шестеро верховых рядом с крытой повозкой. — Они с нами поедут? — заподозрив что-то, быстро спросила Бертрана. Ориана улыбнулась, усаживая девочку в повозку. — Нам в пути понадобится защита от разбойников, верно? Случись с тобой что-нибудь, Сажье мне не простит. Усадив Бертрану, она повернулась к сыну. — А я? — спросил тот. — Я хочу ехать с вами. — Мне ты нужнее здесь, — торопливобросила Ориана, ей уже не терпелось уехать. — И хотя ты, кажется, забыл об этом, ты состоишь в армии и не можешь просто исчезнуть. Все будет проще, если ты останешься. — Но… — Делай, что сказано, — прикрикнула она шепотом, что бы не слышала Бертрана. — У тебя есть дело здесь. Позаботься об отце девочки, как мы условились. Остальное предоставь мне.Гильом ни о чем не думал. Он искал Ориану. Он и явился в Монсегюр, чтобы помочь Элэйс и не позволить Ориане причинить ей вред. Почти тридцать лет он следил за ней издалека. Теперь Элэйс умерла, и ему больше нечего терять. Год за годом в нем разрасталось желание отомстить. Следовало убить Ориану, когда была возможность. Больше он не упустит случая. Закрыв лицо капюшоном, Гильом пробирался через лагерь крестоносцев, пока впереди не показался зеленый с серебром шатер Орианы. Внутри разговаривали. По-французски. Молодой голос отдавал приказы. Вспомнив юношу, стоявшего рядом с Орианой, Гильом припал ухом к полотняной стенке. — Он — солдат гарнизона, — холодно говорил Луи д'Эвре. — Известен под именем Сажье де Сервиан. Тот, что недавно устроил шум. Простолюдин-южанин, — презрительно добавил он. — Как бы мягко с ними ни обращались, они все равно ведут себя как животные, — послышался отрывистый смешок. — Его держат рядом с шатром Уго де Арсиса, отделив от других, на случай если он еще что-нибудь выкинет. Луи понизил голос, и теперь Гильом с трудом разбирал слова. — Вот это для вас. — Зазвенели монеты. — Половина сразу. Если он еще жив, исправьте положение. Остальное получите, когда сделаете свое дело. Гильом дождался, пока солдаты выйдут, и проскользнул за оставшийся открытым полог. — Я же сказал, не беспокоить, — буркнул Луи, не оборачиваясь. Нож Гильома уперся ему в горло, прервав на полуслове. — Один звук, и будешь убит, — предупредил Гильом. — Бери что хочешь, что хочешь. Не убивай только! Гильом обвел глазами полутемный шатер: дорогие ковры, теплые одеяла. Ориана добилась богатства и положения, о которых мечтала. Он надеялся, что это не принесло ей счастья. — Назови свое имя, — приказал он хриплым от ненависти голосом. — Луи д'Эвре. Не знаю, кто ты, но моя мать… Гильом запрокинул ему голову. — Не грози мне. Ты отослал охрану, помнишь? Никто тебя не услышит. Лезвие ножа сильнее прижалось к бледной коже северянина. Эвре замер. — Так-то лучше. Где Ориана? Если не ответишь, я перережу тебе глотку. Услышав имя Орианы, молодой человек подобрался, но страх развязал ему язык. — Она ушла в женскую тюрьму, — пробормотал он. — Зачем? — Искать… девочку. — Не трать мое время, nenon! — прикрикнул Гильом и слегка провел клинком по коже. — Какую девочку? Какое до нее дело Ориане? — Дочь еретички. Она… сестра матери, — выговорил он так, словно слова жгли ему язык. — Моя тетя. Мать хотела увидеть девочку. — Дочь Элэйс! — недоверчиво шепнул Гильом. — Сколько ей лет? — Откуда мне знать? Девять, десять… От кожи француза пахло страхом. — А отец? Тоже мертв? Эвре дернулся. Гильом сильнее надавил ножом и повернул клинок так, что острие уперлось Эвре под левое ухо. — Он солдат. Из людей де Мирпуа. Гильом понял сразу. — А ты послал своих людей позаботиться, чтобы он не увидел рассвета, — процедил он. Клинок ножа блеснул в отблеске свечи. — Кто ты? Гильом и не подумал отвечать. — Где владетель д'Эвре? Почему его здесь нет? — Отец умер, — ответил юноша. В его голосе не было печали, а только непонятная для Гильома хвастливая гордость. — Теперь поместья д'Эвре принадлежат мне. Гильом усмехнулся: — Вернее, твоей матери. Юноша сжался, как от удара. — Скажи, владетель д'Эвре, — Гильом насмешливо подчеркнул титул, — что нужно твоей матери от девочки? — Какая разница? Она — отродье еретиков. Им всем дорога в костер. Гильом не сомневался, что мальчишка тут же пожалел, что дал волю языку, — но было поздно. Рука Гильома дернулась, от уха до уха вспоров юноше горло. — Per lo Miègjorn, — проговорил он. — За Миди. Кровь брызнула из раны на дорогой ковер. Гильом разжал руки, и д'Эвре упал лицом вниз. — Если твои слуги не задержатся, может, ты и выживешь, — бросил Гильом. — Если нет — моли Бога, чтобы простил твои грехи. Откинув назад капюшон, он выбежал из шатра. Ему нужно было найти Сажье де Сервиана раньше людей д'Эвре.
Маленький отряд двигался тряской рысью в холодной ночи. Ориана не раз пожалела, что взяла повозку. Верхом было бы быстрее. Деревянные ободья скрипели и подпрыгивали на промерзшей каменистой земле. Они держались в стороне от больших дорог и в первые же несколько часов миновали дорожные заставы в долине. Теперь двигались прямо на восток. Бертрана спала, укрывшись плащом от холодного ветра, проникавшего в щели повозки. Ориана порадовалась, что девчонка наконец перестала болтать. Девочка извела ее бесконечными расспросами о жизни в Каркассоне в старину, до войны. Ориана накормила девочку печеньем, сладким хлебцем и вином, в которое добавила столько сонного зелья, что хватило бы свалить на сутки здорового солдата. Наконец девочка угомонилась и крепко уснула.
— Очнись! Сажье слышал голос. Мужской. Совсем рядом. Он попробовал шевельнуться. Боль прострелила все тело. В глазах вспыхнули голубые искры. — Очнись, — настойчиво повторял голос. Сажье поежился. Что-то холодное прижалось к лицу, успокаивая боль в ссадинах. Медленно возвращалась память об ударах, сыпавшихся на голову, на тело, со всех сторон. Может, он умер? Нет, вспоминал он. Кто-то закричал снизу, из-под горы, приказал солдатам прекратить. Те вдруг отступили. Кто-то властно отдавал приказы на французском. Его поволокли вниз. Может, и не умер? Сажье снова попробовал шевельнуться. В спину упиралось что-то твердое. Локти заломлены назад. Попробовал открыть глаза и убедился, что один заплыл и не открывается. Зато обострились другие чувства. Он чувствовал рядом движение лошадей, слышал стук подков. Знакомые, понятные звуки. — Ногами двигать можешь? — спросил мужской голос. Сажье с удивлением обнаружил, что может, преодолевая жестокую боль. Один из солдат, избивавших его, наступил тяжелым сапогом на лодыжку. Человек обогнул его, нагнулся, перерезая веревки, притягивавшие руки к столбу. Сажье почудилось в нем что-то знакомое. Знакомый голос, знакомый поворот головы. Он с трудом приподнялся. — Чем обязан такой милости? — спросил он, растирая запястья. И вдруг вспомнил. Вспомнил, как в одиннадцать лет забрался на стену Шато Комталь, чтобы лишний раз взглянуть на Элэйс. И слышал смех, плывущий с ветерком из окон. Мужской голос, веселый и ласковый. — Гильом дю Мас, — медленно произнес он. Гильом удивленно обернулся. — Разве мы встречались, друг? — Не трудись вспоминать. — Сажье с трудом заставил себя взглянуть ему в лицо. — Скажи, amic, — он подчеркнул голосом последнее слово, — зачем ты пришел? — Чтобы… — Гильом даже не заметил его враждебности. — Ты — Сажье де Сервиан? — Что с того? — Ради Элэйс, которую мы оба… — Гильом осекся и заговорил тверже: — Здесь ее сестра, Ориана, с одним из сыновей. Он в армии крестоносцев, но Ориане нужна книга. Сажье уставился на него. — Какая еще книга? — воинственно спросил он. Гильом не стал объяснять. — Ориана узнала, что у вас есть дочь. Она ее увезла. Не знаю, куда они направляются, но они уехали из лагеря в сумерках. Я пришел рассказать тебе и предложить помощь. Он выпрямился. — Если ты отказываешься… Сажье почувствовал, как кровь отливает от лица. — Подожди! — вскрикнул он. — Если ты хочешь вернуть дочь, — ровно продолжал Гильом, — лучше пока забудь обиду на меня, в чем бы она ни состояла. Он протянул руку, помогая Сажье подняться. — Ты не догадываешься, куда могла увезти ее Ориана? Сажье смотрел на человека, которого ненавидел всю жизнь. Потом, ради Элэйс и дочери, взял протянутую руку. — У нее есть имя, — сказал он. — Ее зовут Бертрана.
ГЛАВА 77 ПИК ДЕ СОЛАРАК, пятница, 8 июля 2005
Одрик с Элис молча поднимались в гору. Так много было сказано, что больше не нужно было слов. Одрик тяжело дышал, внимательно смотрел под ноги и ни разу не споткнулся. — Наверно, уже недалеко, — сказала Элис, больше себе, чем ему. — Да… Через пять минут Элис увидела, что они вышли к участку раскопок со стороны, дальней от стоянки. Палатки сняли, и от них на земле остались бурые пятна примятой травы. Среди разбросанного мусора Элис заметила лопатку и палаточный колышек, который зачем-то подняла и положила в карман. Они продолжали подъем, уклоняясь влево, пока не добрались до плиты, которую обрушила Элис. Она лежала боком чуть ниже устья пещеры, явно никем не тронутая, и в призрачном белом свете луны напоминала низвергнутого идола. «Неужто не прошло и недели?» Бальярд прислонился к валуну, переводя дыхание. — Уже почти пришли, — виновато утешила его Элис. — Извините, не предупредила, что здесь так круто. Одрик улыбнулся: — Я помню. Он взял ее за руку. Кожа у него была тонкая, как папиросная бумага. — Когда подойдем к пещере, дождитесь, пока я не скажу, что можно входить за мной. Обещайте мне, что спрячетесь и будете ждать, — произнес он. — По-моему, вовсе неразумно вам заходить туда одному, — заупрямилась Элис. — Даже если вы правы и они будут ждать полной темноты, все-таки вы можете попасть в ловушку. Позвольте мне вам помочь, Одрик. Я войду с вами и помогу искать книгу. Вдвоем будет и скорее, и проще. Всего несколько минут понадобится, а потом мы оба спрячемся и посмотрим, что будет. — Простите, но нам лучше разделиться. — Не понимаю зачем, Одрик. Никто не знает, что мы здесь. Мы в полной безопасности, — сказала Элис, упрямо отгоняя недоброе предчувствие. — Вы очень отважны, madomaisèla, — тихо сказал Одрик. — Она была такой же. Думала сперва о других, потом уж о себе. Она многим пожертвовала для тех, кого любила. — Никто ничем здесь не жертвует, — резко отозвалась Элис. — И я так и не поняла, почему нельзя было прийти пораньше. Могли бы обыскать пещеру днем, не рискуя, что нас застанут. Бальярд словно не слышал ее. — Вы позвонили инспектору Нубелю? — спросил он. «Не стоит с ним спорить. Не время». — Да, — вздохнула она, — и сказала все, как вы велели. — Ben, — кивнул Одрик. — Я понимаю, madomaisèla, что все это выглядит неразумно, но потерпите, и вы увидите. Все должно случиться в свой срок, в правильном порядке. Иначе истина не откроется. — Истина? — повторила Элис. — Вы же рассказали мне все, Одрик. Все. Теперь я только думаю, как вытащить из этой истории Шелаг и Уилла целыми и невредимыми. — Все… — пробормотал Одрик. — Да разве это возможно? Он смотрел на чернеющий над ними вход в пещеру — дыру в отвесной скале. — Бывает, что одна истина противоречит другой, — бормотал он. — Теперь не то что тогда. Старик взял Элис за руку. — Дойдем уж до конца? — предложил он. Элис с сомнением косилась на своего спутника, дивясь, что на него нашло. Он казался спокойным и задумчивым, словно готов был безучастно принять все, что может произойти. А Элис трясло от страха: ей чудилось, что все пойдет не так, что Нубель опоздает, что Одрик ошибается. «Что, если их уже убили?» Элис оттолкнула от себя эту мысль. Нельзя так думать. Надо верить, что все выйдет как надо. У входа Одрик с улыбкой повернулся к ней. Его янтарные глаза лихорадочно блестели. — Что это, Одрик? — едва не вскрикнула Элис. — Что-то… — Она не нашла нужных слов. — Что-то… — Я очень долго ждал, — мягко сказал он. — Ждали? Чего? Пока найдется книга? Он покачал головой: — Искупления. — Искупления чего? — Элис не замечала даже, что в глазах у нее стоят слезы, она закусила губу, чтобы не сорваться. — Я не понимаю, Одрик, — договорила она дрогнувшим голосом. — «Pas a pas se va luènh», — произнес он. — Вы видели эти слова на ступенях? Элис недоуменно уставилась на него. — Да, но откуда?.. Он протянул руку за фонариком. — Мне нужно войти. Элис, вконец запутавшаяся в собственных переживаниях, безропотно отдала ему фонарь. Проводила взглядом удаляющееся по тоннелю пятнышко света, пока оно не исчезло совсем, и тогда отвернулась. Крик совы заставил ее подскочить. Страх многократно увеличивал громкость каждого звука. Темнота была зловещей. Деревья угрожающе склонялись к ней, каждая скала отбрасывала черную тень. Все стало незнакомым, недобрым. Вдали, в нижнем конце долины, кажется, зашумела машина. И снова тишина. Элис взглянула на часы. Девять тридцать.Без четверти десять два мощных луча автомобильных фар осветили стоянку у подножия пика де Соларак. Поль Оти заглушил мотор и вышел. Его удивило отсутствие Франсуа-Батиста. Тот должен бы уже ждать… Оти взглянул в сторону пещеры, с тревогой подумав, что, может быть, они уже там. И отбросил эту мысль. Нервы сдают. Бриссар с Доминго уехали отсюда всего час назад. Если бы Мари-Сесиль с сыном появились на раскопе, ему бы сообщили. Рука нащупала в кармане коробочку управления, уже отсчитывающую время до взрыва. Делать нечего. Остается только ждать и наблюдать. Оти тронул висевший на шее крест и начал молиться. Какой-то звук в рощице на краю стоянки привлек его внимание. Оти открыл глаза. Ничего не видно. Он вернулся к машине, включил дальний свет. Луч фар выхватил из темноты резкие силуэты деревьев. Он прикрыл глаза ладонью и всмотрелся. Теперь в густом подлеске удалось разглядеть движение. — Франсуа-Батист? Ответа не было. Оти ощутил, как дрожь пробежала по спине. — Не время шутить! — выкрикнул он в темноту, добавив в голос раздражения. — Если вам нужны книга и кольцо, покажитесь. Оти пришло в голову, что он неверно оценивает положение. — Я жду! — крикнул он. На сей раз послышался невнятный ответ. Оти скрыл довольную усмешку при виде вышедшего на свет Франсуа-Батиста. Юноша был одет в куртку, которая была ему велика на несколько размеров. Вид у него был смешной и жалкий. — Где О'Доннел? — Вы один? — спросил его Оти. — Не ваше дело, — огрызнулся юноша, остановившись на краю рощи. — Где Шелаг О'Доннел? Оти мотнул головой в направлении пещеры. — Уже на месте и ждет вас, Франсуа-Батист. А я решил избавить вас от лишнего беспокойства. — Он коротко хохотнул. — Думаю, она не доставит вам хлопот. — А книга? — Там же. — Оти поддернул манжеты рубашки. — И кольцо тоже. Все доставлено, как договаривались. В срок. Франсуа-Батист резко рассмеялся. — Пожалуй, еще и в подарочной обертке, — язвительно предположил он. — И вы рассчитываете, будто я поверю, что вы их там оставили? Оти презрительно глянул на него. — Мне было поручено доставить кольцо и книгу — что я и сделал. А заодно возвратил вашу — как бы это назвать — вашу шпионку. Считайте это добровольной услугой с моей стороны. — Он прищурился. — Как поступит с ней мадам Л'Орадор — ее дело. По лицу мальчишки скользнула неуверенность. — И все по доброте душевной? — Все ради Noublesso Veritable, — холодно возразил Оти. — Или вас не пригласили в компанию? Полагаю, быть просто ее сыном недостаточно. Пойдите и посмотрите сами. Если ваша матушка еще не отправилась туда, чтобы подготовиться. Франсуа-Батист бросил на него острый взгляд. — Вы думали, она мне не сказала? — Оти шагнул к нему. — Думали, я не знаю, чем она занимается? — В нем разгорался гнев. — Вы видели ее, Франсуа-Батист? Видели, как горит восторгом ее лицо, когда она произносит эти мерзкие слова, эти богохульные слова? Это богопротивно — то, чем она занимается. — Не смейте так говорить о ней! Рука юноши нырнула в карман. Оти расхохотался: — Вот-вот, позвоните ей. Пусть скажет вам, что делать. И что думать. Как же можно что-то предпринять, не спросив маменькиного разрешения! Он повернулся спиной к юнцу и зашагал к машине. Услышал щелчок предохранителя и лишь секунду спустя осознал, что это было. Все еще не веря, он обернулся назад. Опоздал. Один за другим прогремели два выстрела. Первый ушел в сторону. Вторая пуля ударила его в бедро, раздробила кость и прошла навылет. Оти упал на землю, крича от боли. Франсуа-Батист шел к нему, обеими руками сжимая пистолет. Оти пытался уползти, даже сдвинулся немного, оставив за собой кровавый след, но слишком медленно. Франсуа-Батист уже стоял над ним. Их глаза встретились, и юноша нажал курок.
Элис вздрогнула. Звук выстрелов разорвал тишину ночных гор, эхом отозвался от скал, задрожал над ней. Сердце у нее понеслось вскачь. Она не могла сообразить, откуда донесся звук. Будь это дома, она решила бы, что просто какой-то фермер подстрелил ворону или кролика. «Не похоже на дробовик!» Элис отбежала к обрыву, заглянула вниз, туда, где располагалась автомобильная площадка. Хлопнула дверца машины, послышались голоса. «Что там делает Оти?» Они были далеко, но сами горы чувствовали их присутствие. Элис уловила шорох скатившегося с тропы камешка, хрустнувшей под ногами ветки. Она забилась в устье пещеры, оглядываясь через плечо в темноту, будто надеялась силой взгляда вызвать оттуда Одрика. «Что же он не идет?» — Одрик, — тихо окликнула она. — Кто-то идет сюда! Одрик! Ни звука в ответ. Наплывающая из тоннеля темнота пугала ее. «Но надо же предупредить!» Молясь в душе, чтобы не оказалось слишком поздно, Элис развернулась и бросилась к залу лабиринта.
ГЛАВА 78 ЛОС СЕРЕС, марс 1244
Они двигались быстро, несмотря на раны Сажье. Вдоль реки, на юг от Монсегюра. Выехали налегке и скакали во весь опор, останавливаясь, только чтобы дать роздых коням и напоить их. Корку льда проламывали мечами. Гильом сразу увидел, что Сажье превосходит его искусством. Гильому мало было известно о прошлом Сажье. Был связным между Совершенными и затерянными в Пиренеях селениями, служил разведчиком повстанцев… Гильом не сомневался, что его более молодой спутник знает в горах каждую тропку, каждое ущелье и гребень. Гильом ощущал яростную неприязнь своего спутника, но молчал, хотя враждебность била в спину, как горячий солнечный луч. Он помнил, что Сажье считался человеком верным, отважным и честным, готовым умереть, сражаясь за свои убеждения. Он понимал Элэйс, полюбившую этого человека и родившую от него ребенка, хотя сама мысль об этом была ему как нож в сердце.Счастье сопутствовало им. Ночью не было снегопада, и новый день, девятнадцатое марта, оказался ясным и светлым, почти безветренным. Они подъехали к Л ос Серее в сумерках. Деревушка скрывалась в маленькой глубокой лощине. Несмотря на холод, в воздухе уже пахло весной. Деревья на околице покрыты были белыми и зелеными почками. Первые весенние цветы выглядывали из зимней травы на обочине. Несколько домов, составлявших селение, казались пустыми и заброшенными. Мужчины спешились и повели лошадей под уздцы. В тишине громко отдавался звон подков по камням и мерзлой земле. Над парой крыш виднелись струйки дыма. В щелях ставен мелькали и тут же исчезали испуганные глаза обитателей. Французские мародеры редко забредали так далеко в горы, но бывало и такое. Их появление всегда предвещало беду. Сажье привязал лошадь у колодца. Гильом последовал его примеру, и они вместе прошли к маленькой хижине. На крыше ее не хватало черепиц, ставни покосились, но стены были еще крепкими. Гильому подумалось, что не так уж трудно было бы вернуть дом к жизни. Он ждал, пока Сажье боролся с набухшей дверью. Наконец створка подалась и, скрипнув петлями, пропустила их внутрь. Гильом вдохнул сырой, могильный воздух, от которого сразу занемели пальцы. У стены против двери зимними ветрами намело сухих листьев. На внутренней стороне ставен, на подоконнике, ледяной бахромой висели сосульки. На столе остались следы давней трапезы: кувшин, тарелки, чашки, нож. Вино покрывала зеленая пленка плесени — словно тина на поверхности пруда. Скамейки были сдвинуты к стене. — Это твой дом? — тихо спросил Гильом. Сажье кивнул. — Сколько же ты здесь не был? — Год. Посреди хижины над прогоревшими углями очага висел котелок. Гильом с жалостью смотрел, как Сажье склонился над ним и поправил крышку. Заднюю половину дома отгораживала рваная занавеска. Приподняв ее, он увидел еще один стол с придвинутыми к нему двумя стульями. Вдоль стены тянулся ровный ряд полупустых полок. Старая ступка и пестик, пара мисок и несколько запыленных горшков. На торчавших из стены над полками крючках еще висели пучки сухих трав, окаменевшая веточка блошницы и мешочек с черничным листом. — Для лекарств… Голос Сажье застал Гильома врасплох. Он застыл, сложив перед собой руки, не смея прервать его воспоминаний. — Все к ней приходили, и женщины, и мужчины. Кто болел, у кого на душе было неспокойно, кто просил помочь ребенку здоровым пережить зиму. Бертрана… Элэйс разрешала ей помогать и разносить лекарства по домам. Сажье умолк. У Гильома в горле тоже стоял комок. Он тоже помнил горшки и бутыли, которыми Элэйс наполнила их спальню в Шато Комталь. Помнил, с какой молчаливой сосредоточенностью она работала. Сажье опустил занавеску. Проверил на прочность ступени приставной лестницы и осторожно забрался на верхнюю платформу. Здесь, заплесневелые и изодранные мышами, лежали соломенные тюфяки и одеяла — остатки семейного ложа. У постели стоял простой подсвечник с потеками воск а, над ним по стене тянулась полоска копоти. Гильом не мог больше смотреть на Сажье и вышел подождать снаружи. Он был не вправе вторгаться в его горе. Через некоторое время Сажье вышел к нему. Глаза у него покраснели, но руки не дрожали, и он ровным шагом подошел к Гильому, который стоял на верхней точке деревенской улочки, глядя на запад. Мужчины были одного роста, хотя морщины на лице Гильома и седина в его волосах говорили, что он на пятнадцать лет ближе к могиле. — Солнце в горах в это время года встает поздно. Гильом ответил не сразу. — Что ты собираешься делать? — спросил он, признавая за Сажье право решать. — Надо поставить в конюшню лошадей и самим найти ночлег. Думаю, до утра они не появятся. — Ты не хочешь… — Гильом оглянулся на заброшенный дом. — Нет, — быстро отозвался Сажье. — Только не там. Есть одна женщина — она нас накормит и пустит переночевать. Завтра двинемся дальше в горы и устроим лагерь у пещеры. Там и будем их ждать. — Думаешь, Ориана обойдет деревню? — Она должна догадаться, где Элэйс спрятала «Книгу Слов». За эти тридцать лет у нее хватило времени изучить две другие книги. Гильом покосился на спутника. — Так оно и есть? Книга в пещере? Сажье его не услышал. — Не понимаю, как она убедила Бертрану уйти с ней, — пробормотал он. — Я же велел ей ждать меня. Никуда без меня не уходить. Гильом промолчал. Ему нечем было успокоить Сажье. Впрочем, тот быстро овладел собой. — Могла Ориана взять с собой те две книги? — вдруг обратился он к Гильому. Гильом покачал головой. — Думаю, они надежно заперты в ее сокровищнице, где-нибудь в Шартре или в Эвре. Зачем бы ей так рисковать? — Ты ее любил? Вопрос застал Гильома врасплох. — Я ее желал, — медленно ответил он. — Я был околдован, опьянен сознанием собственной важности, я… — Не Ориану, — перебил его Сажье. — Элэйс. Будто железная полоса сжала Гильому горло. — Элэйс… — прошептал он. Минуту он стоял, уйдя в воспоминания, пока взгляд Сажье не вернул его в холод настоящего. — После… — Он сбился и начал сначала: — После падения Каркассоны я виделся с ней всего один раз. Она провела со мной три месяца. Ее захватила инквизиция, и… — Я знаю! — выкрикнул Сажье, он был вне себя. — Все это я знаю! Гильом удивился его вспышке, но не обернулся. Он смотрел прямо перед собой и заметил вдруг, что улыбается. — Да. — Слова сами собой соскальзывали с губ. — Я любил ее больше целого мира. Просто я не понимал, как драгоценна любовь, как она хрупка, пока не разбил ее собственными руками. — Потому ты отпустил ее? После Тулузы, когда она вернулась сюда? Гильом кивнул. — После тех недель, проведенных вместе, видит Бог, трудно было оставить ее. Увидеться, еще хоть раз… Я надеялся, когда все это кончится, может быть, мы… Но, видно, она нашла тебя. А теперь… У него сорвался голос. На морозе от слез щипало глаза. Он почувствовал, как рядом шевельнулся Сажье. На мгновение что-то возникло между ними. — Прости. Нечаянно вырвалось. — Гильом перевел дыхание. — Ориана назначила за голову Элэйс такую награду, что могли соблазниться даже те, кто не желал ей зла. Я перекупал ее шпионов, чтобы те доставляли ложные донесения. Почти тридцать лет я старался защитить ее. Гильом снова замолчал, когда видение книги, горящей на обугленном красном плаще, непрошеным гостем встало перед глазами. — Не знал я, что ее вера так сильна, — закончил он. — И что она пойдет на такое, лишь бы не отдать книгу Ориане. Он взглянул на Сажье, надеясь прочесть правду в его глазах. — Я хотел бы, чтобы она осталась жить, — просто сказал он. — Ради тебя, избранного ею в мужья, и ради меня, глупца, любившего и потерявшего ее. И больше всего, ради вашей дочери. Зная Элэйс… — Почему ты нам помогаешь? — перебил его Сажье. — Зачем пришел? — В Монсегюр? Сажье нетерпеливо мотнул головой. — Не в Монсегюр. Сюда. — Чтобы отомстить? — ответил Гильом.
ГЛАВА 79
Элэйс проснулась сразу. Она продрогла, тело затекло и онемело. Слабый лиловый отблеск рассвета окрасил серые горы. Легкий белый туман крался по лощинам. Она взглянула на Арифа. Тот мирно спал, натянув на уши плащ. Сутки пути трудно дались ему. Тишина тяжело нависла над горами. Элэйс промерзла до костей, но это не мешало ей радоваться минутам одиночества после месяцев в переполненном Монсегюре. Стараясь не потревожить Арифа, она встала, потянулась и открыла вьючную суму, чтобы отломить кусок хлеба. Каравай оказался твердым, как дерево. Она нацедила чашку густого горного вина, такого холодного, что обжигало рот. Обмакнула хлеб, чтобы размягчить его, и быстро стала есть. Предстояло еще готовить еду для остальных. Она не позволяла себе думать о Бертране и Сажье. Где они сейчас? Еще в лагере? Вместе или порознь? Протяжный крик совы, возвращающейся с ночной охоты, разрезал тишину. Элэйс улыбнулась знакомому звуку. В кустах шуршали мелкие зверьки, тихонько цокотали коготки. Ниже по долине завыли волки. Все напоминало ей, что мир остался прежним, круговорот жизни продолжается своим чередом. Элэйс разбудила двух проводников, сказала, что еда готова, а сама повела лошадей к ручью и мечом разбила лед, чтобы они напились. Когда свет стал ярче, она пошла будить Арифа. Шепнула ему на ухо слова на его родном языке и ласково похлопала по плечу. В последние дни он часто просыпался в отчаянии. Ариф поднял тяжелые веки над карими глазами, потускневшими к старости. — Бертрана? — Это я, Элэйс, — мягко отозвалась она. Ариф моргнул, недоуменно оглядывая серые склоны гор. «Должно быть, — подумала Элэйс, — ему снова снился Иерусалим, купола мечетей и протяжные призывы к молитве сарацинских правоверных, бесконечное море пустыни…» Сколько раз за эти годы Ариф рассказывал ей об ароматных пряностях, ярких красках, острых яствах, о палящем солнце. Он рассказывал ей всю свою жизнь, говорил о пророках и городе Аварис, где провел детство, о молодом отце Элэйс, о Noublesso. Она с болью в сердце разглядывала его побледневшую от старости оливковую кожу, побелевшие волосы. Он был слишком стар для этого испытания. Слишком много перенес, слишком много видел для такого жестокого конца. Слишком долго откладывал Ариф это путешествие. Элэйс не говорила, но знала, только мысль о Лос Серес и Бертране давала ему силы держаться. — Элэйс, — повторил он, возвращаясь к действительности. — Да… — Уже недолго осталось, — сказала она, поднимая его на ноги. — Мы почти дома.Гильом и Сажье мало разговаривали. Они забились в углубление под камнями, куда не дотягивались жестокие когти ветра. Гильом несколько раз пробовал завязать разговор и умолкал, смущенный отрывистыми откликами. В конце концов он оставил попытки и погрузился в собственный мир. Сажье так было легче. Его мучила совесть. Он всю жизнь сперва завидовал Гильому, потом ненавидел его и только недавно сумел о нем забыть. Он занял место мужа рядом с Элэйс, но не в ее сердце. Она осталась верна первой любви, устоявшей перед разлукой и неизвестностью. Сажье достаточно наслышан был об отваге Гильома, о его бесстрашной и неутомимой борьбе против крестоносцев за землю Ока, но не позволял себе восхищаться им. И жалеть не хотел. Он видел, какую боль причиняет Гильому мысль об Элэйс. Его лицо говорило об ужасе потери. Но Сажье не мог заставить себя заговорить. И ненавидел себя за молчание. Они ждали весь день. Спали по очереди. Уже начинало смеркаться, когда стая ворон пролетела над самым склоном — как хлопья пепла от догоревшего костра. Птицы с карканьем закружились над ними, хлопая крыльями в ледяном воздухе. — Кто-то идет, — мгновенно насторожился Сажье. Он выглянул из-за валуна, нависавшего над входом в пещеру. Огромный камень держался на узком уступе, словно был положен сюда рукой горного великана. И ничего не увидел, никакого движения. Тогда Сажье осторожно вышел из укрытия. Все кости болели, все тело, не отошедшее еще от жестоких побоев, занемело в бездействии. На костяшках отекших пальцев запеклась кровь, лица было не различить за синяками и ссадинами. Сажье свесил ноги с уступа, спрыгнул вниз. Приземлился неудачно — тело прошила боль. — Дай меч, — попросил он, протягивая вверх руку. Гильом передал ему оружие, потом спустился сам и встал рядом, всматриваясь вниз по ущелью. Ветер донес далекиё голоса. Потом в меркнущем свете Сажье разглядел тонкую струйку дыма, поднимающуюся из реденькой рощи. Он перевел взгляд к горизонту, где лиловая земля сливалась с темнеющим небом. Они подошли с юго-востока, — сказал он спутнику, значит, Ориана далеко обошла селение. С этой стороны они лошадей дальше не проведут — не та тропа. С обеих сторон обрывы и осыпи. Дальше пойдут пешком. Мысль, что Бертрана так близко, оказалась невыносима. — Я спущусь туда… — Нет! — быстро возразил Гильом и добавил мягче: — Нет, слишком велик риск. Если тебя заметят, Бертрана станет заложницей. Уже ясно, что Ориана направляется к пещере. Здесь внезапность сыграет нам на руку. Надо дождаться. — Помолчав, он добавил: — Не вини себя, друг. Ты не мог им помешать. И для твоей дочери будет лучше, чтобы ты держался прежнего плана. Сажье вырвал у него свою руку. — Что ты понимаешь? — сказал он дрожащим от ярости голосом. — Как смеешь думать, что понимаешь меня? Гильом вскинул руки в шутливом отчаянии: — Извини-извини! — Она совсем ребенок. — Сколько ей? — Девять, — коротко отозвался Сажье. — Уже может кое-что понимать, — задумчиво нахмурился Гильом. — Даже если из лагеря Ориана выманила ее уговорами, а не увезла силой, к этому времени она должна была разобраться. Она знала, что Ориана в лагере? Вообще знала, что у нее есть тетя? Сажье кивнул. — И знала, что Ориана — не друг Элэйс. Она бы с ней не ушла. — Если знала, с кем имеет дело, — нет, — согласился Гильом. — А если не знала? Сажье на минуту задумался и покачал головой: — Все равно. Не могу поверить, чтобы она пошла за незнакомой женщиной. Мы же ясно объяснили, что она должна дождаться нас… Он осекся, поняв, что проговорился, но Гильом не услышал оговорки, погрузившись в размышления, и Сажье перевел дух. — Думаю, с солдатами мы справимся после того, как отобьем Бертрану, — заговорил Гильом. — Чем больше размышляю, тем вероятнее мне кажется, что Ориана оставит своих людей ждать, а сюда подойдет только с твоей дочерью. Сажье стал слушать внимательней: — Дальше? — Ориана тридцать лет дожидалась этой возможности. Таиться для нее так же привычно, как дышать. Не думаю, чтобы она рискнула выдать кому-то место, где находится ее драгоценная пещера. Она не захочет делиться тайной, а раз она полагает, что никто, кроме сына, не знает, куда она направилась, то и опасности не предвидит. Гильом помолчал. — Ориана… Ради тайны лабиринта она лгала, убивала, предала отца и сестру. Ради этих книг она обрекла себя на проклятие. — Убивала? — Первого своего мужа, Жеана Конгоста, — наверняка, даже если не ее рука воткнула ему нож в спину. — Франсуа, — прошептал Сажье так тихо, что Гильом не услышал. Луч воспоминания: вопль, отчаянно бьющая копытами лошадь, трясина, засасывающая человека и животное. — И я всегда подозревал, что на ее совести смерть одной женщины, которую Элэйс очень любила, — продолжал Гильом. — Имя я запамятовал за столько лет, но помню, что она была знахарка из Нижнего города. Она научила Элэйс всему: собирать травы, лечить, пользоваться дарами природы на благо людям. Элэйс ее любила, — помолчав, повторил он. Только упрямство помешало Сажье сказать о себе. Упрямство и давняя ревность. Но этого он не выдержал. — Эсклармонда не умерла тогда, — тихо сказал он. Гильом замер. — Как? А Элэйс знала? Сажье кивнул. — Когда она сбежала из Шато, за помощью пришла к Эсклармонде — и к ее внуку. Она… Властный и холодный голос Орианы прервал его откровения. Мужчины — оба опытные разведчики — мгновенно распластались на земле, беззвучно обнажили мечи и переползли ближе к устью пещеры. Гильом укрылся за густым кустом боярышника. Его колючие ветви угрожающе топорщились в спустившихся сумерках. Голоса приближались. Они уже слышали топот солдатских сапог, звон оружия. Сажье казалось, он вместе с Бертраной проходит каждый шаг. Мгновения растянулись в вечность. Звук шагов, отголоски разговоров словно застыли на месте и не приближались. Наконец из-за деревьев показались две человеческие фигуры. Гильом не ошибся: они были вдвоем, Ориана и Бертрана. Сажье чувствовал на себе предостерегающий взгляд Гильома, заклинающий не двигаться, ждать, пока Ориана не окажется на расстоянии удара. Когда они приблизились, Сажье стиснул кулаки, чтобы не зарычать вслух. На побелевшем личике девочки ярко краснел рубец от удара. От шеи к связанным сзади рукам тянулась веревка. Ориана держала ее конец в левой руке, а в правой сжимала кинжал, и острием его колола Бертрану в спину, подгоняя вперед. Та шла неловко, часто оступаясь. Прищурившись, Сажье разглядел, что под подолом юбки у нее связаны лодыжки. Свободная петля позволяла кое-как передвигать ноги, но не бежать. Он заставил себя замереть, ждать, смотреть, как они выходят на прогалину перед пещерой. — Ты сказала, сразу за деревьями! Бертрана пробормотала что-то так тихо, что Сажье не разобрал слов. — Ради твоего же блага, надеюсь, что это правда, — процедила Ориана. — Вот она, — проговорила девочка. Голос ее не дрожал, но Сажье услышал в нем ужас, от которого у него сжалось сердце. Они намеревались напасть на Ориану у входа в пещеру. Сажье должен был выхватить девочку, Гильом — разоружить женщину, не дав ей воспользоваться ножом. Сажье оглянулся на Гильома, и тот кивнул, показывая, что готов. — Но тебе нельзя входить, — говорила между тем Бертрана. — Это святое место. Туда можно только стражам. — Вот как? — издевательски усмехнулась Ориана. — И кто же мне помешает? Не ты ли? — Старая обида проступила на ее лице. — Ты так похожа на нее, что меня тошнит. Женщина резко дернула веревку, заставив девочку вскрикнуть от боли. — Элэйс тоже всегда знала, кому что делать. Всегда думала, что она лучше других. — Неправда! — выкрикнула Бертрана. Сажье мысленно умолял ее замолчать. В то же время ему подумалось, что Элэйс может гордиться отвагой дочери в столь безнадежном положении. Да и он ею гордился. Девочка была достойна своих родителей. А Бертрана кричала: — Все не так! И входить нельзя. Он тебя не впустит! Лабиринт хранит свои тайны — от тебя и от всех, кто ищет его не по праву! Ориана коротко рассмеялась: — Сказки, чтобы пугать маленьких глупышек вроде тебя. — Я тебя дальше не поведу, — не сдавалась Бертрана. Ориана подняла руку и ударила девочку, сбив ее на камни. Красная пелена затянула рассудок Сажье. В три шага он оказался перед Орианой. Из его горла вырвался безумный рев. Ориана опередила его. Одним движением она вздернула пленницу на ноги и приставила нож ей к горлу. — Какое разочарование, Мой сын не справился даже с таким простым делом. Мне доложили, что о тебе уже позаботились… впрочем, не важно. Сажье выдавил улыбку, надеясь хоть немного ободрить Бертрану. — Брось меч, — холодно проговорила Ориана, — или я ее убью. — Извини, Сажье, что я тебя не послушалась, — крикнула ему девочка. — Но она показала твое кольцо. Сказала, ты ее за мной послал. — Не мое кольцо, — отозвался Сажье. Меч выпал из его руки и задребезжал на жесткой земле. — Так-то лучше. Теперь встань так, чтобы я могла тебя видеть. Вот так. Стой. — Она усмехнулась. — Совсем один? Сажье молчал. Ориана плашмя погладила клинком горло Бертраны и вдруг уколола ее под ухом. Девочка вскрикнула. Красный ручеек ленточкой потянулся по белой коже. — Отпусти ее, Ориана. Тебе нужна не она, а я.
При звуке голоса Элэйс сами горы, казалось, затаили дыхание. — Дух? Гильом не знал ответа. Тело вдруг стало пустым и невесомым. Он не смел двинуться в своем убежище, боясь спугнуть видение. Взглянул на Бертрану, так похожую на мать, и снова перевел взгляд туда, где стояла Элэйс, — если то была она. Мех капюшона обрамлял ее лицо, плащ, покрытый дорожной грязью, подметал белые камни. Она сложила перед собой руки в теплых кожаных перчатках. — Отпусти ее, Ориана. Эти слова разрушили чары. — Мама! — вскрикнула девочка, отчаянно потянувшись к ней. — Не может быть… — Ориана прищурилась. — Ты умерла. Я же видела твою смерть. Сажье бросился к ней в надежде выхватить Бертрану — и опять не успел. — Ни шагу ближе! — выкрикнула та, опомнившись и увлекая Бертрану ко входу в пещеру. — Клянусь, я ее убью! — Мама… — Не может быть… Я сама видела. Элэйс шагнула вперед. — Отпусти ее, Ориана. Эта ссора только между нами. — Никаких ссор, сестрица. У тебя «Книга Слов». Она мне нужна. C'est pas difficile. — А когда ты ее получишь? Гильом оцепенел. Он не мог поверить собственным глазам, говорившим ему, что перед ним та самая Элэйс, которую он так часто видел во сне и в дневных грезах. Блеск стальных шлемов привел его в себя. Двое солдат подкрадывались к Элэйс сзади, прячась за сухим бурьяном. Слева послышался удар подошвы о камень. — Хватайте их! Солдат, оказавшийся ближе других к Сажье, крепко схватил его за локти. Другие, уже не скрываясь, бросились на Элэйс. Та мгновенно развернулась. Меч оказался в ее руке и вспорол бок первому из нападавших. Тот упал, но второй бросился вперед. От столкнувшихся клинков рассыпались в воздухе искры. Гильом вскочил и бросился к ней в тот самый миг, когда Элэйс споткнулась. Солдат сделал глубокий выпад и уколол ее в плечо. Вскрикнув; Элэйс выронила меч и зажала рану рукой в перчатке. — Мама! Одним прыжком преодолев оставшееся расстояние, Гильом воткнул меч в живот солдата. Изо рта у того плеснула кровь, глаза вытаращились, и он упал. Не было времени переводить дыхание. — Гильом, — крикнула Элэйс, — сзади! Он развернулся навстречу еще двоим, подбегавшим снизу. Высвободил меч и вступил в схватку. Его клинок сверкал жестко и беспощадно, заставляя их отступать. Гильом был искуснее, но силы были неравны. Сажье уже связали и поставили на колени. Один солдат остался сторожить его, приставив к шее кинжал, а второй устремился на помощь товарищам. Он неосторожно приблизился к Элэйс. Она уже потеряла много крови, но еще сумела вытащить из-за пояса нож и с силой воткнуть его между ног солдата. Кровь струей ударила из его бедра. Ослепленный болью солдат наугад взмахнул рукой, и Гильом успел увидеть, как Элэйс, падая, ударилась головой о камень. Она сразу попыталась встать, но ее уже не держали ноги. Из разбитой головы текла кровь. Солдат, зажимая рану на ноге, неуклюже наступал на Гильома. Он напоминал сейчас медведя, попавшего в ловушку. Гильом хотел уклониться с его пути, но камни осыпались под ногой и он беспомощно съехал вниз на несколько шагов. Пока он пытался подняться на ненадежной осыпи, двое солдат успели навалиться на него, прижав к земле. От удара сапогом в бок хрустнули ребра. От следующего удара он мучительно дернулся. Рот наполнился кровью. От Элэйс не доносилось ни звука. Кажется, она вовсе не двигалась. Зато закричал Сажье. Подняв голову, Гильом увидел, как солдат плашмя опускает ему на голову клинок. Сажье упал без чувств. Ориана скрылась в пещере. И с ней — Бертрана. Собрав все силы, Гильом с ревом одним рывком вскочил на ноги, сбросив со склона одного из противников. Второму вонзился в живот его меч. Элэйс успела подняться на колени и ножом полоснула сзади по ногам последнего. Тот захлебнулся воем. И все стихло. Минуту Гильом просто смотрел на Элэйс. Он все еще не решался поверить своим глазам, в страхе, что ее снова отнимут у него. Потом он протянул руку. Ее пальцы переплелись с его пальцами. Он почувствовал ее кожу, такую же изодранную и мозолистую, как у него. Такую же холодную. Настоящую. — Я думал… — Я знаю, — быстро отозвалась она. Гильому не хотелось отпускать ее, но мысль о Бертране заставила его овладеть собой. — Сажье ранен, — сказал он, сбегая по склону к пещере. — Ты ему помоги. Я за Орианой. Элэйс склонилась над Сажье и почти сразу догнала Гильома. — Он просто без сознания, — сказала она. — Ты останься. Расскажешь ему, что случилось. Мне надо найти Бертрану. — Нет, она толькотого и ждет. Заставит тебя показать, где книга, а потом убьет обеих. Без тебя мне скорее удастся вернуть вашу дочь. Разве не ясно? — Нашу дочь, — сказала Элэйс. Гильом услышал слова, но смысл их дошел до него не сразу. Сердце у него замерло. — Элэйс, что… — начал он, но она уже нырнула у него под рукой и бросилась в темный тоннель.
ГЛАВА 80 ??? Пятница, 8 июля 2005
— Их понесло в пещеру, — выругался Нубель, бросая трубку. — Идиоты! — Кого? — Одрика Бальярда с Элис Таннер. Вбили себе в головы, что Шелаг О'Доннел держат на пике де Соларак, и отправились туда. Она говорит, там кто-то еще. Какой-то американец, Уилл Франклин. — Это еще кто? — Понятия не имею, — буркнул Нубель, сгребая висевший на стуле пиджак и вываливаясь в коридор. Моро шел за ним. — Кто это звонил? — Диспетчер. Они получили сообщение от Таннер в девять, но решили, что «меня не стоит беспокоить во время допроса»! «N'importe quoi»! — передразнил Нубель гнусавый голос дежурного сержанта. Оба они машинально взглянули на стенные часы. Было десять пятнадцать. — А что Бриссар и Доминго? — Моро оглянулся на дверь комнаты для допросов. Предчувствие не обмануло Нубеля. Обоих задержали почти у самой фермы бывшей супруги Оти, когда они направлялись к Андорре. — С ними можно подождать. Нубель пинком распахнул дверь, выходившую на стоянку, так что створка ударилась о пожарную лестницу. Они сбежали по ступенькам на площадку. — Ты из них что-нибудь вытянул? — Ничего, — сказал Нубель, рывком открыв дверцу машины, и, бросив пиджак на заднее сиденье, протиснулся за руль. — Оба молчат как могила. — Своего босса боятся больше, чем тебя, — заметил Моро, захлопывая дверцу. — Об Оти сообщали? — Ничего. Отстоял обедню в Каркасоне. И с тех пор пропал. — А ферма? — Машина уже вырвалась из ворот стоянки на трассу. — Обыск что-нибудь дал? — Нет… В кармане у Нубеля зазвонил телефон. Держа правой рукой баранку, он дотянулся до пиджака на заднем сиденье. Из подмышки у него густо пахнуло потом. Сбросив пиджак на колени Моро, он подгонял друга яростными жестами, пока тот рылся по карманам в поисках трубки. — Нубель, oui? — Нога его ударила по тормозам, так что Моро швырнуло вперед. — Putain![292] Господи, почему только сейчас сообщаете? Там кто-нибудь есть? — Он выслушал ответ. — Когда началось? Связь была ненадежной, даже Моро слышал треск в трубке. — Нет, нет, оставайтесь там! Держите меня в курсе. Нубель кинул телефон на приборную доску, включил сирену и мигалку. — Ферма горит, — сказал он, вдавливая педаль газа. — Поджог? — Там до ближайшего соседа полкилометра. Тот уверяет, что слышал два взрыва, потом увидел зарево и вызвал пожарных. Но пока они прибыли, все уже пылало. — Внутри кто-то был? — с беспокойством спросил Моро. — Они не знают, — последовал мрачный ответ.Шелаг приходила в себя урывками. Она не представляла, сколько времени прошло с ухода мужчин. Одно за другим отказывали все чувства. Она больше не воспринимала того, что ее окружает. Казалось, тело невесомо парит в пустоте. Она не чувствовала ни жары, ни холода, ни острых камней под собой. Мир свернулся коконом вокруг нее. Она была в безопасности. Свободна. И не одна. Перед глазами вставали лица, люди из прошлого и настоящего, шествие молчаливых образов. Свет снова начал разрастаться. Где-то на краю зрения возник яркий белый луч. По стенам и неровному потолку пещеры заплясали тени. Цвета и формы сменялись перед глазами, как в калейдоскопе. Кажется, она видела мужчину. Старика. Почувствовала на лбу его сухую прохладную руку, обтянутую тонкой, как бумага, кожей. Голос сказал ей, что все будет хорошо. Что ей больше ничего не грозит. Теперь Шелаг различила и другие голоса, шептавшиеся у нее в голове, утешавшие, успокаивавшие, ласкавшие ее. Она ощутила за плечами черные крылья, уносившие ее нежно, как ребенка. Зовущие домой. А потом новый голос: — Повернитесь.
Уилл уже понял, что рев, раздававшийся у него в ушах, — всего лишь гул собственной, густой и тяжелой крови. И еще в голове снова и снова отдавался грохот выстрелов. Он проглотил слюну и попытался выровнять дыхание. Его тошнило от острого запаха обшивки, забившего и рот, и нос. Сколько же было выстрелов? Два? Три? Оба его охранника вышли. Уилл слышал, как они говорят, спорят с кем-то — наверно, с Франсуа-Батистом. Медленно, стараясь не привлекать внимания, он приподнялся, опираясь на спинку заднего сиденья машины. В свете фар он увидел Франсуа-Батиста, стоявшего над мертвым телом Оти. Руки у него повисли вдоль тела, в правой был зажат пистолет. На капот и дверцу машины Оти кто-то словно выплеснул жестянку красной краски. Кровь, волосы и осколки кости. Все, что осталось от черепа Оти. Тошнота подкатила к горлу. Уилл снова сглотнул, но не позволил себе отвернуться. Франсуа-Батист сделал движение, будто хотел склониться над убитым, но вдруг резко выпрямился и отвернулся. Многократные инъекции наркотика убили чувствительность, но Уилл все же чувствовал, как онемели у него руки и ноги. Он привалился к кожаной спинке, благодаря судьбу, что его, по крайней мере, не запихнули на этот раз в тесный ящик багажника. Дверца за его головой распахнулась, и знакомые потные руки вцепились в плечи и шею, стянули с сиденья и бросили наземь у колеса. Ночной воздух холодил лицо и голые ноги. Они напялили на него какую-то длинную и свободную, хоть и перетянутую на поясе, хламиду. Он чувствовал себя в ней словно голым: стыдно и неуютно. И страшно. Отсюда ему видно было распростертое на щебенке тело Оти. Рядом с ним, за передним колесом машины, подмигивал крошечный красный огонек. — Portez-le jusqu'à Ja grotte, — снова услышал он голос Франсуа-Батиста. — Vous nous attendez dehors. En face de l'ouverture. — Тот помолчал. — Il estdix-heures moins cinq maintenant. Nous allons rentrer dans quarante, peut-être cinquante minutes.[293] Скоро десять… Когда мужские руки подхватили его под мышки, Уилл бессильно свесил голову назад. Чувствуя, как его тащат вверх к пещере, он гадал, будет ли жив к одиннадцати.
— Повернитесь, — повторила Мари-Сесиль. «Резкий высокомерный голос», — подумал Одрик. Он еще раз погладил Шелаг по голове и неторопливо выпрямился в полный рост. Облегчение, которое он испытал, увидев ее живой, оказалось недолгим. Она была совсем плоха, и Одрик боялся, что женщина не протянет долго, если немедленно не оказать ей медицинскую помощь. — Фонарь оставьте, — продолжала Мари-Сесиль, — а сами встаньте так, чтобы я вас видела. Он медленно повернулся и вышел из-за алтаря. В одной руке у нее был масляный светильник, в другой — пистолет. Первое, что пришло ему в голову: как они похожи. Те же зеленые глаза, черные волосы, завивающиеся локонами вокруг красивого худощавого лица. В золотом ожерелье и диадеме, в белом одеянии, украшенном амулетами, она казалась египетской принцессой. — Вы здесь одна, сударыня? — Я не считаю нужным, чтобы меня сопровождали везде и всюду, месье, и кроме того… Он показал глазами на пистолет. — Вы считаете, что со мной не будет хлопот? — Он кивнул. — Я ведь очень стар, ос? И кроме того, — добавил он, — вы предпочитаете, чтобы нас никто не слышал. Тень улыбки скользнула по ее губам. — Власть — это тайна. — Человек, который внушил вам это, мертв, сударыня. Боль вспыхнула в ее глазах. — Вы знали моего деда? — Знал о нем, — ответил он. — Он хорошо учил меня. Никому не доверять. Никому не верить. — Одинокая получается жизнь, сударыня. — Не нахожу. Она двинулась по кругу, обходя его, как хищник — жертву, пока не оказалась спиной к алтарю. Он стоял почти посреди зала, у самого углубления в земле. «Могила», — подумалось ему. Могила, в которой нашли тела. — Где она? — требовательно проговорила Мари-Сесиль. Он не ответил на вопрос. — Вы очень похожи на деда. Характером, чертами лица, упорством. И, подобно ему, вы заблуждаетесь. Она гневно вспыхнула: — Мой дед был великим человеком. Он чтил Грааль. Он посвятил жизнь поискам «Книги Слов», чтобы лучше понять. — Понять, сударыня? Или использовать? — Вы ничего о нем не знаете! — О нет, знаю, — тихо ответил он. — Люди не так уж изменились. Помолчав, Одрик заговорил еще тише: — И он был так близко, верно? Всего несколько километров к западу, и пещеру нашел бы он. А не вы. — Теперь это уже безразлично! — яростно крикнула женщина. — Она наша. — Грааль не принадлежит никому. Им нельзя владеть, его нельзя использовать, им нельзя торговать. Одрик помедлил и в свете масляной лампы взглянул ей прямо в глаза. — Он бы не спас его, — сказал он. И услышал, как она втянула в себя воздух. — Эликсир исцеляет и продлевает жизнь. Он остался бы жить. — Он не спас бы его от болезни, которая соскребает мясо с костей, сударыня, так же как не даст вам того, чего желаете вы. — И, помолчав: — Грааль не придет к вам. Она шагнула к нему: — Вы на это надеетесь, Бальярд, но вы не уверены. При всех ваших познаниях, после всех поисков, вы не знаете наверняка. — Вы ошибаетесь. — Вот ваш шанс, Бальярд. После стольких лет, когда вы писали, изучали, гадали! Вы, как и я, посвятили этому жизнь. Вы так же хотите увидеть это, как я. — А если я откажусь вам помогать? Она жестко рассмеялась. — Право, нужно ли спрашивать? Мой сын вас убьет, и вы это знаете. Как он это делает — и сколько это длится, — вы узнаете сами. Несмотря на принятые предосторожности, по спине у него пробежал холодок. Если Элис ждет на месте, как обещала, беспокоиться не о чем. Она в безопасности. Она и оглянуться не успеет, как все кончится. Воспоминания об Элэйс — и о Бертране — непрошено ворвались в душу. Их независимость, вечное нежелание подчиняться приказам, безрассудная отвага. А если и Элис той же закалки? — Все готово, — говорила она. — «Книга Бальзамов» и «Книга Чисел» здесь. Так что если вы отдадите мне кольцо и скажете, где спрятана «Книга Слов»… Одрик заставил себя забыть об Элис и сосредоточиться на Мари-Сесиль. — Почему вы думаете, что она до сих пор здесь? Она улыбнулась: — Потому что вы здесь, Бальярд. Иначе зачем бы вы пришли? Вы хотите увидеть, как свершится обряд, — хоть раз перед смертью. Вы оденетесь для церемонии! — внезапно выкрикнула она, потеряв терпение и стволом пистолета указывая на сверток белой ткани на ступени. Он покачал головой и увидел, как на лице ее на миг возникло сомнение. — И вы отдадите мне книгу! Он уже заметил три маленьких металлических кольца, утопленных в землю в нижнем углу камеры, и вспомнил, что именно Элис первой увидела скелеты в их открытой могиле. Он улыбнулся. Совсем скоро он узнает ответ, которого искал.
— Одрик, — шепнула Элис, ощупью пробираясь вниз по тоннелю. «Почему он не отвечает?» Впереди виднелся слабый желтоватый отблеск.
— Одрик, — вновь позвала она. Ей становилось все страшнее. Последние метры она почти пробежала, ворвалась в маленький подземный зал и остановилась как вкопанная. «Не может быть…» Одрик стоял у подножия ступеней. На нем было длинное белое одеяние. «Я это помню…» Она тряхнула головой, отгоняя воспоминание. Руки у него были связаны впереди, и он как животное был привязан к колышку, вбитому в землю. У дальней стены в желтом свете лампы, горевшей на алтаре, стояла Мари-Сесиль Л'Орадор. — Думаю, дальше не надо, — сказала она. Одрик обернулся. В его глазах была печаль и жалость. — Извините, — прошептала Элис, поняв вдруг, что она все погубила. — Но я хотела предупредить… Она не успела договорить. Кто-то схватил ее сзади. Девушка вскрикнула и забилась, но тех было двое. «И это уже было…» Кто-то выкрикнул ее имя. Не Одрик. В глазах потемнело, и она начала падать. — Ловите ее, идиоты! — выкрикнула Мари-Сесиль.
ГЛАВА 81 ПИК ДЕ СОЛАРАК, марс 1244
Гильом не успел перехватить Элэйс, она слишком далеко обогнала его. Спотыкаясь в темноте, он бежал по тоннелю. От боли в сломанных ребрах невозможно было вздохнуть. В голове звенели слова, сказанные Элэйс, и страх становился все острее, подгоняя его вперед. Воздух остывал, словно кто-то высасывал жизнь из тесной пещеры. Он не мог понять: если это святое место, пещера лабиринта, откуда такой поток зла? Неожиданно он оказался на каменной платформе. Прямо перед ним две широкие низкие ступени вели на плоскую ровную площадку. Caleth, горевший на каменном алтаре, слабо освещал пещеру. Сестры стояли лицом к лицу. Ориана по-прежнему держала нож у горла Бертраны. Элэйс не шевелилась. Гильом пригнулся, беззвучно моля Бога, чтобы Ориана не заметила его. Он осторожно попятился к стене, в тень, и неслышно прокрался чуть ближе, так что ему было и видно, и слышно происходящее. Ориана швырнула что-то к ногам Элэйс. — Возьми, — крикнула она. — Открой лабиринт. Я знаю что «Книга Слов» здесь. Глаза Элэйс расширились от удивления. Гильом смотрел на Ориану, со стыдом узнавая это надменное выражение. — Или ты не читала «Книгу Чисел»? Ты поражаешь меня, сестра! Там объясняется, как использовать ключ. Элэйс медлила. — Кольцо, в которое вставлен мерель, открывает камеру в центре лабиринта. Она оттянула Бертране голову назад. Кожа на горле натянулась. Блеснуло лезвие. — Сделай же это, сестра. Бертрана вскрикнула, и этот звук лезвием вонзился в висок Гильому. Он взглянул на Элэйс, стоявшую, сдвинув брови, с беспомощно повисшей рукой. — Сперва отпусти ее, — сказала Элэйс. Ориана покачала головой. Волосы у нее растрепались, взгляд стал диким и больным. Глядя прямо в глаза сестре, она медленно, напоказ, сделала надрез на шее Бертраны. Та снова закричала, по шее у нее потекла струйка крови. — Следующий будет глубже, — предупредила Ориана дрожащим от ненависти голосом. — Доставай книгу. Элэйс нагнулась, подобрала кольцо и пошла к лабиринту. За ней, волоча Бертрану, шла Ориана. Гильом слышал, как задыхается девочка, беспомощно перебирая связанными ногами. Минуту Элэйс стояла, устремившись памятью в прошлое, где то же самое проделывал Ариф. Она прижала левую ладонь к шершавому камню лабиринта. В ране стрелой ударила боль. Ей не нужно было света, чтобы распознать египетский символ жизни — анкх, как называл его Ариф. Спиной прикрывая руку от Орианы, она вставила кольцо в крошечное отверстие у основания внутреннего круга лабиринта, прямо перед своим лицом. «Ради Бертраны, — молилась она про себя, — пусть это сработает!» Ничего не было произнесено, ничего не приготовлено, как следовало. Все было совершенно не так, как в тот единственный раз, когда она представала с призывом перед камнем Лабиринта. — Di ankh djet, — пробормотала Элэйс. Древние слова пеплом осыпались с губ. Что-то резко щелкнуло, как ключ в замке. В глубине стены камень заскрежетал о камень. Элэйс отстранилась, и за ее плечом Гильом увидел открывшийся в самом сердце лабиринта тайник. — Передай мне, — приказала Ориана. — Клади сюда, на алтарь. Элэйс исполнила приказание, не сводя глаз с лица сестры. — Теперь отпусти ее. Она тебе больше не нужна. — Открой! — крикнула Ориана. — Я хочу убедиться, что это не подделка. Гильом придвинулся ближе. На первой странице блестел золотом невиданный им доселе знак: овал, скорее походивший формой на слезу, венчал подобие креста или пастушеского посоха. — Дальше, — настаивала Ориана. — Я хочу видеть все. Рука Элэйс, переворачивавшая страницы, дрожала. Перед глазами Гильома мелькали бесконечные ряды знаков и символов, строк и рисунков. — Возьми ее, Ориана. — Элэйс с трудом сдерживала дрожь в голосе. — Возьми книгу и отдай мне дочь. Гильом увидел, как блеснул клинок, и догадался, что должно случиться, за миг до того, как это случилось, — до того, как ревность и обида толкнули Ориану уничтожить самое дорогое, что было у ее сестры. Он прыгнул на Ориану и отбросил женщину в сторону. Сломанные ребра подались и в глазах потемнело от боли, но главное было сделано. Нож выпал у нее из руки и пропал в темноте, в тени под алтарем. Бертрану толчком кинуло вперед. Девочка закричала, ударившись виском об угол плиты, и замерла. — Гильом, забери Бертрану! — выкрикнула Элэйс. — Она ранена, и Сажье тоже. Помоги им. В деревне найдешь Арифа — он тебе поможет. Гильом медлил. — Прошу тебя, Гильом. Спаси ее! Последнее слово оборвалось, когда Ориана, поднявшаяся с земли с ножом в руке, бросилась на сестру. Клинок вонзился в уже раненную руку. У Гильома сердце разрывалось надвое. Невозможно было оставить Элэйс наедине с Орианой, но так же невозможно было видеть белое личико неподвижно лежавшей Бертраны. — Пожалуйста, Гильом! Уходи! Бросив последний взгляд на Элэйс, он подхватил дочь на руки, не замечая боли, стараясь не видеть крови, струившейся из пореза. Так хотела Элэйс. Он неуклюже поднимался по ступеням к выходу из камеры, когда ему послышался рокот, словно ворочался гром, запертый в глубине холма. Споткнувшись, Гильом вообразил, что ноги не держат его, и упрямо двинулся дальше: шагнул на площадку и стал подниматься по тоннелю. Камушки выворачивались из-под ног, руки и ноги горели болью. Но дрожали не колени — дрожала и колыхалась сама земля под ногами. Силы его были на исходе. Бертрана беспомощно висела у него на руках и с каждым шагом становилась тяжелее. И все громче рокотал гром. С потолка сыпалась пыль и каменные обломки. Но в лицо уже дунул холодный воздух. Еще несколько шагов — и он вырвался в серые сумерки. Гильом бросился к Сажье. Тот лежал неподвижно, но дыхание было ровным. И Бертрана, хоть и бледная как смерть, уже шевелилась и стонала у него на плече. Уложив ее рядом с Сажье, Гильом метнулся к убитым солдатам, срывая с них плащи, чтобы укрыть раненых. Затем сорвал и свой плащ — медная с серебром застежка отскочила и потерялась в пыли. Он свернул его и положил под голову Бертране. Задержался еще на миг, Чтобы поцеловать дочь в лоб. — Filha, — прошептал он. Первый и последний отцовский поцелуй. В пещере загрохотало, громыхнуло, словно гроза разразилась над самыми головами. Гильом бросился в тоннель. Здесь, среди тесных стен, грохот оглушал. Что-то метнулось к нему из темноты. — Дух… лик… — бормотала обезумевшая от страха Ориана. — Лик в лабиринте… — Где она? — крикнул Гильом, схватив ее за плечи. — Что ты сделала с Элэйс? Ориана была в крови с головы до ног. — Лица… лица в лабиринте. Она пронзительно завизжала, и Гильом оглянулся туда, куда устремлен был ее безумный взгляд, но ничего не увидел. В этот миг Ориана ударила его ножом в грудь. Он сразу понял, что удар смертелен. Он сразу ощутил смерть, овладевающую членами. Помутившимся взглядом он смотрел вслед убегающей в пыльном облаке женщине. Жажда мести тоже умерла в нем. Когда Ориана выбежала в сумерки гаснущего дня, Гильом уже вслепую спускался вниз по туннелю с единственной мыслью: найти в этом хаосе камня и пыли Элэйс. Он нашел ее лежащей в неглубокой впадине перед алтарем. Одна рука прижимала к груди пустой мешочек, другая сжимала кольцо. — Mon cor, — прошептал он. На звук его голоса она открыла глаза. Улыбнулась, и сердце у него перевернулось от этой улыбки. — Бертрана? — Она в безопасности. — Сажье? — Тоже будет жить. Она судорожно вздохнула: — Ориана… — Я ее отпустил. Она тяжело ранена. Не уйдет далеко. Догорел и погас последний огонек в лампадке на алтаре. Элэйс и Гильом лежали обнявшись и не заметили, как наступила темнота, как пришла тишина. Для них больше ничего не существовало, кроме них двоих.ГЛАВА 82 ПИК ДЕ СОЛАРАК, пятница, 18 июля 2005
Тонкая одежда плохо защищала от подземного холода. Элис бил озноб. Она медленно повернула голову. Справа от нее был алтарь. Свет исходил от старинного масляного светильника, стоявшего посреди плиты и отбрасывавшего тени на низкий свод. В полумраке можно было разглядеть символ лабиринта, выбитый на скале. В тесной пещере его круги казались огромными и величественными. Рядом ощущалось присутствие других людей. Элис едва не вскрикнула, увидев Шелаг. Девушка лежала на каменном полу, свернувшись, как раненый зверек, тоненькая, безжизненная и беззащитная. На коже проступали следы побоев. Элис не сумела рассмотреть, дышит ли ее подруга. «Господи, только бы живая!» Глаза медленно привыкали к мерцающему освещению. Чуть повернув голову, она увидела Одрика, стоящего на том же месте и все так же притянутого веревкой к кольцу в земле. Седые волосы нимбом светились над его головой. Он был неподвижен, как надгробный памятник. Но, почувствовав на себе ее взгляд, он поднял глаза и улыбнулся. Забыв на минуту, что он должен бы сердиться на нее за нарушенное обещание, Элис ответила слабой улыбкой. «Шелаг была права…» Потом она заметила, что в нем что-то изменилось. Опустила взгляд на его ладони, темневшие на белом одеянии. «Кольца нет!» — Шелаг здесь, — чуть слышно шепнула она. — Вы были правы. Он кивнул. — Надо что-то делать, — прошипела она. Он чуть заметно покачал головой и показал глазами в сторону. Элис посмотрела туда же. — Уилл! — шепнула она, не веря своим глазам. Волна облегчения сменилась каким-то новым чувством, и только потом пришла жалость. В волосах у него запеклась кровь, один глаз заплыл, на лице и руках виднелись порезы. «Но он здесь. Со мной». Услышав ее голос, Уилл открыл глаза. Напряженно всмотрелся в темноту, увидел, узнал, и на разбитых губах проступила улыбка. Минуту они не сводили друг с друга взглядов. «Мой любимый». Понимание наполнило ее отвагой. Заунывный плач ветра в тоннеле усилился, в него вплелись голоса. Однообразный напев, почти лишенный мелодии. Элис не могла разобрать, откуда идет звук. Обрывки странно знакомых слов и фраз эхом отдавались под землей, так что сам воздух источал слова: montanhas — горы, noblessa — благородные, libres — книги, Graal — Грааль. У Элис закружилась голова от звуков, раскатывающихся по пещере, как колокольный звон под куполом собора. Когда она поняла, что не вынесет больше, пение смолкло. Тихо, тихо поблекли голоса, оставив лишь воспоминание. Одинокий голос вплывал в настороженную тишину. Женский голос, ясный и отточенный.Казалось, все случилось одновременно. Одрик прыгнул на Мари-Сесиль. — Maman! Уилл воспользовался мгновением, на которое Франсуа-Батист забыл о нем, подтянул к себе колени и лягнул противника в крестец. От неожиданности юноша, падая, выстрелил в потолок пещеры. Элис услышала, как пуля щелкнула по камню и отскочила рикошетом. Рука Мари-Сесиль метнулась к виску. Элис успела заметить кровь, просочившуюся между пальцами, потом женщина покачнулась и опустилась наземь. — Maman! Франсуа-Батист был уже на ногах и бежал к ней. Его пистолет отлетел по земле к алтарю. Одрик подхватил нож Мари-Сесиль и с поразительной силой рассек веревки, связывавшие Уилла, затем вложил нож ему в руку. — Освободи Элис. Не услышав его, Уилл метнулся туда, где упавший на колени Франсуа-Батист баюкал на руках мать: — Non, maman. Ecoute-moi, maman, reveille toi.[296] Уилл схватил его за ворот слишком широкой куртки и ударил головой о грубый каменный пол. Только после этого он бросился к Элис и принялся пилить веревки. — Она умерла? — Не знаю. — А?.. Он быстро поцеловал ее в губы и сорвал с рук веревку. — Франсуа-Батист побудет в отключке, пока мы выберемся из этой чертовщины, — сказал он. — Возьми Шелаг, Уилл, — распорядилась Элис, — а я помогу Одрику.
Уилл поднял на руки бессильное тело Шелаг и пошел к тоннелю. Элис бросилась к Одрику. — Книги, — настойчиво зашептала она. — Надо их забрать, пока они не опомнились. Он стоял, глядя сверху вниз на тела Мари-Сесиль и ее сына. — Одрик, скорее, — повторила Элис. — Надо уходить. — Напрасно я втянул вас, — тихо заговорил он. — Желание узнать, исполнить обещание, которое я дал когда-то и не мог выполнить, сделало меня слепым к другим заботам. Эгоистичным. Я слишком много думал о себе. Одрик положил ладонь на одну из книг. — Вы спрашивали, почему она не уничтожила книгу, — вдруг сказал он. — Ответ таков: я ей не позволил. Тогда мы надумали обмануть Ориану. Потому и вернулись в пещеру. Если бы не это, может быть… Он подошел к Элис, пытавшейся выдернуть папирусы из прорези. — Она бы этого не хотела. Слишком много жизней пропало. — Одрик, — с отчаянием перебила его Элис. — Об этом можно поговорить потом. Вы же этого ждали, Одрик. Увидеть, как трилогия объединится вновь. Нельзя же оставить их ей. — Не знаю… — Он перешел на шепот. — Я так и не узнал, что сталось с ней в конце. Масла в светильнике почти не осталось, но свет становился ярче, по мере того как Элис один за другим выдергивала папирусы. — Они у меня, — сказала она, обернувшись. Собрала книги с алтаря и сунула их Одрику. — Возьмите книги. Идем. Ей пришлось почти тащить за собой Одрика по полутемной камере к тоннелю. Они, спотыкаясь, миновали впадину, где были найдены скелеты, когда в темноте за ними раздался резкий щелчок, заскрежетал камень и дважды раскатился грохот.
Элис бросилась наземь. Это были не выстрелы — совсем другой звук, будто грохотала сама земля. Адреналин выплеснулся в кровь. Она отчаянно ползла вперед, зажав в зубах папирусы и молясь, чтобы Одрик не отстал. Ткань хламиды путалась в ногах, мешала двигаться. Рука сильно кровоточила, и опереться на нее как следует не получалось, но все же ей удалось добраться до ступеней. Она слышала рокот в глубине земли, но оборачиваться было нельзя. Пальцы уже нащупали резные буквы на верхней площадке, когда сзади прозвучал голос: — Остановитесь. Или я его застрелю. Элис застыла на месте. «Не может быть. В нее пуля попала. Я же видела, как она падала». — Обернитесь. Медленно. Медленно Элис поднялась на ноги. Мари-Сесиль стояла перед алтарем. Пошатывалась. Белое одеяние было забрызгано кровью, прическа растрепалась, и волосы космами вились у щек. В руках она сжимала пистолет Франсуа-Батиста, и он был нацелен прямо на Одрика. — Медленно пройдите обратно, доктор Таннер. Элис чувствовала, что земля поплыла под ногами. Дрожь отдавалась в ступнях, в коленях — глухой подземный рокот, с каждой секундой становившийся сильней и настойчивей. Кажется, и Мари-Сесиль внезапно услышала его. Лицо ее на миг затуманилось недоумением. Еще раз дрогнула пещера. На этот раз сомнений не осталось — взрыв. В лицо ударил порыв холодного ветра. За спиной Мари-Сесиль покачнулся светильник: каменные кольца лабиринта трескались, разбивались на куски. Элис бросилась назад, к Одрику. Земля раскололась, слежавшаяся веками пыль и твердая скала раздались под ней. Из всех углов хлынул щебень. Элис отпрыгнула от разверзшихся под ногами провалов. — Отдай! — выкрикнула Мари-Сесиль, повернув ствол пистолета к Элис. — Неужели ты думаешь, что я позволю ей отнять у меня… Голос ее потерялся в грохоте обвала. Одрик поднялся на ноги и впервые заговорил. — Ей? — повторил он. — Нет, не Элис. Мари-Сесиль развернулась, чтобы увидеть, куда устремлен взгляд Одрика. И завизжала. Элис тоже увидела что-то в темноте. Мерцание, светлое пятно, почти лицо. В ужасе Мари-Сесиль снова развернула оружие на Элис, помедлила и нажала курок. У Одрика хватило времени встать между ними.
Все как будто замедлилось. Крик Элис. Одрик падает на колени. Отдача толкает Мари-Сесиль назад, и она теряет равновесие. Ее пальцы цепляются за воздух, пока тело опрокидывается в темную бездну, открывшуюся за ее спиной. Одрик лежал на земле. Из пулевого отверстия посреди груди вытекала кровь. Лицо было белее бумаги, и под тонкой кожей виднелись голубые вены. — Надо выбираться! — крикнула Элис. — Может быть еще один взрыв. В любую минуту. Он улыбнулся: — Все кончилось, Элис. A la perfin. Грааль защитил свои тайны, как защищал и прежде. Он не позволил ей взять то, чего она желала. Элис качала головой. — Нет, Одрик, пещеру заминировали. Может взорваться еще одна мина. Надо наружу. — Больше не будет, — все так же тихо возразил он, и в его голосе не было сомнения. — Это было эхо прошлого. Элис видела, что ему больно говорить. Она опустила голову ближе к нему. В груди тихонько хрипело, и дыхание было частым, неглубоким. Она пыталась остановить кровь, но видела уже, что это безнадежно. — Я хотел узнать, как она прожила последние минуты? Вы понимаете? Я не смог ее спасти. Нас разделил обвал, и мне было не добраться к ней. Он задохнулся, глотнул воздуха. — Но в этот раз… Элис наконец приняла то, о чем знала с первой минуты, когда вошла в Лос Серес и увидела его, стоящего в дверях каменного домика, затерянного в складке горы. «Это его история. Его воспоминания». Она вспомнила фамильное древо, составленное с таким тщанием и любовью. — Сажье, — сказала она. На мгновение в его янтарных глазах вспыхнула жизнь. Лицо умирающего выразило острое удовольствие. — Когда я очнулся, рядом со мной лежала Бертрана. Кто-то накрыл нас плащами, чтобы защитить от холода и… — Гильом, — сказала Элис, зная, что так и было. — Гремел страшный гром. Я увидел, как рушится каменный навес над входом. В ливне камней, пыли и грязи обвалился огромный валун и запер ее внутри. Я не смог пробиться к ней. — Его голос дрогнул. — К ним. Потом он замолчал, и вокруг стало очень тихо. — Я не знал, — с болью заговорил он снова. — Я дал Элэйс слово, если с ней что-нибудь случится, сберечь «Книгу Слов», но я не знал. Я не знал, унесла ли ее Ориана и где она… — Он закончил шепотом: — Ничего не знал. — Так я нашла тела Гильома и Элэйс. — Элис не спрашивала, говорила как об известном. Сажье кивнул: — Мы нашли тело Орианы немного ниже по склону. Книги при ней не было. Только тогда я узнал. — Они умерли вместе, спасая книгу. Элэйс хотела, чтобы ты жил, Сажье. Жил и заботился о Бертране, которая во всем, кроме одного, была твоей дочерью. Он улыбнулся: — Я знал, что ты поймешь. — Слова слетали с губ, как вздохи. — Я слишком долго жил без нее. Каждый день я чувствовал ее отсутствие. Каждый день желал, чтобы не выпало мне это проклятие — жить, в то время как все, кого я любил, стареют и умирают. Элэйс, Бертрана… Голос у него сорвался. У нее сердце разрывалось от сострадания к нему. — Не вини себя больше, Сажье. Теперь, когда ты знаешь, что случилось, ты должен простить себя. Элис чувствовала, что он ускользает от нее. «Заставь его говорить. Нельзя, чтобы он уснул». — Было предсказано, — сказал он, — что в земле Пэй д'Ок в наше время родится тот, кому выпадет судьба донести свидетельство трагедии, постигшей эту землю. Как те, кто был до меня — Авраам, Мафусаил, Ариф, — я не желал этой судьбы. Но принял. Сажье захлебнулся воздухом. Элис притянула его ближе, баюкая его голову в своих руках. — Когда? — сумела сказать она. — Расскажи. — Элэйс призвала Грааль. В этом самом зале. Мне было двадцать пять лет. Я вернулся в Лос Серес, веря, что жизнь моя изменится. Что я смогу открыться Элэйс и она полюбит меня. — Она тебя любила! — яростно прошептала Элис. — Ариф научил ее понимать язык древних египтян, — продолжал он, улыбнувшись. — Кажется, следэтого знания живет и в тебе. Мы воспользовались искусством Арифа и тем, что она узнала из пергамента. Пришли сюда. Так же как ты, когда пришло твое время, Элэйс знала, что говорить. Грааль явился через нее. — Как… — Элис запнулась, — Как это было? — Я помню легкое прикосновение воздуха к плечам, мерцание свечей, прекрасные голоса, льющиеся в темноте. Слова словно сами стекали с ее губ. Элэйс стояла перед алтарем, и рядом с ней Ариф. — Ведь должен был быть кто-то еще? — Были, но… странно, я почти не помню. Я видел только Элэйс. Ее сосредоточенное лицо, тонкую морщинку между бровей. Волосы волной падали ей на плечи. В какой-то миг в глазах вспыхнул свет. Она подала мне чашу, и я выпил. Веки у него трепетали, как крылья мотылька, часто-часто открываясь и закрываясь. — Если жизнь была так тяжела, почему ты нес эту ношу без нее? — Perqué? — с удивлением переспросил он. — Почему? Потому что этого хотела Элэйс. Я должен был жить, чтобы рассказать, что сталось с народом этой земли среди этих гор и равнин. Должен был позаботиться, чтобы история не умерла. Таково назначение Грааля. Помочь тем, кто несет свидетельство. История пишется победителями, лжецами, теми, кто оказался сильнее и беспощаднее. Истину чаще находят в молчании, в тишине. Элис кивнула. — Ты сделал это, Сажье. Тебе удалось. — Гильом де Тудела написал фальшивую летопись войны против нас на французском. Назвал: «La Chanson de la Croisade». После его смерти безымянный поэт, сочувствовавший Лангедоку, дополнил ее. «La Canso». Наша история. Элис невольно улыбнулась. — Los mots, vivents, — шептал он. — Слова живут. Так начиналось. Я поклялся Элэйс, что буду говорить правду, писать правду, чтобы будущие поколения знали об ужасах, вершившихся на земле их именем. Чтобы память осталась. Элис кивнула. — Ариф понимал. Он до меня шел той же одинокой дорогой. Исходил полмира и повидал, как извращают слово, нарушают слово и обращают его в ложь. Он тоже был свидетелем. — Сажье перевел дыхание. — Он ненадолго пережил Элэйс, но ему тогда было больше восьмисот лет. Он умер здесь, в Лос Серес, и мы с Бертраной были рядом с ним. — Но где же ты жил все эти годы? Как ты жил? — Я смотрел, как зелень весны сменяется золотом лета, и осенняя медь уступает зимней белизне, и ждал, пока наступит темнота. Снова и снова я спрашивал себя: зачем? Если бы я знал, если бы я знал заранее, каково жить в таком одиночестве, оставаясь единственным свидетелем бесконечного круговорота рождений, жизней и смертей, — как бы я поступил? Я пережил эту долгую жизнь с пустотой в сердце — с пустотой, которая все эти годы ширилась и ширилась и уже не умещается во мне. — Она любила тебя, Сажье, — тихо повторила Элис. — По-иному, чем ты ее любил, но глубоко и верно. На его лице отразился покой: — Es vertat. Теперь я это знаю. Он закашлялся, и кровавые пузырьки показались в углах губ. Элис вытерла их краем одежды. Он сделал усилие, чтобы приподняться. — Я все записал для тебя, Элис. Мое последнее свидетельство. Оно ждет тебя в Лос Серес. В доме Элэйс, где мы жили, и который я теперь оставляю тебе. Вдали послышался звук сирены, прорезавшей тишь горной ночи. — Они подъезжают, — сказала она, сдерживая слезы. — Я же говорила, что приедут. Останься со мной. Пожалуйста, не сдавайся. Сажье покачал головой. — Конец. Мой путь окончен. Твой только начинается. Элис смахнула у него со лба белую прядь. — Я не она, — тихо сказала она. — Не Элэйс. Он тихо вздохнул. — Я знаю. Но она живет в тебе… и ты в ней. Он смолк. Элис видела, как больно ему говорить. — Жаль, что у нас было так мало времени, Элис. Но повстречать тебя, разделить с тобой эти несколько часов — это больше, чем я надеялся. Сажье замолчал. Последние краски ушли с его лица, с рук, не оставив ничего. Молитва, звучавшая очень давно, пришла ей на ум. — Payre Sant, Dieu dreyturier de banz speritz… — Знакомые когда-то слова легко сходили с губ. — Святой Отец, законный Господь добрых душ, даруй нам познать, что Ты знаешь, и любить, что Ты любишь… Глотая слезы, Элис обнимала его, слыша, как дыхание становится все тише и легче. И наконец прекратилось совсем.
ЭПИЛОГ ЛОС СЕРЕС, пятница, 8 июля 2007
Восемь часов вечера. Прошел еще один чудный летний день. Элис подходит к широкому окну и отдергивает шторы, впуская внутрь оранжевые косые лучи. Легкий ветерок гладит ее голые руки. Кожа у нее цвета лесного ореха, волосы заплетены в косу. Солнце стоит совсем низко — ровный оранжевый круг в бело-розовом небе. Ближние пики гор Сабарте отбрасывают огромные черные тени — словно кто-то разбросал просушить большие куски черной ткани. Из окна ей видено озеро Семи Братьев и за ним — пик Сент-Бартелеме. Два года прошло со смерти Сажье. Сперва Элис трудно было жить с этими воспоминаниями. Звук выстрела в тесной пещерной камере, дрожь земли, белое лицо в темноте, взгляд Уилла, обогнавшего инспектора Нубеля и первым ворвавшегося в пещеру. Больше всего преследовало ее воспоминание о гаснувшем янтарном свете в глазах Одрика — нет, в глазах Сажье. В его лице был покой, а не печаль, но от этого боль не делалась легче. Чем больше узнавала Элис, тем дальше отступал ужас, приковавший ее к тем последним мгновениям. Прошлое уже не в силах было причинить ей боль. Она знала, что Мари-Сесиль с сыном погибли под обвалом, когда гора осела от землетрясения. Поля Оти нашли там, где застрелил его Франсуа-Батист, и детонатор, отсчитывавший секунды до взрыва четырех зарядов, мерно тикал рядом с мертвым телом. Армагеддон, который он подготовил своими руками. Лето сменилось осенью, а осень зимой, и Элис начала оживать — с помощью Уилла. Время делало свою работу. Время и надежда на новую жизнь. Мучительные воспоминания со временем тускнеют. Как старые снимки, нечеткие и полузабытые, они пылятся в памяти. Элис продала квартирку в Англии и, добавив деньги от продажи тетиного дома в Саллель д'Од, они с Уиллом перебрались в Лос Серес. Дом, в котором жила когда-то Элэйс с Сажье, Бертраной и Арифом, стал их домом. Они кое-что перестроили, приспособив его к современной жизни, но дух места остался неизменным. Тайна Грааля надежно скрыта, как хотела того Элэйс. Скрыта здесь, в не знающих времени горах. Три папируса, вырванные из древних книг, похоронены под скалой и камнем. Элис понимает, что ей выпала судьба закончить то, что осталось незаконченным восемь столетий назад. И еще она понимает, как понимала Элэйс, что истинный Грааль — это любовь, которая передается из поколения в поколение; слова, сказанные отцом сыну, матерью — дочери. Истина окружает нас. Она повсюду: в камне, в скалах, в бесконечной смене времен года в горах. Пока мы рассказываем друг другу о прошлом, мы бессмертны. Элис не пытается выразить этого словами. Она, в отличие от Сажье, не из искусных рассказчиков, не писательница. Иногда ей кажется, что слова тут вовсе непригодны. Зовите это верой или богом… Может быть, Грааль — слишком великая истина, чтобы ее можно было привязать к времени или к месту посредством столь ненадежной вещи, как язык. Опершись на подоконник, Элис вдыхает нежный вечерний воздух. Дикий тимьян, ракитник, марево над горячими камнями, горная петрушка и мята, шалфей — запахи трав из палисадника. Она приобретает известность. То, что начиналось с услуг по-соседски: с травок, одолженных местным жителям и соседним ресторанчикам, — становится доходным бизнесом. Теперь в кафе и магазинах по всей округе, вплоть до Фуа и Мирпуа, продают их товары с отчетливой этикеткой: «Epice Pelletier et Fille».[297] Имя предков, которое она вернула себе. Названия Лос Серес пока еще нет на картах. Деревушка слишком мала. Но скоро будет. Benleu. В комнате внизу не щелкают больше клавиши. Элис слышно, как Уилл выходит на кухню, достает из шкафа тарелки, а из кладовки — хлеб. Скоро и она спустится. Он откупорит бутылку вина, и она будет пить, глядя, как он готовит. Завтра приедет Жанна Жиро — гордая и милая женщина, без которой уже нельзя представить себе их жизни. Под вечер все они пойдут в ближнюю деревню, чтобы положить цветы к памятнику на площади, поставленному в честь известного историка и борца Сопротивления Одрика С. Бальярда. На плите выбита окситанская пословица, выбранная Элис: «Pas a pas se va luenh». Позже Элис одна уйдет в горы, где другая плита отмечает место, где он спит под холмом, как ему хотелось. На камне написано просто: САЖЬЕ. Довольно того, что его помнят. Генеалогическое древо — его первый подарок Элис, висит на стене в кабинете. Элис внесла только три изменения. Она добавила даты смерти Элэйс и Сажье, разделенные восемью столетиями. Вписала рядом со своим имя Уилла и дату их свадьбы. И в самом конце, где еще осталось место для продолжения, добавила строчку: «САЖЬЕСС ГРЕЙС ФАРМЕР-ПЕЛЛЕТЬЕ, р. 28 февраля 2007». Элис улыбается и подходит к кроватке, где зашевелилась, просыпаясь, их дочурка. Бледные пальчики полусонно подергиваются. Элис неслышно вздыхает, когда малышка открывает глазки. Она тихонько целует дочь в макушку и запевает колыбельную на старом языке, переданную от поколения к поколению:ПРИМЕЧАНИЕ ПО ПОВОДУ ЯЗЫКА
В период Средневековья langue d'Oc, от которого получил свое название Лангедок, был языком Миди от Прованса до Аквитании. На нем же говорили в христианском Иерусалиме и землях, оккупированных крестоносцами с 1099 года, а также в некоторых частях Северной Испании и Италии. Этот язык в близком родстве с провансальским и каталонским. В XIII веке langue d'Oil — предшественник современного французского — был языком северных областей страны, которая теперь называется Францией. При нашествии Севера на Юг, начавшемся в 1209 году, северные бароны вводили в завоеванных землях свой язык. С середины XIX века начинается возрождение окситанского языка. Начало ему положили поэты и историки, такие как Рене Нелли, Жан Дювернуа, Деодат Роше, Мишель Рокубер, Анне Бренон, Клод Марти и другие. Ко времени написания книги в центре средневековой цитадели катаров, Каркасоне, имеется двуязычная франко-окситанская школа, и на дорожных указателях рядом с французскими появляются окситанские названия. В «Лабиринте», чтобы разграничить язык населения Пэй д'Ок и французских захватчиков, я использовала соответственно окситанский и французский. В результате некоторые названия появляются в двух написаниях: например, Каркассона и Каркасон, Безье и Безьер, Нарбон и Нарбонна. Отрывки стихов и пословиц взяты из сборника «Proverbes et Dictons de la langue d'Oc», составленного аббатом Пьером Тринквером, и из «33 Chants Populaires du Languedoc». Неизбежны расхождения между современным и средневековым окситанским. Чтобы быть последовательной, я руководствовалась по большей части окситанско-французским словарем «La Planqueta» Андре Лагарде.КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ОКСИТАНСКИХ СЛОВ
Agost (агост) — август Ambans — деревянные галереи на крепостной стене, служат для эффективного противодействия саперам осаждающих и защиты стен от подкопов Ben — хорошо Benvenguda — добро пожаловать Bons Homes — добрые люди, катары Bons Chrétiens — добрые христиане Bonjorn — здравствуйте, привет Cadefalcs — перемычки Calèshe — открытая повозка Calèth — масляная лампа Coratge — отвага Défora — снаружи Deman — завтра Dintrar — вход Doçament — тише Escrivan (эскриван) — писец, секретарь Faitilhièr — ведьма Faratjals — пастбища, поля Filha — дочь Gata — кошки (снаряжение осаждающих) Guignolet (гиньолет) — вишневая или черешневая сладкая настойка Graal — Грааль Janvier (джаивиер) — январь Julet (джюлет) — июль Junh (джун) — июнь Langue d'Oil (лангедойл) — язык Ойла, язык Северной Франции, впоследствии так называли земли Северной Франции Langue d'Oc (лангедок) — язык Ока, окситанский язык, язык Юга, впоследствии так называли земли Ока Libres — книги Lo Ciutat — город Lo Miègjorn — Миди, Юг Març — март Menina — бабушка Meravelhôs — чудесно, прекрасно Mercé (мерсе) — спасибо Mon cor — мое сердце Molin blatier — мельница Montanhas — горы Na — госпожа, тетушка Nenon — малыш, ребеночек, крошка Noblessa — избранные, знать, благородные Oc — да Oustâou — дом Paire — отец Pan de blat — пшеничный хлеб Panier (панир) — корзинка для трав, рукоделия Pay d'Oc — земли Ока, там, где говорят на окситанском языке Payre Sant — святой отец Payrola (пайрола) — котел Pec — идиот Perfin — наконец Perilhos — опасность Prime — примы, заутреня (первая религиозная служба наступившего дня, состоится обычно около пяти часов утра) Res — ничего Senher (сеньер) — господин Sirjan d'arms — сержант армии Sòrre — сестра Toussaint (Туссен) — День Всех святых Trouvèr — трубадур, поэт Vesprè — вечерня (последняя религиозная служба дня, состоится около семи часов вечера) Vuèg — простоЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Adkins, Lesley Roy. The Keys of Egypt: The Race to Read the Hieroglyphs. Brenon, Anne. Les Femmes Cathares. Brenon, Anne. La Vrai Visage du Catharisme. Delteil, Joseph. Choiera. Duvernoy, Jean. La Religion des Cathares. Von Eschenbach, Wolfram. Parzival. Gougaud, Henri. Belibaste. La Canso: 1209–1219 Les Croisades Contre le Sud. Edition by Claude Marti. Le Roy Ladurie, Emmanuel. Montaillou: Cathars and Catholics in a French Village. Marti, Claude. Carcassonne in my Heart. Nelli, Rene. La Vie Quotidienne des Cathares au XlIIe Siècle. Nelli, Rene. Les Cathares. Oldenburg, Zoe. Massacre at Montsegur. Phillips, J. P. The Crusades 1095–1197. Phillips, J. P. The Fourth Crusade. Roquebert, Michel. La Religion Cathare. Rouquette, Yves. Cathars. Runciman, S. A History of the Crusade. Severin, Tim. Crusader: by Horse to Jerusalem. Serrus, Georges. Les Cathares. Sumption, Jonathan. The Albigensian Crusade. De Troyes, Chrétien. The Story of the Grail (Perceval) Weis, René. The Yellow Cross: The Story of the Last Cathars 1290–1329. Weir, Alison. Eleanor of Aquitaine. Westermann, Clans (translated by Siegfried S Schatzmann). The Gospel of John.Более полный список источников размещен на сайте www.orangelabyrinth.со. uk
Огюст Маке ПРЕКРАСНАЯ ГАБРИЭЛЬ
Глава 1 ГОЛОД В ЛАГЕРЕ
На пригорке, возвышающемся над Сеной, между Триелем и Поасси, рассыпаны, полускрытые под скалами или в лесу, несколько деревень. Скалы кое-где покрылись виноградными лозами, и это, так сказать, последний виноград, который солнце Франции соглашается отогревать: как будто силу своих лучей оно истощило на Роне, Лоаре и верхней Соне, и только одна бесплодная ласка осталась у него для Вексена и холодный взгляд — для Нормандии. Эти бедные виноградники, о которых мы говорим, могли бы возрадоваться на солнце 1593 года. Вот уже целое столетие, как не посещало их более жаркое дыхание. Без сомнения, в этот год виноград мог созреть и дать в изобилии меданского и брезольского вина, но то, что захотело сделать солнце, разрушила политика: в июне уже не было винограда на лозах. Небольшое войско короля французского и наваррского, короля беарнского, терпеливого Генриха, стояло лагерем в окрестностях целую неделю. Уже четыре года, как Генрих, объявленный королем французским после смерти Генриха Третьего, оспаривал один за одним все города своего королевства, как будто Франция играла в шахматы между Лигой и своим королем. Арк, Иврий, Омаль, Руан и Дрё короновали этого государя, однако он не мог войти в Реймс, чтобы получить миропомазание. Он имел солдат, а не подданных, лагерь, а не дом, несколько городов или местечек, но ни Лиона, ни Марселя, ни Парижа! С величайшим трудом поселился он в Манте, с ничтожным двором, отчасти кавалерами, отчасти ландскнехтами и рейтарами. Его окружало благородное дворянство, а народа у него не было нигде. — Пусть он сделается католиком, — говорили католики. — Пусть он остается гугенотом, — говорили реформаты. — Пусть он исчезнет, будь он католик или гугенот, — говорили лигёры. Генрих, в сильном недоумении, в большом стеснении, воевал и хитрил, все поддерживаемый мыслью, что небо дало ему родиться на одиннадцать ступеней от трона и что если восемь умерших принцев устранили для него эти одиннадцать ступеней, то, стало быть, это входило в помыслы Провидения. Для того чтобы обдумать новые планы, а также и для того, чтобы дать отдохнуть своим сторонникам, уставшим от неизвестности и ожидания, раздраженным войной, он принял перемирие, предложенное парижанами. Париж любит междоусобную войну, только бы она продолжалась не очень долго. Между тем как де Майенн боролся со своими добрыми союзниками испанцами, которые душили его, обнимая, и по отдельности старался вешать своих шестнадцать друзей (и уже довел их число до двенадцати), Генрих, бедный, но сильный, голодный, но крепкий духом, без рубашек, но в кирасе славы, вел переговоры с папой о своем примирении с небом и велел чистить пушки, чтобы скорее примириться со своим народом. Он смеялся, постился, искал приключений, думал как король, действовал как кавалергард, и пока цеплялся таким образом за более или менее цветистые кусты дороги, его судьба подвигалась гигантскими шагами под непобедимой прихотью Всевышнего. Итак, перемирие было подписано между роялистами и лигёрами, перемирие, горячо желаемое последними, которым нужно было залечить множество ран. На три долгих месяца умолкнет перестрелка, завяжутся переговоры, вести пойдут из Манта в Рим, из Парижа — в Мант. Курьеры будут скакать, аббаты вмешиваться, проповедники размышлять, потому что самые рьяные, громогласно обрушивавшиеся во время войны на этого еретика, этого Навуходоносора, с наступлением тишины перемирия испугались звука собственного голоса. Лигеры чванились в своих больших городах, а роялисты, доведенные до роли охотничьих собак, на которых надели намордники, блуждали по Вексену, бросая жадные взгляды на замки и мызы, блестящие и смеющиеся, из кухонь которых вырывался дерзкий дым. Это приятное препровождение времени явилось вследствие IV статьи перемирия, предписывавшей под страхом смертной казни неприкосновенность лиц и собственности, начиная с мадам де Майенн до последней жницы в поле, от казны Лиги до колоса, желтевшего в долине. Король держал Мант и его окрестности, вот почему в Медане отчаянные роялисты во время прогулок собирали зеленый виноград или попросту портили его, пробираясь через лозы в поисках зайца или куропатки, слишком слабой, чтобы перелететь через Сену. Но эти ресурсы скоро истощались, и все служащие в королевской армии, не получившие отпуска, начинали чувствовать то, что парижанам было так хорошо знакомо в прошлые годы, — голод. Словом, в начале июля две роты гвардейского полка под командованием Крильона получили приказание стать лагерем и таким образом составить авангард армий между Меданом и Виленом. Чтобы не беспокоить жителей, корпус этот раскинул палатки под открытым небом. Крильон, большую часть времени отсутствовавший в лагере, возложил всю службу на своего первого капитана. Небольшой артиллерийский парк, расположенный на горе, привлек для осмотра в эти места Рони, будущего Сюлли Генриха IV, притязания которого на этот счет были весьма и весьма превеликие. Так как гвардейцев набирали из самых храбрых среди младших сыновей хороших домов, общество было отборное в этом поэтическом местопребывании. Однако тут умирали от скуки и нищеты. Прислонившись к пригорку, откуда был открыт прекрасный вид на спокойную зеленеющую Сену, которая шелковой лентой скользила и обнимала живописные острова, бедные гвардейцы, под палящими лучами сияющего солнца, в пышной зелени осин и ив, спрашивали друг друга, почему в то время как птицы носились по воздуху так весело, рыбы так радостно прыгали в воде, ягнята так грациозно резвились на пастбищах, роялистским солдатам запрещено прикасаться ко всей этой красоте, которую Господь создал для удовольствия и для потребности человека. Между самыми отчаянными из этих блуждающих призраков был один, в особенности отличавшийся своим негодованием, которое сопровождалось пантомимой, более деятельной, чем движенье крыльев ветряной мельницы. Руки его непрестанно взмывали в воздух, прерываясь только затем, чтобы поправить шпагу, висевшую на левом боку, которая, подобно своему хозяину, потерявшему терпение, непослушно вылезая вперед, колотила эфесом по карману, где лежал небольшой ножик и светильня для ружья. Этот гвардеец был молодой человек лет двадцати, смуглый, с длинными черными волосами, не знавшими масла парфюмера со времени осады Руана, то есть целый год. Так вот, этот молодой человек, наконец дав покой своим рукам и шпаге, пытливым взором орлиных глаз обвел огромный полукруг от Медана до Сен-Жермена, приложив ладонь ко лбу и глядя на эти прекрасные места, где Богу было угодно соединить самые богатые образцы своих творений. — Ну, Понти, — сказал ему капитан, которому лакей пришивал новые ленты под тенью цветущей ивы, — что вы видите в облаках? Или отсюда виден замок ваших предков? — Понти в Дофинэ слишком далеко, чтобы его можно было видеть отсюда, — отвечал молодой человек с принужденной улыбкой. — Притом я не думаю о замке Понти. Он принадлежит моему старшему брату, который вежливо выгнал меня. И я этому очень рад, — прибавил он, все принуждая себя улыбаться, — потому что если бы я остался в замке, я не имел бы чести служить королю под вашим начальством. — Бесплодная честь, — проворчал глухой голос, раздавшийся из группы гвардейцев, гугенотских дворян, живописно расположившихся на склоне холма. Ни Понти, ни капитан не показали вида, что слышат. Капитан разглаживал свои палевые ленты, а Понти снова устремил свой взор вдаль. — Я смотрю не на облака, — сказал он. — На что же? — спросили в один голос товарищи. — Я любуюсь, господа, этим черным, красноватым и синим дымом, который поднимается из труб Поасси. — Какое вам дело до дыма? — продолжал капитан. Понти, погруженный в глубокую меланхолию, рассеянно отвечал: — О! Синий дым представляется мне горячей водой, в которой могут вариться яйца, рыба и дичь, красноватый представляется сковородой с котлетами и сосисками, черный — печью булочника… В Поасси пекут такой хороший хлеб! — Мы не в Поасси, — философически отвечал один из гвардейцев, растянувшись на траве, — мы на земле его величества. — Сказать «христианнейшего»? — спросил другой чванным тоном. — Нет еще, но скоро можно будет и сказать, я надеюсь, — с живостью отвечал Понти. — Король морит нас голодом, потому что он не католик. — Эй, полегче, господин католик! — закричали несколько гугенотов, которых расшевелило это пожелание Понти. — Если вы не гугенот, пожалуйста, не трогайте других! Капитан ушел, напевая, чтоб не компрометировать себя. — Не придирайтесь, господа, — продолжал Понти, — ведь этот дым католический, Париж католический, окружающие нас замки католические. Пусть меня повесят, если все хорошее в жизни не принадлежит католикам! Вот почему мне хотелось бы, чтобы его величество сделался католиком. А! Ворчите сколько хотите, все-таки мой желудок будет бурлить больше ваших. — Если король сделается католиком, — вскричал кто-то из гугенотов, — я оставлю его службу! — А я оставлю, если он не сделается, — возразил Понти. — Черт побери! — закричал гугенот, приподнимаясь. — Вы еще имеете силы сердиться? А я сохраняю мой пыл для лучшего случая. Гугеноты и католики должны бы, вместо того чтоб ссориться, подумать о средствах к жизни. — Какая мысль пришла королю, — продолжал осерчавший гугенот, — согласиться на перемирие с этим толстым Майенном! Мы были бы теперь около Парижа, так нет… Вместо того чтоб уничтожить Лигу, ее щадят… Все это кончится поцелуями. — Отчего не начать сейчас? — воскликнул Понти. — По крайней мере, мы участвовали бы в празднестве, а теперь, если будут медлить, мы все умрем. Ах, как я голоден! Новый собеседник подошел к группе. Это был молодой гвардеец Вернетель. — Господа, — сказал он, — мне пришло в голову вот что: если есть перемирие, зачем мы не в Манте со двором? В Манте едят. — Иногда, — проворчал гугенот. — В самом деле, мысль Вернетеля хороша, — сказал Понти, — зачем мы здесь, где не делают ничего, а не с королем в Манте? — Потому что короля нет в Манте, — сказал Вернетель, — вот доказательство тому. Он указал гвардейцам на низенького человека, который проходил мимо, неся сверток, завернутый в саржу. — Это кто? — спросил Понти. — И почему он заставляет вас думать, что король не в Манте? — Видно, что вы у нас новенький, — возразил гугенот. — Вы не знаете Фуке ла Варенна. — Кто это? — спросил Понти. — Тот, кто бывает везде, где король должен появиться инкогнито; тот, кто отворяет ему двери, слишком крепко запертые; тот, кто получает удары, которые часто заслуживает король, — словом, это тот, кто носит любовные записочки короля. — Эй! Честный человек! — закричал Понти. — Дайте нам покушать, нам больше хочется есть, чем королю. — Какие неприличные шутки, молодые люди! — перебил строгий мужской голос, заставивший обернуться гвардейцев. — Месье де Рони! — пролепетал Понти. — Точно так, милостивый государь, — серьезно отвечал знаменитый гугенот, который проходил мимо, читая связку бумаг. — У вас слух тонкий, — не мог удержаться, чтоб не сказать Понти. — Однако мы не можем, не имеем сил говорить громко. — Уж лучше было бы молчать, — возразил Рони, продолжая идти. — Мы сами этого желаем, но закройте же нам рот. — Понти окончил свою фразу, употребляя жесты, свойственные любому голодному человеку, вне зависимости от того, какому народу он принадлежит. Рони пожал плечами и прошел мимо. — Старый скряга, — пробормотал Понти. — Он обедал вчера и способен обедать сегодня! — Как, старый?! — сказал гугенот. — Вы знаете, который Рони год? — Семьсот лет, по крайней мере. — Тридцать три года, господин католик, он семью годами моложе короля. — Это странно, — сказал Понти. — В двадцать лет моей жизни я все слышал о Рони как о Мафусаиле. Поверьте, этот человек существует с сотворения мира. — Это потому, что он давно стремится сделаться знаменитым, это одна из наших колонн, манна нашего духа. — Жаль, что не желудка! Я, видите ли, не имею таких причин, как вы, обожать великого Рони. Вы такой же гугенот, как он, а я католик. Я вступил в гвардию из любви к нашему полковому командиру Крильону, который также католик. Вы ничего не смеете попросить у вашего кумира Рони, а я, если бы Крильон был здесь, я пошел бы занять у него экю. Я не горд, когда голоден. Черт побери! Как я голоден! Когда он договаривал эти слова, прерывая их тяжелыми недовольными вздохами, вдруг послышался лошадиный топот по сухой земле, и показалась с двумя корзинами толстая кляча, впереди которой шел метрдотель Рони, а за ней крестьянин и лакей. Кортеж прошел мимо офицеров, которые не спускали глаз с корзин и лошади, и скоро после этого под тенью прекрасных лип, о которых мы говорили, был поставлен стол. Сейчас же метрдотель разложил провизию, цвет и запах которой были оскорбительны для голодных. Рони, все так же держа в руках свои бумаги, с видом очень серьезным подошел к столу, сел за него вместе с гвардейским капитаном, артиллерийским и несколькими привилегированными лицами, среди которых оказался и тот самый Фуке ла Варенн, который разносил записки короля. При громком шуме разговора и стуке посуды эти господа начали свой обед, умеренный, если сообразить звание обедавших, но сарданапальский в сравнении с лишениями гвардейцев, издали присутствовавших при этом. Понти не мог долее выдержать. — Я вам говорил, что он будет обедать и сегодня! — вскричал он. — Мир — глупое дело для людей, у которых нет метрдотеля! На войне по крайней мере можно грабить, и если обедаешь через день, то по крайней мере наедаешься на два дня! — В окрестностях есть провизия, — сказал гугенот, который ел сухую корку хлеба, намазанную чесноком. — Что ж вы не купите? — Что ж вы не купите сами, — возразил раздраженный Понти. — Вместо того чтоб глодать корку, как голодная крыса? — Лучше корка, чем ничего, — отвечал гугенот. — Не будьте так разборчивы и, если у вас нет денег, стяните себе живот. — У кого есть деньги? — вскричал Понти. — У вас есть, Кастильон? У вас есть, Вернетель? — Как же у нас могут быть деньги? — отвечал Вернетель, — если у короля их нет. — Но король обедает. — Когда его приглашают обедать. Попросите Рони пригласить вас. — Или оставить вам его крошки. — Я лучше… Ах! Господа, мне пришла идея. Кто здесь голоден? — Я, — отвечал целый хор. — Давайте отправимся четверо и заставим пригласить нас по соседству, мы люди приятной наружности. — Э-э! — протянул гугенот, рассматривая потертое платье своих товарищей. — Мы хорошие дворяне, — продолжал Понти, — и гвардейцы короля… Невозможно, чтоб мы не нашли в окрестностях друга, знакомого, кузена, родственника, близкого или далекого. Надо собраться людям из земель, как можно более дальних друг от друга, чтоб иметь более возможности найти земляков. Из какой страны вы, Вернетель? — Из Туранжо. — Я беру вас. А Кастильон? — Из Поатвена. — Возьмем Кастильона. Я из Дофинэ, нам надо бы гасконца. Генеалогическое дерево гасконца пускает корни во всех четырех странах света. — Как жаль, что короля нет здесь, — сказал Вернетель, — мы взяли бы его с собой, уж у него-то столько кузенов и кузин!.. Все захохотали. Генрих IV сам засмеялся бы, если бы слышал этих ветреников. — Итак, решено, — сказал Понти, — мы без церемонии пойдем просить обедать в первом замке, который нам встретится. Давайте осмотрим хорошенькие дома, виднеющиеся там, между деревьями. Слева располагается замок с лужайками, но нужно переходить реку, это слишком далеко. Справа… А! Посмотрите направо, посреди этого молодого парка стоит очаровательный замок из кирпича и новых камней. Вот это для нас! Не более, как четверть мили… Идемте же!.. Ах, как я голоден! — Понти затянул пряжку ремня с угрожающей легкостью. — Пойдемте, — повторил он, — а то я превращусь в скелет. — Надо позволение, — сказал Вернетель, — спросим капитана. — Не делайте этого! — вскричал Понти. — Отчего? — Оттого, что если он откажет, мы будем принуждены умереть с голода, а я этого не хочу. Мало того, если он откажет, я обойдусь без его позволения, и тогда неприятности будут без конца. — Да, повесят, например. — Нет, мы дворяне, но расстреляют, а это не менее неприятно. — Ба! — воскликнул Понти с решимостью, свойственной молодым годам, — пока мы пойдем за обедом, наши товарищи будут караулить, и мы вознаградим их труды кое-чем, что останется от обеда. Если капитан спросит, где мы, ему ответят, что мы приметили зайца в виноградниках и пошли туда. — А если велят взяться за оружие во время вашего отсутствия? — спросил Вернетель. — Вот еще! Во время перемирия? — Короля ожидают… Заметьте, что Фуке ла Варенн здесь, это знак, что ждут его величество. Притом Крильон может приехать. — Наш полковой командир без церемоний со своими гвардейцами. Если он приедет, он скажет, по обыкновению, сделав знак рукой: «Довольно, довольно бить в барабан», — и нас даже не позовут. Притом я голоден, и будь здесь сам король, я и ему сказал бы то же. Пойдемте! Вернетель и Кастильон хотели было бежать, но Понти заметил им, что таким образом их заметят и, может быть, позовут и что, напротив, надо было удалиться медленно, смотря на небо и на воду, потом на повороте дороги броситься бежать и сделать четверть мили в пять минут. Все трое отправились в путь. Товарищи помогали им, став между столом офицеров, и, таким образом, никто не видал, как беглецы ушли.Глава 2 О КРОЛИКЕ, О ДВУХ УТКАХ И О ТОМ, ЧТО ОНИ МОГУТ СТОИТЬ В ВЕКСЕНЕ
Красивый двадцатилетний молодой человек, живой и стройный, как Адонис, с чудесными белокурыми волосами, с тонкими золотистыми усами и с белыми зубами и блестящими глазами, ехал на прекрасной руанской лошади, имея из поклажи при себе большой чемодан. Его костюм из тонкого серого сукна, полугражданский, полувоенный, показывал сына хорошей фамилии. Новый плащ, свернутый под рукою, и большая испанская шпага на боку довершали его костюм. Все это: лошадь и упряжь, одежда и осанка — хоть и покрыто было пылью, но он с победоносным блеском весело отвечал на лучи солнца сияющей физиономией, которую сам Феб, этот бог красоты, наверно, заимствовал бы, если бы когда-нибудь проезжал верхом по Вексену. — Извините, господа, — сказал молодой всадник, остановив трех гвардейцев в ту минуту, когда они собирались бежать, — это, кажется, гвардейский лагерь, не правда ли? — Да, — ответил Понти и уже собрался было пуститься бегом. — Месье де Крильон командует гвардейцами? — продолжал молодой человек. — Да. — Прошу у вас извинения, что я останавливаю вас, потому что вы, кажется, спешите, но сделайте одолжение, укажите мне палатку месье де Крильона. — Месье де Крильона нет в лагере, — сказал Вернетель. — Как! Нет в лагере… Где же я его найду? — Имеем честь вам кланяться, — сказал скороговоркой Понти, делая знак Вернетелю. Кастильон и Вернетель хотели было возражать, но Понти взял их за руку и увел, чтоб прекратить этот разговор. — Разве вы не видите, — сказал он, — что, если бы этот разговор продолжился, я упал бы от истощения? Бежим! Дорога идет вниз, и мое тело само покатится к обеду. Всадник с улыбкой смотрел на трех сумасбродов, которые бежали сломя голову по скалистой покатости, и, не понимая их поспешности, направился к лагерю гвардейцев. Напрасно Понти завидовал обеду и метрдотелю Рони. Этот обед был приправлен горечью. Рони пытался расспрашивать ла Варенна всякими способами, как и для чего явился он один в Медан, так как он никогда не оставлял своего повелителя, но ла Варенн, принимая таинственный вид, отвечал на эти вопросы с дипломатической лживостью, которая бесила Рони, несмотря на его философию. Несколько раз с гневом стукал он по столу и, забыв этикет, порицал легкомыслие и прихоти короля. В эту-то минуту гвардейцы привели молодого всадника, въехавшего в лагерь. — Кто вы и что вам нужно? — спросил Рони, аккуратно и не спеша раскладывая перед собой салфетку. — Я желаю говорить с месье де Крильоном, — отвечал вежливо молодой человек. — Кто вы? — повторил Рони. — Вы не из Рима ли? — Я желаю говорить с кавалером де Крильоном, начальником французских гвардейцев, — продолжал тем же тоном молодой человек, кротость которого не изменилась при этой настойчивости. — Вы имеете, конечно, право не говорить вашего имени, — сказал флегматический Рони, — может быть, вы приехали по службе, в таком случае, так как я имею честь находиться в одном месте с месье де Крильоном, я мог бы выслушать и удовлетворить вас. Вот почему я расспрашивал вас. Я — Рони. Молодой человек поклонился. — Я приехал к месье де Крильону по частному делу, — сказал он, — а имя мое Эсперанс, и я приехал не из Рима, а из Нормандии. Рони невольно подчинился всемогущему очарованию, которым обладал этот молодой человек. — К прекрасной наружности идет такое прекрасное имя[298], — сказал он. — Которое нельзя назвать именем, — пробормотал капитан. — Месье де Крильона здесь нет, — продолжал Рони, — он осматривает другие роты своего полка, которые разбросаны вдоль реки, но он скоро должен воротиться. Подождите. — Надейтесь, — с улыбкой прибавил капитан. — Я делаю это всю мою жизнь, — отвечал молодой человек с веселой любезностью. Рони и капитан встали. — Эсперанс! — сказал Рони на ухо капитану. — Прекрасное имя для приключений. Оба пошли к берегу, чтобы помочь пищеварению прогулкой. Эсперанс привязал свою лошадь к дереву, сложил плащ и сел на него, свесив ноги в окоп и обернувшись с разумным инстинктом мечтателей и влюбленных к самой поэтической стороне панорамы. Не прошло и четверти часа, как на краю окопа послышался хохот. Это гвардейцы шумно толпились около трех поставщиков, которые, как мы видели, отправились за провизией. Понти держал над головой огромное блюдо, а под мышкой прижимал несколько фунтов хлеба, две утки и несколько голубей висели у него на шее. Вернетель держал кролика, круглый хлеб и связку колбас и сосисок. Кастильон принес только бутыль, но такую большую, что вторую одному человеку было бы и не унести. Общая радость перешла в восторг, когда Понти опустил блюдо и на нем увидали пирог с начинкой из рубленого мяса. Разделились на группы, одни взялись приготовлять уток и кролика, другие, более счастливые, немедленно уселись на траве с великолепным пирогом, и двенадцать гостей, приглашенных великодушным Понти, получили позволение наложить на огромные ломти хлеба благовонный слой рубленого мяса. Эсперанс смотрел издали, улыбаясь, на этот пир и на этих неустрашимых едоков; он восхищался королем праздника Понти, лучезарное лицо которого весело освещало всю группу, когда вдруг послышался отдаленный крик. Этот крик удивил Эсперанса и заставил его насторожиться. Но пирующие не обратили на него внимания, обезумев от голода и счастья. — Кажется, кричат? — сказал Вернетель с полным ртом. — Да, — отвечал Понти, — в замке обнаружили пропажу обеда. — Расскажите нам, Понти, как вам удалось это похитить? — спросил один гвардеец, ощипывая дичь. — Рассказывая, я пропущу много кусков, — сказал Понти. — Впрочем, скажу в двух словах. Мы вежливо сунули нос в дверь и попросили позволения засвидетельствовать наше почтение хозяину дома. Угрюмый привратник, отворив калитку, сказал нам, что никого нет дома. Мы настаивали, говоря, что мы дворяне и гвардейцы короля. Грубиян возразил, что нет ни короля, ни гвардейцев, а есть только перемирие. — Лигеры! Испанцы! — закричали собеседники. — Это мы тотчас же сказали, — прибавил Понти, воспользовавшийся всеобщим негодованием, чтоб набить себе рот. — Тогда я просунул ногу в калитку, что не допустило лигера затворить ее. Потом я вошел, эти господа последовали за мной. В кухне был запах, от которого мог бы лишиться чувств человек, запертый в ней. «Так как в замке нет никого, — сказал я, — то, стало быть, этот обед пропадет». Я протянул руку к этой дичи, которую только что принесла фермерша. Привратник раскричался, прибежали два лакея и схватили вертела и шинковальные иглы. Мы, дворяне, не обнажили шпаги, нет, но я выхватил из очага пылающие головни и бросил их в этих каналий. Ослепленные огненным дождем, они отступили. Тогда я схватил это блюдо и набросил на шею эти ордена нового рода. Вернетель и Кастильон не смели пошевелиться, восторг пригвоздил их к месту. Я указал одному на эту бутыль, другому на кролика, мы отретировались, и никто нас не преследовал. Понти приветствовали громом рукоплесканий, к которым Эсперанс, сидевший все на том же месте, примешал свой чистосердечный смех. Неожиданно крики приблизились и зазвучали еще яростнее. Это кричал человек, появившийся у входа в гвардейский лагерь. Запыхавшись, энергически размахивая руками, с глазами, помутившимися от гнева, он привлек к себе внимание всех присутствующих. — Это кто-нибудь из замка, который мы ограбили, — шепнул Вернетель на ухо Понти. Тот прервал свой обед. Гвардейцы тоже прервали свои поваренные приготовления. Они скрыли под плащами полуощипанную дичь, Эснеранс, как и все, был поражен расстройством, запечатленным на чертах пришедшего, молодое и характеристическое лицо которого изменилось до безобразия. Его волосы, скорее рыжие, чем белокурые, почти стали дыбом. Бледные и тонкие губы тряслись от бешенства. Это был человек лет двадцати двух, стройный и высокий. Его тонкие и крепкие формы показывали изящную натуру, привыкшую к сильным упражнениям. В зеленом полукафтане несколько устарелого фасона, из материи довольно грубой. Он сохранял благородное и развязное обращение. Но нож, слишком длинный для стола, слишком короткий для охоты, сверкавший в его дрожащей руке, показывал то неукротимое бешенство, которое хочет утолиться кровью. Этот молодой человек так быстро поднялся на пригорок, что, задыхаясь, мог произнести только эти слова: — Где начальники? Один гвардеец хотел остановить взбешенного молодого человека пикой, но тот его чуть не сшиб с ног. На крик прибежал прапорщик и, увидав, что часового толкают, закричал: — Вы шутите, что ли? Как вы смеете входить с ножом в руках к гвардейцам его величества? — Где начальники? — закричал опять молодой человек зловещим голосом. — Я — один из начальников! — сказал прапорщик. — Вы не тот, кто мне нужен, — отвечал пришедший с презрением, сверкая от злобы глазами. Но тут всеобщие восклицания покрыли его слова, и когда все, кроме Понти и его гостей, уже весьма и весьма угрожали оскорбителю, он прокричал вне себя от ярости: — О! Вы меня не испугаете! Я ищу начальника, великого, могущественного, который имел бы право наказывать. Рони и капитан медленно приблизились, чтобы узнать причину этого шума. Молодой человек приметил их. — Вот кого мне нужно, — сказал он с злобной ухмылкой. — Что здесь происходит? — спросил Рони, перед которым расступились ряды. Он устремил проницательный взор на это лицо, расстроенное всеми дурными страстями человечества. — Я пришел сюда требовать мщения, — отвечал на это молодой человек. — Прежде бросьте свой нож, — сказал Рони. — Бросьте его! Два гвардейца насильно обезоружили молодого человека. Он не поморщился. — Мщенья? Закого? — продолжал Рони. — За меня и моих. — Кто вы? — Меня зовут ла Раме, я дворянин. — И у кого требуете вы мщения? — У ваших солдат. — У меня нет здесь солдат, — отвечал де Рони, оскорбленный надменным тоном этого человека. — Я не с вами имею дело. Укажите мне начальника этих людей. — Он указал на гвардейцев, дрожавших от гнева. — Месье де ла Раме, — холодно проговорил Рони, — вы говорите слишком громко, и, если вы дворянин, как вы сказали, вы дворянин, дурно воспитанный. Эти люди стоят вас, и я советовал бы вам обращаться с ними повежливее. Я могу позволить вам объясниться с ними, раз уж вы пришли сюда с жалобами. В отсутствие месье де Крильона я здесь начальник и готов оказать вам правосудие, несмотря на ваше обращение. Итак, успокойтесь и расскажите, в чем дело. Только попрошу вас: вежливо, ясно и коротко. Молодой человек закусил губы, нахмурил брови, сжал кулаки, но, покорившись хладнокровию и твердости Рони, чей пронзительный взгляд так больно уязвил его, перевел дух, и ни один мускул не дрогнул на его лице, затем он собрался с мыслями и сказал: — Я живу со своим семейством в замке, который вы видите у подножия этого пригорка, в деревьях направо. Отец мой лежит в постели раненый… — Раненый? — перебил Рони. — Это королевский офицер? Молодой человек покраснел при этом вопросе. — Нет, — отвечал он со смущенным видом. — Лигер! — пробормотали гвардейцы. — Продолжайте, — сказал Рони. — Я был у постели моего отца с моими сестрами, когда шум борьбы долетел до нас. Незнакомые люди насильно вошли в дом, побили и ранили моих людей и насильно ограбили нашу кухню. — Молчать! — сказал Рони, когда раздалось несколько голосов, протестовавших против этого. — Эти незнакомые люди, — продолжал де ла Раме, — не довольствуясь своим насилием, схватили головни из очага и бросили их на ригу, которая теперь горит. Посмотрите! В самом деле, все, обернувшись, увидели клубы белого дыма, поднимавшиеся широкими извилистыми спиралями над деревьями парка. Понти и его товарищи побледнели. Страшная тишина воцарилась между присутствующими. — В самом деле, — сказал де Рони с волнением, которого не мог преодолеть, — это пожар… Надо спешить туда! — Пока мы туда добежим, все уже будет кончено, солома горит быстро. Вот уже и крыши загораются! — Сказав это, молодой человек, казалось, остался доволен произведенным эффектом. — И ваше семейство прислало вас сюда требовать правосудия? — спросил де Рони. — Да. — Стало быть, виновные здесь?.. — Это гвардейцы. — Королевские? — Гвардейцы, — отвечал де ла Раме с таким очевидным отвращением, не желая произнести слово «королевские», что Рони обиделся. — Одному человеку верить нельзя, месье де ла Раме, — сказал он, — представьте свидетелей. — Пусть придут к нам в дом, не ваши солдаты, — они окончательно все сожгут и разграбят, — но какой-нибудь начальник, и пострадавшие будут свидетельствовать, сами за себя скажут и обгоревшие стены. Ропот негодования поднялся против смельчака, чернившего таким образом весь гвардейский корпус. Приведенный в негодование Рони сказал молодому человеку: — Вы слышите, что думают о ваших оскорблениях! Видно, вы забыли, что теперь перемирие и что священное слово короля французского обеспечивает вас. — Очень оно обеспечило меня сейчас! — вскричал де ла Раме с горькой иронией. — О! Нет, я пришел требовать не обеспечения, а мщения. Я представлю все доказательства, я выслушал донесение моих слуг, я сам видел, как воры убежали, и в случае надобности я узнаю их… Но если вы, месье де Рони, если вы ссылаетесь на слово вашего короля, я должен знать, окажут ли мне правосудие, а то я прямо пойду к вашему повелителю и… — Довольно, довольно! — перебил де Рони, в котором кипел гнев. — Не нужно столько фраз и бешеных взглядов, я терпелив, но до некоторой степени. — О! Вы мне угрожаете! — сказал де ла Раме со своей зловещей улыбкой. — Прекрасно! Это довершает все, угрожать истцу! Да здравствует перемирие и слово короля! — Милостивый государь, — поспешно возразил Рони, теребя бороду, — вы употребляете во зло ваше преимущество. Я вижу, с кем я имею дело. Если бы вы были слугой короля, вы не имели бы ни этой колкости, ни этой жажды мщения. Вы лигер, вы друг испанцев… — А если бы и так, — возразил де ла Раме, — вы тем более обязаны оказать мне покровительство. Неделю тому назад ваши враги могли защищаться оружием, а теперь они имеют только ваше слово и вашу подпись. — Вы правы. Вы получите защиту. Вы сейчас говорили, что можете узнать виновных; вот все гвардейцы, обойдите ряды и попробуйте. — Можно бы избавить меня от этого труда, — злобно пробормотал взбешенный истец, — честные люди сами признались бы. — Я полагаю, вы этого не ожидаете, — сказал де Рони. — Если вы ссылаетесь на перемирие, вы знаете его статьи, и наказание, определенное против такого насилия, на которое жалуетесь вы, должно предписывать молчание тем, чья совесть побуждала бы говорить. — Я знаю это наказание, — вскричал молодой человек, — и ожидаю его строгого применения! — Что ж, узнавайте виновных, и пусть они будут уличены. — Хорошо, это займет не так много времени. Сказав эти слова с радостью, засиявшей на его бледном лице, де ла Раме устремил взор на круг гвардейцев, которые машинально отступили и стали неправильными рядами, посреди которых мстительный лигер начал ходить медленно, как будто делал смотр. Рони, взволнованный тысячью противоречивых мыслей, боролся со своей возмущенной гордостью и чувством природной справедливости, подкрепляемой еще правилами дисциплины и правом собственности. Он взял под руку капитана, раздражение которого дошло до крайней степени, и сказал: — Скверное дело!.. И я здесь один… Почему же нет здесь маршала Крильона, ведь на нем лежит ответственность за гвардейцев! — Если бы предоставили мне, — отвечал капитан, сжав зубы, — я скоро устроил бы это дело. — Молчите, милостивый государь, — сказал гугенот, которого эти неблагоразумные слова офицера окончательно заставили склониться в пользу общего права. — Молчите! Вы не должны и впредь обращаться так легкомысленно с условиями и актами, подписанными королем. Какова будет будущность нашего дела, если, обвиненные в грабеже и насилии, мы оправдаем истцов, загладив убийством воровство наших офицеров! — Но, — пролепетал капитан, — этот де ла Раме — злодей, ехидна. — Я это знаю. Однако ему причинили насилие, у него произвели пожар. Ему будет оказано правосудие. Я старался отдалить наказание или сделать его невозможным, принудив этого молодого человека самому узнать виновных. Я оставил им эту возможность на спасение. Но, кажется, это не спасет их; вот негодяй остановился и устремил на эту небольшую группу такие радостные взоры, что, кажется, скоро мы должны будем произнести приговор. Пойдемте же, исполним нашу обязанность. Во время этой сцены Эсперанс с жадностью и самым сильным волнением слушал все это. Но когда он услыхал разговор Рони с капитаном и офицером, он почувствовал глубокое сострадание к бедным гвардейцам, которых он видел такими веселыми за несколько минут перед тем, и сильнейший гнев к истцу, которого вид, тон — словом, вся наружность, возмущала его, несмотря на справедливость жалоб де ла Раме. Эсперанс подошел к Фуке де ла Варенну, который смотрел на эту сцену стоически, как человек, мало интересующийся солдатами. — Извините, милостивый государь, — сказал он, — что говорится в этой знаменитой статье перемирия насчет насилий, совершенных военными? — Э-э! Молодой человек, — отвечал фактотум короля, — смерть!Глава 3 КАКИМ ОБРАЗОМ ДЕ ЛА РАМЕ ПОЗНАКОМИЛСЯ С ЭСПЕРАНСОМ
Де ла Раме осмотрел уже часть рядов гвардейцев и вдруг остановился, когда Рони разговаривал с капитаном. Стоя перед гвардейцем, которого он подозревал, де ла Раме минуту пристально глядел на него, затем, обернувшись к Рони, закричал: — Вот один! Он указал на Вернетеля и почти в ту же минуту указал рукой на Кастильона, говоря: — Вот второй. — Почему вы узнаете этих господ, вы говорите, что видели их только сзади? — просто спросил Рони. Де ла Раме, не отвечая, указал на каплю крови, едва заметную на мундире Вернетеля, к которой прилипло несколько рыжих шерстинок. У Кастильона на правом плече был слабый след сырого песка из погреба, в котором стояли бутыли. В самом деле, Вернетель принес кролика, Кастильон — бутыль. Этих доказательств было достаточно для людей уже убежденных. Никто не стал протестовать, даже обвиненные. Но де ла Раме на этом не остановился. Он прошел мимо еще нескольких гвардейцев и, приметив Понти, который ждал его твердо, хотя и слегка побледнев, взял его за руку. Понти оттолкнул его, говоря: — Не дотрагивайтесь до меня, а то перемирию конец! — Вот третий, — сказал де ла Раме, — и самый виновный. Это тот, который взял горящие головни. Посмотрите на его руки, они пахнут дымом. — Уж не думаете ли вы, — перебил капитан, — что ваших доказательств для нас достаточно? — Если так, то пусть приведут этих людей в замок и устроят им очную ставку с моими людьми. — Это не нужно, — вскричал Понти, — это не нужно! Унизительно краснеть или бледнеть перед подобным обвинителем. Уже десять минут весь гвардейский корпус терпит оскорбления от подобного негодяя из-за каких-нибудь двух уток и кролика. Это унизительно! — Что это значит? — спросил Рони. — Что вы хотите сказать? — Я хочу сказать, что это я ходил в замок, если этот домишко стоит называть замком. Я думал, что имею дело с добрыми слугами короля, и хотел просить позволения занять место за их столом, что делается везде между добрыми дворянами, которые путешествуют. Я скажу более: у нас в Дофинэ владелец замка встречает гостей и насильно тащит их к себе. Но если мы здесь находимся перед дурно воспитанным французом, испанцем, скрягой, и перемирие связывает нам руки, то, видимо, суждено отвечать за последствия. Это я, так как мне отказали слуги этого господина, счел долгом достать провизию. — Купить! Купить! — закричал Вернетель. — Да, мы купили, — сказал Кастильон. — Вы лжете! — в гневе воскликнул де ла Раме. — Я бросил серебряную монету в кухне! — прошептал Кастильон. — Вы лжете! — возразил дерзкий обвинитель. — Ну да! — кротко сказал Вернетелю и Кастильону Понти, дружески взяв их за руки. — Да, этот господин прав, мои бедные, милые друзья, мы не купили. Разве у нас есть деньги? Но у нас есть честь, и я это докажу так называемому дворянину. Это я, Понти, придумал этот план. Я увлек моих двух друзей, не говоря им о моих намерениях, я против их воли сделал их моими сообщниками. Это я бросил головни, не думая, однако, что они произведут пожар, но все-таки я их бросил, виноват один я. Я выдаю себя. — Не верьте ему! — закричали Кастильон и Вернетель. — Мы виноваты также! — Еще бы! — надменно сказал де ла Раме. — А! Вы требуете три жертвы, — возразил Рони, возмущенный духом мщения, который так свирепо распалял этого молодого человека. — Я требую правосудия! — Изложите же ваши заключения. — Они очень просты. Перемирие было нарушено. С этим вы согласитесь? — Это правда, — сказал Рони. — Но ведь это решено, — вскричал Понти, — мы повторяем одно и то же! Угодно этому господину по куску моей кожи взамен каждой его утки? — В новом предписании сказано, — произнес де ла Раме голосом резким и язвительным, — что нарушение перемирия, то есть грабеж, насилие и поджоги будут наказываться смертью. Ваш король подписал это или нет? — Смертью? — прошептал Понти, изумленный свирепой настойчивостью этого молодого человека. — Это написано, вы должны это знать, — повторил де ла Раме. — За две утки?! Это было бы слишком! — вскричал взбешенный Вернетель. — Надо посмотреть, — проговорил де ла Раме, захлебываясь от злобы, — что значит «клятва»! И раз уж статьи перемирия имеют так мало веса, что их можно нарушать безнаказанно, то вся страна должна узнать, что не словами нужно встречать королевских солдат, когда они являются в наши дома, а мушкетами, в которых, слава богу, у нас недостатка нет. И тогда войной будут называть регулярное сражение, а миром все убийства, которые будут производиться в окрестностях. И в таком случае, — продолжал он, увлеченный своим красноречивым бешенством, — все средства будут хороши для уничтожения этих клятвопреступников. Им позволят красть провизию, но эта провизия будет отравлена. Вот что производит несправедливость, господа. Приходите нас грабить, как крысы, и мы вам дадим, как им, мышьяк. Они хотя бы только грызут, а не поджигают! Де Рони, голова которого была постоянно опущена во время этой речи, вышел из своей задумчивости. — Милостивый государь, — сказал он, — так как вы настойчиво требуете выполнения статей договора, ваше желание будет исполнено. Это не по-христиански, но вы правы. Де ла Раме поклонился, он успокоился, черты его разгладились, и теперь красота его была очевидна: великолепное, благородное, дышащее отвагой и гордостью лицо. — Я принужден, — обратился де Рони к Понти, — выдать вас профосу, который будет держать вас в аресте, пока суд не решит вашу участь. Понти кивнул в знак согласия. Его безропотная покорность не поколебала де ла Раме. — Что касается других, — ответил тот, как будто он был и судьей, и палачом, — мне будет достаточно нескольких дней ареста в тюрьме. — Другими распоряжаюсь я, а не вы, — перебил де Рони, покраснев от гнева, — с других я снимаю всякую ответственность, они свободны, их товарищ заплатит за все. Итак, вы можете удалиться, месье де ла Раме, разгласите везде, что король французский правосуден даже со своими врагами. Говоря эти слова, Рони указал де ла Раме на дорогу. Но тот, не шевельнувшись, спокойно продолжал: — Позвольте, мы, кажется, не понимаем друг друга. — Что? — спросил де Рони, законная гордость которого не была более способна терпеть настойчивость подобного человека. Он искоса посмотрел на де ла Раме, что предвещало бурю. Этот взгляд Рони был очень известен, и его очень опасались. Но де ла Раме этого не знал, и потому его не мог испугать этот взгляд. — Нет, — возразил он, — мы не понимаем друг друга. Я знаю наизусть статьи перемирия, а вы постоянно их забываете. Там не сказано, что преступник должен быть отдан профосу своей партии, что его будут судить судьи его партии; нет, напротив, там сказано, что он будет выдан тем, кого он оскорбил, чтоб с ним поступили по закону. Итак, вы должны выдать виновного мне, чтобы его судил местный бальи. Но здесь дело идет не о суде. Преступление доказано, вина признана. Наказание определено, перейдем к казни. Гром возмущения и ярости раздался во всех рядах. Этого человека разорвали бы, если бы тут не было высокопоставленных уважаемых начальников, чтоб сдерживать гвардейцев. — Негодяй! — прошипел Понти, грозя кулаком де ла Раме. — Ты прав, что стремишься меня расстрелять, потому что, если бы я был свободен или если я случайно освобожусь… — Сделайте мне удовольствие, отойдите, — сказал Рони де ла Раме, — а то я не отвечаю за вашу жизнь. Месье де Крильон сейчас прибудет и, конечно, велит исполнить все по закону. Он неограниченный начальник гвардейцев; подождите его возвращения, а пока будьте осторожны, потому что может случиться вот что: сапог месье де Понти, которому нечем более рисковать, проткнет вас своей шпагой, ведь быть расстрелянным можно только один раз, или один из его товарищей вызовет вас… Вы понимаете, между этими господами есть немцы. — Благодарю вас за ваши благоразумные советы, — отвечал де ла Раме с колкой улыбкой, — но я не боюсь никого в вашем лагере. Месье де Рони не позволит убить человека, жалоба которого справедлива. Сказав эти слова, он поклонился знаменитому гугенотскому барону, не стараясь даже сдержать дерзкую иронию своего тона и взгляда. Вдруг чья-то рука дотронулась до его плеча, он обернулся. Это была рука Эсперанса, который был свидетелем этого отвратительного спора и, не в силах более сдерживаться, уступил искушению выйти на сцену и играть роль в свою очередь. Во все это время он нетерпеливо топтался на месте и теперь, резко сделав несколько шагов вперед и пройдя мимо разъяренных гвардейцев, сменил де Рони в этом неприятном разговоре. Он положил, как сказали мы, свою красивую, мускулистую и белую руку на плечо де ла Раме, который обернулся с рассерженным видом кошки, которой помешали есть рыбью кость. — Позвольте на два слова, — сказал Эсперанс с любезной улыбкой. Их лица оказались друг напротив друга. Оба красивые, одно своей матовой бледностью, под которой кипел гнев, другое свежим румянцем, без которого нет настоящей доброты и настоящей силы. При первом звуке голоса Эсперанса де ла Раме вздрогнул, инстинкт подсказал ему, что это голос сильного противника. — Что вы хотите? — спросил он сухо. — Доставить вам средство кончить ваше дело, милостивый государь. В затруднительных обстоятельствах часто бывает приятно встретить долго отыскиваемое разрешение. Эсперанс говорил громко, так что сначала Рони, а потом и несколько гвардейцев услыхали и подошли, любопытствуя узнать, о каком разрешении идет речь. Эсперанс видел, что Понти окружен солдатами профоса. Безвыходное положение гвардейца побудило Эсперанса как можно скорее попытаться примирить врагов. Однако де ла Раме, оскорбленный этим возвращением к вопросу, который он считал уже оконченным, хотел отделаться как можно скорее от этого докучливого примирителя, чья вступительная речь привлекла к ним новый круг любопытных и недоброжелательных людей. — Если бы вы хотели сделать мне удовольствие, — сказал он Эсперансу, — вы занялись бы вашими делами, а не моими. — Милостивый государь, — отвечал молодой красавец, — все, что я слышал, нисколько меня не расположило сделать вам удовольствие. Но мне кажется, что это дело несколько затрудняет вас. Вы так кричали, так стонали, что преувеличили себе самому вашу обиду и ваше страдание. Это часто бывает. Притом вы боялись пристрастия тех, кому вы жаловались. Поэтому вы потребовали как можно более, чтоб получить что-нибудь. Я объясняю это таким образом. — А я не имею никакой нужды в ваших объяснениях, — дерзко возразил де ла Раме, — и избавляю вас от них. Он повернулся к Эсперансу спиной. Но тот, нисколько не смущаясь, подошел к нему с другой стороны и опять встретился с ним лицом к лицу с такой спокойной твердостью и таким изящным пируэтом, что внимание зрителей сменил восторг. — Я говорил, — продолжал он тем же тоном, — что, если бы вы были хладнокровны, вы обнаружили бы, что краденных уток и сгоревшей соломы недостаточно, для того чтобы убить человека. Это написано в перемирии, пожалуй, но в глубине вашего сердца, вашего ума вы находите эту статью варварской и достойной людоедов. Эта мысль делает вам честь, я читаю ее в ваших глазах. Де ла Раме, бледный, как привидение, рассудил, что Эсперанс насмехается над ним. Страшная молния сверкнула в его налившихся кровью глазах. — Я пришел вам помочь, — продолжал Эсперанс, — изменить свирепые условия, которые вам предписал сначала гнев, и тут-то хочу представить вам свое разрешение. Для всех ясно, что были нанесены убытки, и эти-то убытки следует восполнить. — Что же, вы адвокат или проповедник? — вскричал де ла Раме, задрожав от гнева, когда каждое слово противника было встречено с восторгом у публики. — Ни то, ни другое, но все вообще находят, что я говорю легко. У меня был превосходный учитель, венецианец, теолог и законовед. От него я и слышал эту латинскую поговорку, которую я скажу вам по-французски, чтоб не показаться педантом: «За денежный убыток платят деньгами». А что стоит утка, чего стоят пятьсот вязанок соломы? Конечно, очень дорого, когда их грабят и сжигают во время перемирия. Но в обыкновенное время это дело устроилось бы за два пистоля. Вы протестуете. Ах да, я забыл, что вместе с соломой сожгли и ригу. Это важнее. Это стоит, по крайней мере, двадцать экю! Громкий хохот присутствующих разъярил де ла Раме до такой степени, что он сжал кулаки и искал глазами нож, который у него забрали. — Не смейтесь, господа, — серьезно сказал Эсперанс, — вы заставите забыть месье де ла Раме, что дело идет о жизни человека! — Я нахожу постыдным, — пролепетал де ла Раме, обезумев от бешенства, — я нахожу бесчестным искать двести помощников против одного врага. — Я ваш враг? Я ваш лучший друг! Напротив, я хочу избавить вас от вечного угрызения. Дикий оскал, исказивший черты де ла Раме, дал понять Эсперансу, что это слово, «угрызение», не для всех имеет смысл. При этом де ла Раме сделал презрительный жест и, резко прервав разговор, бросил только: — Мы увидимся. Он хотел было удалиться и отвернулся от Эсперанса, но молодой человек потерял терпение. Он резко схватил де ла Раме за ремень, и, несмотря на то что тот был весьма высокого роста, с легкостью повернул его к себе, словно это был не живой человек, состоящий из мяса и костей, а деревянный манекен, набитый перьями. Де ла Раме зашатался, и слова возмущения, произнесенные им, были заглушены рукоплесканиями толпы. — У меня иссякли и просьбы и вежливые рассуждения. Приступим к делу. Вы хотите, чтоб этот молодой человек умер? — Эсперанс указал на Понти и продолжал: — А я этого не хочу. Вы говорите, что сожгли вашу собственность, это неправда: сгоревшая рига не ваша, она относится к мызе месье де Бальзака д’Антраг, чей отец ваш друг. Действительно, он имеет должность чуть ли не управляющего, но все-таки рига не ваша. А! Вас удивляет, что я так хорошо знаю ваши дела, — я, проезжий путешественник! Подождите, я вам скажу еще больше. Вы гордец, один из тех добродетельных католиков, которые всосали с молоком матери желчь и уксус Лиги. Ваш отец еще болен вследствие раны, которую он получил, сражаясь против короля, за испанцев… Француз!.. Вы были бы не прочь повесить нескольких солдат Беарнца, раз уж не можете убивать их из-за куста, как это было в прошлом году, не позже, в окрестностях Омаля… А! Что? Вы удивлены? Ну что ж, да, я действительно столько знаю о вас! И хотя я не гвардеец короля, и меня перемирие никаким образом не касается, я могу рассказать вам еще множество маленьких секретов о вас при этих господах. Потому повторяю вам мои заключения: за уток, украденных у вас, и за вторжение в ваше жилище вам, я полагаю, следует получить двадцать пистолей. Или, раз уж дело идет о спасении одного из наших ближних, получите восемьдесят пистолей. Конечно, оценивать благородного человека в восемьдесят пистолей — значит мало его ценить, но все, что у меня есть в кошельке, это сто пистолей. Получите их и подпишитесь, что берете свою жалобу назад. Говоря эти слова, Эсперанс вынул прекрасно вышитый кошелек и показал его де ла Раме. Тот онемел от удивления и ужаса. Этот незнакомец, который откуда-то знал его и, уличив во лжи, изобличал самые тайные его мысли, его твердость, его красота, его уверенность, страшный крик всеобщего негодования и порицания лишили его способности думать, говорить, двигаться. Что касается Эсперанса, его рыцарские слова, его ум, его смелость, а более всего магический кошелек, набитый золотом, превратили его в глазах гвардейцев в кумира. Все наперерыв спешили обнять его, а Понти, удерживаемый уважением и скромностью столько же, как и солдатами профоса, отирал слезу. Де ла Раме еще повторял себе с упорством помешанного: «Откуда он знает все это и кто он?»Глава 4 КАК ДЕ КРИЛЬОН ПЕРЕТОЛКОВАЛ СТАТЬЮ IV В ДОГОВОРЕ О ПЕРЕМИРИИ
Однако, так как изумление — не умиление, так как молчание — не согласие, несмотря на пословицу, дела Понти не подвигались, и ему не оставалось другой возможности на спасение, как быстрое возвращение Крильона. Де ла Раме не мог преодолеть терзавшего его любопытства. — Вы знаете месье де Бальзака д’Антраг? — спросил он. — Знаю, — отвечал Эсперанс. Так как физиономия де ла Раме вдруг засияла странным блеском, Эсперанс прибавил: — Я знаю его очень мало. — Однако все эти подробности, которые вы так дерзко рассказываете, показывают, что вы знаете его довольно коротко… Или его, или… — Кого? — спросил Эсперанс, решительно посмотрев прямо в глаза де ла Раме, который отвернулся, как бы боясь, что сказал слишком много. — Очевидно, — продолжал Эсперанс, пользуясь молчанием своего врага, — я говорю о том, что знаю, и я почерпнул мои сведения о вас из хорошего источника. — Вы сказали так много, что должны кончить, — возразил бледный молодой человек. — И эти подробности, — прибавил он, понизив голос, — были вам вверены не для того, чтобы вы употребляли их во зло, как вы делаете это. Эсперанс, вместо того чтобы вступить в объяснения по этому весьма интимному вопросу, тотчас возвысил голос и сказал: — Что же, отказ или согласие? — Я подумаю. — Даю вам десять минут. Этот резкий тон пробудил гордость де ла Раме, который тотчас вскричал: — Хорошо! Я обдумал. Вор будет предан смерти, а мы после поговорим. — Совсем нет. Мы поговорим сейчас. Мне надоели ваше фанфаронство и ваша свирепость. Тот, кого вы называете вором, для меня только голодный молодой человек. Вы требуете его смерти, вы требуете принести в жертву его жизнь, а так как для того, чтобы достигнуть вашей цели, вы испробовали уже всевозможные пути, даже наименее достойные дворянина, я в свою очередь употреблю все средства, которые в моей власти. Итак, я предупреждаю вас, что я считаю вас бесчестным и злым негодяем, которого я сейчас положу на землю ударом шпаги, если Бог справедлив. А так как мне может не посчастливиться в этом поединке, я прежде хочу постараться отнять у вас всякие средства к побегу. Если вы меня убьете, я хочу, чтобы вы были повешены. Это для меня очень легко. Слушайте же. — И он наклонился к уху де ла Раме и заговорил шепотом: — Я скажу этим господам, что в прошлом году близ Омаля, вы раздобыли на охоте перстень, который, конечно, вы нашли не на зайце, потому что это перстень дворянина, и если его хорошенько рассмотреть, то можно увидеть гербы на гнезде этого перстня. Де ла Раме вздрогнул и отпрянул. — Если я и принес перстень, — сказал он, испуганно глядя в спокойные и ясные глаза Эсперанса, — отчего же меня могут повесить за это, как вы говорите? — Если этот перстень принадлежал какому-нибудь гугеноту, убитому или, лучше сказать, умерщвленному ружейным выстрелом, когда он проходил близ Омаля по дороге, обрамленной двойной изгородью из терновника… Де ла Раме побледнел. — На войне все носят ружья, — сказал он, — и стреляют из них в неприятелей. — Очень хорошо. Но того, кто попадет в руки этих неприятелей, вешают. Вот что я хотел вам сказать. — Вы, стало быть, докажете, — сказал дрожащим голосом растерянный де ла Раме, — что я… — Убили гугенотского дворянина? Это было бы трудно. Но я докажу, что вы сняли с его пальца этот перстень. — А! — Да, и еще скажу, кто дал этот перстень этому дворянину и кому вы его отдали. Может быть, тогда догадаются, почему этот дворянин был убит; может быть, тогда откроется то, что заставит повесить вас… Вы видите, что я все возвращаюсь к тому же, стало быть, я говорю правду. Де ла Раме, вне себя от испуга, судорожно кусал пальцы и дергал свои рыжие усы. — Хорошо, — прошептал он отрывистым голосом после минутного размышления. — Вы знаете мою тайну, я уступаю, вор останется жив. Но после этой уступки, если вы не трус, вместо того чтоб допустить всех этих солдат, которых вы возмущаете против меня, убить меня, вы сойдетесь со мною на повороте дороги. Я знаю одно место в чаще, пустынное, годное для разговора, в котором мы можем поучаствовать и для которого мне недостает только моей шпаги. Я схожу за ней и принесу ее через десять минут. — Хорошо, принесите вашу шпагу, — отвечал Эсперанс, — но предупреждаю вас, что ружью я не доверяю и что у меня к седлу прикреплен штуцер. Прежде чем де ла Раме успел ответить на это жестокое нападение, послышалось имя Крильона, повторенное несколько раз. В самом деле под липами шел, в сопровождении Рони и офицеров, знаменитый Крильон, которого три короля прозвали храбрым и у которого не было соперника в Европе в мужестве и великодушии. Крильону было тогда пятьдесят два года, он был бодр, высоко держал голову, маленькую сравнительно с обширными размерами его тела. Без огня, сверкавшего в его больших глазах, его приняли бы, с его густыми серыми усами, свежим румянцем и полнотой щек за квартального надзирателя. Но если эти усы подергивались, а эти щеки трепетали от бури битвы, то являлся Крильон истинный, во всей своей красе: в этом коренастом теле обнаруживались изящные мускулы, божественное пламя вдохновляло эту благородную плоть, и из оболочки квартального надзирателя выходил великий герой. Множество гвардейцев следовали на почтительном расстоянии за обожаемым начальником. Крильон слушал рассказ Рони о сцене обвинения и ожесточения обвинителя. — Где обвиняемый? — спросил он. — Это я, — жалобно отвечал Понти. — А! Это ты! Ты дурно дебютируешь, дофинский кадет. Притеснять бедных запрещено. — Я был голоден, и я взял контрибуцию не с бедных, а с богатого дворянина, который должен бы был предложить мне обедать. — А где же этот дворянин? — спросил Крильон. Рони указал рукою на де ла Раме, возле которого стоял Эсперанс. — Который из двух? — прибавил Крильон. — Не я, — сказал Эсперанс, отступая. — А!.. Это вы?.. Крильон окинул обвинителя взором с ног до головы с той холодной повелительностью, перед которой всякая гордость умолкает. — Что у него взяли? — Дичь, — отвечал Понти. — И ригу сожгли, — вмешался Рони. — За которую этот великодушный дворянин предложил заплатить сто пистолей! — вскричал Понти с поспешностью, как будто не хотел допустить своего начальника следовать неблагоприятной мысли. — Сто пистолей за дичь и ригу, — это очень неплохо, — сказал Крильон. — Не правда ли? — Молчи. Ну, пусть дадут сто пистолей истцу, и пусть он поблагодарит. — Истец хочет другого, — перебил Рони. — Чего же? — Он хочет выполнения статьи перемирия. — Какого перемирия? — Кажется, перемирие только одно, — колко сказал де ла Раме, который счел благоразумным до тех пор молчать и который, по условию с Эсперансом, хотел оставить жизнь Понти, но только так, чтобы его отблагодарили за это. — Это вы говорите со мною? — спросил Крильон, широко раскрыв свои большие черные глаза, которые метнули молнии в несчастного де ла Раме. — Да. — Если так, то надо было снять шляпу. — Извините. — Де ла Раме снял шляпу. — Вы говорили, — продолжал Крильон, — что этот молодой человек хочет не денег за свою дичь и ригу? — Он хочет, чтоб привели в исполнение статью о перемирии, — закричал Понти, — то есть, чтоб меня расстреляли. Крильон вздрогнул от этих слов, и очевидно было, что к содержанию этой статьи он уважения не испытывает. — Чтобы расстреляли?! За кур? — проговорил он. — За уток. Как изволите видеть, профос уже арестовал меня, — сказал Понти. — Кто это приказал? — спросил Крильон, осматриваясь по сторонам. — Я, — отвечал Рони, несколько смутясь. — Вы с ума сошли! — закричал Крильон. — Надо же было уважить подпись короля. — Вот вы, статские господа! — вскричал Крильон. — Вы воображаете себя воинами, потому что смотрите, как мы воюем. Отдать человека профосу за то, что он унес уток! — И сжег… — перебил было Рони. — Ригу, мы это знаем. — Крильон повернулся к де ла Раме. — И это ты требовал такого наказания моему гвардейцу? — Я, — отвечал де ла Раме, очень смутившись от того, что Крильон вдруг начал говорить ему «ты», но гордость заговорила еще громче инстинкта самосохранения. — И тебе предлагали сто пистолей выкупа? — Да, — отвечал де ла Раме еще тише. — Что ж, — сказал Крильон, подходя к нему, заложив руку за спину, с улыбкой такой же сердитой, как сердито вздернулись его усы, — я сделаю тебе другое предложение и бьюсь об заклад, что ты не станешь требовать ничего, когда выслушаешь его. Месье де Рони — философ, человек искусный в словах и в статьях. Он, как кажется, имел терпение выслушать тебя, и вы с ним сошлись, он ссудил тебе моего профоса, потому что это профос мой. А я совсем отдам его тебе. Посмотри на эту прекрасную липовую ветвь, через три минуты ты будешь на ней висеть, если через две не воротишься в свою берлогу. — Я дворянин! — вскричал испуганный Раме. — И вы забываете, что над вами есть король. — Король? — повторил Крильон, уже не владевший собою. — Король? Ты говоришь, кажется, о короле. Хорошо, я велю обрезать тебе язык. Здесь нет другого короля, кроме Крильона, король не командует гвардейцами. Я дал тебе две минуты, берегись, негодяй, минута уже прошла! Де ла Раме сделал было какой-то протестующий жест и собирался возмутиться, но все его попытки затерялись в страшном шуме, поднявшемся в ответ на слова Крильона. Гвардейцы не помнили себя от радости, они хлопали в ладоши и подбросили шляпы в воздух. — Веревку, профос, — продолжал Крильон. — И крепкую! Де ла Раме стоял с пеной бешенства у рта перед профосом, в руках которого по требованию капитана тут же появилась веревка. — Возьмите же деньги, — сказал Эсперанс несчастному владельцу замка, — они ваши. — Я беру с собой кое-что получше денег, — возразил Раме с зубами до того сжатыми, что едва можно было расслышать его слова, — я уношу воспоминание, которое будет долго жить. — А наш разговор в знаменитой безлюдной чаще? — Вы ничего не потеряете, если подождете, — сказал де ла Раме. Он ушел. Громкие свистки провожали его. Им овладел стыд, этого было уже слишком много в один час. С глухим, отчаянным криком мщения и ужаса он бросился бежать и вскоре исчез из вида. — Да здравствует наш Крильон! — ревели в упоении обе роты. — Да, — сказал Крильон, — но чтобы этого не повторялось, потому что этот мошенник был прав; вы все — негодяи, годные на виселицу. Толпа целовала обе руки Крильона. А он обернулся к Рони, который надулся и ворчал. — Не сердитесь. Вы видите, что ваша совестливость совершенно излишняя с подобными разбойниками. — Закон должен оставаться законом, — отвечал на это Рони, — и вы напрасно становитесь выше его. Умы, разгоряченные вашей сегодняшней слабостью, не сумеют сдерживать себя в другой раз, и вместо одного человека, которым надо было пожертвовать для примера, вы пожертвуете десятью. — Я ими пожертвую, когда это будет нужно, а сегодня это было бы бесполезной жестокостью. — Я действовал таким образом только для того, чтобы заставить уважать оружие короля, — холодно сказал Рони. — А я разве не заставляю его уважать? — возразил Крильон с живостью, свойственной человеку гораздо моложе его лет. — Я не так это понимаю, и ради бога, если вы желаете сделать мне какие-нибудь замечания, сделайте их сейчас, чтоб никто не был свидетелем разногласий, возникающих между офицерами королевской армии. — Но, любезный месье Рони, между нами нет разногласий, я вспыльчив и груб, а вы осторожны и медлительны. Этого достаточно, чтобы разделять нас иногда. Притом, все происходит семейно, перед нашими людьми, и я не вижу свидетелей, которые мешали бы нам дружески обняться. — Извините, один есть, — сказал Рони, указывая Крильону на Эсперанса. — Этот молодой человек? Это правда. Это он предложил заплатить сто пистолей за гвардейца Понти? — Он, посмотрите, как Понти пожимает ему руку. — Красивый мальчик, — прибавил Крильон. — Друг Понти, без сомнения? — Вовсе нет, посторонний, заступившийся за наших гвардейцев. — В самом деле? Я должен его поблагодарить. — Это тем более доставит ему удовольствие, что он искал вас в лагере гвардейцев. — Если так, то он нашел меня, — весело сказал Крильон, подходя к Понти и Эсперансу. Они еще стояли, взявшись за руки, друг против друга. Понти благодарил с жаром великодушного сердца, любящего преувеличивать оказанную услугу. Эсперанс отговаривался с простотой прекрасной души, которая боится слишком большой признательности. Приход Крильона прекратил этот дружеский спор. — Я еще не кончил с вами, — сказал Понти. — И это будет продолжаться вечно! — Хорошо! — воскликнул Крильон. — Хорошо, кадет! Я люблю людей, которые принимают на себя такой долг и платят его. Ступай! — И капитан ласково похлопал его по плечу ладонью, весившей фунтов сто. Понти согнулся под двойной ношей уважения и ласки, улыбнулся в последний раз Эсперансу и пошел к своим товарищам. — Благодарю вас за моих гвардейцев, — сказал Крильон Эсперансу. — Вы мне нравитесь. Не с просьбой ли какой желали вы видеть меня? — Нет. — Тем хуже. Что же имеете вы мне сказать? — Я привез вам письмо. — Давайте, — благосклонно сказал Крильон. — Тот, кто ко мне пишет, выбрал приятного посланника. От кого это письмо? — Кажется, это письмо моей матери. Услышав этот неопределенный и потому весьма странный ответ, Крильон остановил на молодом человеке удивленный взгляд. — Что значит «кажется»? — спросил он. — Разве вы не уверены в этом? — Нет, но прочтите, и вы будете знать столько же, как я, а может быть, и более. Эти слова, произнесенные с веселым простодушием, окончательно заинтересовали Крильона, и он взял письмо из рук Эсперанса. Оно было запечатано черной печатью с арабским девизом, конверт был из итальянского пергамента, и от него исходил легкий аромат, какое-то благородное благоухание ладана или кипариса. Эсперанс скромно отошел в сторону, когда Крильон принялся вскрывать конверт. Не желая проявлять излишнее любопытство, он все-таки не удержался взглянуть на Крильона, когда тот только приступил к первым строчкам, и был поражен выражением лица капитана. Вспышку удивления сменило глубокое внимание, которое постепенно переросло в оцепенение. Потом, по мере чтения письма, старый воин все больше опускал голову и наконец побледнел и, тяжело вздохнув, провел рукой по лбу. Выражение лица его сменилось так, словно черная туча нашла на золотистую долину Ломбардии. Вмиг все помрачнело на ясной и приветливой физиономии Крильона. С большим усилием, словно письмо было очень тяжелым, он поднял руку и снова принялся читать его. Взволнованно и смущенно несколько раз кряду он прочитал его, и беспокойство капитана только возросло. — Милостивый государь, — проговорил он, в нерешительности поднимая глаза на молодого человека, — это письмо удивляет меня… Признаюсь, оно меня поражает. Я напрасно старался бы скрывать это от вас. — Если оно для вас неприятно, не сердитесь на меня, — с живостью сказал Эсперанс. — Бог мне свидетель, что ничего дурного я не желаю. — Я вас не обвиняю, молодой человек, — ответил Крильон все с той же благосклонностью, — но мне нужно совершенно понять это дело, немножко темное для меня, которое заключается в этом письме, и я спрошу вас… — Это будет напрасно, потому что я также получил письмо и вовсе его не понял. Если вы хотите помочь мне разобрать мое письмо, я постараюсь помочь вам разобрать ваше. — Очень охотно, молодой человек, — сказал Крильон взволнованным голосом. — Поговорим откровенно, не правда ли? Искренне заверяю вас, что перед вами друг, и давайте отойдем в сторону, чтобы никто нас не слыхал. Говоря эти слова, Крильон взял молодого человека за руку и отвел его на свою квартиру, откуда отослал всех. «Я произвожу эффект, — подумал Эсперанс, — даже слишком большой эффект».Глава 5 ПОЧЕМУ ОН НАЗЫВАЛСЯ ЭСПЕРАНС
Крильон сам пошел посмотреть, не может ли кто слышать, воротился и сел возле Эсперанса. — Мы можем разговаривать свободно, — сказал он. — Прежде всего скажите мне ваше имя. — Эсперанс. — Это имя, данное вам при крещении, и то я еще не знаю, есть ли католический святой Эсперанс. Но ваша фамилия? — Меня зовут просто Эсперанс. Моя фамилия мне неизвестна. — Однако у вашей матери есть же фамилия? — Это вероятно, но я ее не знаю. — Как? — удивился Крильон. — При вас никогда не называли вашей матери? — Никогда, и по самой основательной причине. Я своей матери никогда не видел. — Кто же вас воспитывал? — Кормилица, которая умерла, когда мне было пять лет, потом один ученый, который дал мне понятие обо всем, что он сам знал, и нанял для меня всех прочих учителей. Он научил меня наукам, искусствам, языкам и нанимал берейторов, офицеров, фехтовальных учителей, чтобы научить меня всему, что должен и может знать мужчина. — И вы знаете все это? — спросил Крильон с простодушным удивлением. — Я знаю по-испански, по-немецки, по-английски, по-итальянски, по-латыни и по-гречески. Знаю ботанику, химию, астрономию, ну а уж ездить верхом, управляться с шпагой или копьем, стрелять из ружья, плавать, чертить я умею порядочно, как говорили мои учителя. — Вы очень милый молодой человек, — сказал Крильон, — но воротимся к вашей матери. Должно быть, это добрая мать, если она так заботилась о вашем воспитании. — Я в этом не сомневаюсь. — Вы холодно это говорите. — Конечно, — понуро отвечал Эсперанс, — я жил один, под надзором скупого эгоиста, который никогда не говорил мне о моей матери, а только о ее деньгах, и каждый раз, когда мое сердце открывалось надежде узнать что-нибудь о моей матери, которую я так любил бы, он спешил не то что закрыть, а оледенить это нежное сердце какой-нибудь угрозой или попросту грубо отвлекал меня от моих мыслей. Так я стал считать мою мать призрачной химерой, я чувствовал, как гаснет любовь, которую один деликатный намек поддержал бы во мне. — Уж не сделались ли вы злы? — спросил Крильон, и сердце его больно сжалось. — Я? — воскликнул молодой человек с очаровательной улыбкой. — О нет! У меня натура доброжелательная. Господь не вложил в нее ни одной капли желчи. Я заменил эту сыновнюю любовь любовью ко всему прекрасному и доброму в мироздании. Ребенком я любил птиц, собак, лошадей, потом цветы, потом моих товарищей, я никогда не был печален, когда светило солнце и когда я мог разговаривать с человеческим существом. Все, что я знал о развращенности света и о несовершенствах человечества, мне рассказал мой гувернер, и я должен вам сказать, что именно к этому учению ум мойбыл всего непослушнее. Я не хотел этому верить и теперь еще верю не совсем. Злой человек удивляет меня, я верчусь около него, как около редкого зверя, и, когда он скалит зубы или выпускает когти, я думаю, что он играет, и смеюсь. Когда он царапает или кусает, я его браню, и если подозреваю его в ядовитости и убиваю его, то это единственно для того, чтобы он не делал вреда. О нет! Кавалер, я не зол. Все это и в самом деле так, иногда мне говорили, что я должен отомстить за оскорбление, которого я не понял, и даже называли меня трусом. — Вы не робки ли? — спросил Крильон. — Я не знаю. — Однако, чтоб терпеливо перенести обиду, надо иметь недостаток в мужестве. — Вы думаете? Может быть. А я думал, что каждый раз, когда чувствуешь себя сильнее, надо удерживаться, чтобы не поражать. — Но, — вполголоса проговорил Крильон, — против силы слабые имеют ловкость и могут победить сильных. — Да, но если чувствуешь себя также ловчее, не находишься ли в положении людей, которые выигрывают наверняка? А выигрывать наверняка не значит честность, как я думаю. Это потому, что я во всю мою жизнь считал себя сильнее и ловчее, я не доводил ссор до конца. Ах! Если мне случится когда-нибудь сражаться со злым, который сильнее и ловчее меня, я сильно буду нападать на него, за это я могу поручиться. — Это хорошо, я скажу даже, это слишком хорошо, потому что с подобным характером с вами будет случаться то, что случалось со мной: рана в каждой битве. Я теперь примирился с вашим характером и почти готов сердиться на вашу мать за то, что она отдалила вас от себя с таким ожесточением, ведь это длится уже столько лет! Который вам год? — Говорят, скоро минет двадцать лет. — Как? Вы даже не знаете точно ваших лет? — Почему же? Я считаю с того дня, до которого могу что-нибудь вспомнить о моей жизни, то есть со смерти моей кормилицы. Это случилось, говорят, когда мне было пять лет. С того времени прошло пятнадцать лет. — Настанет день, когда ваша мать обнаружит себя, будьте в этом уверены. — Я не имею уже этой надежды. Полгода тому назад, в одно утро, когда я приготовлялся идти на охоту, — надо вам сказать, что я живу в небольшом имении в Нормандии и что охота занимает много места в моей жизни, — я прощался с моим гувернером, когда в мою комнату вошел старик в черной одежде, с прекрасным лицом, осененным седыми волосами. Этот человек внимательно посмотрел на меня и поклонился мне с таким почтением, что это удивило меня. Услышав, что я зову Спалетту, моего гувернера, он остановил меня и сказал: — Не ищите Спалетту, его здесь уже нет. — Где же он? — Не знаю, но я предупредил его о моем приезде курьером, которого послал вперед, а когда сейчас я вошел в дом, ваш лакей отвечал мне, что Спалетта сел на лошадь и уехал. — Как это странно! — вскричал я. — Разве вы знаете Спалетту? — Немножко, — сказал старик, — и я рассчитывал, что он представит меня вам. Его отсутствие удивляет меня. — Оно меня тревожит, потому что обыкновенно он отлучается очень редко. Но скажите же мне причину вашего приезда. Как только я произнес эти слова, лоб старика омрачился, словно я напомнил ему о какой-то горькой мысли, которая случайно вылетела у него из головы, когда он увидел меня. — Это правда, — тихо сказал он, — причина моего приезда к вам… Голос его дрожал, и, казалось, он старался удержать слезы. Он подал мне письмо в пергаментном конверте, как то, которое я имел честь вручить вам сейчас. Оно было запечатано черной печатью, похожей на ту, которую вы сломали. Вот это письмо, потрудитесь его прочесть. Крильон, волнение которого удвоилось от этого рассказа, начал вполголоса читать следующее письмо, тонкие дрожащие буквы которого печально обозначались на пергаменте.«Эсперанс, я ваша мать. Это я из глубины моего убежища, где воспоминание о вас помогает мне переносить жизнь, бодрствовала над вами и заботливо направляла ваше воспитание. Я обращаюсь теперь к вашей признательности, потому что не могу обратиться к вашей нежности. Я так страдала, оттого что не могла назвать вас своим сыном и не могла вас обнять, что мои годы исчахли в этой горячей жажде, как в лихорадке. Подобное счастье мне было запрещено. Честь знатного имени зависела от моего молчания. Каждый из моих вздохов подстерегали, малейший шаг мой, сделанный к вам, стоил бы вам жизни. Ныне, находясь под рукою смерти, навсегда освобожденная от опасений, которые отравили всю мою жизнь, уверенная в прощении Бога и в верности служителя, которого я к вам посылаю, я смею назвать вас своим сыном и послать к вам в этом письме поцелуй, который сорвется с моих губ вместе с моей душой. Мне говорят, что вы высоки, хороши собой, добры, сильны, ловки. Все будут вас любить. Ваши качества, ваше воспитание приведут вас так высоко, как могло бы это сделать ваше рождение. Я старалась, чтоб вы были богаты, Эсперанс, но хотя после вашего рождения я продала мои вещи и бриллианты, чтобы скопить для вас капитал, смерть настигла меня прежде, чем я успела обеспечить вам состояние, соответственное моей любви и вашим достоинствам. Однако вы не будете иметь нужды в ком бы то ни было, и, если вы захотите жениться, ни один отец семейства, будь он принц, не откажет вам в руке своей дочери из-за вашего состояния. Я должна оставить вас, Эсперанс, сын мой. Теплота жизни оставляет мои пальцы, одно мое сердце еще живо. Прошу вас прежде всего не проклинать меня и принимать иногда мой призрак, печальный и кроткий, который станет навещать вас в ваших сновидениях. Я была душою гордой и нежной в теле, которое вы можете себе представлять благородным и прекрасным. Заклинаю вас потом, если ваша наклонность заставит вас вступить в военную службу, никогда не служить делу, которое принудило бы вас сражаться против кавалера де Крильона. Мой слуга отдаст вам письмо к этому знаменитому человеку. Вы сами отдадите это письмо де Крильону. Прощайте, я назвала вас Эсперансом, потому что в вас была вся моя надежда на земле. И теперь вы для меня называетесь Эсперансом. Я жду вас на небе в вечность!»
Подписи не было под этим письмом, а только широкое и длинное пустое пространство: либо смерть, спеша похитить свою добычу, наложила на нее вечную тайну, не допустив начертать имя, либо умирающая сама остановилась и, покоряясь таинственному закону, который управлял всей ее жизнью, захотела взять с собой в могилу свою тайну… — Что ж, — спросил Крильон после продолжительного молчания, — вы не знаете, кто была эта особа? — Не знаю. — Все-таки это трогательное письмо, — прибавил Крильон в самом сильном волнении, — это письмо матери. — Вы находите? — Продолжайте ваш рассказ, молодой человек, и скажите, что сделалось с вашим гувернером. — Вы сами угадаете. Когда я кончил письмо моей матери, старик, видя, что я тронут, что глаза мои влажны, поцеловал у меня руку. — Могу я узнать, — спросил я, — поручили ли вам сказать мне имя, которое не написано в этом письме? — Напротив, мне запретили, — отвечал старик. — А я надеялся, — сказал я с горечью, — что если не моей скромности, то по крайней мере моей гордости окажут доверие и поведают тайну, которую мне было бы так приятно сохранить. — Не зная ничего, вы никогда не будете подвергаться опасности изменить себе и, следовательно, погубить себя. Для себя ваша мать молчала при жизни, для вас будет она молчать после смерти. Я не настаивал. Добрый старик отдал мне письмо, адресованное вам. Я спросил его, почему мне предписано никогда не сражаться против кавалера де Крильона. — Потому что, — отвечал мне слуга моей матери, — кавалер Крильон служит всегда благородным и справедливым делам, и еще оттого, что он был друг одной особы в вашей фамилии. На это мне нечего было сказать. В самом деле, храбрый Крильон — благороднейший человек на свете, и, если бы даже моя мать не предписывала, мне никогда не пришло бы в голову сражаться против него. Крильон покраснел и потупил глаза. — Потом, — продолжал Эсперанс, — старик попросил меня пойти в комнату моего гувернера Спалетты, чтоб узнать, не оставил ли он какого-нибудь уведомления о своем отъезде. Ничего не было. Пока мы осматривали дом, слуга моей матери обнаружил удивление, которое выразилось гневом, когда я показал ему мебель и посуду, которые были чрезвычайно просты и которые я до тех пор считал роскошными. Когда мы вошли в конюшню, старик увидал, что моя лошадь совсем простая. — Так вот какой образ жизни заставлял он вас вести! — вскричал он. — Как! Одна лошадь! И такие ничтожные издержки! Сколько у вас было прислуги? Вы, стало быть, копили деньги? — У меня есть ключница, кухарка и лакей. И то Спалетта находил издержки слишком большими и был прав. Содержания, назначенного мне моей матерью, едва доставало, после того как я пожелал завести свору в семь собак. Старик в бешенстве топнул ногой. — Теперь я понимаю, — сказал он, — почему Спалетта убежал по моем приезде. — Содержания, назначенного вашей матерью, было едва достаточно, говорите вы… Знаете ли вы, как велико было это содержание? — Кажется, тысяча экю ежегодно, — отвечал я. — Я посылал тысячу экю каждый месяц, — сказал старик, покраснев от негодования, — и вы должны были иметь шесть лакеев, столько же лошадей и парк, где лошади и собаки утомлялись бы каждый день. Спалетта крал у вас десять тысяч экю каждый год. В десять лет он должен был разбогатеть. — Я не сделался от этого беднее, — отвечал я. — Притом, за неимением лошадей, я был принужден ходить пешком по горам и долинам, за неимением лакеев, я служил себе сам, вы видите, как я сделался высок и силен. Посредственность, которая вам не нравится, оказала мне большие услуги. И Спалетту, которого вы проклинаете, мы должны, напротив, благословлять за то, что он крал мои деньги. При роскоши, которой вы хотели меня окружить, я сделался бы толст и тяжел. — Может быть, — сказал старик. — Но ваша бедная матушка была бы очень огорчена, узнав, что вы желали или сожалели о чем-нибудь. Подобное несчастье уже не возобновится. Я принес вам за первый месяц деньги, назначенные вам. Он отсчитал мне две тысячи экю золотом. — Двадцать четыре тысячи экю в год! — закричал Крильон. — Да, именно. — Вы очень богаты, молодой человек. — Слишком. Это состояние огромное в такое время, когда ни у кого больше нет денег. — Должно быть, сумма, назначенная мне, очень значительна, — сказал я слуге моей матери, — что, если я проживу пятьдесят лет? — И ваши дети будут получать ее, — отвечал старик с улыбкой. — Не бойтесь, вы не истощите шкатулку. — Друг мой, — прошептал я, — если моя мать скопила все это из сумм, вырученных за ее драгоценные каменья, стало быть, у нее было их много? — Много, — отвечал он, — очень много. — Не правда ли, что все это очень странно? — спросил Эсперанс Крильона. — Да, молодой человек, — сказал со вздохом кавалер. — Старик провел у меня целый день, выказал мне почтение и был ласков со мной, что заставило меня нежно полюбить его, потом, взяв с меня обещание, что я не буду следовать за ним и никого не стану спрашивать о нем, он уехал. Я не видал его с тех пор. Каждый месяц я получаю две тысячи экю. — Но этот Спалетта знает что-нибудь? — спросил Крильон. — Нет, потому что старик, когда я спросил его о том, что я скажу Спалетте, отвечал мне, что Спалетта был нанят им в гувернеры ко мне и никогда с ним не переписывался. Теперь мне остается спросить вас, кавалер, разъяснил ли мой рассказ то, что казалось вам темным в моих словах, и лучше ли вы понимаете теперь письмо моей матери? Крильон ничего не отвечал, он опять перечитывал письмо, а потом сказал Эсперансу: — Кажется, понимаю. — Если в этом письме есть что-нибудь интересное для меня, будет ли нескромностью с моей стороны спросить вас? — Я еще не знаю. — Я молчу, извините меня. Крильон размышлял с минуту. — Извините, — сказал он, — вы мне сказали, что вы получили это целых шесть месяцев тому назад? — Это правда. — И следовательно, вы оставляли у себя шесть месяцев письмо, адресованное мне. Вы не поторопились. Эсперанс покраснел. — Разве я дурно сделал? — спросил он. — Я не считал себя обязанным торопиться. Чего требовала от меня воля моей матери? Не воевать против кавалера де Крильона, я этого не сделал. Доставить письмо кавалеру де Крильону, я это сделал. Конечно, я мог бы поторопиться, но вы воевали далеко от меня. Надо было предпринять далекое путешествие, которое, я признаюсь, очень стеснило бы меня в то время. — Вы, без сомнения, были заняты какой-нибудь любовной интригой? — Да, — отвечал Эсперанс, улыбаясь самым очаровательным образом. — Умоляю вас простить меня. Молодые люди — эгоисты, они не хотят потерять ни одного из цветов, которые молодость рассыпает для них. — Я вас не осуждаю, но эта любовь, стало быть, кончилась, эти цветы завяли, если я вижу вас сегодня? — Нет, слава богу, моя возлюбленная очаровательна. — Однако вы оставили ее для меня. — Ну нет, — весело сказал Эсперанс, — я не могу похвалиться даже этим добрым поступком. Вы меня извините за мою откровенность. Я приехал к вам только для того, чтоб следовать за моей возлюбленной. — В самом деле? — Она жила в моем соседстве около полугода. Отец призвал ее в дом, который он имеет в окрестностях Сен-Дени и, признаться ли, хотя это невежливо?.. Проезжая по дороге, которая ведет в Сен-Дени, и узнав, что вы стоите лагерем с этой стороны, я просил позволения видеть вас и, как говорится, один камень употребил на два удара. Еще раз, кавалер, умоляю вас быть снисходительным. Эта откровенность не что иное, как грубость, но я предпочитаю быть невежливым с Крильоном, нежели ему лгать. Теперь, отдав вам письмо, я откланяюсь вам с величайшим уважением и отправлюсь своей дорогой. — Как, вы торопитесь?! — Я получил в дороге записочку от этой особы. Мне назначают свидание в известный день, в известный час и в известном месте. На этом свидании я не быть не могу, под опасением величайших несчастий. — В самом деле… Это не замужняя ли женщина? — Нет, девица, но она также мало свободна. Мне нужно принять большие предосторожности, и я не могу терять времени. — Но… — печально сказал Крильон. — Я вас прогневал? — Нет, но вы меня тревожите, а я не хочу тревожиться на ваш счет. Эсперанс с удивлением посмотрел на Крильона. — Это оттого, что вы мне рекомендованы, — поспешил сказать кавалер. — Когда назначено вам свидание? — Завтра. — Где? Я спрашиваю не затем, чтоб узнать имя вашей любовницы, а только чтоб судить о расстоянии. — Возле деревни Ормессон. — Знаю, я там дрался и был ранен. — В самом деле? Неприятное знакомство. — Да, Бальзаки д’Антраги имеют даже дом в окрестностях, маленький замок, окруженный рвами. Эсперанс вспыхнул. Но так как кавалер не смотрел на него, он мог скрыть эту краску, возбужденную именем Антрагов, невинно произнесенным Крильоном. — Туда можно доехать за восемь часов, — продолжал кавалер, не приметивший ничего, — впереди у вас еще довольно времени, останьтесь здесь на несколько минут. Я, кажется, должен с вами поговорить. — Как вам угодно, — отвечал Эсперанс, почтительно поклонившись, — но что же буду я делать в ожидании ваших приказаний? — Пойдите к вашему протеже Понти, который бродит вон там и томится ожиданием, как страдающая душа. Ступайте, а я здесь соберу мои воспоминания. Эсперанс удалился. Капитан Крильон проводил его дружеским взглядом и, когда тот скрылся из виду, подпер руками склоненную голову и задумался.
Глава 6 ПРИКЛЮЧЕНИЕ КРИЛЬОНА
Перед его мысленным взором один за одним проходили поступки его жизни, столь продолжительной и столь наполненной событиями. Сначала подвиги молодого человека в царствование короля Генриха II, великие религиозные войны и резня междоусобных войн в царствования Франциска II и Карла Девятого, утро Амброзское, Варфоломеевская ночь. Все это прошло, облитое кровью, сквозь три царствования. Но память Крильона остановилась на одном дне, великолепном дне, когда солнце освещает неизмеримое море, сотни, тысячи парусов качаются на синих волнах Левантского залива. Вся Европа имеет тут своих представителей. Султан Селим II выдвигает против христиан свой страшный флот. Крильон видит себя с шпагой в руке на плохом судне, над которым никто не осмелился взять команду. Это ничтожное судно открывает путь большим галерам дон Жуана Австрийского. Крильон в этот день всех поразил настолько, что обрел бессмертную славу. В этот день вся Европа узнала блеск его шпаги. Это Крильон отвез в Рим папе Пию V известие о победе. Рим! Как он хорош! Старый папа сжал Крильона в объятиях и благодарил его за храбрость от имени всего христианского мира. Потом настали другие битвы, другие торжества. Страшный поединок с Бюсси, осада ла Рошели после резни 1572, потом путешествие в Польшу, предпринятое для того, чтобы проводить Генриха Анжуйского, который, с нетерпением желая завладеть короной, простился с короной французской, которую его брат Карл IX так скоро должен был ему уступить. Карл IX, третий государь Крильона, сошел в могилу. Генрих, король польский, бросил свою холодную корону и отправился надеть французскую. Крильон помог ему бежать, они оба приехали в Венецию. Тут надолго остановилась мысль благородного воина. Голова его отяжелела, словно оттого, что в памяти оживали одна за другой лучезарные надежды, пьянящие идеи, весенние воспоминания жизни, слова наслаждения, любовь, игравшая между оружием. Это было в 1574. Крильону минуло тридцать три года, он был победоносен, горд, красив. Имя его раздавалось, как воинская труба в ушах солдата, и заставляло женщин вздрагивать, как от ласки. По приезде короля французского Венеция, тогда богатая и могущественная, встала, чтобы принять почетного своего союзника, занимавшего первый престол в свете. Колокола церкви Св. Марка, пушки с галер и приветствия сената встречали Генриха Третьего. Но толпа рукоплескала Крильону, победителю при Лепанто, а когда он проходил по пьяцетте, чтоб войти во дворец, венецианцы восхищались им, а венецианки улыбались ему. Назначили турниры. Венеция, восхищающаяся своим мраморным воином, Св. Теодором, Венеция, знающая только бронзовых лошадей, неистово захлопала в ладоши при подвигах французского рыцаря. Сила, ловкость, горделивое повиновение его коня, стремление обоих к победе, столкновение копий, десять противников, сброшенных в густой песок, покрывающий площадь, все упоение битвы бросилось в головы, уже разгоряченные июльским солнцем, с балконов дворца, из рядов толпы слышатся крики и рукоплескания. Никогда столь величественное зрелище не поражало Венецию, уже обильную славой всех видов. Крильона обожали в этом городе. Как исчислить на этих холодных страницах, сколько он получил цветов — а цветы редки в Венеции, — сколько великолепных подарков?! Прошло двадцать лет после этого торжества, и под лаврами ста более поздних побед герой чувствовал еще с наслаждением запах цветов, расцветших под свежим поцелуем Адриатики. В один вечер он возвращался с ужина в Арсенале после великолепных регат, данных дожем Генриху Третьему. Регата — национальный праздник в Венеции. Эта регата своим великолепием загладила все другие. Итак, в один вечер, после ужина, Крильон возвращался в одиночестве в свой палаццо, видев, как построили, оснастили и спустили на воду в два часа маленькую галеру, пока он ужинал с королем. Растянувшись на подушках, убаюкиваемый мягким движением гондолы, Крильон любовался при свете фонаря, прикрепленного к корме, отливами своего богатого белого атласного полукафтана, вышитого золотом, и совершенством своих мускулистых ног в шелковой обуви с перламутровыми отблесками. Он был красив, чудно красив, этот дворянин, прославившийся подвигами, которые прежде сделали бы из простого рыцаря короля. Он имел молодость, здоровье, богатство, славу, ему недоставало только любви. В ту минуту, когда он проезжал под Риальто, выстроенным тогда из дерева, его гондола столкнулась с другой — большой величины, откуда вдруг раздались звуки нежной музыки. Крильон облокотился на окно своей гондолы и стал прислушиваться. Ничто не могло быть тоньше этих тихих звуков. Музыканты как будто пели только для невидимых духов ночи. Флейты, скрипки вздыхали так тихо, что около гондол слышался плеск воды от весел. Повсюду на пути этой гондолы открывались окна, и в лазурной темноте виднелись белые фигуры, с любопытством перегибавшиеся через перила балконов. Крильон не знал упоений этой волшебницы, которая называлась Венецией, он не знал, что она пользуется ночью, чтобы разливать на иностранцев непреодолимое обольщение всех своих очарований, и что все средства хороши для этой очаровательницы, чтобы прельстить того, кого она любит. Она говорит в одно и то же время чувствам, уму и сердцу. Повинуясь, как во сне, побежденный слухом и глазами, Крильон не примечал, что он проехал палаццо Фоскари, где он жил вместе с королем, и что его гондола все следовала по Большому каналу за таинственной гармонией, звуки которой трепетали любовью. Уже проехали морскую таможню, и уже виднелись серебристые воды верхней лагуны. Музыка не замолкала. Крильон все слушал. Тогда маленькая гондола молча проехала поперек дороги той гондолы, на которой ехал Крильон. Один гондольер, одетый как слуга и в маске, управлял ею без усилий. Этот человек несколько времени ехал рядом с гондолой Крильона, как бы для того, чтобы дать своему господину возможность узнать Крильона. Потом по знаку, вероятно, сделанному ему, он сказал несколько слов гондольерам Крильона, и те тотчас остановились. Крильон ничего этого не видал. Он хотел спросить гондольеров, зачем они остановились, когда новая тяжесть заставила гондолу наклониться налево, и тень стала между кавалером и розовым фонарем. Прежде чем Крильон увидал или понял что-нибудь, женщина вошла под балдахин и села с правой стороны на подушки, не произнося ни слова. Гондола тотчас отправилась в путь, и Крильон видел, что возле них едет безмолвный гондольер незнакомки. Перед двумя гондолами все ехала гондола с музыкантами. Крильон приблизился с чисто французской любезностью, готовясь сказать комплимент красоте, грации, вежливости незнакомки. Но она была замаскирована и закутана в шелковую мантилью, всю обшитую толстыми кружевами. Ни один луч взгляда, даже дыхание не говорило Крильону, что он не находится в обществе призрака. Когда он раскрыл рот, чтоб спросить, незнакомка медленно подняла руку в перчатке и поднесла указательный палец к губам, чтобы Крильон молчал. Он повиновался. Тогда она опустила руку и опять сделалась неподвижна. Но на набережной Джудекки при свете большого фонаря, бросившего свой беглый луч в гондолу, Крильон увидал сквозь отверстия маски две огненные блестки. Незнакомка смотрела на него. Она смотрела на него всей душой. Она смотрела на него пристально, как те любопытные звезды, которые, спрятавшись под черными тучами, беспрерывно смотрят с небес. Между тем гондолы медленно шли рядом с рассчитанной скоростью, симфония музыкантов, нежная и ласкающая слух, перебегала по воде с одного берега на другой. Никогда более ясная ночь не парила над Венецией! Волны поднимались без гнева и сладострастно волновали гибкую и пахучую траву, покрывавшую дно лагуны. Все эти мириады алмазов, которыми усыпан небесный свод, были видны, точно сквозь прозрачный газ, через бледные облака. В подобную ночь сердце самого строгого затворника растаяло бы от любви. Крильон осмелился посмотреть на незнакомку, и она не потупила глаз, он протянул руку, чтобы взять ту руку, которая за минуту перед тем велела ему молчать. Но эта рука вырвалась холодным и гордым движением. Потом, когда он передал свое удивление вежливым восклицанием, незнакомка принялась смотреть на небо и на воду не столько для того, чтобы любоваться ими, сколько для того, чтобы скрыть от кавалера свое смятение и волнение груди, поднимавшейся под шелком и кружевами. Крильон воспользовался этим прекрасным случаем, чтобы рассмотреть свою спутницу. Она была высокого роста и держала голову с достоинством, свойственным венецианкам, которые, кажется, рождены для того, чтобы везде называться королевами. Эта была бы королевой даже в самой Венеции. Под сеткой, вышитой золотом, бахрома которой падала ей на плечи, кавалер видел огромные косы ее волос, ровная благородная линия обрисовывала ее спину и корсаж, между тем как атласные складки ее платья длинными изгибами ложились на ее стан, достойный древней Клеопатры. Но молода ли, хороша ли была эта женщина? Отчего ей пришла эта странная мысль — сесть, не говоря ни слова, в гондолу? Зачем такая сдержанность вместе с такой уступчивостью? В это время гондола сделала большой объезд по лагунам и въехала опять в Большой Канал. В этот продолжительный переезд венецианка не переставала смотреть на Крильона, который, после нескольких усилий заставить ее говорить, убедился, что она решительно нема. Он во второй раз взял ее руку, которую теперь она позволила ему взять. Мало того, она сама своими маленькими пальчиками, обтянутыми перчаткой, подняла сильную руку кавалера, внимательно ее рассмотрела и, приблизив к светлому лучу, падавшему от фонаря, с любопытством дотронулась до кольца, которое он носил на правой руке. Это кольцо, по-видимому, возбудило в ней мысли менее спокойные. Можно было видеть по деятельному движению ее пальцев, по тому, как тревожно они пробежали по его руке, что этот золотой круг стеснял ее и волновал. Повертев его во все стороны, она тихо выпустила руку Крильона, потупила голову и не старалась скрыть глубокого уныния, которое пришло на смену волнению. Напрасно старался кавалер добиться от нее хоть слова. Пробило час на церковной колокольне. Незнакомка три раза постучала веером по окну гондолы, и тотчас одним ударом весла гондольер, привезший незнакомку, перерезал путь гондольерам Крильона и подъехал с правой стороны, подавая руку своей госпоже. Она встала, поклонилась кавалеру и, легкая, как сильф, поставила очаровательную ножку на край своей гондолы и исчезла, прежде чем Крильон, старавшийся удержать ее, ощупал в своих руках холодное весло гондольера. Между тем гондольеры Крильона стояли неподвижно и ждали приказаний, и он тут же приказал им следовать за соседней гондолой, но вдруг поперек канала стала длинная гондола музыкантов и остановила их на минуту, в продолжение которой гондола, незнакомка, интрига — все исчезло, как сон. Досада Крильона была сильна. Когда он стал расспрашивать своих гондольеров, те с самым естественным видом отвечали, что они поехали за гондолой с музыкантами потому, что это обыкновенно делается в Венеции и что французский синьор не дал им никаких противных этому приказаний. А что касается таинственной гондолы, они объявили, что не знают ее. Замаскированный гондольер велел им остановиться, и они остановились, потому что это в обычае. Во всем этом деле в глазах этих добрых людей ничего не было такого, что выходило бы из обыкновенного порядка вещей. Они прибавили, что в Венеции это всегда так происходит, с той только разницей, что обыкновенно мужчина входит в гондолу дамы. Крильон должен был довольствоваться этими объяснениями. Все, что он предпринимал для того, чтобы пробудить воображение своих гондольеров и заставить их угадать имя и звание незнакомки, было совершенно бесполезно. — Она была замаскирована, — отвечали они. Кавалер воротился в палаццо Фоскари, где Генрих Третий уже спал, и, ложась в свою очередь на великолепную постель, приготовленную для него венецианским гостеприимством, Крильон, чтобы отвязаться от преследовавшей его мечты, старался убедить себя, что его приключение было естественно и что в Венеции это бывает каждый день. Притом, чтобы окончательно утешиться, он уверял себя, что это приключение мало говорит в пользу его достоинств, что дама, так пристально на него смотревшая, не нашла его по своему вкусу, и заснул, поставив себе эту дилемму: «Или это самое простое приключение, и в таком случае я напрасно думаю о нем, или это неудача, и тогда надо ее забыть». Он заснул при замирающих звуках музыки, которая была вежливее незнакомки и проводила его до палаццо Фоскари. Однако и на утро таинственная незнакомка все не шла у него из головы, и, припоминая подробности встречи, он остановился на том впечатлении, которое произвело на незнакомку его кольцо. Проснувшись, он получил великолепный букет роз и лилий, на которых блестела утренняя роса. В середине этих душистых цветов красовался троицын цвет с бархатными лепестками с золотистой каемкой. Когда он любовался еще первым букетом и вдыхал нежный запах цветов, ему принесли второй, совершенно такой же, потом, в следующий час, еще один, и таким образом по букету каждый час. Это так ясно означало: «Я думаю о вас каждый час», что Крильон, не будучи очень искусным истолкователем языка цветов, не мог не понять душистой фразы, которую ему повторяли каждый час. Он остался дома, чтоб принимать эти знаки. Но как он ни старался, он никак не мог увидать посланных. Двери, окна, своды, камины, балконы, лестницы — все годилось для находчивой волшебницы, чтобы доставлять свои подарки. Наконец, взбешенный неловкостью своих людей, Крильон сам стал караулить, когда вечером получил последний букет. Его принес ребенок, объявивший, что он получил его от гондольера. К букету была привязана голубой шелковинкой записка, которую Крильон распечатал и прочел с пылающим сердцем.«Синьор, — было написано тонким почерком, — если кольцо на вашей руке значит, что вы женаты или связаны клятвой с какой-нибудь женщиной, сожгите эту записку. Но если вы свободны, поезжайте в вашей гондоле к Арсеналу в десять часов. Если вы свободны, слышите ли вы, Крильон?»
Кавалер вскрикнул от радости, он понял наконец, что его приключение было не такое обыкновенное, как говорили его гондольеры. Свободен ли он? Никогда сердце его не было так свободно, как в этот вечер. Когда десять часов пробило на бронзовых часах во дворце, Крильон ждал в своей гондоле, под яворами, которые обрамляли тогда набережную Арсенала, и гигантские тени которых расстилались по воде и скрывали его от всех взоров. Он ждал минут пять, когда легкий шум весел дал ему знать о приближении гондолы. Скоро он узнал вчерашнюю черную гондолу и силуэт замаскированного гондольера, склонившегося над веслом. Боком гондола подъехала к его гондоле, и Крильон, быстро перейдя в нее, удивился, увидав, что в ней никого нет. Он успел приказать своим гондольерам ждать его, но гондольер в маске, правивший пустой гондолой, дал им знак возвращаться, и они тут же повернули назад. Таинственная же гондола, в которой остался Крильон, устремилась к лагуне. Ночь была темная, ветер дул с моря и поднимал высокие валы, на которых покачивалась гондола. Скоро они въехали в воды более спокойные, по берегам которых цвели прекрасные растения. Носом гондола рассекала заросли тростника и группы блестящих кувшинок, иногда за стенки ее зацеплялись и тянулись вслед за нею длинные вьюны, свисавшие с живых изгородей по обеим сторонам узкого канала, изгородей таких густых, что они непрестанно опрокидывали ветви свои в гондолу и скользили по ногам кавалера. «Куда везет меня этот человек? — думал Крильон. — Мне кажется, что мы уже далеко от Венеции». Ему не приходило в голову, что ему могли расставить засаду. Он даже не расспрашивал гондольера, который все с той же быстротой направлял гондолу между очаровательными извилинами этих безлюдных берегов. Проехав под кирпичным мостом, аркой возвышавшимся над водой, и, проследовав еще под одним мостом, гондольер с легкостью и быстротой правил вдоль берега, над которым свисали ветви ив, и, пройдя высокой травой, остановился. Тут он выскочил на берег и молча предложил руку Крильону, чтобы помочь выйти из гондолы. Кавалер вышел и с любопытством осмотрелся вокруг. Над ним возвышался портик, по которому вились лозы и лианы. Гранатовое дерево с густыми листьями возвышалось над узкой дверью, едва приметной, так как цветы и ветви закрывали петли и крюки. Гондольер молча указал рукой на эту дверь, и та открылась, словно по волшебству Крильон вошел. Гондола тотчас отчалила от берега, а за кавалером дверь затворилась, и сердце его забилось сильней. Он очутился в небольшом темном саду, где тут и там свисали над головой густые ветви растений, ни малейший свет не указывал ему путь, и он ощупью пробирался вперед. Наконец слабый свет пролился на цветы и деревья, и листва заблистала, словно изумруды. Впереди отворилась дверь, и Крильон увидал вход в дом. В четыре шага он очутился в мраморной передней, на потолке которой горела лампа с серебряными цепями. Портьера закрывала вход из этой передней в соседние комнаты. Странное дело! Только что Крильон вошел сюда, как дверь тотчас затворилась. Кавалер приподнял толстую портьеру и вошел в комнату, где на эбеновом столе, богато украшенном инкрустацией из слоновой кости, стояла закуска на позолоченных блюдах и в серебряных чашах великолепного чекана. Все плоды богатой Ломбардии, вина Архипелага, холодное мясо, редкие рыбы Адриатики обещали Крильону пир, который насытил бы двадцать королей. Со свода, представлявшего собой крону дуба, спускалась одна из тех венецианских люстр с голубыми, желтыми, розовыми и белыми стеклами, изящный изгиб и фантастические спирали которых еще и ныне составляют восторг нашего горделивого и нетерпеливого века. В чашечках двадцать свечей — голубых, желтых, розовых и белых, по цвету стекол, распространяли запах алоэ, наполнявший благоуханием комнату. Этот маленький, очаровательный палаццо с кедровыми колоннами был меблирован теми чудными креслами из резного ясеня, на дереве которых каждый художник оставил десять лет своей жизни и своего гения. Ручки из гидр, обвитых плющом, ножки из растений, перемешанных с раковинами и дикими плодами, фронтоны, испещренные гномами, саламандрами с эмалевыми глазами, спинки из барельефов — все это составляло в совокупности средоточение характера и богатства эпохи цивилизации и искусств: характера — ибо все это являет собой свободное всемогущество фантазии художника, и богатства — ибо подобное произведение, даже если за него было заплачено хлебом насущным, стоит золота. Обои же и картины Беллини, Джорджиона и старика Пальмы исчезали в мягкой тени, как будто хозяин этого палаццо мало ценил эти сокровища и хотел привлечь внимание к другим, более драгоценным. Крильон любовался, осматриваясь кругом, и удивлялся своему одиночеству. Он сел в кресло, положил шпагу на колени и ждал, чтобы явилась хоть одна живая душа и приняла бы его. Напротив, в стене, отворилась дверь, и вошла женщина, в которой он узнал вчерашнюю гостью. Та же походка, тот же стан, те же волосы, та же маска и та же пристальность взгляда, которая в гондоле так удивила и стеснила Крильона. Она остановилась на пороге, не говоря ни слова и не кланяясь. К груди ее на белом шелковом платье был приколот троицын цвет. Смотря на тяжелые браслеты, можно было сказать, что все ее тело как будто сгибалось под тяжестью этой массы золота. Однако волнение незнакомки было единственной причиной, заставлявшей ее склонить голову, и скоро, зашатавшись, как будто с ней сделалось головокружение, она была принуждена, чтоб удержаться, уцепиться своими бледными пальцами за скульптурную раму, находившуюся у нее под рукой. Крильон подбежал к женщине и стал на колени. Она же, не оставляя своей меланхолической и мечтательной позы, сказала звучным голосом: — Я знаю, что вы говорите по-испански, ну, мы и будем говорить по-испански. Встаньте и выслушайте меня. Крильон повиновался и стал перед ней, чтобы упиваться ее словами и ее дыханием. — Итак, — продолжала незнакомка, — вы свободны, если вы приехали. Крильон поклонился. — Это кольцо — моя печать, — отвечал он, — я получил его от матери. — Стало быть, я хорошо сделала, что не взяла его у вас вчера и не бросила в канал, как мне хотелось. — Это очень огорчило бы меня. — Так что, если бы я попросила его у вас… — Я был бы принужден вам отказать. — Оно точно от вашей матери? — Крильон никогда не произносит лжи и никогда не повторяет истины. — Это правда. Крильон всегда остается Крильоном. Она замолчала и пошла к дивану, где села и сделала кавалеру знак сесть напротив нее. — Так как вы никогда не лжете, — продолжала она наконец, — скажите мне, любите ли вы меня? — Почти, я сказал бы утвердительно, если бы видел ваше лицо. — О! Мое лицо… Разве лицо необходимо, для того чтобы возбудить любовь? А я знаю одну особу, которая влюбилась в кого-то по одной его репутации… И мне кажется, что дыхания, прикосновения любящей женщины или любящего мужчины достаточно, чтобы возбудить взаимность. — Конечно, — пролепетал Крильон. — Но вид прекрасного лица очень могуществен. — Почему же безобразные женщины бывают любимы иногда? Крильон задрожал. — Притом, — продолжала незнакомка, — красота не идеальна. Красавица для других может показаться безобразной именно тому, кого она хочет тронуть. — Это правда, — сказал со вздохом герой, все более и более трепеща. — Посмотрите, — с живостью сказала венецианка, вставая и показывая Крильону великолепную корзинку Джорджиона, где Диана виднелась среди нимф в ванне после охоты. — Вот несколько красавиц, находите вы их такими? — Я нахожу их удивительными красавицами. — А эти мадонны Беллини также вам нравятся? — Это совершеннейшие красавицы. — Что вы скажете о Сюзанне Пальмы? Говоря эти слова, она подняла свечу, чтобы осветить эти картины Крильону. Эта поза обрисовывала под ее рукой стан, подобный стану нимф, а так как для того, чтобы приподняться, она должна была поставить ногу на скамейку, ее стройная нога, изящные и богатые округлости всего тела показали Крильону, что эта женщина не имела надобности в красоте лица, чтоб возбудить любовь. Он это думал и сказал ей. — В самом деле? — воскликнула она. — Что же вы мне скажете, когда увидите меня? — То, что я сказал о нимфах, мадоннах и о Сюзанне. — Помните! — прошептала венецианка с гордым презрением. — Не сравнивайте меня с этими раскрашенными лицами. Все это холодно, мертво. Я лучше их, посмотрите. Она сорвала с себя маску. Крильон вскрикнул от восторга. В самом деле, ничего совершеннее этой красоты не представлялось его глазам, а он видел римлянок и полек. Под черными бровями, обрисованными, как две безукоризненные дуги, сверкали большие глаза, взгляд которых сжигал, как раскаленное железо. Когда этот взгляд говорил, все лицо озарялось. Цвет этого лица был матовой белизны, губы ярко-красные, зубы жемчужные, голова Аспазии на теле Венеры в восемнадцать лет. — Я вас люблю! — закричал француз, ослепленный этой красотой, упав на колени. — А я-то! — отвечала венецианка, которая приподняла его и бросилась к нему в объятия. Сгоревшие свечи текли большими каплями на хрустальные подсвечники, бледный свет рассвета разгонял темноту. Крильон раскрыл отяжелевшие глаза и напрасно искал возле себя венецианку. Она скоро явилась, сияя радостью и нарядами, и подошла к Крильону, который уже упрекал ее в этом кратком отсутствии, и голосом еще ласковее своей улыбки сказала: — Теперь мы уже не расстанемся. Мы соединились на всю жизнь. — На всю жизнь! — с упоением повторил Крильон. Венецианка схватила его правую руку, поцеловала кольцо и сказала: — Теперь кольцо вашей матери принадлежит нам обоим. — Почему? — спросил Крильон. — Потому что теперь мы разделим все. Во-первых, это. Она указала ему на шкатулку, надавила искусной рукой на ее пружину, и внутри ее заблистали драгоценные каменья, которым позавидовали бы королевы. — Но… — заметил было Крильон. — А потом это, — продолжала венецианка с детской радостью, — смотрите! Железный сундук, длиною в три фута, глубиною — в два, был наполнен золотыми цехинами. — Теперь, когда вы знаете приданое и жену, дайте мне вашу руку, Крильон. Она взяла его за руку с кроткой повелительностью. — Куда меня ведет прелестный ангел? — спросил он. — Недалеко, недалеко. Она увлекала его к стене, где своей маленькой сильной ручкой прижала стальную шишечку. Отворилась дверь, ведшая в длинный и темный коридор, в конце которого виднелись в потоке света мраморные колонны и золотая мозаика церкви. Алтарь был украшен, священник преклонил колени, два свидетеля ждали, опираясь о балюстраду. — Что это такое? — вскричал кавалер. — Церковь, одна из самых красивых и самых старинных. — Но я не понимаю… — Вы поймете сейчас. Я патрицианка, богата и вас люблю. Вы сейчас узнаете мое имя. Вы знаете мое богатство, я доказала вам мою любовь. Мои родные хотят принудить меня к замужеству, которое ужасает меня. Если я выберу Крильона, подумала я, мои родные ничего не смогут сказать, и в случае надобности, выбранный мною муж сумеет заставить уважать мой выбор. Может быть, вы имели бы дурное мнение о молодой девушке, которая выбрала любовника. Успокойтесь, я взяла супруга. Крильон, священник ждет нас у алтаря. Если бы молния разрушила дубовые стены, если бы подводная волна вскинула дом на воздух, если бы великолепная красота венецианки заменилась наружностью Медузы, Крильон не почувствовал бы того, что почувствовал в эту минуту. Он зашатался, как оглушенный ударом, и рука его сделалась холодна как лед в руке молодой девушки. Это внезапное предложение, эти приготовления показались ему засадой, расставленной его чести. Вся красота женщины, ее безумная страсть, эта непонятная смесь невинности и порочной смелости, это великолепное богатство, это волшебное убежище — не были ли демонскими ловушками, чтобы навсегда погубить его душу, заставив его нарушить свои обеты? Как выразить этой женщине хоть одну из мыслей, толпившихся в его голове? Он пристально посмотрел на венецианку и промолчал. Она, напротив, сочла его упоенным счастьем. Этому странному созданию не могло прийти на мысль, что ее знатность, богатство, красота, любовь делали ее до такой степени недостижимой и непостижимой, что любовник оттолкнет ее, пугаясь своего торжества. Она в своем благородном сердце тем более былауверена, что победила Крильона, что она без всякой сдержанности предала себя самому храброму, самому великодушному рыцарю на свете. Если он колеблется, то, вероятно, из деликатности. Надо ободрить его ласковыми словами, подумала венецианка, и со своей очаровательной улыбкой она сказала Крильону: — Пойдемте, надо же вам взять жену, несмотря на ее безобразие и бедность. — Это невозможно! — закричал он, и холодный пот выступил у него на лбу. — Невозможно?! Почему? — Я мальтийский кавалер. — Вы были им в колыбели. Это обеты нелепые, и папа, который ни в чем не может отказать лепантскому герою, разрешит вас от этих обетов, когда вы захотите. — Эти обеты, — пролепетал Крильон, решившись наконец заговорить, — которые произнесли за меня, когда я был в колыбели, я повторил в двадцать лет и тогда уже осознанно. Венецианка побледнела как мертвец и отступила назад с нахмуренными бровями. — Вы не принимаете моей руки? — прошептала она раздирающим душу голосом. — Вы меня отталкиваете? — Бог мне свидетель… — Да или нет? — вскричала молодая девушка, чувствуя, что гордость ее патрицианской крови бросилась ей в голову. Крильон потупил глаза. Сердце его разрывалось. — Вас называют храбрым, докажите это, — сказала она с иронией. — Да или нет? Это, кажется, сказать легко. — Нет!.. — произнес Крильон, сжав кулаки так, что ногти впились в ладони. Лицо венецианки исполнилось страшным отчаянием. Ни одного крика, ни одного вздоха не вырвалось из ее груди. Ее глаза, бросавшие искры, дрожащие губы красноречиво истолковывали то, что происходило в ее душе. Они произносили безмолвное проклятие пораженному Крильону. Она прошла мимо него, медленно, как призрак, и одно за одним произнесла эти страшные слова: — Крильон, вы не были свободны. Вы подло обманули женщину. Вы уже не Крильон! Когда он поднял голову, чтобы постараться оправдаться, он один находился в коридоре. Он побежал в переднюю, потому что ему послышались там шаги. Он отворил даже дверь и посмотрел в сад. Нигде никого не было. Дверь затворилась в ту минуту, когда он хотел войти назад. Наружная дверь, напротив, была отворена перед ним. Крильон упал на каменную скамью. В его пылающей голове вертелись тысячи планов, тысячи противоречивых мыслей. Броситься ли ему к ногам этой оскорбленной женщины? Не было ли преступлением отказываться от вознаграждения после оскорбления? Напротив, не счастливая ли судьба спасла его от засады, где, может быть, погибли бы его честь и счастье? Его вывело из мечтательности хриплое восклицание. Гондольер звал его и указывал ему на восходящее солнце. Крильон повиновался и бросился в гондолу, не чувствуя никакого интереса к великолепному зрелищу восхождения солнца из-за берегов Лидо. Вся Венеция еще спала, когда гондола подъехала к палаццо Фоскари и высадила своего пассажира на просторную лестницу. Крильон опустил свой кошелек, полный золота, в руку гондольера. Тот с холодным презрением, которое невозможно описать, вытянул руку, и кошелек упал в канал. Гондольер, наклонившись над веслом, исчез в двадцать секунд в узкой и мрачной лагуне. С этой минуты не сожаление и не раскаяние, а стыд и отчаяние раздирали сердце кавалера. Он был влюблен до безумия в эту прекрасную и благородную женщину, и, чтобы увидеть ее опять, он отдал бы свою жизнь. Он объехал всю Венецию, объехал соседние острова, не отыскав ни гондолы, ни таинственной двери. Он сыпал золотом, рассылал шпионов и не добился даже удара кинжалом, как он надеялся и желал. При дворе дожа, на прогулках, в собраниях, на празднествах он рассматривал все лица. Он нигде не видал незнакомки, и, когда описывал ее, чтобы помочь розыскам, ему отвечали, что такого совершенства не существует и что ему, наверно, пригрезилось. Через неделю Генрих Третий оставил Венецию, призываемый во Францию, и не мог присутствовать при обручении сына дожа, которого республика хотела женить на одной из своих богатых наследниц, когда он достигнет совершеннолетия. Крильон последовал за своим королем: тело вернулось во Францию, но сердце и душа остались в Венеции, в том доме под гранатовыми деревьями. Вот то поэтическое приключение, о котором двадцать лет спустя вспомнил храбрый Крильон, опустив голову на обе руки, и его благородная кровь еще кипела. В письме, которое отдал ему молодой человек, заключались только эти слова:
«Я знакомлю моего сына Эсперанса с месье де Крильоном для того, чтобы случай никогда не поставил их друг против друга с оружием в руках. Он родился двадцатого апреля 1575 года. Из Венеции, со смертного одра».
Вот почему рана раскрылась в сердце героя, вот почему он задрожал, смотря на Эсперанса.
Глава 7 ЧТО УЗНАЕШЬ, ПУТЕШЕСТВУЯ
Понти делал своему спасителю искренние изъявления благодарности, когда Крильон подозвал Эсперанса к себе. Увидев благосклонный и растроганный взгляд, который полковой командир гвардейцев бросил на него, сын венецианки почувствовал, что размышления Крильона были для него благоприятны. — Что же? — спросил он, приближаясь с вежливым видом. — Вы открыли, что меня надо повесить, как ла Раме? — О! Если поискать, — отвечал Крильон, улыбаясь, — наверно, найдутся же кой-какие грешки. Он взял под руку молодого человека, обрадованного и удивленного этой приятной фамильярностью. — Но не об этом идет дело, — сказал Крильон. — Вы ищете приключений, а эхо, как мне кажется, очень неблагоразумно. Как в военное время человек с вашей наружностью и в вашем звании рискует ездить по большим дорогам, один, верхом, с чемоданом, который введет в искушение стольких праздных людей? — Это оттого, — отвечал Эсперанс, — что туда, куда я еду, я не могу взять ни лакеев, ни провожатых, это было бы все равно, что взять с собой барабанщиков и трубачей. Крильон перебил его. — Вы не примете в дурную сторону моих вопросов, — сказал он. — Вас рекомендовали мне, и я считаю себя вправе, зная, что вы сирота и один, предложить вам мои советы, если не мое покровительство. — Вы слишком добры, и будьте уверены, что ваши советы и покровительство будут драгоценны для меня. — Прекрасно. Итак, я продолжаю: вы едете на назначенное свидание? В Сен-Дени, близ Ормессона? — В самый Ормессон. — И вы не можете отложить этого свидания? — О! Ни за что на свете! Крильон обернулся и скомандовал: — Лошадь! Я провожу вас часть дороги, — продолжал он, обращаясь к Эсперансу, — у меня есть дело в этой стороне. Не стесню ли я вас? — Как можете вы так думать! Вы, такое важное лицо, хотите меня проводить? — Вы боитесь, что я потащу за собою целую свиту? Нет, успокойтесь, мы будем ехать вдвоем, как два рейтара. — Но я не могу оставить вас одного на дорогах. Если с вами случится несчастье… — Теперь перемирие, а что касается тех, кто меня не знает, я не уступлю в силе никому. Для других одно мое имя стоит целой армии. Притом я поеду не совсем один. Эй, кадет! Он обращался к Понти, и тот незамедлительно подбежал. — Есть у тебя лошадь? — спросил капитан. — У меня? Если б была, я давно бы ее съел. — Да, и правда… Вели дать тебе лошадь из моей конюшни, ты едешь со мной. — Благодарю, полковник. — А я еду с месье Эсперансом. — Какая радость! — в восхищении вскричал дофинец и побежал в конюшню так, словно думал найти там счастье. Через десять минут все было готово. Эсперанс хотел держать стремя Крильону, но тот, прежде чем сел на лошадь, был остановлен размышлением. — Мы забыли кое-что, — сказал он. Сделав знак молодому человеку следовать за ним, он пошел к Рони, который продолжал свою прогулку по берегу реки. Гугенот работал, как всегда, чертя планы и делая отметки. Он видел, как Крильон шел к нему, но притворился, будто не видит. У него было еще на сердце утреннее разногласие. Но Крильон шел прямо к цели, он загородил ему дорогу и с улыбкой на губах, с искренним дружелюбием в глазах сказал, взяв его за руку: — Месье де Рони, я еду в Сен-Жермен, куда меня призывает король по важному и секретному делу. Я беру с собой этого молодого путешественника и дофинца, освободившегося от веревки. Прошу вас, месье де Рони, наблюдать здесь вашим зорким взглядом, распоряжаться самовластно и считать меня вашим покорнейшим слугой. Рони не устоял против этого великодушного излияния, он дружески обнял Крильона, который, воспользовавшись этим хорошим расположением, сделал знак Эсперансу подойти, взял его за руку и прибавил: — Я сам хотел представить вам этого молодого человека, который мне рекомендован его родными. Это прелюбезный молодой человек, не правда ли? И вы чрезвычайно меня обяжете, если удостоите его вашим благосклонным расположением. Рони хотел было отвечать, но Крильон тут же обратился к Эсперансу: — А вы, наш друг, — сказал он, — посмотрите хорошенько на этого господина, который будет очень велик между нами, потому что он начал свой военный путь со столь ранних лет. Рони покраснел от удовольствия. — Как я ни старайся, а никогда не сравняюсь с вами, — отвечал он. — Слава бывает разного рода, только наш король имеет все роды славы. Итак, я полагаюсь на ваше доброе расположение к Эсперансу. — Чего он желает? — спросил Рони. — Ничего, кроме вашего уважения, — отвечал молодой человек. — Заслужите его, — отвечал гугенот, — как герои Плутарха. — Постараюсь. — Хорошо, но чем же вы хотите, чтоб вам помогли для этого? — Это он, напротив, предложил мне кое-что, — сказал Крильон с веселым смехом, — знаете ли, что этот молодой человек имеет двадцать четыре тысячи годового дохода? — Двадцать четыре тысячи годового дохода! — вскричал Рони тоном, который показывал начало того уважения, о котором за минуту перед тем просил Эсперанс. — Да, именно столько. — Если бы эти деньги имел король!.. — со вздохом сказал Рони. — Милостивый государь, — с живостью сказал молодой человек, — я весь к услугам его величества. — Вот это прекрасно! Прекрасно! Вы отличный молодой человек! — вскричал Рони, пожимая руку Эсперанса. «Вот теперь он совершенно его уважает», — подумал Крильон с легкой ухмылкой. Они простились, и, когда отошли, Крильон сказал растроганным голосом, все чувство и все значение которого Эсперанс не мог понять: — Это будет для вас хороший знакомый, если меня не станет. Но сядем на лошадей — и в путь. Полковой командир уехал, окруженный своими гвардейцами, которые, обожая его, как отца, следовали за ним несколько сот шагов с уверениями и с пожеланиями скорого возвращения. Понти, гордясь, что его выбрали, чванился на лошади своего полкового командира. Он деликатно пропустил вперед своих спутников и следовал за ними шагом на таком расстоянии, чтобы ему невозможно было слышать, о чем они говорят. Погода была великолепная, и окрестности, защищаемые перемирием, сияли желтой жатвой, на которой играло солнце. Лошади ржали от удовольствия при каждом дуновении теплого ветерка, который приносил им запах свежего сена и душистой соломы. Подышав несколько времени молча этим прекрасным воздухом мира, столь приятным для храбрых воинов, Крильон приблизился к Эсперансу и сказал ему: — Повторяю еще раз, я нахожу, что вы поступаете неблагоразумно, путешествуя один и без кирасы, когда вы везете с собою две тысячи экю по крайней мере. — Я? Две тысячи экю? Со мною нет и двадцати пистолей. — Так вы не получали вашего пенсиона нынешний месяц? — Получил, но… — А! Вы тратите столько денег! — Не для себя, не думайте этого, — с живостью сказал Эсперанс. — Для кого же? Эсперанс расстегнул свой полукафтан и вынул маленький кожаный футляр, длинный и узкий. — Футляр!.. Эсперанс открыл его и показал Крильону. — Серьги… О! О! Какие славные бриллианты! Надо иметь очень хорошенькие уши, чтобы заслужить подобные бриллианты, — прошептал Крильон. — Ах, мой бедный друг! Если бы Рони видел у вас этот футляр, его уважение к вам значительно понизилось бы. — За недостатком его уважения, я довольствуюсь на этот раз другим… Крильон покачал головой. — О! Не ставьте его низко, — весело сказал Эсперанс, — оно имеет свою цену. — Вы, вероятно, знаете больше меня на этот счет, но, судя по одним серьгам, я нахожу эту победу значительно дорогой. Вы заплатили за эти серьги, по крайней мере, двести пистолей. — Четыре тысячи ливров. — У жида? — Руанского. У меня выбора не было. Во время войны бриллианты прячут. — А вам непременно было нужно? — Во что бы то ни стало. — Черт побери! Ваша драгоценная возлюбленная очень требовательна. — Не она. — Кто же? — У нее есть мать. Крильон с движением, которое заставило Эсперанса захохотать, вскричал: — Честная мать, которая просит свою дочку иметь надобность в бриллиантах, стоящих четыреста пистолей! Прекрасная мать! Попали же вы впросак! — Позвольте, позвольте, — перебил Эсперанс с той же веселостью, — как вы это устроили! У вас слишком живое воображение. Не мать требует бриллиантов… — Вы сами это сказали. — Я сказал, у нее есть мать. Это значит, что мать такая знатная дама… — Чтобы не унижать в ее особе ее дочери, вы дарите девушке серьги в четыреста пистолей. — Почти так. — Какие наглые шлюхи, и вы большой дурачок, мой милый. — Вы заговорили бы другое, если бы знали Анриэтту. Она годилась бы в дочери королю. — Что? — А если она не дочь короля, то брат ее имеет эту честь. — Что вы за сказки рассказываете? Разве у нас есть сыновья королей, кроме нашего короля? — Конечно, — отвечал Эсперанс твердо. — Ах, да! — вскричал Крильон, ударив себя по лбу так сильно, что его лошадь отскочила в сторону. — Да!.. — Вы угадали? — Дай-то бог, если бы нет. Уж не говорите ли вы о графе Овернском? — Ведь он сын Карла Девятого и… — Как! Вы говорите о нем? — Да… — Стало быть, эта мать, эта знатная дама — Мария Туше? — Ну?.. — А теперь мадам де Бальзак д’Антраг? — Конечно. — А ее дочь, мадемуазель Анриэтта… — Образец красоты. — Бедный мальчик! Крильон после этого восклицания склонил голову на грудь. — Боже мой, — сказал Эсперанс, — вы меня пугаете. Вы так смутились, точно я попал в когти дракона. Крильон не отвечал. — Если тут есть что-нибудь касающееся чести, — сказал Эсперанс, — будьте так добры, сообщите мне. Как я ни влюблен, я сумею принять меры. — Как высказать вам мою мысль, не клевеща на женщин, — медленно отвечал Крильон, — или по крайней мере, не имея в виду, что я клевещу? Для меня это возмутительное ремесло, я предпочитаю молчать. — Но мадам Туше могла быть любима Карлом Девятым, — сказал Эсперанс, — без того, чтобы бесславие отделяло ее от честных людей. Граф Овернский, сын короля Карла Девятого, конечно, принц незаконный, но он все-таки принц, и не знаю, прилично ли показывать отвращение в подобных обстоятельствах. Внизу письма моей матери есть пустое пространство, которое заставляет меня быть очень снисходительным к незаконным детям. Крильон покраснел, и совесть его окончательно оправдала молодого человека. Эсперанс продолжал: — Возвращаясь к графу Овернскому, которого, впрочем, я не знаю, я скажу, что его доля почетная. Он воспитывался в кабинете покойного короля Генриха Третьего, и нынешний король недурно с ним обращается. Притом, я у него не бываю. Я ухаживаю за дочерью, а не за матерью. Крильон продолжал качать головой. — Эти Антраги не такие люди, как другие, — сказал он, — вот вы уже делаете свадебные подарки… Черт побери! Не женитесь же вы на урожденной д’Антраг!.. — Почему же? — спросил Эсперанс, пораженный тоном гневной воли, которым Крильон, посторонний человек, говорил с ним о его сердечных делах. — Вот мои причины, друг мой: вы изъявили расположение к партии короля, то есть к моей. Это, кажется, советовала вам ваша мать… — Да, и я не намерен этого нарушать… — А Антраги — лигеры, бешеные лигеры. Если вы будете ухаживать за этой девушкой, вы уже не сможете оставаться верным слугой короля, и для вас станет уже невозможно не вступить в заговор с его врагами. — Этого никогда не случалось, случай даже не представлялся. Анриэтта говорила мне иногда об одном из их друзей, отчаянном лигере, этом ла Раме, которому вы сейчас предлагали веревку. Но то, что она говорила мне об этом негодяе, помогло мне служить королю, потому что, напомнив этому ла Раме его подвиги за изгородью, подвиги, которые, он думал, столько же мало мне известны, сколько он сам, я принудил его выпустить бедного Понти, для которого он требовал наказания. Стало быть, хорошо иметь возлюбленную в неприятельском лагере, и, чтобы окончательно вас успокоить, мой благородный покровитель, уверяю вас, что мы с Анриэттой, когда остаемся одни, никогда не говорим о политике. — Это придет. Если вы женитесь на дочери, вам надо будет слушать политику матери. А эта дама, знатная дама, как вы говорите, не допускает другого короля во Франции кроме Карла Девятого. Это ничего, что он умер — для нее он все равно король, потому что был ее королем. Может быть, она согласилась бы короновать его сына, и то еще вряд ли! Я не говорю вам об отце Антраг. О! Это такой любопытный тип честолюбия, скупости, низкого восторга к своей жене, что я понимаю, что из любви к искусству вы приближаетесь к дочери для того, чтобы изучать отца. Приближайтесь, но не женитесь! Эсперанс начал смеяться. — Я не знаю ни его, ни его жены, — сказал он. — Всех этих людей, как они ни близки моей возлюбленной, я не видал никогда. — Как же это возможно? — Вы знаете, что я жил в маленьком имении, нанимаемом Спалеттой, моим гувернером. За милю оттуда — дом старой тетки Антрогов, очень скупой. Иногда, охотясь на зайца, я доходил до рубежа ее земель и посылал старухе убитую дичь. Однажды, семь месяцев тому назад, я отвез к ней куропаток, когда увидал за столом молодую девушку ослепительной красоты. Это была ее племянница, Анриэтта де Бальзак д’Антраг, которую родители прислали туда, чтоб избавить ее от опасностей приступа, которым король угрожал тогда Парижу. — Э! — перебил с гневом Крильон. — Это нелепо, не было никакой опасности, если бы мы взяли Париж. Король берет города, а не женщин. — Так говорили, — продолжал Эсперанс, — и признаюсь, видя эту чудную свежесть, этот живой цветок, я одобрил, что д’Антраг не подверг дочь огню осады и восторгу офицеров и ландскнехтов. — Да, вы одобряли Антрага, что он прислал свою дочь развеять вас. Прекрасная Анриэтта была прислана наблюдать за наследством тетки и не допускать его попасть в другие руки. — Я не спорю, потому что, когда тетка умерла, а наследство было получено, Анриэтта тотчас была отозвана своими родителями. — Вот видите! Продолжайте. — Дело в том, что, как я вам сказал, я не могу решиться отыскивать постыдную сторону поступков человечества. Итак, я увидал Анриэтту, она покраснела, увидев меня, восхищалась моими куропатками, как будто они были фазаны, и что-то говорило мне, что с этого свидания время будет проходить для нас приятнее и скорее. Крильон с отчаянием крутил свои усы. — Сначала мы виделись в капелле, — продолжал Эсперанс, — потом из ее и моего окна. — Вы мне сказали, что жили за целое лье. — Без сомнения. — И вы видели друг друга за целое лье?.. О молодость! — Какие у ней славные черные глаза!.. — А у вас какие славные голубые! — сказал Крильон с нежностью. — Далее! — Это было осенью, в конце, погода стояла хорошая для прогулок. Она выезжала на маленькой лошади по желтевшему лесу… — Особенно в те дни, когда вы охотились? — Конечно. — Что же делал гувернер, что говорила тетка? — У Спалетты часто была подагра, а тетке лета не позволяли ездить верхом. Но Спалетта ворчал больше тетки. — Славная тетушка! Как она принадлежала к этой семье! Итак, Спалетта зарабатывал-таки деньги вашей матери, он вас стеснял? — Да, но с того дня, как было получено письмо, которое я вам показывал, Спалетта исчез, знаете? — Черт побери!.. Помню… Он исчез, и тогда уже никто вас не стеснял? — Никто, — наивно сказал Эсперанс. Крильон рвал бороду и испустил вздох красноречивее десяти восклицаний. Между собеседниками наступило молчание на несколько минут.Глава 8 ДУРНАЯ ВСТРЕЧА
Крильон заговорил первый. — Итак, вы любите Анриэтту д’Антраг? — Да. — Страстно? Вы от нее без ума? — Она близка моему сердцу, корни, пущенные этой любовью, растут в нем глубоко. — А она также вас любит? — Я так думаю. — Постарайтесь мне сказать, что вы уверены в этом. — Я вижу, — сказал Эсперанс терпеливее и веселее, чем должен был ожидать Крильон, — что вы мне поверите только тогда, когда увидите доказательство собственными глазами. Дотроньтесь до моей груди. — Что там такое? Еще футляр? — Нет, записка. — Скажите пожалуйста! Она пишет. Это честнее, чем я думал. — Вы имеете жалкое мнение о женщинах. — О тех, которые называются Антраг, — с пылкостью сказал Крильон, — а не о других. Но что говорится в этой записке? — «Любезный Эсперанс, ты знаешь, где меня найти; ты не забыл ни день, ни час, назначенный твоей Анриэттой, которая тебя любит. Приезжай. Будь благоразумен». — Написано: «Твоя Анриэтта»? — спросил Крильон. — Именно так, буквально. Посмотрите. — Ни числа, ни места, откуда письмо писано. Она осторожна: это добродетель Туше. — Послушайте, молодая девушка может бояться компрометировать себя. — Низость — это порок Антрагов. — Право, — отвечал Эсперанс сухим тоном, — вы не снисходительны. — Я вижу, друг мой, что я должен вам все сказать, — перебил Крильон. — Это тягостная обязанность для холодного старика, снимающего повязку любви. Обыкновенно этот старик называется Время, и я играю здесь его роль. Но это все равно. Рискуя вас прогневать, я объяснюсь. Притом, я почти затем поехал с вами. — Я горю нетерпением узнать все, — сказал Эсперанс с иронией, но не злобной. — Посмотрим на преступления мадемуазель Анриэтты. Стало быть, их стоит труда рассказать, если храбрый Крильон удостоил взять это на себя. — Во-первых, мой юный друг, перечислим семейство д’Антраг. Вы мне называли отца, мать, брата и сестру? — Да. — Вы, кажется, забыли еще кого-то. — Кого же? — Вторую дочь мадам д’Антраг, родную сестру мадемуазель Анриэтты. — Она не считается. О ней никто не говорит. Вот почему я не сказал о ней. — А! О ней никто не говорит? — сказал Крильон со странной улыбкой. — Даже мадемуазель Анриэтта? — Никто. Анриэтта сказала мне о ней несколько слов, мимолетно. — Может быть, мадемуазель Анриэтта имела свои причины молчать. Но не все же носят фамилию Антраг, и прошу вас, поверьте, что все ужасно много говорили о ней. Крильон думал, что нанес жестокий удар Эсперансу. Тот даже и не пошатнулся на своем седле. Едва улыбнувшись, он отвечал: — Я знаю, что вы хотите сказать. — Вы знаете эту историю? — Знаю. — Она скандалезна? — Это слово, может быть, слишком резко, но история есть, и я ее знаю. — Сделайте одолжение, расскажите мне ее, как вы ее знаете. — Я могу рассказать вам ее так, как она есть. Д’Антраг имел пажа, молодого гугенотского дворянина, который забылся до того, что объяснился в любви Марии д’Антраг, и его прогнали. — Объяснился в любви! — вскричал Крильон. — Только-то! — Разве этого не довольно? Конец истории серьезнее и, вероятно, более вам понравится. Это секрет, но, мне кажется, вы его знаете. — Расскажите конец, а я вам расскажу начало. — Ну, Мария держала себя ветрено с этим пажом, она подарила ему перстень. — Скажите пожалуйста! Мария? — А паж, когда оставил д’Антрага, стал этим хвастаться. — Что же тогда? — И так как надо было прекратить вред, который это хвастовство могло причинить чести дома, мадам д’Антраг просила одного дворянина, сына друга их семейства, вызвать на дуэль этого пажа, который уже вырос и служил в гвардейцах короля Генриха Четвертого, вы должны его знать, это Урбен дю Жарден. — Еще бы я не знал этого бедняжку! — сказал Крильон, раскрасневшись оттого, что так долго сдерживал себя. — Но, право, мне досадно слышать от вас весь этот вздор, который заставили эту ехидну вам наговорить, гугенотский дворянин вовсе не был вызван на дуэль, он был убит. — Я это знаю, я хотел вам это сказать. — К этому гугеноту, который был очаровательный юноша, подослали разбойника, и на другой день Омальской битвы, где бедный юноша дрался, как храбрец, убийца положил его наземь тремя пулями, которыми выстрелил в него из-за изгороди. — Я это знаю. — Я его поднял, — сказал Крильон, задыхаясь от бешенства, — и я вздыхал по нем, как будто он был мой племянник или сын… — Конечно… — начал было Эсперанс. — И вы находите это прекрасным, — перебил его Крильон, так разгорячившись, что не мог уже остановиться, — это честно, это позволительно, потому что это сделали Антраги. — Извините, — перебил Эсперанс, — я знаю, что это гнусное убийство, но его не следует приписывать Антрагам. Сама Анриэтта, когда рассказала мне все, ненавидела и проклинала убийцу. — Она это сделала!.. А я клянусь небом, что я велю его повесить — нет, четвертовать, если когда-нибудь схвачу его. — Э! Кавалер, вы не сдержали вашей клятвы, потому что вы сейчас имели его в руках, а он еще жив. — Как! Этот разбойник?.. — Это ла Раме, — сказал Эсперанс, смеясь над бешенством Крильона. — Черт побери! Я это чуял… — А я его узнал, когда он представлялся де Рони, мне хотелось было выдать его гвардейцам, но опасение прогневить Анриэтту удержало меня, и я не сказал, что знал о нем. — Злодей… — Он только подлый хвастун, который не осмелился прямо напасть на гугенота, а предпочел украсть с его трупа перстень мадемуазель Марии. — Опять мадемуазель Марии! — сказал Крильон, остановив свою лошадь и скрестив руки. — Молодой человек, — прибавил он тоном глубокого сострадания, — хотите теперь выслушать меня, если я вам расскажу историю так, как она случилась в самом деле? Поверите ли вы мне? — Никто не может не верить Крильону, — взволнованно ответил Эсперанс. — Но, — прибавил он опять с той веселой живостью, которая увеличивала в нем всю прелесть и всю силу его двадцати лет, — какова бы ни была история, известная вам, я, к счастью, не занимаюсь ни мадам д’Антраг, ни мадемуазель Марией, а дочерью. Дала ли дочь свой перстень гугеноту, отправила ли мать ла Раме убить того, на ком был этот перстень, и предать земле бесславную тайну вместе с трупом, признаюсь, это отвратительно, но пусть эти гадкие люди поступают как хотят между собою. Я люблю Анриэтту, красоту, грацию, ум, честность, все совершенства души и тела, она тоже любит меня, ей шестнадцать лет, мне девятнадцать, да здравствует жизнь! Крильон тихо взял за руку Эсперанса и пожал ее с дружеской меланхолией. — Дитя, — сказал он, — вы не дали мне кончить признание гугенота. — Разве есть еще что-нибудь? — вскричал Эсперанс. — Осталось самое главное. Заметьте, что с начала нашего разговора вы все говорите о мадемуазель Марии д’Антраг, между тем как я говорю только о мадемуазель д’Антраг. — Ну, к чему же ведет это довольно тонкое, я признаюсь, различие, со стороны месье де Крильона? — К тому, чтобы заметить, что вы приписываете проступок одной сестре, между тем как он принадлежит другой! — О! Это сомнение насчет Анриэтты… — Это не сомнение, я вам сказал «может быть», щадя вас. Я должен был бы сказать «наверняка». — Но доказательства? — Урбен дю Жарден унес их в могилу. Но я помню то, что он мне рассказал, я знаю наверняка, что любовница, за которую его убили, была Анриэтта д’Антраг. Между двумя девицами, из которых одна заслуживает уважения честного человека, я жалею, что вы выбрали именно ту, которая его не заслуживает. Впрочем, любезный Эсперанс, дело мое кончено. Я знал тайну, открытие которой могло избавить вас от многих будущих неприятностей. Я открыл ее. Вы предупреждены. Я молчу. Что мне за дело до мадам д’Антраг и всей этой шайки? Разве у меня есть время заниматься сплетнями старух? Разве я такое ничтожное лицо на этом свете, что могу бояться каких-нибудь Антрагов? Полноте, вы оскорбляете меня. Но я вижу, что мы все сказали друг другу. Кончим этот разговор. Делайте, что вы хотите, и запомните из моих слов только это: я ваш друг, месье Эсперанс. — О! — воскликнул молодой человек, превосходное сердце которого было наполнено признательностью. — Как я должен быть благодарен Богу! Если он лишает меня обманчивой мечты в любви, он посылает мне великодушного могущественного покровителя. Да, я родился счастливцем. — Очаровательный юноша! — прошептал Крильон, растроганный порывом этой благородной натуры. — Как не обожать его! Чтобы скрыть волнение, которое, может быть, было слишком заметно на его лице, храбрый кавалер отвернулся, говоря: — Как красив этот Сен-Жерменский лес! Оба забыли своего верного слугу Понти, который ехал за ними. Эсперанс первый вспомнил о нем и хотел вознаградить его каким-нибудь добрым словом, но, когда он обернулся, Понти позади него не было. — Где же месье де Понти? — вскричал он. — И правда, — сказал Крильон, — куда он девался? Напрасно они искали, звали. Никто им не отвечал. Это было на рубеже Сен-Жерменского леса. Аржантейские дома начали появляться в беловатом вечернем тумане, уже покрывавшем равнину. Крильон потерял терпение и хотел воротиться к перекрестку, чтобы поручить дровосеку, которого они там видели, сказать Понти, когда он воротится, куда они поехали. Но Эсперанс робко возразил, что шесть часов уже пробило в Сен-Жермене, что до Ормессона остается еще два часа езды и что свидание было назначено Анриэттой ровно на восемь часов. — А! А! — холодно возразил Крильон. — Ну раз так, не будем ждать. Он немного помолчал, делая нетерпеливые жесты, потом спросил развязным тоном: — Вы решились-таки отправиться сегодня к Антрагам? — Признаюсь вам, что мне бы хотелось получить столь серьезные объяснения у мадемуазель д’Антраг, я готов вскочить на огнедышащего дракона, только бы поскорее добраться до места. Но я еду не к Антрагам — о, нет! Анриэтта живет в павильоне, выходящем в поле. — И у вас есть ключ? — Он не нужен. Балкон возле великолепного каштанового дерева. Окно — самая удобная дверь. — Прекрасно… Ну, так как я не могу делать визитов всем этим негодяям, да это и показалось бы странно, они знают, что я их терпеть не могу… Нет, я не могу, — сказал добрый кавалер, беспокойство которого, как он ни старался его скрывать, обнаруживалось в каждом его движении, в каждом слове, даже в бессвязности его мыслей. Эсперанс понял все это. — Боже мой! — сказал он. — Как я глуп! С одной стороны я имею слово Крильона, с другой… — Договаривайте же! — вскричал кавалер. — Кокетки. — Это слабое выражение, — проворчал Крильон. — И колеблюсь… — Нет, вы не колеблетесь даже, потому что продолжаете приближаться к берлоге этих вонючих зверей. Вонючих, это неверно: эти сирены нарумянены и раздушены. Ну, мой бедный Эсперанс, поезжайте, не заблудитесь ни в рытвинах, ни в других местах. Прощайте… До свидания… Прощайте! Крильон вертелся на лошади, так что бедное животное, знавшее спокойную и твердую посадку этого образцового всадника, серьезно растревожилось. — Не думайте, чтобы я оставил вас одного! — вскричал Эсперанс. — Почему же нет? — Потому что, если со мною случится несчастье, в этом никто не увидит ничего важного, между тем как если вас оцарапает куст, вся Франция наденет траур. — Послушайте, Эсперанс, я должен вас обнять, — сказал храбрый воин, наклонившись к молодому человеку и прижимая его к своей взволнованной груди, и добавил: — Я доволен. Теперь поезжайте, все мои речи отзываются старым подагриком. Двадцатилетний мужчина не должен заставлять ждать шестнадцатилетнюю красавицу. Поезжайте, говорю я вам, и сделайте бабушкой знаменитую Марию Туше… Но только не женитесь, ради бога! Эсперанс расхохотался. — Вот в этих словах я узнаю Крильона, — сказал он. — Но я останусь с вами, до тех пор пока Понти не воротится. — Он остановился в каком-нибудь кабаке, пьяница! — Он любит вино? — Это страсть всех молодых людей. Понти — настоящая губка. Вы помните маленький кабачок на перекрестке? Негодяй, наверно, там. Мы проехали мимо в жару нашего разговора. Я пойду вытащу его за ногу из-под стола, куда он, верно, упал. — Я следую за вами. — Нет, нет! Отправляйтесь ко всем чертям, то есть к Антрагам. Прощайте! Ах, я слышу галоп лошади, это возвращается мой негодяй! Он большой забияка, когда напьется. Пусть остерегаются те, которые захотят придраться к нам! — В самом деле, я слышу галоп лошади, — сказал Эсперанс, которому смертельно хотелось отправиться в путь. — Ну, если вы позволяете… — Я вам приказываю. — Я поеду крупной рысью. Вы позволяете мне воротиться и передать вам объяснение мадемуазель Анриэтты? — Если вы не приедете ко мне завтра в Сен-Жермен, где я буду, я стану беспокоиться. Приезжайте узнать обо мне и привозите известия о себе в «Зеленую Решетку». — Как вы добры для меня, а я вам наделал столько хлопот! — Я повинуюсь поручению вашей матери, — отвечал Крильон, ударив хлыстом лошадь Эсперанса и пустив его таким образом по дороге. Молодой человек ускакал во весь опор, но, как ни быстро скакала его лошадь, как ни шумел ветер у него в ушах, он все еще слышал далекий голос Крильона, который все повторял ему: — Не женитесь! Крильон смотрел вслед Эсперансу, пока тот не скрылся из виду, а потом повернул к лесу. Топот лошадиного галопа, который он услышал, все еще приближался, и Крильон вдруг увидел в тени кустарника что-то такое топтавшее траву и ломавшее кусты с невероятным шумом, словно неслось целое войско. «Это не олень, это лошадь, как мне кажется. Что такое делает лошадь в этой чаще? — думал Крильон. — Разве она без всадника?» Лошадь исчезла, оставив Крильона в недоумении. — Доеду до кабака, — сказал он сам себе, — верно, мой дофинец там поселился. Вдруг лошадь выбежала из кустов, отщипнула и принялась жевать ветвь дуба и стала приближаться к Крильону. — Это моя лошадь! Это Кориолан! Без Понти! О, о! Неужели с бедным кадетом случилось несчастье? Крильон подъехал к лошади и принялся называть ее ласковыми именами, которые напомнили независимому существу уроки дисциплины, довольно часто им получаемые. Кориолан подошел, потупив голову, зацепляя своими стременами каждую ветвь и путаясь в своих поводьях. — Понти напился, мертвецки пьян и свалился где-нибудь, — говорил Крильон, — надо отыскать его из сострадания. Потом завтра я пошлю его в тюрьму на две недели. Вдруг он услышал крик в густоте леса, и скоро человек, весь в поту, запачканный пылью, в разорванной одежде, запыхавшись или, лучше сказать, хрипя, так что жалко было смотреть, подбежал к Крильону, который принужден был узнать своего гвардейца в этом костюме беглеца или дикаря. — Ах, — вскричал Понти, — наконец! — Ну что, ты напился и свалился с лошади? — Я пил, но и кое-что видел. — Что ты видел? — Двоих верховых, вы должны были видеть, как они проехали. — Нет. — Они, стало быть, повернули налево к перекрестку. Это все равно, прошу вас, поскорее выедем из леса. — Для чего это? — Потому что в долине мы увидим, если они станут в нас стрелять. — Кто будет стрелять? — Негодяй, разбойник ла Раме. — Ла Раме!.. Он здесь? — Он сейчас проезжал по лесу, из того кабака, где я поил вашу лошадь, я узнал его с другим негодяем такой же свирепой наружности. Я хотел следовать за ними и проскользнул в лес, но в это время моя лошадь убежала. Что было делать? Бежать за ними двоими невозможно. — Надо было следовать за ла Раме. — Ба! Пока я колебался между человеком и лошадью, человек исчез. — И лошадь также. Но куда мог ехать этот ла Раме? — Вы спрашиваете?! Он гонится за месье Эсперансом. — Ты думаешь? — Я в этом уверен! Если бы вы видели его последний взгляд, когда он говорил ему: «Вы ничего не потеряете, если подождете»! — Черт побери! — вскричал Крильон. — Ты прав. Может быть, он знает, где его отыскать, где его подождать. Да, ты прав, я должен был сам ехать по его следам, но меня ждет король. Как быть? Садись на лошадь и догони Эсперанса, который едет к деревне Ормессон. — Есть, полковник! — Догони его, хоть бы тебе пришлось заморить Кориолана и себя. — И того и другого, полковник! — Предупреди Эсперанса, а если ты его не догонишь, останься и карауль дом д’Антрагов в конце парка, возле балкона каштанового дерева. — Есть! — И помни, — прибавил Крильон, положив свою сильную руку на плечо гвардейца, — что, если с Эсперансом случится несчастье, ты будешь отвечать мне за это… — Я буду помнить, что он спас мне жизнь, полковник, — с достоинством ответил гвардеец. — Где я вас найду? — В Сен-Жермене, я там буду ночевать. Понти воткнул шпоры в бока Кориолана и исчез в вихре пыли.Глава 9 ДОМ Д’АНТРАГ
В нескольких шагах от деревни, которую ныне называют Ормессон, возвышался когда-то замок с маленькими квадратными башенками, со рвами, наполненными чистой и холодной водой, и с парапетами времен Людовика Девятого. Из окон замка, даже с террасы, вид простирался очаровательный — на веселые холмы, составляющие Сен-Дениской равнине пояс из лесов и виноградников. Этот дворец замыкал с севера равнину, и его основатель, бывший, может быть, каким-нибудь важным бароном, мог наблюдать в одно время за нормандийской и пикардийской дорогой, а потом отправляться искупать свой разбой в крестовом походе. Местоположение этого маленького замка было очаровательно. Земли, омываемые обильными источниками, приносили прекраснейшие фрукты и богатейшие цветы во всей стране. Через пятьдесят лет после своего основания замок был закрыт на три четверти листьями тополей и яворов, которые, словно соревнуясь друг с другом, ввысь раскинули свои косматые лапы над вершинами замка. Парк, более густой, чем обширный, а также цветник, большой, но не совсем тщательно содержимый, фруктовый сад, плоды которого не раз имели честь красоваться на королевском столе, журчащая прозрачная вода, польза которой для ран была признана Амбруазом Паре, потом щегольское и удобное расположение комнат — достоинства, редкие в старом здании, — делали этот замок преприятным местопребыванием, которому очень завидовали придворные. Король Карл IX, возвращаясь с охоты, таинственно навестил этот замок, тогда продававшийся, и купил его для Марии Туше, своей любовницы, чтобы она подальше от ненависти Екатерины Медичи могла воспитать безопасно второго сына, которого она подарила королю и который, однако, был единственным сыном этого государя, потому что смерть — смерть подозрительная по словам многих — похитила у него первого сына Марии Туше, так же как и законную дочь, которую он имел от своей жены Елизаветы Австрийской. Но Карл IX недолго наслаждался родительскими радостями. Он присоединился к своим предкам в склепе Сен-Дени, а Мария Туше вышла замуж за Франсуа де Бальзака д’Антрага, губернатора Орлеанского, и принесла в приданое своему мужу сына и замок. Мы знаем, что сына старательно воспитал Генрих Третий, замок прилично содержал д’Антраг, и туда-то супруги приезжали проводить жаркие летние дни, когда не ездили в свое поместье, более обширное, которое называлось Малербским лесом. Ормессон со времен Лиги сделался опасной, но очень удобной позицией — опасной, если бы владельцы были добрыми слугами короля Генриха Четвертого, потому что Лига в соединении с испанцами беспрестанно подвигала свои батальоны в равнину Сен-Денискую, чтобы защищать Париж, которому беспрерывно угрожал Генрих Четвертый. И тогда плохо приходилось владельцам, которые не были лигерами. Но Антраги были большие друзья де Майенна и в очень хороших отношениях с Лигой и с испанцами. Так, как сказал Крильон, мадам д’Антраг не признавала Генриха Третьего, провозглашенного всей Францией, и пользовалась оппозицией против Генриха Четвертого, чтоб не признавать и его, хотя этот государь обходился без ее согласия, чтобы доблестно завоевывать свое королевство. Мария Туше изнывала от горя при каждой новой победе и очень сердилась на поведение графа Овернского, своего сына, который служил Генриху IV и храбро дрался в сражении при Арке за этого Беарнца, который похитил у него трон, как уверяла мадам д’Антраг. Замок был очень удобен для владельцев. Его близость к Парижу позволяла им иметь самые свежие известия, и всякий всадник, мало-мальски умевший ездить верхом, мог легко по выходе из совещания лигеров приезжать в Ормессон, составлять заговор против Беарнца и возвращаться в Париж, не потеряв более трех часов. Поэтому в замке всегда бывало многочисленное, если не отборное общество, потому что Антраги в своем нетерпении узнавать все и поскорее предпочитали количество гостей их качеству. В тот день, о котором идет речь, к шести часам, когда спала жара и тень деревьев на лужайках вытягивалась, госпожа д’Антраг вышла из большой залы, опираясь на пажа лет девяти, который, левой рукой поддерживая руку своей госпожи, другой держал над своей головой птицу, а под мышкой левой руки — складной стул. Другой паж, несколько повыше, но все-таки ребенок, нес подушку и зонтик. Две большие собаки прыгали от радости и, кидаясь друг на друга, портили цветники. Марии Туше было тогда сорок пять лет. Хотя она была еще хороша теми остатками красоты, которые иногда не оставляют правильных черт лица, она была уже далека от своей знаменитости. Это знаменитое лицо, столько раз сравниваемое с солнцем и со всеми звездами, которое при Карле IX было более круглое, чем овальное, со лбом более маленьким, чем большим, со ртом более крошечным, чем маленьким, и с глазами более чудесными, чем большими, это обожаемое лицо сделалось широким и костлявым от времени. Круглота сделалась четвероугольностью, а маленький лоб мало-помалу обнажался, оставив на скулах ту выпуклость, которая показывает притворство и хитрость. Чудесные глаза, ресницы которых выпали, имели только пламя без теплоты. Две глубокиекосвенные складки заменяли ямочки крошечного ротика и окончательно лишили лицо всей его обольстительной прелести, которая победила короля. Серьезный характер, почти мужской в своей величественной сухости, прекрасные черты, привычка к достоинству или, лучше сказать, к чопорности — все это в великолепном костюме дополняло, вместе с нервными руками и ленивыми, маленькими ногами, не портрет, но изглаженное воспоминание той, которая двадцать лет тому назад могла сказать справедливо: я очаровываю все. Возле госпожи д’Антраг шел, оборачиваясь каждую минуту к двери, как будто ждал кого-то, мужчина зрелых лет, который с мелочной изысканностью кокетства старался скрыть свою плешивую голову, уж зим двенадцать как засыпанную снегом. На нем был красный испанский шарф, а сапоги из кордовской кожи, убранные красным атласом, на каждом шагу издавали запах духов, который Мария Туше время от времени прогоняла своим опахалом из перьев. Этого идальго звали Кастиль. Он был одним из капитанов, которых герцог Фериа, командовавший испанским гарнизоном в Париже, отрядил к воротам столицы к своему августейшему повелителю Филиппу II и приказал, чтобы им оказывали вежливость, когда они ездили в Париж, Антраги принимали у себя этого шпиона на жалованье короля испанского. В ту эпоху политических и религиозных ненавистей партии не стеснялись приглашать иностранцев помогать им против их соотечественников. Лига с самого своего основания поддерживала католическую религию, король испанский Филипп II из глубины своего черного Эскуриала счел случай прекрасным зажечь во Франции из французского леса те чудища аутодафе, для которых у него недостало дров по случаю большого употребления. Этот достойный король думал в то же время и о своих земных делах и старался присоединить французскую корону ко всем тем, которые он уже имел. Поэтому он послал с благочестивой поспешностью множество солдат и очень мало денег де Майенну, чтобы помочь ему прогнать из Парижа и из Франции гнусного еретика Генриха Четвертого, который доводил дерзость до того, что хотел царствовать во Франции, не ходя к католической обедне. Де Майенн и вся Лига приняли испанцев, и они заняли Париж, к великому неудовольствию всех порядочных людей, и приближалась минута, когда Филипп II, которому надоела роль гостя, решится наконец занять роль хозяина. Разумеется, испанский гарнизон в Париже был мужественный и доблестный, как и приличествовало потомкам Сида. Большая часть из них сражалась под начальством великого герцога Пармского, знаменитого полководца, умершего в прошлом году. Это были все храбрые воины, но страшные волокиты, что даже дамам, участвовавшим в Лиге, это начинало надоедать. Я не говорю уже об их мужьях, но надо же было страдать хоть немножко для доброго дела. Просим простить нам это небольшое отступление, потому что оно позволяет нам лучше понять странного человека, который провожал госпожу д’Антраг в сад после очень вкусного обеда, который не был, однако, как читатели скоро увидят, самой главной причиной его посещения. За испанцем и за владетельницей замка шел д’Антраг, человек уже старый, а за ним два микроскопических пажа. Преемник Карла Девятого вел под руку прелестную шестнадцатилетнюю девушку, которая рассеянно слушала родительскую фразеологию. Это была брюнетка с черными бархатистыми, глубокими глазами, с эбеновыми волосами, с пурпуровым ртом, с ноздрями, расширенными, как у сладострастных индианок. Ее широкий лоб и круглая голова показывали еще более идей, чем сверкало молний из ее глаз. Тонкий, темный пушок обрисовывал тень на ее дрожащих губах. Все в ней дышало пылкостью и силой, а богатые размеры ее стана, смелый выгиб ноги, круглая и твердая рука, шея, белая, как слоновая кость, на широких и полных плечах, показывали могущество натуры, всегда готовой обнаружиться от дыхания, с трудом сдерживаемого, ее неукротимой молодости. Такова была Анриэтта де Бальзак д’Антраг, дочь Марии Туше и господина, который по страсти женился на любовнице французского короля. Возвратившись накануне в родительский дом с наследством нормандийской тетки, она отдавала отчет д’Антрагу о некоторых подробностях, о которых он расспрашивал ее. Но читатель может поверить, что она не отвечала на множество других вещей, также касавшихся ее отсутствия. Гидальго дон Хозе Кастиль часто оборачивался, чтобы бросить на эту прелестную девушку нежный взгляд, который иногда попадал на ее отца, потому что Анриэтта была рассеянна; это выражение даже не совсем верно, озабочена — надо бы сказать. Она также ждала кого-то, но не с той стороны, с которой ждал испанец, и с беспокойством смотрела, куда мать ее направляла свою прогулку. В конце цветников находился парк, за сто шагов в парке был павильон, в котором жила Анриэтта и белые стены которого виднелись под густыми каштановыми деревьями. Анриэтта имела свои причины, чтобы общество не направилось гулять возле павильона. Между тем госпожа д’Антраг все шагала в своем медленном величии. Анриэтта перешла от беспокойства к досаде. К счастью, маленькая нога матери запуталась в платье, и она оступилась. Гидальго и д’Антраг бросились с каждой стороны, чтобы поддержать эту шатавшуюся богиню. Анриэтта воспользовалась этой минутой, чтоб крикнуть: — Вы устали. Скорее складной стул, паж! Паж со стулом выпустил птицу, птица полетела на ветку, паж с подушкой бросил свою подушку на пажа со стулом, собаки, думая, что с ними хотят играть, бросились на все это. Произошла суматоха, неприятная для хозяев дома, которые дорожат церемониалом. Пажи получили выговор. — Они очень молоды, — сказал гидальго. — Какая странная привычка в некоторых французских домах выбирать таких молодых пажей! Зачем лучше не выбрать сильных молодых людей, годных на службу, на войну, на все? В произошедшей суматохе Мария Туше успела кинуть косой взгляд на Анриэтту, который заставил молодую девушку потупить глаза. — Французские дома, в которых есть девицы, — отвечала мать, — предпочитают службу детей. Я полагала, что и в Испании думают таким образом. Гидальго понял, что он сказал глупость. Он приготовлялся загладить ее, но Мария Туше тотчас переменила разговор. Она села в тени высоких деревьев возле фонтана. Дочь села возле нее. Д’Антраг сам подал стул испанскому капитану. — Расскажите нам, сеньор, какие-нибудь известия из Парижа, — сказала Анриэтта, обрадовавшись остановке и украдкой бросая взгляд на павильон, который мать ее не могла видеть. — Известия все те же, сеньора, все делают приготовления против Беарнца, если когда-нибудь он придет туда. Но он не придет, зная, что мы там. Эта хвастливая выходка не убедила д’Антрага. — Он уже был там, — сказал он, — и при вас, и при вашем великом герцоге Пармском, который теперь никого не испугает. Я думаю, что не пройдет и месяца, как Беарнец подойдет к Парижу. — Если вы знаете больше нас, — с любопытством возразил испанец, — говорите, сеньор, без сомнения, вы имеете верные сведения, потому что ведь граф Овернский, ваш пасынок, главнокомандующий пехотой у роялистов и должен знать все новости. — Мой сын, — перебила Мария Туше, — не сообщает нам о замыслах своей партии, мы его видим очень редко, притом он знает, какие мы твердые противники Беарнца и как мы преданы св. Лиге и старым друзьям де Бриссака, нового губернатора, которого дал Парижу де Майенн. — Де Бриссака! Прекрасный выбор для нас, испанцев, — сказал Кастиль, которого имя де Бриссака, произнесенное при таких обстоятельствах, как будто поразило новым недоверием. — Кажется, вы сейчас сказали мне, что этот губернатор — ваш друг? — И друг превосходный, — отвечал д’Антраг. — Вы часто с ним видитесь? — спросил испанец. — К несчастью, нет. Он очень редко бывает у нас с некоторого времени. Испанец запомнил это признание. — У него столько дел теперь, — поспешила сказать госпожа д’Антраг, которая не хотела заставить думать, что теперь де Бриссак пренебрегает ими. — Но я уверена, что он и в отсутствии горячо привязан к нам, и я дорожу его дружбой, потому что она стоит того. — Граф славно нам помогает, — сказал испанец, — это отъявленный лигер. Но какой странный раздор в семействах! — Какой ужасный пример! — нравоучительно сказал гидальго. — Вот граф Овернский вооружен против своей матери. Госпожа д’Антраг закусила губы. Неудовольствие показать, что она не разделяет убеждений сына, которым она так гордилась, боролось в ней с опасением прогневить преобладающую партию. — Нет, сеньор, — вмешался д’Антраг, чтоб согнать с лица богини эту неприятную тучу, — граф Овернский не вооружен против матери. Сын и племянник наших королей, он хочет остаться верен их памяти, служа тому, кого покойный король Генрих Третий назначил своим преемником, потому что это действительно так было: покойный король имел слабость при своих последних минутах назначить французским королем короля наваррского. — Так ли это было? — спросил гидальго с той самоуверенностью победоносного предчувствия, которая оспаривает все, что ее стесняет. — Граф Овернский, мой сын, был этому свидетелем, — отвечала госпожа д’Антраг. Дон Кастиль холодно поклонился. Анриэтта хотела возобновить разговор, который начинал ослабевать, и повторила свой вопрос: — Что же нового в Париже, кроме назначения де Бриссака герцогом де Майенном? Извините меня, сеньор, — прибавила она, — я недавно приехала сюда. — Решительно ничего нет нового, кроме того, что скоро соберутся знаменитые генеральные штаты. — Какие штаты? — Извините эту девочку, сеньор, — сказала госпожа д’Антраг, — мы так мало занимаемся политикой между собой. Дочь моя, генеральные штаты собираются во Франции при трудных обстоятельствах, чтобы рассуждать, какие следует принять меры для общего блага. Теперь они соберутся, для того чтобы отвергнуть Беарнца, и я полагаю, что нечего сомневаться в большинстве голосов. — В единогласии, — сказал капитан с невозмутимой самоуверенностью. — Если есть единогласие, — заметила Анриэтта, — для чего же тогда созывать генеральные штаты? Д’Антраг улыбнулся дочери, чтобы вознаградить ее за это замечание. Гидальго возразил: — Не Франция созывает генеральные штаты, а наш всемилостивейший повелитель, король испанский. — А! — с удивлением сказала Анриэтта, между тем как ее отец и мать со стыдом потупили головы. — Да, сенора, мы придумали это средство. Оно одно может положить конец нашим междоусобным раздорам. Генеральные штаты разрубят гордиев узел, как говорили в древности. Если вам угодно присутствовать при заседании, я достану вам билет. — Кого я там увижу? — Герцога Фериа, нашего генерала, дона Диэго Таксиса, нашего посланника, дона… — А из моих соотечественников кого? — весело спросила Анриэтта. — Герцога де Майенна, герцога Гиза, — отвечал д’Антраг. — Которые будут рассуждать о том, как лишить Генриха Четвертого французского трона? — спросила Анриэтта. — Непременно. — Но рассуждать об этом недостаточно, еще надо исполнить. — О! Это наше дело, — продолжал гидальго, — как только французы решат, мы схватим еретика и выгоним его из Франции. Может быть, его посадят в Мадриде в тюрьму Франциска Первого. Я получил известие от моего кузена, алькада во дворце, что работники поправляют эту тюрьму. — Это все хорошо, — продолжала Анриэтта, — однако, так ли будет легко захватить еретика? — О! Ничего не может быть легче, он беспрестанно рыскает по горам и по долам. — Может быть, с этого следовало бы начать, вместо того чтобы допустить его выиграть столько сражений у испанцев. — Не у испанцев, сеньора, Беарнец выиграл сражения, — вскричал гидальго, покраснев, — а у французов! Анриэтта замолчала от строгого взгляда матери и от беспокойства, с каким д’Антраг вертелся на дерновой скамье. — А когда Беарнца выгонят, — продолжала Мария Тушэ, обращаясь к дочери как бы для того, чтобы дать ей урок, — штаты назначат короля. — Кого? Едва раздался под зелеными сводами этот наивный и ужасный вопрос, в котором сосредоточивалась вся междоусобная война, как голос пажа напыщенно доложил: — Граф де Бриссак! Все обернулись. Д’Антраг вскрикнул от радости, а жена его слегка покраснела, как будто вид нового гостя поразил ее. — Де Бриссак, новый парижский губернатор! — вскричал д’Антраг, бросаясь к человеку, входившему в сад. «Еще гость! — подумала Анриэтта, бросив жалобный взгляд на павильон. — Час приближается, когда мне надо быть там!» Граф приметил испанца и вздрогнул. — Какой счастливый случай привел графа де Бриссака к старым друзьям, о которых он совсем забыл? — сказала госпожа д’Антраг. — Перемирие, которое позволяет вздохнуть свободно бедному парижскому губернатору и спешить во время мира с поклоном к дамам. И он тут же поклонился Марии Туше так, как она любила, чтобы ей кланялись, то есть очень низко и целуя при этом ей руку. Он, без сомнения, невольно пожал ей пальцы, потому что она покраснела, так что почти опять сделалась красавицей. Гидальго с важным видом ожидал своей очереди. Она наступила. Бриссак не обнял его, это правда, но он его узнал и горячо пожал ему руку. — Наш храбрый союзник, дон Хозе Кастиль! — вскричал он. — Храбрец, настоящий Сид! Исполняя эту вежливую обязанность, по милости которой он отвлек внимание присутствующих, он отдал свою шляпу и перчатки высокому лакею воинственной осанки, которому он неприметно шепнул на ухо: — У испанца есть пистолеты в чушках седла, вынь из них пули. Граф Шарль де Коссэ Бриссак, человек лет сорока пяти, величественной наружности, был знатный вельможа по происхождению и по обращению, отъявленный лигер, которого парижане обожали, потому что он начальствовал над ними против тирана Валуа на баррикадах, а парижанки обожали, потому что могли признаться в обожании к этому кумиру, не подвергая злословию свой патриотизм. Граф де Бриссак считал, что ухаживать за дамами — всегда хорошо, что красавицам это лестно, а безобразных приводит в восторг. Он извлек из этого поведения величайшие выгоды. Его волокитство приносило ему большие проценты, хотя он тратил на него весьма мало. Таким образом, раза три-четыре в год угощал он вздохом и пожатием руки госпожу д’Антраг, и это обещало ему верную будущность. Бриссак, может быть, платил такой же монетой герцогине де Майенн и герцогине Монпансье. Эта последняя, однако, по словам злой хроники, была более требовательной кредиторшей. Но все-таки Бриссак находился в хороших отношениях с ними обеими, потому что был назначен их мужьями парижским губернатором, то есть гласным охранителем покоя этих дам и их столицы. Граф после своего назначения выразил такое яростное усердие Лиге, что люди проницательные находили его слишком горячим, для того чтобы быть искренним. Тем более что он подписал перемирие с Беарнцем, рискуя прогневать своих доверителей — лигеров. В эту минуту ходили слухи о неудовольствии герцога де Майенна, которому испанцы не торопились отдать французскую корону, а так как Филипп II знал очень хорошо, кому назначалась эта корона, потому что он сам ее добивался, то его беспокоила перемена губернатора, сделанная де Майенном, он стал подозревать де Бриссака и поручил своим шпионам надзирать за ним. Особенно после перемирия за малейшими поступками де Бриссака надзирали с тем высоким искусством людей, которые изобрели инквизицию. Бриссак, хитрый, как гасконец, то есть как два испанца, разобрал своих союзников. Любимец де Майенна, но любимец, решившийся действовать в пользу своих собственных интересов, он не хотел держать картин для кого другого, а играл собственно для себя. Он постоянно сбивал с толку шпионов наружным видом безукоризненного чистосердечия; его корреспонденция, так сказать, не имела печатей, дом не имел дверей; он всегда выходил в сопровождении кого-нибудь, объявляя всегда, куда он отправляется. Он говорил по-испански, а думал по-французски. Он льстил себе мыслью, что он усыпил Аргуса. Утром в тот день, когда он принял чрезвычайно важное решение, Бриссак объявил в своих комнатах, наполненных толпой, что он после обеда прекратит свои аудиенции, что теперь перемирие и что каждый может вздохнуть свободно; сказал также, что и парижский губернатор хочет тоже свободно перевести дух, а испанцы так хорошо караулят, что все могут спать спокойно. В заключение он приказал привести себе лошадей для прогулки и, фамильярно обращаясь к герцогу Фериа, главе испанцев, предложил отвезти его ужинать в один загородный дом, где у него есть старинная приятельница. Он тихо назвал ему госпожу д’Антраг. Герцог скромно отказался с вежливыми изъявлениями дружбы, и Бриссак, приехав в Ореан, был раздосадован, а не удивлен, приметив гидальго Кастиля, одного из самых хитрых испанских шпионов, которого послали туда, чтобы узнать, что значил этот визит к Антрагам. Но так как де Бриссак решился ничего не щадить, для того чтобы упрочить успех своего предприятия, он думал только о том, как усыпить подозрения гидальго. Он отпустил своего лакея с приказанием, о важности которого, как он приметил, Кастиль догадался, и, сев между двумя дамами, так чтобы не терять из вида лицо капитана, сказал: — Как хорошо в деревне! Прекрасная тень, прекрасная вода, повсюду красота! Он бросил взгляд на Марию Туше. Гидальго, растревоженный тем, что де Бриссак шептался со своим лакеем, между тем встал. Бриссак тоже встал. — Чего вы желаете? — спросила у него госпожа д’Антраг. — Я велел моему лакею принести мне пить, а он не приходит. — Я сама побегу, — поспешила сказать Анриэтта, которая горела нетерпением и приискивала сто предлогов, чтобы оставить гостей. Гидальго бросился к ней. — Я избавлю вас от этого труда, сеньора, — сказал он ей. — Как! Вы хотите служить мне пажом? — сказал Бриссак. Эти слова остановили Сида, глубоко униженного. — Садитесь, Анриэтта, садитесь, капитан, — сухо перебила Мария Туше, — разве здесь нет пажей для прислуги и свистков, чтобы их звать? Она величественно свистнула в позолоченный свисток, как владетельница замка в XIII столетии. Анриэтта села с досадой, испанец — с сожалением, Антраг старался оживить разговор со своими гостями, госпожа д’Антраг бранила медленность слуг, испанец думал, как бы узнать, что сказал Бриссак лакею, Бриссак думал, как бы ему выйти, не потащив за собою испанца, Анриэтта ломала себе голову, как бы ей убежать до восьми часов. Вдруг два пажа вприпрыжку, чтобы избавиться от собак, которые хватали их маленькие ножки, появились в начале рощи и доложили: — Граф Овернский приехал в замок! — Мой сын! — вскричала Мария Туше с изумлением. — Граф! — пролепетал д’Антраг, испуганный мыслью о том, какой эффект это посещение произведет на испанца. Кастиль бросил на Бриссака торжествующий иронический взгляд, который как бы говорил: «Вот ты и попался! Ты назначил тут свидание графу Овернскому, а я — здесь; как-то ты выпутаешься из этого?» Бриссак это угадал и подумал: «Подожди, дурак, дам я тебе узнать себя. Я придумал средство». Между тем весь дом всполошился от этого события. Госпожа д’Антраг строго держалась церемониала. Ее люди занялись приготовлениями встречи графа Овернского, как принца. Анриэтта чуть не упала в обморок от бешенства при этой новой помехе, но она должна была преодолеть себя, чтобы пойти вместе с матерью. Подобно сидящей статуе, вдруг приподнявшейся со своего пьедестала, госпожа д’Антраг встала, чтобы идти навстречу к своему сыну. Церемониал французского двора требовал, чтобы королева шла навстречу своему сыну. Испанец, видя, что Бриссак сидит неподвижно, думал, что он растерялся, и лицемерно подошел к нему, говоря: — Находите ли вы приличным, чтобы мы остались в обществе начальника пехоты роялистов? — А! Во время перемирия! — с притворным простодушием возразил Бриссак. — Однако могут подумать нехорошо об этой встрече, — настойчиво прибавил гидальго, — а вы между тем колеблетесь. — Колеблюсь, колеблюсь, потому что во Франции невежливо сбегать, если кто-то приехал. Это притворное сопротивление вовлекло в засаду испанца. — Заклинаю вас именем Лиги не компрометировать себя, оставаясь здесь, — сказал он. — Вы, может быть, правы, — сказал Бриссак. — Уезжайте, уезжайте! — Ну, хорошо, если вы непременно этого хотите. У вас сильная голова, дон Хозе! — Я велю приготовить ваших лошадей. — Я полагаю, и вы поедете со мной, дон Хозе? Добродушие этого последнего приглашения окончательно обмануло испанца. Он вообразил, что Бриссак, желавший сначала иметь свидание с графом Овернским, хотел теперь, чтобы никто не был свидетелем того, что будет происходить между графом Овернским и его семейством. Дону Хозе Кастилю постоянно удавалось умножать заговоры силой своего гения. Вместо ответа испанец таинственно приложил палец к губам. Отчаяние д’Антрага среди всей этой суматохи было весьма жалким зрелищем. Что подумает Лига о приезде к нему такого подозрительного роялиста? И это в то самое время, когда он только что сказал Кастилю, что граф Овернский никогда не бывает в Ормессоне! Бриссак уезжал, очевидно, оскорбленный. Кастиль нахмурил брови. Какое несчастье! Д’Антраг побежал за лигерами, чтобы уверить их в своей невинности. Он унизил себя до того, что поклялся гидальго, что приезд графа Овернского был совершенно неожиданным. — Это все равно, — сказал Бриссак, — я не могу оставаться с ним. Он входит в цветник, пойдемте в другую аллею, дон Хозе, чтобы можно было сказать, что я даже не кланялся ему. Вы будете свидетелем, дон Хозе. — Непременно! — отвечал испанец. Бриссак просил д’Антрага извинить его перед дамами, которые, наверное, понимали его быстрый отъезд, и, поклонившись ему с большой холодностью, оставил его в отчаянии. Кастиль сказал тогда Бриссаку, который увлекал его за собой: — Нас не обманут этой неожиданностью, между тем как вы будете протестовать вашим отъездом, я останусь, чтобы нас не провели. — Как! Вы оставляете меня одного? — удивленно спросил Бриссак, дружески пожимая ему руку. — Но ведь вы компрометируете себя. Пожалуйста, поезжайте со мной. — Я ничем не рискую, — сказал гидальго, убежденный более прежнего, что он откроет заговор роялистов. Де Бриссак уехал. Испанец воротился и как раз встретился с сыном Карла Девятого и Марии Туше. Графу Овернскому было двадцать лет. Мать научила его предпочитать себя всем, даже ей. Он вошел в замок как победитель и, поклонившись матери, которая присела перед ним, сказал: — Здравствуйте! Признайтесь, что я здесь редкий гость. А! Я вижу месье д’Антрага. Право, он помолодел. Ваш покорнейший слуга, месье д’Антраг! Д’Антраг поклонился. Молодой человек приметил испанца. — Дон Хозе Кастиль, капитан в службе его величества короля испанского, — сказала Мария Туше, торопясь кончить это неприятное представление. Граф слегка дотронулся до своей шляпы и спросил: — Были ли вы при Арке? Гидальго с досадой пробормотал «нет» и спрятался за Антрагом. Этот последний, взяв за руку Анриэтту, подвел ее к брату. — Мадемуазель д’Антраг, — сказал он, — которую вы не знаете, граф, потому что вы были здесь только один раз, когда она была ребенком. Граф посмотрел на эту прелестную девушку, которая кланялась ему как незнакомому. Он посмотрел на нее с таким вниманием, которое не укрылось ни от отца, ни от матери. — Напротив, я ее знаю, — сказал он. — Возможно ли это? — спросила Мария Туше. — Была она здесь вчера? Этот фамильярный, почти презрительный тон не возмутил ни Антрагов, ни молодую девушку, так им любопытно было узнать мысли графа. — Анриэтта приехала только вчера, — отвечал д’Антраг. — Откуда? — Из Нормандии. — Она проезжала через Понтуаз? — Да. — И провожали ее два лакея? — Да. — Она ехала на черном иноходце, который хромал на правую ногу? — Да. Откуда вы это знаете? — Подождите… Сходя с парома, она зацепилась платьем за столб и чуть не упала. — Это правда, — сказала Анриэтта с удивлением. — И, зашатавшись, она выказала очень красивую ногу. Анриэтта покраснела. — Ну что же! — сказала она с улыбкой. — Вы можете порадоваться… Это доставило вам прекрасную победу. — А! — сказали в один голос отец и мать, также улыбаясь. — Вы, должно быть, помните, если заметили, — продолжал граф со своей цинической фамильярностью, — трех человек в лавочке возле хижины паромщика? — Я не знаю, — пролепетала Анриэтта. — Я вам это сообщаю. Знаете ли, кто были эти три человека? Я, Фуке ла Варенн, продолжавший свой путь в Медан, и наконец… Ах! Это самое главное — король! — Беарнец?! — вскричала госпожа д’Антраг. — Нет, король, — сказал граф Овернский, — король, который видел мадемуазель д’Антраг и ее ногу, король, который вскрикнул от восторга и который влюблен без ума в мадемуазель д’Антраг. — Возможно ли?.. — сказала Мария Туше с изящной сдержанностью. — Какая глупость! — пролепетал Антраг, сердце которого сильно забилось. — Может быть, это глупость, но она имела бы последствия, если бы короля не позвал паромщик. Он отправился на паром, сетуя, что не может следовать за незнакомкой, и мы говорили только об этой брюнетке и об ее круглой ноге до Понтуаза, где мы должны были ночевать. Черт меня побери, если бы я сомневался, что эта нога мне сродни! Анриэтта была красна, как огонь. Сердце ее билось, какое-то неопределенное опьянение бросилось ей в голову. Она, прежде так торопившаяся воротиться в свой павильон, села возле матери, жеманясь как бы для того, чтобы прельстить своего брата и побудить его к новым признаниям. — У короля наваррского прекрасный вкус, — сказала Мария Туше. — Да, конечно, у короля хороший вкус, — отвечал граф Овернский, — потому что мадемуазель д’Антраг — маленькое чудо. — Король очень удивится, — сказал отец, — когда узнает, что эта незнакомка — девушка знатная, сестра его друга, графа Овернского. Он это узнает, потому что вы это скажете ему. — Для чего? — прошептала Анриэтта, кокетничая. — Э, черт побери! — вскричал молодой человек. — Я бьюсь об заклад, что он уже знает это, потому что это он послал меня сюда сегодня. «Воспользуйтесь перемирием и соседством, — сказал он, — чтобы навестить вашу мать, чтобы меня не обвиняли в том, что я разлучаю вас с ней». — Он сказал это, стало быть, он не знал ничего, — возразила Анриэтта. — Ба! Не мог же он сказать мне: «Поезжайте сказать мадемуазель д’Антраг, что я нахожу ее прекрасной», — не потому, чтобы он церемонился со мной, но исполнять эти поручения обязанность Фуке ла Варенна. — Но чтобы послать вас с этой целью… из любопытства, каким образом король узнал имя моей дочери? — спросила госпожа д’Антраг. Молодой человек коварно улыбнулся, приметив успехи Марии Туше, которая за пять минут перед тем называла Генриха только Беарнцем, а теперь, при испанце, называла его королем. — Разве Варенн не знает все хорошенькие личики во Франции? — сказал он. — Они все записаны в его памяти, и при случае он вынимает их оттуда по одному, как буфетчик бутылку из шкафа. — Однако теперь на столе стоит много бутылок, — сказал Антраг, продолжая метафору и не примечая неприличия подобного разговора при молодой девушке. — Нет. Королю слишком мало удалось у маркизы де Гершвиль, слишком удалось у мадам де Бовилье, и он уже занялся другой страстью, но мне сдается, что это кончится прежде, чем начнется. — Кто же это? — спросила Мария Туше, взволнованная, как и ее муж. Анриэтта с жадностью прислушивалась к каждому слову. — Это одна девица из дома д’Эстре. Кажется, ее зовут Габриэль. Говорят, это несравненная блондинка. Я ее не знаю. — И что же? — спросил Антраг. — О! Тут множество самых сложных затруднений. Девушка, возмущающаяся против любви, свирепый отец, способный убить свою дочь, как какой-нибудь римский мясник… Королю это надоест, если уже не надоело. Он глубоко вздыхает, но недолго, минута удобная, чтобы сделаться… — Чем же? — вскричало в один голос семейство Антраг: Мария Туше — с притворным достоинством, Антраг — с притворным удивлением, Анриэтта — с притворной стыдливостью. — Конечно, королевой, — иронически отвечал юный циник, — как только наш король разведется с королевой Маргаритой. Это висит на одной ниточке. — В то время король забудет свою прелестную незнакомку, — сказала Мария Туше. — Если только он думал о ней когда-нибудь, — прибавила Анриэтта, покраснев и задумавшись. Пробило восемь часов в Дейле. Вечерний ветер доносил каждый удар, как настоятельное уведомление, до слуха молодой девушки, не выводя ее из задумчивости. Только когда мать, переменяя разговор, вскричала: «Восемь часов!», тогда Анриэтта, опомнившись, вскочила со своего места. Отец и мать обменялись взглядом, который означал: «Отошлем этого ребенка, чтобы свободнее поговорить с графом Овернским». Что-то похожее на треск ветвей в парке и ржание лошади у павильона нарушило всеобщую тишину, и Анриэтта встала, нахмурив брови. Ночь начинала спускаться на высокие деревья. Сидевшие в роще уже с трудом могли видеть друг друга в полумгле. Испанец, который во время этой сцены постоянно отыскивал в словах таинственный смысл и старался прочесть в пошлых выражениях графа Овернского дипломатические цифры, утомился от тысячи соображений, сталкивавшихся в его голове, и объявил, что собирается ехать, так как парижские ворота запирались в девять часов. Но настоящая причина состояла в том, чтобы следовать за Бриссаком, быстрый отъезд которого начинал внушать ему подозрение. «Я его догоню, — подумал испанец, — тут-то и есть заговор». Он простился. Антраг проводил его вежливо, но не с тем вниманием, какое обыкновенно умел оказывать владелец замка своим собратьям по Лиге. Это охлаждение после таких ласк показалось неловким Марии Туше, которая не могла удержаться, чтобы не сказать об этом шепотом своему мужу. — Было бы не гостеприимно, — сказал Антраг, — оказывать дружбу лигеру в присутствии роялиста. Капитан — испанец, это правда, но ведь граф Овернский — сын короля и ваш. За этим д’Антраг поспешил оставить Кастиля, который был очень этому рад. Анриэтта проскользнула в чащу и ушла, не простившись ни с кем, потому что хотела воротиться как можно скорее. Госпожа д’Антраг, оставшись одна с графом Овернским, приготовилась заставить его разговориться, когда прибежал паж, докладывая, что какой-то господин, приехавший из Медана, желает говорить с госпожой д’Антраг. — Как его зовут? — спросила владетельница замка. — Ла Раме. — Пусть он подождет. — Не стесняйтесь, — сказал граф Овернский, — примите его. — Он говорит, что он привез важные известия, — прибавил паж. — Очень важные, — сказал ла Раме, который следовал за пажом в нескольких шагах и с трудом сдерживал свое нетерпение. — Пойдемте, де ла Раме, — сказала госпожа д’Антраг с беспокойством, — пойдемте, если позволяет граф Овернский…Глава 10 ТРЕЩИНА В ЗАБОРЕ И НЕПЛОТНО ЗАПЕРТОЕ ОКНО
Сейчас ла Раме уже был не так уж хорош собой. Быстрое путешествие, последствия волнений этого дня, злые мысли — все это набросило неприятную тень на его лицо. Госпожа д’Антраг, горевшая нетерпением остаться с ним наедине, не смела, однако, тотчас отвести его в сторону. Ей помог в этом ум молодого человека или, лучше сказать, его злость. Зная, что он находится в присутствии графа Овернского, роялиста, ла Раме начал таким образом: — Я привез вам неприятное известие о войне. — Как — о войне? — сказал д’Антраг, который только что проводил испанца. — Разве у нас война, месье ла Раме? Обернувшись к графу Овернскому, он объяснил ему, что ла Раме — сын соседа. — У нас мир, но только на словах или на бумаге, — отвечал молодой человек. — А в сущности, у нас война, так как даже сегодня солдаты Беарнца… — Короля? — перебил д’Антраг, растревожившись тем, что граф Овернский нахмурил брови. — Солдаты, — продолжал ла Раме скороговоркой, что показывало его гнев, — ворвались к нам в дом, украли нашу провизию и, наконец, подожгли… — Подожгли?! — вскричала госпожа д’Антраг. — Вашу ригу, где была сложена вся жатва соломы нынешнего года. Госпожа д’Антраг промолчала по знаку своего мужа, но это молчание было красноречиво, оно вызывало мнение графа Овернского. Он, не оставляя ни на минуту холодной саркастической улыбки, сказал: — Какие солдаты это сделали? — Их называют гвардейцами. — А! Это гвардейцы. Но в условии о перемирии есть статья… — В нашем краю, — отвечал ла Раме, — солдаты поджигают риги бумагой этого пункта в статье. — Вы жаловались начальнику? — спросил граф Овернский. — Конечно. — Ну что же? — спросил д’Антраг. — Меня хотели повесить. Граф Овернский захохотал так громко, что глаза де ла Раме запылали бешенством. — Граф — добрый роялист, — прошептал он, — сжимая зубы и кулаки. Марию Туше несколько оскорбила эта радость сына Карла Девятого, но д’Антраг, колеблясь между гневом землевладельца и угодливостью придворного, улыбался с одной стороны и угрожал с другой, как маска Хремеса. — Я бьюсь об заклад, что он обращался к Крильону! — прибавил граф Овернский, помирая со смеху. — Именно, — сказал ла Раме, — и это была большая глупость с моей стороны. Я уж теперь жаловаться не стану, а сам сделаю расправу. — Вас четвертуют, мой бедный ла Раме, — сказал граф Овернский, опять смеясь. — Впрочем, это ваше дело. Со своей обычной ловкостью, когда разговор становился щекотлив, он повернулся и взял за руку д’Антрага, который утешился в потере соломы надеждой продолжать со своим пасынком другой разговор. Ла Раме остался один с владетельницей замка. Она опустила голову. Она чувствовала оскорбление, она чувствовала, как раздражен ла Раме. Однако она не стала выказывать нрава при насмешках графа Овернского. — Покоритесь необходимости, — сказала она молодому человеку, — вред поправить нельзя. — Это правда, — отвечал ла Раме, понизив голос. — Огонь погасить можно. Он часто гаснет сам. Но как погасить тайну, которая вредит чести фамилии? — Что вы хотите сказать? — с ужасом вскричала Мария Туше. — Пожар в риге — самое меньшее из наших несчастий, и не это причина моего быстрого приезда. Но вам известно, что ваши вексенские земли смежны с нашими, что мой отец не посторонний для месье д’Антрага и что я был воспитан, так сказать, с вашими дочерьми. — Конечно, я это помню. — К одной из них, к старшей, к мадемуазель Анриэтте… Словом, я почувствовал, как вам известно, такую сильную дружбу… Мария Туше сделала движение нетерпения. — Вы мне дали позволение, — тотчас сказал ла Раме, — в тот день, когда, обратившись ко мне как к родственнику, вы сообщили мне, что Мария, ребенок, рисковала быть компрометированной легкомыслием, подарив одному из ваших пажей перстень… О! Бог мне свидетель, что я не испугался, как вы. Ей было только двенадцать лет, и я назвал этот проступок неважной ветреностью, но так как вы обратились к моей преданности… — Да, я знаю все это, — поспешно сказала владетельница замка. — Вы взяли и принесли этот перстень. Это огромная услуга, за которую я сумею быть благодарной. — Надеюсь, — сказал ла Раме, дрожа, — потому что я подвергнул опасности спасение своей души, чтоб отмстить за вашу честь: я убил человека, и с того времени мне открылось много такого, чего я не знал. — Как это? — растревожившись спросила Мария Туше. — Да, я думал, что, когда человек умрет, его не увидишь больше, раз уж тайна погребена в могиле, она уже не воскреснет. Я ошибался. Бледное и угрюмое лицо гугенота беспрестанно является перед моими глазами, светлое впотьмах, синеватое и матовое при свете. Тайну же знаем не одни мы с вами, сейчас в лагере гвардейцев Беарнца, куда я отправился требовать наказания воров и поджигателей, — я хотел бы видеть уничтоженными всех их: может быть, между столькими призраками я не стал бы узнавать призрак гугенота, — итак, в лагере гвардейцев один молодой человек сказал мне на ухо нашу тайну, столь дорого приобретенную, нашу семейную тайну… — Он вам сказал? — Омаль… изгородь… убитый дворянин! — И… о перстне? — О перстне с его гербом. — Кто этот молодой человек? — Я не знаю его имени, но никогда не забуду его лица, и что-то говорит мне, что я увижу его опять. — Это необходимо, — сказала Мария Туше мрачным голосом. — От кого мог он узнать то, что, по нашему мнению, знали мы одни? Поищем в вашей семье. Мадемуазель Мария, может быть, узнала… — Никогда. Мария в монастыре, она назначается в монахини, и ей ни к чему интересоваться предметами мира сего. Притом она ребенок и ничего не помнит. — Она, может быть, рассказала о своих огорчениях своей сестре Анриэтте. — Нет, нет, — возразила госпожа д’Антраг со странной уверенностью, — это не Мария, а если Анриэтта, то она, должно быть, наняла надежного и верного поверенного. Ла Раме, по-видимому, понял, потому что лицо его приняло выражение ужасной угрозы. Госпожа д’Антраг поспешила сказать: — Нам не следует говорить об этом теперь. Граф Овернский проведет здесь вечер, а может быть, и ночь. Останьтесь в замке, и мы найдем случай возобновить этот разговор. Погруженный в глубокую задумчивость, де ла Раме едва слышал эти слова. Он даже и не заметил, с какой настойчивостью Мария Туше удаляла его. Она, более дальновидная или менее рассеянная, приметила этот задумчивый вид и приняла его за немой упрек. Вероятно, она сочла опасным отпустить ла Раме с этим дурным впечатлением, потому что слегка коснулась его руки и сказала: — Кстати, как здоровье вашего отца? — Все хуже. У нас нет доктора, а это жаркое время очень вредно для ран. — Я не прошу вас ужинать с нами, — сказала Мария Туше. — Граф Овернский не любит новых лиц, и притом вы выказали себя перед ним слишком отъявленным лигером. — Вам угодно, чтобы я воротился в Медан? — холодно сказал ла Раме. — О! Я этого не говорю. — Не стесняйтесь, — продолжал молодой человек с горечью, мужественно скрываемой. — Моя лошадь немножко устала, но я возьму здесь другую. Я не желал бы печалить графа Овернского моим лицом. Только до отъезда я попрошу у вас позволения повидаться с мадемуазель Анриэттой, которую я так давно не видел и которая, должно быть, очень похорошела. В этих словах, произнесенных спокойно, слышалось что-то зловещее, как затишье, предшествующее буре. Госпожа д’Антраг нашла, что для того, чтобы купить отъезд неприятного гостя, эта цена не так уж высока. — Увидеться с Анриэттой? — сказала она, — конечно. Она была здесь сейчас. Думаю, она ушла к себе, вы, кажется, знаете дорогу к павильону? Ступайте туда и постучитесь в дверь, Анриэтта вам отворит или придет в парк. Я вас оставляю, чтобы отыскать моего сына. Ла Раме с радостью поспешно поклонился: он получил позволение увидеть Анриэтту. Госпожа д’Антраг ушла, довольная со своей стороны, потому что опасалась сообщничества де ла Раме более, чем всякого другого. Ла Раме был для нее не только поверенным, но заимодавцем, у которого в минуту отчаяния она сделала долг и все еще не могла заплатить. — Кто знает, — говорила она себе по пути к сыну и мужу, — может быть, этот ла Раме говорит мне о своем призраке и воскресении нашей тайны только для того, чтобы напугать меня и заставить отдать ему Анриэтту. Но теперь опасность велика. Отсутствующая Мария не может дать объяснений. Анриэтта себе не изменит и сумеет сама отделаться от этого докучливого ла Раме. Она все шла, мечтая таким образом. — Очевидно, — продолжала она рассуждать, — ла Раме расставляет мне сети. Этот молодой человек, так напугавший его в лагере гвардейцев, выдуманное им лицо, я обвинила Марию, ребенка, для того чтобы оправдать Анриэтту, мою фаворитку, мою старшую дочь, которую надо пристроить первую. Но если Урбен перед смертью все рассказал этому молодому человеку? Он произнес имя Марии. Итак, ла Раме хочет меня обмануть, но он обманут сам. Или уж не рассказала ли Анриэтта эту басню кому-нибудь, этому таинственному молодому человеку… Но когда? Каким образом? Для каких интересов? Под каким влиянием? Госпожа д’Антраг наткнулась, как все хитрые интриганы, на неизвестный подводный камень. Она не могла знать простой причины, которая вынудила у молодой девушки ложное признание. Это неведение вполне успокоило ее. Ей предстояло неприятное пробуждение. Только что она подошла к графу Овернскому и к своему мужу, как все ее опасения рассеялись. Она нашла обоих занятыми сплетением цветочной цепи своего бесславия. Начали рассуждать втроем о возможностях успеха и о возможностях неудачи, анализировали красоту, недостатки, говорили о прошлом, о знаменитой эпохе фамильной славы. Чего можно было ожидать от нового государя, еще немножко скупого, это правда, но кошелек которого развяжет сердце? Король, если сделается католиком, может надеяться на успех. Если он останется гугенотом, он все-таки составит себе значительное положение во Франции своей шпагой. Если он не сделается королем, он все-таки будет героем, его станет поддерживать Англия и огромная партия реформатов. Его будущность испортиться не может. Его дом всегда будет дворцом, если даже не двором. Что же могло быть опасного разделить судьбу подобного принца? Самое худшее, что могло случиться, это свадьба, и Наваррское королевство после изгнания королевы Маргариты. Сколько грез, построенных на следах, оставленных ногой молодой девушки на песке! Три собеседника весело поужинали. Они говорили обиняками, чтоб не скандализировать лакеев или, лучше сказать, чтоб не компрометировать таких прекрасных планов, разгласив о них. А предмета этих соображений не было тут, стало быть, ни к чему было щадить его. Анриэтта извинилась перед матерью и к ужину не пришла. Она велела сказать, что устала и предпочитает отдохнуть в своей комнате. Она даже отпустила свою камеристку. Мария Туше думала, что она разговаривает с ла Раме, и не настаивала. Граф Овернский не жаловался на свободу, предоставленную отсутствием девушки. Он воспользовался ею во всех отношениях, потому что, опорожнив буфет и погреб, направлял свои движения в сторонушкатулки матери. Этот ложный принц был большой негодяй. Сколько раз он был бы повешен в своей жизни, если бы отец его назывался Туше или д’Антраг! Он рано начал и с самым бесстыдным цинизмом эту карьеру мелкого грабежа, жадного мошенничества, которая никогда не возвысилась настолько, чтобы сделать его по крайней мере королем разбойников. Искусно поговорив о милости, которой он пользовался у Генриха Четвертого, он рассказал несколько примеров о скудности средств короля, что мешало этой милости быть прибыльной. Он был умен и имел способность легко все рассказывать. Он занимал своих хозяев, насмешил их, умел заинтересовать и рассудил, что дело его выиграно. В самом деле, госпожа д’Антраг сделала знак мужу, и снисходительный отчим предложил чрезвычайно любезно, как и следует предлагать принцу, двести пистолей из тех, которые он со вздохами копил в своем эбеновом комоде, подарке Карла Девятого. Граф принял подарок, снова стал пить. Лакеев и пажей отослали, чтобы разговаривать откровенно. Граф Овернский повторил с новыми комментариями впечатление, которое вид Анриэтты произвел на короля. Он пожертвовал в трех или четырех эпиграммах светло-русую дочь д’Эстре черноволосой дочери д’Антрага. Он привел предания, предсказывавшие королевство какой-нибудь отрасли его дома. Для него, уже пьяного, не было более затруднений и замедлений. Первый, кто войдет в замок, будет, конечно, Генрих Четвертый, который придет просить руки Анриэтты у ее родителей. Уже граф Овернский называл короля зятем, и полчаса прошло в этой очаровательной короткости. Вдруг, когда госпожа д’Антраг упивалась ядом этого искусителя, странный стук в стеклянную дверь привлек ее внимание в ту сторону. Она одна сидела лицом к этой двери, и ночь на дворе казалась еще темнее от ярко освещенной комнаты. Что-то бледное, с двумя огненными точками, виднелось сквозь стекло, и госпожа д’Антраг узнала лицо де ла Раме, расстроенное выражением, которого она еще не видала в нем. Возле этого страшного лица тревожный палец беспрерывно делал призывный знак. Если подумать о пылкой фамильярности этого знака, о его неприличии относительно владетельницы замка, можно понять, как удивилась и испугалась Мария Туше, которая, несмотря на свое возмутившееся величие, все видела за стеклом проклятый палец, который говорил: пойдемте! С опасением, которое оправдалось впоследствии, она встала, не привлекая на себя внимания двух мужчин, которые в эту минуту чокались рюмками, повиновалась призыву ла Раме и вышла в сад. — Что такое? — спросила она надменно. — Вы, верно, с ума сошли? — Может быть, потому что я чувствую, что моя голова не на месте. — Чего вы хотите от меня? — Пойдемте со мной. Ла Раме дрожал, его холодные руки ухватились за руки госпожи д’Антраг. — Куда вы меня ведете? — сказала она, серьезно испуганная этим хриплым голосом, этим обезумевшим взглядом. — В павильон мадемуазель Анриэтты. Госпожа д’Антраг вздрогнула, сама не зная почему. — Что я там увижу? — Не знаю, увидите ли вы, но наверняка услышите. — Объяснитесь. — Не знаете ли вы, не ждала ли мадемуазель Анриэтта кого-нибудь в гости сегодня вечером? — Никого, по крайней мере, с моего позволения. — Пойдемте же. Ла Раме взял под руку дрожащую госпожу д’Антраг и повел ее скорее, чем позволяли церемонии, в конец аллеи парка, к тому месту, где возвышался павильон под каштановыми деревьями. — Дверь заперта, — сказал он тихо, — и я хотел постучаться сейчас, когда мне послышались голоса в непритворенное окно. — Как голоса? Ведь Анриэтта одна. Ла Раме, не отвечая, указал на окно, откуда раздавался, правда, невнятно голос, который не походил на голос молодой девушки. Мария Туше услыхала. Скоро голос Анриэтты отвечал, и оба голоса смешались в дуэт, который не предвещал ничего гармонического. — Там мужчина, — прошептала мать на ухо де ла Раме. — Да, — отвечал он, кивнув головой. — Каким образом мужчина мог попасть к Анриэтте? Ла Раме привел госпожу д’Антраг к забору, сквозь трещину которого показал ей в крапиве и чаще каштанов, по другую сторону забора, лошадь, спокойно щипавшую траву в ожидании своего господина. — Я позову мою дочь, — сказала Мария Туше. — Она выпустит этого человека в окно, — сказал ла Раме. — Есть у вас ключ от двери? — Конечно, я схожу за ним. Ла Раме остановил ее. — Может быть, они заперлись изнутри на задвижку, и звук ключа предупредит их. — Что же делать, если так? — У этого павильона есть второй выход? — Нет, если вы не называете выходом окно, выходящее в поле. — Это выход. Если к мадемуазель Анриэтте можно было войти в это окно, стало быть, можно из него и выйти. Постучитесь в дверь. Узнав ваш голос, мадемуазель Анриэтта непременно вам отворит. — А окно? — Я берусь его караулить и ручаюсь, что никто не убежит с этой стороны. Постучитесь. — И ла Раме исчез между деревьями.Глава 11 ЗОЛОТО И СВИНЕЦ
Лошадь, щипавшая за забором траву, принадлежала Эсперансу, который, приехав в ту самую минуту, как восемь часов пробило в Дейле, весело принялся рассматривать местность. Любовники — превосходные топографы. Анриэтта прекрасно описала свой павильон и все окрестности. Эсперанс без усилий узнал указания своей любовницы. Тень, опускавшаяся на густые листья, свидетельствовала о том, что приближался назначенный час. Эсперанс осмотрелся и увидел только крестьян вдали, направлявшихся к своим хижинам, и спрыгнул с лошади. Бедное животное с нетерпением ждало этой минуты. Оно умирало от жажды и голода. Ручей, протекавший, так сказать, под его пыльными ногами, длинные стебли травы и молодые ростки деревьев вознаградили животное за все. Оно погрузило свои дымящиеся ноздри в свежую воду, и все было забыто — дневной жар, несправедливые шпоры, принужденный бег. Эсперанс, удостоверившись, что поводья были достаточно длинны, чтобы дать лошади час свободной паствы, принялся взбираться на забор. Дело было нетрудное, а минута выбрана хорошо. В окрестностях не было никого. Правда, и на балконе его никто не ждал, но к чему бы это? Анриэтта, может быть, ждала за занавесками. Самое главное, чтобы окно было открыто, а обе его половинки были как раз отворены! Поставить ногу на седло, ухватиться рукой за ветвь каштанового дерева, переставить ногу на ветвь — все это было делом четырех секунд. Конечно, в каштановых деревьях послышался треск, осталось несколько царапин на платье и коже, но что за беда? Очутившись на балконе, Эсперанс осторожно посмотрел в комнату. Она была пуста. Он пробрался в нее, чтобы не остаться на виду. Это была комната, обитая старым зеленым штофом. Целая куча испуганных птиц, захлопавших крыльями в большой клетке, сначала напугала Эсперанса, а потом заставила его улыбнуться. Молодой человек, видя, что он один, стал осматривать все, что представлялось его глазам. Эта комната имела только одно окно, то самое, в которое вошел Эсперанс и которое выходило на балкон. Это не была спальная Анриэтты, потому что кровать стояла в комнате налево, освещенной маленьким окном с железной решеткой, выходившим в парк. Комната любимой женщины! Это зрелище не оставляет без трепета двадцатилетнее сердце. Занавеси удержали ее дыхание, по ковру ходили ее голые ножки. Каждая вещь поэтизирована любовью, каждая немая подробность становится красноречивой. Эсперанс любовался этой комнатой с каким-то неопределенным умилением. Для него Анриэтта уже не представляла восхитительной любовницы, обожаемой гордостью любовника даже в падении, причиной которого он сам. Слова Крильона, еще раздававшиеся в ушах Эсперанса, отнимали у Анриэтты ее очарование. Эсперанс мысленно обвинял ее — не в слабости, а во лжи, желал ли он обладать ею? Это возможно, любил ли он ее менее? Это наверно. Однако он подчинялся непреодолимому влиянию этого безмолвного пустынного убежища. Вместо свободы лесов и равнин, которая делает равными любовников, потому что они жильцы одной природы, Эсперанс увидал себя, так сказать, в плену под кровом своей любовницы, окруженным неизвестными предметами, которые принимали его как чужого. Поэтому птицы, испуганные его присутствием, паркет, скрипевший под его ногами, занавесь, не слушавшаяся его руки, показались ему не в духе. Он нашел себя странным в зеркале молодой девушки и вообразил, что, если он захочет сесть, стул его оттолкнет. «Там, — думал Эсперанс печально, — лес звал нас своей красотой, я видел фиалки во мху, на том месте, куда я привел Анриэтту, птицы, вместо того чтобы бежать, играли над нашими головами в ветвях. Я подружился в одной прогалине с жаворонком, который просто прилетал к нам в гости и приводил с собой товарищей-музыкантов, чтобы предложить нам концерт. Разве потому, что там была вера, а здесь сомнение? Или потому, что сюда я приношу недоверие, а туда приносил любовь?» Он еще вздыхал, когда в нижнем этаже задвинули запор. Быстрые шаги послышались на лестнице. Эсперанс почувствовал, что все мужество оставляет его. Шаги приближающейся любовницы всегда возбуждают отголосок в нашем сердце. Эсперанс уже забыл Крильона, упреки и увещания своего приготовленного допроса. Спрятавшись из благоразумия за складками занавеси, потому что надо все предвидеть, а Анриэтта могла быть не одна, Эсперанс, когда увидал молодую девушку без караульных и без служанки, вышел поспешно из своего убежища, с любовью в глазах, с распростертыми объятиями. — Ах, вот и вы! — сказала она таким странно сухим тоном и с таким рассеянным видом, что молодой человек невольно оледенел. Но мы знаем, что он не умел верить злу и что в нем всякая туча испарялась дыханием жизни. — Что с вами? — сказал он своей любовнице. — Вас преследуют, вы боитесь? Она не отвечала. Она в каком-то замешательстве, и скорее спокойно, чем испуганно, оглядывалась по сторонам. — Если вы хотите, — прибавил Эсперанс, — я спущусь с балкона и приду опять, когда вы успокоитесь. С этими словами он направился к окну. Анриэтта остановила его. — Нет, — сказала она, — после. Так как вы уже здесь, воспользуемся этим, чтобы поговорить. Слова «так как вы здесь» показались Эсперансу нелогичными, если не невежливыми, однако его запас угодливости и чистосердечия еще не истощился, и он отвечал: — Да, милая моя красавица, поговорим. Он обнял Анриэтту. Она так ловко и быстро высвободилась, что он почувствовал это, только когда увидал, что она села в двух шагах от него на стул. Он снял шпагу, положил ее на стол возле балкона и стал на колени возле Анриэтты, облокотившейся на ручку стула. Тогда он устремил на молодую девушку глубокий взгляд, в котором отражалась вся душа. Анриэтта, если бы смотрела на это благородное и восхитительное лицо, в эти задумчивые и улыбающиеся глаза, не устояла бы от желания приложиться к нему губами, но она мечтала и не смотрела на молодого человека. — Мне кажется, — сказал Эсперанс кротко, — что вы дурно мне платите за мое путешествие, Анриэтта, за мою усталость и за скуку, с какою я провел эти три дня, не видя вас. Я сейчас дал моей лошади свежей воды, молодой травки и моих ласк. За недостатком овса, она осталась довольна. Но вы, злая, вы не даете мне ничего. Анриэтта вздохнула. — Побьемся об заклад, что я добрее вас, — продолжал Эсперанс, — и что я ничего не забыл из того, что может вам нравиться или, по крайней мере, вас рассеять. Вы, может быть, помните, что десять дней тому назад, в Нормандии, на берегу нашего источника, когда вы брызгали водою на листья орешника, вы заставили меня любоваться этими алмазами и сказали мне, что они похожи на алмазы вашей матери. Тогда я пролил эти блестящие капли на ваши прекрасные черные волосы, и они скатились на ваше очаровательное розовое ушко, где я их выпил, несмотря на то что это были алмазы. — Ну что же далее? — спросила Анриэтта. — Я только сделал вид, будто их выпил. Они отвердели от огня моего поцелуя. Я возвращаю их вам довольно твердыми для того, чтобы остаться в ваших ушах. Он подал ей бриллианты, о которых так сожалел Крильон. Они имели счастье ей понравиться, и она бросила на них взгляд не такой тусклый, как на Эсперанса. — Вы добры, — сказала она. — А! Вы сознаетесь, — отвечал этот благородный молодой человек с такой чистосердечной веселостью, что всякая другая женщина не могла бы устоять против нее. — Развеселитесь, не показывайте мне Анриэтту, которой я не знаю, вместо очаровательной и столь любимой мною любовницы. Она почти вскочила при этом слове и, оттолкнув футляр, все еще не закрытый на ее коленях, заговорила тем же ледяным тоном, которым говорила, когда пришла. Удивленный Эсперанс поднял серьги и положил их на стол. — Я решительно не знаю, — сказал он с достоинством, без всякого гнева, — о чем вы можете говорить со мной подобным тоном. Вероятно, пребывание в родительском доме заставило вас размышлять иначе. Это, впрочем, весьма возможно. — Именно, месье Эсперанс, я сделала размышления. — Месье?.. — повторил молодой человек, все более обижаясь. — Если так, то я буду вас называть «мадемуазель». — Это будет лучше между людьми, которые должны расстаться. — А! — воскликнул Эсперанс, задыхаясь, как человек, который шаг за шагом погружается в ледяное озеро. — Разлука неизбежна, она вынужденная. Вы должны видеть по моей печали, по нерешительности каждого моего слова, как мне тяжело сообщать вам об этом. — Разве открылись наши отношения? — спросил Эсперанс со своим неисчерпаемым легковерием. — Почти. — С ловкостью и осторожностью мы отклоним подозрения. — Этого будет недостаточно, месье Эсперанс. Если и удастся избежать опасности, то она непременно появится снова. Необходимо, чтобы наша тайна умерла навсегда между нами, чтобы вы любили меня настолько, чтобы обо мне забыть. — Как вы связываете эти два слова? «Любить» и «забыть» вместе нейдут. Притом зачем вам требовать, чтобы я еще вас любил, если вы меня не любите? — Я этого не говорю. Всякий день повинуешься необходимости. — Какой необходимости? — Но… Встречаются жестокие необходимости в жизни женщины. — Вы хотите, верно, выйти замуж за кого-нибудь? — Если не я этого хочу, то мои родные могут хотеть. Анриэтта произнесла это так сухо и так гордо, что молодой человек был уязвлен в самое сердце. Ему казалось, что на него нападают и что было бы низостью не отвечать энергическим ударом на безжалостное нападение. Этому мстительному удару научил его Крильон дорогой. По лицу его пробежала тень, он выпрямился, провел трепещущей рукой по своим прекрасным волосам и, возвышаясь над этой сидящей женщиной всем своим ростом, всей красотою своей души и тела, сказал: — Но я не знаю, благоразумно ли вы сделаете, позволив вашим родным приискать вам мужа. Она с удивлением посмотрела на него. — Муж, — продолжал он, — будет требователен. Это уже не любовник, восторгающийся и благодарящий на коленях и всегда если не требующий, то принимающий повязку, которой женщина завязывает ему глаза. Анриэтта, слушая эти странные слова, оставалась в нерешительности между удивлением и гневом. — Муж, — продолжал Эсперанс, — потребует от вас отчета во всей вашей жизни, и каждый ваш поступок подаст ему повод к вопросам и розыскам. — Я не предполагаю, — сказала Анриэтта, бледнея, — чтобы эти вопросы и розыски послужили к моему бесславию. Вы честный человек, по крайней мере, я так думаю, и вас напрасно стали бы расспрашивать обо мне. Моя тайна может быть открыта только вами… Неужели я должна этого бояться? Если вы не доверяете себе, скажите по крайней мере, чтобы я была предупреждена. Благородное сердце Эсперанса билось в ту минуту, когда он готовился нанести удар. Но он ободрился от ядовитого взгляда своей противницы. — Ваша тайна не подвергается никакой опасности, — сказал он взволнованно. — Я говорю о нашей взаимной тайне. За нее я вам ручаюсь, но за других я ручаться не могу. — Что вы хотите сказать? — вскричала Анриэтта, и сердце ее сжалось, а с лица сбежала вся краска, которую вызвал этот спор. — Какие другие тайны могу я иметь? — Меня это не касается, но ваш муж будет этим заниматься. Он не поверит, как я, что мадемуазель Мария д’Антраг, двенадцатилетний ребенок, подарила перстень пажу вашего отца, он спросит вас, не вы ли отдали перстень, который убийца украл для вас, снял с трупа Урбена дю Жардена. Анриэтта помертвела, глухо вскрикнула и зашаталась от этого твердого взгляда и смелого слова. Эсперанс скрестил руки на груди и ждал ответа. — Кто вам сказал это имя? — спросила Анриэтта с замиранием сердца. — Это все равно. Я его знаю, это главное. — Но в чем вы меня обвиняете, сближая это имя с моим? — Я, кажется, вам сказал, и ваш испуг достаточно доказывает, что вы меня поняли. — Я чувствую клевету, оскорбление и возмущаюсь, вот и все. Притом, как же вы теперь обвиняете меня в преступлении, в котором не обвиняли назад тому три дня? — Потому что я это узнал только два часа назад. — Зачем же десять минут тому назад вы были у моих ног и вызывали воспоминания о любви? — Потому что десять минут тому назад я еще надеялся, а теперь не надеюсь. — На что? — Найти вас невинной. — Назовите мне клеветников. — К чему вам их знать? Вы сейчас прогоняли меня, это значит, что вы уже меня не любите. Когда перестают любить людей, занимаются ли тем, о чем они думают? — Конечно, я не стану дорожить уважением человека, который имеет ко мне так мало доверия, что приписывает мне… — То, что приписывают вашей сестре, бедному ребенку, которого вы позволяете обвинять, которого вы обвиняете сами. — Вы меня оскорбляете! — Гнев — не ответ. — Оскорбление — не доказательство, и если вы приехали только для того, чтобы оскорбить меня, вы лучше сделали бы, если бы не приезжали. Эсперанс был добр, но не слаб. Это новое нападение подействовало на его нервы. — Я приехал по вашему приглашению, — сказал он. — Вы сами меня призвали и, к счастью, со мной ваше пригласительное письмо. Может быть, вы мне скажете, что оно не от вас, потому что особа, принявшая меня таким образом, не та, которая мне писала: «Милый Эсперанс, ты знаешь, где меня найти, ты не забыл ни дня, ни часа, назначенных твоей Анриэттой, которая тебя любит». Не правда ли, — прибавил он, показывая записку трепещущей молодой девушке, — не правда ли, вы не понимаете, как вы могли написать эти строчки и, может быть, даже так думать, как вы написали? Анриэтта действительно с испугом глядела на эту записку в руках Эсперанса. Он, успокоившись после первой вспышки гнева, спокойно сложил записку и вложил в вышитый кошелек, который носил на поясе. Анриэтта не могла спустить глаз с этой обвинительной бумажки, и глаза ее сверкнули бешенством, когда Эсперанс спрятал ее. — Итак, — продолжал молодой человек, — я явился к вам только для того, чтобы продолжать нашу роль любовников, прерванную вашим отсутствием. В дороге я узнал ваш проступок и вашу ложь. Мне советовали воротиться. По слабости сердечной я захотел получить от вас объяснение. Я приехал, вы отказываетесь объясниться, вы принимаете мои примирительные объяснения за угрозы, я соглашаюсь на разрыв. Прощайте, прощайте! Он пошел к окну; решимость ясно была написана на его чертах. Видя, что он уходит, Анриэтта в отчаянии, так как он уносил с собой записку, бросилась к нему и схватила его за обе руки со всеми признаками раскаяния и унижения. — Эсперанс! — вскричала она. — Останься, ты знаешь, что я тебя люблю. — Нет, я этого не знаю, — отвечал он. — Пойми же мою горесть, мое безумие, пойми ужас моего положения! — Зачем было оскорблять меня? — Ты меня обвинял. — Зачем было мне лгать? — Но учти, в каких обстоятельствах. Это ла Раме причиной всему. Он осмелился меня полюбить. Он писал мне, когда я была у тетки, смешное, запутанное письмо, которое случайно попало в твои руки, ты удивляешься, расспрашиваешь. В этом роковом письме шла речь о тайне, о Марии, о чести фамилии. Я вверяюсь тебе, я объясняю тебе, каким образом этот ла Раме присваивает себе права на меня, чтобы заставить заплатить ему за его преданность. В письме он говорит только о проступке Марии, потому что моя мать, из нежности ко мне, говорила ему только о моей сестре. Неужели ты хотел, чтобы для оправдания младшей сестры, которую ты никогда не видал и никогда не увидишь, я стала бы бесполезно обвинять себя и рисковать лишиться твоей любви? Твоя любовь для меня драгоценнее чести, ты это знаешь, потому что для тебя я забыла все. Ну же, прости, ты же не злой, сжалься над своей возлюбленной, ты ее первая любовь. Я была легкомысленна, какая молодая девушка не бывает легкомысленна? Но ветреность — не преступление… Прости, забудь… Я люблю тебя, Эсперанс, и никогда не переставала тебя любить. Она обвила его своими прекрасными руками, она целовала своими горячими губами лицо, черты которого приобретали все более взволнованное выражение, всю великодушную слабость благородного Эсперанса. — Вы меня прогоняли, однако, — сказал он в волнении. — Прости гнев благородной души, возмущающейся от постыдного обвинения. — Вы меня прогоняли прежде, чем я вас обвинил. — О! Прости еще больше бедной молодой девушке, которую притесняют ее родители и которая видит себя разлученной навсегда, может быть, с тем, кого она любит. Отец мой безжалостен, мать мечтает для меня о союзах гораздо выше моих слабых достоинств. Подозрение с их стороны хуже смерти для меня. — Вы, однако, не погибаете за то, что меня любили, — сказал Эсперанс, — и со мною вам нечего опасаться ни бедности, ни бесславия. — Вы не знаете ваших родителей, — сказала молодая девушка с лицемерной кротостью, — вот почему мои родители никогда не согласятся нас соединить. О! Если бы не это, я с гордостью призналась бы в своей любви к вам. А! Вот вы теперь сделались рассудительны, вы уже не тот бешеный, который дурно обращался с бедной девушкой, единственное преступление которой — несчастье. Я читаю в ваших прекрасных глазах забвение, я читаю в них уверение, что вы еще любите меня. — Что же делать? Делать нечего, — сказал со вздохом нежно-сердечный Эсперанс. Молния торжества вспышкой осветила бледное лицо Анриэтты. — Возможно ли, — сказала она, — чтобы гордость до такой степени сбивала с толку прекрасную душу, чтобы она сделалась неблагодарной до неделикатности? Она скрасила горечь этого слова в меду поцелуя. — Как это? — сказал Эсперанс. — Да, вы меня упрекаете доказательством любви, письмом. — Я им не упрекал, я о нем упоминал. — Краска бросается мне в лицо. Он меня упрекал в том, что я была доверчива… А я в горести говорила себе: «Если он вооружается этим письмом против меня теперь, когда он меня любит, какое употребление сделает он этому письму, когда перестанет меня любить?» Новый поцелуй скрыл эту новую каплю яда. — Неужели вы считаете меня до такой степени вашим врагом? — Не вас, но на вас имеют влияние, вы слабы для всех, исключая меня, и когда мы расстанемся… О мой милый Эсперанс! Если ваша слабость, если несчастный случай заставит эту записку попасть в чужие руки, я погибну, и меня погубит тот, кого я так любила… Какое наказание! Оно будет справедливо! Она растрогалась, говоря эти слова. Эсперанс с восторгом заключил ее в объятия. — Не опасайся этого письма, — сказал он, — мы вместе его сожжем. Бедный Эсперанс! Он принял за ангельскую улыбку адскую радость, засверкавшую в глазах Анриэтты, и за сладкий выкуп любви ее Иудин поцелуй! Он стал искать в кошельке записку. Анриэтта протянула руку, дрожавшую от жадности. Вдруг несколько ударов раздались в дверь павильона, и нетерпеливый голос закричал: — Анриэтта! Анриэтта! — Это моя мать! — испуганно прошептала девушка. Эсперанс побежал на балкон. Анриэтта остановила его, подумав, что он уносит с собой письмо. — В мою спальную, — сказала она. Она толкнула туда молодого человека, заперла дверь и пошла отворить.Глава 12 ПРИВЫЧКИ ДОМА
В передней было темно, у Марии Туше дрожал голос. Приметив волнение дочери, она промолчала. — Я здесь, матушка, — сказала Анриэтта, отвернувшись. — Почему вы не отворяли? — Я хотела засыпать, я уже почти заснула, но теперь, когда я проснулась, я могу пойти ужинать с вами, матушка. Говоря эти слова, в нетерпеливом желании уйти и удалить мать от павильона, она тихо подталкивала ее к двери. Мария Туше в свою очередь оттолкнула дочь в сторону. — Пойдемте к вам, — сказала она, проходя первая. «Я пропала», — подумала Анриэтта, раскаявшаяся, что не дала Эсперансу убежать. Мать, бросив вокруг быстрый взгляд, прямо подошла к открытому окну и, приметив внизу караулившего ла Раме, спросила у него, выходил ли кто с этой стороны. — Нет, — отвечал ла Раме. Тогда госпожа д’Антраг воротилась к дочери и сказала: — Где человек, которого вы спрятали здесь? — Кто? — спросила Анриэтта, и сердце ее сжалось от страха. — Если бы я знала, я у вас не спрашивала бы. — Здесь нет никого. — Я слышала его голос. — Клянусь вам… Мать стала осматривать с лихорадочной живостью каждый угол, каждый предмет мебели в комнате, складки занавеси. О величии ее манер уже не было и помину. Не найдя никого, она направилась в спальную. С силой оттолкнув Анриэтту, которая загородила ей дорогу, она вошла. Анриэтта надеялась, что молодой человек искусно спрятался, по обычаю обыкновенных любовников, под кроватью или в каком-нибудь шкафу, но Эсперанс стоял около окна с железной решеткой. Он слышал все и ждал. При виде этой черной фигуры в сумраке комнаты Мария Туше поскорее схватила кремень и огниво, чтобы зажечь свечу и рассмотреть человека. Эсперанс, видя эти приготовления, смотрел на бледное лицо, расстроенное бешенством, этой оскорбленной матери, свирепая и быстрая расправа которой была ему известна. Анриэтта спряталась за большим креслом. Мария Туше поднесла свечу к лицу Эсперанса и задрожала, увидав его таким красивым, спокойным и достойным обожания. Подобный любовник у ее дочери разрушал все ее планы на будущее. Еще проступок, который надо будет уничтожить. Вот неумолимая судьба ее фамилии: стыд и кровь! — Что вы тут делаете? — спросила она грозным голосом. — Вы молчите… Тогда будете ли отвечать, по крайней мере, вы, сударыня? Анриэтта, вне себя от ужаса, закричала: — Я не знаю этого господина. — Это, может быть, разбойник? — сказала Мария Туше, раздраженная спокойной красотой Эсперанса. Благородные, ясные глаза молодого человека устремились на стол, где сверкали бриллианты, и привлекли к ним внимание матери. — Что это такое? — спросила она с удвоенной яростью. — Я не знала, что у вас есть эти вещи! — И я тоже не знала, — пролепетала Анриэтта, обезумев от стыда и страха. Тронутый состраданием, Эсперанс придумал ложь, чтобы спасти честь своей любовницы. — Вот вся правда, — сказал он кротким голосом. — Я проезжал через Руан шесть дней тому назад. Я увидел там эту девицу и страстно в нее влюбился, хотя она меня не приметила. День был праздничный. Эта девица смотрела в лавке жида на эти бриллианты. Мне пришло в голову купить их, потому что они заслужили ее внимание. — Я нахожу большой дерзостью с вашей стороны покупать бриллианты для моей дочери. — Позвольте, сударыня, чувствовать любовь — не преступление, а то было бы преступлением и внушать ее. Я не хотел ни оскорблять, ни компрометировать вашу дочь и следовал за нею очень почтительно до этого дома. — Для чего? — спросила Мария Туше со своей обычной надменностью. — Чтобы узнать ее имя и ее звание, о котором я не позволил бы себе спросить ее людей, чтобы найти благоприятный случай передать ей эти бриллианты — не как подарок, а таинственный залог чувств, в которых я хотел со временем признаться ей. Позволительно, кажется, стараться понравиться, когда человек почтителен, когда он старается не компрометировать женщину. Со вчерашнего дня я изучал местность этого замка и привычки его обитателей, а сегодня вечером, думая, что ваша дочь вышла из павильона ужинать с вами, я рискнул — это большая вина с моей стороны, — пробраться к ней, чтобы положить бриллианты на ее стол. Это заставило бы ее задуматься, мне была приятна мысль занимать ее ум, если не сердце. Ваша дочь, которой действительно не было в доме, вдруг воротилась, увидала меня, вскрикнула, я хотел ее успокоить, объяснить ей чистоту моих намерений, когда ваш голос раздался на лестнице. Вот вся правда. Умоляю вас простить меня, а в особенности не обвинять вашу дочь, которая не виновата и страдает в эту минуту от несправедливых подозрений. Я один заслуживаю ваших упреков и смиренно преклоняюсь перед вашим гневом. По мере того как он говорил, румянец и жизнь возвращались на щеки Анриэтты, она удивлялась присутствию духа в своем спасителе. Роль становилась так прекрасна, что она ухватилась за нее и приняла маску за лицо. — Да, — закричала она, — вот вся правда! Мария Туше не далась в обман. Гнев ее усилился, когда она увидала все искусство защиты. — Вот на какой предлог ссылаются, — сказала она, — в оправдание того, что пробрались в окно нашей дочери! — Дверь была заперта, — кротко отвечал Эсперанс. — Притом я не хотел, чтобы меня видела мадемуазель д’Антраг, а если бы я вошел в дверь, она увидала бы меня. — Остается объяснить, — сказала мать, судорожно сжимая кулаки, — зачем, когда я пришла, вы спрятались в этой комнате, вместо того чтобы отправиться той самой дорогой, по которой вы пришли. Анриэтта задрожала под этим новым ударом. — Мадемуазель д’Антраг постыдно выгнала меня, — возразил смущенный Эсперанс, — но я хотел остаться, мной руководила надежда. «Может быть, — говорил я себе, — мне посчастливится увидеть мать мадемуазель Анриэтты, и я сумею убедить ее в моих почтительных чувствах, и по степени моей смелости эта дама будет судить о неизмеримости моей любви и о желании моем получить от нее одобрение моему поступку». Вот почему я спрятался. Мадемуазель д’Антраг думала, что я уже ушел. Моя стратегия удалась, потому что я имел счастье повергнуть к вашим стопам эти объяснения. Анриэтта вздохнула с некоторым облегчением. Мария Туше посмотрела на нее спокойно. Но вся сила бури пала на несчастного Эсперанса. — Вы ищете руки моей дочери! — вскричала госпожа д’Антраг, давая волю своей слишком долго сдерживаемой ярости. — Но, делая предложение мадемуазель д’Антраг, вы даже не назвали себя! Кто вы? Эсперанс потупил взор, склоняя голову с деланным смирением. — Я не беден, — сказал он. — Не в этом дело. Вы принц или король? — О нет! — Ваше имя! Ваше имя! — требовала Мария Туше, все более разгорячаясь от притворной покорности молодого человека. — Дело не в том, чтобы покупать бриллианты, мы не жиды, но дворянин ли вы? Эсперанс перевел дух, чтоб рассчитать эффект своего ответа, и отвечал: — Я не знаю. Эффект был страшный. Мать выпрямилась, как гигантка, и с гордым движением сказала: — Должно быть, вы смелы, если решаетесь подвергнуться виселице. Не дворянин, а хотите обольщать знатных девушек! Если бы я не боялась навлечь на мою неосторожную дочь гнев отца и брата, вы поплатились бы за эту дерзость. — Но я не оскорбил никого, — сказал молодой человек, обрадовавшись, что приближается развязка, а его любовница не будет скомпрометирована. — Молчите! — Я молчу. — Уходите… уходите! — Я ушел бы давно, если бы не имел уважения к дамам, — сказал Эсперанс с дурно скрываемой улыбкой. — А ваши бриллианты! — прибавила Мария Туше. — Не забудьте их, они вам понадобятся возле вам подобных! Говоря эти слова, она бросила футляр под ноги Эсперансу, который смеялся над этим женским бешенством и не наклонился поднять их. После любезного поклона дамам он направился к балкону. — Извините меня, — сказал он, — что я иду по запрещенной дороге, но моя лошадь внизу, и мне хочется не делать огласки в вашем доме. — И мне тоже, — в бешенстве отвечала Мария Туше. — Вот почему я вас приглашаю не ходить в ту сторону, вы найдете под этим окном человека, от встречи с которым я хочу вас избавить. Конечно, вы заслуживаете наказания, но вы будете наказаны после и больше. Помните, что, если вам случится когда-нибудь хотя бы взглянуть на это окно или говорить о вашем приключении, мадемуазель д’Антраг будет заключена в монастырь на всю жизнь. Что касается вас… — Да, я знаю, что вы хотите сказать, — прошептал Эсперанс с улыбкой менее веселой. — Будьте спокойны, с нынешнего дня я слеп и нем. Куда я должен идти, позвольте вас спросить? — Подождите, пока я предупрежу человека, который подстерегал вас внизу. В ту минуту, когда Мария Туше подошла к окну, чтобы предупредить ла Раме, он появился на пороге комнаты с глазами, сверкавшими свирепым упоением. Он увидал Эсперанса и закричал: — Я узнал его голос! Эти слова, тон ненависти, которыми они были запечатлены, заставили госпожу д’Антраг резко обернуться и подбежать к ла Раме, чтобы потребовать у него объяснения. При виде своего врага Эсперанс понял опасность, предчувствовал борьбу и, вместо того чтобы продолжать идти к балкону, воротился назад. Ла Раме не спускал с него алчных глаз. Он тоже сделал несколько шагов навстречу госпоже д’Антраг. Анриэтта при виде этого нового свидетеля отступила к двери комнаты, как бы для того, чтобы лучше скрыть свой стыд. — А! Это вы, — сказал ла Раме хриплым голосом, от которого Эсперанса передернуло, как от шипения пресмыкающегося. Инстинктивно он вздумал приблизиться к своей шпаге, лежавшей на консоли возле балкона. Но опасение показаться растревоженным сковало еще раз его решительность. «Великодушие противника, — говорит арабская пословица, — самое верное оружие подлого врага». Ла Раме понял эту нерешительность. Он медленно обошел вокруг стола, как бы для того, чтобы подойти к госпоже д’Антраг, а дорогой он бросил на Анриэтту грозный и отчаянный взгляд. — Мне кажется, — сказал он матери, — что вы сейчас ссорились с этим господином. — Если я могу быть вам полезен, я здесь. — Нет, — отвечала госпожа д’Антраг, стыдясь покровительства подобного человека, — этот господин объяснил свое присутствие удовлетворительным образом, и он уходит. Ла Раме бросился к балкону так, чтобы быть между Эсперансом и его шпагой, лежавшей в стороне. — Вы не знаете, — сказал он Марии Туше, — кто этот человек, которого вы отпускаете? — Нет, не знаю. — Это тот, кто угрожал мне, тот, кто знает тайну, тот, кто хочет погубить нас всех и кто явился сюда только для этого! Госпожа д’Антраг вскрикнула от удивления и испуга. — Утром он от меня ускользнул, — прибавил ла Раме, — он не должен ускользнуть от меня вечером. Во время этого разговора Эсперанс стягивал свой пояс и смотрел с презрительной улыбкой на искусный маневр своего врага. — Это другое дело, — сказала бледная и взволнованная Мария Туше, — и заслуживает объяснения. — И он объяснится, — проговорил ла Раме, опираясь на ту самую консоль, где лежала шпага молодого человека. Малодушная Анриэтта сложила руки и бросила умоляющий взгляд на Эсперанса — не для того, чтобы он был терпелив, но для того, чтобы он был скромен. Тот, нисколько не волнуясь, сказал: — Я ничего не понимаю. Приход этого господина перепутал все. — Все распутается, — сказал ла Раме, играя эфесом шпаги. — Я обращаюсь к вам, — продолжал Эсперанс, говоря с госпожой д’Антраг, — я не хочу иметь дело с этим господином. Кажется, вам угодно было требовать от меня объяснений. Насчет чего? — Насчет каких-то мнимых тайн, о которых вы сегодня утром говорили с месье де ла Раме. Эсперанс посмотрел на Анриэтту, она закрыла лицо руками. — Я должен был, — сказал он, — дать эти объяснения месье де ла Раме, но в чаще леса. Здесь не место и свидетели не по мне. — Однако вы будете говорить! — сказала Мария Туше, подходя к Эсперансу со сверкающими глазами, сжимая кулаки. — О да! Вы будете говорить! — сказал ла Раме, который также подошел, положив руку на нож, заткнутый за пояс. — Вы думаете? — сказал Эсперанс, улыбаясь их бешенству. — Я в этом уверен, — шипел ла Раме с яростью во взгляде. Анриэтта, обезумев от страха, начала шептать молитвы перед распятием. Эсперанс стоял, скрестив руки на груди, перед своими врагами. Ла Раме вытащил из-за пояса кинжал. — Ах да! — медленно проговорил Эсперанс. — Я забыл, где я и с кем. Это привычка Антрагов. Если им мешает тот, кто знает их тайну, его убивают. — Милостивый государь! — вскричала Мария Туше, вся посинев от гнева. — Вы нас принудите к этому! — Вы видите, что это необходимо! — заревел ла Раме, заскрежетав зубами. — Ба! — отвечал Эсперанс. — Я не маленький паж, я не Урбен дю Жарден и не боюсь ни злых глаз мадам д’Антраг, ни скверного кинжала месье де ла Раме. О! Напрасно вы становитесь таким образом между мной и моей шпагой, я ее возьму, если она мне понадобится, но с подобными врагами шпага бесполезна. Ну, позвольте же мне пройти, госпожа, а вы, злодей, прочь с дороги! Анриэтта в страхе убежала в свою спальную и заперлась. Госпожа д’Антраг отступила к двери, ла Раме, с ножом в руках, опустил голову, как бык, бросающийся на своего противника. Эсперанс бросился на ла Раме. — Ты не был повешен утром, — сказал он, — ты будешь удавлен вечером. Он как клещами сжал руку ла Раме, обезоружил его, бросил кинжал на пол и схватил ла Раме за горло. Щеки ла Раме налились кровью, испуганные глаза страшно выкатились, и пена показалась у него на губах. Он упал. Вдруг Эсперанс вскрикнул и опустил руки. Ла Раме, освободившись, с потом на лбу, отскочил назад, оставив Эсперанса посреди комнаты, с широкой раной, из которой лилась кровь. Убийца, наклонившись, поднял кинжал и вонзил его Эсперансу в грудь. Мария Туше отступила, обезумев от страха перед этими страшными потоками крови, которые потекли по полу к ее ногам. Эсперанс хотел протянуть руку, чтобы схватить шпагу, но это движение окончательно лишило его сил, туман пронесся перед его глазами, ноги подкосились, и он упал, прошептав: — Крильон! Крильон! Зрелище было ужасное: с каждой стороны этого трупа, возле балкона и спальной Анриэтты, оба убийцы, бледные и безмолвные, переглядывались, словно в бреду. В соседней комнате раздались душераздирающие крики, а в парке соловей приветствовал своим пением на каштановых деревьях первый луч луны. Вдруг два веселых и пьяных голоса и громкие удары в дверь раздались в павильоне. Звали Анриэтту и госпожу д’Антраг. — О! — закричала она. — Мой муж и граф Овернский. — Отворите! Отворите! Я хочу видеть сестру, — говорил сын Карла Девятого, шатаясь на ступеньках павильона, — покажите мне хорошенькую королеву… А господин д’Антраг захохотал во все горло. Эти слова пробудили госпожу д’Антраг, как труба Страшного Суда. Она задула свечи, но одна загорелась опять, и бросилась к двери, чтобы помешать графу Овернскому идти дальше. Ла Раме, зубы которого стучали от страха, искал выхода ощупью, как будто он был слеп. Он, сам не зная, что делает, стучал в дверь, за которой скрылась Анриэтта, крича от ужаса, цепляясь ногтями. Наконец ла Раме отворил балкон и бросился в пространство. Раздались два крика, один от удивления, другой от бешенства, потом яростная погоня, которая мало-помалу смолкла в сумраке ночи. Эсперанс упал, скорее оглушенный ударом, чем лишенный чувств. Потрясение от падения окончательно возвратило ему сознание, он с трудом открыл глаза и увидал себя лежащим посреди комнаты при печальном свете свечи, точно освещавшей мертвеца. Он положил руку на рану, другой оперся о пол и приподнялся. Мысли несчастного молодого человека сталкивались, как легион призраков, как беспорядочная масса грез. Ему казалось, что дверь комнаты Анриэтты незаметно отворилась и что сама молодая девушка, с лицом бледным, с глазами дикими, высунула сначала голову, потом руку, потом вышла медленно из смежной комнаты. Эсперанс узнал Анриэтту. Она слушала, она смотрела. Она сделала шаг и устремила испуганный взгляд на бедного Эсперанса. Он хотел заговорить, но не имел сил, он хотел улыбнуться, но голова его была в темноте, и эта высокая улыбка была потеряна. Анриэтта подходила, постепенно становясь смелее. Эсперанс тихо ее благословлял. «Она идет, — подумал он, — чтобы перевязать мне рану или чтобы принять мой последний вздох. Эта сострадательная мысль будет зачтена ей перед Богом и может загладить ее проступки». Анриэтта, подойдя к молодому человеку, наклонилась и протянула к нему руку. Но не затем, чтобы перевязать его рану, и не затем, чтобы принять последний вздох своего любовника. Она ухватилась дрожащими пальцами за длинный кошелек, в который Эсперанс спрятал ее записку, и начала отвязывать кошелек от пояса. Господь допустил, чтобы к Эсперансу возвратились на одну минуту сила и жизнь. Он сделал движение, чтобы защититься, и вздох вылетел из глубины его возмутившегося сердца. Увидев, что он опомнился, Анриэтта вскочила вне себя. Она раскрыла рот и не могла вскрикнуть. Она отступала, по мере того как умирающий приподнимался все выше и выше, страшный от гнева и бледный от отчаяния. — О!.. — сказал ей Эсперанс гробовым голосом. — О! Низкая, гнусная женщина! Грабить трупы!.. Тебе нужна записка Эсперанса, как был нужен перстень Урбена!.. Боже, накажи ее! Боже, я не прошу жизни, но дай мне силу умереть не здесь! — Черт возьми! — закричал в то же время человек, с шумом спрыгнувший с балкона в комнату. — Кто это говорит о смерти, месье Эсперанс? О, я это знал! Бедняжка, этот злодей убил его! — Понти!.. Спаси меня! — Ай-ай-ай! — вскричал гвардеец, вырывая волосы у себя на голове. — Спаси меня, Понти! Понти тотчас схватил Эсперанса свей геркулесовской рукой, взвалил его на широкое плечо, а другой рукой ухватился за ветвь, которая затрещала, согнувшись до земли, и исчез со своей добычей. Анриэтта закрыла глаза, протянула руки и упала без чувств.Глава 13 ХИТРЫЙ ПЛАН ПАРИЖСКОГО ГУБЕРНАТОРА
Может быть, читателю будет интересно следовать за де Бриссаком после его выезда из дома д’Антрагов, когда он так боялся, чтобы испанец не поехал вместе с ним, то есть чтобы не помешал ему. Парижский губернатор предпринял важноедело, и все последствия неудачи были ему известны в совершенстве. Самым меньшим несчастьем была его смерть и разорение одной части Франции. Успех, напротив, обещал для него блистательное счастье и спасение отечества. Вопрос состоял в том, чтобы решить между Лигой и королем, между Францией и Испанией. Но для того чтобы сделать этот выбор, надо было узнать сильную и слабую сторону обоих вопросов. Это недоумение заставило де Бриссака провести много ночей в лихорадочной бессоннице. Но человек энергический не вечно живет со змеей в сердце, он предпочитает завязать борьбу и умрет или убьет. Бриссак решился победить змею. Собрав достаточно сведений о Лиге и об испанцах во время своих ежедневных сношений с ними и участия в их советах, хорошо узнав вероломство одних и глупость других, он хотел узнать, что он должен думать о другой партии, стремившейся овладеть Францией. Он хотел сам узнать силы и идеи этого Беарнца, которого так старались победить, и говорил себе со своим прямым здравым смыслом, что презираемого врага никогда не боятся до такой степени. Надо было выбрать себе властелина, и в этом властелине друга довольно могущественного, для того чтобы он составил состояние того, кто дат ему трон. Кого выбрать: Майенна, Филиппа Второго, Генриха Четвертого? Вот что выдумал парижский губернатор, человек, как мы сказали, чрезвычайно находчивый. «Благодарность, — думал он, — плод, не растущий сам по себе на дереве политики. Ему надо помочь цвести и созреть, и надо, когда он созреет, не допустить его упасть к соседу или позволить первому проходящему мимо ловкому плуту сорвать его». Есть несколько способов, чтобы завоевать признательность великого человека. Оказать ему такие услуги, чтобы он не мог, несмотря на свое желание, забыть о них, или подвергнуть его такой опасности или такому вреду, чтобы он не мог отступить перед выкупом, предлагаемым ему. Бриссак выбрал этот последний способ, потому что он слышал, что Беарнец неблагодарен и не памятлив. Он решился так напугать Генриха Четвертого, чтобы он никогда этого не забывал: плата будет скорее и лучше. План его состоял в том, чтобы захватить Генриха Четвертого во время перемирия. Предприятие не представляло никаких затруднений. Уже целую неделю Генрих проезжал почти один по парижским окрестностям; очень занятый новой любовью, он пренебрегал всеми предосторожностями. Если де Бриссак не приведет этот план в исполнение, не было никакого сомнения, что сегодня же или завтра герцог Фериа употребит его с испанским королем. Не лучше ли, говорил себе Бриссак, воспользоваться выгодой французу? С двенадцатью храбрыми людьми, такими храбрыми, что они не будут знать, против кого их посылают, Бриссак велит караулить дорогу, по которой король проезжает каждый вечер. Генрих, всегда переодетый, не будет узнан и, конечно, не скажет, кто он. Пленника приведут к Бриссаку в какое-нибудь очень отдаленное, очень надежное место. А там, уже по вдохновению и судя по тому обороту, который примет разговор, парижский губернатор разрешит наконец, и, конечно, в свою пользу, великий вопрос, разделяющий всю Францию и держащий в недоумении всю Европу. Генрих будет выдан Майенну, что очень позволительно для лигера, или по крайней мере, если ему будет возвращена свобода, то за хороший выкуп. Таков был план Бриссака, и мы не преувеличиваем, называя его замысловатым. Условием успеха была прежде всего глубокая тайна. В самом деле, если бы пленник был известен хоть одному из нападающих, надо было распрощаться с правом выбирать между его свободой и окончательным арестом. Надо будет отдать отчет лигерам, видеться даже с испанцами, надо будет трудиться для этих людей. Правда, что и герцог де Майенн, и король Филипп II, может быть, были бы признательны, а может быть, и нет. А когда играешь такую партию, не имея всех козырей, ее проиграешь непременно, и проигрыш будет огромный. Для того-то, чтобы одному обладать этой важной тайной, Бриссак удалил гидальго, отняв у него всякую возможность навредить, в случае если представится столкновение. Бриссак выехал от госпожи д’Антраг в половине восьмого. Погода в этот вечер была туманная и обещала темную ночь. Граф, в сопровождении своего камердинера, поехал в Париж шажком, наблюдая за окрестностями с зоркостью человека, привыкшего к войне. Потом, не обнаруживая на дороге никакого шпиона, он круто повернул налево, проехал через лесок, скрывший новое направление его езды, и выехал на равнину так, чтобы Аржантей и Сена оставались по левую руку. Камердинер его, на верность которого он полагался, был молодой, сильный солдат, который служил ему шпионом около года и оказал ему большие услуги по милости сношений, которые он успел приобрести в королевском лагере. — Ты говорил, Арно, — спросил Бриссак этого человека, — что нам надо проехать реку повыше Аржантея? — Точно так, и доехать до Шату. Тут или в окрестностях каждый день проезжает особа, которую вы ищете. — Почему ты говоришь, в окрестностях? Разве дорога, по которой она ездит, не так известна, как ты уверял? — Это зависит, откуда едет эта особа. Если из Манта, то проедет через Марли, но все к одному месту. — То есть к дому мадемуазель д’Эстре на берегу реки, близ Буживаля? — К деревне де ла Шоссе, точно так. — Но если он приедет сегодня вечером из Марли, мои караульные его не увидят, потому что я расставил их от Аржантея до Безона. — Сегодня эта особа едет из Монморанси по одной дороге с нами и вами, караульные непременно встретят ее там. Бриссак задумался. — Я не думаю, чтобы он стал защищаться, — наконец сказал он, — а ты? — Не станет. Он один. — Ты это знаешь наверняка? — Ведь вы сами знаете, он вчера был в Понтуазе с графом Овернским и Фуке. Он поехал в Медан к гварейцам, вам дали об этом знать. Овернский у Антрагов, вы там его видели, стало быть, он один на весь вечер. — Переодет? — Как всегда. В эти два месяца, в которые я наблюдаю за ним по вашим приказаниям, он шесть раз ездил к Габриэль д’Эстре, и всегда переодетый. А то ведь отец узнал бы его и не пустил. Бриссак снова погрузился в размышления. От Эпинея лошади ехали скорее, и скоро показались дома Аржантейской деревни. Там солдат показал своему начальнику брод, чтобы не переправляться на пароме, и оба всадника поехали по пустому берегу, начиная примечать каждую тень, каждый шум. Бриссак выразил удивление или, лучше сказать, свой восторг. Ничего не было видно. Должно быть, засада была чудесно устроена. — Я сам попался бы, — сказал он. — Какое уединение! Какая тишина! А между тем мы на том самом месте, где я велел караульным стать в засаде. В самом деле, не было видно ни лошадей, ни людей, не слышалось никакого шума, кроме журчания воды, очень мелко стоящей в это время года и катящейся по каменьям и песку. Место было пусто, почти дико. С одной стороны река, с другой утесы стелили берег, увенчанный тростником и небольшим лесом, перерезываемым оврагами и рытвинами. «Как это странно! — думал Бриссак. — Дело должно бы уже быть кончено, мои люди должны бы уже возвращаться». Арно ехал за своим начальником, не пускаясь в рассуждения, внимание его было занято другим. Бриссак же только слушал и глядел вперед. Вдруг он закричал: — Вот один! В самом деле, на повороте тропинки появился человек в простой и темной одежде. У него была осанка военного, которая оправдывала восклицание Бриссака. Притом этот человек прямо подъехал к губернатору, который со своей стороны поспешил подъехать к нему. Он с нетерпением желал узнать известия. — Здравствуйте, граф, — сказал незнакомец веселым голосом, — вы не узнаете меня? — Месье де Крильон! — вскричал Бриссак, остолбенев при виде человека, которого он не ожидал найти в такой час и в таком месте. — Ваш покорнейший слуга, — отвечал кавалер. — По какой странной случайности встретил я вас, месье де Крильон? — Надо же, граф, повиноваться королю. — Вас послал король… Король наваррский? — Король французский и наваррский, — спокойно сказал Крильон. — Но… зачем послали вас? — спросил Бриссак, беспокойство которого начинало принимать размеры страха. Действительно, встретить Крильона в таком месте, где могла предстоять битва, было большое несчастье. — Чтоб вас задержать, граф, — сказал Крильон с невозмутимым спокойствием. Бриссак был храбр, но он побледнел. Он знал, что Крильон не любил шутить на больших дорогах. — Что вы скажете? — продолжал кавалер. — Разве вы желаете сопротивляться? — Ну да, — сказал Бриссак, — возможно ли, чтобы вооруженный дворянин позволил взять себя одному неприятелю, не будучи обесславлен? — О! — сказал Крильон. — Вы так мало вооружены, что не стоит об этом и говорить. — У меня есть шпага. — Ба! Вам известно, что теперь уж никто не дерется на шпагах со мною. — Это правда, но у меня есть оружие слабых, оружие грубое, и мне бы очень не хотелось этим низким оружием убить храброго Крильона, но я убью его, если он не пропустит меня. И он достал из чушек свои пистолеты. — Я вам говорю, не двигайтесь с места, — сказал Крильон. — Оставьте ваши пистолеты, они не заряжены. — Не заряжены? — вскричал Бриссак с гневом. — Уверены ли вы в этом настолько, чтобы ждать выстрела в упор? Говоря эти слова, он приставил один пистолет к груди кавалера. — Если вам кажется забавно нашуметь и сжечь мои усы, стреляйте, любезный граф, — холодно сказал Крильон, не стараясь отклонить пистолет. — В ваших пистолетах порох, может быть, есть, а уж пуль нет наверняка. — Это невозможно, — сказал растерявшийся Бриссак. — Стреляйте же скорее, чтобы убедиться, а когда убедитесь, мы лучше поймем друг друга. Стреляйте и постарайтесь не выколоть мне глаз ножом. Бриссак, напрасно старавшийся встретиться взглядом с Арно, который отвернулся, опустил свою руку с мрачным изумлением. С ним сыграли точно такую шутку, какую он сыграл с испанцем. — Я понимаю, — прошептал он, — Арно продал меня вам. — Нет, не продал, — возразил Крильон. — У нас денег нет, чтобы подкупать, он нам отдался. Но чего вы ищете около себя таким зорким взором? Вы не думаете освободиться от меня? — Думаю, это вы, кавалер, сами того не зная, продались мне. Желая захватить господина, я захватил слугу, это славная удача. — Я не совсем вас понимаю, — сказал Крильон. — Сейчас двенадцать человек, которых я поставил на дороге, по которой должен ехать король, возьмут его и вас вместе с ним. Крильон засмеялся, и этот громкий смех расстроил несколько веру Бриссака в удачу. — Не сердитесь, что я смеюсь! — вскричал кавалер. — Я никак не могу удержаться. Приключение слишком смешно; представьте себе, что эти двенадцать человек так же мало имели успеха, как ваши пистолеты. Эти бедные люди растаяли, как снег. Что значит двенадцать человек для Крильона? — Вы их истребили? — вскричал Бриссак, которого подобный подвиг не удивил бы со стороны подобного бойца. — Не истребил, а конфисковал, и эти добрые люди спокойно едут теперь к Пасси, где они будут ночевать, а завтра соединятся с нашей армией. Не принимайте такого мрачного вида, любезный граф, сходите с лошади и пойдемте со мной в очаровательное местечко в тридцати шагах отсюда, мы многое имеем сказать друг другу. Вы мой пленник, но я буду к вам внимателен. Арно покараулит вашу лошадь. Извините… Позвольте мне взять вашу шпагу. Бриссак, совершенно растерявшись, отдал свою шпагу и пошел за Крильоном. Он не видел и не слышал ничего. Он был оглушен, как лисица, упавшая в яму, и ребенок повел бы его за ниточку на край света. «Эти игроки искуснее меня, — думал Бриссак, — я проиграл». Крильон поставил Арно часовым внизу у дороги и повел Бриссака в небольшую прогалину, находившуюся поблизости. Там две привязанные лошади разговаривали по-своему посредством топота и фырканья, что и составляет основу лошадиного языка. На свежей траве, покрытой шерстяным плащом, возле этих двух лошадей сидел человек. Левая рука его лежала на шпаге, эфес которой ясно виднелся в лучах луны. Сам человек был скрыт под плащом. Прислонившись к молодому ясеню и согнув одну ногу в колене, он опирался о колено одной рукой и, казалось, был погружен в глубокую задумчивость. Тень от листьев закрывала ему лицо и плечи, светлая точка — или цепь, или пряжка — обозначала пояс, другая точка, шпора, показывала кончик ноги. Эта мрачная фигура имела какое-то таинственное величие. Рембрандт или Сальватор пренебрегли бы ею: так она сливалась с рамкою листьев, резко отделявшихся от неба, усеянного серебристыми звездами. Бриссак спросил Крильона, кто этот сидящий человек. — Король, — просто отвечал Крильон, и тотчас удалился, оставив Бриссака с глазу на глаз с Генрихом Четвертым. Надо было иметь тройную кирасу из дуба, обложенного железом, чтобы не почувствовать сильного волнения при такой неожиданности. Хотя Бриссак был лигер и гасконец, однако он не мог без сильного сердцебиения подойти к неприятелю, которого думал захватить и который захватил его, к государю, которого он не признавал и который явился перед ним ужаснее и величественнее в уединении, чем на троне. А Бриссак видел перед глазами шпагу, победившую при Омале, Арке и Иври! Он в отчаянии стоял нем, сконфужен в двух шагах от короля, который из рассеянности или придумывая, как начать речь, не поднимал еще головы и не произносил ни слова. Это молчание, эта неподвижность дали время Бриссаку несколько успокоиться. Очевидно, первое слово того, чьей свободе, карьере и, может быть, жизни угрожал Бриссак и кто теперь в свою очередь держал в руках участь своего заклятого врага, не могло быть лестно. Граф Бриссак поклонился. Король, выйдя из своей задумчивости, поднял наконец голову и сказал: — Садитесь. Он указал графу место возле себя на плаще. Бриссак колебался с минуту из вежливости, потом, по новому приглашению, сел как можно дальше. Тогда-то он мог разглядеть лицо короля. Луна поднялась над вершинами соседних деревьев, и сквозь листья ее нежное сияние набрасывало на прогалину бледный отблеск.Глава 14 ДВА ЗНАМЕНИТЫХ ОБРАЩЕНИЯ
Король, которому было только сорок лет, имел уже редкие волосы и седую бороду. Если у него не было уже свежей и обольстительной красоты, которая очаровывает и порабощает женщин, он имел в высшей степени величественную и внушительную красоту, которая пленяет мужчин и умом, и сердцем. Глаза, большие и живые, смотрели с пристальностью, которая не стесняла, умеряясь искренней добротою. Однако Бриссаку сделалось неловко, когда этот светлый и лучезарный взгляд охватил его, как пламя, осветившее глубину его сердца. — Месье де Бриссак, — сказал король, — я знаю, что вы желали меня видеть. Вы имели это намерение даже сегодня вечером, и я знаю, какие вы употребили усилия, чтобы достигнуть этого. И я также хотел вас видеть. Мы каждый со своей стороны достигли взаимной цели. Трудно было сказать учтивее и ласковее то, что Бриссак так страшился услыхать. Он поклонился при этой деликатной вежливости победителя. — Не отвечайте пока еще мне, — продолжал Генрих. — Вы будете отвечать, когда подробно узнаете, в чем дело. Вы хотели сегодня захватить меня, план был прекрасный — не потому, что он был труден, но он представлял выгоды, которые могли вас прельстить, так как вы горячо преданы вашей партии; это весьма естественно, и я вас не осуждаю. Бриссак покраснел и искал тени, чтобы скрыть свое лицо. Король продолжал: — Я не стану ссылаться на подпись вашу внизу акта о перемирии возле моей подписи. Как парижский губернатор, вы сказали себе, что ваше истинное верование состоит в том, чтобы сохранять интересы, вверенные вам. А выдав меня Лиге, вы навсегда спасали от меня ваш город, которому я постоянно угрожаю осадой. Конечно, ни один лигер не станет упрекать вас в вашем намерении. А я и не лигер, но не стану вас упрекать. Я понимаю всю его важность и в некоторой степени нахожу его великодушным. К чему, сказали вы себе, заставлять парижан опять терпеть нищету, голод, смерть? Все эти пушки, которые убивают и сжигают, резня на поле битвы, агония женщин и детей раздирают мое сердце, я уничтожу все это, уничтожив причину, я вдруг кончу войну, я сделаю Париж счастливым, а Францию цветущей, я спасу мое отечество, уничтожив короля. Вот что вы сказали себе. Бриссак хотел отвечать, Генрих остановил его ласковым движением руки. — Вы, вероятно, ведете со мною эту жестокую войну из дружбы к де Майенну, но ему ли служите вы? Вы это думаете, а я этого не думаю, и вот по каким причинам. Король вынул из своего полукафтана бумагу и сжал ее в руках. — Испанец вас обманывает и насмехается над вами, генеральные штаты, которые должны выбрать французского короля, — дерзкая мистификация. Де Майенн думает, что на трон посадят его. Ошибается. Король испанский посадит на него свою дочь, инфанту Клару Евгению, которую, если парламент и штаты будут громко роптать, потому что они не совсем еще сделались испанцами, выдадут за молодого герцога Гиза, племянника де Майенна. Если муж королевы умрет, а это дело обыкновенное в испанских браках, инфанта будет царствовать одна. Вы мне укажете на салический закон. Ошибетесь. Филипп II уничтожит его во Франции, он уничтожит этот фундаментальный закон страны, не позволяющий скипетру сделаться прялкой. И тогда без войны и без издержек, даже без воли, сын Карла V сделается королем испанским и французским. Он будет обладать всем светом. Вы дрожите, месье де Бриссак; может быть, дух Лиги не совсем убил в вас французский дух. Может быть, вы даже сомневаетесь в моих словах. Ну! Вот возьмите эту депешу, которую один из моих верных испанцев привез мне из Испании, где у меня также есть и глаз, и рука. Прочтите ее, вы увидите тут план всего, что я вам говорю: вступление инфанты на престол, ее замужество, уничтожение салического закона, прочтите, говорю я вам, эту депешу и покажите ее герцогу де Майенну, так как вы его друг. Это будет для вас обоих спасительным предостережением, и вы будете теперь знать, для кого вы трудитесь так усердно. Король подал Бриссаку депешу, тот взял ее дрожащей жадной рукой. — Какой ужас! — пробормотал он, расстроенный. — Какое гнусное вероломство! О, несчастная страна!.. Ничего этого не случилось бы, если бы мы могли противопоставить испанцу католического принца, ересь создала Лигу. — Это только предлог, — сказал Генрих Четвертый. — Мой предшественник Генрих Третий, кажется, был хороший католик, это не остановило оскорблений проповедников его религии, которые называли его гнусным Иродом, и католического попа Жака Клемана. Я не католик, и вот почему меня отвергают. Вот почему Париж для меня заперт — Париж, ворота Франции! Потому что я еретик, лигеры призвали испанца, предали ему свое отечество и научили испанскому языку своих детей, которые со временем, может быть, забудут французский язык. Потому что я не католик! Это один предлог, не будь у лигеров этого предлога, они придумали бы другой. Но у них не будет этого предлога, я отниму его у них! Никто не посмеет сказать, что я допустил хоть одну ошибку и оставил хоть одно отверстие, через которое во Францию может вторгнуться иностранное владычество. Бриссак с изумлением смотрел на короля. — Да, — продолжал Генрих, — мой народ, мой истинный народ, то есть настоящие французы, желают иметь короля своей религии. Я изучил католическую религию, я приглашал к себе в те редкие свободные часы, которые оставляла мне война, лучших и мудрейших теологов. Я постиг высокую красоту этой религии, и глубоко в мою душу проникло величие ее таинств. Господь, видевший мое усердие и мою любовь, благословил мои усилия, он послал мне свет, он дал мне силу пожертвовать пустым упрямством, безумным заблуждением ради спасения моего народа. Через неделю в Сен-Дени под сводами базилики, где покоятся французские короли, мой народ увидит, как я, окруженный моим дворянством, подойду, опустив голову, к алтарю. Я отрекусь без стыда от заблуждения, которое простил мне Бог, и поклянусь в верности католической церкви, не забывая никогда покровительства, которое я обязан оказывать моим бывшим собратьям по религии, которые, не имея счастья так, как я, просветиться божественной благодатью, тем сильнее нуждаются в моем сострадании и в моей поддержке. Вот что я сделаю, и тогда увидим, что скажет Лига! Мы увидим, перестанет ли она заряжать свои пушки и точить кинжалы. А если нет, то пули, ядра, шпаги и ножи направятся против груди католического государя, такого же католика, как де Майенн, такого же католика, как король испанский! — Обращение! — прошептал Бриссак, взволнованный при мысли об этом огромном политическом перевороте. — Успокойтесь, — отвечал король печальной улыбкой, — война еще будет продолжительна. Париж очень силен, по вашей милости он будет жестоко защищаться. Тень поэтической грусти скользнула по лицу Генриха. — Много раз в эти пять лет, — продолжал он, — спрашивал я себя, не пора ли вложить шпагу в ножны, прилично ли человеку с сердцем оспаривать трон, с которого его исключает целый народ. Я спрашивал себя, какие выгоды вознаградят это отвращение, это разочарование, это утомление и этот постоянный труд тела и души, который портит мою жизнь и заставил меня поседеть преждевременно. А между тем я опять взялся за шпагу, я проводил ночи в труде, я утомлял моих советников. Все, что может один человек поднять на свою долю из общей тяжести, я поднимал, не жалуясь, и, когда вы узнаете почему, может быть, вы скажете, что я сделал хорошо. Дело идет не о том, чтобы оспаривать корону у французского принца, но вырвать ее у иностранца, который говорит так громко, что из Испании его слышат во Франции. Я сын этой страны и не хочу забывать языка, которому меня научила моя мать. Я страдаю, видя, как испанские солдаты едят крестьянский хлеб, как в городах офицеры бесславят девушек и женщин, Франция гораздо выше гением, мужеством, богатством Испании и всех других европейских стран, и я, сын короля и сам король, не хочу, слышите ли вы, месье де Бриссак, я не хочу, чтобы эта великолепная страна сделалась провинцией Филиппа II, как Бискайя, Кастилия, Арагон — страны, опустошаемые леностью и нищетой. Вот почему я борюсь и буду бороться до самой смерти. Люди, называющие меня врагом, лигеры или испанцы. Я действительно им враг, потому что они замышляют погибель моего отечества. Я буду для них таким страшным врагом, что сожгу и уничтожу города, села, людей и животных, скорее чем позволю иностранцу упиться французской кровью. Произнеся эти слова с благородством и пылкостью, Генрих выпрямился, глаза его сверкали, а огонь великой души освещал лицо, и в порыве вдохновения он вытащил из тени свою знаменитую шпагу, которая заблестела в лучах луны. Бриссак закрыл лицо руками, плечи его дрожали от рыданий. — Теперь, — граф, сказал Генрих уже совершенно спокойным голосом, — вы знаете все, что я думаю. Сердце мое облегчилось. Я рад, что высказался вам. Давно вы слышите в Париже испанский язык, сегодня услышали чистый французский. Встаньте, ступайте, вы свободны. Крильон возвратит вам вашу шпагу. Бриссак медленно приподнялся. Лицо его было омочено слезами. — Государь, — сказал он, склонив голову, — в какой день вашему величеству угодно войти в вашу столицу, Париж? Король вскрикнул от радости и обнял Бриссака. — О, поверьте мне, я француз, и добрый француз, — сказал граф, бросаясь к ногам короля. Тот поднял его и крепко прижал к груди. В эту минуту два пистолетных выстрела раздались на дороге, на том самом месте, где стоял Крильон, чтобы обеспечить безопасность короля во время его разговора с Бриссаком. Генрих наклонился взять шпагу, Бриссак побежал помочь Крильону, если будет нужно. Он нашел Крильона смеявшимся, как всегда после какого-нибудь подвига. — Что такое? — спросил Бриссак, за которым шел король. — Я заставил бежать испанца. — Испанца, которого граф хорошо знает, — сказал Арно, — шпиона герцога Фериа, который, несмотря на нашу изворотливость, следил за нами, искал здесь с большим беспокойством и во что бы то ни стало хотел отыскать графа де Бриссака. — И которого я остановил, чтобы он не увидал короля, — сказал Крильон, — а он не попал в меня двумя выстрелами, дурак! Бриссак расхохотался в свою очередь. — Арно сделал с его пистолетами то, что вы приказали ему сделать с моими, — сказал он Крильону. Эти слова были приняты всеобщим смехом. — Очень хорошо, — сказал Крильон, — но он унес с собой кое-что, чего у вас не было, граф. — Что же такое? — Я думал, что его пистолеты заряжены, и отвечал ударом шпаги, который должен был страшно разорвать его кафтан и кожу, даже лошади досталось. Ни человек, ни лошадь не умерли, но порядочно ранены. Слышите, как они бегут?.. Какой бешеный галоп! — Он узнал Арно? — спросил Генрих Четвертый. — Не знаю, государь. — Вы очень компрометированы, Бриссак, — весело сказал король. — Этот испанец на вас донесет. Как вы выпутаетесь? — Ускорив день вашего въезда в Париж, государь, — сказал тихо граф Генриху. — Мы подумаем об этом, граф. Но сначала примите меры, чтобы испанцы вас не убили, потому что если они станут вас подозревать… — Ваше величество слишком добры, что заботитесь обо мне. Я вас умоляю беречься. Когда будет произнесено отречение, Лиге придет конец, и тогда надо остерегаться убийц. — Я сделаю все возможное, месье Бриссак, чтобы целым и невредимым войти в милый город Париж. — Я приготовлю вам комнату в Лувре, государь. — А я велю позолотить вам маршальский жезл. Бриссак, вне себя от радости, хотел заговорить, но король тихо закрыл ему рот рукой и сказал на ухо: — Простите Арно, он честный человек, я это знаю лучше всех, оставьте его около себя. Он будет служить нам посредником каждый раз, когда вы захотите связаться со мной, а это будет случаться довольно часто. Нам пора расстаться, будьте осторожны. Не беспокойтесь за вашего друга де Майенна. Я не испытываю к нему ненависти. Я не испытываю ненависти даже к герцогине де Монпансье, моей смертельной неприятельнице. Я ненавижу только испанца. Майенн будет пощажен и получит все, чего попросит. Берегите себя и любите меня. — О, как вы этого заслуживаете, всею моею душой! — Поезжайте по этой дороге, она ведет в Коломб, вы сможете никем не замеченный вернуться в Париж за полчаса до испанца, если удар Крильона позволит ему доехать до Парижа. Этот Крильон рубит, как топором! — Прощайте, государь! — Прощайте, маршал! Бриссак пожал обе руки Крильону, который отвечал ему таким же дружеским пожатием. Арно в нерешимости стоял за королем. Генрих сделал ему дружеский знак, указав на Бриссака. Молодой человек пошел держать ему стремя и поехал за ним молча и спокойно, как будто в эти полчаса не свершилось событие, которое должно было сделать переворот в Европе. Оставшись одни, Генрих и Крильон посмотрели друг на друга. — Кажется, ваше величество остались не совсем недовольны вашим свиданием с Бриссаком? — спросил Крильон. — Ты видел, Крильон, как мы расстались? — С поцелуями. Но Бриссак — гасконец, государь. — И я тоже, любезный Крильон. — Извините, государь, я хочу сказать, что он наполовину испанец. — Теперь уж нет. Все кончено. Париж мой — без осады, без пушек. Вложи в ножны твою шпагу, храбрый Крильон, у нас не будет более тех чудных битв, где ты так отличался! — Париж наш! О государь! Благодарите ли вы Бога, что он возвратил вам корону такой малой ценой? — Уже двадцать раз после отъезда Бриссака я все повторял одну молитву. Не будет больше проливаться французская кровь, храбрый Крильон. Я счастлив, очень счастлив, я счастливейший из людей! — Государь, — отвечал Крильон, дрожа от счастья, — никогда не надо этого говорить. Неизвестно, что происходит в сердце других. — Ты говоришь о себе, Крильон? — сказал Генрих. — Тем лучше. Дай бог, чтобы ты был еще счастливее меня. Впрочем, я этому поверю, видя твои блестящие глаза и веселое лицо. — Дело в том, что я не помню себя от радости. И во всех отношениях я считаю себя счастливее вас, потому что у вас в эту минуту довольна голова, честолюбие удовлетворено и радуется, а у меня сердце дрожит, как говорится. — Ты любишь меня до такой степени? — Я люблю не только вас, государь. — Уж не влюблен ли ты? — Я не был бы тогда так доволен, и хорошо было бы влюбляться с седой бородой! — У меня седая борода, а я страшно влюблен. — Да, вы король и имеете право делать всевозможные глупости. — Ты называешь это глупостью? Черт побери! Если бы ты видел мою возлюбленную, ты обкусал бы себе пальцы за то, что выразился так легкомысленно. — Я знаю, что у вашего величества хороший вкус, но у каждого вкус свой. — Послушай, мой храбрый Крильон, — сказал король, обнимая за плечо кавалера, — моя Габриэль — самая восхитительная девушка во Франции… А теперь, когда король кончил свои дела, и кончил хорошо, он может похвалиться. И это по милости твоей, ибо ты сегодня заменил мне целую армию. И теперь бедный Генрих, который так долго пренебрегал удовольствиями, может позволить себе к ним вновь обратиться. Поедешь ли ты со мной в ла Шоссе, где живет мадемуазель д’Эстре? Ты ее увидишь и признаешься, что она несравненна. — Я признаюсь в этом теперь, государь, потому что сегодня я обещал ночевать в Сен-Жермене. — Но по пути в Сен-Жермен ты будешь проезжать мимо дома Габриэль, притом ты был бы мне очень полезен. — Чем же я могу быть полезен, боже мой? — спросил Крильон. — Ты мог бы отвлечь подозрения раздражительного отца. — Д’Эстре? В самом деле это человек с твердой волей, честный человек. — Он свиреп, говорю я тебе, и доводит меня до отчаяния. — Потому что он не хочет, чтобы вы сделали ему честь обесчестить его дом. — Крильон! Крильон! Это выражение чересчур сильное. — Вот что значит, государь, поверять мне тайны, я тотчас употребляю их во зло. Но простите мне. — Я прощаю тебе тем охотнее, что честь Габриэль чиста, как первый снег. Увы! Сердце дочери, так же как и гордость отца, неприступно. Поверишь ли, для того чтобы знать наверняка, что я увижу Габриэль сегодня вечером, я должен был отправить отца д’Эстре в Медан к Рони? Он ждет меня там и, несмотря на это, я не совсем уверен, что дочь согласится меня принять. — Если все дело так и обстоит, то я не сказал бы, что ваше величество так счастливы, как вы говорили сейчас. — Всякое несчастье кончается, как всякое счастье проходит, — с улыбкой отвечал Генрих. — Надежда — одна из моих добродетелей. Мои враги называют это упрямством, мои друзья — терпением. Ну, сядем на лошадей, какой прекрасный вечер после такого сурового дня! Я победил Лигу и вступил во владение моим королевством. Будем надеяться, что моя возлюбленная будет так же покорна, как Лига. — Будем надеяться, так как от этого зависит удовольствие вашего величества, — сказал Крильон. — А я поеду по равнине, чтобы скорее доехать до Сен-Жермена. Я неспокоен. Я прошу короля возвратить мне свободу, если у его величества больше нет необходимости во мне. — Будь свободен, прощай и благодарю, храбрый Крильон. Завтра непременно в назначенном месте! Крильон помог королю сесть на лошадь и смотрел ему вслед, когда тот быстро удалялся от него. Затем он приготовился было ехать сам, как вдруг на дороге далеко позади себя он услыхал быстрый галоп. — Не испанец ли возвращается с подкреплением? — подумал он вслух. — Нет, я слышу только одну лошадь. Может быть, испанец упал где-нибудь, и лошадь возвращается теперь одна? Иначе зачем испанцу ехать сюда? Вдруг топот смолк. Лошадь остановилось. — Мне точно слышится голос, стон… — тихо проговорил Крильон. — Мало того, мне слышатся стоны и крик… И тут Крильон увидал на месте, освещенном луной, человека, который спрыгнул с лошади и побежал к реке, чтобы зачерпнуть воды, а на лошади лежал другой человек. — Серая лошадь! — вскричал Крильон. Сердце его сжалось от предчувствия беды. Лошадь печально заржала. «Господи, случилось какое-нибудь несчастье, — подумал Крильон. — Эта лошадь — Кориолан. Он меня почуял. Нужно поторопиться на помощь!» Человек, который побежал к реке, обернулся, услышав топот лошади Крильона, и как будто вид человеческого существа возвратил ему мужество, он закричал во весь голос: — Помогите! Помогите! — Да это же Понти! — воскликнул Крильон, у которого от этого голоса на лбу выступил холодный пот. — Месье де Крильон, — закричал гвардеец, подбегая к кавалеру. — Ну, что там такое? Чего вы испугались? Кто этот лежащий человек? — Ах, разве вы не угадываете, когда я вам сказал, что за нами следил ла Раме? Прокричав какое-то проклятие, Крильон, чуть не рыдая, бросился к Эсперансу, которого Понти как раз снял с лошади и положил на траву, влажную от росы. Бедный молодой человек лежал с закрытыми глазами, смертельная бледность покрывала его лицо, прекрасные бесцветные и оледенелые руки висели с той трогательной грацией, которую из всех земных существ сохраняет только одна птица после своей смерти. Под открытым полукафтаном видна была кровоточащая рана, покрытая носовым платком, лоскутами рубахи и перевязанная кушаком дружеской рукой Понти. Крильон при виде этого белья, омоченного кровью, этой неподвижности тела, при отчаянии Понти, сам растерялся и стал на колени возле раненого, поверженный в отчаяние. Вдруг он вскочил, закричав: — Ты позволил его убить! — Уже все было кончено, когда я приехал. Но я ехал очень быстро. Меня не в чем винить, он не умер. Если мы не оставим его без помощи, если найдем ему хорошего доктора, он оправится. А на дороге мы не найдем ни доктора, ни помощи. — Я не знаю этой стороны, — сказал Крильон, нахмурив брови, что очень испугало бы Понти во всякое другое время. — Доедем до первого дома, — сказал Понти. — До Безона или Аржансона домов нет никаких, а эта рана, из которой вытекло столько крови, а это потрясение от дороги… Я не понимаю, зачем ты вез так далеко этого бедного мальчика. — Я сам бы хотел поскорее довезти его до безопасного места, но когда за нами погнались… — Ты боишься, когда за тобою гонятся! — вскричал кавалер, обрадовавшись предлогу, чтобы выплеснуть свой гнев. — Ты боишься, дуралей! — Когда у меня на руках раненый, когда я понукал коленями замученную лошадь, когда на повороте леса слышал свист пуль и за нами гнался бешеный убийца, заряжавший снова и снова свое ружье, когда я говорил себе, что, если лошадь упадет, а меня убьют, может быть, доконают и раненого, которого поручил мне полковник Крильон, и я снова пришпорил мою лошадь, еще крепче прижал раненого к груди и полетел по дороге, сам не зная куда, — да, тогда я боялся! О, я очень боялся! Говоря эти слова, Понти показывал Крильону окровавленную дыру на шее бедного Кориолана, который от боли катался по земле, как бы для того, чтобы вырвать пулю из тела, которое она палила точно огнем. — Если так, ты прав, — сказал Крильон. — Но разве этого ла Раме не убьют? — О, непременно! Потерпите, потерпите! Но прежде унесем куда-нибудь месье Эсперанса. Вон там по дороге идет человек! И что-то несет в руках. Я побегу попрошу, чтобы он указал нам ближайший дом. — И Понти побежал к этому человеку так быстро, как будто последние два часа не потрудился за десятерых, спасаясь от погони с раненым на руках. Прохожий нес в руках корзину, а в корзине огромную рыбу, голова и хвост которой высовывались из-под крышки. При виде Понти, страшного в своем запыленном и запачканном кровью платье, этот человек вскрикнул от испуга и, протянув гвардейцу корзину, сказал задыхающимся голосом: — Возьмите мою барвену и не убивайте меня. Я мельник Дэнис и несу эту рыбу от мадемуазель Габриэль д’Эстре приору монастыря св. Женевьевы за сто шагов отсюда. Не убивайте меня! — За сто шагов отсюда? — вскричал Понти. — Стало быть, в ста шагах отсюда есть монастырь, правда ли это? — Налево от реки, за лесом, на этом пригорке, — отвечал мельник, стуча зубами от страха. — Добрый человек, — сказал Понти, — не бойся, ты спасаешь нам жизнь. Пойдем! Пойдем! Крильон слышал их разговор и тоже закричал: — Отведи нас, и ты получишь десять пистолей, если поможешь нам унести этого убитого человека. Мельник не прельстился бы этой приманкой, но Понти подталкивал его сзади, и так они дошли до распростертого тела. Мельник со страха перекрестился, но несколько успокоился, увидев, что мнимые убийцы, вместо того чтобы бросить труп в реку, хотели отнести раненого в монастырь. Тогда он принял пистоли Крильона, перекинул корзину через плечо и, взявшись за тело Эсперанса, поднял половину печальной ноши. А Понти держал друга с другой стороны. Крильон вел за узду Кориолана, который едва тащился и ржал от боли на каждом шагу. Они приметили на повороте дороги за лесистым пригорком сероватое здание монастыря. Крильон схватился за звонок. Скоро свет показался в окошечке с железною решеткой, и после обычных переговоров в те времена насилий и взаимной недоверчивости дверь отворилась на голос мельника, и печальная процессия исчезла в мрачной глубине монастыря.Глава 15 БЛАГОЧЕСТИВАЯ РУСАЛКА
Между тем король весело ехал, не зная всех этих несчастий. Он ехал, одухотворенный своим успехом, улыбаясь надежде, что его прелестная любовница сдастся. В то счастливое время называли любовницей женщину, которую любил мужчина, даже в том случае, когда она была любима, а сама не любила. Ныне мужчины отмстили: они царствуют и управляют и оставили титул любовницы только той женщине, которая любит их. Итак, Генрих думал о своей любовнице Габриэль, чистой и свободной девушке, которую ему до сих пор пока не удалось завоевать своими ухаживаниями, продолжавшимися вот уже полгода, и которая деспотически царствовала над самым великим сердцем во всем французском королевстве. Он под предлогом важных дел отправил в Медан месье д’Эстре, отца молодой девушки, отца строгого, мы это знаем, и не предупредил Габриэль о своем приезде, чтобы она не испугалась и не заперла перед ним дверь. Он хотел застать ее врасплох, уверенный, что она не окажется столь жестокой, чтобы выгнать влюбленного, который называется королем, не внушает ненависти и просит только час приятной беседы и доли за обычной вечерней трапезой. Генрих хотел или, по крайней мере, надеялся, откровенно объясниться с Габриэль. Погода стояла благоприятная: небо было чистое, усыпанное звездами и покрытое прозрачным туманом, ночь была одна из тех, что смягчают строгость самых твердых душ, дул легкий ветерок, превращающий в цветущую действительность все мечты ума и чувств. «Надо будет узнать, — думал король, — настоящую причину этого долгого сопротивления. Обыкновенно короли счастливее в любви, чем на войне. Для причудливой фортуны более места для полета на поле битвы, она тогда ускользает, но в узкой ограде будуара фортуна лишается употребления своих крыльев, ее скоро можно захватить и победить». Как в шесть месяцев хитростей и таинственности Габриэль могла устоять? Несмотря на надзор отца, Генрих, знаменитый своими подвигами и своим великим именем, влюбленный в эту прелестную девушку с умом пылким и рыцарским, в эту испытанную роялистку, Генрих, принятый у д’Эстре с уважением, если не с доверием, пользовался каждым свиданием, чтобы обнаружить Габриэль свои чувства, все более и более воспламенявшиеся к такому прелестному кумиру. А так как любви не нравятся разговоры при третьем лице, — д’Эстре, которому репутация короля была очень хорошо известна, искусно присоединялся к разговору, если в нем появлялось слишком много любезностей, или на прогулке неожиданно вставал между этими двумя нежными взглядами, обращенными друг на друга, или же в передней являлся неожиданно, тем самым преграждая путь посланному с запиской к Габриэль, которую эти страстные записки волновали против ее воли, — Генрих нисколько вперед не продвигался и прибегнул к посещениям менее официальным. И уже иногда Габриэль, которой было лестно обожание героя, вызывающего у нее восхищение до энтузиазма, соглашалась на целомудренный разговор на террасе сада. Там вместе с Грациенной, молодой девушкой, преданной своей госпоже, Генрих и его бесчеловечная Габриэль долго рассуждали о вечном синтаксисе любви, о первой главе, самой сладостной и самой прекрасной. А король, состарившийся от стольких забот и неприятностей, перед лицом смертельной опасности, под угрозами для своей славы и короны, предавался с порывами возвратившейся молодости поэтическим радостям, невинным удовольствиям рождающейся страсти. Он любил, он обожал, он сходил с ума от радости и гордости, когда тонкий, белый и розовый пальчик мог приложить к своим губам, целуя на прощание руку. Тогда он забывал этого другого Генриха, угрюмого обожателя французской короны, который сквозь огонь и кровь гнался за этим лучезарным призраком, за своей мимолетной любовью. Надо сказать, что небо соединило все свои дары на очаровательной головке Габриэль. Никогда ничего столь чистого, столь целомудренного не представлялось взорам короля. Он соизмерял свое терпение завоевателя с неоцененным достоинством завоевания. Однако, так как каждая битва должна иметь результат, успешный или неудачный, Генрих, так как он сказал Крильону, ждал окончания своего продолжительного любовного предприятия и чувствовал, что ему улыбнется счастье. Ему казалось, что небо и земля украсились такими прелестями, пропитались таким благоуханием только для того, чтобы приветствовать его. Генрих приехал в деревню Шоссе в половине одиннадцатого. Тут и там раздавался лай собак. Все огни уже погасли в десяти хижинах, живописно разбросанных на пригорке с очаровательными тропинками, которые вели к реке. Дом д’Эстре возвышался на отлогом склоне пригорка. Большие деревья окружали этот дом. При свете луны было видно, как со склона начинался обширный луг, который, подобно перламутровому озеру, усеянному островками, соединялся с террасой, обрамленной меловыми скалами, в тени и свежести густого леса. Генрих в дни тайных свиданий подъезжал к окну комнаты Грациенны и бросал в стекло камешек. Окно отворялось, белая рука делала знак, и король, повинуясь этому знаку, всегда понятному, отправлялся ждать Габриэль или на берегу воды, которая протекала в десяти шагах от дома, или на террасе возле скал. В тот вечер, о котором мы говорим, он проделал то же самое еще с большей уверенностью ирадостью. Д’Эстре был в отъезде, Габриэль, вероятно, спала, потому что огня не было в комнате Грациенны. Но в такой прекрасный вечер было приятно не спать. Генрих нарвал по дороге незрелых яблок и начал их швырять в стекло с большим желанием успеть поскорее условиться о свидании, потому что луна светила ярко и обливала опасным светом лошадь и всадника. Стекло забренчало, но окно не отворилось. Генрих опять принялся швырять яблоки в окно. Ответа не было. Он ждал, но безуспешно. Боясь привлечь внимание, он проезжал взад и вперед вдоль стены, надеясь, что Грациенна или проснется, или воротится от своей госпожи, которая, может быть, задержала ее, ложась спать. Потом он опять воротился к окну и повторил свою попытку. Странный шум отвечал ему, но не со стороны дома, который оставался глух и безмолвен, а со стороны реки, часть которой, залитая светом, была видна отсюда, между тем как другая была скрыта гигантской тенью столетних деревьев. Тут вдруг королю показалось, что хохот нескольких голосов встречал его каждую бесполезную попытку и к хохоту присоединялся шепот и плеск воды. Не приметил ли Генриха какой-нибудь пловец и не насмехается ли над его затруднительным положением? Все в деревушке спали в этот час, притом никто не осмелился бы смеяться над путешественником, приехавшим в дом д’Эстре. Прислушавшись внимательнее, король узнал в смеявшихся голосах голоса женские и знакомые. Он расслышал, даже несмотря на расстояние, свое имя, произнесенное обожаемыми губами, свое имя, звуки своего героического имени, долетевшие до него по гладкой поверхности воды. Хохот приближался, скоро из темной полосы, проведенной линией деревьев, на свету появились две головы, и тогда Генрих узнал Габриэль и Грациенну, которые играли, как две ундины, в темном хрустале самой чудной воды на свете, Габриэль и Грациенну, которые, гордясь непреодолимым препятствием, поддразнивали своей шаловливой веселостью несчастного путешественника, прикованного к берегу. Но Генрих не знал препятствий, его не удержали бы и сто пушек. Он въехал с лошадью в реку и начал, смеясь, сам рассекать волны, двигаясь в сторону неблагоразумных наяд. Тогда хохот превратился в крики испуга, в трогательные мольбы. Лошадь плавала восхитительно и гордо прокладывала себе путь. Генрих подвигался, протянув руки к испуганной наяде, длинные белокурые волосы которой, завернутые в косы толще тюрбана, блестели так, словно Габриэль погружалась в ванну из жидкого серебра. То и дело из воды показывалась белая рука, по которой струился жемчуг, или тонкая драпировка, покрывавшая ее плечи, как туника Амфитриды, или пальчик маленькой ноги. Генрих посылал нежные поцелуи и все продолжал двигаться вперед. — Ради бога, государь, ради бога, воротитесь! — сказала Габриэль умоляющим голосом, и на лице ее красноречиво выражалось отчаяние. — Вы меня звали, моя красавица? — спросил Генрих. — Уважайте женщину, государь! Сжальтесь!.. Если вы приблизитесь еще хоть на шаг, я брошусь на дно! — О, сжальтесь надо мною, вы, мой милый ангел! — сказал испуганный Генрих, который тотчас повернул свою лошадь. — Плавайте спокойно, моя душа, не пугайтесь, не угрожайте. О! Чтобы доказать вам мое уважение, я скорее сам погружусь в эти волны, посмотрите, я отворачиваюсь. Куда мне ехать? Проститься мне с вами? — Вы уже проехали две трети воды, — сказала Габриэль, успокоенная послушанием короля, — поезжайте высушиться на мельнице на острове. — Я поеду, моя милая, а вы? — О, пожалуйста, не будем говорить обо мне, не будем более обращать внимание! Вы меня понимаете, любезный государь? — Да, да, понимаю и еду на мельницу. — А я к вам приду туда с Грациенной, мы там поужинаем, пока мельника нет. — Благодарю! О, благодарю тысячу раз! Король, влюбленный и голодный, выехал на берег возле мельницы, оставил свою лошадь на острове, где она свободно отряхнулась и приступила к вкусному ужину в огороде мельника. Генрих, весь промокший, но с сердцем, наполненным радостью, прошел по мосткам и сел у колеса, там, где никто не мог его видеть и где, следовательно, его присутствие не могло тревожить Габриэль. Пока он любовался красотой ночи и великолепием пейзажа, ундины молча доплыли до цветистой бухты, скрытой от лунного света. В эту минуту, свесив ноги над водой, прислушиваясь к малейшему шуму, который обнаруживал присутствие его возлюбленной, король французский был самым счастливым человеком в своем королевстве.Глава 16 МЕЛЬНИЦА
Грациенна прибежала на мельницу. Это была молодая и веселая девушка, невысокого роста, пышная, с пронзительным голосом, с пухлыми руками. Она знала короля и любила его. Генрих взял ее за руки и задал ей тысячу вопросов об отсутствии Габриэль. Грациенна отвечала, что ее барышня стыдится, что у нее нет приличного платья, для того чтобы принять великого государя, и что девушки, которые собирались ужинать одни после купанья, не имеют нарядов, стало быть, должны страдать те, кто делает визиты, не дав о том знать заранее. Разговаривая таким образом, Грациенна зажгла лампу и вынула из шкапа мельника новые панталоны и белые чулки, которые предложила его величеству, указав ему маленькую комнатку, чтоб он переменил свое мокрое платье, пока она приготовит ужин для своей барышни. — Но что скажет хозяин, — крикнул Генрих из комнаты, где он занимался своим туалетом, — по поводу того, что его новую одежду захватили таким образом? — Слишком счастлив был бы Дэнис, если бы знал, какая ей досталась честь, — сказала Грациенна. — Но Дэнис этого не узнает, он не должен этого знать, болтун. Притом он сейчас отлучился по делам. — Надолго? — Он пошел отнести приору монастыря св. Женевьевы огромную барвену, которая попалась в невод. На это понадобится добрых два часа, если он не станет копаться дорогой. — Он все-таки воротится и увидит меня. — Ваше величество будете месье Жан или месье Пьер, какое до этого дело Дэнису? У вас не написано на лице, что вы король. «К несчастью», — подумал Генрих, не совсем довольный комплиментом и радуясь, что получил его в отсутствии Габриэль. Но она слышала, она вошла в эту самую минуту и, подойдя к Генриху и подавая ему руки для поцелуя, с улыбкой на губах, сказала: — Если у него на лице не написано, что он король, Грациенна, то зато он король и в сердце, и в душе! — О, моя красавица! О, мой ангел! — вскричал Генрих, склоняясь с радостным сердцем над свежими ручками, которые протягивала ему молодая девушка. Конечно, она была красавица. Народ, видевший ее каждый день, сохранил воспоминание о ее чудной красоте так же, как сохранил с признательностью и уважением воспоминание о доброте короля Генриха. Но наверняка никогда Габриэль маркиза, Габриэль герцогиня не была в бархате и в кружевах, в золоте и в бриллиантах так прекрасна, какой король видел ее в этот вечер: идеальной картиной в рамке двери, с великолепным сиянием луны и посеребренным пейзажем за спиной, когда красноватый свет лампы мельника озарял ее юный облик. Кто может описать этот стан богини, руки белые, как слоновая кость, белокурые волосы с золотистыми отблесками, волнами падавшие на плечи и тонкую шею? А этот несравненный овал лица с голубыми глазами, лукавыми, насмешливыми, нежными, черные зрачки которых имели что-то странное, волнующее и зажигающее каждое сердце! Это лицо было ясно и кротко, как прекрасный день, оно возбуждало мысль о радости, оно оживляло, оно утешало, малейшая улыбка пурпуровых губ омолодила бы угрюмого старика и подарила бы надежду умирающему. Мы сказали, что Габриэль была красавица — мало того, она была добра, улыбка шла из ее души, как благоухание из чашечки цветка, она никогда не чувствовала зависти, честолюбия, гнева, не знала лицемерия. Потребовались годы бурь и зараженный воздух двора, ненависть и зависть других, чтобы заставить это благородное лицо прикрываться маской, единственной защитой против смертельного яда. Но в семнадцать лет Габриэль не умела лгать. Она смотрела на Генриха, лежавшего у ее ног, глазами сестры, с уважением верноподданной и думала искренно, что отдает ему все свое сердце. Она сама не знала своего неоцененного сердца. Когда король долго прижимал к губам эти бархатные пальчики со скромной и почтительной горячностью (несомненный знак истинной страсти), Габриэль приказала Грациенне затворить дверь и предложила деревянную скамейку королю. Скамейка была только одна и принадлежала по праву французскому королю. Но Генрих весело сел на четверик ячменя, и скамейка досталась Габриэль, девушка села на нее и приняла серьезный вид. — Еще неосторожность, государь, — сказала она очаровательным голосом. — Отец мой в отъезде, но он может воротиться. Ваше величество ничему не подвергаетесь со стороны ваших верноподданных, но меня будут бранить, мне придется плакать, когда вы уедете. — Плакать? О, моя милая красавица! — сказал Генрих. — Нет, вы плакать не будете. Притом ваш отец не воротится. Я послал его в Мант. — Это вы послали его, государь? — вскричала молодая девушка. — О, злой король!.. Бедный отец! — Конечно, я это сделал, раз уж мне нельзя видеть вас при нем. — Ни в его отсутствие, ни в его присутствие, государь, — сказала Габриэль печально. — Время настало сказать правду, хотя мне многого это стоит, но я должна говорить, слушайте. — Какую правду? — воскликнул встревоженный король. — Мы уже не увидимся более. — О! — Никогда… Отец мне приказал… Он растолковал мне мое положение относительно моего короля, потому что здесь вы король в наших сердцах и в наших желаниях. — Не так, как в Париже, — сказал Генрих, стараясь развеселить Габриэль, которая в самом деле улыбнулась. — Ну! — воскликнула она. — После поговорим об этом. Бесчеловечно со стороны верноподданной огорчать своего короля, а королю было бы жестоко помешать своей верноподданной ужинать. Государь, мы задержались на купанье: уже одиннадцать часов, и мы умираем с голода. — И я тоже, моя красавица. — О государь! Я угощу вас. Какая радость! Я задам пир великому Генриху, и чудный пир, увидите. Грациенна, подай вишни и смородину. — Черт побери! — сказал король с гримасой. — Не очень сытно. — У нас есть пирожные, государь, легкие пирожные, какие Грациенна прекрасно умеет делать. — Пирожные! Чего же еще больше? — Это лакомство нам надо простить, государь, мы лакомки. Есть скляночка орехового ликера. Как мы вас угостим! Аппетит короля, как охотника и воина, затрепетал. Его мороз продирал по коже при виде пурпуровых вишен, наложенных на тарелку, а особенно смородины, белые и красные кисти которой блестели при огне, как рубины и топазы. Стол был накрыт. Генрих предложил кусок пирожного Габриэль и сам взял, вздыхая. Она взглянула на него и поняла. — Как я глупа, — сказала она, — король голоден, а я ему предлагаю женский ужин! — Самая прелестная женщина на свете, — отвечал Генрих, — может предложить только то, что у нее есть. Габриэль с грустью отодвинула пирожное и вишни. — Надо поискать, — сказала она. — Грациенна, довези меня в лодке до дома. Там мы, наверняка, найдем провизию. — Нет! Нет! — вскричал Генрих. — Я предпочитаю насытиться, лицезрея вас, я ужинаю, любуясь вами. Я съем ваши крошечные ручки… — Жалкая пища для желудка, государь. Поищем! Поищем! — сказала Габриэль, легонько отстраняя Генриха, который добирался до ее рук. — Мне кажется, — сказал он, — сейчас говорили, что в шлюз мельницы попадают огромные рыбы. Не раскинуть ли невод или нет ли удочки? Мельники всегда занимаются этим. — Не знаю, — сказала Габриэль. — Я найду. Несколько раз случалось мне ужинать на мельнице постной пищей. Через несколько минут осмотра король увидел одну из трех удочек, которые Дэнис расставлял каждый вечер и которая тряслась, предвещая удачу. Славный угорь уцепился за нее, и король скоро вытащил добычу, на которую Грациенна с радостью бросилась, а Габриэль с испугом отскочила. — А где же огонь? Где же приправа? — спросил Генрих. — Шпек, луковица и вино здесь есть, — отвечала Грациенна, — а через четверть часа я подам это кушанье вашему величеству. — А я в эти четверть часа брошусь к ногам моей Габриэль и так часто, так нежно буду говорить ей о моей любви, что смягчу ее свирепое сердце. — О нет! — отвечала молодая девушка, очаровательно качая головкою. — Это невозможно! — Вычеркните это слово, моя милая. — Невозможно, государь. — Стало быть, вы не любите Генриха? — Напротив, очень люблю. Но если бы он меня любил так, как он говорит, был ли бы он со мной в эту минуту? — Что это? — с удивлением спросил король. — Но если бы я вас не любил, мне кажется, что я, напротив, не был бы здесь… — Разве любить — значит огорчать? — Как, мое присутствие вас огорчает? — Любить разве значит оскорблять? — Я вас оскорбляю? — Любить разве значит губить и бесславить? — Габриэль! Габриэль!.. — Вы меня огорчаете, вы меня оскорбляете вашим присутствием. — Какие громкие слова, моя красавица! — Еще громче дело… Поговорим откровенно. Чего вы хотите от меня? Я не могу быть вашей женой, потому что вы уже женаты. Притом я и не требовала бы этого, я не согласилась бы на это, хотя я девушка благородного происхождения, а вы могущественный король. — Король, но не могущественный. — Неужели вы думаете, что отец позволит мне обесславить себя… — Моя милая… — Захочу ли я этого сама? Вот по какой причине ваше присутствие меня оскорбляет… Но вас это жестокое слово огорчает. Я скажу тогда, что вы меня губите. — Докажите-ка мне это… — Это доказать легко. Отец мне поклялся, что, если я вас послушаю или если вы будете меня преследовать, он запрет меня в монастырь или, что еще хуже, отдаст меня замуж. Король вздрогнул. — Ну это мы еще посмотрим! — вскричал он. — Отцу не нужно позволения короля, чтобы выдать замуж дочь. Замужем я погибну и умру с горя. Генрих стал на колени. — Не говорите мне эти зловещие слова, моя Габриэль, — сказал он, — вы погибнете, вы умрете! — По вашей вине. — Неужели вы считаете меня таким слабым или таким робким, что я не могу, несмотря на отца, несмотря на весь свет, спасти от отчаяния женщину, которую я люблю, и будете ли вы сами так слабы и так жестоки, чтобы отдаться другому, когда вы отвергнете меня, вашего друга и короля? Имейте волю для меня, Габриэль, а я буду иметь силу для нас обоих. Не я вас гублю, но вы сами можете помочь себе, и я вам помогу. Пусть-ка попробуют вас отнять, когда я вас возьму! Видите, Габриэль, вы зависите от себя одной. Вы должны будете приписать себе одной несчастья, которые вы видите в будущем. Если бы вы меня любили, вы имели бы больше мужества. — О государь! Я еще ничего не сказала. Оскорблять меня и губить — это ничего, но вы меня огорчаете — вот ваше преступление. — Как же это? Боже мой, когда я дышу только вами и для вас! — Это очень важно. Вы сейчас просили меня, чтоб я пожертвовала вам моей честью и моей жизнью, может быть, я обязана это сделать для моего короля, но могу ли я пожертвовать вам моей душой и моим вечным спасением? — Вашим спасением? — Конечно. Добрая католичка может ли принять ересь? — С какой стати нам говорить об ереси? — Это, однако, необходимо. Я имею к вам дружбу, я хочу вашего спасения, тем более что, спасая вас, я спасаю Францию, которую ваша ересь подвергает опасности. — Вот вы коснулись политики. Ах, Габриэль! Ради бога… — Ради бога, государь, будем продолжать или прекратим разговор совсем. Молодая девушка произнесла эти слова твердым голосом, и это тем более было странно, что глаза ее были наполнены слезами. Король, растроганный и удивленный, схватил ее за руку. — Вы углубляетесь в мысли, которым никогда не следовало бы наполнять вашу очаровательную головку, — сказал он. — Поверьте мне, предоставьте совесть короля ему самому и имейте дело только с совестью любовника. Клянусь вам, Габриэль, ни ваша совесть, ни моя не находятся в опасности… — Не все так думают, государь. — А! Кто же вам это сказал? — Один праведный человек… — Месье д’Эстре? — Нет, нет. Мой отец жалеет, как все честные люди, но он не обвиняет ваше величество, между тем как… — Между тем как праведный человек меня обвиняет… — Кто же это? Ваш духовник? — Мой советник, превосходный человек. — В самом деле? — Один из знаменитейших ораторов последнего времени. — Я знаю их всех по тем оскорблениям, которыми они меня осыпали. Как его зовут? Кто он? — Это приор Безонского монастыря св. Женевьевы. — Которому Дэнис понес рыбу. Как его зовут? — Дом Модест Горанфло. — Я его не знаю, — сказал Генрих, перебирая в памяти знакомых священников, — однако это имя не совсем мне незнакомо. Этот дом Модест вас исповедует и сказал вам, что вы губите себя, слушая меня? — Да. — Ну раз так, Габриэль, — сказал король с серьезным видом, — я вам должен сделать упрек. Вы мне изменили. — Как это, государь? — спросила она с испугом. — Вы мне поклялись не говорить моего имени, не открывать моего присутствия никому на свете, а между тем сказали обо мне монахам, моим смертельным врагам. — Государь, любезный государь, клянусь вам, я ничего не сказала, я ни в чем вам не изменила, я никогда вас не называла! — Стало быть, у этого дом Модеста есть шпионы? — Нет, это достойный человек! Но он очень умен, и ничто от него не ускользнет. Притом он вас не ненавидит. — О! — сказал король с недоверчивой улыбкой. — Он мне беспрестанно дает советы, совсем непохожие на те, которые вы ему приписываете. — Какие же? — Любите короля, говорит он, любите его, потому что он добр, он родился для счастья Франции. — В самом деле? Какой добрый монах! — Но вместо счастья он принесет вам несчастье, прибавляет он, если будет упорствовать в ереси. — Какой злой! — О государь! Можно ли назвать злым человека, который хочет спасения вашей души? Стало быть, и я тоже зла? — Вы, Габриэль, ангел! — Вот ужин короля! — вскричала Грациенна, с торжеством подавая блюдо, на котором лежал аппетитный угорь. «Я очень голоден, — подумал король, — но ужин не заставит меня забыть этого странного монаха, который подает такие советы Габриэль».Глава 17 КАКИМ ОБРАЗОМ НА МЕЛЬНИЦЕ ГЕНРИХ ВЗЯЛ ДВОЙНОЙ БАРЫШ
Генрих не был избалован монахами. Во времена смут пена, выходящая на поверхность, составляется из всех порчей, имеющихся на теле общества, больного во всех своих частях. Католическая религия была тогда больна: как армия, как магистратура, как буржуазия и народ. За знаменитыми прелатами, которые с благородной заботливостью рассуждали о серьезных политических вопросах, столь гибельно связанных с вопросами религиозными, за этими знаменитыми начальниками, говорим мы, шла циничная, бурная, низко честолюбивая толпа, которая жила грабежом и ссорами, так как за армиями шатаются бродяги, гнусное отребье самых воинственных народов. Во Франции было тогда множество бесстыдных и корыстолюбивых монахов, публично проповедовавших убийство, и не считая Жака Клемана, Генрих видел много разбойников, прикрывавшихся рясой. Поедая вкусное кушанье, приготовленное Грациенной, Генрих хотел продолжать разговор об этом благодетельном монахе, советы которого подстрекали его любопытство, именно по причине их доброжелательства. — Милая красавица, — сказал он, — я не знаю, ел ли сегодня ваш монах более вкусную рыбу и лучше приправленную, но во всяком случае, если у него повар даже лучше, то общество не лучше. Я исключаю те дни, когда вы исповедуетесь у него. — Я не исповедуюсь у него, — сказала Габриэль. — Извините, мне кажется, вы сказали… — Что дом Модест — мой советник, а не исповедник. — Это различие… — Очень важное, потому что приор не может исповедовать, и многие добрые католики жалуются на это. — Я теперь уж совсем не понимаю, — перебил Генрих, — почему же этот приор не может руководить совестью? — Потому что у него парализован язык, и, следовательно, он не может говорить. — Вы мне сейчас говорили, что он вам сказал. — Он велел мне сказать. — Через кого? — Через брата говорящего. Лицо Генриха снова изобразило удивление. — Это еще что? — спросил он. — Говорящий брат! Это какая же должность? — Должность говорящего брата. Приор в параличе и не может говорить, но он думает, он знает, судит, и надо же передавать свои идеи, мнения… Это передает говорящий брат. — Как это странно! — воскликнул король, отталкивая свою тарелку, такой сильный интерес возбудил в нем этот говорящий брат. — Будьте так добры, объясните мне механизм разговора между приором, говорящим братом и тем, кто пришел советоваться с приором. — Ничего не может быть проще, государь. — Стало быть, я глуп и опьянел от ваших прекрасных глаз. Я, право, не понимаю. — Предположим, что я иду в монастырь советоваться с приором. Знайте прежде всего, что это человек необыкновенный. — Да… Очень хорошо. — Да, это был, говорят, отличный оратор, один из тех редких гениев, которые управляют словом, он был лигером во времена Генриха Третьего, но ныне исправился. — С тех пор как онемел? — С тех пор как согнулся под строгой рукой Господа. Господь послал ему два страшных испытания. — А второе какое же? — Страшную толстоту, настоящую болезнь, нечто такое, что сделало бы смешным всякого, кроме этого праведного человека, если бы не уважение, которое ему доставляют его терпение и знаменитая репутация. — Как, неужто он такой толстый? — удивился Генрих Четвертый, который употреблял все усилия, чтобы сохранить серьезный вид. — Я не думаю, — прибавила Габриэль, — чтобы достойный приор мог пройти в эту дверь. — В которую проходят ослы с двумя мешками!.. Черт побери!.. Какая болезнь! — вскричал Генрих. — И вы говорите, что он переносит ее… — Геройски. Он никогда не жалуется. — Подумайте, что он нем, а это, не во гнев вам будь сказано, несколько уменьшает его заслуги. — О! Если бы он жаловался, это можно было бы узнать от брата говорящего. — Это правда. Ну, продолжайте, сделайте милость. Вы хотели объяснить, как приор сообщает свои мысли переводчику. — Знаками рук и пальцев. Это условный между ними язык. Часто даже достаточно одного взгляда. У приора глаза еще очень живые. А глаза брата Робера — так зовут брата говорящего — так быстры, как у вольного воробья. Молния не так быстра, как этот размен самых сложных идей между приором и толмачом. — Неужели? — Это возбуждает удивление, восторг тех, кто к этому не привык. — Вы привыкли? — Конечно, потому что я столько раз советовалась. — Но вам сначала надо было выучиться. Как к вам пришло желание советоваться с приором? — Отец мой привел меня к нему, чтобы я послушала хороших советов. Репутация приора предшествовала его приезду в Безон. Он прежде жил в Бургундии, в приорате, отданном ему покойным королем. Там-то с ним и случилось несчастье. — Паралич или толстота? — Паралич, но сделайте милость, государь, не смейтесь над бедным приором. Его советы вам самим были бы полезны, несмотря на всех ваших военных и финансовых советников, несмотря на помощь Рони, Морне, Шиверни и других мудрецов. — Если приор мне посоветует любить вас, как он советовал вам любить меня, я согласен. Но я боюсь, что он станет советовать мне совсем другое. — О! Во-первых, он предпишет вам повиновение его предписаниям. — Каким? — Отречься от заблуждения, признать совершенство католической религии и успокоить всех ваших подданных этим искренним обращением к истинным доктринам. Мимолетная улыбка появилась на губах короля, который сказал себе, что это уже сделано. — Не слишком ли отважен дом Модест, вверяя свои политические теории этому болтливому — нет, говорящему брату? — О! Их взаимное доверие укреплено на прочном основании. — Пусть так, но вы, рассказывая ваши дела поверенному дом Модеста, не поступаете ли неосторожно? Ваш отец может узнать все, что мы от него скрываем, говорящий брат может поговорить с месье д’Эстре. — Нет, ведь это он передает мне приказание любить вас и направить вас к истинной религии. Он не скажет моему отцу, я уверена в его скромности, несмотря на дружбу, которая существует между моим отцом и монахами св. Женевьевы. Если бы мой отец узнал, что из меня хотят сделать орудие спасения души, мне оставалось бы только приготовить орудие моего мученичества. Король, все еще улыбаясь и поглаживая свою широкую бороду, сказал: — Я дал бы многое, чтобы послушать, как немой отец и говорящий брат подают вам советы, и еще прибавил бы кое-что, чтобы посмотреть, как вы слушаете. Пользуетесь ли вы этим, по крайней мере? — Слишком много!.. — А не думаете вы, что эти монахи могут вас обманывать? — Сразу видно, — сказала Габриэль, пожимая плечами, — что вы не знаете ни приора, ни брата Робера. Зачем им обманывать меня? Какая им прибыль? — Хоть бы для того, чтобы знать, что я делаю. Такая хорошенькая шпионка, как вы, это клад, и Филипп Второй или де Майенн дорого заплатили бы вам за отчет, который вы доставляете даром о поступках короля Генриха Четвертого. — Я опять говорю вам, что я не пересказываю ничего, — сказала обиженная Габриэль, — говорю вам, что вы не делаете ни шага, ни жеста без того, чтобы приор и брат Робер этого не знали. Должно быть, небо вдохновляет дом Модеста. Вы помните, как таинственно посещали вы сначала моего отца? Вы говорили, что дело шло о государственных тайнах. Конечно, мой отец скорее дал бы себя изрубить, чем изменил бы вам. Однако ваши посещения очень его стесняли. Кто же предупредил меня о ваших намерениях по отношению ко мне, когда я сама еще их не подозревала? Дом Модест. Кто меня предупредил, что вы назначите мне свидание? Дом Модест. Кто меня научил, как мне вести себя на этих свиданиях? Все дом Модест через брата Робера. — А, — вскричал король, — вам предписывали ваше поведение? — Конечно. — Ваша строгость, ваше сопротивление — все это было предписано заранее как порядок церемонии? — Да, государь, и это было очень благоразумно. Я так неопытна, что, может быть, погубила бы и вас, и Францию, и себя. — Но эти монахи — мои отъявленные враги! Зачем они вмешиваются в мои дела? — Затем, чтобы спасти вас и государство. — И вы продолжаете их слушать, несмотря на мои нежные мольбы? — Упорно. Я спасу вас против вашей воли. — Вы не смягчитесь? — Я полюблю только католика. — Все это из повиновения глупому приору? — Дом Модест глуп? Брат Робер не имеет орлиного полета, как его приор, но чтоб передать мысль… — Достаточно и гусиного пера. Этот брат Робер — какой-нибудь ханжа, какая-нибудь каретная кляча, низенькая и толстая. — Нет, он высок, сух, тонок, и, когда стоит на своих длинных ногах, бедняжка похож на меланхолическую цаплю. Но он очень добр, и все, что он мне говорит, я слушаю и принимаю… Я его люблю и не хочу, чтобы над ним насмехались или чтобы ему желали зла. — Ну, вам будут повиноваться, как всегда. — Вы примете католическую религию, государь?! — вскричала Габриэль, всплеснув своими хорошенькими ручками с пылкой радостью. — Извините, извините! Я этого не сказал, моя Габриэль! О нет, я этого не сказал. Была бы большая смелость просить меня об этом. Неужели вы думаете, что любовь женщины может вознаградить мужчину за пожертвование его убеждениями и спокойствием его совести? Король делал коварное ударение на каждом слове и притворно выказывал серьезный вид, который привел в отчаяние Габриэль. — Все мои труды погибли, — прошептала она, — он никогда не обратится! Как я несчастна! Я знатная девушка и так люблю короля! Мой отец и брат — ревностные слуги его величества, а другого брата я лишилась под вашими знаменами, государь! Не имела ли я право надеяться, что мой повелитель благоприятно выслушает свою рабыню и примет меня как смиренное орудие спасения целого народа? Жанна д’Арк, говорил дом Модест устами брата Робера, спасла Карла Седьмого от англичан своей шпагой. А вы, дочь моя, спасете Генриха Четвертого от испанцев. — У вас нет шпаги, милая красавица. Габриэль покраснела и потупила глаза. Она была хороша, выше всего, что может представить себе воображение поэтов. — Я надеялась, — прошептала она, — что мой король сделает из любви ко мне то, что десять армий не принудили бы его сделать… То, что приманка короны, что вся слава сего мира не могли бы вырвать у него. — Я ничего не обещаю! — вскричал король вне себя от любви. — О нет!.. Я не могу ничего обещать без продолжительных размышлений. Обращение, моя милая, вещь важная, но поверьте мне, что желание вам угодить и успокоить вашу горесть будет для меня самым сильным побуждением. Однако, милая красавица, что же вы сделали для того, чтобы придать мне мужество? Я находил в вас всегда только недоверчивость. Вы мне признались, что ваши советники предписывали вам приводить меня в отчаяние… Как же вы хотите, чтобы я убедился? — Нет! Нет! — вскричала Габриэль, попавшая в западню, которую Беарнец расставлял ей с самого начала разговора. — Нет, не отчаивайтесь, напротив, надейтесь, государь, надейтесь и обратитесь! — Дайте залог, — с торжеством сказал король, — ваша свирепая добродетель сделала меня подозрительным, залог необходим. — Я предлагаю мое слово, государь. Генрих приблизился к молодой девушке и нежно посмотрел на нее. — Конечно, слово девицы вашего звания и вашей честности значит что-нибудь, — сказал он, — но надо определить подробности. Это моя привычка, когда я подписываю договоры с союзниками. — Я никогда их не подписывала, — сказала Габриэль с очаровательной наивностью. — Позвольте же мне продиктовать. — Извольте, ваше величество. — Разделим договоры на три пункта. Это счастливое число. Первый пункт… — Первый пункт, — вскричала Габриэль, — король обратится! — Нет, это не в обычае ставить ультиматум в начале. Пункт первый… Но, милая моя, мы оба ошиблись. Тут может быть только один пункт, чтобы избегнуть пустословий и обмана. — О государь! — составьте договор как государь, как дворянин, как честный человек! — Я так и хочу, Габриэль! — Составьте такой договор, который не обязывал бы меня, не обязывал вас… И девушка моего происхождения сдержит свое обещание, если бы она должна была умереть. Поступайте так же и вы, такой великий король, герой! — Диктуйте же. — Благодарю. Да, государь, возможен только один пункт. Вот он: «Между высоким и могущественным государем Генрихом Четвертым, королем французским и наваррским, и Габриэль д’Эстре, благородной девицей, дочерью доброго и честного слуги короля, было условлено следующее: в тот день, когда король торжественно и публично отречется от реформатской религии, чтобы воротиться в лоно католической церкви…» — Ну! Далее?.. — сказал упоенный король. — Напишите остальное, государь, — пролепетала Габриэль, закрыв руками лицо. Ее нежное сердце, это великодушное сердце наполнилось рыданиями, и сквозь ее перламутровые пальцы потекли потоки слез. Генрих бросился на колени перед своим кумиром. — Вы припишите к договору, — прибавила молодая девушка, — что Габриэль хотела спасти Францию. — Я припишу в моем сердце, что вы ангел доброты, грации и любви, и запишу так глубоко, Габриэль, что придется вырвать у меня сердце, чтобы изгладить память о вас. Генрих приподнялся и прижал молодую девушку к груди, испытывая некоторое угрызение совести, что обманул эту прекрасную душу притворной слабостью любви. Обрадованная Габриэль благодарила небо, что оно тронуло сердце великодушного государя, который приносил ей такую жертву. Ах, если бы она могла знать, что час тому назад тот же пункт в таком же договоре передал Париж Генриху Четвертому! Две такие победы! Габриэль и Париж! Но Генрих обещал себе в глубине сердца искупить этот обман такою нежностью и таким постоянством, что Габриэль ничего не потеряет. Рука об руку оба честным взором заключили договор. — Не говорите об этом ни приору, ни брату Роберу, — весело сказал король. — И мы увидим, угадают ли они. Хотя они знают все, пусть попытаются узнать и о том, что случилось на мельнице. — Когда это событие прогремит по всей Европе, — сказала Габриэль, — я с благородной гордостью стану повторять себе: Генрих сделал это для меня! Смущенный король приискивал ответ, когда к ним поспешно вошла Грациенна. — Дэнис возвращается, — сказала она. В самом деле, тяжелые и размеренные шаги раздались по мосткам мельницы. Король встал, ища совета в глазах Габриэль. — Назовитесь Гильомом, — сказала она с живостью, — вы принесли мне известие от моего брата, маркиза де Кевра. — Очень хорошо. Дэнис вошел и изумился, найдя такое прекрасное общество на мельнице. Габриэль рассказала сочиненную сказку о неожиданном приезде месье Гильома. Грациенна в свою очередь рассказала о беде, случившейся с Гильомом, который вымочил свое платье, нечаянно свалившись в воду, и вместо недоверчивости, которую обе ожидали к своим невероятным рассказам, мельник сказал: — Сегодня день приключений. Сколько приключений, Господи Боже мой! — А что такое? — спросили три сообщника этой комедии. — Ничего не случилось с добрыми братьями? — тревожно спросила Габриэль. — Решительно ничего с ними, но со мною случилось… Я на дороге нашел убитого человека! Молодые девушки вскрикнули от испуга. — Где это? — спросил встревоженный король. — В ста шагах от коломбской дороги, на берегу реки. Генрих подумал об испанце, но Дэнис скоро вывел его из заблуждения. — Красивый молодой человек!.. Возможно ли было убить такого красавца с такими чудными белокурыми волосами! — Что вы с ним сделали? — спросил король, тронутый чувствительностью Габриэль. — Я отнес его в монастырь вместе с другими. — С кем это? — С его товарищами. — Тоже мертвыми? — воскликнули разом король и Габриэль. — О нет, живыми! Ведь они несли раненого вместе со мной. Один низенький, другой толстый. — Теперь мертвый сделался раненым? — Да, но как! Представьте себе, низенький-то гвардеец короля Генриха. Король вздрогнул. — Кто это вам сказал? — вскричал он. — Он сам. А толстый полковник низенького. Генрих так круто повернулся, что чуть не опрокинул стол. — Полковник гвардейцев? — Ну да! Если гвардеец назвал его полковником. — Крильон!.. Ты видел Крильона? — спросил король с беспокойством, и это испугало мельника. — Я не говорю, что это был Крильон, — пролепетал он. — Полный и хорошо сложенный мужчина? — Да. — Брови черные, усы седые, взгляд твердый? — Взгляд страшный, но этот взгляд становился очень печален, когда устремлялся на бедного раненого. — Это не может быть Крильон, — сказал король. — А теперь я думаю, что это он! — вскричал Дэнис. — Судя по уважению всех монастырских и поспешности брата Робера, который обыкновенно почти не трогается с места. Неужели я видел Крильона, великого Крильона? Эти десять пистолей дал мне Крильон! — Объяснись, — сказал король. — Расскажи по порядку и подробно. — Да, расскажи, — сказала Габриэль. Дэнис раскрыл свой широкий рот с удовольствием оратора, когда сухой и звучный голос пронесся через реку в ночной тишине и закричал: — Габриэль! Габриэль! Все вздрогнули. — Голос моего отца, — испуганно проговорила девушка. — Как скоро он воротился!.. «Он, верно, подозревает», — подумал король. — Это точно месье д’Эстре, — прибавил мельник, смотря в окошко мельницы. — Я погибла! — прошептала Габриэль. — Молчите! — сказал король. — Габриэль, — позвал опять голос, — пришлите лодку, я приеду за вами. Молодая девушка совсем растерялась от страха. Она и Грациенна с испугом бегали по мельнице, как птички, за которыми гонятся. Король хладнокровно сказал им: — Я перейду на остров, не бойтесь. Притом, если вы поедете к месье д’Эстре, он сюда не приедет. — Но Дэнис… — Дэнис будет молчать, — сказала Грациенна. Дэнис смотрел остолбенев и ничего не понимал. — Я привез дурные известия о маркизе де Кевре, — тихо сказал ему король, — и их надо скрыть от бедного отца. — Опять происшествие! Какой день!.. — вскричал Дэнис. — Бедный месье де Кевр!.. О да, не будем говорить отцу. — Теперь поезжай скорее с мадемуазель д’Эстре, чтобы ее отец не потерял терпения. — Сейчас, — сказал мельник и бросился в лодку, в которую уже прыгнули Габриэль и Грациенна. Пока он отчаливал, король приложил палец к губам, а Габриэль в ответ приложила руку к сердцу. Лодка удалилась. Генрих, спрятавшись в тени, следовал за ней глазами и душой. Как король и предвидел, д’Эстре, как только увидал свою дочь, не думал уже ехать на мельницу. Генрих слышал, как они обменивались вопросами и ответами, в конце которых всегда торжествует женщина, которую уже нельзя застать врасплох. Потом голоса удалились и исчезли в доме. «Уже поздно отправляться в монастырь, — подумал Генрих, — я заночую на мельнице, а завтра поеду узнать, зачем Крильон провожал с гвардейцем этого раненого молодого человека! Белокурого… Не графа ли Овернского? Он рыжий. Может быть, честный Дэнис спутал цвет волос. Я непременно должен узнать, что случилось. Особенно мне хотелось бы знать, почему огорчен Крильон.Глава 18 БЕЗОНСКИЕ ЖЕНЕВЬЕВЦЫ
Солнце взошло лучезарно в безоблачном небе. Мягкий свет падал на старые стены Безонского монастыря, лился во внутренние дворы и сады этого счастливого убежища, укрытого его основателем от северного ветра за лесистым холмом. Хотя было уже пять часов, и в это время летом день давно уже начинался для людей работающих, жизнь еще спала в монастыре, и можно было видеть только двух-трех братьев, которые шли в огород набрать провизии для завтрака. Эта община была очень спокойна и очень богата. Ограниченная двенадцатью братьями по умной воле своего начальника, но двенадцатью братьями довольно богатыми, она не имела ни элементов к беспорядку, ни причин к разорению, которые доводили тогда до нищеты многие религиозные ордена во Франции. Изобилие и мир господствовали у Безонских женевьевцев. Женевьевцы не были так учены, как бенедиктинцы или картезианцы, они не были и странствующими пилигримами, как францисканцы или капуцины. Стало быть, надо было помешать им толстеть, как бернардинцам, или заняться сильным моционом якобинцев или кармелитов. Благоразумная дисциплина управляла каждой статьей устава, и двенадцать женевьевцев Безонского аббатства уже два года не имели ни одной ссоры между собой или наказания от настоятеля, который управлял деспотически и безапелляционно для пользы общины. Не слышно было, чтобы Безонские женевьевцы занимались политикой — обстоятельство весьма редкое в то время, когда в каждом монастыре под каждой рясой висели ружье и кираса. Однако число их посетителей было велико. У них было много знаменитых друзей. Не раз знатные дамы со своей свитой конюших и пажей или же знатные кавалеры, даже принцы, приезжали в Безон насладиться сельским гостеприимством. Хвалили молочню женевьевцев, у которых стада паслись на берегах рек и на прогалинах в лесах. Хвалили прекрасные кельи в монастыре, где все удобства светской роскоши соединялись с монастырской простотой. Вид из этих комнат был великолепный, воздух чудесный, прислуга ласковая, стол обильный и изысканный. В публике это прекрасное учреждение возбуждало некоторое любопытство. Все знали, что приор нем, что он неспособен двигаться, и тем более удивлялись дарованиям и благоразумию человека, который, лишенный двух самых важных способностей для надзирателя и начальника, умел, однако, держать себя таким образом, что никакая подробность не ускользала от его проницательности, не говоря уже о том, что любое его приказание незамедлительно исполнялось. Мы увидим далее объяснение этим чудесам и убавим всеобщий энтузиазм. Пусть читатель пока войдет с нами в этот образцовый монастырь, чтобы подышать мирным воздухом, тишиной и свежестью, которые даровали людям с одной стороны холм, а с другой — река. К главному зданию вел большой двор, обсаженный вязами. Направо и налево от главного входа возвышалось по квадратному павильону, в одном жил брат-привратник, в другом — конюх. Службы, состоявшие из обширных чердаков, конюшен и хлевов, голубятен и яслей, исчезали налево под каштановыми деревьями и столетними дубами. Здание, отведенное для общины, было обширно, невысокого, с окнами на все стороны, так что для душ задумчивых или для друзей уединения были очаровательные виды на зеленый и пустынный холм, возвышавшийся над монастырем, а для людей светских — вид на дорогу, на деревню, на веселую равнину, на реку, на эту большую дорогу, на которую всегда весело смотреть. В нижней части здания была огромная дубовая зала с гигантским камином. Там огонь никогда не погасал. Эта была и приемная, и гостиная. Из нее надо бы сделать кухню, как во многих религиозных общинах, но по благоразумному распоряжению женевьевцы спрятали свою кухню в дальнем углу постройки, уверяя, не без причины, что негостеприимно подставлять под нос неприглашенных к трапезе и саму кухню. Притом в постные дни запах цыпленка или куропатки не должен был объявлять, что в монастыре были больные, что повредило бы репутации целебности, которой он пользовался в окрестностях. В этой большой зале, обшитой дубом, висело несколько прекрасных картин, подаренных приору разными знатными особами. Тут стояли прекрасные стулья, огромная лампа спускалась с потолка, а в большие окна с маленькими стеклами пробивался мягкий свет, который перехватывали широкие брюжские занавески. Лестница вела из этой залы в комнаты приора. Другая, более обширная, вела в кельи монахов, совершенно отделенные от всех других комнат. Трапезная находилась направо, запертая и натопленная на зиму, свежая и проветренная на лето, по милости архитектурного расположения. Тут видна была вполне практическая предусмотрительность настоятеля, который как будто повсюду написал: чистота, свет, изобилие. Мы говорим, что было пять часов утра и первые лучи солнца отражались на стенах монастыря. Они освещали впервом этаже прекрасную комнату, обитую кожей, гофрированной и позолоченной на манер кордовской, с изображениями святых и героев, одних с золотыми венцами, других — с золотыми мечами, выдающимися из коричневого грунта. Большая кровать с балдахином из потертого бархата, но оттенки которого, пунцовые, бледно-розовые и фиолетовые, составили бы радость живописца, стояла около стены под огромными занавесями из такого же бархата, великолепное украшение в ту эпоху, присутствие которого в таком скромном доме, несмотря на ветхость, могло быть объяснено только или подарком, или воспоминанием. И действительно, это было и то и другое. Кровать эту подарила приору герцогиня Монпансье, сестра герцога и кардинала Гиза, убитых в Блоа по приказанию Генриха Третьего. Герцогиня, которая в различных обстоятельствах прибегала к обязательности и мудрости приора, прислала по его просьбе во время переселения женевьевцев в Безон, то есть за два года до начала этой истории, кровать, на которой брат ее, кардинал, провел последнюю ночь перед своим убийством, и эта достопамятная кровать украшала одну из парадных комнат Безонского приората. На ней лежал бледный и с угасшим взором молодой человек, взгляд которого с жадностью искал солнца и жизни. Эсперанс, после нескольких часов сна, проснулся, и память вернулась к нему. Сердце его сильно билось, голова была пуста и болела. Едкая боль словно прижигала каленым железом, раздирала его грудь. Ему захотелось пить. Он приподнялся и стал глазами искать кого-нибудь, чтобы попросить пить. Но сначала он никого не увидал в комнате и только через несколько минут приметил под огромным креслом две пыльные ноги, которые можно было бы принять за ноги трупа, если бы не храпенье, показывавшее усталость спящего. Эти ноги принадлежали бедному Понти, который сам хотел сидеть возле раненого и после двухчасовой борьбы со сном поддался усталости, бороться с которой было выше человеческих сил, и, мало-помалу соскользнув с кресла, наконец совершенно исчез под ним. Эсперанс уважал отдых своего охранителя, но жажда терзала его горло, боль грызла мускулы, он застонал. Понти, которого не разбудила бы пушка, не услыхал этой жалобы, нежной, как голос сильфа. Эсперанс хотел кричать, но тотчас боль в груди сказала ему, что он должен переносить жажду и молчать. Пока он с унынием положил голову на изголовье, дверь бесшумно отворилась, большая тень скользнула между солнечным окном и кроватью и сделала знак Эсперансу молчать. В то же время эта благодетельная тень протянула руку, и Эсперанс почувствовал на своих сухих губах свежий и душистый сок апельсина, который пальцы призрака выжимали у его губ. Ощущение невыразимого наслаждения разлилось по всему существу его, он пил, не будучи принужден делать ни малейшего движения, и, воротившись к жизни, силился рассмотреть своего благодетеля и поблагодарить его, но тень уже повернулась и уходила к двери, бросив взгляд на ноги Понти. Эсперанс увидал под капюшоном седую бороду, а под рясою монаха стан, показавшийся ему гигантским. Призрак, дойдя до двери, обернулся взглянуть на раненого и снова сделал знак, предписывающий молчание и неподвижность, но Эсперанс увидал только два пальца, затерянные в большом рукаве, как видел только бороду в капюшоне. Вдруг Понти, которому, вероятно, снился дурной сон, вздрогнул под креслом и ушиб себе голову. Это было смешное зрелище, и Эсперанс, без сомнения, засмеялся бы, если бы не больно было смеяться. Храбрый гвардеец, выпутавшись из бахромы, вылез из-под кресел, как еж из норы, весьма гневаясь на кресло и на себя самого. Он тут же подбежал к больному, глаза которого были открыты и показались ему хороши. — Ах! — сказал он. — Я заснул. Как вы себя чувствуете? Говорите тише! Тише! — Лучше, — отвечал Эсперанс. — Правда ли это? — Понти, — прошептал Эсперанс, — подойдите ко мне поближе, я имею многое вам сказать. — Много! Это уж слишком! Ведь вам запретили говорить! — Я скажу вкратце, — прибавил раненый слабым голосом, тяжело дыша. — Отвечайте мне только как солдат, как дворянин. — Но… — Клянитесь сказать правду. — О чем же идет дело? — Вчера рассматривали мою рану? — Да. — Умру я или не умру? А! Вы колеблетесь. Говорите правду. — Брат, перевязывавший вашу рану, сказал: если не случится ничего особенного, он будет спасен. Эсперанс пристально посмотрел Понти в глаза. Он понял, что Понти не солгал. — Есть большая надежда, девяносто девять против одного. — Это много. Во всяком случае есть одна возможность умереть, и этого для меня довольно. Когда меня принесли сюда, кто был с вами? — Крильон, который нас встретил в лесу. Он пришел в отчаяние и чуть меня не убил. — Где он и что он делает? — Он спит. — Вы исполнили то, о чем я вас просил, когда вы меня увидали раненым? — Не говорить ничего о вашем приключении? — Да. — Я ничего не сказал, но Крильон знал о вашем отъезде к Антрагам и о вашей вероятной встрече с ла Раме. Он много меня расспрашивал. Не мог же я, не подвергая опасности вашу тайну, уверять его, что вы ранили себя нечаянно. — Что же вы ему сказали? — Что вы воротились из Ормессона, что ла Раме ждал вас за стеной и ранил вас ножом. — Хорошо. Все ли это? — Решительно все, тем более что я сам знаю очень мало. — Что же вы знаете? — Я был около павильона и слышал, как вы ссорились с женщинами. Вдруг из окна выскочил человек — почти на мои плечи, я сначала думал, что это вы, хотел вас схватить и увезти, как вдруг узнал негодяя ла Раме. Я уцепился за него всеми десятью пальцами, он разорвал свое платье и убежал, я погнался за ним, он исчез между деревьями, и я потерял его после бешеного бега, где я двадцать раз царапал себе ноги и сделал себе двадцать шишек на лбу. Вдруг я вижу кровь на моей одежде, на том месте, где я прижал ла Раме. Я подумал, что или вы его ранили, или он вас. Я оставил погоню, воротился к павильону, шум прекратился, страшная, как будто смертельная тишина стояла кругом. Потом я услыхал печальный голос, заставивший меня вздрогнуть. Это был ваш голос, почти что безжизненный. Я забрался на ветку, с ветки на балкон, вижу вас на полу, в крови, хватаю вас и уношу к лошади. Я держал вас на руках, как ребенка, с намерением добраться до первого жилища, чтобы перевязать там ваши раны. На углу леса я слышу бег, это был ла Раме. Увидев меня, он закричал, я тоже. Раздался выстрел, пуля свищет сзади, я пришпориваю лошадь, скачу как сумасшедший и доезжаю до берега воды. Там я нахожу Крильона, который помог мне привезти вас сюда. Эсперанс слушал и горестно припоминал каждую зловещую подробность всех своих страданий. — Вы видели кого-нибудь вместе со мною в павильоне? — спросил он. — Да, бледную, испуганную женщину, прислонившуюся к стене, как статуя ужаса. — Молчите… Останусь я жив или умру, не говорите, что вы видели там эту женщину… Слушайте, Понти, вы имеете ко мне дружбу? — О!.. К моему спасителю! — Ну, клянитесь мне, что никогда ни одно слово об этой женщине не сойдет с ваших уст. Эта женщина не виновата, я не хочу, чтобы ее обвиняли. — Вы меня уже просили молчать. Я молчал с Крильоном, несмотря на его настоятельные вопросы. Но я вам скажу, что эта женщина была злодейка. Видя, что вы ранены, умираете, не позвать никого, не помочь вам?! Ее надо наказать… — Довольно, вы ничего этого не знаете, забудьте обо всем, Понти. Я даже должен просить вас об одной милости. — Я к вашим услугам, любезный месье Эсперанс. — Несмотря на девяносто девять возможностей к моему выздоровлению, я, вероятно, умру. — О!.. — Дайте мне кончить. Поищите в моем кошельке или лучше возьмите весь кошелек. В нем лежит записка, которую вы сохраните для меня, я вверяю ее чести дворянина, признательности друга. — Тише! Тише! — сказал взволнованный Понти, дружески сжимая холодные руки раненого. — Возьмите эту записку и, если я умру, сожгите ее немедленно после того, как я испущу последний вздох, если я останусь жив, возвратите ее мне, вы поняли? — Я вам клянусь повиноваться вашей воле. Но вы останетесь живы, — сказал Понти голосом, прерывающимся от горести. — Тем более причины, возьмите поскорее мой кошелек, для того чтобы ни Крильон, никто другой не увидал того, что я хочу скрыть. — Если так, сожжем записку сейчас. — Нет, я могу остаться жив, и в таком случае эта записка мне понадобится. — Понимаю. — Ни за золото, ни за кровь, ни завтра, ни через двадцать лет, ни живой, ни умирающий, вы не отдадите этого письма никому, кроме меня. — Клянусь, — сказал Понти, схватив кошелек, — и я умру за этот священный залог, как клянусь умереть за вас, если мне представится случай. — Вы славный человек, благодарю. Спрячьте скорее кошелек, кто-то идет.Глава 19 ВИЗИТЫ
Только что Понти спрятал кошелек под своим полукафтаном, как в комнату Эсперанса вошел Крильон с братом-хирургом общины, который уже осматривал рану. Крильон был растревожен, взволнован. Но как человек, привыкший страдать и видеть страдания, он выказывал глубокое удовольствие и находил прекрасным все — погоду, лицо раненого, комнату, ее убранство. Достойный кавалер начал фразой, обнаружившей все волнение его ума, потому что она показалась бы глупа от постороннего: — Как счастлив этот молодой человек, получив эту царапину! Она доставила ему прекрасный приют в лучшем французском аббатстве. Ночлег у безонских женевьевцев и кардинальскую кровать! Если бы я находил это каждый раз, как было истерзано мое тело, я радовался бы моим пятидесяти ранам. Он искал и нашел слабую улыбку на побледневших губах Эсперанса. Между тем брат-хирург приготовлялся осмотреть рану. Крильон, чтобы занять больного, хотел заставить разговориться Понти и хирурга. Последний отвечал, пока занимался первоначальными приготовлениями, но, снимая перевязку, он замолчал, и Крильон остался ни с чем. Пока брат-хирург осматривал внимательно рану, где уже благодетельная природа начала свой чудный труд, несколько женевьевцев, привлеченных любопытством, тихо отворили дверь и смотрели издали на это трогательное зрелище. Хирург, не говоря ни слова, окончил свое дело и хотел выйти из комнаты, но нетерпеливый Крильон остановил его, говоря с веселым лицом: — Этот человек спасен? — Если будет угодно Богу, — отвечал брат-хирург, глубоко поклонившись и ускользнув после этого уклончивого ответа. — Вы слышите? — вскричал кавалер, подходя к Эсперансу. — Он говорит, что вы спасены, мой юный товарищ. — Если будет угодно Богу, — прошептал Эсперанс, от проницательности которого не укрылась двусмысленность этого ответа. — Я был в этом уверен, — продолжал Крильон. — Я знаю толк в ранах, видал их и имел на своем теле в великом множестве. Теперь моя старая кожа не выдержала бы, но в ваши лета человек бессмертен. Это красноречивое преувеличение не успокоило Эсперанса, но чувство, внушившее его, было так дружелюбно, что заслуживало награды — Эсперанс протянул руку, чтобы сжать руку Крильона. — Теперь, когда я спокоен насчет вашего положения, — сказал Крильон, садясь возле кровати, — совершенно спокоен, — он сделал ударение на этих словах, — я сообщу вам, что король ждет меня в Сен-Жермене, верно, по какому-нибудь делу. Я оставлю вам Понти на… на столько времени, сколько вам понадобится, чтобы выздороветь окончательно. Понти научится ремеслу сиделки. Я считаю его добрым малым, хотя я не прощаю ему, что он опоздал, я этого никогда ему не прощу. — Я так скакал, полковник! — вскричал Понти. — Кориолан — такая лошадь, что вы должны были опередить месье Эсперанса четвертью часа, а вы поехали через полчаса после него. Кориолан!.. Видно, что у дофинцев нет лошадей! Кто учил вас ездить верхом? Какой-нибудь мужик. Когда едешь на такой лошади, как Кориолан, можешь приехать, куда хочешь и когда хочешь. Но оставим это, зло уже сделано. Я говорю, что вы останетесь здесь с месье Эсперансом, которому я вас отдаю, слышите ли вы? Месье Эсперанс — очень знатный барин, с которым я прошу вас обращаться почтительно и с большим вниманием. — Полковник, — пролепетал Понти со слезами на глазах, — вы меня наказываете, хотя я невиновен, вы меня обижаете… — Так ли это? — Вы видите, что я нежно люблю месье Эсперанса, следовательно, к чему же предписывать мне уважение, это чувство не так сильно, как моя дружба. — Ответ довольно хороший, — сказал Крильон, обернувшись к Эсперансу. — Мальчик, кажется, добрый. Только чтобы эта дружба была под дисциплиной! Я полагаю, вы и ко мне имеете дружбу, Понти? — Конечно, полковник. — Это, однако, не помешает вам слепо повиноваться мне? — Напротив. — Вот мы теперь понимаем друг друга. Вы будете служить месье Эсперансу так, как служили бы мне. Понти почтительно поклонился. — Какой же будет приказ? — спросил он с комической серьезностью, разгладившей лоб Эсперанса и заставившей улыбнуться Крильона. — Постоянное пребывание в этой комнате. Безукоризненное поведение в монастыре. Повиновение приказаниям приора, который, как говорят, человек с большим умом и добрым сердцем. Понти снова поклонился. — Это все? — А!.. По одной бутылке вина в день! Гвардеец покраснел. — Наконец, — продолжал Крильон, подходя к Понти, — ни слова о короле, о военных или религиозных делах. Мы находимся на нейтральной территории, и неприлично раненому, перевязанному своим врагом, мучить своего хозяина. — А мы разве у врагов? — слабым голосом спросил Эсперанс. — Это никогда неизвестно, если находишься у католических монахов, — сказал Крильон. — Только не надо забывать глядеть на фасад дома. Там виден крест, не правда ли? — Да, — отвечал Понти. — Это значит, что мы находимся в доме Господнем. Мир и доброжелательство — вот вам приказ. Крильон взял прекрасную руку Эсперанса, нежно пожал ее и сказал твердым голосом: — Теперь я стану думать, как отмстить за вас, преступление стоит того. — Отмстить за меня… — Как вы удивляетесь! Девушка, что ли, вы? А как же! Разбойник поджидает вас у стены, ранит вас ножом… убивает, потому что вы бы умерли, если бы вас не унесли, и вы не хотите, чтобы я называл это преступлением? — Я думаю, что это дело касается меня, и когда я выздоровею… — Вы сведете меня с ума! Но я не хочу говорить так громко. Дело касается вас! Это что значит? — Что я заплачу ударом шпаги за удар ножа. — Если бы я это знал, я, пожалуй, оставил бы вас валяться, как паршивую лошадь. Это что за понятия? Шпагу вместо ножа? Вам драться с убийцей? Я вам это запрещаю! — Надо рассмотреть все обстоятельства. Этот ла Раме, может быть, был вызван… — Вызван молодым человеком, который ехал глазеть на балкон? Вызван! Но зачем же тогда прятаться за стеной? — Я повторяю, что подробности, может быть, были не таковы. Крильон с живостью обернулся к Понти. — Ты, стало быть, мне солгал? — Я этого не говорю, — прибавил Эсперанс. — Да, да! Подробности верны, — вскричал Понти с ожесточением, — это убийство! Со всякими страшными обстоятельствами, от которых волосы станут дыбом на голове христианина. Побежденный Эсперанс молчал. — Ты согласен со мной. Это хорошо. Я поеду в Сен-Жермен. Я расскажу королю обо всем. Король любит истории. Это его заинтересует. Я постараюсь рассказать ее подробно. — По крайней мере окажите мне одну милость, — сказал Эсперанс умоляющим голосом. — Я знаю, что вы хотите сказать. Вы будете просить пощады этим негодяйкам. — Не называйте имен! — Злодейкам, которые есть первая причина всего зла, которые, может быть, сами не чужды этому преступлению! — Преступлению!.. Очень хорошо, — сказал Понти, потирая руки. — Засада! Я утверждаю, что это была засада! — продолжал Крильон, все больше раздражаясь. — Да, засада!.. — сказал обрадованный Понти. — И вы просите, чтобы щадили подобных тварей после того, что я рассказал вам про них! — Сделайте милость, — сказал Эсперанс, — прошу вас: не заводите мое мщение дальше, чем хочу я сам. — Почему же и нет? Каждый день слабое сердце прощает, но правосудие не простит. — Правосудие, прекрасно! — сказал Понти. — Каждый день такой добрый христианин, как вы, прощает своему убийце, а палач не простит! — Палач, прекрасно! — закричал Понти, подпрыгнув от радости. Эсперанс сложил руки, глаза его помутились. Усилие, которое он делал, чтобы умолять, утомило его. Он наклонил голову, как бы лишаясь чувств. Испуганный Крильон обнял его, оживленно принялся ласкать, как ребенка. — Не будем говорить о женщинах, — сказал он, — вы их защищаете, вы им прощаете, пусть так! Об них не будет речи. — Никому? — прошептал Эсперанс. — Даже королю. Довольны ли вы? — Благодарю, — слабым голосом сказал раненый со вздохом нежной признательности. — Я надеюсь, что вы делаете из меня что хотите, — продолжал Крильон. — Итак, женщины устранены, их можно найти после. А мужчина — другое дело, его я вам не уступлю; я пошлю за ним, когда ворочусь в Сен-Жермен. Эсперанс хотел сделать знак. — А! Не будем спорить, — сказал Крильон, — ни слова более, я вас понимаю. Вы желаете потушить это дело, вы боитесь шума уголовного процесса против убийцы, вы боитесь его признаний? Утомленный Эсперанс отвечал «да» движением головы. — У нас не будет ни судей, ни писарей, — прибавил Крильон. — Мы не будем производить следствия, я сам тайно устрою это ла Раме. Понти, вели оседлать свою лошадь. Кстати, что сделалось с бедной лошадью Эсперанса? — Моя бедная Диана! — прошептал раненый. — Вероятно, она осталась привязанной к дереву, где я видел ее вчера, — сказал Понти. — Там, где убивают, могут и красть. Но за лошадь заплатят так же, как и за удар ножом. Прощайте, Эсперанс, мужайтесь, не думайте ни о чем, кроме меня. Лошадь, Понти! Гвардеец побежал, но наткнулся на пороге на женевьевца, который входил с письмом в руке. — К месье де Крильону, — сказал монах. — Что это такое? Почему узнали, что я здесь? — с удивлением спросил Крильон. — Какой-то незнакомец отдал эту записку брату-привратнику, к кавалеру де Крильону, — отвечал монах. Крильон взял письмо и поспешно сжал его в руке, как только узнал почерк. «Король здесь! — подумал он с беспокойством, — что такое случилось?» Он с жадностью прочел. Лоб его тотчас прояснился. — Очень хорошо, — сказал он Понти со спокойным видом, — я не поеду. Попросите у приора, — обратился он к монаху, — позволения войти в монастырь одному моему другу, который нечаянно узнал, что я здесь, и хочет сообщить мне что-то важное. — Я не могу идти к приору, — отвечал монах, — но я обращусь к брату говорящему. — К брату говорящему? — с удивлением сказал Крильон, потому что это странное название всегда производило свое действие. — Он один имеет сношения с нашим приором, и он один может передать ему вашу просьбу. — Что это за говорящий брат? — спросил Крильон Понти, когда монах вышел. — Вы знаете? — Нет, — отвечал гвардеец. Оба посмотрели на Эсперанса. — И я не знаю, — прошептал он. Монах почти тотчас воротился. — Как скоро! — вскричал кавалер. — Келья брата говорящего в двух шагах от этой комнаты, — отвечал монах, — и достойный брат сказал, что он немедленно пойдет просить позволения у приора. Вот он смотрит в окно, выходящее на большой двор. Без сомнения, он видит незнакомца, который ждет вас у ворот, и долго не заставит его ждать. «Надо мне посмотреть, что это за говорящий брат», — подумал Крильон и наклонился взглянуть на человека, на которого ему указывали. — Какой он высокий! Какой худощавый! — Достойный брат действительно иногда бывает очень высок, — отвечал женевьевец. — Как — иногда? — спросил Крильон. — Разве он иногда бывает мал? — Когда сгибается. Крильон недоверчиво посмотрел на женевьевца и подумал, что он насмехается над ним. — Это случается со всеми, — сказал он, — и я тоже, когда согнусь, бываю не так высок, как в то время, когда держусь прямо. Вы не сообщаете мне ничего нового, брат мой. Женевьевец отвечал чрезвычайно кротко: — Никто не походит на брата говорящего; у него часто бывает подагра, которая сгибает его надвое, и тогда он делается так мал, как ребенок. В дни здоровые он выпрямляется и чуть не достает до потолка. — Он теперь здоров, — сказал Крильон. — Я очень этому рад. Послышался звонок в соседнем коридоре. — Вот наш брат входит к нашему отцу, — сказал женевьевец, — меня зовут за ответом. Позвольте пойти, — прибавил он со вздохом. — Какие странные эти женевьевцы! — сказал Крильон Понти. — Говорящий брат! Какой он высокий! Я знал только одного такого высокого человека… Но тот теперь был бы привидением. Бедный Шико! — Должно быть, это он сейчас, когда все спали, а я плакал от жажды, — сказал Эсперанс слабым голосом, — вошел и дал мне напиться. Этот сострадательный брат показался мне гигантом, и я приписывал лихорадке это расширение моего зрачка и то, что его рука показалась мне длиннее двух обыкновенных рук. Женевьевец воротился. — Позволение дано, — сказал он Крильону, — и господин, которого вы ждете, может войти. Угодно вам, любезный брат, чтобы его привели сюда? — Нет, нет, в мою комнату. Я сам туда иду, — прибавил Крильон, который боялся излишним уважением выдать звание посетителя, в записке которого предписывалось строжайшее инкогнито. Брат вышел, чтобы привести незнакомца в комнату, где ночевал Крильон, и кавалер, отведя Понти в сторону между дверью и коридором, чтоб Эсперанс не слышал, сказал: — В кармане месье Эсперанса есть записка. Понти вздрогнул. — Возьми и принеси ее мне, — сказал Крильон, — но так, чтобы он об этом не догадался. Растерявшийся Понти приискивал ответ. — Когда будешь искать в его полукафтане, остерегайся, чтобы он не приметил; воротись скорее и сделай то, что я тебе приказал, как только представится случай. Сказав эти слова гвардейцу, он послал прощальный поцелуй раненому, подошел к женевьевцу, ждавшему его в коридоре, и бросил в келью брата говорящего такой любопытный взгляд, который непременно проник бы в дверь, если бы она не была из хорошего дуба с крепкими петлями. Эта комната, впрочем, была не плотно заперта, потому что, когда Крильон прошел, она отворилась, вероятно, от воздуха и заперлась совершенно, только когда незнакомец был введен в комнату Крильона и заперся там скорее, чем можно было ожидать. Мы можем прибавить, что в эту полурастворенную дверь Крильон, если бы он обернулся, мог бы увидать два глаза, способных осветить всю лестницу, хотя их скрывал гигантский капюшон.Глава 20 КТО ХОЧЕТ ДОСТИГНУТЬ ЦЕЛИ, ТОТ HE ДОЛЖЕН ПРЕНЕБРЕГАТЬ СРЕДСТВАМИ
Крильон, оставшись один с королем, с поспешностью спросил его о причине такого неожиданного посещения. Генрих бросил на стул шляпу, которой он закрыл себе лицо при входе в монастырь, и отвечал с грустью, которая поразила кавалера: — Есть много причин, любезный Крильон. Первая — мое беспокойство за вас. И что это за история о ранении и о гвардейце? Стало быть, мельник рассказал правду? — К несчастью, правду, государь. — А так как я вижу, что вы колеблетесь, что вы очень огорчены, я полагаю, не граф ли Овернский этот раненый? — Нет, государь, опять к несчастью. — О, о! Это очень жестоко для сына Карла Девятого. — Я его не люблю, государь, и хотел бы, чтобы он лежал на той кровати, где отдыхает теперь мой бедный раненый. — Вы вздыхаете, этот молодой человек вам родственник? — Да, государь, мне его поручили, я очень его люблю, — отвечал Крильон, насилу произнося слова, как человек, задыхающийся от горести. — Ранен?.. В битве противником, может быть, тем гвардейцем, который ехал с ним? — Нет, государь, убийцей. — Какой я ни ничтожный король, мой храбрый Крильон, а я велю его четвертовать. — Я запомню ваше слово, государь. — Раненый останется жив? — Я надеюсь. — Это хорошо, — сказал король, думая уже о другом. — Государь, — поспешил сказать Крильон, — вы пожаловали сюда не затем только, чтоб разговаривать со мной о моих делах, я подозреваю что-нибудь важное в ваших. — В самом деле, есть кое-что важное. Какие монахи живут в этом аббатстве? — Женевьевцы, государь. — Знаю, но женевьевцы женевьевцам рознь. Эти управляют совестью моей любовницы и побуждают ее к суровости, неприятной для меня. — Я не знал наших хозяев, но то, что вы говорите, восхищает меня, государь. Мы, стало быть, у хороших людей? — Полно, полно, мудрец! Поменьше добродетели и побольше человеколюбия. Эти женевьевцы показались мне престранными: один толстый, другой худощавый; один никогда не говорит, другой — всегда; я чую во всем этом какие-нибудь проделки. — Тот, который худощав, кажется мне престранным, — сказал Крильон. — Это брат говорящий? — Я непременно хочу, так как он говорит со всеми, чтобы он поговорил со мной, — сказал Генрих. — Притом мое любопытство подстрекнули. Габриэль уверяет, будто приор знает заранее все, что я делаю, а так как в эту минуту я сам не знаю, что мне делать в одном очень важном деле, мы посмотрим, такой ли хороший предсказатель этот женевьевец, как он слывет. Пусть он выведет меня из затруднения, и я провозглашу его светочем. Увидев мрачный лоб короля, Крильон покачал головой. — Дни не походят один на другой, — сказал он. — Вчера мы радовались, торжествовали, а сегодня все отуманилось и помрачилось. Однако, государь, вы все приобрели вчера вечером. — Мы, может быть, все потеряли сегодня утром, — отвечал король. — Но прежде чем будем разговаривать, я желаю знать, где мы. — В красивой комнате, как видите. — Я не люблю монастырских комнат, особенно тех, которые назначаются посетителям; в них всегда есть какой-нибудь тайник, наполненный шпионами, или отдушина, проводящая голос в такие места, куда он не должен доходить. Будем говорить тихо. Крильон подошел ближе к королю. — Знай, друг мой, — сказал Генрих Четвертый, — что, может быть, все, о чем я уговорился с Бриссаком, расстроилось. Крильон вздрогнул. — Как, — сказал он, — наш заключенный мир, испанцы, побитые без битвы, французское королевство, которое мы должны были проглотить разом… Полноте, государь, нет ли в этом мрачном видении какой-нибудь черной тучи, которая бросается вам на мозг при каждой суровости ваших любовниц. — Дай-то Бог. Я часто унываю, ты это знаешь, Крильон, но никогда из-за безделиц. Слушай же, я приуныл очень теперь. Крильон сделался внимателен. — Я ждал сегодня мою корреспонденцию на мосту Шату. Я выбрал это место, как самое близкое к дому д’Эстре, где, сказать мимоходом, я надеялся провести прекрасную ночь. Король вздохнул. — Где же вы ее провели, государь? — На мельнице. — И на мельнице могут быть прекрасные ночи. — Это зависит от того, как будет вертеться колесо, — опять вздохнул несчастный любовник, — но не станем смешивать дел Генриха с делами французского короля. Сегодня утром ла Варенн нарочно приехал из Медана, где я его оставил, чтобы сбить с толку д’Эстре, и привез мне депеши. Одна была из Испании. — Опять? — сказал Крильон. — Опять, — отвечал король. — Ужасная страна, о которой я грежу и ночью, и днем! Этим проклятым испанцам суждено беспрестанно огорчать меня — или когда я их разбиваю, или когда они меня разобьют. Я думал, что они были разбиты вчера, и я сообщил тебе эту счастливую депешу, перехваченную у иезуитской конгрегации Эскуриала. — Действительно, очень счастливую, и мы вместе благословляли ловкого шпиона, который обманул инквизиторов и обокрал испанцев. Неужели и нас обокрали, государь? Неужели это известие получили вы сегодня с испанским курьером? — Вот в этом-то и запятая. Это собственная депеша моего тайного агента у Филиппа Второго, а он ни слова не говорит мне о том, в чем я уверял вчера Бриссака. Напротив, он сообщает мне, что штаты выберут де Майенна. Крильон вытаращил глаза. — Так что эта депеша, которая была мне отдана вчера в конверте моего агента, эта депеша, которая извещала меня о предполагаемом браке инфанты и герцога Гиза, это событие, возмутившее Бриссака и заставившее его перейти на нашу сторону, — ложное известие, которое скоро опровергается и покажется Бриссаку мистификацией, жалкой и плоской хитростью, придуманной для того, чтобы его завлечь. А я, обманутый каким-то адским заговором, потеряю, может быть, всю выгоду обращения парижского губернатора и огромные выгоды от негодования, которое план Филиппа Второго возбудил бы во Франции. — Какая злая шутка! — прошептал Крильон. — Но, государь, вы были обмануты? — Веришь тому, что желаешь, и партия лигеров компрометировала себя так удачно для меня, что я поверил. — Однако ведь эта депеша была запечатана? — Печатью моего агента. — Стало быть, нынешняя депеша фальшивая? — Я сначала надеялся, но ла Варенн получил ее от самого агента, который приехал из Испании, где его узнали как шпиона на моем жаловании и хотели его повесить. Он приехал, говорю я, и до того устал, что не мог доехать до меня. — Вот какие дурные известия, государь! — О, жизнь! Какая качалка! Вчера мы касались облаков, а сегодня… — Сегодня шлепаемся по грязи. Но не надо приходить в отчаяние. Вы говорите, что Бриссак передумает? — Конечно, когда узнает, что я его обманул. — Ну, мы опять обнажим шпагу. — Опять драться, опять убивать французов! — Кто хочет достигнуть цели, тот не должен пренебрегать никакими средствами. — Я хочу достигнуть цели, — сказал Генрих резко, — и достигну. А пока мне необходимо говорить с этими монахами. Повторяю вам, друг мой, они слишком хорошо знают мои дела и занимаются ими так ревностно, что разговор с ними должен принести пользу. Заговоры всякого рода ныне затеваются в монастырях. Я знаю один заговор здесь у женевьевцев; они побуждают меня к отречению, показывая мне наградой Габриэль. Но почему они знают, что я люблю Габриэль? Почему они хотят, чтобы я отрекся? Все это стоит того, чтоб я расспросил их. Попросите, Крильон, для себя аудиенцию у приора, аудиенцию секретную. — Иду, государь. — Вы думаете, что они меня не знают? — Ничто этого не доказывает до сих пор. Но, увидев вас, может быть, они вас узнают. — Это все равно. Я буду играть картами на столе. Мы здесь в монастыре, управляемом приором, прославившимся своим умом. Генрих Наваррский, гугенот, может, не компрометируя ничего, приехать посоветоваться с этим приором, так как он советуется со столькими другими разных сект. Вот причина, побудившая меня, если они меня узнают. Я дальше пойду в своих расспросах, если они меня не узнают. Крильон размышлял с минуту. — Вы думаете, что между этими женевьевцами и тем, кто доставил вам вчера фальшивую депешу, есть соглашение? — Я не верю ничему и верю всему. Эта логика очень была мне полезна, с тех пор как я занимаюсь ремеслом претендента на корону. — Однако вы подозреваете кого-нибудь, государь? — Я подозреваю многих, но прежде всего тут видна рука женщины. — Антраг, не так ли? — с живостью сказал Крильон, радуясь, что может кольнуть предмет своей антипатии. — О! — презрительно возразил Генрих. — Антраги не довольно умны для этого. Что такое Антраги? Пошлые интриганы. Нет, кавалер, я говорю о женщине твердой. Назовем ее Монпансье. Это страшный боец! — Покойный король это узнал, — сказал Крильон выразительно. — Женщина хромая, а делает огромные шаги, когда нужно. — Это ваша смертельная неприятельница, государь. — Без сомнения, потому что я хочу быть королем, а она хочет быть королевой и знает, что я на ней не женюсь. Я сближаю имя Монпансье с именами женевьевцев, потому что меня побуждает к этому тайный инстинкт, потому что это имя соединяется также с именем Жака Клемана! — Увы! Государь, вы правы, как всегда. — Надо мне просить аудиенции у приора. Крильон тотчас пошел к двери. — Подождите, — задумчиво сказал король. — Если вам дадут аудиенцию, не выходите из монастыря. — Я уеду отсюда только по вашему приказанию, государь, — сказал Крильон, удивленный рассеянностью короля. — Видите ли, мой храбрый кавалер, я думаю в одно время о двух вещах. Мне хотелось бы видеть вас здесь возле меня; а с другой стороны, мне хотелось просить вас подвинуть в окрестностях маленький отряд, который провожал ла Варенна сегодня утром и которому я отдал приказание ждать меня на берегу реки возле Шату. — Если только это, ничего не может быть легче, государь; но разве вы боитесь чего-нибудь со мной? — Я боюсь и за вас и за себя, Крильон, — спокойно сказал Генрих. — Или, лучше сказать, я не боюсь ни за себя, ни за того, ни за другого. Но с тех пор, как я подышал воздухом этого дома, ко мне приходят недоверчивые мысли, которых я не могу определить. Я похож на кошек, которые везде, куда входят в первый раз, пробуют атмосферу носом, землю лапами и отдают себе отчет в каждой вещи посредством чувства, которое соответствует этой вещи. Мы находимся у женевьевцев, одежду которых видели наши глаза, но надо постараться увидать под одеждой. Вдруг Крильон вскрикнул, так что король вскочил со стула: — Какой же я дуралей! — Что такое? — Осел, бык, я хотел сказать — лошадь, но это животное слишком умное, чтобы его сравнить с таким дураком, как я. — Крильон, за что вы себя браните, друг мой? — За то, государь, что я забыл вам сказать, что мой бедный раненый лежит на кровати. — Вы мне это говорили, Крильон. — Знаете ли на какой кровати, государь? — Какие у вас страшные глаза, кавалер! — На кровати Гиза!.. На кровати кардинала, убитого в Блоа! На кровати, подаренной приятельницей приятелю, герцогиней Монпансье дом Модесту Горанфло, приору. Герцогиня только переменила монаха. В 1589 году был якобинец, теперь женевьевец. — Что я вам говорил, Крильон? — сказал король с холодным спокойствием, скрестив руки на груди. — Я чувствовал здесь запах Гизов! — Мы попали в вертеп! — Постараемся из него выбраться, но прежде посмотрим на его обитателей. Ступайте и ничего не обнаруживайте за отрядом, о котором я вам говорил. — Оставить вас в том доме, где есть кровать Гиза! Нет! У меня здесь есть Понти, который может исполнить это поручение и вас не будет защищать так хорошо, как я. — Кто это — Понти? — Один из моих гвардейцев. — А! Товарищ раненого. — Именно. Но к чему разговаривать с этими проклятыми женевьевцами, которые, может быть, ждут только этого? Оставим их без разговоров. Вместо сведений, которых вам не дадут, вы сможете получить какой-нибудь удар ножом. — Я его отражу моей шпагой. То, что вы мне сказали о духе дома, подстрекнуло мое любопытство. Король отворил дверь, выходившую в коридор, в котором прохаживался взад и вперед женевьевец, согнувшийся как бы под суровой тяжестью размышления. — Потрудитесь, любезный брат, — закричал ему Генрих, — испросить у приора аудиенции для кавалера де Крильона! Женевьевец молча поклонился и спустился с лестницы. — Они увидят, что это не я, — сказал Крильон. — Тогда уже будет слишком поздно, чтоб отказаться. — Пошлите вашего гвардейца. А я подожду здесь ответа приора. Крильон в сотый раз советовал королю быть осторожным, когда через десять минут мальчик, находившийся в услужении женевьевцев, тихо постучался в дверь и доложил, что преподобный приор почтет за честь принять кавалера де Крильона. Генрих встал, стянул свою портупею, удостоверился, что его шпага хорошо вынимается из ножен, надвинул на глаза свою широкую шляпу и пошел за юным проводником, пожав обеими руками храбрую руку своего гвардейского полковника. Тот побежал послать Понти. Генриху пришлось идти не далеко. В конце коридора он нашел лестницу, которая вела в комнаты приора. Мальчик отворил дверь в большую комнату, где ставни были старательно закрыты, доложил своим тоненьким голоском о кавалере де Крильоне и вышел, затворив за собою дверь. Король оставался несколько минут в тени, удивляясь предосторожности приора, который, без сомнения, хотел скрыть от посторонних игру своей физиономии. Эта хитрость свойственна женщинам и дипломатам. Эта предосторожность не могла не понравиться человеку, который желал именно того же. Он сделал два шага, осматриваясь вокруг, и мало-помалу глаза его привыкли к темноте, и он различил все подробности этого странного театра, на котором должна была разыграться сцена, которую читатель, может быть, не сочтет недостойной своего любопытства.Глава 21 ГОВОРЯЩИЙ БРАТ
Кровать с эбеновыми колоннами возвышалась в углу комнаты. Король искал там сначала приора, думая, что здоровый человек не захочет принимать гостей в таких потемках. Но приор сидел на стуле или, лучше сказать, на эстраде, потому что стул был просто монумент, воздвигнутый соразмерно массе, которую он должен был поддерживать. Этот толстейший приор привлек внимание короля до такой степени, что несколько секунд он не смотрел ни на что другое в комнате. Габриэль не преувеличила: ни одно мифологическое лицо, ни один индийский фетиш, никогда зверь, откармливаемый для жертвоприношения, не достигал такой страшной толщины. Ставень, открывшийся сверху, пропустил свет, осветивший безропотную жертву этой ужасной толщины. Череп приора, закрытый черной скуфьей, как будто не существовал, виднелись только два глаза среди жиру, покрывавшего даже виски. Его щеки огромной величины падали на грудь, доходившую даже до подбородка. Об этом подбородке, походившем на тройной зоб, мы не будем говорить из вежливости, так же как и о животе, конической горе с колоссальным основанием, вершину которого составляла эта смешная голова. Дом Модест старался, но напрасно, скрестить на животе свои руки, похожие на бараньи ляжки, но пальцы не сходились, и главным их занятием состояло удерживаться за шнурок, опоясывавший рясу. Ноги приора лежали на табурете, похожем на небольшой стол по величине и прочности. Подпираясь подушками на своем стуле, приор не мог сделать ни малейшего движения, и его тусклые глаза мигали при свете очень слабом, который другой женевьевец пропустил сверху окна. Вдоволь насмотревшись на это неприятное зрелище, король стал искать глазами знаменитого товарища Горанфло. Брат Робер занял место у ног своего приора на скамейке очень низкой и поставленной таким образом, что, сидя спиною к гостю, он находился в прямом сообщении с лицом приора — условие необходимое, без сомнения, для замечания каждого движения в чертах лица и в толстых руках его. Брат Робер, закутанный в свою рясу и свой капюшон, показывал королю выпуклую спину, покрытую причудливыми складками его монастырской одежды; эта спина, должно быть, была огромна, судя по поверхности ее выпуклости. Почти наравне с плечами король примечал угловатые колени брата Робера, однако ни эта необыкновенная поза, ни эта натура, столь противоположная натуре приора, ни этот скелет, похожий на паука, не возбудили любопытства Генриха. На табуретке или, лучше сказать, на столике, на котором лежали гигантские ноги приора, лежало множество странных вещей, на которые обратились глаза короля. Там лежал красный и мягкий воск, какой употребляют лепильщики, стеки скульпторов, чернильница, перо, аспидная доска, компас, три книги, свернутый пергамент, скляночка с черноватой жидкостью, длинная палочка из орехового дерева, которая придавала всем подробностям этой сцены какой-то волшебный вид, делавший эту комнату похожей на жилище чародея. Вдруг слух короля был поражен хриплым и визгливым голосом, который, как публичный возглашатель, прокричал: — Просят посетителя сообразоваться с тем, что написано на этой таблице, и извинить недуг преподобного приора женевьевцев, который принимает со смиренным поклоном его посещение. В то же время, прежде чем король оправился от действия, которое этот ужасный голос произвел на его нервы, одна из огромных рук паука отделилась от тела движением, похожим на механический снаряд, и подала королю небольшую таблицу в дубовой рамке, и Генрих прочел на этой таблице следующие напечатанные строки:«Особы, посещающие приора, предупреждаются, что Господь послал ему паралич языка, и он принужден передавать свои мысли собеседникам через брата, привыкшего понимать его. Этих особ просят в разговоре прямо обращаться к приору, а не к брату-толмачу, чтоб избегнуть недоразумения. Последний принужден употреблять всегда местоимение “я”, как сделал бы это сам приор, если бы мог говорить. Стало быть, очень важно, чтобы посетители проникнулись этой идеей и чтобы говорили только с приором, который в действительности отвечает им; голос, конечно, заимствован, но мысли его собственные».
Когда король кончил читать эти странные строки, брат Робер как будто рассчитал по букве время, необходимое для чтения, опять протянул руку, взял таблицу, не повертывая спины, и положил ее на столик к ногам приора. Потом подал ему палочку из орехового дерева, которую дом Модест взял машинально своей толстой рукой, и поднял голову, чтобы вступить в прямое сообщение с приором. Палочка странно завертелась в пальцах Горанфло, брат Робер тотчас передал своим гнусливым голосом: — Неожиданная честь для меня — принимать знаменитого кавалера де Крильона, которого да сохранит Господь от всякого зла! Сказав это, говорящий брат опустил голову и, ожидая ответа, взял воск, который начал мять в руках чрезвычайно живо. «Должно быть, я действительно Крильон для этих монахов, — подумал Генрих Четвертый. — По крайней мере, они делают вид, будто считают меня Крильоном. Или они меня обманывают, или я обманываю их. Пусть кривляются, посмотрим, кто из нас хитрее и кто из нас принудит другого компрометировать себя». — Вашему гостю очень приятно, — отвечал он с умилением, — разговаривать с приором, знаменитым своей мудростью. Горанфло мигнул глазами, брат Робер поднял голову и отвечал: — Чего желаете вы от меня? — Многого, — сказал король, приближаясь как бы для того, чтобы ближе взглянуть на все принадлежности говорящего брата. Тот дотронулся до ноги приора, который, по-видимому, дремал. Палочка живо завертелась в руках Горанфло. Робер вскричал с такою же живостью: — Не угодно ли вам сесть, кавалер де Крильон? Король всеприближался. — Туда, — поспешно сказал брат Робер, — на кресло. В то же время его бесконечная рука указывала королю на кресло напротив дом Модеста, но за скамейкой говорящего брата. Король с сожалением отступил назад, чтобы сесть туда. «Крильон поступил неосторожно», — подумал он. Палочка Горанфло заговорила. Робер перевел: — Какой первый вопрос желаете вы сделать мне? — Он относится к моему повелителю, королю Генриху Четвертому. Этот государь узнал, какие добрые советы подаете вы часто одной особе, которую он уважает, и поручил мне вас поблагодарить. Но ему хотелось бы узнать, как вы узнали, что король бывает в доме мадемуазель д’Эстре. Горанфло вытаращил глаза. Робер толкнул его в ногу, палочка завертелась. — Все знают короля, — отвечал говорящий брат, — и достаточно, чтобы один человек узнал его, когда он шел в дом д’Эстре, такой близкий к нашему монастырю, чтобы мы узнали об этом. «Неужели два-три поворота палочкой в воздухе могут означать все это?» — подумал король. — Я думаю, что по причине этого соседства вы сами могли видеть, как проходил король, и, следовательно, сказать об этом мадемуазель д’Эстре. — Я никогда не видал Генриха Четвертого, — перевел Робер, — стало быть, увидев его, не мог бы его узнать. Этот ответ не удовлетворил Генриха, а, напротив, увеличил его недоверчивость. Весь этот разговор, основывавшийся на знаках и миганьях, казался ему невероятным. — Позвольте, — вскричал он, — сообщить вам одну мысль, пришедшую ко мне. — Извольте, — сказал Робер, комкая воск под своим капюшоном. — До того удивительно видеть вас выражающимся так легко посредством говорящего брата, что я прошу у вас позволения оправиться от волнения, но… Капюшон зашевелился, а спина покоробилась, как у кошки. — Но, — продолжал король, — мне кажется, что преподобный приор мог бы разговаривать так же успешно и более секретно со своими посетителями. У него нет паралича в руках, и он мог бы писать на аспидной доске, которую я вижу у ваших ног, посредник был бы для него бесполезен, а его мысль сохранила бы всю свежесть цветка, который называется тайной. Беспокойство изобразилось на расстроенных чертах приора, палочка слабо зашевелилась в его руках. — Мой паралич, к несчастью, не ограничивается языком, — сказал Робер. — Он часто переходит в руки. — Не в обе, — отвечал король. — Особенно в правую, — завизжал брат Робер. — Это жаль, потому что много важных вещей могли бы быть вам сообщены вашими посетителями, которые воздерживаются, остерегаясь третьего лица. Генрих хотел принудить капюшон возмутиться, но Робер продолжал комкать воск все с тем же спокойствием. Подняв голову, чтобы выслушать ответ приора, который вертел палочкой во все стороны, он отвечал без всякого замешательства: — Метода, которую я выбрал для того, чтобы разговаривать с посетителями, самая лучшая по своей быстроте и верности. Я научил брата, которого вы видите, понимать мои знаки и движения и старательно изучил мимическую науку. От Кадма, изобретшего письмо, до наших времен было около шести тысяч систем для истолкования слова. Египтяне были на это мастера. Вы слышали об их иероглифах. Я начертываю моей палочкой знаки и фигуры, имеющие отношение к этим знаменитым иероглифам, из которых один стоит иногда целой фразы. В индийской азбуке есть некоторые буквы столь же важные. Кроме того, я занимался также языком животных. Вы, вероятно, приметили, господин кавалер, что все животные одного рода понимают друг друга не криками, которые они употребляют издали, а движениями ног, знаками головы или ушей, бровей, губ, зубов. В особенности, это последнее средство, их любимый способ, и доставляет самому человеку метафоры для его языка. Говорят «ощеривать зубы». Вы сами слышали иногда это выражение. — Я даже видел это, — сказал король, удивлявшийся замысловатому многословию этого ответа и не знавший, должен ли он смеяться или сердиться. — Мне много раз ощеривали зубы, преподобный приор. — Из этого следует, — продолжал говорящий брат, — что из всех этих элементарных веществ, старательно выбранных и анализированных, я составил себе язык очень богатый и разнообразный, как вы можете видеть. В самом деле, мне кажется, что брат Робер — человек вовсе не умный, я скажу даже, человек слабого ума. Брат Робер смиренно потупил голову под этим бичеванием, которое налагала на него палочка приора. — Мне кажется, — продолжал переводчик, — этот добрый брат довольно внятно передает мою мысль, чтобы дать вам о ней точное понятие, довольно живо, чтобы не утомить ваше внимание. Я прибавлю касательно последнего пункта, то есть тайны наших разговоров, что уже давно брат Робер сообщал все мои мысли многим особам, находящимся в деликатном положении, таком же деликатном, как и ваше, господин кавалер, и никогда ни малейшей жалобы, ни малейшего подозрения не было против его скромности. Я поручусь и за себя, и за него, за него столько же, как и за себя. Впрочем, не считайте себя обязанным рассказывать мне все, и, если вы предпочитаете писать, я один буду знать вашу мысль. Только вам надо напрягать способности вашего ума, чтобы понять ответ моей палочки; брат Робер отвернется в это время и не будет знать нашего разговора. После этой речи дом Модест опустил свою руку, усталую после знаков. Говорящий брат опять принялся за воск. Король потирал себе бороду, думая: «Решительно, один из этих двух человек очень хитер, но только один, который же?» Он тотчас решился. — Я убедился, — сказал он, — и не колеблясь все вам расскажу. Если вы не знаете короля Генриха, по крайней мере, Крильон вам довольно известен для того, чтоб вы извинили вспышки его откровенности. Признаюсь, таинственность, наблюдаемая здесь, внушила мне недоверие. — Какая таинственность? — произнес брат Робер. — Эти потемки. — Мое зрение слабо, — переводил Робер. — Упорство брата Робера скрывать свое лицо. Капюшон затрепетал. — Брата Робера неприятно видеть, — сказал хриплый голос, — он скрывает лицо не столько из самолюбия, сколько из желания не оскорбить глаз посетителя. — О! Если только это, — вскричал король, — не совеститесь, мы все более или менее безобразны! — И он торопливо протянул руку к капюшону. — Покажитесь же кавалеру де Крильону, — сказал сам себе брат Робер слова, сказанные ему палочкой, и в то же время он медленно обернулся к королю. Генрих встал с удивлением при виде этого странного лица. У брата Робера были впалые щеки, как будто он имел дар по своей воле втягивать их в рот. Широкие глаза занимали почти, так сказать, всю голову, рот, похожий на заячий, нос исчезал в белой бороде. Волосы касались бровей, уничтожая лоб, а аршинный нос, загнутый до самых губ, окончательно придавал голове брата Робера сходство с некоторыми зловещими птицами. Король смотрел на это лицо, которое оставалось спокойно и неподвижно при его анализе. Потом, как только он отвел глаза, чтобы предаться размышлениям, брат Робер, после совещания с приором, продолжал меланхолически: — Вы видите, что брат некрасив и ему лучше скрываться. Теперь, если вам угодно, мы будем продолжать разговор, потому что вы мне еще ничего не сказали о тех многочисленных предметах, о которых вы хотели со мною говорить. Король, которого прозрачная ирония этих слов заставила опомниться, с живостью возразил: — Признаюсь и начинаю. Дело идет об отречении короля. — Слушаю, — перевел Робер, который опять сел на свое место и принялся опять за воск. — Король поручил мне спросить вас, почему вы советуете ему через мадемуазель д’Эстре принять католическую религию? — Потому что это истинная религия, — перевел Робер. — Не поэтому, — с живостью сказал король, решившись или сорвать маску с Горанфло, напугав его, или с Робера, раздражив его, — а потому, что вы хотите или быть полезным королю, или повредить ему. Глаза Горанфло замигали, хотя палочка едва зашевелилась. — Это потому что я хочу быть ему полезен, — было ответом. — Я этого не думаю, отец мой. Капюшон сделал движение. — Отчего вы имеете это подозрение? — Оттого, что я видел в этом доме кровать кардинала Гиза. Физиономия Горанфло приняла выражение тупого ужаса, которое подстрекнуло нападки короля. — Это подарок, — сказал Робер. — От смертельной неприятности короля! — От подарка такой знатной дамы отказаться нельзя. — Даже от ножа Жака Клемана, если бы она его предлагала, — сказал король. Горанфло задрожал, побледнел, раскрыл рот. Брат Робер выпрямился. — Она мне его не предлагала, — перевел он, прежде чем подметил взгляд или движение палочки. — Кавалер де Крильон напрасно подозревает мою привязанность и мое уважение к королю. — Нельзя в одно время любить герцогиню Монпансье и короля Генриха Четвертого! — вскричал король. — И чем более стараются это доказать, тем более становятся подозрительны, а как только Крильон подозревает измену против своего короля, он заговорит громко, и его слова могут считаться угрозою. Угроз Крильона надо опасаться, потому что он представитель короля и знает все, что происходит в монастырях. При этих словах, произнесенных громким и раздраженным голосом, Горанфло с испугом вскочил, замахал руками, вытаращил глаза, как бы умолявшие брата Робера, потом опустился неподвижно на стул с болезненным восклицанием. — Скажите пожалуйста, немой заговорил… — вскричал король. — Он не говорит, он кричит, — с живостью возразил брат Робер, обернувшись к Генриху с волнением, которое на одну секунду изменило все выражение его лица, позу его тела и заставило помолодеть десятью годами. «О! — подумал король, пораженный внезапной мыслью. — Возможно ли, боже мой!.. Я поклялся бы, что я вижу Шико, если бы два года тому назад я не держал его мертвым на моих руках!» Между тем как брат Робер суетился около полубесчувственного приора и давал ему нюхать спирт из склянки, стоявшей на столе, король все более погружался в свои размышления, возбужденные в его уме столькими странностями. Его оживляло уже не любопытство, не тот инстинкт самосохранения, который называется гений у великих людей, для которых спасение тела ничего не значит в сравнении со спасением их состояния; Генрих чувствовал непреодолимое желание узнать или, лучше сказать, найти человека в призраке, которого прихоть случая, может быть, вызвала на минуту перед ним. Ему казалось, что, преследуя это, он перейдет за обыкновенную цель усилий простого человечества. «Сделать из человека тень легко», — сказал Гамлет, но не так легко оживить фантастическую тень. Зачем приор обнаружил такой испуг? Зачем лицо брата Робера так изменилось? Горанфло зевал и задыхался, как тюлень, при последнем издыхании. Брат Робер, как бы для того, чтобы изгладить всякое подозрение в короле, опять принял свою птичью физиономию и разнообразил каждую минуту в каждой новой гримасе тип и выражение, так что он походил на тридцать человек или, лучше сказать, на тридцать разных животных, в полчаса, что еще более прежнего приковало внимание короля. Говорящий брат привел Горанфло в чувство, подал ему палочку, сам опять сел на скамейку и сказал от имени приора: — Мне лучше, и я в состоянии отвечать на вопросы знаменитого кавалера де Крильона. Мое чувствительное сердце растревожилось от подозрения и угроз такого великого человека. Но я обращался к Богу насчет несправедливых упреков, сделанных мне. Господь укрепил меня. Будем говорить, господин кавалер, будем говорить! Ничто не могло отвлечь Генриха от его созерцания. Вместо того чтоб отвечать приору, он подошел к Роберу, посмотрел на него с дружелюбным и печальным видом и, положив руку на его сухощавое плечо, сказал: — Посмотрите на меня опять так, как смотрели сейчас, прошу вас. Палочка Горанфло судорожно зашевелилась, описывая фестоны и параболы. — Преподобный отец, — вскричал брат Робер голосом раздраженной кошки, — спрашивает, разве господин кавалер пришел сюда терять время на то, чтобы насмехаться над бедным монахом, обиженным природой? Это негуманно и неприлично. Он сопровождал эти слова косвенным взглядом, состроив физиономию до того смешную и безобразную, что король пришел в уныние и не стал уже настаивать. — Меня надо извинить, — сказал он, садясь позади брата Робера. — Меня надо простить за то, что я нарушил на минуту спокойствие преподобного приора моими угрозами. Качество друга герцогини де Монпансье не может не служить предметом подозрений и гнева для друга французского короля, а Крильон — верный друг этого государя. — И я также, — отвечал переводчик от имени Горанфло, который мало-помалу успокоился. — Ничто этого не доказывает, — кротко сказал Генрих, — а все доказывает противное. Вы управляете совестью молодой девушки, которую король очень любит, и вместо того чтоб предоставить этой молодой девушке уступить благоприятным чувствам, которые ей, может быть, внушил король, вы отговариваете ее, употребляя ее как политический рычаг, чтоб сбить с толку намерения короля. Это не дружеский поступок. Нет, у короля нет друзей в этом монастыре, и это жаль. Окруженный засадами, подстерегаемый неумолимыми врагами, мало любимый даже друзьями, он должен иметь много мужества, много упования на Бога, чтобы продолжать предпринятую им борьбу. О нет! У него нет друзей. Брат Робер, посоветовавшись с расстроенным лицом дом Модеста, сказал: — Вы клевещете на многих честных людей и забываете самого себя. Вы сейчас называли себя верным другом Генриха Четвертого. — О! Я не считаюсь, — сказал король, возвращаясь к своей роли. — Крильон не считается!.. А Рони, а Морнэ, д’Обинье и Санси! — Рони имеет большие качества, но он любит короля, для того чтобы им управлять. Морнэ — человек жестокий и не снисходительный. Санси оказал огромные услуги его величеству, но такие огромные, что он чувствует их вес и заставляет короля чувствовать его; а д’Обинье любит Генриха Четвертого, как ребенок любит свою собаку или своего воробья, чтобы вырывать у него перья или теребить ее за уши. — Кто любит, тот и наказывает, — сказал брат Робер глухим голосом. — Из всех друзей, которых имел этот бедный король, — продолжал Генрих Четвертый растроганным голосом, — я помню только одного. О, вот был редкий друг! Друг также наказывавший, но со смехом таким веселым, с бархатистой лапкой, так остроумно вооруженный невинными когтями!.. Я никогда его не забуду. Говоря таким образом, Генрих наклонялся к капюшону брата Робера. — Кто же был этот Феникс? — прошептал голос, который можно было назвать растроганным, до того он был взволнован. — Это был гасконский дворянин, соотечественник короля, храбрец, мудрец, душа Брута в теле Терсита, честность Аристида и холодное мужество Леонида. — Господин кавалер учен, — сказал брат Робер, голос которого дрожал, как его капюшон. — Брат Робер, вы сами учены, — сказал король, увлекаемый к этому человеку порывом души, которого он не мог преодолеть. Говорящий брат тотчас схватил таблицу, лежавшую в ногах приора, и своими длинными, крючковатыми пальцами указал королю на следующую фразу: «Необходимо, чтобы посетители проникнулись идеей, что они говорят с приором. Голос заимствован, но мысль собственно его». Генрих прочел и отвечал, смотря на безжизненную массу, лежавшую на кресле: — Это правда. Но вы согласитесь, что можно ошибиться. Я возвращаюсь к моему другу, я хочу сказать, к другу короля. Но он был также и моим другом, и вы не удивитесь, если я в разговоре буду употреблять местоимение «я», как наш добрый говорящий брат. Палочка заговорила. — Продолжайте, — загнусил Робер. — Панегирик этого дворянина, который, по вашим словам, был так предан королю, интересует меня в высшей степени. Дружба! Rara avis in terris! — Птица действительно очень редкая, — сказал король. — Но она была главной добродетелью этого храбреца, о котором мы говорим. Он сначала имел к покойному королю Генриху Третьему такую преданную дружбу, какую, может быть, ни один король никогда не внушал: постоянную заботливость, просвещенные попечения, бдительность для сохранения короны, часто угрожаемой, бдительность, еще более высокую, для защиты драгоценных дней своего короля. Хриплый смех, похожий на надгробный стон, раздался на минуту под капюшоном, как бы в глубине пещеры. Лицо приора покрылось смертельной бледностью, и на этот раз его физиономия выражала идею. — К чему послужила эта заботливость, эти попечения и эта бдительность? — прошептал говорящий брат. — Господь сосчитал дни бедного короля, — сказал Генрих с торжественной радостью. — Преданность одного человека ничего не может сделать против преодоления судьбы; но я забыл, — вскричал он вдруг с вдохновением гения, — что я утомляю ваш слух рассказом о горестях не ваших! Я забыл, что я говорю с друзьями герцогини Монпансье и что смерть покойного короля не причинила большой печали во французских монастырях! Строгое лицо говорящего брата вдруг приподнялось, как будто хотело протестовать криком против этого обвинения. Генрих ждал с нетерпением последствий своей хитрости. Но брат Робер медленно сел, не произнеся ни слова, а палочка Горанфло начертала несколько сигналов, и переводчик прибавил: — Не будем говорить о политике, господин кавалер. — Это не политика, а история, — возразил король. — История гасконского дворянина, который интересовал вас сейчас, тесно связывается с историей королей Генриха Третьего и Генриха Четвертого. Служа первому из этих государей, наш друг повиновался личному интересу Он служил своей собственной ненависти. — А! Ненависти… — перебил капюшон. — Стало быть, этот совершенный человек имел тоже земные страсти? — Много, и вот почему он был так велик и так добр. Слабости души — это мягкие подушки, которые природа положила около жил и мускулов. Они смягчают слишком большую силу движений, которые без этого сделались бы грубыми, и предохраняют самые пружины от трения, от которого они скоро износились бы. Притом слабости доставляют душе удовольствия и заставляют ее соглашаться обитать на земле, скучном обиталище, если б иногда в нем не встречалось разнообразие. Капюшон сделал одобрительный знак. — Я повторяю эту фразу, потому что я нашел ее прекрасной, — сказал король. — Она не моя. Наш друг часто произносил ее. Ну, так как его слабости известны, признаемся, что их можно было оправдать. Он смертельно ненавидел одного человека, который оскорбил его, оскорбил без причины и жестоким образом. Может быть, если бы предмет этой ненависти был простой дворянин, за обиду было бы заплачено несколькими ударами шпаги. Но враг нашего друга был знатный человек, очень знатный и очень могущественный принц и, по странности судьбы, страшный враг короля Генриха Третьего, так что, исполняя свои личные дела, гасконец исполнял и дела своего властелина. Я сказал бы вам имя этого принца, который сделал столько зла Генриху Третьему, но у вас здесь в доме стоит кровать, которая закрывает мне рот. — Все-таки говорите, господин кавалер, — перевел говорящий брат. — Этот принц был из знаменитого дома Гизов, брат Гизов, убитых в Блоа, и герцогини Монпансье, вашей приятельницы. Он назывался и называется еще и теперь герцог де Майенн. Он прежде составлял заговоры против Генриха Третьего, а теперь воюет против Генриха Четвертого. Против этого-то врага сражался наш друг гасконец. Этот верный, этот храбрый, этот остроумный человек… Постарайтесь вспомнить, преподобный приор; вы должны знать, о ком я говорю, а если ваши воспоминания изменят вам, спросите брата Робера; может быть, он даст вам сведения о несравненном человеке, который, как я сказал, был единственным другом Генриха Наваррского, ныне французского короля. При этих словах, произнесенных со всею ловкостью и со всем жаром этого великого ума, глупое удивление Горанфло было доведено до крайней степени. Его растерявшиеся глаза горячо допрашивали брата Робера и умоляли его поспешить на помощь в таком жестоком затруднении. Тот долго размышлял, несмотря на все повороты палочки. — Я еще не знаю, — сказал он, — о ком говорит господин кавалер. Это множество похвал заставило меня сбиться с пути. Если б человек, о котором говорят, был смиренный слуга короля, неизвестный по жизни и по поступкам… и очень скоро забытый, может быть, я скорее бы его узнал. — Неизвестный!.. — вскричал король. — Неизвестный! Тот, который в то время, когда жила бедная графиня де Монсоро, любил и служил Бюсси д’Амбоазу против герцога Анжуйского!.. Достопамятная и трогательная история, которую никогда не забудут знавшие ее! Неизвестный! Тот, который убил своею рукою Николая Давида и капитана Борромэ, двух страшных сподвижников Гизов! Забыт! Тот, которого память возбуждает и ныне вздохи в груди его короля и который, если бы находился здесь, мог бы видеть, как его любили, как его любят и как его оплакивают! Король произнес эти слова с разбитым сердцем; слезы навернулись на его глазах. Говорящий брат украдкой обернулся и уловил на лице Генриха благородное и славное волнение, потом, потупив снова голову, отвечал прерывающимся голосом: — То, что вы сказали, господин кавалер, объяснило мне все. Человек, о котором идет речь, именно тот, которого я подозревал сначала. Его, кажется, звали… — Шико! — вскричал король громко. Капюшон не дрогнул, но Горанфло при этом имени задрожал на своем кресле, как бог Джагренат, сбитый со своего подножия. — Да, — сказал холодно говорящий брат, — таково было имя того, о котором вы говорите, и мы совершенно понимаем друг друга. Похвалы, которыми вы его осыпаете, приятны мне от великого кавалера де Крильона, потому что я также пользовался дружбою месье Шико. Ничто не может передать выражения, которое приняло это имя, выходя из губ говорящего брата. — Вы были его другом? — спросил король. — Помню… Вы этот монах, его товарищ… Но извините, кажется, прежде вас называли Панюрж. — Панюрж был не я, а наш осел, — перевел Робер, — и он умер, умер, как Шико, потому что ведь Шико умер, это известно. Мне об этом говорили многие военные годы, да и кто может это знать лучше вас, кавалер; ведь вы почти никогда не оставляли короля, а Шико умер возле короля. — Да, — сказал король. — Вы, может быть, были при том, — спросил брат Робер. — Был. Глубокое молчание последовало за этими словами. Брат Робер прервал на минуту свою работу с воском и задумался, потом, повинуясь палочке, продолжал: — Я охотно воспользуюсь представившимся случаем, чтобы узнать несколько подробностей о смерти бедного Шико. От очевидного свидетеля эти подробности будут драгоценны для его прежнего друга. Не будете ли вы так обязательны, чтобы рассказать мне эту историю, кавалер? — Охотно, преподобный приор. Шико последовал за королем Генрихом Четвертым в то время, когда все колебались, и его предложение услуг тем было приятнее новому королю, что он знал всю их важность, так как сам испытал, каким опасным противником становился Шико, когда преследовал кого-нибудь, чтобы защищать своего повелителя. Только Шико не был для Генриха Четвертого сиюминутным товарищем, застольником, другом, ночевавшим в комнате, обедавшим за столом и разделявшим все тайны жизни. Шико привык к великолепной жизни короля Генриха Третьего. Постель Генриха Четвертого была жестка, его серебряная посуда часто отдавалась в заклад и заменялась глиняной. Генрих этим косвенным и несправедливым обвинением, горьким намеком на свою бедность надеялся заставить противника открыться, но брат Робер флегматически отвечал: — Правда, что Шико был жаден, скуп, лаком. Эти слабости извинительны в людях пошлого характера и ничтожного звания. Притом он был избалован сношениями с его величеством Генрихом Третьим, этим государем великодушным, роскошным, великолепным, щедрым, признательным. Покойный король всегда лишал себя самого, чтобы обогатить своих слуг; он всегда сам ел сухой хлеб, а своим друзьям предлагал фазанов на золотом блюде; покойный король был храбр и мужествен; он забывал о себе, как все люди с великим сердцем… Он избаловал своего друга Шико. Этот дворянин, без сомнения, сделался эгоистичным и практическим; простите монарху и его смиренному служителю. Горанфло потупил голову; брат Робер соскользнул со своей скамейки и стал на колени. Уважение охватило Генриха. Удар, который он хотел нанести с похвальным намерением, был нанесен ему самому прямо в сердце. — Я скорее думаю, — отвечал он с живостью, — что гасконский дворянин не хотел вступать в фамильярные отношения с Генрихом Четвертым, чтобы не ослабить своих воспоминаний, чтобы не заменить свою нежность к покойному королю новой нежностью. — Может быть, — отвечал переводчик, — но вы обещали несколько слов о последних минутах Шико. — Он сражался при Бюре, как храбрый солдат, когда с горячим желанием мстить де Майенну он взял в плен его друга, его родственника, графа де Шалиньи, и с торжеством привел его ко мне. — К вам, месье де Крильон, или к королю? — Я стоял так близко к королю, что он привел его к нам обоим: «Посмотри, — весело сказал он, — Генрих, это я делаю тебе подарок». Он толкнул Шалиньи к моим ногам. — Он говорил «ты» королю? — Он говорил «ты» только королю. Эти слова возбудили смех. Взбешенный граф де Шалиньи обернулся и своей шпагой, которую великодушный Шико оставил ему, разрубил ему голову. — Я не что иное, как монах, незнакомый с военными законами, — прошептал брат Робер, — но мне кажется, этот поступок был низок. — Он был гнусен. — А… раненый? — Шико упал. Я велел его перевязать, поручил хорошим хирургам. — У вас?.. В вашей палатке, не правда ли, господин кавалер? — спросил Робер. — В моей палатке? — сказал король со смущением. — У меня всегда бывала палатка. — Словом, в квартире короля… король жил же где-нибудь? Когда король Генрих Третий был в походе, Шико, он говорил мне, часто был ранен возле него, и всегда его лечили у короля. Он лежал у его ног… это преимущество верных собак. Король покраснел. Его честные, блестящие глаза смутились. Угрызение, возбужденное этими простыми словами, медленно поднялось из его сердца к губам, и он пролепетал: — Это правда… Я забыл велеть перевязать Шико у меня и велел послать его в надежный дом; я узнал, что он слабеет каждый день, и наконец меня уведомили, что он при смерти. Я бросился к нему… Он уже умер. — С вашей стороны это было естественно, кавалер, но со стороны короля Генриха Четвертого?.. О, если бы Шико лежал у ног короля, — продолжал брат Робер раздирающим душу голосом, — он, по крайней мере, имел бы счастье испустить последний вздох, благословляя своего повелителя, и все его услуги были бы вознаграждены. Король наклонил голову с волнением, которого, может быть, он никогда не чувствовал. — Наконец, — продолжал Робер торжественным тоном и устремив глаза на дом Модеста, — Шико умер, мир его душе! Говоря таким образом, брат Робер поднял в руке почти оконченную восковую фигурку. Король увидал ее и был поражен. Фигурка представляла его самого в церемониальном костюме, с его широкой бородой и с длинным, знаменитым носом. Это был его стан, его воинственная и развязная наружность. Он стоял на коленях и держал в руке служебник, на котором виднелось слово «обедня». Король, пораженный изумлением при виде этой чудесной работы, исполненной в промежутках разговора, сложил руки и, наклонившись к фигурке, чтобы поближе ее рассмотреть, вскричал: — Это мой портрет! Вы видите, что вы знаете меня! Брат Робер не оборачиваясь быстро написал острием стеки:
Crillon — Eques — MCLXXXXIV.
Король замолчал, еще раз отброшенный далеко от цели этим неизменным присутствием духа. Но он приготовлялся отплатить тем же, когда дверь комнаты отворилась, ребенок, который привел Генриха к дом Модесту, прибежал впопыхах и шепнул несколько слов приору. Горанфло посинел, точно с ним сделался апоплексический удар. Брат Робер, нисколько не смутившись, сделал вид, будто советуется с приором, и сказал королю: — Может быть, кавалеру де Крильону неприятно встретить особу, которая посещает нас. Войдите на эту лесенку, она ведет в комнату брата Робера. Я велю проводить туда в другую дверь друга, ожидающего вас. Ступайте и старайтесь убедить себя, что у короля здесь есть друзья. Король вздрогнул и посмотрел на обоих монахов, как бы спрашивая их, не намерены ли они захватить его в ловушку. Положив руку на свою шпагу, он поднялся на лестницу задом, не спуская глаз с приора и его товарища. Он скоро дошел до комнаты, заперся там и почти тотчас увидал Крильона, входящего в другую дверь из коридора. — Государь! Как вы бледны! — сказал Крильон. — Разве вы уже знаете об ее приезде в этот дом? — О чьем приезде? — Герцогини Монпансье. — Она здесь?.. Ты ее видел? — С четырьмя испанцами, с двумя дворянами, со своим конюшим и с низеньким неизвестным молодым человеком. Будем остерегаться, государь, в ожидании Понти и нашего отряда. — Неужели он хочет отмстить за мою неблагодарность? — прошептал Генрих, предаваясь воспоминанию о таинственном брате Робере. — Отмстить вам?.. Кто, государь? — Молчи! — закричал Генрих. — Слушай этот голос. В комнате внятно слышалось каждое слово, произносимое у приора.
Глава 22 ГЕРЦОГИНЯ ТИЗИФОНА
Действительно, к приору женевьевцев приехала герцогиня, знаменитая в то время. Крильон не ошибся. Она имела свиту довольно многочисленную для того, чтобы внушить уважение, и в бойницу, пробитую в алькове приора, брат Робер заметил испанцев и низенького молодого человека, о котором Крильон говорил Генриху Четвертому. Двери в комнате Горанфло отворились настежь, словно для королевы; брат Робер неприметно приподнял на потолке опускную дверь, которая уменьшала толщину потолка, для того чтобы голоса проходили в верхний этаж, и герцогиня вошла к дом Модесту. Екатерина-Мария Лотарингская, герцогиня Монпансье, имела сорок один год и сохранила мало остатков красоты, которой она так гордилась. Черные глаза, глубокие и злые, густые брови, сходившиеся над тонким и длинным носом, тонкие, хитрые губы, лоб маленький, как у ехидны, — такова была эта женщина. Она скрывала неровность своей хромой ноги припрыгиванием, может быть, грациозным в молодой девушке, но очень странным в женщине, волосы которой седеют. Ее нравственный портрет был еще безобразнее. Смертельная неприятельница Генриха Третьего, который, как говорили, оскорбил ее тайным презрением, она воспользовалась убийством Гизов, ее братьев, убитых в Блоа, и с этой минуты преследовала короля, раздувая огонь Лиги и вооружив фанатика Жака Клемана. После убийства Генриха Третьего она вскричала: — Какое несчастье, что он перед смертью не узнал, что удар был направлен мною! Наконец, это она, призвав испанцев во Францию после смерти Генриха Третьего, поддерживала междоусобную войну, чтобы доставить французскую корону своему дому. Эта фурия стоила целой армии по деятельности своей жгучей ненависти и адской хитрости своих соображений, не отступавших ни перед каким преступлением. Она подстрекала Майенна, часто ленивого и холодного; она пожертвовала бы им самим; и так как этому пламени всегда была нужна новая пища, Генрих Четвертый заменил Генриха Третьего. Он сделался мишенью, на которую направлялось все. Она вошла к дом Модесту с поспешностью, обнаруживавшей ее беспокойство и нетерпение. Можно было видеть в конце коридора возле большой залы ее испанских телохранителей и лигеров, которые прохаживались вокруг нее. — Заприте двери! — сказала она повелительным голосом, которому брат Робер поспешил повиноваться. Заперев двери, он воротился смиренно и со всеми знаками глубокого уважения сел к ногам своего приора, с воском и со стекою в руках. Герцогиня ходила по комнате, опустив голову и хлопая хлыстом по мебели, а когда ее не встречалось, то по своей суконной амазонке, которая тащилась по полу за нею. Горанфло вытаращил глаза на своего переводчика, который успокоил его, мигнув глазами неприметно ни для кого другого, кроме этих двух человек, привыкших понимать друг друга. Говорящий брат, видя, что палочка зашевелилась, сказал герцогине, что она дорогая гостья и что ее присутствие доставляет честь и радость всей общине. Она дрожала, как тигрица в клетке. — С моей стороны совсем не так, — сказала она, — я приехала не затем, чтобы говорить вам комплименты, господин приор. — Почему же? — спросил переводчик. — О! Это до того важно, — сказала герцогиня, скрежеща зубами, — что я спрашивала себя, должна ли я приехать сюда или вызвать вас к себе. — Вам известно, герцогиня, что я не могу двинуться с места, — сказал брат Робер. — Вы тяжелы, это правда, господин приор, но я шевелила массы еще тяжелее и не знаю, почему мне кажется, что десять человек моих людей могут унести вас, как перышко, ко мне в Париж или в Бастилию. «В Бастилию?» — закричали испуганные глаза Горанфло, но голос брата Робера холодно сказал: — Зачем же в Бастилию, герцогиня? — Потому что там объясняются насчет обвинений в измене. Холодный пот выступил крупными каплями на огромных висках Горанфло. — Я не понимаю, — сказал брат Робер спокойным тоном. — Во-первых, — вскричала раздраженная герцогиня, — невозможно разговаривать посредством этого дуралея! Она указала на брата Робера, скрывавшегося под своим капюшоном. — Этот бездельник, этот осел, — продолжала она с бешенством, — передает мне ваши слова с глупой флегмой! Стало быть, этот скот не чувствует ничего! Вы, по крайней мере, дом Модест, вспотели от страха!.. Но он — это бревно, это камень, это скелет, который годилось бы привесить к потолку колдуньи, как ящерицу! Смерть моей жизни! Я велела бы содрать с него кожу, если бы была уверена, что на его костях найдется кожа. Брат Робер, нисколько не смущаясь, отвечал: — Упреки, которыми вы осыпаете моего переводчика, несправедливы. Он в точности передает мою мысль. Он говорит, как я чувствую. — Вы не боитесь? — Нисколько. — И у вас не выступил крупными каплями пот? — Это мой жир тает от жару. — Вы не дрожите объясняться со мною? — Я не умею дрожать, когда чувствую себя невиноватым. Притом моя сила нисходит свыше, я не боюсь могущественных земель. Ничего не могло быть страннее этой невероятной передачи волнений, терзавших приора. Брат Робер говорил о спокойствии и мужестве Горанфло, а Горанфло был готов свалиться со стула, и все его черты заметно расстраивались. Герцогиня подошла к Роберу, схватила его за капюшон и начала бешено трясти. — Говори ты сам, — сказала она. — Мне это запрещено, — отвечал он, спокойно смотря на нее. — Я приказываю тебе. Брат Робер надвинул капюшон и молчал. Герцогиня то бледнела, то краснела. Молчание обоих женевьевцев раздражало ее, и она не видела способа прекратить это молчание. Горанфло, оправившись от страха, по примеру неустрашимого Робера как будто сам шел наперекор герцогине, и ироническая улыбка появилась на его широком и толстом лице. — Вы, кажется, угрожаете мне пыткой! — вскричал переводчик голосом звучным, как труба. — Ну! К пытке! К пытке! Мы весело пойдем на пытку, как брат Давид, которого вы велели убить! Как брат Борромэ, которого вы велели убить! Как брат Клеман, которого вы… — Довольно!.. — перебила герцогиня. — Довольно, говорю я вам!.. Кто говорит о пытке?.. — Вы назвали Бастилию. — Я была рассержена. — Это смертельный грех. Герцогиня пожала плечами. — Я знаю, что это вам все равно, — сказал переводчик, — но на кастрюлях в аду вы заговорите иначе! — Вы хотите читать мне проповедь? — Это мое ремесло, это мое призвание. Гнев — смертельный грех. — Дом Модест!.. — Я служу Господу, а вы оскорбляете его; тем хуже для вас. — Еще раз, — закричала герцогиня вне себя от бешенства, — вы читаете нравоучение и не отвечаете мне! — А вы меня оскорбляете и не расспрашиваете. При этих словах, которые заставили задрожать с головы до ног Горанфло, от имени которого они были сказаны, герцогиня вдруг обернулась. На нее страшно было смотреть. Ее волосы, готовые развязаться, как будто свистели, как змеи Тизифоны. — Вы забываетесь! — прошептала она свирепым тоном. — Неужели вы думаете, что у вас не найдется уже шеи, за которую можно повесить вас? — Вот мы опять воротились к пытке, — холодно сказал Робер. — Вешайте же скорее, но перемените разговор, он однообразен. Это презрительное спокойствие вдруг сбавило бешенство герцогини. Она подошла, скрестив руки, к Горанфло и медленно, как бы взвешивая каждое слово, сказала: — В какой день я приезжала советоваться с вами о новом затруднении, которое поставили Лиге генеральные штаты? — Три недели тому назад, — отвечал переводчик. — Что советовали вы мне делать? — Вы это знаете так же точно, как и я, герцогиня. — Вы мне советовали оставить моего брата де Майенна, основываясь на том, что он имеет слишком мало возможности царствовать. — Это правда, очень мало, — сказал Робер. — Послушная вашим советам, как всегда, потому что, надо признаться, вы замечательно проницательны, вы дали мне доказательства, вы угадали Жака Клемана… Горанфло посинел. — Послушная, говорю я, я бросила моего брата и предложила Испании брак инфанты с моим племянником Гизом. — В этом нет ничего, кроме самого естественного, — перебил переводчик, — король испанский хочет выдать свою дочь за французского принца, а месье де Майенн женат. — Притом французская корона, по милости вашего замысловатого совета, не выйдет, таким образом, из дома Гизов. Конечно, это совет превосходный, и я еще раз благодарю вас за него. — Может быть, поэтому-то вы предлагали сейчас повесить меня? — сказал Робер. — Подождите, я еще не кончила. Кто сочинял предложение об этом браке испанскому королю? Вы, не так ли? — Да, я вам продиктовал, хотя долго не соглашался, припомните это. Я не доверяю испанцу, я вам это повторял. — В какой день приезжала я сообщить вам ответ короля испанского, то есть его согласие? — Третьего дня, и насмехались над моей недоверчивостью. — Сколько человек знали эту тайну? — Этого я не могу вам сказать. — А я могу. Об этом знали только трое: король испанский, я и вы. Я не говорю об этом монахе… вы уверяете, будто он не считается. — Он действительно не считается, — отвечал брат Робер. — Ну, к чему же клонится вся эта речь? — А вот к чему: вместо трех человек нашу тайну знают пятеро, и знаете ли, кто эти новые два? — Нет. Но я это узнаю, если вы мне скажете. — Одного зовут де Майенн, мой брат, когда именно ему не должна быть известна эта тайна. — Де Майенн это знает? — вскричал брат Робер. — Когда так, все погибло. — Я не говорила, что все погибло. — Ваш заговор не удался. — Да, дом Модест, я поссорилась с моим братом, в нашем лагере водворился раздор, в нашем семействе начинается война, но это еще ничего… Угадайте, от кого де Майенн узнал о нашем заговоре? — Ах, герцогиня… — От короля наваррского, от Беарнца, который вчера вечером отослал к нему копию с договора между Испанией и мною насчет брака инфанты. — Это невероятно! — вскричал брат Робер с невыразимой гримасой. — Как! Беарнец знает все! Кто же ему сказал? — Вот об этом-то я приехала вас спросить, — отвечала герцогиня мрачным голосом. — Вот почему мой нетерпеливый гнев начал угрозами, вот почему наконец вы видите меня готовой на все, если не затем, чтобы загладить страшный вред, который мне сделала эта измена, то по крайней мере, чтобы открыть и наказать изменника так жестоко, чтобы ужас наказания передавался в самые отдаленные века. Вы согласны со мною, дом Модест? — Совершенно, — отвечал переводчик с развязным видом. — Имеете ли вы какую-нибудь мысль насчет казни, к которой можно бы его присудить? — Мы возьмем, если вы хотите, все пытки персиян и карфагенцев; у меня есть об этом толстая книга с комментариями и фигурами. Некоторые из этих пыток так замысловаты, что превосходят всякое воображение. — Мне нравятся ваши слова, — сказала герцогиня с бешенством. — Но сначала… — Я знаю, что ваше высочество желаете сказать; сначала надо узнать виновного, во-вторых, захватить его, в-третьих, уличить. — Это будет нетрудно, господин приор. — Начнем же, — сказал брат Робер. — Кто же он? — Вы или брат Робер! — закричала герцогиня. Переводчик обернулся к герцогине и сказал ей холодно: — Я не думаю. — Как? — Я думаю скорее, что это вы или король испанский. — Какие выгоды могу я иметь? — сказала герцогиня, оторопев от этой смелой самоуверенности. — А какие выгоды можем иметь мы? — сказал брат Робер. — Это неизвестно: душа женевьевца — пещера. — Душа королей и герцогов — бездна, — гордо сказал переводчик. — Притом — докажите… А так как вы не можете доказать, так как женщина имеет ум слабый, буйный, всегда ищущий крайности, когда так благоразумно и легко оставаться в центре, я вам докажу, что у вас есть изменники. — Испанская депеша всегда была при мне. — Когда так, Испания насмехается над вами и послала дубликат своей депеши или королю наваррскому, или де Майенну. Испания хочет царствовать во Франции без вашего племянника и без вас. Она считает вас слишком сильной и хочет вас ослабить, укрепив на время вашего врага Генриха Четвертого. Герцогиня подумала, пораженная этой мыслью. — Это может быть, — прошептала она. — Это наверняка, и я советую вам четвертовать испанского короля, если вы не предпочитаете казнить вероломную Екатерину Лотарингскую, герцогиню Монпансье, чтобы наказать ее за то, что она сама себе изменила, приняв посредничество Испании. — Вы правы, дом Модест. — Надо делать свои дела самим. — Это всегда мне удавалось, я так и буду делать. — Это правда, что теперь вы поставили себя в большие затруднения. — Я выйду из них. — Я не стану спрашивать вас — как из опасения, чтобы вы завтра не обвинили меня опять, что я предупредил Беарнца… Беарнца, который поклялся колесовать и сжечь живьем всех тех, которые участвовали в смерти покойного короля! Беарнца, торжество которого будет моей погибелью, так же как и вашей! — Простите меня, горе сбивает столку… — Даже до того, чтоб оскорблять друзей, таких как я, угрожать им, подозревать их! Я часто говорил вам, герцогиня: разойдемся! Разойдемся! Между людьми, не доверяющими друг другу, дружбы не может быть. — Вы разве не доверяете мне? — По причине ваших ошибок не доверяю, герцогиня; вы делаете такие ошибки, которые погубят ваших друзей. — Я больше не буду делать ошибок, дом Модест. — Вы укрепили Генриха Четвертого союзом с Испанией, который лишает вас популярности в глазах всей Франции, ссорою с де Майенном, и вы уже не поправитесь после этого. — Все это будет поправлено завтра. — Если король отречется, вы погибли — и вы, и вся Лига. Я уже об этом думал; король не отречется. — Церемония объявлена в Сен-Дени в воскресенье. Завтра короля запрут в крепость. — Вы? — вскричал брат Робер. — О нет! Я даже и не буду пробовать, но его друзья сделают это. — Его запрут друзья? — Его друзья-гугеноты. Да, взбесившись на слухи, которые ходят об отречении их начальника, они составили заговор и похищают его сегодня из убежища, выбранного им у его новой любовницы Габриэль д’Эстре. — Они догадались. — Их научили. Они похитят Генриха Четвертого, будут стеречь его, чтобы не допустить отречения, а во время его плена я возвращу все преимущества, которые заставила меня потерять измена испанца. — Это очень замысловато, — перевел Робер, — извлекать пользу из друзей врага! Уверены ли вы, что гугеноты похитят короля до отречения? — Его конвой возьмется за это, он призвал из Шату отряд для защиты его любовных поездок. Наш Беарнец — большой волокита. Ну, его защитят так, что он не подвергнется никакому риску. Брат Робер поднял глаза к потолку, перекладины которого затрещали. — Я вижу, что меры герцогини хорошо приняты, — сказал он, как бы повинуясь палочке Горанфло. — Но, подержав Генриха в плену, гугеноты возвратят ему свободу, хоть только для того, чтобы дать сражение, хоть только для того, чтобы осадить Париж; вы ведь предвидели тот случай, когда он будет осаждать Париж, не правда ли, герцогиня? — Да, преподобный приор. — И тот случай даже, когда он возьмет Париж? — Я этого не предвидела. Генрих Третий осаждал Париж, как я, Генрих Четвертый будет осаждать, может быть, и не возьмет его. — А! — сказал брат Робер звучным голосом, раздавшимся до самых сводов. — Это потому, что между Парижем и Генрихом Третьим встретилось… — Событие в Сен-Клу. — Да, герцогиня, а в окрестностях столицы есть только один Сен-Клу. — Это вероятно, но то, что сделалось в Сен-Клу, может сделаться и в другом месте. Тут герцогиня дружески поклонилась Горанфло и сказала: — Не сердитесь на меня. Я потеряла голову вследствие моей ссоры с моим братом Майенном. Если бы вы знали, как я смутилась, когда сегодня утром он вошел ко мне с этим проклятым испанским трактатом в руках. Но вы правы; эта Испания нам изменяет и, может быть, вступила в заговор с Беарнцем, для того чтобы ослабить меня. — Это моя мысль, — сказал брат Робер. — Ну, будьте спокойны, — прибавила герцогиня. — Беарнец не будет царствовать, хоть бы он вступил в союз с двадцатью Филиппами Вторыми; он не будет царствовать, даю вам слово. — Э! Э! — сказал брат Робер, переводя этим сомнением знак Горанфло. — Если он отречется, если он возьмет Париж… — Его гугеноты помешают ему отречься, а события в Сен-Клу помешают ему взять город; если все это не удастся, у нас останется еще кое-что другое… что я сохраняю вот тут! — сказала она, дотронувшись до своего лба с адской улыбкой. — Нечто такое, что заставит вас переменить ваше неблагоприятное мнение о женщинах. Прощайте, любезный приор; мы объяснились, мы опять добрые друзья. Прощайте, я пришлю вам варенье. Лицо Горанфло приняло выражение испуга, делавшее мало чести варенью герцогини Монпансье, что заставило засмеяться исподтишка брата Робера. Говорящий брат проводил герцогиню до дверей; она отдала приказание, и, улыбаясь низенькому, белокурому молодому человеку, который ждал ее в углу с испанцами, эта сирена сказала с задорной фамильярностью: — Помогите мне сесть на лошадь, месье Шатель. Новый фаворит бросился, покраснев от удовольствия, подставить свою руку герцогине. — Кто этот молодой дворянин? — спросил брат Робер у конюшего. — Это не дворянин, а сын лавочника, который продает материю герцогине. Брат Робер молча улыбнулся в свою очередь и пристально посмотрел на молодого человека, комкая в руках новый кусок воска, который он начал обделывать своей стекой.Глава 23 КАК ГЕНРИХ ВЫРВАЛСЯ ОТ ГУГЕНОТОВ И КАК ГАБРИЭЛЬ ВЫРВАЛАСЬ ОТ КОРОЛЯ
Молчание царствовало у приора. Герцогиня уже уехала из монастыря, а король и Крильон, наклонившись к полу верхней комнаты, еще слушали с изумлением. Крильон крутил усы, Генрих сидел на кресле. — Я думаю, государь, — сказал кавалер, — что я еще успею догнать эту злодейку и сломать ей здоровую ногу. О чем вы думаете, зачем вы не говорите? — Я думаю, какие это добрые монахи, — сказал король с умилением. — Люди, право, гораздо лучше, чем о них думают. — Мужчины, может быть, но не женщины. Я полагаю, государь, что мы не заснем, между тем как лигеры действуют. — Нет, надо будет проверить то, что она сказала о намерениях моего конвоя… Перейдем к тому, что нужнее. Только что король кончил эти слова, как в дверь из коридора сильно постучались. Крильон пошел отворить, и явился Понти. Он был взволнован, красен. Чтобы он не приметил короля, Крильон не совсем отворил дверь и не давал гвардейцу заглянуть в комнату. — Ну, — сказал он, — конвой едет? — Едет. Только это не отряд в восемь человек, а целая армия, если я не ошибаюсь. — Как целая армия? — вскричал Крильон между тем как внимательный король прислушивался и приближался к двери, чтобы лучше слышать. — Я насчитал, по крайней мере, восемьдесят всадников, — отвечал Понти, — они едут небольшими группами по берегу реки. — Наши всадники? — Наши. Но вот странно, все гугеноты, точно на подбор. Крильон вздрогнул и украдкой взглянул на короля. — А ла Варенн? — Его там нет. — Что же ты сказал? — Я попросил первый отряд направиться к монастырю от вашего имени. Тогда один всадник, которого я не знаю, вскричал: «Если кавалер де Крильон там, стало быть, и король тоже там». Это правда, полковник, — прибавил Понти, — что король в монастыре? — Тебе какое дело? Продолжай. — Гугеноты стали переговариваться. Я слышал имена ла Шоссе, Буживаль, д’Эстре. Стали ссориться, разгорячились, потом все двинулись, так что вместо конвоя в восемь человек, у вас будет больше ста. Легкая бледность показалась на лбу короля. Крильон, не изменяясь в лице, щипал себе бороду и думал. — Больше ничего, полковник? — спросил Понти. — Я спешу к раненому. Мой бедный Эсперанс сейчас жаловался, что он голоден. Могу я идти? Крильон дотронулся пальцем до рукава Понти, как будто прикосновением храбрейшего человека в Европе хотел увеличить во сто раз храбрость своего единственного солдата. — У тебя хорошая шпага? — спросил он. — Кажется, — отвечал Понти с удивлением. — Вытащи ее из ножен и стань в конце этого коридора у лестницы. — Слушаю, полковник. — Этот проход легко защищать, потому что может пройти только один человек. — Это правда. — Всякого человека, который захочет пройти и не будет добрым католиком… — Я должен остановить? — Ты должен его убить. — Стало быть, это Варфоломеевская ночь! — вскричал Понти с лихорадочной радостью — вспыхнул старый уголь религиозной ненависти, который не погасили столько слез и крови. — Пожалуй, если хочешь — Варфоломеевская ночь, — отвечал Крильон. Гвардеец молча поклонился и стал на месте, назначенном полковником. Его шпага засверкала пурпуровыми отблесками. — Что ты хочешь делать? — сказал задумчиво король, к которому воротился Крильон. — Один этот гвардеец не может убить сто человек. — Он не один, — отвечал Крильон, — а я, а вы? Разве мы не часто сражались с сотнею противников в наших битвах? Разве не вы один выиграли сражение при Арке, где меня не было? — Слушай, — сказал король, — избежим или стыда поражения, или огласки подобной победы. Убивать моих солдат — значит устраивать дела герцогини Монпансье; вступим в переговоры. — А в это время гугеноты войдут сюда и предпишут вам свои условия; как бы не так! — Крильон, друг мой, разве мы сильнее их? — Нет, это-то меня и бесит. — Ну, надо схитрить. Мне пришла мысль. — Это меня не удивляет, государь. — У нас здесь есть поблизости какой-нибудь гарнизон? — Триста человек в Сен-Дени. — Гугенотов? — Нет, это католики. — Вместо того чтобы оставаться здесь, сделай мне милость, отправляйся сказать этим католикам, что хотели сделать гугеноты. Эти хотели помешать мне идти к католической обедне, а те имеют право проводить меня туда. — Это чудесно! — вскричал Крильон. — Вы великий король! — Не правда ли? — Я бегу туда. Но в это время что же будет? Я буду виновен, если оставлю вас таким образом. — Ничего не может случиться; что же могут сделать гугеноты? Увести меня в протестантскую церковь? Я был там уже тысячу раз. Один лишний раз не значит ничего. Или они будут держать меня пленником в этом монастыре. Но я сумею ускользнуть отсюда. У меня здесь есть сообщники. Или они меня уведут; но католики, которых ты приведешь, заставят их выпустить меня. Выиграем время, Крильон, и не прольем ни капли крови. — Кровь прольется потоками, государь; половина вашей армии уничтожит другую, если придется освобождать вас из крепости, в которую вас запрут гугеноты. — Неужели ты думаешь, что я позволю себя взять и запереть? — Ваше величество, скорее, дадите себя убить, я это знаю. — Совсем нет, мой Крильон. Мое величество сейчас велит женевьевцам указать себе потаенную дверь. — Вы убежите… — Я никогда не убежал бы от испанцев, но я всегда убегу от слишком ревностных друзей, которые хотят заставить меня сделать глупость… Ступай ждать меня в Сен-Дени среди католиков; я присоединяюсь к тебе сегодня вечером. — Государь, я иду, а дорогою собью с толку гугенотов и заставлю их предполагать, что вас здесь нет, по тому самому, что я ухожу отсюда, они никогда не подумают, что я оставил бы вас одного. По крайней мере, я покажу им необходимость уважать монастырь, перемирие и, пожалуй, заставлю блокировать вас у женевьевцев, между тем как вы будете свободно рыскать по полям. — Вот это прекрасно сказано, Крильон. — В школе вашего величества научаешься, — отвечал кавалер. Он пошел освободить Понти, велел оседлать свою лошадь и выехал из монастыря. Генрих увидал, как он направился к эскадрону гугенотов, который приближался мало-помалу. Без сомнения, его узнали, его окружили; Генрих скоро потерял его из вида в толпе. — Да, я говорю хорошо, — прошептал король, лицо которого прижалось к стеклам коридора, — но есть человек, который говорит еще лучше меня… достойный говорящий брат! Легкий шелест на пороге комнаты заставил его обернуться. Брат Робер, все работая с воском, стоял, прислонившись к камину. Король подбежал к нему и запер дверь; они остались одни. — Кто-то спрашивает внизу кавалера де Крильона, — спокойно сказал брат Робер, не поднимая глаз со своей работы. — Хорошо, пусть он ждет, — отвечал король. — Но вы не должны ждать, я должен так горячо вас поблагодарить. Брат Робер не пошевелился, не заговорил. — Вы оказали мне сегодня такую великую услугу, — продолжал король, — что она изгладит, может быть, даже ту, которую вы оказали мне вчера. Женевьевец сохранял молчание и свою деятельную неподвижность. — Это вы прислали мне вчера копию с договора, заключенного между Филиппом Вторым и герцогиней Монпансье? В глазах брата Робера выразилось удивление, и он спросил: — Какого договора? — Вы будете отпираться, это естественно, потому что вы мне служите в тени, но это вы опять сейчас поместили меня таким образом, чтобы я слышал разговор приора с герцогиней Монпансье, слышал заговоры, угрозы моей смертельной неприятельницы. В этой новой услуге вы не сможете отпираться, как в той. — Было очень естественно предполагать, что присутствие герцогини Монпансье не может быть приятно кавалеру де Крильону, вот почему я поместил вас в моей комнате. — Вы знаете очень хорошо, что я не кавалер де Крильон! — вскричал король. — Вы меня знаете так, как я знаю вас. Ради бога, бросьте эту маску. Только один человек способен делать то, что делается здесь; только один человек обладает этой тонкостью, этим искусством, этой силой. Только один человек способен играть эту роль. Женевьевец остался бесстрастен, с нахмуренными бровями. — Шико! — вскричал король с невыразимой нежностью. — Шико! Мой старый друг, я угадал тебя, я тебя узнал! Прости меня; я был неблагодарен, говоришь ты; я в этом не виноват. В моей голове целая вселенная, подробности которой, сталкиваясь, делают такой шум, что он иногда мешает мне слышать биение моего сердца. Если я, по-видимому, забыл тебя, если я не приютил тебя возле себя так, как ты этого заслуживал, умоляю тебя, прости меня, ты довольно отмстил, не обняв меня, как только увидел, ты меня довольно наказал. Будь великим сердцем, открой мне твои объятия. Брат Робер отвернулся. Болезненное расстройство искривило на минуту это бронзовое лицо. Точно из каждой поры хотела брызнуть кровь или слеза. — Шико, — продолжал король, отдернув капюшон женевьевца, — это ты. Ты напрасно будешь отпираться; я вижу на твоем лбу шрам от твоей раны. Признавайся. — В чем? — спросил брат Робер задыхающимся голосом. — Что ты мой друг и никогда не переставал любить Генриха. — Для меня было бы слишком великой честью быть другом храброго Крильона, а любить Генриха Четвертого — мой долг. — Еще раз ты меня оскорбляешь; я твой король и приказываю тебе обнять меня. — Если вы король, государь, бедный монах нарушит уважение к вам, коснувшись вас. — О! — прошептал Генрих, печально отступая назад. — Более прежнего в этом упорстве, в этой злопамятности я узнаю Шико, железная память которого никогда не забывала ни благодеяния, ни оскорбления. Если бы я еще сомневался, что ты мой старый товарищ, я перестал бы сомневаться теперь, видя тебя неумолимым. Не будь моим другом, если хочешь, но ты все-таки Шико! — Шико умер, — торжественно возразил женевьевец, — а вашему величеству известно, что мертвецы не оживают. — Во всяком случае, они говорят, — сказал король, — и оказывают услуги. Они делают даже портреты… Что ты сделал с моим портретом, с этим замысловатым советом из воска, которым ты советовал мне сейчас надеть церемониальное платье и стать на колени перед католическим алтарем со служебником в руках и принять католическую религию… Статуэтка была очаровательная. — Я заменил ее вот этой, — отвечал женевьевец, указывая Генриху Четвертому на новую фигурку, которую он только что кончил. — Молодой человек… приятное лицо. — Не правда ли? — Я его не знаю. — Дай бог, чтобы вы всегда могли это сказать! — Ты дал ему нож в руку! — вскричал Генрих. — Это для чего? — Для того чтобы вы его узнали, если встретите когда-нибудь в этой позе. — Кто такой этот молодой человек? — Парижанин, много обещающий, — отвечал брат Робер, отдавая фигурку королю. — А пока это поставщик герцогини Монпансье. — Хорошо, — прошептал король, смотря с волнением на фигурку. — Я буду помнить эти черты, этот нож. Благодарю, Шико! — Не угодно ли вашему величеству называть меня моим настоящим именем, — сказал брат Робер тоном такой неизменной воли, что он заставил задрожать Генриха, как дыхание сверхъестественного существа. — Из-за прихоти короля, прихоти, конечно, благосклонной и которая делает мне честь, потому что вы меня сравниваете с хорошим человеком, я не хочу лишиться последних дней спокойствия в этом мире и вечного спасения в другом. Я имел честь сказать вашему величеству, что внизу ждет человек, который принес интересные известия кавалеру де Крильону. Король, пораженный тоном брата Робера, понял, что решение монаха неизменно. — Хорошо, — сказал он. — Как я ни огорчен, что не мог воскресить друга, столь оплакиваемого, я настаивать не стану. Может быть, в этом упрямстве есть причины, которых я не имею права узнавать. Вы брат Робер, это хорошо, но мне ничто не помешает обратить на брата Робера привязанность и неизменную признательность, которые я обещал тому, о ком я вам говорил. Жду от вас последней услуги: покажите мне выход, в который я мог бы выйти из монастыря, не будучи узнан. — Ничего не может быть легче. Пойдемте за мною. У нас есть дверь в поле; может быть, ее будут караулить через час, а теперь еще нет. — Пойдемте… Но прежде, брат Робер, обнимите меня. Женевьевец медленно наклонился. Генрих в порыве нежности обнял это странное существо, которое затрепетало в его объятиях. В коридоре раздался звонок. — Это граф д’Эстре, верно, потерял терпение, — сказал брат Робер, отодвигаясь, чтобы скрыть свое волнение. — Д’Эстре? — вскричал король, который не мог холодно услыхать это обожаемое имя. — Он разве здесь? Зачем он пришел? — Я вам сказал: говорить с кавалером де Крильоном. — Ах, боже мой! Не случилось ли какого несчастья с Габриэль? — сказал король вне себя от беспокойства. — Никакого, разве в последние десять минут, — флегматически отвечал женевьевец, — потому что я видел ее только десять минут тому назад свежей и прекрасной. — Ты ее видел?.. Стало быть, она здесь? — Конечно, вместе с отцом. — Побежим, побежим к ней, любезный брат, — сказал Генрих, уже все забывший, чтобы думать только о своей любви. — Может быть, ваше величество поступите благоразумно, если не покажетесь, — сказал Робер. — Граф д’Эстре пришел просить гостеприимства в нашем доме; его дом, кажется, окружили воины, отыскивающие вас. Может быть, он даже имеет другие причины, чтобы поместить здесь свою дочь. Преподобный приор, который очень любит графа д’Эстре, приказал отдать ему ключи от нового здания в саду, и в эту минуту мадемуазель д’Эстре помещается там со своими женщинами. Если ваше величество покажетесь прежде, чем она там поместится, может быть, граф д’Эстре сразу увезет отсюда свою дочь. — Из недоверия ко мне, — вскричал Генрих, — это правда! — Если не из недоверия, государь, то из уважения, чтобы не беспокоить короля, поместившись под одной кровлей с ним. — Будет он беспокоить меня или нет, а я, конечно, не уйду теперь, когда я так близко от Габриэль. — А я думаю, — спокойно сказал брат Робер, — что ваше величество отправитесь тем скорее. Вы не захотите потерять свою корону и погубить своих друзей из-за нежного взгляда. Вы не захотите сделать женевьевцев подозрительными графу д’Эстре, который имеет к ним полное доверие. Наконец, король и мадемуазель д’Эстре не могут жить здесь в одно и то же время. — Вы правы, брат Робер. Генрих все забывает, что он называется королем. Я иду, но прощусь последний раз с Габриэль; где будет она жить? — Там! Генрих подошел к окну, выходящему в сад. На конце сада, то есть в ста шагах, возвышался среди деревьев восьмиугольный павильон в два этажа, ставни которого отворились и который лучезарное солнце обливало светом и теплотой. В открытые окна Генрих увидал, как суетились Грациенна и другая служанка, отряхивая занавеси и наполняя водою вазы, для которых Габриэль, сидя на балконе главного окна, приготовляла розы и жасмин, только что сорванные в цветнике. Сердце Генриха наполнилось горькой печалью, когда он увидал так близко свою прелестную любовницу, нежный голос которой по милости прекрасной погоды он слышал, смешивавшийся с пением зябликов и малиновок. — О, мое сокровище любви!.. — вскричал он. — Я ворочусь! И ворочусь католиком! — прибавил он со значительной улыбкой. Шико и брат Робер шли впереди. Они прошли перед полуоткрытой дверью, из которой при шуме их шагов раздался голос: — Понти, я голоден. — Это раненый Крильона говорит таким образом? — спросил король. — Он. — Я должен воспользоваться этим, чтобы видеть знаменитую кровать Гизов. Генрих просунул голову в щель двери и сказал: — Там лежит красивый малый, право, и глаза какие у него славные. Он не имеет охоты умереть. Через пять минут брат Робер возвращался один. Король вышел из монастыря. Герцогиня Монпансье проиграла партию.Глава 24 ССОРЫ
Граф д’Эстре, наскучив ждать Крильона, который не приходил и не мог прийти, пошел к дочери. Он нашел ее среди цветов и кружев; она смеялась с Грациенной, чтобы скрыть от отца глубокое беспокойство, которое ей внушил такой поспешный переезд. Но расспросить отца было бы неблагоразумно; молодые девушки часто обвиняют себя тем, что они не говорят, столько же, как и тем, в чем они не признаются. Молчать насчет событий короля становилось невозможно. Габриэль стала расспрашивать: — Вы видели дом Модеста, не правда ли? — сказала она графу. — Он знает больше нас? Что он сказал об этом собрании гугенотов, которые окружили наш дом? — Он думает, что приготовляется какая-нибудь экспедиция с той стороны и что я хорошо сделал, оставив дом, в котором мы подвергались опасности. Габриэль, обиженная сдержанностью отца, отвечала: — Но ведь это королевские войска. — Конечно. — А ведь мы добрые слуги короля. — Кто в этом сомневается? — Все будут сомневаться, когда увидят, что мы бежали перед роялистами, как перед грабителями испанцами или лигерами. Граф д’Эстре, пораженный этим ответом, сделанным так спокойно и с таким смыслом, сказал: — Хорошо, хорошо, дочь моя; ваш отец знает, что он должен делать, и никто не может указывать ему, как исполнять его обязанность. — Если вы принимаете это таким образом, — сказала Габриэль, сделавшись серьезнее, — если нельзя рассуждать с отцом, а надо повиноваться властелину, я молчу и повинуюсь. Подай мои гвоздики, Грациенна. Граф д’Эстре любил свою очаровательную дочь и опасался показаться ей тираном. Но отцовская слабость боролась в эту минуту против повелительной необходимости выказать бдительность и строгость, и эта необходимость одержала верх. — Вы хотите меня принудить говорить вам о короле, — сказал он. — Я это чувствую, но так как я узнаю каждый день, что для того, чтобы говорить о короле, или даже чтобы говорить с ним, вам вовсе не нужно вашего отца, стало быть, мне вовсе не нужно сообщать вам известий о нем. Вы узнаете их и без меня. Габриэль покраснела. — Вот опять вы подозреваете! — прошептала она. — Осмельтесь мне сказать, что вы не были с королем намедни, когда я вас звал с берега. Габриэль вспыхнула и потупила голову. — Если бы вы имели, по крайней мере, стыдливость солгать. — Разве можно не слушать короля, когда он говорит? Прогонять ли короля, когда он вас встречает? — Делают все, чтоб повиноваться своему отцу, сударыня. Отец выше короля. — Я согласна с этим. И никогда этого не оспаривала. Я, кажется, никогда не была для вас дурной и непослушной дочерью. — Я знаю, что думать на этот счет. В то время, в которое мы живем, многие мужья и отцы дешево ценят честь своих семейств, только бы любезник был богат и знатен. Король — это цвет любезников, не правда ли, даже когда он женат, даже когда он знаменит своими приключениями, даже когда он седеет? Ну, если король вам нравится, несмотря на это, мне до того мало нужды. Я не отец Марии Туше и не потатчик, и вы это испытаете… Что я говорю? Вы это уже испытываете. Габриэль взглянула на отца глазами, полными слез. — Для доброго слуги короля, — сказала она, — вы дурно обращаетесь с его величеством. — Я и отец, и подданный. Отец свободен осуждать государя, угрожающего чести его дочери, а подданный предан и верен. Габриэль покачала своей очаровательной головкой. — Хороша преданность, — прошептала она, которая скрывается в дни опасности! Хороша верность, которая бросает дом, где, может быть, король нашел бы надежное убежище! Граф д’Эстре начинал приходить в раздражение. Со сверкающими глазами, с дрожащими руками, он вскричал: — Я нахожу вас смелой! Осмелиться осуждать намерения отца! — Отец мой не приучил меня обращаться с королем как с врагом. — Надо было слушаться меня, когда я запретил вам принимать его. — Вам надо было иметь мужество прогнать короля, когда он удостаивал нас своим посещением. — Может быть, впоследствии я буду иметь это мужество. Но, чтобы не прибегать к подобным крайностям, я принял меры. — Мы прячемся в мужском монастыре! — Я, сударыня, займу место возле короля, если будет сражение. Но, по крайней мере, я буду наблюдать за ним, защищая его. А пока у нас мир, я защищаю мою честь против этого самого короля. Я привез мою дочь в монастырь, из которого она уйдет только… — Когда король умрет, может быть, — сказала Габриэль, отирая слезы. — Или замужней! — вскричал граф д’Эстре, примечая действие этого удара на его несчастную дочь. Удар был страшный. Габриэль вскочила, как бы пораженная в сердце. — Замужней… — пролепетала она. — Возможно ли это? — Это точно. Ваш муж будет защищаться от короля сам, если сможет. Если вы будете ему помогать, тем лучше для него; если он бросит вас, это касается его. — О! — сказала Габриэль, подходя, сложив руки, к отцу, который ходил по комнате большими шагами. — Неужели вы будете иметь жестокость пожертвовать вашей дочерью? Зачем мне выходить замуж? Я не люблю никого. — Если вы не любите никого, стало быть, вам все равно, за кого выйти. — Вот какова ваша мораль! — Каждый за себя, а я жертвую всем моей честью. — Сжальтесь над вашей дочерью. — Я потому и выдаю ее замуж, что жалею ее. — Вы доведете меня до отчаяния. — Ваше отчаяние заставит меня меньше страдать, чем ваш стыд. — Я умру. — Лучше вам умереть от этой горести, чем умереть от моей руки, что случилось бы, если бы я уличил вас в бесчестье. Оскорбленная Габриэль выпрямилась. — Вы ведете себя как римлянин, это хорошо, — сказала она, — но я ваша дочь. — Она отмстит за себя по-французски, не правда ли? — Она отмстит за себя как сумеет. — Это касается вашего мужа. — Муж, может быть, тоже будет римлянин? — Нет, он пикардиец. Он не стоит короля, но это достойный господин. Он, может быть, вам не понравится, но он нравится мне. — Как его зовут? — Де Лианкур, д’Амерваль, губернатор Шонийский. Габриэль вскрикнула от испуга, вся деликатность женщины возмутилась. — Он горбат, — сказала она. — Он выпрямится от вашей руки. — У него кривые ноги. — А у вас кривой рассудок. — Дети бегают за ним, когда он ходит. — Он будет ездить верхом. — Это преступление, это гнусность. Он вдовец, и у него одиннадцать человек детей. — И столько же тысяч пистолей дохода. Габриэль в негодовании пошла к двери соседней комнаты. — Это говорит мне отец мой и дворянин, — сказала она с гордым презрением, — а Замет, капиталист и ростовщик. Я могла рассуждать с графом д’Эстре о французском короле, но мне нечего говорить с Заметом о пистолях и гнусностях де Лианкура. Окончив эти слова, она толкнула дверь и, бледная, вошла в свою комнату. — Хорошо, — сказал отец, следуя за нею, — возмущайтесь, но вы будете повиноваться. Сегодня же вы примете де Лианкура. — Вы сами будете презирать меня, если я послушаюсь. — Не делайте шума и огласки здесь, — прибавил граф д’Эстре, несколько растревожившись, потому что Габриэль возвысила голос, и несколько слов из этой сцены могли бы перейти за границы цветника, примыкавшего к новому зданию, — прежде заприте окна. — Велите их заложить, — сказала Габриэль. Граф д’Эстре заскрежетал зубами. Габриэль продолжала: — Не спросить ли у дом Модеста местечка для меня на кладбище монастыря? После этого сильного волнения, расстроившего ее нервы, бедная Габриэль села, обливаясь слезами. Грациенна бросилась, обняла ее и покрыла поцелуями, бормоча тысячу проклятий против тирана, который хотел заставить умереть ею барышню. Граф д’Эстре обгрыз себе ногти, разорвал манжетки и вышел, взбесившись против дочери, а еще более — против самого себя. — Теперь все глядят в окна, только еще этого не доставало! — сказал он. — Скандал в монастыре, где меня приняли из милости! Действительно, отворилось несколько окон в комнатах монахов, выходивших в сад или в коридор, и в этих окнах появились лица любопытных женевьевцев. Но всего более рассердило графа д’Эстре, что он приметил вместе с молодым человеком в одном из окон первого этажа строгий, длинный профиль брата Робера, проницательный взгляд которого можно было угадать под капюшоном. Свирепый отец покраснел, растревожился и вошел в кустарник, смежный с новым зданием, чтобы скрыть свое замешательство. Этот молодой человек, который смотрел с Робером, был Понти, отвлеченный от попечений за Эсперансом звуком голосов, споривших в новом здании. Брат Робер на вопросы гвардейца отвечал что-то совершенно равнодушно и вышел из комнаты. Эсперанс в свою очередь стал расспрашивать Понти. — Что там такое? — спросил раненый. — Что ты смотрел с женевьевцем у окна? — Ничего — женщины ссорятся. — Разве в этом монастыре есть женщины? — спросил Эсперанс. — К несчастью, есть, кажется, они везде найдутся. — И они ссорятся? — Ведь они всегда ссорятся. Такая порода! Эсперанс печально улыбнулся. — Как вы должны хорошо думать о женщинах, — прибавил Понти. — Как вы будете их любить! — Чувствую мало наклонности. — А мне стоит только взглянуть на женщину, стоит только подумать о женщине, чтобы взбеситься. Понти захлопнул окно. — Зачем ты лишаешь меня воздуха и солнца? — сказал Эсперанс. — Это правда; ну, это опять виноваты эти противные существа. — Полно, полно, не кричи так громко; у меня разболится голова. Моя голова пуста, видишь ли ты, потому что, боясь горячки, мои доктора не дают мне есть. — Они правы. Будем бегать от горячки, как от женщины. Горячка — женщина. Поговорим о преступлениях женщины, — сказал Понти, придвигая свой стул к изголовью Эсперанса, — я знаю таких гнусных злодеек, что расскажу вам о них, чтобы сохранить в вас хорошее расположение духа. А! Вы смеетесь, это добрый знак. Это действительно был добрый знак. Генрих предсказал справедливо: Эсперанс не чувствовал никакой охоты умереть и остался жив. Попечения брата-хирурга и брата говорящего удалили от него горячку, и, по мере того как она убегала, голод приближался большими шагами. Эликсиры из лазарета, которые расточал Робер, и цыплята, которых Понти крал в кухне, мало-помалу восстановили грудь и желудок. Пламя воротилось в глаза, розоватый оттенок покрыл желтые щеки. Через несколько дней Крильон появился у женевьевцев. Он рассказал от имени короля брату Роберу об энтузиазме католиков, которые стерегли Генриха и обивали собор Сен-Дени. Он рассказал о бешенстве гугенотов, которые все бродили около своей добычи, и бешенстве герцогини Монпансье, первый удар которой не удался. Потом он пошел к больному и нашел его выздоравливающим. — По милости добрых попечений Понти и братьев-женевьевцев, — сказал Эсперанс, — по милости участия, которым меня удостаивает кавалер де Крильон, этого одного достаточно, чтобы воскресить мертвеца. Крильон торопился, осыпал дружескими уверениями раненого, поблагодарил по-военному Понти и сказал им обоим: — Поспешим выздороветь; надо быть на ногах для одного славного случая. Между нами и потихоньку я вам скажу, что надо идти помогать его величеству входить в Париж! Выздоравливайте скорее, Эсперанс, потому что вы лишите этого юношу, который ухаживает за вами, чести сделать первый приступ, которого я требую для моих гвардейцев. Это будет великое зрелище, Эсперанс. Я хочу, чтобы вы видели Крильона со шпагою в руке на проломе. Все говорят, что это стоит видеть. Выздоравливайте. Сердце старого воина трепетало. При мысли о новом торжестве, которое он получит перед сыном венецианки. Понти, думая о взятии Парижа, прыгал, как молодой лев. — Да, — сказал он, — да, выздоравливайте скорее, месье Эсперанс. — Вы все еще довольны этим негодяем? — спросил Крильон раненого. Эсперанс, улыбаясь, взял за руку Понти. — Он не кричит? Не пьет? Скромен, как девушка? — Если бы я был скромен, как некоторые девушки, — вскричал Понти, — это было бы мило! Эсперанс заставил его замолчать взглядом, который уловил и Крильон. — Мои гвардейцы, как кажется, имеют секреты между собой, ну что ж, посмотрим… Итак, все идет хорошо, прощайте, Эсперанс, до свидания. Пойдемте, Понти, вы поможете подержать мне стремя. Со мной приехал ла Варенн по приказанию короля; но он без сожаления остановится где-нибудь в другом месте. Пойдемте. Понти пошел за Крильоном, понурив голову: он подозревал, по какой причине его уводит полковник. — А мое поручение? — спросил Крильон. — Какое поручение, полковник? — Записка, которую я тебе велел взять. — Ах да! В платье месье Эсперанса я ее не нашел. — Ты лжешь! — Уверяю вас, полковник… — Ты лжешь! — В дороге это записка могла потеряться. — Говорю тебе, что ты лжец и бездельник! Ты раз сказал Эсперансу, о чем я приказал тебе молчать. Великодушный Эсперанс взял с тебя обещание сбить меня с пути, как старую ищейку. — Но, полковник… — Довольно! Я не люблю людей, которые идут мне наперекор и изменяют мне. — Чтобы я изменил вам, полковник, я! — Конечно, потому что ты рассказал то, что я тебе доверил; ты вдвойне должен был мне повиноваться: как твоему полковому командиру, как твоему покровителю; ты обязан был отдать мне свою жизнь, если бы я ее потребовал; а я считал тебя довольно храбрым человеком, для того чтобы расплатиться за свой долг. — Ах, полковник! Пощадите меня. — Если бы мы были в лагере, — сказал Крильон, постепенно разгорячаясь и крутя свои усы, — я велел бы тебя расстрелять. Здесь же, как дворянин дворянина, я тебя осуждаю; как господин слугу, я тебя прогоняю! Собери свои вещи, если они у тебя есть, и уходи! — Ах, полковник! — сказал Понти, бледный и расстроенный. — Сжальтесь над бедным, беззащитным человеком. — Я готов. Подай мне эту записку. Понти потупил голову. — Подай, или ты лишишься не только доверенного поста, который я назначил тебе здесь, но лишишься и звания гвардейца. Я твой полковник и прогоняю тебя. Ты уже не находишься больше на службе короля. Понти поклонился, черты его были расстроены отчаянием. — Записку! — опять потребовал Крильон. Понти молчал. — Господин Понти, — прибавил Крильон, взбешенный этим сопротивлением, — я даю вам неделю, чтобы воротиться в вашу провинцию. Я даю вам пять минут, чтобы оставить монастырь. Слезы брызнули из глаз молодого человека; он с трудом прошептал: — Позвольте мне, по крайней мере, обнять в последний раз месье Эсперанса. Крильон не отвечал. — Я ворочусь через минуту, — сказал Понти, направляясь к комнате раненого. Он вошел со сжавшимся от горя сердцем и наклонился над кроватью своего друга. — Что с тобой? — спросил Эсперанс. — Ничего… ничего… — сказал Понти прерывающимся голосом. — Спрячьте вашу записку, спрячьте ее скорее. — Зачем? — спросил Эсперанс, приподнимаясь. — Полковник Крильон меня прогоняет, — сказал Понти, вдруг зарыдав, как ребенок. Эсперанс вскрикнул и сжал Понти дрожащими руками. — Нет, дуралей! — вдруг сказал кавалер, отворив дверь ударом кулака. — Нет, я тебя не прогоняю. Оставайся… ты честный малый. Вот они теперь оба расплакались, дураки. Оставьте у себя ваши записочки, если это вам нравится. Как глупы эти мальчики! — И он убежал, стыдясь, что чувствует влажность на своих ресницах. После того как Эсперанс заставил Понти рассказать все, оба друга долго обнимались. — Да, я скоро выздоровею, — сказал Эсперанс, — во-первых, для того чтобы любить тебя, во-вторых, для того чтобы присутствовать при осаде. — И чтобы отмстить женщинам! — сказал Понти.Глава 25 МЕСЬЕ НИКОЛЯ
На другой день Понти, находившийся в задумчивости и в странной озабоченности, спросил брата Робера, когда тот пришел навестить Эсперанса, нельзя ли переменить комнату в первом этаже на другую в нижнем жилье, так чтобы раненому, которому скоро позволят делать несколько шагов по саду, не приходилось бы спускаться с лестницы. Брат Робер отвечал, что именно под этой комнатой в нижнем жилье есть спальная, не такая красивая и не с яростной коварностью, но эти господа найдут в ней то удобство, которое желают. День был истрачен на перенесение Эсперанса в эту комнату. Вечером Эсперанс лег в постель, проведя несколько часов на кресле; это была первая милость его доктора. Он немножко устал. Ему нужен был покой, и ни могущественное очарование вечера, такого прекрасного и прохладного, ни привлекательность полдника, приготовленного Понти, не отвлекли его от сна. — Ужинай один возле моей кровати, — сказал он своему товарищу, — и расскажи мне какую-нибудь хорошую историйку, во время которой я засну. Ну, садись же за стол и сделай честь монастырскому вину; ведь тебя не ранил ла Раме. Понти приложил палец к губам. — Молчите! — сказал он. — Теперь, когда мы в нижнем жилье, надо говорить тихо. Нет, я ужинать не стану, благодарю. Эсперанс с удивлением посмотрел на него. — Я даже у вас попрошу, — прибавил Понти, — позволения остаться у окна и, следовательно, отворить это окно. — Я не понимаю, любезный Понти. — После, после! — сказал гвардеец. — У тебя со вчерашнего дня какие-то таинственные ухватки, которые меня удивляют! — вскричал Эсперанс, приподнимаясь. — Вчера вечером ты также смотрел из окна нашей прежней комнаты, вдруг я видел, как ты наклонился, стал примечать, потом вдруг погасил лампу и опять стал наблюдать. — Это правда, — сказал с волнением Понти. — А сегодня ты отказываешься ужинать, просишь отворить окно… Понти взял лампу и спрятал ее в альков Эсперанса, так что комната сделалась темна, а свет все-таки оставался на случай. — Ты опять принимаешься за свои проделки… Это что-нибудь да значит, Понти! — Значит, — отвечал Понти. — Но некоторые вещи не касаются раненых, которым волнения могут быть вредны. — Стало быть, это что-нибудь ужасное? — Может статься и так. — Так ты для этого просил брата Робера перевести нас в другую комнату, потому что предлог лестницы показался мне странен. — Из первого этажа придется выше прыгать в сад, чем из нижнего жилья. — Ах, боже мой! Прыгать в сад? Скорее расскажи мне, в чем дело! — После. — Ты видишь, что, оставляя меня в неведении, ты делаешь мне гораздо более вреда. Нетерпение — это лихорадка. — Ну, извольте, месье Эсперанс. — Прежде всего мы условимся: так как я называю тебя Понти, ты должен меня называть просто Эсперансом. — Это было из уважения… Но, если вы хотите непременно, я стану рассказывать скорее. — Что такое? — Вот уже два дня каждый вечер какой-то мужчина пробирается в цветник. — Какой мужчина? — Если бы я это знал, я не чувствовал бы ни этой дрожи, ни этого недоумения. — Надо предупредить братьев… — Как бы не так! Чтоб я пропустил случай, нет! Нет! — Какой случай? — Человек этот появляется вон там, на конце маленькой стены. Вы знаете? — Да. Я провел целый день у окна и любовался этим чудным садом. — Вы знаете, что перед нами находится новое здание. — Где ссорятся? — Да, эти злые птицы, которых называют женщинами. Ну, это здание совершенно отделено от монастыря стеной, а стена эта покрыта прекрасными персиками… — Однако в этой стене есть дверь, сообщающая двор с новым зданием. — Дверь заперта со стороны жителей павильона. Не оттуда входит этот человек. Нет, он приходит справа, как будто через монастырь. — Боже мой, ты понапрасну мучишь себя. Повсюду, где есть женщины, приходят мужчины. Где есть женщины, там есть и интриги, а мужчины все мотыльки, ночные бабочки. Если в этом новом здании сияет свет в глазах одной из этих женщин, сейчас является ночная бабочка и любуется им, пока не обожжется. — О! Я уже все это говорил себе, — отвечал Понти, — и с вариантами, не очень лестными для женщин. Но надо же верить очевидности. Если бы этот человек приходил для тех, кто живет в этом здании, он ходил бы туда, не правда ли? — Я думаю! — Ну а я видел его вчера под нашими окнами. — А! — Он смотрел, ходил, как собака, которая чует дичь, и прятался за кустами сирени и померанцев. — Это странно. — Вы думаете, что этот человек приходит к новому зданию, а я думаю, что он приходит к нам. Эсперанс приподнялся. — Подумайте, — сказал Понти, — не интересно ли кому-нибудь знать, что сделалось с месье Эсперансом после его странного исчезновения с балкона под каштановыми деревьями? — Ты прав. — Подумайте также, не интереснее ли еще кому-нибудь кончить здесь то, что так хорошо было начато там, то есть расстроить все труды добрых женевьевцев и заменить воскресшего Эсперанса молодым человеком, навсегда положенным в гроб? — Понти, — прошептал Эсперанс, — в таком случае ты имел не очень удачную мысль поместить нас так близко к этому негодяю. — Я хотел сделать так, чтоб он был близко ко мне. Вот моя мысль: если этот ночной бродяга — ла Раме, как я полагаю, или его сообщник, он воротится, станет на прежнее место, даже как-нибудь улучшит свой план, чтобы приблизиться к нам. Вдруг я упаду к нему на спину из этого окна, которое только в трех футах от земли. Прекрасное будет зрелище, любезный Эсперанс, зрелище, которое, конечно, не будет стоить зрелища Крильона на проломе, но всякому свое. Вы с вашей постели будете иметь это удовольствие. Вы сделаете мне одолжение оставаться тихо и спокойно и не ускорять биение вашего сердца. Я не подвергаюсь ни малейшей опасности и не буду наблюдать ни малейшей вежливости. Когда имеешь дело с подобным убийцей, не для чего надевать дворянские перчатки. Я прыгну, схвачу его за горло, чтоб удостовериться в его личности, и проткну ему тело шпагою до рукоятки. Я прошу у вас на это всего четверть минуты. Притом, — прибавилПонти, — надо все предвидеть. Если в этой битве, к несчастью, я буду побежден — это трудно, это невозможно, но с пошлецами надо всегда опасаться какой-нибудь измены, нога может у меня поскользнуться, я могу наткнуться на какой-нибудь нож, который у этих негодяев всегда торчит в кармане, — в таком случае возьмите мой кинжал; у вас все-таки достанет настолько сил, чтобы держать его в ваших руках, как гвоздь. Разбойник, победив меня, придет вас доконать, он наткнется на острие и кончит свою судьбу, как говорится, в ваших руках. Если я еще буду дышать, уведомьте меня криком, и мое последнее дыхание будет веселым хохотом. — Какое воображение! — хотел сказать Эсперанс. В эту минуту девять часов пробило в капелле монастыря. — Шш! — сказал Понти. — Молчите, настал час. Понти стал на колени перед открытым окном, прежде закутав Эсперанса занавесками и вложив ему в руки кинжал. Ночь была великолепна; окна нового здания сверкали от первых лучей луны; весь сад, примыкавший к монастырю, был погружен в глубокую темноту. Голова Понти высовывалась за подоконник, но он спрятал ее за большой фаянсовой вазой с растениями. Эсперанс также высунул любопытную голову из занавесок и протянул свою вооруженную руку. Понти, как браконьер, подстерегающий дичь, протянул назад свою правую руку, что означало для Эсперанса: я вижу кое-что. В самом деле, человек, длинные ноги которого шли по тропинке возле стены, а толстая спина сгибалась, перешел через цветник в аллею, обрамленную померанцевыми деревьями. Он остановился в двадцати шагах от того окна, где подстерегал Понти. Можно было слышать, как хрустел песок под его ногами. Сердца обоих молодых людей бились так сильно, что, несмотря на все предосторожности Понти, здоровье Эсперанса не могло поправиться от этого. Незнакомец присел за померанцевым деревом, большая кадка которого скрывала его всего, потом, осмотревшись спереди и сзади, и к зениту, и к надиру, как делают воробьи, боящиеся быть застигнутыми в воровстве, он приблизился к дому на расстоянии шести шагов от окна. Понти, горя нетерпением и гневом, всеми свирепыми страстями, которые разжигают в человеке жажду крови, свойственную тиграм, не ждал долее. Взяв в зубы обнаженную шпагу, он вспрыгнул почти на спину к таинственному гостю, схватил его одной рукой за горло, по своей программе, другою за пояс, и, подняв в воздух, принес и бросил его, как массу, в комнату Эсперанса. В один миг он запер окно и, приблизив свои пылающие глаза к лицу врага, сердцу которого угрожала его шпага, он прошептал: — Мы захватили тебя, разбойник! Эсперанс поспешно вынул лампу из алькова, и тогда глазам их представилось очень любопытное зрелище. — Это не он! — закричал Эсперанс, приметив тощую и странную фигурку, отвратительно бледную и испуганную, с согнутой спиной, с кривыми коленями, дрожавшими от страха. — Это горбун, — сказал Понти. — И без оружия, — прибавил Эсперанс. — Да, без оружия, господа, и без дурных намерений, — слабо произнес козлиный голос, между тем как человек приподнялся, и оба друга смотрели на него, готовые расхохотаться перед этим кузнечиком, который им попался вместо гидры. Понти взял шпагу под мышку, поправил свои взъерошенные волосы и сказал незнакомцу: — Кто вы такой? — Честный дворянин. — Мне кажется, что честные дворяне не прогуливаются ночью ползком в садах. Вы мне кажетесь скорее похожим на вора. Незнакомец вынул из кармана огромный кошелек, объемность и металлическая звучность которого заставили сказать Понти: — Это действительно кошелек не вора, однако вы не за хорошим делом шатались под нашими окнами. — Под вашими окнами? — возразил незнакомец. — Ах! Я добирался не до ваших окон. — Однако вы были под нашими окнами. — Потому что оттуда было виднее то место, за которым я подсматривал. — Какое место? — Маленькая дверь вон того здания. — Нового здания? — спросил Эсперанс, первый раз вмешиваясь в разговор. — Где есть женщины? — Именно, — отвечал незнакомец, вежливо поклонившись больному, который отвечал ему таким же учтивым поклоном. — Я тебе говорил, — прибавил Эсперанс, смотря на Понти. — Ба!.. — грубо перебил Понти, потому что ему не хотелось тотчас бросить свои планы мщения. — Он не заставит нас поверить, что добирался до нового здания. Любовник с этой спиной и с этими ногами! — Понти!.. — сказал Эсперанс. Незнакомец сделал гримасу, стараясь весело принять шутку, и отвечал: — Я пришел не как любовник, а как муж. — А! — закричали оба молодые человека. — Ну так сразу бы и сказали. — Вы подстерегали вашу жену? — прибавил Понти. — Мою будущую жену. — Ту самую, которая намедни так кричала на человека, довольно старого? — На моего будущего тестя, графа д’Эстре. А я, господа, не вор, как вы могли убедиться, меня зовут Николя д’Амерваль де Лианкур. — Очень хорошо! Очень хорошо! Не угодно ли вам садиться, — сказал Понти, подавая незнакомцу стул. — И примите наши сожаления, — прибавил Эсперанс. — Мы вас приняли за вора. — И задумали вас убить, — сказал Понти. — Мне очень приятно видеть вас здравым и невредимым. Еще секунда, и вы умерли бы. Николя д’Амерваль де Лианкур, улыбаясь, потер себе колени и спину. — Вы, может, ушиблись? — спросил Эсперанс. — Боюсь, что да, но это пройдет. Мне останется, господа, вечное удовольствие, что я познакомился с вами. — И он еще сильнее стал себя тереть. — Месье де Понти, — сказал Эсперанс, представляя своего друга, — гвардеец его величества и любимец кавалера де Крильона. Николя д’Амерваль встал и поклонился. — Месье Эсперанс, один из благороднейших дворян во Франции, — сказал Понти в свою очередь. — Который сожалеет, что его рана не позволяет ему поклониться вам стоя, — прибавил Эсперанс со своей улыбающейся и пленительной физиономией. — Но теперь, когда мы лучше знаем друг друга, не можем ли мы сделать что-нибудь приятное для вас? Де Лианкур попеременно обратился к обоим друзьям. — Да, господа, вы можете оставить мне спокойно продолжать принятую на себя обязанность. — Подстерегать вашу будущую жену, — сказал Понти, — извольте, извольте и поймайте ее на месте преступления, желаю вам от всего сердца. Д’Амерваль любезно поклонился. — Но я не вижу, что вы могли подстерегать за этой померанцевой кадкой, — сказал Эсперанс. — Здание, в котором живет ваша будущая жена, далеко, а издали видно дурно. — Господа, вы мне кажетесь такими милыми молодыми людьми, что я чувствую к вам полное доверие. — И он с гримасой потер себе плечо. — Мы оправдаем ваше доверие, — сказал Понти. — Надо прежде вам сказать, что граф д’Эстре и я очень желаем этого брака, но невеста не очень восхищается. — Молодые девушки имеют иногда капризы, — сказал Эсперанс. — Но знаете ли вы, почему мадемуазель д’Эстре отказывает мне? Эсперанс и Понти окинули де Лианкура с ног до головы и обменялись взглядом, который означал: мы угадываем. — Она отказывает, — продолжал будущий муж, — потому что за ней ухаживает очень знатный человек, который посылает к ней записки. — Точно ли вы в том уверены? — Я намедни видел посланного, человека слишком известного, господа, так что его нельзя не узнать. Де Лианкур вздохнул. — Де ла Варенна, — сказал он. — Поверенного короля? — вскричал Понти. — Его самого, — жалобно сказал жених. — Стало быть, любезник… — Шш! — перебил Лианкур, обернувшись к саду. — Что такое? — Пока мы разговаривали, то, чему я хотел помешать, совершилось. — Что же такое, любезный месье де Лианкур? — спросил Эсперанс. — Мадемуазель д’Эстре сказала посланному: «Завтра в половине десятого мой ответ у калитки!» — Ну-с! — Ну-с, я решился спрятаться и застигнуть ла Варенна. А теперь уж половина десятого, калитка затворилась, и ответ дан; я пропал. — Успеете в другой раз, — сказал Понти. — Уж не хотели ли вы убить ла Варенна? — Нет! О нет. Убить офицера его величества! Нет, я этого не сделаю! — Понимаю, — сказал Эсперанс, — вы хотели воспользоваться этим случаем, чтобы разойтись с вашим будущим тестем. — О, вовсе нет! Разойтись с графом д’Эстре — лишиться мадемуазель д’Эстре, такой очаровательной девушки, такой прекрасной партии! — Что же хотели вы сделать? — спросил Понти, видя, что Эсперанс нахмурил брови. — Я хотел узнать… узнать наверняка, это послужило бы мне впоследствии… Молодые люди переглянулись. — Я опять примусь за мою попытку, — сказал д’Амерваль, — а теперь, когда мы друзья, вы мне поможете. — Я на все готов, чтобы сделать неприятности женщине, — сказал Понти. — Благодарю, благодарю, а вы, месье Эсперанс? — Я ранен и не могу встать с постели, — отвечал Эсперанс. — Итак, я могу ходить по саду ночью, сколько хочу, и вы мне препятствовать не станете? — Нисколько, — отвечал Понти. — Ну, я ухожу на этот раз, но завтра буду счастливее. Прощайте, господа, прощайте! Желаю вам здоровья, месье Эсперанс, вы сохраните мою тайну, не правда ли? — О, клянусь! — сказал Понти. — А я нет, — прошептал Эсперанс, между тем гвардеец выпроваживал де Лианкура из окна. Понти воротился, потирая руки. — Прекрасное дело! — прокричал он. — Вот уже мы и мстим! — Поди сюда, Понти, — сказал Эсперанс, — ты говоришь как негодяй, как бездельник, как д’Амерваль, а не как дворянин; сядь возле меня, и я докажу тебе это в двух словах. — Неужели? — сказал удивленный Понти и сел у изголовья Эсперанса.Глава 26 ДРУЖЕСКАЯ УСЛУГА
Понти, казалось, не понимал, почему Эсперанс перетолковал иначе, чем он, предыдущую сцену. — Мы решили, — сказал он, — пользоваться всеми случаями, чтобы отмстить женщинам за то, что они наделали нам. — Что сделали женщины тебе? — спросил Эсперанс. — Они чуть не убили моего друга. — Это основательная причина, но не все женщины совершали это преступление, и в тот день, когда я им прощу, ты тоже должен будешь им простить. — Итак, вы прощаете! — вскричал Понти с гневом. — Скажите же это сейчас, и тогда вместо того, чтобы сохранять в нашей душе воспоминание о зле, которое делает мужчину твердым и уважаемым, мы примемся писать рондо, триолеты, вирелэ в честь этих дам, мы будем плести для них гирлянды, будем вышивать вензель Антрагов вместе с вензелем ла Раме и с ножом крест-накрест! — Ты смешон, мой бедный Понти, — сказал Эсперанс, — и мы всегда переходим к крайностям. Да, я ненавижу женщин, да, они мне надоели; да, я им отмщу, когда представится случай, но случай хороший, слышишь ли ты? А чтобы загладить вред, который одна из них сделала моей коже, я не стану портить мою честь, мою совесть. Притом узнай одно, а ты этого не знаешь, дворянин позволяет женщинам бить себя, но бьет только мужчин. — А! — заворчал Понти. — Эту теорию эти дамы введут в моду, если вы ее провозгласите. Безнаказанность! Очень хорошо! — Кто тебе говорит о безнаказанности? Разве безнаказанна та женщина, которую презирают? О, ты увидишь, как жестоко наказана та, о которой мы говорим! — Если она сделала то, что она сделала, это значит, что она вас не любила. Вы с этим соглашаетесь? — Хорошо. Но что ж из этого? — Если она вас не любит, какое ей дело, что вы ее презираете? Эсперанс тихо ударил Понти по плечу. — Побьемся об заклад, — сказал он, — что в твоей провинции ты знал только горничных. Понти надулся. — Ну, стало быть, швей, — прибавил Эсперанс, — я сделаю эту уступку твоей справедливой гордости. Милый мой, некоторые женщины похожи на лошадей. Чтоб обуздать лошадь, ты берешь самый толстый бич, самую тяжелую палку, но попробуй-ка прибить ту лошадь, которую у меня украли, Диану. Мне стоило только сказать: «Какая ленивая скотина, я ее продам». Диана обошла бы тогда вокруг света. Это потому, что она благородной породы и чувствует оскорбление. Соразмеряй всегда наказание с существом. Хорошо существо — эта ормессонская особа! Мы решили никогда не говорить о ней, — сказал Эсперанс с надменностью, показывавшей сильное неудовольствие, — итак, ни слова более. Будем говорить о женщине, которая живет в новом здание и которой горбун расставляет ночные засады, что гадко и недостойно мужчины. Я никогда не любил засад даже на охоте; мне нужна борьба. Я хочу, чтобы мой враг, хоть бы это был вепрь, видел меня лицом к лицу и выбирал между возможностью на спасение или на оборону ту, которая кажется ему лучшей. Здесь женщина безвредна, а мужчина — чудовище с безобразной душой, партия неравная между этими двумя противниками. Восстановим равенство. Понти хотел раскричаться, размахивать руками, Эсперанс схватил его за руки. — Я знаю, что ты хочешь сказать, я вижу слова на твоих губах. Этот горбун женится, а его обманывают. — Именно. — Но ведь он хочет жениться насильно; невеста не идет за него. — У нее есть любовник. — Тем более есть причина, чтобы она отказывала тому горбуну. — Она отказывает ему из тщеславия, из честолюбия, потому что, между нами, король не красавец: у него огромный нос, сухие ноги, смуглая кожа и он сед, как еж. Ему сорок лет… — Я дал бы сто экю, чтоб кавалер де Крильон притаился в углу! — вскричал Эсперанс. — Он содрал бы с тебя кожу, и ты заслуживаешь этого, Искариот, изменяющий своему господину! — О, — сказал Понти, испугавшись и сконфузившись, хотя тон Эсперанса не показывал гнева, — это не измена, это насмешка; сердце у меня доброе, если язык злой. Обои затрещали, как мимолетный хохот. Испуганный Понти вскочил. Эсперанс, которого забавлял этот страх, с трудом убедил гвардейца не осматривать все углы и закоулки. — Это тебя научит, — сказал он, — произносить ругательства, которые возмущают даже стены. Каждый раз, как говорят дурно о женщине или короле, непременно кто-нибудь услышит. Ты говорил дурно о девице в новом здании, и она, может быть, тебя услыхала. — Невозможно, — сказал Понти с наивным страхом. — Я скорее сказал о короле то, чего вовсе не было в моих мыслях. — Ну вот и прекрасно! — вскричал Эсперанс, смеясь. — Успокойся, я доставлю тебе случай загладить все это. Завтра утром ступай в новое здание. Понти вытаращил глаза. — Попроси позволения говорить с мадемуазель д’Эстре. Ты человек умный, и все люди в твоей стране ораторы. Расскажи ей просто всю вчерашнюю сцену. Не называй де Лианкура, не говори, что он горбат, не делай никакого намека на Фуке ла Варенна и, следовательно, на того, кто посылает его. — Но когда так, что же я буду говорить, если вы запрещаете мне все? — Ты не можешь назвать де Лианкура, потому что невежливо показывать, что знаешь дела девицы, которая выходит замуж. Ты не можешь сказать, что он горбат, потому что, если она за него выходит, стало быть, она не приметила этого до сих пор. Что касается ла Варенна и короля, если ты будешь о них говорить, ты решительно докажешь, что ты не дорожишь твоей головой. — Когда так, месье Эсперанс, — перебил обиженный Понти, — продиктуйте мне, что я должен сказать. — Вот что: «Милостивая государыня, я живу в этом монастыре с одним дворянином, моим другом; мы заметили, что каждый вечер один человек приходит наблюдать за тем, что вы делаете, и все его внимание направляется особенно на эту калитку. Этот человек небольшого роста, спина у него несколько сгорблена, и он обходит своим дозором ровно в половине десятого. Я думал, что эти сведения могут быть вам полезны. Удостойте их принять милостиво и считайте меня, государыня, вашим почтительнейшим слугой». Затем ты поклонись и уйди. — Почтительнейшим, — пробормотал Понти, — почтительнейшим. На месте де Лианкура! Я хочу лучше предоставить им самим распутывать свой моток. — Почтительнейшим в сто тысяч миллионов раз к женщине, которую твой государь удостаивает своей дружбы. Разве ты не понимаешь, сколько ужасных катастроф зависят от твоего молчания? Если король приезжает в этот монастырь, если его подстерегают, если горбун, который показался тебе дураком и мне также, изменник? Если под предлогом наказания соперника религиозный и политический дух, эта фурия, жаждущая крови, вооружит руку убийцы? Понти, разве у тебя нет ни сердца, ни ума? Разве ты не любишь и не угадываешь ничего? Мне хотелось бы иметь две здоровые ноги, мне хотелось бы, чтоб был день и чтоб слова, которые я тебе продиктовал, дошли уже до ушей этой девицы! — Это правда! — вскричал Понти. — Король… — Ну, если ты убежден, заметь, что всегда выиграешь что-нибудь, не притесняя женщин. Пожелай мне спокойной ночи, и поскорее заснем, чтобы завтра, как только ты будешь на ногах, ты мог исполнить это поручение. — Как только рассветет, — сказал Понти. — Как только проснется эта девица, — отвечал Эсперанс, засыпая тихим сном. Благодетельная природа продолжала этот сон до девяти часов утра; раненый раскрыл блестящие глаза, и все вокруг него пело — птицы, зефиры, каскады, когда он приметил Понти возле окна, на которое померанцы стряхивали пахучий снег со своих слишком зрелых лепестков. У Эсперанса цвет лица был такой свежий, румянец так оживлял его поэтическую физиономию, что Понти закричал, увидев его: — Который из нас был ранен? — Мне хочется есть, — сказал Эсперанс, — мне хочется пить. Мне хочется гулять. Я охотно стал бы петь с зябликами и жаворонками. Душа моя легка и плавает в этом чудном голубом небе! Понти отворил дверь, в которую два женевьевца принесли стол с завтраком, который позволяли больному. Эсперанс с жадностью ел, сожалея, что не может более наполнить свой раздраженный желудок, когда вошел говорящий брат, молча посмотрел на раненого и вынул из рукава бутылку, довольно длинную и довольно круглую для того, чтобы прельстить взор выздоравливающего; он сделал знак одному из женевьевцев подать ему рюмку. Рюмка была из тонкого и граненого хрусталя. Тонкая, расширявшаяся кверху, как колокольчик, она имела одну ножку, которая вилась тонкой спиралью. Уже солнце поглощало ее грань, зажигая призматический огонь, когда говорящий брат налил в хрусталь желтое, бархатистое вино, превратившее опал в рубин, и подал рюмку Эсперансу. Глаза Понти засверкали, как карбункулы, но говорящий брат старательно закупорил бутылку, спрятал ее в свой рукав и вышел, полюбовавшись действием своего старого бургундского на щеки выздоравливающего. — Я заключил бы условие с говорящим братом, — сказал Понти, — рюмку моей крови за рюмку этого чудесного нектара. — Это вино старше вашей крови, брат мой, — отвечал, улыбаясь, один из женевьевцев. — А если оно так редко, как слова говорящего брата, — прибавил Понти, — мне нет надежды попробовать его когда-нибудь. Какую странную мысль имели в монастыре назвать говорящим человека, который никогда не раскрывает рта! Женевьевцы убрали завтрак, и наши друзья остались одни. — Ну, — вскричал тотчас Эсперанс, — что сказала тебе невеста? — Она ничего мне не сказала. Я пришел именно в ту минуту, когда она ссорилась со своим отцом. Должно быть, это у них привычка. Так что я видел только камеристку. — Хорошенькую? — Да, она очень хорошенькая, негодная, — отвечал Понти. — Надо заметить, что слишком много женщин, которые хороши. Это приманка, которую представляет нам дьявол. — Непременно. И эта камеристка?.. — Меня спрятала при первых словах, которые я сказал. Эти камеристки так привыкли к интригам! Она меня сейчас спрятала под лестницу, чтобы разговаривать свободнее, и когда я сказал, от кого я пришел… Представьте себе, они нас знают! — Нас? — Разве женщины не знают всего? — «Ах! — вскричала эта хорошенькая злодейка. — Вы пришли от раненого? Очень хорошо!.. И вы говорите, что дело важное?» — «Очень важное. Бродит человек, наблюдает за вами, расставляет засады». Словом, я так ее напугал, что она отвечала: «Теперь и целый день невозможно разговаривать с барышней, ее стережет отец, но в половине десятого…» Это, должно быть, их час. — Ты можешь опять идти туда? — Ни к чему, сами придут. — Как придут? Камеристка? — Только бы недоставало, чтобы сама барышня пришла. Впрочем, я за это не поручусь. — Ты сошел с ума! — В половине десятого подойдут к окну, будет темно, выслушают, что ты имеешь сказать, — и вот мое поручение исполнено. Эсперанс потупил голову. — Ты находишь это очень любезным, не правда ли? — иронически сказал Понти. — Эти девицы сами беспокоятся, чтобы не беспокоить нас. — Я нахожу это очень любезным и очень осторожным, — сказал Эсперанс сухим тоном. — Эта девица знает, что я ранен и не могу тронуться с места; она не хочет, чтобы скромное письмо компрометировало ее. Я, право, не знаю, — вдруг сказал он, — зачем я защищаю эту девицу? Ей этого не нужно. Кто назначил тебе свидание? Она? Если ты находишь этот поступок необдуманным, кто в этом виноват? Не камеристка ли говорила с тобой? Это выдумка камеристки… Ведь это камеристка придет? Какая строгая натура, боже мой! — Вот теперь виноват я, — прошептал Понти. Они провели день, пробуя силы Эсперанса то в комнате, то в доме, то под цветущими померанцами. Опыт был удачен; садясь каждую минуту, вдыхая воздух глубоко, посвящая несколько минут сну, когда силы истощались скоро, они дошли таким образом до вечера. Головная боль, неразлучная с первыми силами выздоравливающего, почти исчезла. Эсперанс почувствовал себя довольно свежим и крепким, чтобы растянуться на двух креслах перед окном, вместо того чтобы лечь в постель. Когда темнота сделалась довольно глубока и в саду, и в доме, оба друга спокойно ждали возле лампы, около которой вертелись ночные бабочки. Им послышались шаги в соседней аллее, быстро приближавшиеся, и Понти шепнул Эсперансу: — Вот она. Грациенна действительно приближалась, скользя за кустами. Добежав до окна, она сказала голосом почти сердитым: — Если у вас огонь, барышня не может подойти. — Барышня? — вскричал Понти. — Разве она здесь? — Вот между этими двумя кадками. Эсперанс приметил тень. Он загасил лампу. Грациенна воротилась к своей госпоже. — Ну, ведь я говорил, — прибавил Понти, — женщины — настоящие змеи. — А вы, Понти, дурак, — возразил Эсперанс, пригорюнившись на подушках. Обе женщины подошли к окну. Та, которая стояла ближе, была Грациенна, другая опиралась на ее плечо. — Подай же стул, — сказал Эсперанс Понти. Понти взял стул и спустил его в окно перед дрожащей гостьей. — Стереги, Грациенна, — сказала она. Грациенна осторожно пошла по саду. — Стереги, Понти, — сказал Эсперанс гвардейцу, который вылез из окна, присоединился к камеристке, и их можно было видеть обоих, подобно двум статуям, обрисовывающимся черными силуэтами на сером грунте горизонта. Эсперанс, видя, что Габриэль еще не смела подойти, сказал: — Не угодно ли вам сесть; вас будет видно меньше, чем когда вы будете стоять. Прошу меня извинить, если я не иду к вам, но вечерний холод не хорош для ран, и я с сожалением должен остаться в комнате. Темнота была так густа, что молодой человек ничего не мог различить под мантильей, которой Габриэль закутала себе голову. — Ах! — прошептал такой нежный голос, что он проник в сердце Эсперанса. — Это вы хотели предупредить меня об опасности? Вы принимаете участие в бедной, беззащитной девушке. Ваша неожиданная помощь придала мне мужества. Вы можете меня спасти, вы хотите? — Да, но, пожалуйста, садитесь. — Сесть!.. О, я не знаю даже, успею ли я кончить то, что я хотела вам сказать! Вы находите мой поступок очень смелым, не правда ли? Если бы вы знали, как я несчастна! Эсперанс приблизился к ней, заговорил растроганным голосом, полным отчаяния. — Я угадываю, — сказал он. — О нет! Вы не можете угадать. Боже мой! Кто это идет? Не отец ли мой? — Нет, никого. Не бойтесь ничего, ваши сторожа стерегут. — Отец мой оставил меня только на несколько минут. Он пошел посмотреть на дорогу, все ли еще занимают окрестности эти отряды гугенотов, и может воротиться вдруг. Мне надо собраться с мыслями. Габриэль закрыла лицо руками. Эсперанс отдал бы многое, чтобы увидать, так ли нежны черты, как голос. — Я хотел вас предупредить, — сказал он, — о шпионстве, которое один человек употребляет за вами. Он в нескольких словах рассказал Габриэль все, что знал, перечислил опасности, которые усматривал. Она перебила его. — Да, — сказала она поспешно, — да, это опасности, но я подвергаюсь еще другим и гораздо более ужасным. Это замужество, которым угрожал мне мой отец, уже предписывает мне он не через две недели, даже не через неделю, а сейчас! С Габриэль, когда она произнесла эти слова, сделалась нервная дрожь, она задыхалась от слез. — Не теряйте мужества! — вскричал Эсперанс. — Не плачьте, вы раздираете мне сердце. Вы говорили сейчас, что моя помощь может вас спасти. Каким образом? Когда? Какая помощь? Говорите, не плачьте. Молодая девушка, успокоившись в свою очередь, приблизилась к подоконнику и сложила руки. — Обещайте мне выслушать меня благоприятно, — сказала она с пылкостью, — а то я погибну, потому что все меня оставляют и все мне изменяют. — О, от всей моей души! Но кто же изменяет вам? — Судите сами. Отец мой объявил мне сегодня, что он все приготовил к моему браку. Вне себя, я побежала посоветоваться с моим старым другом дом Модестом, приором, которому помогает превосходный брат Робер. Я объяснила им мое печальное положение. Я надеялась на них, они имеют столько влияния на моего отца. — Ну, что же? — Они меня бросили! Они объявили мне, что они никогда не пойдут против воли отца. Напрасно я просила, умоляла, они остались неумолимы. Тогда отчаяние внушило мне обратиться к вам, неизвестному покровителю, который сегодня утром предуведомил меня через Грациенну. Я узнала, что вы дворянин и гвардеец. — Не я, а мой друг, — перебил Эсперанс. — Это все равно; я узнала, что вы друг де Крильона, самого благородного и великодушного человека на свете. Друг Крильона, сказала я себе, никогда не оставит бедную женщину в горести, в затруднении, и, вместо того чтоб послать к вам Грациенну, я пришла откровенно просить вас об услуге, которая одна может меня спасти. Обещайте мне согласиться. — Если то, что вы желаете, возможно. — Это легко. Но потребуется сохранить тайну и спешить. У меня есть только один друг, и друг могущественный. Он в отсутствии и не знает, до какой крайности я доведена. Если бы он знал, он поспешил бы приехать сам или прислал меня освободить. Он все может сделать!.. — А!.. Король? — сказал Эсперанс с легким оттенком холодности, которая не укрылась от Габриэль. — Да, король, — отвечала она, потупив голову. — Я думал, что вчера месье де ла Варенн был в монастыре. Не привез ли он известия от его величества? — Вчера, — пролепетала Габриэль, — еще не было и речи о том, чтобы так ускорить этот брак. И притом, месье де ла Варенн уже не воротится сюда прежде, чем король воротится сам. Когда это будет? Король занят своими приготовлениями к отречению. Если меня обвенчают во время его отсутствия! Бедный король! Эсперанс подавил вздох. — Отчего вы не сопротивляетесь? — спросил он. — Я пробовала, но борьба разбила меня. У меня нет больше сил. Нельзя сопротивляться отцу, когда его зовут графом д’Эстре. А если король не поспешит ко мне на помощь, я погибла. — Что же надо сделать? — спросил Эсперанс. — Я наскоро написала несколько строк, которые надо доставить его величеству сейчас. Ах, какая это будет услуга и как я буду вас благословлять всю жизнь! — Может быть, это будет очень дурная услуга, — прошептал Эсперанс. — Но я не имею права сообщать вам мои замечания. Вы любите короля? — Это такой великий государь, герой! — Я понимаю ваш энтузиазм, вашу любовь… — Мой восторг к его величеству. — Вам ни к чему оправдываться. Я сейчас поехал бы сам отвезти королю вашу записку, но я ранен, я болен. Я не могу держаться на ногах, а тем более ехать верхом; но мой друг свободен и может проскакать сто лье, если вы поверите ему записку. Я отвечаю за его скромность, за его быстроту. — О, как я смогу отплатить вам за такую доброту? Вот записка. Желаю вам здоровья, месье. — Желаю вам счастья, мадемуазель. Около нового здания послышался лай собак; оба караульщика поспешно вернулись. Дрожащие руки Габриэль сунули письмо в руку Эсперанса. Уже обе молодые девушки улетели, как ласточки, а теплое пожатие руки, вместо того чтоб изгладиться, перешло в пылающий жар, который переходил от руки к сердцу Эсперанса. — Разве в этой записке огонь? — прошептал удивленный Эсперанс. Он вспомнил, что эта записка, прежде чем перешла в его руки, согрелась на груди Габриэль. На другое утро Эсперанс грустно одевался, перебирая в голове тысячу смутных мыслей, которые казались ему еще больнее его тела, вдруг отворилась дверь, и явился капюшон. Только один капюшон на свете имел этот педантический вид и эти величественные колебания. Эсперанс узнал брата Робера, который принес, по обыкновению, крепительное вино. Женевьевец обвел глазами комнату, как бы ища кого-то. — Я не вижу, — сказал он, — вашего товарища, любезный брат? — Понти вышел, любезный брат, — отвечал Эсперанс. — А! Вышел… Жаль! Здесь есть слуги для выполнения поручений наших гостей. Эсперанс промолчал; он не умел лгать. — Тем более, — продолжал брат Робер, — что месье де Понти, верно, поехал верхом, потому что, осматривая конюшни, я не видел его лошади в стойлах. Брат Робер, говоря таким образом, устремил проницательный взгляд на Эсперанса, который продолжал молчать. — Должно быть, он отправился далеко, — сказал женевьевец. — Довольно далеко, любезный брат. Женевьевец сел на окно на том самом месте, где накануне Габриэль пожимала руку Эсперансу. — Кавалер де Крильон, — прибавил брат Робер, — приказал ему не оставлять вас. Не виноват ли он, что ослушался приказаний кавалера де Крильона? Эсперанс покраснел. — Часто, — продолжал женевьевец, — молодые люди делают проступки или от недостатка ума, или от излишней нежности сердца. Идет прямо только тот, кто идет просто. Эсперанс, очень сконфуженный, возразил: — Поверьте, любезный брат, что Понти всегда пойдет прямо. — Все зависит от дороги. Эсперанс вздрогнул. — Вы знаете все? — спросил он. Его тяготила тайна, и он хотел высказать ее. — Я решительно ничего не знаю, — сказал женевьевец, — кроме того, что месье Понти уехал верхом; но я предполагаю, что он должен был иметь серьезные причины для того, чтобы бросить вас. — Очень серьезные. — Тем хуже, — повторил монах. — Судите сами, любезный брат, — сказал Эсперанс, желая освободиться от ответственности и не лгать, — два человека с сердцем могут ли видеть хладнокровно несправедливости, совершающиеся здесь? — Здесь совершаются несправедливости? — невинно спросил брат Робер. — Вы сами участвуете в них, если вы их не посоветовали, то по крайней мере передали; вы могли спасти эту молодую девушку, а допускаете приносить ее в жертву. — Я не понимаю ни слова, любезный брат. — Вы не понимаете несчастья мадемуазель д’Эстре, насилия, которое употребляют с нею? — Мне было неизвестно, что вы знаете эту девицу. — Я теперь ее знаю. — И осуждаете ее отца? — Менее, чем ее будущего мужа. Делаться орудием, которым отец мучит дочь, — это гнусно! — Лекарство, которое спасает, никогда не бывает слишком горько. — Пусть так, но будущий муж слишком горбат. Брат Робер отвечал с бесстрастным видом: — Эти различия слишком суетны для таких бедных монахов, как мы, которым предписывает долг не принимать участия в чужих делах. — К счастью, я не католический монах! — вскричал Эсперанс. Брат Робер с удивлением посмотрел на молодого человека, как будто не так расслышал. — Много вещей, которые вы завязали, теперь развязываются, — продолжал Эсперанс. — Я признаюсь вам в этом без угрызений, убежденный в глубине сердца, что вы одобряете меня, потому что вы монах достойный, человеколюбивый, сострадательный, остроумный, и ваш капюшон знает только половину ваших мыслей о наших светских слабостях. Однако, хотя, может быть, вы будете меня осуждать, я скажу вам, что я сжалился над бедной молодой девушкой, которую приносят в жертву, и составил заговор против ее горбатого жениха. — Заговор? — Теперь Понти предупредил кого-то очень могущественного, кто примет меры. — Они должны быть быстры, — лаконически проговорил брат Робер. — Будут и быстры, и решительны. — Вам ничего не нужно сегодня утром, любезный брат? Чтобы заменить вашего товарища, нужно вам общество? — Благодарю, — сказал Эсперанс, который угадал желание монаха и не поддерживал разговора. Вдруг постучались в дверь, и писклявый голос закричал: — Любезный брат Робер, вы здесь? — Войдите, — сказал Эсперанс. Вошел д’Амерваль, совершенно испуганный. — А! Я нашел вас наконец, любезный брат, — сказал он женевьевцу. — Я бегаю уже полчаса, а то, что я имею вам сказать, очень важно… Здравствуйте, месье Эсперанс, как вы себя чувствуете сегодня? Очень хорошо? Ну, я очень рад. И ваш друг также? Это прекрасно. Нет, любезный брат Робер, мы не уйдем, мы можем говорить и здесь. Мы не можем найти более любезного общества. Этот господин мой друг. Надо вам сказать, любезный брат, что мы открыли заговор; когда я говорю «мы», это значит граф д’Эстре, даже и не граф д’Эстре, а какой-то неизвестный друг, сообщивший ему — я подозреваю этого милого приора, — нечто очень важное. Это, должно быть, преподобный дом Модест, человек, который знает все и служит для меня настоящим благодетельным гением. Я вас искал, я вас нашел, все устроилось. Этот поток слов и шумные жесты не вырвали у женевьевца ни движения, ни слова. Он смотрел и ждал. — Что же вы устроили? — спросил Эсперанс. — Это можно угадать; мы действуем, нас атакуют, мы отражаем нападение. Ступайте, любезный брат Робер, отдайте последние приказания. — Какие приказания? — спросил женевьевец. — Граф д’Эстре рано утром ходил к приору, но его нельзя было видеть. Граф д’Эстре передал ему тогда таинственное сообщение и просил совета в таком критическом положении. В самом деле, если подавший совет знал наверняка, что мадемуазель д’Эстре у нас похитят до брака! Эсперанс сделал движение, которое жених принял за знак соболезнования. — Да, — сказал он, — ее хотят похитить у нас. Если бы не неизвестный друг, это было бы уже сделано. Эсперанс смотрел на женевьевца, бесстрастного под своим капюшоном. — Что же отвечал приор? — спросил Эсперанс, сердце которого билось. — Только два слова, но какие слова! Ускорен час! И мы ускоряем его. Эсперанс вскочил с испугом. — Сильные движения вам вредны, — сказал брат Робер, сдерживая молодого человека простым прикосновением своего пальца. — А! — прибавил он, обращаясь к д’Амервалю. — Мы ускоряем час. — Я пришел от имени приора и графа д’Эстре просить вас все приготовить для этого. — Я буду повиноваться преподобному приору, — сказал брат Робер. — Пойдемте, месье де Лианкур. — Я хотел бы сказать вам два слова, — сказал Эсперанс, останавливая жениха, — но вас я не удерживаю, любезный брат. — Я подожду, когда вы кончите, — спокойно сказал женевьевец. — И вы также хотите сообщить мне что-нибудь? — спросил Эсперанса д’Амерваль. — Может быть. — Я слушаю вас. — Просить дворянина подумать прежде, чем он примет такое жестокое намерение, — значит подать ему хороший совет. Де Лианкур с удивлением вытаращил глаза. — Дело идет о вашей чести, — продолжал молодой человек. — Не правда ли? — вскричал жених. — Ведь дело идет о моей чести! Представьте себе, что все мои друзья ждут конца этого смешного дела. Все знают, что я помолвлен с мадемуазель д’Эстре; могли угадать намерения короля. Каждый говорит себе с насмешкой: женится ли он на ней? Это скучно. По крайней мере, мы увидим, когда это будет кончено. — Вы не поняли смысла моих слов, — сказал Эсперанс, — дело идет о вашей чести, если вы женитесь на женщине, которая не хочет за вас выходить. — О, — сказал де Лианкур, — мне это решительно все равно. Молодые девушки все одинаковы. Моя первая жена делала такие же затруднения. Ее надо было принудить к замужеству. Через месяц она бросилась бы в огонь только для того, чтобы следовать за мной. Пойдемте, брат Робер, делать приготовления. — Умоляю вас еще раз все обдумать, — сказал Эсперанс. — Вы можете навлечь себе смертельных врагов. — У нас есть законы! — выразительно сказал маленький человек. — Законы не спасут вас от общественного презрения, — с негодованием сказал Эсперанс. — Милостивый государь, если бы вы не были ранены и больны! — вскричал д’Амерваль, приподнимаясь на цыпочки. Эсперанс раздражался. Брат Робер вмешался, остановив взглядом маленького человечка. — Брат мой, — сказал он жениху, — вы не понимаете благоразумных слов месье Эсперанса. Этот дворянин слишком хорошо воспитан, чтобы затевать ссору в том доме, где он гость. Он хочет сказать только, что, если ваша жена отмстит впоследствии, это нанесет вам большой ущерб в общественном мнении… — Очень хорошо! Очень хорошо! — сказал маленький человек, побежденный спокойной позой, какую принял Эсперанс. — О, впоследствии я отвечаю за вторую мадам де Лианкур, как за первую. А так как месье Эсперанс имеет ко мне добрые намерения, то ничто не останавливает меня, чтобы ему сказать по-дружески: приезжайте сегодня ужинать к нам в Буживаль, к моему тестю, куда мы едем после церемонии. Для того чтобы не привлекать внимание, у нас будет мало друзей в церкви, а много на свадебном пиру. Многие будут смеяться, за то уж ручаюсь я. Итак, решено, месье Эсперанс, вы будете к нам, вы и другой дворянин, королевский гвардеец. А! У меня будет на свадьбе королевский гвардеец, это интересно. Я не вижу этого дворянина, где же он? — Уехал, — с живостью сказал брат Робер. — Тем не менее он приглашен. Скорее, любезный брат, будем повиноваться преподобному приору, и чтобы все было кончено через час. До свидания, месье Эсперанс. Не трудитесь приходить в церковь. Сохраните ваши силы для вечера. Он ушел, говоря эти слова. Брат Робер устремил на Эсперанса продолжительный взгляд, как бы желая прочесть в глубине его души, и пошел за женихом. — Я сделал для нее все, что мог, — сказал себе Эсперанс, когда он остался один. — Теперь король должен ей помочь. А она должна защищаться, выиграть время. О, она сумеет выпутаться; у женщин всегда найдется какой-нибудь предлог. Он еще не кончил, как легкий удар в стекло его окна заставил его вздрогнуть; он взглянул и увидал Грациенну, которая высовывала свою голову из-за кадки с померанцами. Он тотчас отпер окно, и небольшой пакетик упал на средину комнаты. Грациенна уже убегала по тенистой аллее, и Эсперанс в одно мгновение потерял ее из вида. Он тотчас раскрыл конверт, в котором лежало письмо. Торопливый почерк, омоченный слезами, обнаружил ему тоску сердца, задумавшего это письмо, трепет руки, написавшей его. Он с жадностью прочел:«Мне изменили. Для того чтобы лишить меня последнего ресурса, после нового, сильного и решительного спора, отец тащит меня к алтарю. Я бы уже умерла, если бы не должна была объяснить мое поведение тому, кто получил мою клятву. Благодарю за ваше великодушие. Поблагодарите вашего друга, который трудился понапрасну. Теперь мне остается просить вас только об одной милости: сейчас в этой капелле не оставляйте меня. Пусть будет возле меня друг, сострадание которого облегчит мою горесть. А так как я никогда не видала вашего лица, так как я хочу узнать вас, чтобы никогда вас не забывать, постарайтесь находиться на моем пути в саду, через который я пройду, чтобы я вас видела сидящим на скамейке у фонтана; мои плачущее глаза скажут вам, сколько признательной дружбы в моем сердце».
В конверте Эсперанс нашел браслет, на аграфе которого мелким жемчугом было изображено имя Габриэль. «Я тоже, — подумал он, — никогда не видал ее, и мы должны познакомиться в такой печальный день!» Уже колокол раздался, растроганный молодой человек направился к месту свидания и задумчиво сел на скамейке у фонтана. Только что успел он погрузиться в свои мысли при журчании воды, как в цветнике нового здания раздались голоса. Дверь отворилась, и по большой аллее, центр которой составлял этот фонтан, показалась вся свита, сопровождавшая невесту в церковь. Граф д’Эстре вел под руку дочь. Он был озабочен, растревожен. На лице его виднелись следы утомительной борьбы, из которой он вышел победителем. Габриэль, бледная, с глазами, сверкающими гневом и отчаянием, осматривалась вокруг, как бы отыскивая неожиданной помощи, чуда или по крайней мере друга, которого она призвала. Она дошла наконец до фонтана, который был закрыт плющом и шиповником. Эсперанс встал, чтобы она могла лучше видеть его. Но тогда и он ее приметил. Оба, обменявшись взглядами, были поражены одним ударом. Никогда не подозревала Габриэль этой благородной красоты, этого выражения трогательной горести, этой величественной грации во всем теле. Что касается его, женщина, засиявшая перед глазами его, была выше всех мечтаний поэта, совершенное соединение такой красоты никогда не встречалось со времен мироздания. Ослепленный, пораженный, Эсперанс сделал к ней шаг, она остановилась от его взгляда, очарованная, восхищенная. Ее печальные глаза хотели сказать: «Прощайте!» Они засияли, чтобы сказать: «До свидания!» Граф д’Эстре увел свою дочь, которая, повернув голову, все смотрела назад. Эсперанс, увлекаемый этим взглядом, не приметил даже, что де Лианкур вел его за руки к капелле. Через полчаса Габриэль называлась мадам де Лианкур. Эсперанс молился, закрыв голову обеими руками. Тесть и зять поздравляли друг друга. — Теперь, — вскричал граф д’Эстре, — честь спасена, вы должны поддерживать ее, зять мой! — Теперь, — говорил зять, — пусть попробуют похитить у нас ее, пусть-ка придут! Безутешная Габриэль прислонилась к столбу капеллы и обменивалась с братом говорящим несколькими словами, и на прекрасном лице, в глазах ее, словно на цветке роса, блестели слезы. — Ну, друзья мои! — вскричал д’Амерваль. — Будем веселиться и так шуметь возле новобрачной, что она совсем забудет свои девические огорчения. — Дочьмоя, — сказал граф д’Эстре Габриэль, — было только одно средство спасти вам честь, я его употребил. Простите мне. Я слишком вас любил для того, чтобы перенести ваш стыд. Теперь вы не обязаны мне повиновением. Оказывайте все-таки мне вашу дружбу. Общественное уважение вознаградит вас за честолюбивые мечты… Воротимся в наш дом в Буживале. Говорящий брат приблизился к графу д’Эстре. — Нет еще, — сказал он ему тихо и таинственно. — Около монастыря разъезжают подозрительные всадники. Подождите, поговорите прежде с приором и старательно берегите вашу дочь в новом здании. Он медленно удалился, сделав знак де Лианкуру, который вышел вместе с ним из капеллы. — Что такое? — спросил де Лианкур, порхая около брата Робера. — Почти ничего, только приехали королевские всадники. — Какие всадники? — спросил маленький человечек, очень растревожившись при имени короля. — Те, которые должны были похитить мадемуазель д’Эстре. — Они приехали слишком поздно! — вскричал де Лианкур, смеясь сквозь зубы. — Для того чтобы похитить ее, но еще вовремя, чтобы похитить вас. — Меня? — Конечно, это их план. — Они меня ищут? — вскричал испуганный горбун. — Когда так, то я убегу и скроюсь в Буживальском доме. — Я очень боюсь, что, когда вы выйдете отсюда, они вас схватят, — спокойно сказал брат Робер. — Это гнусно! — Это ужасно! — Что делать? — На вашем месте я находился бы в затруднении. — Не попросить ли мне преподобного приора спрятать меня здесь, в монастыре? Монастырь — ведь это надежное убежище. — Мысль хорошая. Но не показывайте ничего, потому что здесь могут быть шпионы. — Спрячьте меня! Спрячьте меня! — сказал де Лианкур, вне себя от испуга. — Пожалуй, если вы желаете, — сказал брат Робер, идя впереди маленького человека, который толкал его, чтобы ускорить шаги. В темном коридоре, за капеллой, они спустились с нескольких ступеней, и женевьевец отворил дверь в темный тайник. — Как здесь темно! — прошептал маленький человечек. — Темно, но безопасно, — отвечал брат Робер, толкая туда новобрачного. — Сидите смирно, а я сам принесу сам поесть, пока не минует опасность. — Вы ангел! — пролепетал де Лианкур, зубы которого стучали от страха. Брат Робер запер дверь на засов и поднялся по лестнице с безмолвной улыбкой.
Глава 27 ОТРЕЧЕНИЕ
Воскресенье 25 июля 1593 был великий день для Франции. С самого рассвета слышался звон колоколов в Сен-Дени. Верховые встречались на всех дорогах, развозя записки по всем селам до самых ворот Парижа, уведомляя народ об отречении короля и приглашая каждого от имени его величества присутствовать в Сен-Дени при этой церемонии, без паспортов и всяких формальностей, гарантируя всем свободу и безопасность. Надо было видеть поспешность, удивление и радость тех, которые получили записки или слышали приглашение королевских курьеров. В Париже, по приказанию герцогини Монпансье, заперты были ворота, и каждому парижанину, кто бы он ни был, было запрещено идти в Сен-Дени под опасением самого строгого наказания. Однако многие из тех смельчаков, которые ничем не рискуют и не боятся ничего, даже виселицы, когда дело идет о любопытном зрелище, решились перелезть через стены, через проломы, так что за Парижем со всех концов огромного города виднелись толпы мужчин и женщин, которые смеялись, пели, прыгали от радости и поддразнивали своей многочисленностью испанских солдат и лигеров, которые с бешенством смотрели на них с высоты стен. Если желание присутствовать при церемонии влекло парижан в Сен-Дени, оно было тем более сильно в той полосе, которая простиралась от Сен-Жермена и Понтуаза до аббатства Догобер. Повсюду приглашенные королем мужчины и женщины в праздничной одежде, таща детей на ослах или в повозках, ехали из сел и деревень. В замке Ормессон, у Антрагов, с шести часов утра ждали лошади, оседланные и взнузданные, на большом дворе; они как будто с презрением смотрели на лошадь, вспотевшую и запыленную, которая только что приехала и еще пыхтела. Пажи и лакеи, богато одетые, оканчивали свой туалет. Ждали для отъезда только владетельницу замка, еще не выходившую из своей уборной, где три горничные воевали против ее сорока пяти лет. Д’Антраг, лучезарный, как солнце, вышел первый, чтоб взглянуть на экипажи. Он остался доволен и направился к павильону посмотреть, может ли он остаться также доволен и дочерью. Дорогою под деревьями, в десяти шагах от павильона, он очутился лицом к лицу с ла Раме, в охотничьем костюме, как всегда. Молодой человек, бледнее и свирепее обыкновенного, поклонился д’Антрагу, не смотря на него. — Здравствуйте, ла Раме, — сказал отец Анриэтты. — Вы так рано в Ормессоне! Разве и вы также, такой отъявленный лигер, обратились, если едете смотреть на обращение короля? Ла Раме закусил свои тонкие губы. — Я вовсе не обратился, — отвечал он, — и не желаю присутствовать при этом обращении, о котором вы изволите мне говорить. Мадам д’Антраг поручила мне привезти ей известие о моем отце, и я привез. Я совсем не знал, что вы будете присутствовать при церемонии ренегата в Сен-Дени. — Послушайте, ла Раме, — с гневом сказал д’Антраг, — вы наш друг по милости вашего отца, которого любим моя жена и я, но я предупреждаю вас, что ваши слова отзываются лигером самым нестерпимым образом. — Я думал, — сказал ла Раме, позеленев от досады, — что вы сами были лигером две недели тому назад. — Это не ваше дело. Я теперь не лигер. Я люблю мою родину и служу моему Богу. Я держался оппозиции против еретика, а теперь не имею права употреблять ее против католического государя. Теперь оставайтесь лигером, сколько хотите, но не компрометируйте моего дома. Ла Раме поклонился, трепеща от бешенства; глаза его убили бы д’Антрага, если бы презрение могло убивать. Тот продолжал идти к лестнице Анриэтты. — Если вы ищете мадам д’Антраг, — сказал он ла Раме, — вы здесь не найдете ее. — Я думал, что она у мадемуазель Анриэтты, — прошептал ла Раме, — извините. Он уходил, когда на верху лестницы показалась Анриэтта. — Здравствуйте, папа, — сказала она, спускаясь осторожно, чтоб не запутаться в складках своей амазонки, которую поддерживали паж и горничная. При звуке этого голоса ла Раме остался как бы пригвожденный к земле, и все Антраги на свете, с их оскорблениями и политическими мнениями, не могли бы заставить его отступить ни на шаг. Анриэтта сияла нарядом и красотой. Ее серое атласное платье, вышитое золотом, небольшая красная бархатная шляпка с белым пером, маленькие ножки в красных атласных ботинках заставили отца вскрикнуть от удовольствия, а у ла Раме вызвали глухой рев восторга. — Ты хороша, очень хороша, Анриэтта, — сказал д’Антраг, — надень немножко больше набок шляпку, это придаст глазам больше живости. Я нахожу тебя бледной. Анриэтта приметила ла Раме. Вся веселость исчезла с ее физиономии. Она бросила длинный взгляд на молодого человека и сделала ему серьезный поклон. Его жадное созерцание выпрашивало этого поклона и этого взгляда. — Твоя мать должна быть готова, пойдем за нею, — сказал д’Антраг, который дорогой примечал каждую складку и каждую подробность туалета до такой степени, что поправил на плече дочери шнурки, запутавшиеся между собой. Ла Раме был забыт. Анриэтта шла облитая солнцем, упоенная гордостью, вдыхая вместе с душистым воздухом лилий и жасминов говор восторга, раздававшийся на пути ее в рядах поселян и слуг, прибежавших насладиться этим зрелищем. Д’Антраг оставил на минуту дочь, чтоб пойти узнать о матери. Ла Раме воспользовался этой минутой, чтоб подойти к Анриэтте и сказать ей: — Вы, кажется, не ждали меня сегодня? Она покраснела и нахмурила лоб с досадой и нетерпением. — Зачем мне вас ждать? — сказала она. — Может быть, было бы человеколюбиво предупредить меня. Я приготовился бы, я позаботился бы не испортить вашу кавалькаду. — Я не могла думать, чтобы такой отъявленный лигер решился поехать сегодня в Сен-Дени. — Вы знаете, — сказал ла Раме выразительно, — что для вас я всегда решаюсь на все. Он сделал такое сильное ударение на этих словах, что бледность Анриэтты удвоилась. — Молчите, — сказала она, — вот мой отец и моя мать. Ла Раме медленно отступил на шаг. Величественная, как королева, появилась благородная госпожа д’Антраг, костюм которой занимал середину между воспоминаниями ее милой весны и требованиями ее сана. Она не могла совершенно пожертвовать фижмами 1573 года для юбок менее неудобных и менее торжественных 1593, и, несмотря на эту нерешимость между молодым и старым, она была еще до того хороша, что ее дочь, увидев ее, забыла ла Раме и всех и сделалась женщиной, старающейся найти слабую сторону в женском туалете. Восхищенный д’Антраг мог счесть себя на минуту французским королем по милости этой богини. Владетельница замка не выказала так, как Анриэтта, презрение к ла Раме. Как только она его приметила, она улыбнулась ему и позвала его. — Пусть приведут лошадей, — сказала она, — а я поговорю с месье де ла Раме. Все поспешили повиноваться, первый д’Антраг, который сам распоряжался конюшими и пажами. Мария Туше осталась одна с ла Раме. — Как здоровье вашего отца? — спросила она. — Доктор предупредил меня, что он не проживет и месяца. — О, бедняжка! — сказала Мария Туше. — Но если вы лишитесь вашего отца, у вас останутся друзья. Ла Раме слегка поклонился, смотря на Анриэтту, которая приготовлялась садиться на лошадь. — Какие известия о раненом? — с живостью спросила Мария Туше, ударив его по плечу рукой, обтянутой перчаткой. — Никаких. Напрасно я с тех пор отыскивал, расспрашивал, я ничего не узнал. Следы крови, как вам известно, были прерваны рекой, и я приметил, что, расспрашивая о раненом и о королевском гвардейце, я становлюсь подозрителен. Мне это дали почувствовать в двух или трех местах. Раз я встретился с мельником, которому был известен этот случай. В кабаке в Марли он говорил о раненом молодом человеке, о Крильоне, о хромой лошади, но, когда я хотел заставить этого человека разговориться, он посмотрел на меня так странно и так сделался осторожен, что даже вдруг прервал разговор, и я подозревал, что он пошел за подкреплением, чтоб арестовать меня. Я боялся компрометировать вас, компрометируя себя, и воротился домой. — Вы очень меня растревожили. — Вы понимаете мое положение; невозможно писать, невозможно оставить моего отца, невозможно приехать сюда, куда меня не звали… потому что меня не звали, признаюсь, я был удивлен. Мария Туше смутилась. — Здесь были очень заняты, — сказала она. — Притом надо было позаботиться, чтобы не возбудить никаких подозрений; это дело разнеслось, несмотря на все мои предосторожности. — Оно не должно было помешать мадемуазель Анриэтте быть несколько любезнее со мной, — прибавил ла Раме с мрачной горестью. — Простите ей, это было большим ударом для молодой девушки. — Нет, я ей не прощаю, — возразил он тоном почти угрожающим. — Некоторые происшествия навсегда связывают людей, сделавшихся сообщниками. Мария Туше задрожала от страха. — Остерегайтесь, — сказала она, — к нам подходят. Д’Антраг действительно подходил, несколько удивляясь, что разговор ла Раме с его женой продолжается так долго. Анриэтта с лихорадочным нетерпением дергала свою лошадь, чтоб заставить ее повернуться к разговаривавшим, за беседой которых она с жадностью наблюдала. — Я спрашивала месье ла Раме, — поспешила сказать Мария Туше, — зачем он не едет с нами в Сен-Дени. — Он хочет разыгрывать роль лигера! — вскричал д’Антраг. — Притом он в дорожном платье, а когда присутствуешь при церемонии, приличие требует и приличной одежды. Ла Раме подошел к лошади Анриэтты как бы для того, чтобы застегнуть стремя. — Вы видите, что меня прогоняют, — сказал он тихо, — а я хочу остаться. Анриэтта колебалась с минуту; она покраснела от бешенства при таком ясном изъявлении оскорбительной воли; но взгляд матери, которая все поняла, принудил ее прервать молчание. — Месье ла Раме, — сказала она с усилием, — очень мог бы проводить нас до Сен-Дени, не присутствуя при церемонии. — Конечно, — сказал он с надменным удовольствием. — Как хотите, — вмешался д’Антраг. — Но поедемте. Помните, граф Овернский говорил, чтоб занять хорошие места, надо быть в церкви прежде половины восьмого. Вся кавалькада отправилась в путь с шумом. Собаки бросились вперед, лошади прыгали под воротами, пажи и конюшие осталась в арьергарде, два курьера ехали впереди. Анриэтта искусным маневром поместилась в центре; по правую ее руку ехала мать, по левую отец, так что дорогою ла Раме мог разменяться с нею только самыми незначительными словами. Время от времени она оборачивалась как бы для того, чтобы не совсем привести в отчаяние свою жертву, которая, сдерживая свою желчь, раз двадцать хотела бежать и раз сто удерживалась гибельной любовью около этой женщины, которая будто притягивала к себе это презренное сердце невидимой цепью. В Сен-Дени его оставили в стороне; пока дамы размещались в соборе под покровительством графа Овернского, ла Раме затерялся в толпе. Ровно в восемь часов при звоне колоколов и громе пушек явился король в белом атласном полукафтане, в белых шелковых панталонах, в черном плаще, в шляпе такого же цвета с белыми перьями. Все его верное дворянство следовало за ним. По левую руку его шел Крильон, как шпага, по правую принцы, впереди швейцарские, шотландские и французские гвардейцы. Трубило двенадцать труб и по улицам, усыпанным цветами, теснилась огромная толпа, чтобы видеть Генриха Четвертого, и кричала с энтузиазмом: — Да здравствует король! Служил буржский архиепископ. Он ждал короля в церкви вместе с кардиналом Бурбоном, с епископами и со всеми сен-денискими монахами, которые держали крест, Евангелие и святую воду. Торжественная тишина сменила в обширном соборе весь говор, когда архиепископ подошел к королю и спросил его: — Кто вы? — Я король, — отвечал Генрих Четвертый. — Чего вы просите? — Я прошу быть принятым в лоно католической апостольской и римской церкви. — Вы хотите этого искренно? — Да, хочу и желаю, — сказал король, который, тотчас встав на колени, прочел громким, звучным голосом, раздавшимся под сводами огромного собора, свое исповедание, которое подал написанным и подписанным архиепископу. Громкие рукоплескания и крики «ура» раздались в соборе и, как пороховая дорожка, зажгли вне пределов церкви радость и признательность толпы. Ничто более не отделяло народ от короля, ничего, кроме стен Парижа. Остальная церемония кончилась в прекрасном порядке, с тем же простым и трогательным величием. Король, по выходе из церкви после обедни, был окружен народом, который становился на колени и протягивал руки на пути его. Одни кричали: «Здравия и веселия!», другие: «Долой Лигу и смерть испанцам!» Всем, особенно последним, король улыбался. Крильон со слезами на глазах обнял его на паперти собора. — Теперь мы можем совсем не расставаться, — сказал он. — Прежде, когда я шел к обедне, вы шли на проповедь, только время теряли!.. Да здравствует король! Толпа уже не повторяла, а ревела: «Да здравствует король!», а испанцы и лигеры, до которых доходил отголосок, с ума сходили от бешенства. Вдруг, когда король возвращался в свою квартиру, Крильон, охранявший дверь, приметил графа Овернского, расталкивавшего толпу и старавшегося войти. Крильон своим орлиным взглядом приметил в то же время Марию Туше, ее дочь и д’Антрага, которые возвышались над толпою на крыльце, куда их поместил граф Овернский, для того чтобы они видели или их видели лучше. — Я очень рад, что встретил вас, — сказал граф Крильону, — со мною здесь две дамы, с нетерпением желающие представить королю свое уважение и свою благодарность. Они такие добрые католички, что не могут не быть допущены первые поздравить его величество. «Черт побери! — подумал Крильон, знавший, о каких дамах говорит граф. — Эти дуры уже успели явиться! Подождите, подождите!» — Граф, — сказал Крильон молодому человеку, — король поставил меня у дверей, чтобы не пускать к нему никого. — Это мои мать и сестра. — Я в отчаянии, но, если бы вы были на моем месте, вы отказали бы мне точно так же, как я отказываю вам. — Дамы… — И дамы знатные, я это знаю, я даже скажу: дамы прелестные, но это невозможно. — После вы мне позволите… — Вы заставите этих дам понапрасну потерять время. После я уеду, потому что у меня есть важное дело, и король также едет. Граф Овернский понял, что ему не удастся с Крильоном. Он поклонился и ушел с досадой, но старательно ее скрывая. Когда он возвращался к дамам, очень тревожившимся насчет результата этих переговоров, он наткнулся на ла Варенна. — Правда ли, — спросил он, — что король едет так скоро, что нельзя даже пойти поклониться ему? — Как только наденет сапоги, ваше сиятельство. — А конвой?.. Уже отдано приказание? — Его величество не берет конвоя. — Это опасно. Куда же едет король? — В соседние монастыри. — Можно узнать, в какие? — Почему же? Его величество начинает с безонских женевьевцев. Потом мы поедем… — Благодарю, — перебил граф и поспешил воротиться к дамам. — Нас прогнал Крильон, — сказал он им. — Это грубиян, дикарь, который неизвестно почему сердится на нас. Но тем более причины, чтобы видеть короля сегодня же. Ступайте отдохнуть несколько минут в моей квартире, а когда пройдет жар, я провожу вас в одно место, где мы очень хорошо увидим его величество. Пойдемте в тень и прохладу, чтобы поберечь ваши наряды. — Этот Крильон завидует, — пробормотал д’Антраг. — Завидует или нет, — сказал молодой циник, — а он не помешает королю увидеть Анриэтту, которая никогда не была так прекрасна, как сегодня. Ла Раме снова проскользнул позади дам, как прибитая собака, которая сердится, но возвращается. Он услыхал эти слова. — А! Понимаю, — пробормотал он весь бледный, — почему Анриэтту возили в Сен-Дени. Ну, я также пойду к безонским женевьевцам, и мы увидим.Глава 28 КОРОЛЬ МСТИТ ЗА ГЕНРИХА
Король, в сопровождении только ла Варенна и нескольких слуг, быстро ехал в Безон. Он устал трудиться для короны и хотел посвятить остатки дня Генриху. После стольких церемоний, после такого оглушительного шума он отдыхал. В нем отдыхало все, кроме сердца. Это нежное сердце, наполненное радостью, летело к Габриэль и опережало легкого арабского коня, за которым с трудом поспевала королевская свита. Однако к его счастью примешивалось беспокойство. Дорогой Генрих удивлялся странному враждебному поведению графа д’Эстре, который осмелился таким образом навязать дочери мужа, так круто повернуть свадьбу, испугать бедную девушку, чтобы заставить ее просить помощи. В самом деле, король получил накануне письмо, привезенное Понти, и отвечал тотчас с тем же курьером, что он приедет на другой день после своего отречения, что Габриэль должна до тех пор держаться твердо. Понти по расчету короля должен был воротиться в монастырь после обеда. Габриэль, ободренная обещанной помощью, будет сопротивляться, и ее не обвенчают. Приезд Генриха переменит все, не считая тайной помощи таинственного друга, говорящего брата. Таковы были химеры, которыми бедный любовник убаюкивал себя, погоняя свою лошадь к Безансону. Конечно, отсутствие графа д’Эстре при церемонии в Сен-Дени, еще более прискорбное отсутствие Габриэль, которую глаза короля искали повсюду, не были успокоительными признаками; но так как все можно объяснить, король легко объяснял себе поведение строгого отца, который не хочет сближать дочь с любовником, которого опасается для нее. Эти различные мысли способствовали к тому, что Генрих приехал в монастырь почти в спокойном расположении духа. Когда он подъехал к воротам, он наткнулся на самого графа д’Эстре, который в десятый раз со вчерашнего дня выходил узнать о своем исчезнувшем зяте. Графа так взволновало появление короля, что он остановился неподвижен и не сказал ни слова, когда все спешили кланяться и поздравлять короля. Генрих соскочил с лошади с легкостью молодого человека и с любезным видом, сдерживаемым тайным неудовольствием, подошел к графу д’Эстре. — Каким образом, — сказал он, дотронувшись фамильярно до плеча его, — вы, один из моих слуг и союзников, не были сегодня на свидании, которое я назначил каждому верному подданному французского короля? Граф, бледный и растревоженный, не находился сказать ни слова. Он хотел отвечать без гнева, а вражда кипела в глубине его сердца. — Что вы потеряли это прекрасное зрелище, — сказал король, — показывает, что вы друг холодный; но что вы лишили этого мадемуазель д’Эстре, это показывает, что вы отец недобрый. — Государь, — сказал граф с усилием, — я предпочитаю сказать вам правду. Мое отсутствие имело законную причину. — Какую? Мне любопытно было бы слышать, — сказал король. — Я тревожился о моем зяте, государь, и искал его. — О вашем зяте? — вскричал Генрих с ироническим вздохом. — Вы, кажется, слишком торопитесь давать это название. Зятем называется тот, кто женат на вашей дочери. А я полагаю, ваша дочь еще не замужем? — прибавил он, смеясь. Граф отвечал, собрав все свои силы: — Извините, государь, мадемуазель д’Эстре обвенчана вчера. Король побледнел, не видя никакого опровержения на лицах присутствующих. — Обвенчана вчера! — прошептал он с разбитым сердцем. — Ровно в двенадцать часов, — холодно отвечал граф. Король вошел в залу, из которой по его знаку почтительно вышли все. — Подойдите, месье д’Эстре, — сказал он графу с торжественностью, которая лишила того той немногой бодрости, которую он сохранял с таким трудом. Генрих сделал несколько шагов по зале и с волнением, которое было бы страшно для присутствующего, если бы вместо Генриха Четвертого он назывался Карлом Девятым или даже Генрихом III, он вдруг остановился напротив графа. — Итак, мадемуазель д’Эстре замужем? — сказал он резко. Граф д’Эстре молча поклонился. — Этот поступок странно дикий, — продолжал король, — и я не поверил бы, если бы ваши нерешительные глаза и ваш дрожащий голос не повторили мне этого два раза. Вы злой человек, граф. — Государь, я хотел сохранить мою честь. — И вы коснулись чести короля! По какому праву? — Но, государь… Мне кажется, что, располагая моею дочерью, я ничем не оскорбил ваше величество. — Вы, кажется, хотите хитрить со мною, — сказал Генрих, не попавшись в ловушку. — Как! Я делаю вам честь посещать вас, называть вас моим другом, а вы выдаете замуж вашу дочь, не уведомив меня об этом! С которых пор во Франции не приглашают короля на свадьбу? — Государь! — Вы злой человек или невежа, милостивый государь, выбирайте. — Возражение вашего величества доказывает мне… — Что оно вам доказывает, кроме того, что я был деликатен, когда вы были грубы, терпелив, когда вы были свирепы, что я соблюдал законы моего королевства, когда вы нарушали все законы вежливости и человеколюбия? А! Вы боялись, что я отниму у вас дочь. Это страх мужика, а не дворянина. Зачем вы не сказали мне откровенно: «Государь, сохраните мне дочь». Или вы думаете, что я прошел бы через ваше тело, чтоб ее взять? Разве я Тарквиний или Гелиогобал? Нет, вы поступили со мною как обращаются с вором; если он приходит, прячут серебро или передают его к соседу. Граф д’Эстре, моя честь, кажется, стоит вашей. — Государь, — пролепетал испуганный граф, — выслушайте меня… — Что вы можете сказать мне еще? Вы потихоньку обвенчали вашу дочь; не хотите ли прибавить, что она принудила вас к тому? — Поймите обязанности отца… — Поймите обязанности подданного к своему государю. Вы поступили не по-французски, а по-испански. Принуждать с кинжалом у горла молодую девушку идти к алтарю, воспользоваться отсутствием короля, которого эта молодая девушка могла позвать на помощь! Граф д’Эстре, вы отец, это хорошо; я король и буду это помнить! После этих слов, прерываемых бешеными движениями, Генрих опять стал ходить по зале. Граф, потупив голову, с лицом смертельно бледным, с потом на лбу, прислонился к столбу двери, стыдясь в передней свидетелей, узнавших все, потому что король говорил громко в звучной зале. Вдруг Генрих, пылкий гнев которого обуздало какое-то размышление, сказал графу: — Где ваша дочь? — Государь… — Вы, я полагаю, слышали, что я сказал? — Моя дочь у себя, то есть… — Вы имели право выдавать ее замуж, но я имею право выразить ей мое соболезнование. Где она? — Я буду иметь честь проводить ваше величество. — Хорошо. Вы хотите слышать, что я скажу этому бедному ребенку. Ну, ступайте. Покажите мне дорогу. Граф д’Эстре, со стиснутыми зубами, с дрожащими ногами, прошел вперед отворить двери. Он вел Генриха к новому зданию. — Предупредите преподобного приора, — сказал Генрих женевьевцам, столпившимся на дороге, — что я сейчас буду у него. Габриэль после ужасных волнений вчерашнего дня не выходила из комнаты. Грациенна отдавала ей отчет в малейшем шуме, в малейшем известии. От Грациенны получила она ответ короля, привезенный Понти через два часа после брака, и более прежнего жалела о своем поражении, видя, что король так спокоен насчет ее верности. Теперь надо было только бороться, чтобы остаться у женевьевцев, а не возвращаться к отцу или мужу. В этом она узнала тайное содействие говорящего брата. Так как д’Амерваль исчез, ничто не принуждало ее уехать в Буживаль, а все убеждало остаться в монастыре, около которого испуганный граф д’Эстре отыскивал своего зятя, странное отсутствие которого он приписывал ловушке, расставленной королем. Габриэль походила на приговоренного к смерти, палач которого не находится в час казни. Встав до рассвета, одетая со вчерашнего дня, она стояла у окна и смотрела с беспокойством то на дорогу — ведет ли отец потерянного мужа, то в сад — не пришлют ли ей кого ее новые друзья. Волнение Габриэль отражалось и в комнате Эсперанса. Понти нашел раненого в таком невероятном волнении, что не хотел верить, чтобы замужество неизвестной девушки с горбуном могло так раздражить мозг рассудительного человека. Он старался всеми силами узнать истину, выпрыгивал в окно и из окна, а друг его, напротив, лежал, уткнув голову в подушки, как бы для того, чтобы подавить тайную горесть. На рассвете Понти сообщил Эсперансу, что муж еще не нашелся. Почему Эсперанс вдруг вскочил с очевидной радостью; почему, оживленный этим известием, встал он с улыбкой; почему осыпал он сарказмами и плутовскими проклятиями де Лианкура, который, однако, был недостоин его гнева, — это Понти напрасно старался угадать. Эсперанс сам, может быть, затруднился бы. А пока оба друга после обеда отправились под деревья у фонтана, где Эсперанс погрузился в меланхолическую задумчивость, между тем как Понти, обрезывая отростки лип, делал из них маленькие свистки, чтобы, как говорил он, праздновать возвращение де Лианкура. Без сомнения, ночь, эта плодовитая мать сновидений, навеяла на Эсперанса и на Габриэль те сны, которые делают сестрами две души по таинственному сообщению. Во все утро Эсперанс смотрел на окна Габриэль, и его взгляд имел силу притянуть Габриэль, которая с этой минуты не отводила уже глаз от фонтана. Она стояла еще у окна, задумчивая и заплаканная, когда шум голосов в главной аллее вдруг заставил молодых людей встать со знаками удивления и уважения, которые были примечены Габриэль, и в ту же минуту Грациенна прибежала, крича: — Король! Габриэль увидала в цветнике графа д’Эстре, который медленно шел; король за ним, а потом несколько монахов и служителей Генриха составляли группу, скромно державшуюся шагов на тридцать позади. Молодая девушка, забыв все, бросилась с лестницы и, обезумев от волнения, упала к ногам Генриха, воскликнув с потоком слез: — О, любезный государь!.. Король, нежный и огорченный, не мог выдержать подобного зрелища. Он поднял Габриэль и, сам прослезившись, прошептал: — Итак, все кончено! Пусть представят себе позу графа д’Эстре во время этих сетований. Он с бешенством кусал перчатки и шляпу. — Вот почему вы не были сегодня в Сен-Дени, чтобы присоединить ваши молитвы к молитвам всех моих друзей, — сказал Генрих Габриэль. — Сердце мое говорило эти молитвы, государь, — отвечала Габриэль. — И никто в вашем королевстве не произносил таких искренних молитв для вашего счастья. — В то время, когда вы были несчастны! Ведь вы были несчастны, потому что вас принудили выйти замуж. — Я должна была повиноваться моему отцу, государь, — сказала Габриэль, и слезы ее усилились. — Король, — продолжал Генрих с раздраженным видом, — не нарушает прав отца семейства, но когда женщина несчастная обращается с жалобами к нему, король имеет право помочь ей. Обратитесь ко мне с вашими жалобами, мадемуазель д’Эстре. Увы! Я должен бы сказать мадам… но невежливость была так велика, что я не знаю даже имени вашего мужа. — Это благородный дворянин, преданный слуга вашего величества, — вмешался граф д’Эстре. — Притом мне кажется, что теперь вы его знаете, государь. — Я вас не понимаю, — надменно сказал король. — Отец мой хочет сказать, что месье де Лианкур исчез тотчас после свадьбы, — сказала Габриэль, доброе сердце которой хотело успокоить короля и защитить отца. — Исчез? — вскричал обрадованный король. — И граф д’Эстре, — начала Габриэль с коварной улыбкой, — полагает, что это известно вашему величеству. — Что это значит? — спросил Генрих. — Королю всегда известно все, — сказал граф д’Эстре, очень затруднявшийся. — Если я знаю что-то, я о том не спрашиваю. Теперь, по милости мадам де Лианкур, я знаю, как зовут ее мужа. Если я не ошибаюсь, это фамилия пикардийская. — Точно так, государь, — отвечал граф д’Эстре. — Но тот Лианкур, которого я знаю, горбат. — Это именно он! — вскричала Габриэль. — Это мне прискорбно, — сказал Генрих, дурно скрывая свою досаду, — но я радуюсь, что у него достало догадливости исчезнуть, чтобы такому безобразному мотыльку не испортить такого свежего и благородного цветка. Граф д’Эстре заскрежетал зубами. — Я осмелюсь, однако, умолять ваше величество, — сказал он, — сделать распоряжение, чтобы отыскать месье де Лианкура. Подобное исчезновение, если оно происходит от преступления, должно интересовать короля, потому что жертва — один из его подданных; а если это только шутка, то она огорчает целое семейство и наносит ущерб репутации молодой женщины. Это опять король должен прекратить. — Вот еще! — вскричал Генрих. — Чтобы я заботился о потерянных мужьях и исчезнувших горбунах!.. Бог мне свидетель, что в день битвы я сам отыскиваю, согнувшись, трепеща, моих бедных подданных, раненых или мертвых. Я щажу себя не больше простого солдата. Но когда вы выдали вашу дочь замуж, не предуведомив меня, и хотите принудить меня отыскивать вашего зятя, когда я в восхищении, что он отправился ко всем чертям, вы принимаете меня за шуточного короля, месье д’Эстре. Если бы я знал, где ваш зять, я не сказал бы вам, зажигайте все ваши свечки и ищите. Габриэль и Грациенна, увлеченные этой непреодолимой живостью, не могли одна — чтобы не улыбнуться, другая — чтобы не расхохотаться. Граф д’Эстре, бледнее и сердитее прежнего, сказал: — Если это ответ, достойный заслуг моих, моего сына и нашей неутомимой преданности, если это я должен сообщить моим друзьям, ожидающим в моем доме, куда я не смею возвратиться, опасаясь насмешек… — Если над вами насмехаются, — возразил король, раздраженный этими неблагоразумными словами, — вы это заслужили, потому что вы не поверили французскому королю, дворянину безупречному. Что касается ваших заслуг, которыми вы меня упрекаете, оставьте их при себе. С этой минуты они мне не нужны. Оставайтесь у себя; я пришлю к вам завтра вашего сына, маркиза де Кевра, который, однако, человек честный и которого я любил как брата и за его достоинства, и из дружбы к его сестре. Оставайтесь все вместе: вы, ваш сын и ваш зять. Я родился королем наваррским без вас, сделался королем французским без вашей помощи и сумею сесть на моем троне в моем Лувре без ваших услуг, которыми вы меня упрекаете. — Государь! — вскричал граф д’Эстре, бросаясь на колени, потому что он видел погибель всего своего дома. — Вы меня поражаете! — Пропустите меня! — вскричал король. — Между нами все кончено. Граф удалился, задыхаясь от стыда и горести. — А между нами? — тихо спросил Генрих Габриэль. — Государь, вы сдержали слово, — сказала бледная молодая женщина, — и я сдержу свое. Вы сделались католиком, а я буду принадлежать вам, только берегите ваше достояние. — О, вы берегите его! — вскричал Генрих с порывом страстной любви. — Поклянитесь мне в верности. Если ваш муж найдется, не забывайте меня! — Я буду помнить, что я принадлежу другому, но сократите мою пытку, государь! — Будьте благословенны за это слово… Вашу руку. Габриэль протянула свою нежную ручку, которую король почтительно поцеловал. — Я уезжаю нынешнюю ночь атаковать Париж, — сказал король. — Вы скоро получите обо мне известие. Но каким образом вы могли прислать мне известие о вас, да еще с моим гвардейцем? — Это был один из молодых людей, живущих в монастыре, — сказала Габриэль. — Это два друга мужественные, умные и великодушные. — Ах да! Один из них тот раненый, которого привез Крильон; красивый мальчик, мне так нравится его лицо! Габриэль покраснела. Эсперанс за кустами бузины смотрел на нее издали, неподвижный и бледный, обняв рукой шею Понти. Король обернулся, следуя за взглядом Габриэль, и, приметив молодых людей, сказал: — Я сам их поблагодарил бы, но это значило бы изменить вам. Поблагодарите их от меня. Он сделал дружеский знак Понти, сердце которого дрогнуло от радости. — Государь, — сказала Габриэль, столько же из сострадания к отцу, столько же и для того, чтобы отвлечь внимание короля, еще одно слово об Эсперансе которого сконфузило бы ее, — вы не уедете, не простив моему бедному отцу. Увы! Он был жесток ко мне, но это честный и верный слуга. А брат мой? Неужели и он будет страдать от моего несчастья? Неужели вы лишите его возможности служить своему королю? — Вы добрая душа, Габриэль, — сказал Генрих, — а я не мстителен. Я прощу вашему отцу тем охотнее, чем смешнее муж. Но я хочу, чтобы он был обязан вам моим прощением и чтобы это прощение было выгодно для нас. Пусть думает пока, что я еще сержусь. Притом я действительно сержусь. Удар еще отдается в моем сердце. — Вам будет большой честью, государь, — продолжала молодая женщина, — если вы не сделаете вреда моему несчастному мужу. Продолжайте удерживать его вдали от меня, только бы он не страдал. — Но я не виноват в его отсутствии! — вскричал король. — Я думал, что это вы сыграли с ним эту штуку. — В самом деле? — сказала Габриэль. — И я в этом неповинна; что же такое случилось с ним? Ее прервал приход брата Робера, который пришел встретить короля и оставил нескольких человек, видневшихся издали у дверей большой залы монастыря. — Как жаль, что надо ехать натощак, — сказал король, — когда приехал обедать у друзей. — Преподобный приор, — сказал брат Робер, — приготовил закуску для вашего величества. Хорошо ли я сделал, что велел ее подать под деревьями у фонтана? — Ах да! — вскричал Генрих. — На воздухе под чистым небом! Там видишь друг друга лучше, глаза искреннее, на сердце легче. Вы сделаете мне честь участвовать в этой закуске. Это будет вашим первым хорошим поступком. — Позвольте мне, государь, — сказала Габриэль, — пойти утешить моего отца. — Ненадолго!.. Воротитесь скорее, потому что мои минуты сочтены. Габриэль ушла. Женевьевцы накрыли на стол в боскете, откуда Эсперанс и Понти скромно ушли при их приближении. Король подошел к женевьевцу и посмотрел на него с дружеским упреком. — Вот как меня любят и служат мне в этом доме! — проговорил он вполголоса, указывая на Габриэль. — Я имел здесь драгоценное сокровище, а его отдали другому! О брат Робер! У меня решительно здесь есть враги. — Государь, — возразил женевьевец, — вот что отвечал бы наш приор вашему величеству: «Похитить молодую девушку у ее отца — преступление гнусное. Похитить жену у мужа — только грех, а когда жена его была выдана замуж насильно, грех уменьшается». — Один Бог без греха, — отвечал король, улыбаясь, — а между тем Габриэль замужем. — Ведь и ваше величество женаты. — О! Я когда-нибудь разведусь с мадам Маргаритой. — Если вы можете это сделать со знатной принцессой, поддерживаемой папой, тем более вы можете развести мадам Габриэль с простым дворянином. До тех пор все пока к лучшему. — Кроме того, что муж все-таки муж, то есть опасен для жены. — Присутствующий, может быть, но отсутствующий? — Он воротится. — Вы думаете, государь? А я не думаю. — По какой причине? — Ваше величество слишком рассержены, и этот несчастный знает, что если он явится, то погибнет. — Он прячется! — вскричал король в порыве гасконской веселости. — Где это? Скажи. — Как бы не так!.. — возразил женевьевец с комической серьезностью. — Чтобы я выдал его вашему мщению! Это вопрос тирана. Я обещал спасти жертву и спасу ее, хоть бы вы требовали моей головы. Сказав эти слова с величием, он потряс огромной связкой ключей, висевшей у него на поясе. — О брат Робер! Вы все тот же, — сказал король, смеясь и растрогавшись. — Я забыл доложить вашему величеству, — перебил женевьевец, — что граф Овернский ожидает вашего соизволения с дамами и кавалерами… — Граф Овернский? Что ему нужно от меня?.. — спросил король. — Он скажет вам это, без сомнения, государь; вот он идет со своей компанией.Глава 29 НЕОЖИДАННЫЙ ЭФФЕКТ
По знаку говорящего брата дамы, сопровождавшие графа Овернского, подошли; Богу известно, с какой радостью они достигли цели своих желаний. Генрих был слишком счастлив, чтобы не быть любезным. Он ласково принял графа Овернского и приветствовал дам словами: «Какие любезные дамы!», что окончательно победило д’Антрага, уже очень расположенного к самому пылкому роялизму. — Я имею честь представить вашему величеству мою мать, — сказал граф, указывая на Марию Туше. Король знал эту знаменитую особу и поклонился, как человек, умеющий прощать. — Мой отчим, граф д’Антраг, — продолжал молодой человек. Отчим согнулся на две равные части. — Мадемуазель д’Антраг, моя сестра, — докончил граф, взяв за руку Анриэтту, трепетавшую от внимательного взгляда короля. — Прелестная особа, — прошептал Генрих, который как знаток осмотрел наряд и красоту молодой девушки. Граф Овернский приблизился к королю с улыбкой. — Ваше величество, узнаете ее? — спросил он. — Нет, я никогда не видал столько прелестей. Граф наклонился к Генриху и шепнул ему на ухо: — Ваше величество, помните понтуазский паром и ту хорошенькую ножку, которая так долго нас занимала? — Как не помнить? — вскричал король. — Но разве эта очаровательная ножка… — В тот день, государь, мадемуазель д’Антраг возвращалась из Нормандии и имела честь встретиться в Понтуазе с вашим величеством. — Вы мне этого не говорили, Оверн. — Я еще не знал моей сестры. Во время этого разговора, довольно странного, Анриэтта, потупив глаза, краснела, как земляника. Граф д’Антраг хорохорился, как павлин; Мария Туше с величественной важностью делала вид, будто ничего не слышит, чтобы не стесняться самой и не стеснять других. Король, которого всегда приводили в упоение прекрасные глаза, вскричал: — Вы хорошо сделали, д’Оверн, что не поскупились на ваши семейные сокровища, тем более что присутствие этих дам здесь опровергает слухи о Лиге, что очень не шло к именам д’Антраг и Туше. Пришла очередь родителей покраснеть. — Государь, — пролепетал д’Антраг, — ваше величество, можете ли подозревать нашу почтительную верность? — Э! Э! — с улыбкой возразил король. — Во времена междоусобных войн кто может ручаться за себя? — Государь, — торжественно отвечала Мария Туше, — католический король — король всех добрых французов, и мы совершили четыре лье верхом, чтобы объявить об этом вашему величеству. — Вот это прекрасно! — весело вскричал Генрих. — Мне нравится этот ответ, он откровенен. Вчера я не годился даже быть брошенным испанцам; сегодня да здравствует король! Vive le roi! Вы правы; если бы мое отречение принесло мне только приветствие прекрасных дам, я радовался бы ему. Сегодня не то, что вчера, похороним вчера, потому что оно не нравилось моим прелестным подданным. — Да здравствует король! — вскричал с восторгом д’Антраг. — О, король одним словом завоевывает сердца, — сказала Мария Туше с жеманным видом, который возбудил бы ревность в Карле IX, а сейчас раздосадовал Анриэтту. — Мадемуазель д’Антраг ничего не говорит, — заметил король. — Я много думаю, государь, — отвечала молодая девушка с таким взглядом, в сравнении с которым взгляд ее матери был только блуждающим огоньком. Король, которого все эти любовные стычки приводили в восторг, поблагодарил Анриэтту поклоном более чем вежливым. — Мне кажется, что мы подвигаемся хорошо, — шепнул граф Овернский на ухо д’Антраг. Брат Робер, который во время этой сцены все видел, не подавая вида, послал одного женевьевца доложить королю, что стол накрыт. — Это правда, я забыл голод, — сказал Генрих с любезностью, — пойдемте, милостивые государыни; дорога, должно быть, возбудила в вас аппетит. Мы попробуем монастырского вина. Антраги чуть не задохнулись от радости при этом приглашении. Гордость, скупость, разврат наполняли радостью все их поры; они воображали уже себя на троне. — Вот прелестная хозяйка, которая будет нас угощать, — сказал Генрих, указывая на Габриэль, которая, великолепно прекрасная, шла по аллее, залитая солнцем, которое она затмевала. Сцена переменилась. Антраги побледнели. Анриэтта сделала невольный шаг, как бы для того, чтобы сразиться с подходившей соперницей. Она рассмотрелачерты, осанку, стан, руки, ноги, наряд — одним взглядом, замечательным всей ненавистью, и из бледной Анриэтта помертвела, потому что все, что она увидала, было несравненно и совершенно. Испуганный д’Антраг шепнул своему пасынку: — Это кто такая? — Боюсь, что это новая страсть короля, — сказал граф, — это д’Эстре, о которой я вам говорил. — Она также хороша, — прошептал д’Антраг. — Не правда ли? — обратился он к жене. — Она блондинка, — отвечала Мария Туше с презрением, которое не успокоило этих господ. Король взял за руку Габриэль и повел ее к столу. Дамы задрожали от бешенства, когда Генрих, вместо того чтобы представить им Габриэль, представил их молодой женщине, которая поклонилась гостям со скромной грацией и со спокойствием, которое привело их еще в большее отчаяние, чем красота. Король сел, посадив Габриэль по правую свою руку, а Марию Туше — по левую; Анриэтта села напротив, между отцом и братом. Ей оставалась возможность пронзать своими взглядами, как ударами шпаги, эту незнакомку, которая отняла у нее ее место по правую руку короля. Генрих налил себе вина и сказал: — Я пью за счастье новой маркизы де Лианкур, которая вчера называлась мадемуазель д’Эстре. Все последовали примеру короля, но Анриэтта даже не дотронулась до чаши губами. — Надо вырвать этот цветок, прежде чем он разрастется, — шепнул граф Овернский своей матери, между тем как король улыбался Габриэль. — Ускорьте! — Государь, — сказала Мария Туше, — наше посещение имело двойную цель. Дело шло не только о том, чтобы представить вашему величеству наши смиренные поздравления, но предложить королю наши услуги в ту минуту, когда начинается кампания. Повсюду разнеслись слухи, что ваше величество идет на Париж, а у вас нет ни лагеря, ни главной квартиры, достойной такого великого государя. — Это правда, — сказал Генрих, еще не понимая цели этой речи. — Я часто слышала, — продолжала Мария Туше, — от людей, опытных в войне, что одна из лучших позиций около Парижа — это пространство между дорогой сен-дениской и Понтуазом. — Это тоже правда. — У нас там есть дом довольно простой, но удобный и укрепленный против всех нападений. Какая честь для нас, если бы ваше величество удостоили выбрать его своим убежищем! — Это, кажется, Ормессон? — сказал Генрих. — Да, государь. Обрадуйте все наше семейство, приняв его. Это дом исторический, государь; покойный король Карл IX любил там бывать иногда, и много деревьев насажено там его королевскими руками… Скажите одно слово, государь, и этот дом сделается знаменитым навсегда. Генрих смотрел на пылающие глаза Анриэтты, которые очаровывали, изображая мольбу. — Оттуда, — вскричал д’Антраг, чтобы заставить короля решиться, — видны все дороги! — А сюда можно доехать в полтора часа, — прибавил граф Овернский. — Не считая того, что король найдет в Ормессоне комнаты для всех особ, которых захочет там поместить, — продолжала Мария Туше. В этой последней фразе заключалось так много! Она обещала так вежливо угодливость, которую слишком часто требует ложное положение влюбленных, что Генрих уже колебался, спрашивая взглядом Габриэль. Вдруг он увидал позади Анриэтты в нескольких шагах капюшон говорящего брата. Этот треугольник из серой шерсти стал покачиваться, как бы говоря: нет! нет! нет! «Шико не хочет, чтобы я ехал в Ормессон, — подумал Генрих с удивлением, — он должен иметь на это свои причины». — Невозможно, — отвечал он с любезной улыбкой. — Порядок моих планов не позволяет мне сделать то, чего вы желаете. Я тем не менее остаюсь вам обязан. «Хорошо», — согласно закивал капюшон женевьевца. «Вот я теперь дошел до роли приора Горанфло, — подумал король с улыбкой, которую никто не мог понять, — с той лишь разницей, что я говорю за говорящего брата». Разочарование, изобразившееся на всех лицах, показало Генриху, как высоко было уже воздвигнуто здание, которое его отказ заставил обрушиться. «Опять побеждены! Мы придумаем что-нибудь другое», — подумал граф Овернский. Габриэль в своей простодушной невинности обводила вокруг любезными, ласковыми взорами, которые одним своим отблеском могли бы смягчить все эти яростные взгляды тигров. Анриэтта решилась напасть на ум короля, потому что ничто не могло поколебать его сердце. Она уже начала один из тех отрывистых разговоров, где ее гений, сверкавший коварством и смелостью, должен был добыть ей торжество. Уже король, более внимательный, возражал на эту бомбардировку, когда говорящий брат, приблизившись к Анриэтте, сказал ей добродушно: — Не вы ли потеряли что-то? — Я? — воскликнула Анриэтта с удивлением. — В дороге… вещицу. — Может быть, мой браслет. — Его вам принес какой-то дворянин, который нашел его. — Дворянин? — спросил король. — Я не знаю его имени, — наивно сказал брат Робер. — Пусть придет и отдаст браслет, — сказал Генрих. Говорящий брат сделал знак другому женевьевцу, и большими шагами приблизился человек, присутствие которого вырвало у Анриэтты и у ее матери движение гнева, скорее сдержанного. Это был де ла Раме с браслетом в руках. — Что это с ла Раме? — шепнул граф Овернский д’Антрагу. — Он с самого утра следует за нами, как муха. — Какое злое лицо! — шепнул король Габриэль, смотря на бледного молодого человека. — Знаете ли, на кого он похож? — спросил он у Марии Туше. — Нет, государь. — Вы не находите, — отвечал Генрих, — что этот молодой человек похож на моего покойного шурина Карла Девятого? — В самом деле, немножко, — отвечала Мария Туше, закусив губы. Ла Раме не подвигался вперед, он остался вполовину закрытый деревьями, все держа браслет, которого Анриэтта д’Антраг не спрашивала у него. Он добился наконец, чего так горячо желал — наблюдать за Анриэттой в том самом месте, где она менее всего ожидала этого. В самом деле, победоносная неотступность этого неутомимого стража начинала пугать молодую девушку, которая искала помощи в холодном и неумолимом взгляде матери. Это беспокойство, однако, осталось незамеченным по милости привычки к притворству, которое составляло часть всякого светского воспитания. Ла Раме подал браслет Анриэтте, которая даже не поблагодарила его. Генрих поговорил еще несколько минут о сходстве его с покойным королем. Дамы успокоились, граф Овернский принял одно намерение, д’Антраг обещал выгнать несчастного молодого человека, который осмеливается походить на короля Карла Девятого, а ла Раме воспользовался этой паузой, чтобы удалиться на несколько шагов и продолжать, не будучи замеченным, свою роль наблюдателя. Анриэтта, как будто этот злой гений, удалившись от нее, возвратил ей ум и жизнь, начала свои остроты; более смелая, потому что опасность была велика, она обнаружила столько тонкости и привлекательной злости, что король, сам остряк и гасконец, начал смеяться и платил эпиграммой за эпиграмму этой сирене, всегда готовой на возражение, часто победоносной и никогда не побежденной, которая начала, как всякий добрый полководец, через час ровной битвы выдвигать свой резерв для того, чтобы взять позицию и выгнать неприятеля. Габриэль сначала смеялась вместе со всеми; она тоже вставляла свое благоразумное и нежное словцо в общий разговор, но сражение перешло в дуэль, где Анриэтта и король остались одни; она замолчала, как все люди с кротким и серьезным умом, который пугается шума; она улыбалась, потом перестала улыбаться и только слушала, ослепленная и утомленная этим неиссякаемым вулканом взрыва и искр. — Блондинка побеждена, — шепнула Мария Туше на ухо сыну. Вдруг тень говорящего брата встала между Анриэттой и солнцем. — Государь, эти молодые люди, которых вы спрашивали, ждут вас. — Какие молодые люди? — спросил Генрих, совсем развлеченный очаровательницей и, может быть, даже сердившийся на брата Робера за то, что он помешал. — Я не звал никого. — Те, которых ваше величество хотели поблагодарить, — отвечал брат Робер, не испуганный удивлением короля. — А! Я знаю, — сказала Габриэль, покраснев, на ухо Генриху Четвертому, — этот гвардеец, его друг… — Очень хорошо, очень хорошо! — вскричал Генрих. — Да, это наши друзья; позовите их, брат Робер, они не лишние, я охотно увижу их до моего отъезда. Один женевьевец ушел по знаку говорящего брата. Генрих обернулся к графине д’Антраг и к Анриэтте. — Я хочу, чтобы вы их видели, особенно одного из них. Один — мой гвардеец и не имеет ничего необыкновенного, но раненого можно назвать очаровательным молодым человеком. — Раненого? — сказали вдруг несколько голосов. — Он ранен? — Да, Крильон, который любит его и покровительствует ему, — между нами, это превосходная рекомендация — велел отнести его сюда, где эти достойные монахи вылечили его каким-то чудом. Право, это благословение небесное, что он избегнул смерти, потому что рана, говорят, была опасна, не правда ли, брат Робер? — Удар ножом в грудь, — сказал женевьевец, который холодно осмотрелся вокруг, по-видимому, не замечая ни трепета Анриэтты, ни краски ее матери, ни судорожного прыжка ла Раме за скрывавшим его деревом. — Вот эти молодые люди, — прибавил король, — судите сами, милостивые государыни, не отличается ли тот, о котором я говорю, красотой, которая может заставить позавидовать женщину. — Посмотрим на это чудо, — сказала Мария Туше. — Полюбуемся этим фениксом, — весело прибавила Анриэтта. Вдруг Мария Туше побледнела и уронила стакан, который держала в руке. Анриэтта, которая, чтобы увидеть поскорее, обернулась, вскочила, как бы при виде страшной опасности. Она вскрикнула, и ее пальцы судорожно ухватились за стол, удерживавший все ее тело, согнувшееся назад. Эсперанс и Понти, которых вел служитель, вошли в боскет. Эсперанс, который шел первый, поклонился знаменитому гостю. Когда он пригляделся, он увидал напротив себя в трех шагах помертвевшее лицо Анриэтты. Он схватил за руку Понти и остался пригвожденным к земле. На крик молодой девушки хриплое восклицание отвечало за деревьями. Ла Раме также узнал призрак Эсперанса и не спускал с него испуганного взора, как Макбет смотрит на тень Банко, как угрызение смотрит на наказание. Ни д’Антраг, ни граф Овернский ничего не понимали в этой сцене. Король, сказав Эсперансу несколько пустых слов, взглянул на монаха, который отбросил в эту минуту свой капюшон с лица, чтобы лучше рассмотреть каждую подробность зрелища, и его любопытная и лукавая физиономия заставила Генриха подумать: «Должно быть, здесь происходит нечто необыкновенное, потому что наш старый друг забыл на минуту роль брата Робера». Анриэтта, напрасно стараясь преодолеть свое волнение всеми силами воли своей энергической натуры, не сопротивлялась более страшному огню, сверкавшему из глаз Эсперанса. Она зашаталась, рука, поддерживавшая ее тело, ослабела, и, если бы отец не поддержал ее, она упала бы навзничь. Бледность Марии Туше тотчас объяснилась болезненным состоянием ее дочери. Габриэль с живым состраданием старалась привести в чувство Анриэтту д’Антраг, а граф Овернский старался только направить на хороший путь мысли короля, который делал уже затруднительные вопросы. — Что сделалось с этой молодой девушкой? — говорил Генрих, смотря на брата Робера. — Неужели вид нашего Адониса до такой степени поразил ее любовью? — Мадемуазель д’Антраг, верно, увидала какого-нибудь паука, — спокойно сказал женевьевец, — или гусеницу, которых так много в нашем саду. — Именно! — вскричал д’Антраг, стараясь ободрить дочь и жену. — Не правда ли? — обратился он к жене. — Вероятно, так, — сказал король, становясь все более недоверчивым при виде всеобщего замешательства. Мария Туше пролепетала несколько бессвязных слов. — Предоставим дамам заботиться о дамах, — прибавил Генрих, — а я поеду. Пусть никто не беспокоится провожать меня; здесь все слишком заняты. — Мы, по крайней мере, проводим ваше величество до ворот, — сказали граф и его отчим. Генрих нежно поцеловал руку Габриэль и отправился в путь в сопровождении обоих д’Антрагов и говорящего брата. Эсперанс и Понти показывали друг другу на ла Раме, неподвижного вдали, как змея, удерживаемая львом. Достаточно будет в нескольких словах объяснить положение каждого из действующих лиц в этой картине. Габриэль следила глазами за королем и с любопытством смотрела то на Анриэтту, то на Эсперанса. Мария Туше старалась заставить дочь опомниться. Анриэтта, сделавшись спокойнее после отъезда короля, не допускала никакого объяснения; в глубине боскета Эсперанс и Понти, а напротив них — ла Раме. — Вот злодей, — сказал Понти своему другу, — он идет мне наперекор! — Ты ошибаешься, — возразил Эсперанс, — он подпрыгивает от страха. — Пускай бы его совсем сделался мертв, месье Эсперанс. — А вспомни наши условия. Никогда ни одного слова, которое могло бы открыть тайну Анриэтты. Посмотри на ее бледность, вспомни ее обморок и признайся, что она приняла меня за призрак. Неужели ты думаешь, что я не мщу за себя? — Это мщение умеренное, — сказал Понти. — Для меня его достаточно. — А для меня нет, — прошептал гвардеец. — Во всяком случае, если вам не о чем спрашивать эту девицу, я должен свести счеты с этим молодцом. Он хотел, чтобы меня повесили! — Вы сделаете мне удовольствие, Понти, — строго сказал Эсперанс, — оставить вашу шпагу в ножнах. Это дело касается меня одного. Прошу не спорить, оставьте шпагу в ножнах. — Хорошо, — отвечал Понти, — пусть будет по вашему желанию. — Ты обещаешь? — Я клянусь. — Ну, следуй за мной, мы загоним негодяя в какой-нибудь угол, и я скажу ему два слова, которых он не забудет никогда. Понти, которого эти переговоры приводили в нетерпение в таких обстоятельствах, где одни удары казались ему возможной развязкой, пожал плечами, ворча против этих великодушных безумцев, которые служат вечною добычей подлых и злых людей. Эсперанс взял его за руку и пошел к ла Раме, щеки которого бледнели, по мере того как его враги приближались к нему. Но прежде чем они подошли к нему, Анриэтта, которая поняла, не слыша, каждый оттенок этого разговора, вырвалась из рук матери и Габриэль, подбежала к Эсперансу, схватила его за руку и увлекла быстрее мысли из беседки, где догадливая Мария Туше удержала Габриэль. Таким образом, все объяснения сделались возможными. Эсперанс старался сопротивляться, но Анриэтта и на этот раз была непреодолима. Как только Понти сделался свободен, он перебежал через сад и скрылся в нижнем жилье монастыря, говоря себе с мрачной иронией: «Я придумал кое-что. Эсперансу ничего не буду говорить, и шпага останется в ножнах». Что он хотел сделать так скоро и так далеко, мы сейчас увидим. Только ла Раме этого не подозревал, и Эсперанс не догадался бы даже, если бы его внимание не было все поглощено Анриэттой. Отойдя на такое расстояние, где нельзя было их слышать, Анриэтта остановилась и, смотря на Эсперанса глазами, полными непритворных слез, вскричала: — Извините! О, извините! Вы, наверное, не обвиняете меня в ужасном приключении, которое чуть не стоило вам жизни! — Конечно, я вас не обвиняю, — отвечал Эсперанс спокойным тоном, — ни в том, что вы сами хотели меня убить, ни в том, что вы подвели меня под нож. — В чем же вы меня обвиняете? — Мне кажется, я ничего вам не сказал. Я нахожусь в этом монастыре, для того чтобы выздороветь. Я вас не призывал сюда, вы приехали сюда случайно; вы меня видите, это просто потому, что я здесь. — Вы живы. О, слава богу, это угрызение перестанет отравлять мои ночи! — Я очень рад, что невольно буду способствовать тому, чтобы сделать лучше ваш сон. Но так как вы успокоились и ваши ночи, как вы говорите, будут теперь очаровательны, нам не о чем говорить друг с другом. Поклонимся же вежливо. Я имею со своей стороны честь вам кланяться. Вот ваша матушка смотрит в эту сторону, будто вас зовет. — Дело идет не о моей матери. Она должна быть очень счастлива, если мне удастся уговорить вас! — с бешенством вскричала Анриэтта. — Как это можно? Такая строгая мать! Вы компрометируете себя в ее глазах, разговаривая со мной. Эта ирония заставила Анриэтту подпрыгнуть, как бы от удара шпоры. — Ради бога, — сказала она, — изливайте на меня ваш гнев, даже упреки, даже оскорбления, это можно простить в человеке, так жестоко оскорбленном, но сарказмы, презрение… О милостивый государь! — Почему же мне иметь к вам гнев? — возразил Эсперанс. — Если бы из ревности с кинжалом в руке вы поразили меня в грудь, я опасался бы вас, но не презирал; но помните ли вы эту женщину, эту гиену, эту воровку, которая наклонялась над моим телом? Вы, может быть, ее забыли, а я буду помнить ее всегда. Я не хочу иметь ничего общего с этой женщиной. Ступайте в вашу сторону, а мне позвольте жить в моей стороне. — Я струсила, я испугалась. — Какое мне дело до того? Я не прошу у вас оправдания. Моя рана почти зажила, смотрите. Он раскрыл свою грудь, на белой поверхности которой виднелся шрам, еще красный. Она задрожала и закрыла лицо руками. — Вы видите, я не имею более права сердиться на убийцу. Страдание тела, жгучая боль, пятнадцать ночей горячки, бреда — что это такое? Это награда за часы наслаждения, упоения, которые дала мне моя любовница, мы квиты. А душа — это другое дело! Он снова поклонился и повернул в поперечную аллею, она удержала его. — А если я вас люблю, — закричала она, — если я вас нахожу красивым, правдивым, великим, если я смиряюсь, если вся жизнь моя зависит от вашего прощения, если с тех пор, как вы меня оставили — о, оставили каким образом! — если с той страшной минуты, как я опомнилась, когда не нашли ваше тело, когда моя мать и этот ла Раме проклинали, угрожали, если после этой адской ночи, Эсперанс, я не спала! Смейтесь, смейтесь… Если я думала только о том, чтобы отыскать вас — живого или мертвого! Мертвого для того, чтобы броситься на колени на вашей могиле и отдать вам мое сердце в искупление моей вины; живого, чтобы взять вас за руку, как я делаю теперь, и сказать вам: «Прости, я была честолюбива, я ласкала химеры, которые сушат сердце; прости, я была то демоном, то легкомысленной женщиной, то существом, способным на все доброе, которое может сделать ангел. И не только прости, Эсперанс, — ты ведь не создан из желчи и грязи, как все мы, — полюби меня опять, и я возвышусь любовью до такой высоты, что с этих новых сфер мы не будем более видеть земли, где я была преступна, где я чуть было не заслужила твоей ненависти, твоего презрения. Эсперанс, умоляю тебя, минута торжественна! Завтра и для тебя, и для меня будет уже поздно. Забвение, надежда, любовь!» Глаза его были опущены в землю, как тень Дидоны, которую умолял Эней. — Ты будешь отвечать, не правда ли? — сказала она. — Ты заставляешь меня ждать, ты хочешь меня наказать, но ты ответишь. — Сию же минуту, — отвечал молодой человек твердым голосом и со светлым взглядом, который испугал Анриэтту, до того он проникал в бездну ее мыслей, которую она ему раскрыла. — Любовь, которой вы у меня требуете, не чувствуете вы сами. Не прерывайте меня. Это остаток молодости, последнее трепетание фибр, которых лета еще не успели совсем окаменить. Эта любовь не что иное, как раскаяние, что вы чуть не были причиной смерти человека. Это умиление — результат страха, который причинил вам мой призрак. — О, вы употребляете во зло мое унижение! — Нисколько, я говорю вам правду, я дорого заплатил за эту правду. Я даже не воспользовался бы им, поверьте, если бы не надеялся, что зеркало, грубо представленное, привлечет ваше внимание на отчаянную действительность вашего воображения, и буду издали радоваться, что ваши успехи к добру, если вы их будете делать, послужат на пользу другим. И хотя вы говорите, что вы любите меня, и просите, чтобы я вас любил, я столько же на это неспособен, как и вы сами. Моя любовь — это был сок, который иссяк вместе с моей кровью. Может быть, он бы и остался, если бы какой-нибудь корень был посажен в моем сердце, но объявляю вам — я избегаю слов, которые могли бы оскорбить вас, положив руку на это сердце, столько раз соединявшееся с вашим, я не чувствую никакого биения, кроме правильного биения жизни, упорной, надо думать, потому что она устояла против такого жестокого нападения. Я не люблю вас более и, по совести, не думаю, чтобы вы имели основание упрекать меня в этом. Анриэтта, сдвинув брови от невыразимого страдания, попыталась, однако, сделать последнее усилие. — По крайней мере, — сказала она, — если вы заставляете меня просить милостыню, я представлю вам все мои права на ваше милосердие. Вы сейчас вызывали воспоминания, которые заставляли меня дрожать. Это время любви, исчезнувшей навсегда, эти часы страсти, когда ваше сердце, теперь оледеневшее, билось так сильно, не будут ли ходатайствовать за меня? И вместо того, чтобы повторять со мною: забвение любви, не согласитесь ли вы протянуть мне руку, повторяя: забвение и любовь? Эсперанс устремил свой искренний взгляд на черные, глубокие глаза Анриэтты; он прочел в них какую-то зловещую жадность. Может быть, эта женщина была в эту минуту так же искренна, как и он; но небо, которое дало ей власть поджигать, увлекать сердца, отказало ей в способности убеждать, в очаровании усыплять недоверие. — Я сожалею, что не могу исполнить вашего желания, — отвечал он медленно. — Я не разделяю вашего мнения относительно степеней, установленных вами; дружба в моих глазах стоит любви, если еще не выше; она не есть остаток полинялой и обветшалой любви. Чтобы отдать кому-нибудь дружбу, надо, чтобы я совершенно был уверен в этой особе. Чтобы любить любовью, я соображаюсь только с моими глазами — со станом, с ногою, с лицом, которые меня очаровывают. Я вас любил, я в этом не раскаиваюсь, но я никогда не буду для вас другом. Не будем более думать об этом. Она побледнела и выпрямилась. — На этот раз, — сказала она, — вы не щадите во мне ни положения, ни пола. Вы меня оскорбляете, как будто я мужчина. — Вы этого не думаете. Моя натура не задорлива и не зла, вы это знаете… — В чем же моя дружба может вам повредить? — А в чем моя дружба может быть вам полезна? — Хоть для тех дней, когда нас сблизит случай. — О, эти дни будут все реже и реже! Наши звезды вращаются не в одну сторону. И притом, если мы встретимся, когда вы знаете, что я не умер, вы уже не будете чувствовать неприятного волнения, а я не буду чувствовать удивления, довольно естественного; мы вежливо повернемся друг к другу спиной и поклонимся еще вежливее, если вы желаете. — Я не желаю, если мне приходится желать одной, — сказала Анриэтта с надменностью, которая доказала Эсперансу, что лоск кротости лежал не очень густо на этой жесткой коре. — Итак, мне отказано, отказано наотрез? Эсперанс поклонился. — Во всех пунктах? Он опять поклонился. — Стало быть, нам остается только поговорить о делах, — продолжала Анриэтта, сжав зубы. Он посмотрел на нее с удивленным видом. — Да, милостивый государь, отказ в дружбе означает обещание ненависти. Вы меня ненавидите, очень хорошо. — Я этого не говорил, а сказал совершенно противное. Я повторяю: ни любви, ни дружбы, ни ненависти… — Фразы, увертки, тонкости, которыми меня обмануть нельзя. Не смотрите на меня с таким удивлением. Вы так же мало удивляетесь, как мало была я влюблена сейчас. Так как вы делаетесь теперь свободны, потому что я совершенно отказываюсь от вас, неужели вы намерены иметь меня вашей невольницей? — Моей невольницей? — Вы держите один конец цепи, которая постоянно будет сдерживать мои поступки, мою свободу, мою жизнь, цепи, которая бесславит меня. Разорвите ее, выпустите ее! — Я делаю все усилия, чтобы понять, — сказал Эсперанс, — и не могу. — Я вам помогу. Любовник, сохраняющий залог своей связи с женщиной, может погубить эту женщину, не правда ли? — А, понимаю! — вскричал Эсперанс. — Это ваша записка, не так ли? — Вы мне ответите, что она не с вами. — Это так. — Я этому верю. Пошлите кого-нибудь в Ормессон за этой запиской. Я взамен ее отдам бриллианты, которые вы забыли у меня. — Я не приму этих бриллиантов, — холодно сказал Эсперанс, — бросьте их в реку, рассыпьте по дороге, отошлите их ко мне, чтобы я отдал их бедным, сделайте с ними что хотите. А что касается записки… — Ну? — Вы не увидите ее никогда. Я не желаю иметь вас невольницей, как вы говорите, или заставлять вас краснеть при виде меня. О, обещаю вам, клянусь, поворачивать направо, когда увижу вас слева. Но я хочу сохранить против вас это страшное оружие. — Это подло! — вскричала Анриэтта со страшным взглядом. — Если верить вашим глазам, это скорее отважно. — Вы не хотите отдать мне этой записки? — Нет. — Ну! Я возьму ее у вас. — Пока вы меня не убили, пока я стою на ногах, пока во мне есть капля крови, чтобы защищаться, вы этого не сделаете. — Еще раз, подумайте! Эсперанс пожал плечами. — Не бойтесь меня, — сказал он спокойно. — Вы видите, что я вас не боюсь. — О, горе! — прошептала молодая девушка с ужасным движением руки. — Прощайте! Я вам скажу только одно: Эсперанс, я вас ненавижу! Берегитесь! — Вы сказали одно лишнее слово, — сказал Эсперанс, но Анриэтта уже быстро возвращалась в беседку. Она взяла под руку мать, даже не поклонилась Габриэль, которая осведомлялась о ее здоровье, а потащив с неслыханной силой величественную Марию Туше навстречу д’Антрагу и графу Овернскому, которые возвращались в беседку, проводив Генриха Четвертого, она повторила более десяти раз: — Едем прочь! Едем прочь! Между тем она бросала направо и налево беспокойные взгляды. — Чего вы ищете? — сказал ей граф сердитым тоном. — Уж не сделается ли с вами опять обморок? — Неловкий обморок! — прошептал д’Антраг. — Я ищу ла Раме, — сказала Анриэтта свирепым тоном. — Какое теперь дело до ла Раме? — отвечали оба придворные с досадой. — Спросите-ка нас лучше, что подумал король о вашем обмороке. — Король, — с живостью сказала Мария Туше, — знает, что молодая девушка может иметь нервные припадки. — Притом мне до этого нет никакого дела, — лихорадочно перебила Анриэтта. — Мне нужен ла Раме. Садовник, работавший в цветнике, услышал этот вопрос. Он видел, как молодой человек ждал и подстерегал долго возле беседки, пока Анриэтта разговаривала с Эсперансом. — Не ищете ли вы господина в зеленом полукафтане, который был здесь сейчас? — спросил он. — Именно. — Его позвали отсюда. — Кто? — Месье де Понти, королевский гвардеец, который здесь живет. — А! — тихо воскликнула Анриэтта. — Да, бледный молодой человек смотрел в беседку, а месье де Понти подошел и ударил его по плечу. Тот обернулся. Не знаю, что они говорили между собой, только они ушли вместе, да еще скорым шагом. — Хорошо, хорошо, — сказала Мария Туше, сжав руку дочери. — Мы его найдем. Пойдемте. Все семейство исчезло под портиком. Эсперанс, все силы которого истощились, упал на скамью. Он искал глазами Понти, потому что готов был лишиться чувств. Габриэль воротилась к отцу. Вдруг шум, похожий на топот кабана, который топчет кусты, заставил опомниться бледного молодого человека. Он увидал или, лучше сказать, угадал Понти, увидев безумца, запыхавшегося, расцарапанного, облитого потом, который ворвался в беседку и, обняв Эсперанса так, что чуть не задушил его, сказал ему хриплым голосом: — Прощай… до скорого свидания! Поклонись добрым братьям. Он убежал. Эсперанс схватил его за его разорванный полукафтан и закричал: — Ради бога! Что случилось? В каком ты состоянии?Глава 30 СОБАКА И ВОЛК
Вот каким образом Понти употребил свое время. После своего разговора с Эсперансом, мы видели, как он исчез. Однако ла Раме, которому сначала угрожали неприязненные взгляды обоих друзей, вдруг очутился свободен и один с той минуты, как Анриэтта взяла под руку Эсперанса. Садовник не ошибся: Понти следил с беспокойством за каждым движением Анриэтты и Эсперанса. О чем могли они говорить? Каким образом оправилась она так скоро от своего волнения — она, женщина, между тем как он, ла Раме, смелый и твердый, еще дрожал при виде своей жертвы, избегнувшей смерти? Разум ла Раме путался в соединении всех этих интриг. Он не мог следить в одно и то же время за хитрой гениальностью Антрагов, за находчивым гением Анриэтты, и, когда все это усложнилось от присутствия Эсперанса, от пожатия руки, которое ему расточала молодая девушка, от терпеливой угодливости Марии Туше, ла Раме уж ничего не понимал. Граф Овернский, король, Эсперанс, Ормессон, Сен-Дени, Безон плясали, как видения горячки, в его пустом мозгу, и действительно для сил одного человека было слишком много различных впечатлений. Ревности, ненависти, страха и религиозного фанатизма было достаточно, чтоб свести с ума четыре мозга. Молодой человек прислонился к дереву, как пленник к столбу, и ждал, чтобы свет и спокойствие воротились в его рассудок. Уже одна мысль явилась к нему ясно — подойти к разговаривавшим Анриэтте и Эсперансу, отвезти ее к матери, а с ним вступить в окончательное объяснение. Это намерение нравилось его инстинктам грубого владычества. Анриэтта, побеждаемая опасением огласки, уступит легко. Ее принудит к тому мать. А Эсперансу можно предложить загладить этот удар ножом ударом шпаги, когда он совсем выздоровеет. Вдруг чья-то рука была положена на плечо молодого человека. Он обернулся и увидал лукавое и улыбающееся лицо Понти. Он во второй раз видел днем это мужественное и странное лицо. В их ночной встрече в Ормессоне темнота мешала им хорошенько рассмотреть друг друга. Сейчас под руку с Эсперансом Понти не было видно сквозь листья. Так что они виделись лицом к лицу только в лагере и в саду женевьевцев. То, что лицо Понти сказало ла Раме, нельзя было бы выразить и во многих строках, однако это передал один взгляд. Ла Раме обернулся, положив руку на эфес шпаги. — Я вижу, — сказал ему Понти, — что вы меня поняли сейчас; как приятно иметь дело с умными людьми! — Милостивый государь, — отвечал ла Раме, — я вовсе не умен и не хочу терять время на то, чтобы стараться щегольнуть своим умом. Вам угодно говорить со мною, я готов. — Эта фраза стоит всех речей древности, — сказал Понти. — Но вы не предполагаете, чтобы я обнажил шпагу в двух шагах от дам? — Это вас стесняет? Стало быть, месье де ла Раме, вы очень переменились с того дня, как мы виделись с вами в последний раз. В тот день вы обнажили нож в присутствии двух дам. — Кричите громче, — сказал ла Раме со злобным взглядом, — вы мне докажете, что вы стараетесь, чтобы вас услыхали и помешали нам драться. — Ошибаетесь, между нами не может быть огласки, милостивый государь; мой друг решительно запретил мне это. Между нами будет только немое объяснение. Если же, однако, вы откажетесь следовать за мной, о, тогда я приму сильные меры. — Повторяю вам, что место дурно выбрано. — Кому вы это говорите? Я выбрал другое. Ла Раме вздрогнул. — Пойдемте, — сказал он. — Куда же мы пойдем? — вдруг спросил он. — Вы приметили, — отвечал Понти, — что я сейчас подошел к вам через сад? — Видел. — Вы видели, как я бежал и, верно, сказали себе: «Этот Понти не дурак, он приготовляет для меня что-нибудь». — Я имел эту мысль. — Я вам повторяю, что вы очень умны. Пойдемте же, не показывая вида. Пойдемте, как два влюбленных; дорогой я вам объясню мои маленькие хитрости. Ла Раме задрожал, что принужден оставить Анриэтту, разговор которой с Эсперансом дошел в эту минуту до крайней степени воодушевления. Но Понти любезно держал его за руку и вел к монастырским зданиям. Надо было идти. — Видите ли, — продолжал Понти, — я живу в этом монастыре уже довольно долго, так что успел узнать все закоулки и тайники. Не сумею вам описать, сколько мне нужно было хитрости, чтобы пробираться в кухню, для того чтобы украсть без ведома говорящего брата супы, бульоны, цыплят, которые подкрепляли бедного Эсперанса. Вы отняли у него столько крови! — Вы могли бы идти без всей этой болтовни, — заворчал ла Раме. — Это для того, чтобы дорога показалась вам не так длинна. Притом я отвечаю на ваш вопрос: куда мы идем? Мы идем к лесенке за кухней, обогнем капеллу и спустимся в подземный этаж, где находятся дровяные сараи. Успокойтесь, погреба гораздо ниже. Этот монастырь превосходно построен, погреба в три этажа. В эту минуту молодые люди вошли в коридор, где начиналась лестница, о которой говорил Понти и которую, может быть, наши читатели помнят, потому что по ней спускались говорящий брат и де Лианкур. Это действительно было место пустое, в которое проходил свет сквозь отдушину внутреннего двора. Ла Раме остановился, прежде чем спустился с лестницы. — Так как мы идем в это место, — сказал он своему проводнику, — с намерением недружелюбным, то позвольте мне принять предосторожности. — Какие же? — Во-первых, я обнажу мою шпагу. — Как хотите, а я, напротив, оставлю мою в ножнах. — Потом — вы пройдете вперед. — О, вы много требуете, милостивый государь! — сказал Понти. — Положим, у вас поскользнется нога, и без всякого дурного намерения вы упадете на меня, протянете руку, чтобы удержаться, и эта чертова шпага, которую вы держите в руке, войдет мне в тело, это огорчит вас и меня. Нет, устроим что-нибудь другое. — Почему я знаю, не приготовили ли вы какую-нибудь засаду в этой темноте? — Вы правы. Это можно предположить. Ну, оставьте вашу шпагу обнаженной. Но, чтобы доказать вам мое желание быть вам приятным, разделим наполовину: возьмите обе шпаги, вот и моя, и спуститесь первым. Вы согласны на это? Если бы лестница была широка, мы спустились бы рядом, но она узка. Ла Раме взял обе шпаги со свирепым удовольствием и начал спускаться задом, держа шпаги под мышкой, внимательно следя за движениями своего противника. Они дошли таким образом до длинного коридора, усыпанного тонким песком. Там царствовала очаровательная свежесть. Свет, пробивавшийся сквозь решетки, был синеват и отражался на старых стенах. — Посмотрите, — вскричал Понти, — как здесь прекрасно! Дверь, которую вы видите вон там, с железными запорами, вероятно, ведет в погреб с отборными винами. — Давайте уж скорее, — сказал ла Раме, — только коридор слишком узок, и наши шпаги будут касаться стен. — Коридор довольно широк для того, что я хочу делать, — отвечал Понти со странной улыбкой. — Померяем сначала шпаги. — Сколько формальностей! — сказал ла Раме. — Точно вы хотите выиграть время. Вот вам шпаги, меряйте. Он протянул их, говоря эти слова. Понти схватил их обе и бросил позади себя на десять шагов. — Что вы делаете? — вскричал ла Раме, отступая с ужасом. — А, — сказал де Понти, который вдруг изменил и физиономию, и тон, — ты думаешь, что я стану сражаться с тобою на шпагах! Потому что я назвал тебя умным человеком? Ты позволил привести себя сюда, как тройной дуралей! Шпаги! Как бы не так! Нож у тебя с собой? — Милостивый государь, — вскричал ла Раме, — я позову на помощь. — Попробуй, — сказал Понти, который одним прыжком бросился на него, схватил его за горло и прижал к стене. Но ла Раме был силен, страх удвоил его силы, он сделал сверхъестественное усилие и вырвался из сильных рук, которые начали его душить. — Издали или вблизи, — сказал Понти, подходя к нему со сжатыми руками, — я тебя схвачу. Напрасно отодвигаешься, у коридора выхода нет! На ла Раме страшно было смотреть; он согнулся, как дикая кошка, которая приготовляется прыгнуть. — Я не изменнически на тебя нападаю, — прибавил Понти, — посмотри на эту дверь и на железные запоры. Ты видишь их? Посмотри на веревку, которая на них качается. Я сейчас привяжу тебя к ней. Вот сюрприз, который я тебе готовил. — Негодяй! — заревел ла Раме. — На что ты жалуешься? Тебе двадцать лет, и мне тоже, я низок, ты высок. Ни у меня, ни у тебя нет шпаги; ты хотел повесить меня, теперь я в свою очередь хочу повесить тебя; только ты имеешь выгоду, которой я не имел в лагере: если бы я попался в руки профоса, я не мог бы сопротивляться, между тем как если ты хочешь сопротивляться, ты можешь иметь удовольствие повесить меня на веревку, которую я назначал тебе. Признаюсь, я этого не думаю и надеюсь, что я пересилю тебя. Ну, защищай же свою шею! Ну, царапай, кусай!.. Это битва собаки Понти против волка ла Раме! Он еще не кончил, как его противник устремился на него с бешенством и силою волка, с которым он его сравнивал. Это было страшное зрелище. Эти два человека, равные по мужеству, если не по силе, боролись несколько минут, которые истощили их силы и только увеличили их бешенство. Однако ла Раме, который был выше и, может быть, искуснее, повалил под себя Понти, которого держал на одном месте по милости природы, которою его длинные ноги и руки сумели воспользоваться. Но тогда Понти свернулся, как еж, схватил ла Раме поперек тела и швырнул его в воздух и, увидев, что он оглушен, потащил к веревке, к которой прицепил его в петлю, прежде приготовленную. Ни когти, ни зубы, ни пинки не устрашили гвардейца. Напрасно побежденный вырывал у него горстями его густые волосы, напрасно раздирал ему бока и лицо ударами шпор, Понти вздернул на веревку ла Раме, который скоро лишился и зрения, и слов. Но тогда, совершенно выбившись из сил и дойдя до того нервного раздражения, когда впечатления чувств удесятеряются, Понти услышал шаги в аллее сада, которая шла вдоль этого коридора; ему почудилась тень, наклонившаяся к отдушине, и даже послышался крик или трепет ужаса; тогда-то он взбежал на лестницу, спотыкаясь на каждой ступени, и явился слепой, глухой, разбитый, окровавленный в беседку, где ждал его друг. Эсперанс, увидев этот ужасный беспорядок, был поражен единственной мыслью, которая могла объяснить это в его глазах. — Ты дрался с ла Раме? — сказал он. — Где ты его оставил? Где твоя шпага? — Мы после об этом поговорим, поскорее обними меня. Дай мне один или два пистоля. Прощай! Мне не годится здесь оставаться. — Говори, ради бога, ты дрался с этим злодеем? — Нет, об этом нет и речи. — Стало быть, он тебя прибил? — Полно, нет. Со мной случилось небольшое несчастье; мы рассуждали вместе… — Об Анриэтте? — Совсем нет, об этом нет и речи; мы рассуждали, я уж не знаю — о чем, как вдруг он запутался. — В чем, боже мой? — Кажется, в веревке. Он упрям, и я тоже, он тащил к себе, а я к себе, так что лучше мне уйти. Прощай! — Ты убил его, несчастный! — Я боюсь. Прощай. Извинись за меня перед этим добрейшим братом Робером; скажи ему, что я терпеть не могу жить… — Ты меня оставляешь? — Ты человек взрослый, новобрачная будет служить тебе сиделкой. Обнимемся. Сказав эти слова, он убежал. Через десять шагов он остановился и воротился сказать: — Я возвращаюсь к кавалеру де Крильону; я расскажу ему все, и он будет снисходителен. Через три минуты он перескочил через забор, потом через стену, и уже не был в монастыре. Эсперанс, оставшись один, спрашивал себя с ужасом, что остается ему делать; он хотел идти к брату Роберу, рассказать ему все, все объяснить, как вдруг пришла Габриэль и вскрикнула при виде расстройства, которое она приметила в чертах молодого человека. — Я уверена, — вскричала она, — что разговор с мадемуазель д’Антраг сделал вам больше вреда, чем пользы! — Думаю, что так, — отвечал Эсперанс, на которого звук этого нежного голоса и веселость этого кроткого взгляда произвели действие музыки после грозы, лунного луча после молнии. — Мне хотелось бы быть настолько вашим другом, — сказала Габриэль, — чтобы узнать, что она вам говорила с такою колкостью. Вы оба были очень бледны. — Я всегда бледен. — Да, но она? Я чувствую, что мое любопытство вас стесняет, извините меня. — О! — отвечал Эсперанс, с признательностью сжимая тонкие пальцы, которые сжимали его руки. — Вы не любопытны и нисколько меня не стесняете; ваши глаза так ясны; в них отражается такая чистая душа, что я боюсь запачкать этот чудный кристалл моими черными горестями. — Вашими горестями? Эта женщина заставляет вас страдать? — Она заставляла меня страдать, но теперь это кончено. — Уходя, она как будто угрожала вам. Я виновата: я делала вид, будто слушаю ее мать, но я слушала ее. Она вам сказала: «Берегитесь!» — Это правда. — Ну, я испугалась за вас и обещала себе, как только помирюсь с моим отцом, я возвращусь к вам, чтобы вы меня успокоили. — Благодарю вас. — Ведь мы друзья, не правда ли? Вы оказали мне услугу… — Такую большую услугу, — сказал Эсперанс, улыбаясь, — что она должна навсегда приобрести мне вашу признательность. Несмотря на клятву, которую я дал себе: никогда не улыбаться на любезность женщины, ваше предложение меня прельщает, признаюсь, и я решаюсь на последнее испытание. Я принимаю. Вся моя душа летит навстречу к вашей дружбе. — Это решено, вы всегда будете говорить мне правду, вы будете подавать мне советы. Когда я буду страдать, вы будете меня утешать. — Увы! — печально сказал Эсперанс. — Вам, может быть, очень понадобятся мои утешения. — Отчего? — с испугом спросила Габриэль. — Потому что… потому что вы вступили на одну дорогу с той женщиной, о которой мы говорим, потому что вы для нее препятствие, а все, что ее стесняет… — Ну? — Она топчет ногами, не удостаивая сказать, как мне: «Берегитесь»! — О, вы будете меня защищать! — Меня не будет с вами; я должен сегодня же оставить этот дом. — Вы? — сказала Габриэль, бледнея, потому что ее сердце уже привыкло к этой однодневной дружбе. — Я должен ехать туда, куда едет мой друг, — сказал Эсперанс, чтобы не испугать женщину своими ужасными признаниями. — Но разве месье Понти уезжает? — Он уехал. — Ах, боже мой! — прошептала Габриэль. — Во всяком случае мы увидимся. — Я не буду там, где будете вы. Вы будете блистать, вы будете царствовать; блеск, ожидающий вас, ослепил бы мои глаза. Она, краснея, потупила голову. — Как, — сказала она голосом слабым и гармоническим, как отдаленное пение, — эта чудная дружба, сейчас обещанная, уже умерла? О, она, стало быть, еще не родилась! Эсперанс сделал движение, чтоб отвечать, но когда он встретил глаза Габриэль, он почувствовал, что эти глаза вырвали бы у него более слов, чем он хотел сказать, он отвернулся и не отвечал ничего. Вдруг наконце аллеи он увидал брата Робера, закрытого капюшоном. — Я должен вас оставить! — сказал он. — Я должен во всем признаться этому доброму монаху, а затем я должен уехать, и очень буду счастлив, если меня не прогонят отсюда с ужасом. — Боже мой! Что же случилось? — спросила Габриэль, следуя за Эсперансом навстречу брату Роберу. — Окажите мне последнюю милость: не слушайте того, что я буду говорить. — Вы совсем меня пугаете, — прошептала она. — Зачем вам пугаться? — сказал пронзительный голос брата Робера. — Этот господин уверяет, что он хочет уехать отсюда, — отвечала Габриэль. Эсперанс дрожал. — С какой стати? — спокойно спросил женевьевец. — Месье Эсперанс еще не выздоровел, ему еще нужны наши попечения. — Вот видите! — вскричала Габриэль. — Вы остаетесь! Мы остаемся! — Вы воротитесь сегодня в Буживаль, — сказал женевьевец. — Граф д’Эстре уведомил об этом нашего преподобного приора. Дороги свободны, и вы не имеете никакой причины оставаться здесь. Габриэль побледнела в свою очередь. — Отец мой ничего не говорил мне об этом, — пролепетала она, — но король думает, что я останусь здесь, и если воротится месье де Лианкур… — Месье де Лианкур не воротится, — перебил женевьевец. — Что касается опасностей, которым мы могли бы подвергаться, кажется, их уже нет в Буживале. Когда брат Робер сказал эти слова, взгляд его сверкнул, как светлый луч, заставивший покраснеть Эсперанса и Габриэль. Они поклонились друг другу. Эсперанс пошел за женевьевцем и воротился в свою комнатку, а Габриэль вернулась в новое здание. Их два вздоха раздались как один единодушный вздох в ушах говорящего брата.Глава 31 ТРИ ПАРТИИ
Друзья короля не ошиблись. Его отречение отняло у лигеров последний предлог. Парижский народ, зная, что король католик, не стесняясь, громко выражал мысль, что он предпочитает французского короля испанскому игу. Этот город, голодный, истощенный, растратил в пять лет всю свою силу и весь свой дух. В Париже начали спрашивать себя, чем Майенн лучше Крильона, Филипп Второй Генриха Четвертого. Но это было не по нутру испанцам, так же как и герцогине Монпансье. Итак, в Париже происходило большое волнение после громкого удара, нанесенного королем. В одно утро Париж проснулся, окруженный испанскими, валлонскими и итальянскими войсками. К Бриссаку, который старательно держал ворота запертыми, скоро явился герцог Фериа, начальник испанских войск, со свитой слишком многочисленной, для того чтобы она могла быть успокоительна. Парижский губернатор за занавесями окна видел, как во двор его дома явился этот раздушенный и расфранченный отряд, в котором отличался наш старый знакомый, дон Хозе Кастиль, капитан у одних ворот Парижа. При первом докладе его вестовых Бриссак приказал, чтобы приняли испанца. Мы знаем, что Бриссак возбудил недоверие, еще увеличившееся после его последнего приключения с Хозе Кастилем. Это утреннее посещение, цель которого он подозревал, нашло его, однако, вежливым и бесстрастным. Он весело встретил испанцев и ввел их в парадную залу, делая вид, будто не замечает смущения герцога Фериа и косых взглядов, которыми дон Хозе, оставшийся позади, разменивался с офицерами испанского штаба. — Ну, что говорят? — вскричал Бриссак. — К нам идет подкрепление? — И деньги, — отвечал герцог, приближаясь к Бриссаку. — Милости просим и то и другое. Однако ваши ворота заперты, — сказал герцог Фериа. — Их отворят, — весело сказал Бриссак. — Нам надо только бояться, чтоб денежная-то посылка не поубавилась чересчур, если придется кормить всех тех, кто голоден. — Король Филипп намерен употребить испанские дублоны не на то, чтобы кормить парижан, — отвечал герцог Фериа почти сухим тоном. Но Бриссак решил не обижаться. — Тем хуже, — возразил он, — пустые желудки дерутся дурно, а вы знаете, что король Наваррский приближается и скоро будет осаждать Париж. — Наших подкреплений будет достаточно, чтобы сдержать осаждающих, — перебил герцог, — и даже чтоб придать мужества осажденным. — Вы меня радуете этими добрыми словами, — сказал губернатор, — но сделайте одолжение, сообщите же мне, на что назначаются деньги, которые к нам едут? — На два предмета: на жалованье нашим солдатам и на то, чтобы уничтожить последнюю совестливость некоторых членов парламента. Бриссак сделал движение удивления, которое заставило испанца сказать: — Что вы чувствуете, милостивый государь? — Я чувствую очень сильное удивление. Вы имеете намерение подкупить парламент и таким образом показываете всем эти деньги. Стало быть, вы хотите, чтобы ваша сделка не удалась? — Зачем ей не удастся? — Потому что человек, которого подкупают, не любит, чтобы о продаже его чести и совести объявлялось на улице. — А я думал совсем другое. — А что такое? — Я думал, что эти деньги послужат к тому, чтоб возмутить чернь против парламента, который сопротивляется. — Я не совсем понимаю, — сказал герцог, смутившись от искусного маневра Бриссака. — Я объяснюсь яснее, — прибавил с улыбающимся видом губернатор, уверенный, что он отгадал. — Парламент парижский исполнен чести, благородства, патриотизма, по своему образу мысли, милостивый государь, по своему. Он уверяет, будто настоящим французским королем должен быть француз. Утопия, милостивый государь. Из этого следует, что до сих пор он мешкал со всеми этими переговорами с Испанией, старающейся дать корону инфанте. Вы, верно, это заметили? — Что же вы из этого заключаете? — Я заключаю, что время проходит, что деньги вашего милостивого государя истрачены, потому что надо было прибегнуть к другим. Множество испанцев легло на полях французских битв, надо было призвать других. Между тем, вместо того чтоб подвигаться вперед, ваша цель отодвигается назад; неприятель, я говорю о короле, делает каждый день успехи; он остался победителем довольно блистательно во многих битвах. Его отречение — поступок довольно ловкий, он подходит, он подходит мало-помалу. Что же делать? — Как, что делать? — вскричал герцог Фериа, как барсук, шея которого попала в капкан. — Извините, вы нехорошо поняли мою мысль. Выражение ускользнуло от вас. По-французски «что делать» значит: что будете делать вы? — Это может говорить политик, роялист, а я, испанец, не могу этого говорить. Я знаю, что я сделаю. Бриссак закусил губы и почесал себе нос; это была единственная уступка, сделанная его желанию выбросить этого фанфарона за окно. — Если вы знаете, что сделаете, любезный герцог, — сказал он, — то я этого не знаю и думал, что вы сделали мне честь посетить меня, для того чтобы мне сказать. — Я приехал вас спросить, зачем заперты парижские ворота. — Ведь они заперты всегда, вы это знаете лучше всех, потому что поставили там испанцев. — Ваши французы отказываются отворять их. — Это непременный закон во время осады, это также должно быть вам известно. Если бы французский отряд явился сегодня утром, чтобы войти в эти ворота, ваши испанцы не впустили бы его, как мои французы не впустили испанцев. — Я прошу вас впустить их. — Вот ключи, герцог, и вы никогда не впустите сюда столько испанцев, сколько я желаю. — Вот прекрасные слова, за которые я имею честь вас благодарить, — холодно сказал герцог. Принесли ключи испанцу, это значило отпустить его, но он еще не все исполнил. — Вы сейчас мне сказали, — сказал он тише и отводя Бриссака в сторону, — несколько слов, поразивших меня. «Ба», — подумал Бриссак. — Положение парламента меня беспокоит, а между тем воля повелителя должна быть исполнена. Великое слово было сказано, и Бриссак почувствовал, что уже не время хитрить. — Какая воля? — спросил он. — Надо, — сказал испанец, устремив на лицо губернатора проницательный взгляд, — надо — слышите ли вы? — чтобы сегодня же парламент принял нашу инфанту. — А если он не примет? — спокойно спросил Бриссак. Ему дадут двенадцать часов на то, чтобы решиться. — А после этих двенадцати часов? — Он должен принять, — сказал герцог. — А может быть, парламент обратится к парижскому гарнизону. — Это очень может быть. — А гарнизон, натурально, будет повиноваться своему губернатору. Герцог посмотрел прямо в лицо Бриссаку и спросил: — А губернатор кому будет повиноваться? Бриссак понял тогда более прежнего, зачем герцог приехал к нему с такой свитой и почему он спросил ключи вперед. — Я буду повиноваться герцогу де Майенну, — отвечал он с развязным видом. — Ну, это прекрасно. Сделайте одолжение, оденьтесь. А я в это время велю войти нашему подкреплению, и через час мы поедем вместе к герцогу де Майенну, который объяснится перед вами категорически. Бриссак поклонился герцогу со своей обыкновенной вежливостью и проводил герцога до самого крыльца. Он был даже так любезен, что особенно поклонился дону Хозе, который отвечал ему иронической улыбкой. Бриссак встал за своей обсерваторией позади занавесок, когда увидал на своем дворе носилки, появившиеся с конвоем лигеров, солдат и пажей. Лотарингский герб красовался на этих носилках. Из них вышла герцогиня Монпансье, так что герцог Фериа и герцогиня могли разменяться приветствиями, когда он спускался со ступеней, а она поднималась на них, опираясь на руку своего молодого фаворита Жана Шателя. Эта встреча внушила некоторое подозрение герцогу, потому что он оставил во дворе губернатора дон Хозе Кастиля с отрядом. Зоркий глаз Бриссака сосчитал двенадцать человек. Это не помешало ему побежать навстречу к герцогине и ловко избавить ее от неприятности хромать заметным образом. Герцогиня также оставила внизу двенадцать человек, которые дружески смешались с испанцами. — Любезный Бриссак, — сказала она, когда они остались одни, — я приехала открыть вам свое сердце. Мы ведь старые друзья. — Еще не такие старые, — сказал граф с убийственным взглядом. — Беарнец к нам подходит, испанец нас забавляет, парижане колеблются, надо нанести большой удар. «И она тоже», — подумал Бриссак. — Надо помочь мне принудить парламент посадить на трон моего племянника Гиза. — Э! Э! — Разве вы с этим не согласны? — Вы знаете, герцогиня, что я всегда согласен с вами, но это трудно. Испанцы также хотят французского трона. — Это не самое трудное, потому что испанцы помогают нам выдать замуж инфанту, не догадываясь о том — с их фантазией! Но надо де Майенна заставить согласиться обвенчать его племянника. Он не поддается на это, а между тем без него обойтись нельзя. — Я думаю, это господин Парижа. — Неужели? — спросила герцогиня. — До такой степени, что без него ни один лигер не пойдет… — Я это предвидела; сделайте мне удовольствие, пойдемте со мной к нему; вы ведь за меня, не правда ли, а не за него? — Еще бы! — Вы независимы. О, ваши войска повинуются только вам! — Хотел бы я посмотреть, чтобы было иначе. — Этого для меня достаточно. Объявите просто моему брату то, что вы мне сказали, в четырех словах. — И он согласится? — Что же ему делать между вами и испанцами? — Вы ангел ума. Я одеваюсь. — Я вас жду, — сказала герцогиня, с любезной улыбкой проходя в смежную комнату. Герцог Фериа воротился и очень удивился, найдя тут еще герцогиню, и еще более удивился, когда Бриссак объявил ему, что герцогиня Монпансье едет вместе с ним к герцогу де Майенну. Герцог нахмурил брови и хотел задать Бриссаку несколько вопросов, но тот уже подал герцогине руку, обтянутую перчаткой. Он повел ее к носилкам, сам сел на лошадь, и три отряда отправились к отелю де Майенна. Мы говорим «три отряда» единственно из вежливости к парижской партии, потому что ее представлял только Бриссак, лакей и солдат. Дорогою Бриссак свободно разговаривал то с герцогом, то с герцогиней, подмигивая ей, улыбаясь ему, так что привел в восторг обоих. Приехали к де Майенну. Там странное зрелище представилось глазам трех партий. Слуги седлали лошадей, носили сундуки и портфели; множество людей сталкивалось на лестнице, все двери были открыты; везде царствовали беспорядок, деятельность, суматоха. — Что это значит? — спросил герцог Фериа. — Мы сейчас узнаем! — вскричала герцогиня Монпансье, поспешно всходя на лестницу, которая вела в кабинет ее брата. Она нашла герцога совсем одетым; его огромное брюхо было стянуто портупеей, на голове была шляпа; он только что запирал шкатулку, которую брал его камердинер. Герцог де Майенн, несмотря на свою страшную полноту, был проворен, и глаза его блистали неиссякаемым огнем под густыми бровями. — Это моя сестра! — закричал он с притворным удивлением, увидев буйную герцогиню. — И герцог Фериа!.. Здравствуй, сестра. Герцог, я кланяюсь вам. А, это ты Бриссак. Говоря таким образом, де Майенн застегивал плащ и надевал перчатки. — Вы как будто уезжаете, брат, — сказала герцогиня. — Мы недолго вас задержим, — сказал испанец. — Да, — спокойно отвечал де Майенн, — я уезжаю. — Вы желаете, чтобы мы подождали вашего возвращения? — вскричал герцог Фериа. — Вам пришлось бы ждать слишком долго, — отвечал де Майенн с тем же спокойствием. — Куда же вы едете, монсеньор? — спросили оба гостя с беспокойством. — В Артура. — Вы уезжаете? — закричала герцогиня. — Вы оставляете Париж? — воскликнул герцог. — Как видите, — отвечал толстый герцог, между тем как Бриссак в углу не сводил глаз с этой любопытной сцены. — Это невозможно! — прибавила герцогиня Монпансье. — Вы не можете бросить ваших союзников! — сказал испанец, посинев от испуга. — Я никого не бросаю, — отвечал де Майенн. — Вы довольно здесь сильны, чтобы обойтись без меня, между тем как в провинции нужно мое присутствие. Вы не знаете разве, что де Вальроа сдал Руан королю, что Лион сам сдался? Если Париж сделает это? Послушайте, господа! — О, никогда! — заревела герцогиня. — Мы здесь, — с бешенством сказал испанец. — Если вы здесь, — сказал де Майенн, — тем более причины, чтобы я отправился в другое место. — Но объясните мне, брат… — Извольте, сестра. — Монсеньор, — прибавил герцог Фериа, — именем короля, моего повелителя… — Я имею честь отвечать вам, милостивый государь, — сухо перебил де Майенн, — что король, ваш повелитель, пусть поступает, как хочет, а я — как могу. Я ведь не испанец, насколько мне известно. — Но здесь есть гарнизон испанский, ваш союзник. — В кабинете обошлись без меня — и на поле битвы обойдутся, — сказал де Майенн. — Монсеньор, поймем друг друга. — Я совершенно понимаю себя. Ваш покорнейший слуга. — Вы дезертируете, — сказал испанец с бешенством. — Я нахожу вас пресмешным, — вскричал де Майенн, покраснев от гнева. — Как вы смеете говорить языком, на котором вы говорите так дурно? Я дезертирую, говорите вы… Узнайте, что во Франции называют дезертиром того, кто бросает французскую службу. Защищайте ваши ворота, у вас есть деньги и солдаты. А я еду с женой и детьми. Берегите себя, а я буду беречь себя. Герцог Фериа обернулся к Бриссаку. — Вы допустите, чтобы герцог оставил нас в таком затруднении? — Что же мне делать? — возразил губернатор добродушно. — Монсеньор — мой начальник. — Представьте ему по крайней мере… — Избавьте Бриссака от речей, он не оратор, и требуйте от него то, что он умеет делать. Я назначил его парижским губернатором, пусть его распоряжается. Вы желали объяснений, — обратился он к герцогине, — вот они. — Я жду других, — прошептала она, вне себя от бешенства. Герцог Фериа понял, что его высылают. Он находился в ужасном недоумении. Отъезд де Майенна был смертельным ударом для Лиги. Она состояла из двух элементов: из французского и испанского, и только первый заставлял лигеров терпеть второй; этот отшитый элемент изменял лигу в иностранное владычество. Не было уже французов против французов. Франция обрисовывалась с одной стороны, Испания с другой; Филипп II не предвидел этого решения. Сама герцогиня его не подозревала; ее бледность и нервный трепет достаточно это показывали. Когда герцог испанский, дрожа, растерявшись, вертелся туда и сюда, не решаясь уйти, несмотря на тройной поклон, сделанный ему де Майенном, герцогиня шепнула ему: — Позвольте мне одной поговорить с моим братом; я его остановлю. Бриссак поклонился и сделал вид, что хочет уйти, чтобы увести испанца. — О, вы можете остаться! — вскричала она. — Господин губернатор. Испанец, задетый за живое, вышел, не скрывая своего волнения и гнева. Бриссак, чуявший грозу, забился в самый маленький уголок. — Брат, — сказала герцогиня со стремительностью потока, — в здравом ли вы уме? — До такой степени, сестра, — отвечал Майенн, — что я скажу вам вещи, которые вас удивят. — Если они мне докажут, что, уезжая, вы не оставляете корону Беарнцу, я принимаю их. Между нами, в своей семье можно быть откровенными. — Да, я оставляю корону Беарнцу, но что ж это за беда? — Как, что за беда! — заревела герцогиня. — И это де Гиз говорит таким образом! — А то как же! Что всегда делали Гизы? Они хотели царствовать, не так ли? Мой дед пытался, и отец мой, и я, и вы, сестра, и ваш племянник — тоже. На этом свете каждый старается за себя. Пока я трудился для себя, я действовал мужественно, но с тех пор как дело идет о том, чтобы моего племянника сделать королем французским, я отказываюсь. Послушайте, у меня есть дети, я не хочу, чтобы они были ниже их кузена. — А, так вот причина! — прошептала герцогиня с мрачным презрением. — Да, вот, у меня нет другой. Вы удивляетесь? — Я стыжусь. — Вам следовало бы сохранить эту стыдливость для ваших собственных интриг. Что вы составляете заговоры против короля, чтобы отмстить за вашего брата, это пусть еще; но чтобы вы продавали испанцу вашего брата, чтобы утолить вашу алчность управлять вместо ребенка, этого я вам не прощу. Вы составили заговор с испанцем, выпутывайтесь вместе с ним. — Вы раскаетесь. — Я? Никогда! — Я восторжествую одна. — И прекрасно. — И докажу, что в нашей семье всегда есть герои. Тем хуже для вас, это буду я! — Я оставляю вам мою каску и мой кирас. — Каска слишком мала, кирас слишком велик. — Я оставил бы вам и мою шпагу, но она слишком тяжела, герцогиня. — У меня есть свое оружие, — возразила она, кипя от бешенства. — Это правда, нож брата Клемана. Прощайте, сестра. Герцогиня, пораженная этим ужасным словом, могла только отвечать взглядом змеи. Она гордо прошла перед Майенном и вышла со смертью в сердце. Бриссак подошел к герцогу. — Мне что делать? — спросил он. — Сделай, чтобы меня не остановили, — отвечал де Майенн. — Можете быть покойны, — сказал Бриссак и медленно воротился к испанцу и герцогине, которые держали совет во дворе, куда все шумно собрались. На пустой лестнице Бриссак приметил Арно, этого верного агента короля, который ждал его, переодетый лакеем. — А! — сказал он. — Ты пришел кстати; что ты хочешь? — В какой день король может приехать? — Завтра. — В котором часу? — В три часа утра. — В которые ворота? — В Новые. Арно проскользнул между другими и исчез.Глава 32 ПИСЬМО КОРОЛЯ
Герцог де Майенн уехал. Париж волновался от противоположных бурь. Лига, растерявшаяся от отъезда своего начальника, тихо произносила слово «измена». Роялисты, или политики, как их называли, поднимали голову и как будто говорили друг другу: время близко. Испанцы, предоставленные собственным средствам, удвоили бдительность. Это был для них вопрос жизни или смерти. Они чувствовали себя зависящими от первой прихоти толпы; нерешимость и раздоры парижан до сих пор составляли все их могущество. Герцог Фериа и его капитан, скрыв свою недоверчивость и свой гнев, ухаживали за герцогиней Монпансье, которую, может быть, они подозревали в сообщничестве с ее братом и которою, впрочем, они имели целью пожертвовать вместе с ним честолюбию Филиппа Второго. Со своей стороны герцогиня, имея под рукой только Бриссака, также ухаживала за испанцами, чтобы они помогли ей избегнуть несчастья, которого она боялась более всего, то есть въезда в Париж нового католического короля. Надо было видеть, как она встала до рассвета и разъезжала по парижским улицам верхом со свитой капитанов. Она кричала до того, что охрипла: «Я остаюсь с вами, парижане!» Она махала шарфами, она придумывала девизы — словом, суетилась гораздо больше, нежели было нужно, для того чтобы не очень пылкие лигеры нашли ее крайне смешной. Бриссак поощрял ее в этой деятельности. Он рыскал со своей стороны, а испанцы со своей; любопытным зрелищем было видеть, как все трое встречались вдруг носом к носу в каком-нибудь месте к хохоту зевак, которые ожидали события, не давая себе столько хлопот. Такова была одна из этих встреч на другой день после отъезда Майенна. Герцогиня выехала из улицы Сент-Антуана на Гревскую площадь. Бриссак приехал с набережной, герцог Фериа с главным штабом — из улицы Мутон. Большая толпа народа собралась на площади, потому что там вешали человека. Виселица была поставлена. Ждали только осужденного. Бриссак осведомился о том, что происходит; герцог Фериа ему отвечал, что преступник, вероятно, посланный короля наваррского, захваченный час тому назад, при нем нашли записку, которая могла наделать тревогу в Париже вследствие обещаний Беарнца. — Пусть его повесят, — сказала герцогиня. — Но, — вмешался Бриссак, который видел себя окруженным многочисленной толпой, где примечал плебейские лица, не очень расположенные к испанцам, — допрашивали ли этого человека? Толпа приблизилась; каждому хотелось слышать разговор начальников Парижа. — Я его допрашивал, — сказал герцог Фериа, — и видел записку. — Хорошо; но кто его осудил? — Я, — прибавил испанец надменным тоном. — Разве преступление не было явно? — Еще бы! — сказала герцогиня. — Обычаи парижские требуют, — отвечал Бриссак, бросив взгляд на черные одежды, которые он видел на площади, — чтобы всякий преступник был допрашиваем судьями. — Какие тонкости! — сказал удивленный испанец, около которого начала роптать чернь. — За что вы придираетесь к герцогу? — шепнула герцогиня Бриссаку. — Предоставьте действовать мне, — отвечал он тем же тоном. В эту минуту на углу набережной показался осужденный, окруженный валлонскими и испанскими стражами. Это был мирный гражданин, бледный, заплаканный, с честным лицом, расстроенным отчаянием. При виде виселицы он сложил руки и начал так жалобно стонать, призывая жену и детей, что трепет сострадания пробежал по толпе. — Прискорбно смотреть, — сказал Бриссак, отвернувшись, как будто это зрелище было свыше его сил. В это время толпа приблизилась к Бриссаку и окружила его лошадь. — Не правда ли, что сердце раздирается? — сказал ему один гражданин. — Смотреть, как вешают невинного человека! — Невинного? — закричал герцог Фериа, побледнев от гнева. — Кто это сказал? — Я, — отвечал тот человек, который говорил, — я, Ланглоа, эшевен этого города. — Ланглоа! Ланглоа! — повторяла толпа, собравшись около своего эшевена, спокойствие и холодность которого перед бешеным испанцем показывали благородство и значение, которое народ всегда примечает в минуты кризиса. — Невинный? — повторил герцог. — Человек, раздававший обещания Беарнца! — Какие обещания? — спросил Бриссак добродушно. — Мало, однако, разъяснить это дело. Герцог поспешно вынул из рукава напечатанное письмо, которое передал Бриссаку, говоря: — Смотрите! Граф, окруженный бесчисленной толпой, тишина которой была так глубока, что у подножия виселицы слышались стенания осужденного, которому палач дал отсрочку для молитвы, Бриссак, говорим мы, развернул письмо и прочел внятным и громким голосом: «Его величество, желая удержать всех своих подданных в дружбе и согласии, хочет, чтобы все прошлое было забыто…» — Довольно, довольно! — перебил герцог, скрежеща зубами. — Должен же я узнать, — продолжал Бриссак, каждое слово которого толпа с жадностью слушала. Он продолжал: — «Забыто… Запрещает всем своим прокурорам и другим офицерам делать розыски даже относительно тех, которых называют “Шестнадцатью”». — Как, — прошептал народ, — он прощает даже «Шестнадцати»! — Ради бога, граф, — сказала герцогиня, — перестаньте! — Позвольте же мне, — возразил Бриссак, который докончил чтение. — «Его величество словом и честью короля обещает жить и умереть в католической религии и сохранить всем своим подданным их привилегии, звания, достоинства и места. Генрих». Конец этого чтения возбудил энтузиазм в народе. — Если бы это была правда! — закричало сто голосов. — Действительно, эта записка может повредить Лиге, — сказал Бриссак. — Вы сознаетесь в этом немножко поздно, — возразил герцог. — Я говорю, что надо повесить негодяя, который хотел это распространить. Он сделал знак палачу схватить жертву. Эшевен Ланглоа схватил за узду лошадь Бриссака и закричал: — Стало быть, надо всех нас повесить! — Зачем? — спросил Бриссак. — Затем, что у нас у всех есть такие письма. — Как? — закричали герцог и герцогиня. — Вот, посмотрите!.. — сказали эшевены, вынимая из кармана такие письма и поднимая их в воздух. — Вот! Вот! Вот! — закричала толпа, показывая такие же письма. — Это правда, у них у всех есть, — спокойно сказал Бриссак. — Я не знаю, нет ли и у меня в кармане. Герцог Фериа чуть не упал в обморок от ярости. — Тем более причины, — прошептал он. — Нет! Нет! — сказал Ланглоа. — Этот бедный человек, которого хотят повесить, был на улице, как и я, как мы все, когда раздавали эти письма; и мне, и всем моим товарищам раздавали эти письма. — Да, да! — закричали тысячи голосов. — Стало быть, он не виноват, — продолжал эшевен, — или виноваты все мы. Пусть же нас повесят вместе с ним. — Понадобится слишком много виселиц, — сказал Бриссак, который, подъехав к герцогу, шепнул ему на ухо: — Оставим этого человека, или его отнимут у нас. — Черт побери! — пробормотал испанец, опьянев от бешенства. — Отпустите этого человека! — закричал Бриссак, голос которого был заглушен возгласами толпы. — Очень вам было нужно читать вслух это письмо, — сказал испанец. — Почему же? Ведь все читали его про себя. Послушайте, вы напрасно идете наперекор парижанам. Посмотрите-ка, вот они ведут этого человека к его жене. Ведь тут двадцать тысяч рук, милостивый государь! Герцог, не отвечая ему, обернулся к герцогине и сказал ей: — Все это очень странно; поговорим об этом, если вам угодно. Оба начали шепотом оживленный разговор, который не обещал ничего хорошего Бриссаку. Эшевен Ланглоа взял его за руку и сказал: — После того что вы сделали, я понимаю, что с вами можно говорить. — Я думаю, — сказал Бриссак. — Когда? — Сейчас. Где? — Посреди этой самой площади, которая теперь пуста. Ждите меня там с вашими друзьями, которые, если я не ошибаюсь, генеральный прокурор Молэ и президент Лемэтр. — Точно так. — Ступайте же туда, на самую середину. Там никто нас не услышит; нас могут видеть, это правда, но слова не имеют ни формы, ни цвета. Президент и эшевен повиновались и пошли прогуливаться посреди площади, с которой сбежала вся толпа, чтобы видеть, как освобождают осужденного; оставшийся народ окружал лошадей герцога и герцогини. Испанские солдаты, у которых вырвали их добычу, стояли сбитые с толку под навесом кабака. Бриссак, отдав приказание национальной гвардии и видя, что разговор против него все еще продолжается, сошел с лошади и присоединился к трем парижским судьям на середину площади. Это была странная сцена, и даже те, которые ее видели, не понимали всей ее важности. Эшевен и оба президента стали треугольником, так что каждый из них видел третью часть площади. — Вот я, господа, — сказал Бриссак, — что вы хотите мне сказать? — Надо спасти Париж, — начал Молэ. — Мы решились на это. Если бы нам пришлось сложить наши головы, мы умоляем вас, как доброго француза, помочь нам в нашем предприятии. — Я выдаю вам себя, — прибавил президент Лемэтр. — Я умоляю вас посадить меня в тюрьму, — сказал эшевен Ланглоа, — потому что я составлю заговор, для того чтобы впустить короля в город. Бриссак пристально посмотрел на этих трех честных людей, которые таким образом поручали себя его чести. — Какие же у вас средства? — спросил он. — Мы хотим отворить королю ворота, и наша национальная милиция предупреждена насчет этого. — Его величеству надо отворить Новые ворота, — сказал Бриссак. — Зачем? — спросили три роялиста. — Затем, что я назначил ему их вчера, он и направится к ним в нынешнюю ночь. Трое судей чуть не вскрикнули от радости и подавили на чертах признательность, которая наполнила их сердце. — Вот идут испанцы, — сказал Ланглоа. — Им остается сделать еще двести шагов, — возразил Бриссак. — Сегодня вечером соберите ваших солдат, чтобы стеречь мои ворота и дать место в их рядах моим людям, которых я впускаю в Париж. — Хорошо, — сказал Молэ. — Храбрецов? — спросил Лемэтр. — Вы увидите их на деле. — Молчите! Бриссак вдруг обернулся. Дон Хозе Кастиль приближался с шестью валлонскими гвардейцами. — Да, господа, — громко сказал граф судьям, — мне не нравятся эти массы земли, которые набросали перед парижскими воротами. Эти укрепления могут успокоить только детей. — Какие массы и какие ворота? — спросил гидальго, бросившись в этот разговор, как хорек в нору кроликов. — А! Здравствуйте любезный капитан! — вскричал Бриссак. — Я объясняю этим господам, которые люди не военные, что Париж не защищен этими земляными кучами, которых навалили перед воротами. Тридцать человек Беарнца с лопатками и заступами в два часа уничтожат ваши укрепления. — Велите расчистить всю эту бесполезную землю, и чтобы в нынешнюю же ночь мне выстроили из прекрасных камней ограду, которая могла бы сопротивляться пушкам. Спросите дона Хозе Кастиля, который знает в этом толк, не будет ли он спать спокойнее за каменной стеной, чем за этими полуразрушенными габионами. — Конечно, — сказал испанец, недоверчивость которого не совсем еще была усыплена. — Ну, за дело, господин эшевен! Пошлите ваших копателей, ваших землекопов. — Куда? — спросил испанец. — Ко всем воротам, которые защитили землей. — Очень хорошо, — отвечал Ланглоа, поклонившись, и ушел к своим товарищам. — Герцог Фериа держит совет с герцогиней и хотел бы узнать ваше мнение, — сказал гидальго, указав на группу, составляемую этими двумя знаменитыми лицами на конце площади. — Иду, — сказал Бриссак. — Ах, дон Хозе! Какие ослы эти эшевены! — Неужели, — иронически спросил испанец, — однако вы слушали их очень снисходительно. «О! — подумал Бриссак, косвенно взглянув на капитана. — Ты слишком умен, ты не останешься жив». С развязным видом подошел он к герцогине и к ее союзнику. — Мы говорили, граф, — сказала герцогиня Монпансье, — что вы весьма неблагоразумно взволновали эту толпу. — А я скажу, — сказал Бриссак, — что вы очень дерзко раздражаете ее. — Что вы говорите? — Я говорю, что вы безумцы; я говорю, что вы притворяетесь, будто не видите, что вас десять против пятисот тысяч и что вы погибнете, если не замените силу хитростью. — О, наши десять тысяч победят ваших пятьсот! — В самом деле? Попробуйте! Разве вы не знаете, что здесь все составляют заговоры? — А! — иронически сказал герцог, коварно улыбнувшись дону Хозе. Бриссак понял и намерение, и взгляд. — Разве вы не знаете, что вам изменяют? — Кто? — Все, говорю я вам. Я только что оставил трех судей, трех ревностных лигеров, по-видимому, а между тем они изменяют вам. Хозе Кастиль навострил уши. — Да, — продолжал Бриссак, — и если бы я не боялся возбудить мятеж, я посадил бы их в тюрьму. — Что вы знаете нового? — с живостью вскричали герцог и герцогиня. — Я знаю, что хотят отворить одни ворота королю наваррскому. — Какие? — холодно спросил герцог. — Если бы я знал… — отвечал Бриссак. — А я узнаю, — сказал испанец. — И я также, — заметила герцогиня. — Я узнаю также, — прибавил герцог, — имена всех изменников, кто бы они ни были. Говоря эти слова, он посмотрел на Бриссака, который отвечал спокойно: — Составьте ваш список, а я составлю свой. — А завтра утром, — продолжал испанец, — я велю расстрелять многих людей, которые этого не подозревают. — А я, — сказал Бриссак, улыбаясь и фамильярно дотронувшись до его плеча, — я велю колесовать многих людей, которые этого не подозревают. — Для начала я переменяю все мосты, — сказал испанец. Бриссак отвечал: — Я хотел вам это предложить. — Я доверяю только моим испанцам. — И правильно делаете. Их выгода в этом. Потому что если король войдет, то все испанцы будут истреблены. У меня волосы становятся дыбом. Ведь вы видели письмо короля: французам всем пощада! — Я рад видеть вас в таком расположении, — сказал герцог. — Сейчас сделаю распоряжение, чтобы от всех ворот были взяты французы. — Прекрасно, прекрасно! — вскричала герцогиня, между тем как герцог говорил тихо со своими капитанами. — Только, — шепнул Бриссак герцогине, — вы попались в тиски, мой прекрасный друг. Завтра вы проснетесь испанкой. — Как это, граф? — А, вы не доверяете мне до такой степени, что предаетесь совершенно этому дерзкому испанцу! Вы с ума сошли и проиграете партию! — Но… — Вы разве не знаете, что мне говорили сейчас эшевены, когда вы послали шпиона Кастиля перебить меня? — Не знаю, но мне казалось, будто вы все вместе составляли заговор. — Они мне говорили: взять французского короля — это хорошо, взять Гиза, потому что де Майенн нас бросил — это очень хорошо, но только чтобы сейчас он избавил нас от испанцев. — Они говорили это? — Призовите их и поговорите сами с ними. Ведь вы их отталкиваете, удаляясь от них. Вспомните, что вы француженка. Ведь Лотарингия во Франции, герцогиня!.. И я также француз, а вы сговариваетесь против меня с испанцем! — Послушайте, если правда, что вы покровительствуете этому Беарнцу… — Это говорит Фериа. Ну, допустим эту нелепость. А он, этот испанец, сделает свою инфанту французской королевой и запрет в тюрьму вашего племянника. — О, мы увидим! — Чем же вы будете защищать его, несчастная слепая, когда весь гарнизон будет испанский? Как! Вы не понимаете, что я выхожу из себя, для того чтобы напугать его Генрихом Четвертым, чтоб ему были нужны и вы, и Лига, а вот с одной стороны де Майенн бросает Париж, а с другой вы отдаете ключи испанцам. Поступайте как хотите, и, так как мы уже более не друзья, я, не говоря ни слова, буду подражать герцогу де Майенну и уеду отсюда. Сказав эти слова, которые произвели глубокое впечатление на герцогиню, он повернулся и присоединился к гвардейцам, провожавшим его. Герцогиня подумала, а потом подъехала к герцогу и сказала ему: — Мы не можем удалить парижан от ворот их города. — Почему? — Потому что это значило бы объявить им войну. — Почему же и не так? — Это ваша политика, а не моя! — вскричала герцогиня. — Сделайте же таким образом, чтоб ворота караулили в эту ночь и испанцы, и парижане. Герцог удивился. — Видно, что вы говорили с Бриссаком, — сказал он. — О! Мне не нужно разговора с Бриссаком, чтобы принять хорошее намерение. — Вы, кажется, сейчас его приняли; но, как говорил король Франциск I, ваш пленник, женщины часто переменяются. — То, что вы говорите, невежливо, герцог! — вскричал Бриссак, подъезжая. — Оставьте, Бриссак, оставьте! — перебила герцогиня. — Я вижу, что это неприятно герцогу; но я стою на своем: Париж будут охранять и парижане, и испанцы. — Вот это прекрасно! — прошептал Бриссак. — Вы слышите, герцог? — повторила герцогиня, вне себя от удовольствия распоряжаться. — Я слышал, — сказал испанец, прощаясь скорее, чем требовала вежливость. — Мы увидимся сегодня вечером на постах, которые я сама осмотрю! — закричала ему герцогиня. — Сегодня вечером! — отвечал герцог, удаляясь. — Будьте спокойны, Бриссак, — сказала герцогиня, пожимая руку губернатору. — Не в нынешнюю ночь провозгласит он свою инфанту. — Я ручаюсь за это, — отвечал Бриссак. В эту минуту паж герцогини подошел к ней и доложил, что какой-то господин приехал из деревни и привез ей важное письмо. — Известно, кто этот господин? — спросила она. — Его зовут ла Раме, — отвечал паж.Глава 33 ПАТРУЛЬ
Настал вечер после этого взволнованного дня. Мирные граждане, у которых не было других забот, как спать десять часов, ушли домой. То же сделали и лигеры, которые, уже взволнованные раздачею писем короля, были дружески предупреждены остаться дома и хорошенько запереться там, так как обещания Беарнца скрывали какую-нибудь засаду, может быть, Варфоломеевскую ночь. Вся воинственная деятельность парижан обнаруживалась около ворот. В этот час возвращались запоздалые, те, которых прогулка и торговля вызвали в предместья и которые возвращаются каждый вечер до звона о тушении огня. Для наблюдателя, который мог бы парить над городом, это зрелище было бы странно. Фигуры, возвращавшиеся в этот вечер через различные ворота в Париж, конечно, не решились бы явиться днем. Это были женщины такого огромного роста, хотя шли согнувшись под своей ношей, мельники на прекрасных военных лошадях или разносчики с тюками, такими странными, что недоверчивые испанцы не пропустили бы их днем без подробного осмотра. Все эти странные посетители направлялись по разным дорогам к Арсеналу, кварталу пустынному, и молча занимали позицию на берегу реки, как люди, устраивающие рынок. Рынок в подобной части и в подобном месте был неправдоподобен; они нашли по прибытии эшевена, который распоряжался распределением товаров, который разделял их на маленькие группы и отсылал их напротив острова Лувье. Там они исчезали, и после каждой группы в двенадцать мужчин или женщин, входившей в домик, через полчаса выходили двенадцать солдат национальной милиции. Эти отряды имели каждый офицера, который вел их к какому-нибудь посту, где они занимали позицию. Когда эшевен, занимавшийся всеми этими таинственными операциями, окончил свое дело, он взял с собою последнюю группу в двенадцать солдат и повел их к Новым воротам. Дорогою он смотрел, так шли шагом эти странные солдаты, которые сначала спотыкались и наступали на ноги друг другу, но через пять минут составляли только одно тело, идущее на двадцати четырех ногах. И как они были смешны! Одни, худощавые, в бархатных полукафтанах, имели поверху них огромные кирасы, в которых поместились бы две такие груди, как у них; другие, в огромных шишаках, как будто вовсе не имели головы на шее; третьи сгибались под древней броней; четвертые имели круглые щиты времен Карла Великого; ни один не умел прицепить свою шпагу на должной длине; у тех было ружье, у этих топор. Дети, если бы в этот час были дети на улицах, непременно бежали бы за этим отрядом с карнавальными криками. Но офицер особенно был замечателен. Его каска, времен последнего Крестового похода, была украшена изломанным забралом, которое постоянно падало ему на нос. Широкие плечи и круглый живот этого достойного гражданина заставляли трещать желтый полукафтан с зелеными и красными бантами. Это был самый смешной костюм, но, когда этот человек выпрямлялся, костюм облагораживался гордою осанкой его сильного стана. Офицер этот шел впереди своей колонны, а эшевен тотчас позади него. Вдруг испанский патруль вышел из боковой улицы и закричал: — Кто идет? Надо было посмотреть, как эти двенадцать человек схватились за оружие. Начальник испанцев и начальник милиции разменялись паролем, и два отряда продолжали идти в противоположные стороны; испанцы оборачивались не раз, чтобы полюбоваться воинскою осанкой этих национальных милиционеров. Эшевен с живостью приблизился к офицеру. — Берегитесь, — сказал он, — вы слишком благородны под оружием, вас узнают. — Вы думаете, любезный мосье Ланглоа? — спросил тот. — Конечно. А ваши солдаты маршируют, как королевские гвардейцы. Для граждан это невероятно. Толстый офицер улыбнулся с удовольствием. — Я не стану удивляться, — продолжал эшевен, — если испанцы вернутся и будут следовать за вами. — Пусть-ка они меня узнают под этой ношей вьючного скота, — прошептал офицер, — на меня, должно быть, отвратительно смотреть. А эти-то несчастные, прибавил он, смотря на свой отряд, — как они унижены!.. Я нахожу их ужасными. — Ну нет, нет, — сказал Ланглоа. — Мы скоро придем, не правда ли? — продолжал офицер. — Мне надоело мое забрало, оно трет мой лоб и наконец отрежет мне нос. — Шш!.. — сказал эшевен. — Мы пришли. На небольшой площади стояло с одной стороны человек сто народной милиции, а с другой — испанский батальон, человек до двухсот, вооруженных ружьями и шпагами. Посреди площади прохаживались президент Лемэтр и генеральный прокурор Молэ с доном Хозе Кастилем, капитаном батальона. — Я привел подкрепление! — вскричал Ланглоа. Когда показались двенадцать человек, приведенных Ланглоа, в рядах испанского батальона раздался хохот, которым заразились даже парижские солдаты. Надо сказать, что никогда пародия не была доведена до такой высокой степени совершенства. Бряцание ножен, ударявшихся о ружейные дула, неровная походка, звук кирас составляли редкое зрелище, которое скоро привлекло внимание дона Хозе. — Это очень любопытно, — сказал он. — Надо бы простить, — отвечал Ланглоа, — это ученики кожевников и железников, которых я вооружил в первый раз и которые еще не Цезари. — И вот на кого вы рассчитываете, чтобы защищать ваш город! — прибавил испанец с сострадательной улыбкой. Ланглоа смиренно пожал плечами. — Если этим людям придется стрелять, они убьют друг друга, — сказал президент Лемэтр. — Я дал, что было у меня лучшего, — отвечал Ланглоа, ставя своих людейпосле ста других. Вдруг послышался топот лошадей, и герцог Фериа выехал на площадь в сопровождении своих гвардейцев и многих из «Шестнадцати», которые не оставляли его после известия об атаке. Приехал и Бриссак. Он был также верхом и вооружен для сражения. Первый взгляд его был брошен на Ланглоа, которого он увидал впереди его двенадцати солдат. Испанец, по приезде Бриссака, подъехал к нему и сказал взволнованным голосом: — Что это я видел? Земляные укрепления перед Новыми воротами уничтожают, и работники уверяют, что это по вашему приказанию. — Да, — отвечал Бриссак. — Я предупредил сегодня утром капитана Кастиля. Я хочу камней вместо этой земли, и вы должны были видеть уже цемент и известь, которые послали туда господа эшевены. — Я нашел бы эту меру превосходной, — шепнул герцог Фериа Бриссаку, — если бы она не была принята именно сегодня. — Почему же именно сегодня, а не вчера или завтра? — Потому что сегодня, говорят, король Наваррский предпринимает атаку против Парижа. Говоря таким образом, испанец смотрел на Бриссака, как будто хотел проникнуть до глубины его души. — Милостивый государь, — сказал граф, — вы имеете весьма невежливую привычку: вы раздираете лицо людей вашими глазами, как кошка когтями. Во Франции это не водится; я извиняю вас, как иностранца. — О! Не извиняйте, если хотите, — дерзко сказал герцог. — Хорошо, господин герцог, мы объяснимся насчет этого, когда я кончу мою службу; и я не прочь посмотреть, пронзает ли ваша шпага так глубоко, как ваши взгляды, но теперь не будем ссориться. — Надо прежде всего остановить уничтожение земляных окопов. — Не надо останавливать ничего. — Я должен беречь Париж и отвечаю за него. — Я отвечаю больше вас, потому что я губернатор Парижа. — Если бы даже мне пришлось употребить силу, чтобы прогнать работников… — И не пытайтесь, — холодно перебил Бриссак. — Я предупреждаю вас, что, если дотронутся до одного из моих работников, я велю ударить в набат и брошу всех испанцев в реку. — Милостивый государь!.. — вскричал герцог, побледнев от гнева. — Знайте это и не осмеливайтесь никогда угрожать мне, потому что, если бы я не служил одному делу с вами, если бы я больше вас не опасался приближения Беарнца, против которого мне нужен ваш гарнизон, давно уже вы все были бы похоронены в самых гадких местах моего города. — Мы увидим впоследствии, — отвечал герцог, заскрежетав зубами. — Ба! Мы превосходные друзья и впоследствии забудем все это. Будем думать о нашей службе и не представим нашим людям, наблюдающим за нами, зрелище ссоры между начальниками. Это Новые ворота. Кого мы поставим сегодня у Новых ворот? Герцог отер свой лоб, орошенный потом. — Я посмотрю, — прошептал он. — Поставьте много солдат, если вы тревожитесь насчет этого уничтожения земляных окопов. — Я поставлю много испанцев. — Хорошо. Но поскорее. В Париже шестнадцать ворот, и если мы будем мешкать таким образом, то мы не кончим до рассвета. — Я посоветуюсь с моими капитанами. — Очень хорошо. А я с моими гражданами. Герцог позвал дона Хозе и своих офицеров. Бриссак подъехал к Ланглоа и двум судьям. — Все ли наши вошли? — спросил он. — Все. — Без всяких подозрений? — Без всяких. — В котором часу король подойдет со своими войсками? — В половине четвертого утра. — Не прежде? — Он отправляется из Сен-Дени только в два часа. — Довольно. Бриссак обернулся при звуке военной команды. Герцог Фериа назначил отряд, который должен был стеречь Новые ворота. — Шестьдесят человек, — сосчитал Бриссак. — Под командой дона Хозе, — сказал Ланглоа. — Выходите из рядов шестьдесят человек! — вскричал Бриссак своим милиционерам. Герцог Фериа поспешно подъехал к нему. — Это слишком много, — сказал он. — Ведь ваших шестьдесят. — Я прошу вас оставить мне превосходство этих ворот, придется много работать. — Тем более причин, чтоб я оставил здесь столько же человек, сколько оставляете вы. — Послушайте, граф, — сказал испанец, — уступите мне на этот сет. — По милости вашей вечной недоверчивости, герцог. Ну, хорошо, я пошлю только сорок человек. — И это слишком много; в караульне Новых ворот помещаются только семьдесят два человека. — Э! Месье де Бриссак, — сказал Ланглоа, присутствовавший при этом разговоре, — докажем герцогу всю нашу искренность и оставим здесь только двенадцать человек, если он так желает. — Я выбираю последних! — вскричал дон Хозе, указывая с насмешливым хохотом на отряд, приведенный эшевеном. — Пусть будут последние, — сказал Ланглоа, толкая под локоть Бриссака. Офицер с толстым брюхом приподнял свою бровь, проходя мимо Бриссака, и граф при виде этого лица не мог не вздрогнуть от удивления. — Черт побери! — сказал он дону Хозе, который насмехался над смешной экипировкой этих двенадцати милиционеров. — Счастливая у вас рука, любезный капитан! — Не правда ли, — отвечал Кастиль, — что подобных нет во всем Париже? — И нигде, — сказал Бриссак. Двенадцать человек в сопровождении испанского капитана вошли в караульню Новых ворот, которая заперлась перед ними. Ланглоа и его два товарища переглянулись с Бриссаком, и взгляд их говорил также, что у дона Хозе была счастливая рука. Только что это было кончено, как на площади появилась герцогиня Монпансье на горячей лошади, а за ней целая армия слуг и офицеров разного сорта. — Ну, — сказала она Бриссаку, — разделили караул, как я приказала? — Это сделано у Новых ворот, — отвечал граф, — теперь мы перейдем к другим. — Вы знаете, говорят, что нынешнюю ночь будет тревога? — Каждый день то же говорят. — Как мы с герцогом? — Как нельзя лучше. — Кстати, граф, если мне придется сообщить вам что-нибудь, я пришлю к вам моих адъютантов. Вот еще один новый; посмотрите на него хорошенько, чтобы узнать. — Кто этот господин? — Месье де ла Раме, дворянин, лишившийся отца. Он приехал ко мне с удивительным усердием. — Очень хорошо, — сказал Бриссак. — Он был также рекомендован Антрагом, но кажется Антраги сделались большими роялистами, чем король, месье ла Раме предпочел приехать ко мне в Париж, в центр самого действия. — Мы дадим ему работу, — отвечал Бриссак, проницательный взгляд которого осмотрел нового адъютанта с ног до головы. — Наблюдайте хорошенько за испанцем, — шепнула герцогиня графу, — я слышала, что он хочет сыграть с вами шутку. — Благодарю, — отвечал Бриссак. Герцогиня ускакала среди вихря негодяев, которые кричали во все горло: — Да здравствуют Гизы! — Она опьяняется этим крепким вином, — прошептал Бриссак, направляя свою лошадь к воротам Сен-Дениским. Но к нему подъехал герцог Фериа, который подстерегал все его движения, и загородил ему дорогу. — Что такое еще? — спросил Бриссак. — Два слова, граф. Необходимо ли нам обоим прогуливаться по Парижу, когда опасность и внутри, и извне? — Нет, — сказал Бриссак. — Тем более, — прибавил испанец, — что носятся слухи очень важные. — Какие? — Уверяют, что видели неприятельскую кавалерию близ Монружа. — Какие выдумки! — Вот этот человек, — холодно сказал герцог, указывая на валлонского солдата, — видел эту кавалерию. Солдат подтвердил. — Это другое дело, — отвечал Бриссак, — это стоит рассмотреть. — Вот почему я с вами посоветовался, граф. Это надо разузнать. — Вы правы, герцог. — Вы не откажетесь осмотреть внешние укрепления? — с живостью спросил испанец. — Я? — сказал Бриссак, несколько взволнованный, потому что он ясно видел ловушку в этом предложении. — Я никогда не отказываюсь исполнять то, чего требует служба. — Ну, будьте так добры и осмотрите. — Очень охотно. — Я не стану от вас скрывать то, что говорят. — Разве говорят еще что-нибудь? — Уверяют, что нам изменили. — Я сам вам об этом говорил. — И если действительно неприятельская кавалерия виднеется за городом, стало быть, измена существует, не так ли? — Непременно. Герцог внимательно выслушал этот ответ. — Нельзя терять времени, — продолжал он, — и если вы лично желаете сделать этот осмотр, то, кажется, пора ехать. — Поедем, — сказал Бриссак, сердце которого билось. — Но я поеду не один; я полагаю, мне надо съездить за конвоем. — Вот восемь верных человек, которых я вам даю, господин губернатор. — Восемь испанцев! — Все дворяне Кастильды. За храбрость и верность всех я ручаюсь; они все гнушаются измены. Бриссак рассмотрел эти восемь физиономий, помраченных подозрением, восемь взглядов, блиставших огнем непоколебимой решимости. — Черт побери! — прошептал он. — Но вино нацежено, надо его пить. Приехали к Сен-Дениским воротам. Восемь испанцев ждали своего нового начальника, чтобы выехать позади него. Ночь была темная и дождливая. Только слабый огонь в караульне освещал лица красноватым отблеском. — Ну, прощайте, — сказал Бриссак герцогу, — сказать вам: до свидания? Герцог вывел отряд за стены и там, остановившись в темноте, в тишине и в уединении, сказал: — До свидания, если вы не встретите в дороге кавалерию короля наваррского; а то прощайте! — А! а! — сказал Бриссак. — Понимаю, то есть если я ее встречу… — Эти восемь дворян вас убьют, — холодно сказал герцог, возвращаясь к городу. Бриссак после трех секунд размышления пожал плечами и решительно двинул свою лошадь на дорогу. Зловещий отряд провожал его, не произнося ни слова. На колокольне церкви Парижской Богоматери пробило двенадцать часов, и ветер разнес этот звук по равнине на своих влажных крыльях. «Если королевская армия, — подумал Бриссак, — не так дисциплинирована, как македонская фаланга, или если часы его величества идут вперед против часов церкви Парижской Богоматери, маршальский жезл едва ли достанется мне».Глава 34 НОВЫЕ ВОРОТА
Новые ворота запирали Париж на берегу Сены, на Луврской набережной. Как почти все парижские ворота, это здание имело башни для защиты. Главная из этих башен, у Новых ворот, называлась Деревянной и соединялась с длинной и узкой башенкой, в которой находилась лестница большой башни. Бойницы и окна выходили на воду, довольно глубокую в этом месте. Подъемный мост служил сообщением, у ворот перед этим подъемным мостом Бриссак велел разрыть своим работникам землю, так что этим людям стоило только повернуться направо, чтобы бросать землю со своих заступов в Сену. Нижний этаж башни составлял залу в тридцать футов. Над нею была квартира привратника, старого солдата, которого междоусобные раздоры забыли на этом посту, неутомительном и неважном, потому что Новые ворота, засыпанные землею, не отворялись никогда. Из квартиры привратника был прекрасный вид на Сену и на окрестности, а круглая зала, находившаяся под его ногами, служила караульней. Голые стены имели украшениями только огромные гвозди, на которых вешалось оружие, и гвозди эти были вбиты с самой независимой неправильностью, по прихоти или по росту солдат. Привратник спускался в караульню по маленькой лесенке из башенки, когда караул, чувствуя жажду от соседства реки, требовал от него некоего напитка, который он покупал в ближайшем кабаке, приняв предосторожность развести его прежде водой из Сены. В ту ночь, о которой мы говорим, когда караул у Новых ворот был составлен, как вы видели, герцогом Фериа и графом де Бриссаком, капитан Кастиль как бдительный, а особенно как скучающий офицер, отправился к привратнику осмотреть настоящее положение своего поста. Он увидал инвалида, занимающегося переливанием в оловянные горшки пенистого напитка, который скоро должны были потребовать у него гости в нижнем этаже. Запах этого напитка был сильный и наполнял воздух благоуханием аниса и перца, которое было бы восхитительно для обоняния немецкого ландскнехта. Но дон Хозе был человек трезвый, он нахмурил брови, вдыхая этот вероломный запах. — Капитан, — сказал инвалид, — не угодно ли вам стакан этого напитка? Вы сделаете почин; посмотрите, какой он чистый и как пенится. — Можно опьянеть только от одного запаха твоего проклятого напитка! — закричал дон Хозе. — В твоей лаборатории задохнешься. Говоря эти слова, капитан подошел к маленькому балкону, с которого, когда он отворил его, ворвался с реки свежий ветерок. — У тебя здесь пост? — сказал Хозе. Действительно, на балконе было два человека. Один сидел на скамейке, другой стоял, прислонившись к балюстраде. Тот, который сидел, был монах в серой рясе, с капюшоном на голове. Он с глубоким вниманием наблюдал за работой землекопов, расчищавших башню. Он не обернулся при звуке голоса капитана. Другой был высокий молодой человек, светло-русые волосы которого развевались от ветра; внимание его к работам землекопов было не очень сильным, и он, по-видимому, с удовольствием встретил нового собеседника. — Кто эти два человека? — спросил недоверчивый испанец привратника. — Монах, мой старый друг, почти родственник. Не так ли, брат Робер? Монах сделал едва приметный знак согласия. — Разве монахи могут ночевать не в своем монастыре? — спросил Кастиль. — Поневоле, когда заперты ворота, — отвечал привратник. — Брат Робер не мог сегодня воротиться в свой монастырь и просил у меня убежища на ночь. — А его товарищ, этот высокий молодой человек, также монах? Молодой человек обернулся к Кастилю с уверенностью, в которой не было дерзости, и сказал: — Вы задаете бесполезный вопрос; вам стоит только взглянуть на мою одежду и на мою шпагу, чтобы убедиться, что я не монах. — Кто же вы? — Это мой племянник, — отвечал монах глухим голосом. — Разве мы мешаем вам здесь? Дон Хозе вместо ответа начал думать. У подозрительных людей всегда живое воображение. Инвалид продолжал разливать свой товар. — Знайте, — сказал Кастиль, — что я не хочу пьяниц на моем посту и запрещаю всякие напитки во время моего караула. Инвалид с удивлением хотел расхваливать свой напиток, но испанец закрыл ему рот таким решительным движением, что он со вздохом вылил в бочонок из всех своих оловянных горшков. — Я не хочу, чтобы ваши гости оставались здесь, — прибавил Кастиль. — Может случиться несчастье. Может зарониться искра на пол, а у меня внизу порох. Сделайте же одолжение — отошлите этих двух господ в караульню, они проведут ночь возле нас. — Я не вожусь с солдатами, — отвечал монах. — Ночь скоро пройдет, брат мой. Притом испанские солдаты не язычники, и я не позволяю у себя ни ругательств, ни проклятий. — А я не принимаю приказаний от вас, — надменно отвечал молодой человек, — если ваши испанские солдаты — добрые христиане, от них пахнет кожей и маслом, а этот запах мне не нравится. — Как вы разборчивы, — сказал Кастиль, возвысив голос. — Я таков, как я есть. — Полно, племянник, полно, — сказал монах, — не упрямьтесь, господин капитан прав. Военный человек повинуется требованиям, которых такие студенты, как вы, и такие монахи, как я, не понимают. — Прекрасно, — сказал Кастиль, — я жду вас внизу через полчаса. Он вышел после этих слов. Молодой человек обратился к монаху с очевидным нетерпением: — Право, брат Робер, я удивляюсь вашему хладнокровию. Как, вы видите, что я умираю от скуки в монастыре после отъезда Понти и урока, который вы мне дали насчет мадам Габриэль; я стараюсь бежать от опасности и от скуки, вы мне предлагаете отвести меня к кавалеру де Крильону, к которому я хотел отправиться, и вот куда мы пришли! Смотрим, как бросают в воду землю, и выслушиваем грубости от испанцев. — Любезный мосье Эсперанс, — сказал монах, — я не могу повелевать стихиями. Преподобный приор дал мне поручение в Париж к герцогине Монпансье; я видел, что вы чахнете от скуки. Я видел также, что вы от безделья занимаетесь женою ближнего. — От безделья! — прошептал Эсперанс с глубокой меланхолией. — Ближнего, — продолжал женевьевец, приметив, как изменились черты Эсперанса при одном воспоминании о Габриэль. — Этот ближний — один из друзей нашего монастыря. — Подлый негодяй, который прячется, пока у него отнимают его жену. — Это вас не касается, — сказал женевьевец. — Но меня касается глупость этого олуха, который хвастался передо мною, что перерезал веревку, на которой Понти повесил убийцу. Зачем вмешался этот трус не в свое дело и не оставил висеть то, что было повешено? — Послушайте, тело, висевшее поперек его решетки, портило ему вид. — А между тем вот ожил разбойник, злодей, который меня убьет, если я его не опережу! О, ваш ближний, как вы говорите, сделал прекрасивое дело! — Он испортил совсем новую веревку, — сказал монах, — но это не причина, чтобы вы отняли у него его жену. Эти вещи делаются в свете, но не в монастырях. Итак, я вас увел. — Чтобы видеть кавалера де Крильона. — Имейте терпение. — Вы ходили к герцогине Монпансье, которую не застали. Я полагаю, вы не там надеялись встретить кавалера де Крильона? — Разве знаешь, где находятся люди? Но вот кто-то въехал за Новые ворота. Инвалид наклонился с балкона. — Граф де Бриссак, — сказал он. — Надо сойти, — продолжал монах, — если вы не увидите кавалера де Крильона, то вы увидите графа де Бриссака. Это также воин. — Если бы граф де Бриссак захотел, — сказал инвалид, вздыхая, — он позволил бы мне продажу на нынешнюю ночь. — Разве ты не видишь, кум, — продолжал монах, — что этот испанец боится, чтобы его солдаты не заснули от твоего напитка? Эти слова заставили задуматься Эсперанса, которого, впрочем, многое заставляло считать себя в исключительных обстоятельствах. На лестнице, которая скрипела под их ногами, монах наклонился к молодому человеку и шепнул ему на ухо: — Будьте внимательны с испанцами; надо быть осторожным. Смотрите, слушайте, и чтобы ни один мускул в вашем лице не говорил… Эсперанс сделал движение, как бы спрашивая причину этого совета. — Испанцы недоверчивы, — отвечал женевьевец, приложив палец к губам. «Стало быть, внизу больше возможности на развлечение, чем наверху», — подумал Эсперанс. Оба вошли в караульню, где их присутствие не произвело никакого впечатления. Все присутствующие занялись исключительно парижским губернатором, который, возвращаясь, приказал отворить для себя ворота и которого караульные, забрызганные грязью, промокшие, проводили опять к воротам, не имея случая убить его, как получили приказание. — Ну, капитан, — сказал Бриссак, подходя к дону Хозе с тем веселым видом, который не оставлял его никогда, — славную прогулку сделали вы; спросите ваших друзей, которые провожали меня. Не правда ли, господа, что вы довольно нагулялись? Вы свободны; поезжайте сказать герцогу Фериа, что вы видели. Ворчание за дверью караульни отвечало на эти слова, и восемь испанцев не заставили повторить себе этого приказания, они исчезли. — Мы сделали, по крайней мере, восемь лье, — продолжал Бриссак, — не встретив ни одного из этих всадников роялистских, которые, по словам герцога, наводнили окрестности. — А! — сказал Кастиль. — Погода слишком дурна для роялистов, дождь, ветер, грязь — это хорошо для храбрых испанцев. А я просто выбился из сил, еду спать и советую вам, сеньор Кастиль, и вашим солдатам сделать то же самое. — Господа милиционеры уже храпят, — сказал испанец с надменным видом, — послушайте-ка. В самом деле, на скамьях и на столе виднелось двенадцать милиционеров, погруженных в шумный сон. Женевьевец считал испанцев во время этой сцены. Он подошел к Бриссаку и Кастилю. — Как! — сказал он. — Вы даже не встретили большого конвоя, который проезжал через Рюель в эту ночь? — Какого конвоя? — спросил Бриссак, обернувшись, чтобы рассмотреть странную фигуру, вмешавшуюся в разговор. — Я думал, что вы захватите эту добычу, — продолжал женевьевец. — Я сейчас говорил моему племяннику, когда привратник назвал вас: «Графу де Бриссаку посчастливилось, говорю я, это верно его герцогиня послала захватить денежный конвой Беарнца». — Денежный конвой? — закричали Бриссак и Кастиль. Женевьевец приблизился и как бы нечаянно дотронулся до руки губернатора. — Шестнадцать тысяч ливров, — сказал он, — новенькими экю. — Черт побери, славная сумма! — вскричал Бриссак с алчным взглядом, неприметно толкнув ногой сандалии монаха. — Но ведь этот конвой — выдумки, как и кавалерия. — Вы почему же это знаете? — спросил дон Хозе женевьевца. — Мой монастырь в Безоне возле Рюеля, где должен проходить конвой. Он должен пройти, потому что сегодня утром приготовляли на смену лошадей для четырех повозок и даже у нас взяли лошадей. Глаза испанца все более сверкали. — Вы говорили о герцогине Монпансье — перебил он. — Да, наш преподобный приор ее друг и послал меня предупредить ее об этом конвое. Я не нашел герцогиню в отеле, но оставил записку. Вот почему, зная, что граф де Бриссак за городом, я говорил себе: его послали навстречу этому конвою, и ему посчастливится. — Шестнадцать тысяч ливров, — сказал Бриссак, — а герцогиня ничего мне не сказала! — И вы прямо от герцогини пришли сюда? — сказал Кастиль, любопытство которого удвоилось. — Да, сеньор, а ворота были заперты. — Вы знаете, что они заперты всегда. Нет, их теперь отпирают! — Но зачем вы выбрали эту дорогу в ваш монастырь? — Это самая короткая. Все ответы женевьевца были так ясны, так просты, тон, которым они были произнесены, носил отпечаток такой искренности, что испанец смутился до глубины сердца. — Шестнадцать тысяч ливров! — повторил он. — Я их пропустил! — вскричал Бриссак. — Вот была бы славная выгода. Он вздохнул. — Поеду спать, — сказал он. — Как бы то ни было, мой достойный брат, я тем не менее благодарю вас за ваше сведение. Если на дороге я найду друга верхом на свежей лошади и с пустым кошельком, я передам ему это дело. Спокойной ночи, господа; караульте хорошенько, дон Хозе, я возвращаюсь домой. — Не можете ли вы приказать отворить для меня ворота? — сказал женевьевец Бриссаку, который уходил. — А! Это касается капитана, я ничего не могу сделать у него. — Останься, — шепнул Кастиль на ухо брату Роберу, — мы поговорим об этом. «Он не устоит, он поедет за конвоем, — подумал Бриссак, — и бросит свой пост. Экий славный монах!» — Если вы скучаете, племянник, — сказал монах Эсперансу, — пойдите поговорить с этими господами из народной милиции, которые говорят по-французски, как мы. Эсперанс повиновался странному взгляду брата Робера и пошел к милиционерам, из которых большая часть так громко храпела. Вдруг его остановила рука, крепко сжавшая его руку под столом направо. Он вздрогнул и чуть не вскрикнул, узнав в одном из спящих Понти, левая рука которого закрывала голову, оставляя открытым лукавый глаз, сверкавший, как карбункул. Эсперанс еще не опомнился от удивления, когда налево под этим самым столом два колена схватили его ногу, как тиски. Офицер милиционеров, приподняв с усилием свою голову, отяжелевшую от сна, показал под забралом молодому человеку лицо, при виде которого Эсперанс чуть не упал навзничь. Все тайны ночи открылись ему. Он спокойно затянул пряжку своей портупеи, удостоверился, что эфес шпаги у него под рукой, потом сел возле Понти, оставив женевьевца, у которого Кастиль после ухода Бриссака спрашивал еще объяснений. Вдруг раздался быстрый галоп, громкий и звучный голос, как звук трубы, закричал: — Граф де Бриссак! Здесь граф де Бриссак? В ту же минуту молодой человек, покрытый потом и вымоченный дождем, спрыгнул со своей лошади и устремился в караульню, крича: — Граф де Бриссак! — Я здесь, — сказал губернатор. — Я прислан герцогиней; неприятельская кавалерия показалась в окрестностях. — Ла Раме! — закричали Эсперанс и Понти, вскочившие при звуке этого голоса и очутившиеся лицом к лицу с адъютантом герцогини. — Они здесь! — воскликнул ла Раме, побледнев, как привидение. Вся караульня бросилась к ружьям и к алебардам. Милиционеры вооружились в один миг. На всех лицах выражались ненависть и воинская отвага. — Господа! — закричал ла Раме, указывая на своего врага, который жался к Эсперансу. — Этого человека зовут Понти, это королевский гвардеец. Измена! — Негодяй! — прошептал офицер милиции, ударив ла Раме кулаком по голове. — Кавалер де Крильон! — заревел тот. При страшном имени Крильона дон Хозе, испанцы и вся караульня заревела от страха и от бешенства. Все указывали друг другу на милиционного офицера, все приготовляли оружие. — Ну да, я Крильон, — сказал кавалер громким голосом, бросая далеко от себя смешной шлем, закрывавший его голову, — я храбрый Крильон! Ко мне, мои гвардейцы, и мы посмотрим! Говоря эти слова, он схватил шпагу, эту страшную шпагу, которая, выдернутая из ножен, как будто разделила башню на два куска, как молния разделяет тучу. Позади него и возле него маленький отряд составился так регулярно и так самоуверенно, что испанцы отступили на средину залы. Женевьевец, холодный и бесстрастный, вытолкал вон Бриссака, который вытащил шпагу, как другие, и запер огромные запоры двери караульни. Потом он прислонился к этой двери, опираясь обеими руками о топор, который он снял с этой двери. — Караульте окно, — сказал он Эсперансу, который тотчас побежал в ту сторону. — Шестьдесят против двенадцати! — закричал дон Хозе, указывая своим людям на горсть французов, загораживавших ему дорогу. — Двенадцать против шестидесяти! — закричал Крильон голосом ревущего льва. — Помните, дети, ни один из этих негодяев не должен живой выйти из башни, потому что это помешает въезду короля. Эсперанс, я обещал показать вам Крильона на проломе, смотрите! Залп испанских ружей вонзил пули в стены. Крильон и его гвардейцы бросились на землю плашмя и поднялись проворно, как леопарды. — Теперь, — сказал кавалер, — вперед! Они наши! Он бросился; его сверкавшие глаза выбрали двух человек для двух первых ударов шпаги. Два человека повалились к его ногам. Когда его гвардейцы и он сошлись в дыму, десять испанцев лежали на полу, все пораженные в горло и в сердце, все убитые. Ни один француз не был ранен. Ла Раме среди испанцев имел в руке шпагу, так же как и другие, но он еще не наносил ударов; будто это страшное зрелище лишило его рассудка, он оставался неподвижен и не мог привыкнуть к этому ужасному положению. Понти звал его, с ругательствами произнося его имя; он не отвечал. Дон Хозе опять повел своих на атаку; этот смешной сеньор бывал иногда храбр, но в этот день он дрожал, как всякий зверь, чующий льва. Его отряд опять наткнулся на шпаги гвардейцев, опять повалились мертвые, запах крови и пороха сгустился под мрачными сводами башни. Дон Хозе упал с разрубленной годовой. Испанцы колебались. — Пойдем мы, если они не идут! — закричал кавалер, принимая наступательное положение, и снова напал на испанцев. Одни, вне себя от испуга, старались отворить запоры двери, но находили там безмолвного женевьевца, который убивал их топором; другие подбегали к окну, где Эсперанс поражал их ударами шпаги; третьи цеплялись за решетку бойницы; четвертые умоляли победителя, бросая оружие. Ла Раме, видя себя погибшим, принял свирепое намерение: он три раза отступал перед дверью, защищаемой женевьевцем, бросился к окну, скрестив шпагу с Эсперансом, потом вдруг, притворившись, будто ранен, упал. Великодушный Эсперанс поднял свою шпагу. Тогда ла Раме схватил его за ноги и уронил на пол. В это время другие раненые отворили окно и бросились в Сену, получив дорогой новые удары. Взбешенный Понти бросил все, чтобы лететь на помощь к Эсперансу; он искал в этих двух телах, перевившихся и катавшихся по полу, место, куда вонзить шпагу, но как поразить врага, не ранив друга? Только одни головы можно было узнать в этой страшной луже крови. Понти уловил минуту, когда голова ла Раме ясно обозначилась, и ударил по ней эфесом своей тяжелой шпаги. Негодяй, оглушенный, выпустил Эсперанса, тот приподнялся. Оба, и Понти, и он, схватили бесчувственного врага и выбросили его в окно. Потом они бросились в объятия друг друга, прошептав: — На этот раз он умер. С этой минуты битва превратилась в резню. Немногие оставшиеся раненые были выброшены тем же путем, и Крильон, облитый потом и кровью, мог отдохнуть со своими гвардейцами на куче трупов. — Теперь четыре часа, и, кажется, вот его величество, — спокойно сказал брат Робер. Он отворил дверь караульни. Послышались трубные звуки королевской армии у Новых ворот. Брат Робер топором разрубил дубовые доски, поддерживавшие цепи подъемного моста, и этим же самым топором отпер тяжелые ворота, затрещавшие на своих петлях. Всадник, с белым шарфом на кирасе, с лучезарной физиономией, со сверкающими глазами, подняв руки к небу, первым въехал на подъемный мост. — Я здесь! — вскричал он. — Слава Господу, защищающему Францию! — Да здравствует король! — сказал взволнованный и торжественный голос женевьевца, державшего ворота, в которые устремился всадник, дрожавший от радости. — Да здравствует король! — повторили на пороге караульни Крильон и его гвардейцы, махавшие своими красными шпагами. Генрих Четвертый въехал таким образом в свой город, и его глаза, потемневшие от радостных слез, напрасно искали друга, который отворил ему ворота. Брат Робер опустил капюшон на глаза и медленно пошел по дороге в свой монастырь.Глава 35 СРОК ПЛАТЕЖА
Видя, что ла Раме не возвращается, и думая, что тревога была фальшивая, герцогиня Монпансье легла спать в три часа утра, очень утомившись за ночь. Отпустив своих женщин и своих капитанов, она спала как простой солдат. Вдруг необыкновенный шум раздался в ее передней, смутный говор разбудил ее, дверь отворилась, и ее испуганный дворецкий доложил: — Посланный от короля. Герцогиня приподнялась. — Какая дерзость! — сказала она. — От какого это короля, и почему этот король, если он только существует, позволяет себе нарушать мой сон? Но посланный уже переступил через порог комнаты. — По приказанию его величества, — сказал он. Взбешенная герцогиня закричала: — Я хочу видеть дерзкого, который смеет произносить здесь имя величества вместе со словом «приказание»! — Милостивая государыня, — сказал, низко поклонившись, посланный, который был не кто иной, как Сен-Люк, бывший друг Генриха Третьего, — это не столько приказание, сколько просьба, которую я имею честь передать вам от имени короля. У самых ворот Парижа его величество подумал о вас. — Он у ворот, — закричала герцогиня, — а мне этого не сказали!.. Слава богу! Я поспею вовремя. Подайте мне шпагу! — Для чего это? — спросил вежливо Сен-Люк. — Прежде всего, милостивый государь, воротитесь туда, откуда вы приехали, и скажите тому, кто вас послал, что я не хочу слушать никаких предложений с его стороны. Прибавьте, что испанцы… — Извините, но вы не поняли меня. — Довольно, говорю я вам, довольно! Где мои офицеры, мои телохранители? Как позволили войти сюда посланному Беарнца? — Ни телохранители, ни офицеры не будут вам отвечать, — сказал Сен-Люк с улыбкой, — они вам уже больше не нужны. Я приехал сюда в одно время с моим государем, который называется не Беарнцем, а королем французским, и приехал из его Лувра. Герцогиня побледнела. — Лувр не принадлежит никому, насколько мне известно, — сказала она. — Извините, он принадлежит королю, и его величество занял его. — Король занял Лувр? — вскричала герцогиня. — Точно так. — С которых пор? — С четырех часов утра. — Король в Париже? — Вы можете стать у окна, и вы увидите, как он поедет в церковь Парижской Богоматери. — О, меня там не было! — прошептала она. — Я спала! Но испанцы… — Вам трудно будет найти их в эту минуту, они спрятались так хорошо. — Король в Париже! — пролепетала герцогиня, ища, к чему бы ей прислониться, как будто лишилась чувств. Сен-Люк вежливо подошел к ней. — Я вас понимаю! — вскричала она, выпрямляясь с дикой энергией. — Вы пришли исполнить приказания победителя. Вы пришли спросить у меня мою шпагу, арестовать меня; но скажите вашему господину, что я и при пытке останусь тем, кем должна быть принцесса моего имени. Ну, покажите мне дорогу. В Шатле или Бастилию едем мы? Я следую за вами. — Ваше воображение заходит слишком далеко, — сказал Сен-Люк, — и вместо ареста я имею честь передать вам простое приглашение от имени его величества. — Объяснитесь, — сказала герцогиня, несколько успокоенная словами такого знатного человека. — Король приглашает вас на полдник в Лувр сегодня после вечерней службы. — Что это за насмешка? — Это вовсе не похоже на насмешку. — Король, как вы его называете, и я смертельные враги и не можем полдничать вместе. — Кажется, его величество не такого мнения, потому что вас ждут в Лувр, и его величество изволил сказать мне, что ему будет очень неприятно, если вы не приедете. Сказав эти слова с совершенной вежливостью, Сен-Люк, делая вид, будто не замечает волнения герцогини, низко поклонился и ушел, между тем герцогиня как сумасшедшая бросилась к окну, растворила его настежь и, видя всеобщую суматоху, белые шарфы, слыша крики радости, упала в обморок на руки женщин и лакеев, единственных придворных, которые ее не бросили, потому что боялись потерять жалованье. Между тем прибежал запыхавшись, с расстроенным видом молодой фаворит герцогини, Шатель, который упал к ногам своей августейшей повелительницы. — Мой бедный Шатель, — сказала томная принцесса, — кончено! — Увы, ваше высочество! — Мы побеждены!.. — Нет, нам изменили. — Кто? — Граф де Бриссак. — Негодяи! Но разве испанцы не сопротивлялись? — Пост у ворот Сент-Оноре сдался, а ворота Сен-Мартенские и Сен-Дениские были отворены эшевенами. — Но наши друзья, герцог Фериа… — Проснувшись, он нашел в своей передней караул конногвардейцев Беарнца. — Что сделалось с испанцами? — Они были заперты роялистскими солдатами. — Но народ? Но Лига? — Народ подло бросил Лигу, он смеется, поет, кричит: да здравствует король! Не угодно ли прислушаться? В самом деле вдали слышались громкие восклицания, смешивавшиеся с пушечными выстрелами. — Дерутся! — вскричала герцогиня. — Нет, это Бастилия сдается, и канонеры роялистские разряжают пушки. — «Король, король, да здравствует король!» — кричали тысячи восторженных голосов под самыми окнами герцогини. — Пусть отыщут ла Раме, — сказала герцогиня с мрачным видом. — Ах, ваше высочество! — сказал молодой суконщик, потупив глаза. — Этот бедный дворянин… — Ну? — Вы его послали к Новым воротам. — Это правда, предупредить Бриссака. — Караул у Новых ворот был истреблен; испанцы, составлявшие его, убиты милиционерами и брошены в реку. — А ла Раме? — Если он не воротился, это значит, что он разделил их участь. — Ах, это слишком, это слишком! Надо умереть! — Ваше высочество… — Надо умереть! — прошептала она с бешенством. — Шпагу, кинжал!.. — Ваше высочество, милая герцогиня, ради бога… — Сжалится кто-нибудь над моими страданиями! — ревела эта страшная женщина. — Найдется друг, который избавит меня от стыда видеть победителя! Ради бога, это значит оказать мне услугу — смерть! Она постепенно оживлялась, и все ее нервы дрожали, как ослабевшие струны арфы. — Убей меня, как убил себя Брут, как убил себя Катон, убей меня, и я буду тебя благословлять; я умоляю об этой милости. Говоря эти слова, она раскрыла грудь, которая еще гораздо более, чем ее душа, была черна. Простодушный молодой человек, электризованный этим трагическим бешенством и освоившийся чтением Тита Ливия с высоким самоотвержением древности, вообразил, что ему предназначено разыграть роль римлянина. Он счел слова герцогини серьезными, от ее криков у него закружилась голова, он вытащил свой кинжал и подбежал к герцогине, чтобы заколоть ее по-древнему. Но она, призванная к действительности при виде кинжала, оттолкнула Шателя и закричала: — Достало было ума! Неужели ты думаешь, что я должна умереть! Тон, которым были произнесены эти слова, проник до глубины души молодого человека. Он вложил кинжал в ножны. — Вы правы, — сказал он, — я понимаю. Глаза их окончательно перетолковали мысль. Вдруг народ, бросившийся на площадь с безумной радостью, возвестил о прибытии короля. Явился Генрих с обнаженною головой. Его окружали его верные друзья: Рони, Крильон, Сен-Люк, Санси, все его капитаны, все его советники. Толпа целовала его лошадь и одежду. Король отправлялся в церковь Парижской Богоматери благодарить Бога за свой успех. Бриссак был назначен маршалом. — Идет дождь, — говорили лигеры, — дурное предзнаменование. — Идет дождь, — говорили роялисты, — это благословение небесное, чтобы потушить фитили лигерских ружей, которые могли убить короля. Между тем великолепное зрелище ждало парижан по выходе из собора; король хотел покончить с испанцами. Они шумно собрались, приготовили оружие и ждали смерти. Находясь среди огромного народонаселения, которое их ненавидело, и могущественной армии короля, они могли погибнуть от малейшего неосторожного поступка. Между народом слышался глухой ропот, предшествующий исполнению страшного мщения. Весь Париж знал уже, что испанцы, собравшиеся у Сен-Дениских ворот, получат наконец наказание за свое продолжительное тиранство, за свое вероломство против государя, который сражался с ними всегда лицом к лицу. Толпа, жадная к кровавым зрелищам, приготовлялась к этому; истребление целой армии, какое возмездие! Окрестности Сен-Дениских ворот были заняты сотнями тысяч зрителей, которые ждали только одного знака, чтобы сделаться действующими лицами этой трагедии. Испанские солдаты, опираясь на свои пики или ружья, согнулись мрачно, с унынием, со стыдом под тяжестью всех этих раздраженных взглядов. Возле некоторых стояли жены и дети. На каждом лице можно было прочесть ужас, отчаяние и голод. Герцог Фериа, упавший с вершины своей гордости, должен был подчиниться воле победителя. Окруженный своими офицерами, такими же бледными, как и он, он молчал и думал только о том, как бы хорошо умереть. Длинная цепь гвардейцев и стрелков окружила испанцев. Появился король. Впереди его ехал маршал Бриссак с кавалерийским конвоем. В толпе сделалось движение, похожее на отлив моря. Волны отхлынули и оставили пустыми улицы и площадь; одни только окна, ворота и укрепления города наполнились зрителями, по большей части вооруженными. Испанцы увидали вокруг себя только королевских солдат и пушки, готовые стрелять. Минута была торжественна. Сердца всех трепетали. Испанцы поручили свою душу Богу. Тогда Бриссак подъехал к герцогу Фериа с обнаженной головой и бесстрастным лицом, и все вообразили, что он объявит ему роковой приговор; даже биение сердец смолкло. — Герцог, — сказал маршал, — король послал меня к вам сказать, что этот день победы есть и день прощения. Вы свободны. Выезжайте из Парижа без опасения с вашим оружием и вещами, ворота открыты. Уезжайте, когда вам угодно. Только что он кончил эти слова, как, перейдя от глубокого страха к самой безумной радости, солдаты и офицеры, которые считали себя убитыми или, по крайней мере, военнопленными, бросили шляпы в воздух и огласили весь квартал громом своих восторгов. Жены этих несчастных с детьми встали на колени и вознесли к небу горячие мольбы за великодушного монарха, который спасал их от жестокой смерти. Герцог Фериа, глубоко тронутый, поклонился, чтобы поблагодарить Бриссака. Слова замерли на его губах. Вся толпа зрителей забыла свою ненависть, чтобы восхищаться милосердием победителя. Если парижане теряли зрелище, которое трудно было заменить, зато они приобретали уверенность, что ими будет управлять великодушный государь. Генрих Четвертый стал у окна в Сен-Дениских воротах, и по знаку начальника солдаты иностранной армии встали в ряды и пошли по четыре в ряд с распущенными знаменами. Неаполитанцы первые проезжали под воротами, потом испанцы, потом испанцы и ландскнехты; каждый до последнего служителя в армии смотрел на короля, стоящего у окна, и низко кланялся, держа шляпу в руке. Некоторые в порыве признательности кричали: «Да здравствует король французский!» — и становились на колени, желая ему благоденствия. Когда герцог Фериа проехал в свою очередь, он остановил свою лошадь, чтобы оказать более чести благородному государю, даровавшему ему жизнь, и прошептал комплимент, в котором благодарил Генриха Четвертого за то, что он пощадил его бедных солдат. Король, всегда веселый и остроумный, отвечал: — Вот это хорошо, герцог, рекомендуйте меня Филиппу Третьему, вашему государю, но не возвращайтесь сюда. Испанцев проводил Сен-Люк с чрезвычайной вежливостью до Буржа, оттуда их проводили до границы, и таким образом завершилось взятие Парижа. Король, решившись рассеяться, в тот же вечер принимал в Лувре герцогиню Монпансье, которую обыграл в карты вместо всякого мщения. Но если развлечение было не очень веселое, зато мщение было самое полное. Герцогиня вместо резни, которой она ожидала, видела, как украсились все лавки и все дома, как горожане весело разговаривали с военными, как народ пел и смеялся. Лига растаяла, как снег от солнца, и последняя надежда честолюбивых Гизов испарилась, как дым от ветра. Герцогиня воротилась домой серьезно больная и слегла в постель, но никто не занимался ею; гораздо больше говорили о жене одного мясника-лигера, которая умерла от бешенства, узнав о въезде короля в Париж. К десяти часам вечера ла Варенн подошел к королю и шепнул ему несколько слов; его величество с лучезарною улыбкой оставил собрание и ушел в свою комнату. На другое утро на рассвете в одной из зал луврского дворца множество дворян собралось около яркого огня. Они весело завтракали остатками большого пира и разговаривали не о прошлом, а о будущем возродившейся Франции. Это были дежурные гвардейцы, несколько придворных, добившихся милости стеречь короля в его дворце в первую ночь, которую он там провел после стольких летизгнания и битв. И эти счастливцы, если судить по числу пустых бутылок, должно быть, не скучали, пока король спал. Между гвардейцами виднелся Понти, между придворными все восхищались Эсперансом, которого Крильон представил королю как одного из храбрых сподвижников у Новых ворот и которому его храбрость, его благородная наружность тотчас приобрели множество друзей. Но еще один человек также привлекал внимание — де Лианкур, еще более горбатый, еще более восхищавшийся собою, чем прежде. Понти, немножко разгоряченный вином и которому надоело скромничать целую ночь, бросал в достойного д’Амерваля стрелы, свист которых слышали все и которых не чувствовал только он один, хотя они попадали метко. Горбун в двадцатый раз пил за здоровье короля. — Вы разве примирились с его величеством? — вскричал Понти. — Мне кажется, вы были в дурных с ним отношениях? — Конечно, но теперь кончено. Король был снисходителен, я был остроумен, и мы успели понять друг друга. — Расскажите-ка нам, — сказал Понти, несмотря на все знаки Эсперанса. — Я обязан моим возвращением доброму совету преподобного приора женевьевцев, — отвечал де Лианкур. — Это он, через толмача сообщив мне вчера о въезде короля и великодушии его величества к испанцам, намекнул, что пора уже перестать дуться на короля. — Вы дулись? — вскричал кто-то. — Месье де Лианкур удалился в свои погреба — извините, в земли! — вскричал Понти. — Но зачем же он дулся? — спросил один любопытный. — Это семейные дела, — сказал Эсперанс, который дрожал, чтобы не было произнесено имя Габриэль. — Я последовал совету преподобного приора, — продолжал горбун, — и вчера вечером, как только освободился, я приехал в Лувр приветствовать короля. Его величество принял меня милостиво, улыбнулся мне и, вместо того чтоб отпустить меня в Буживаль, удостоил удержать во дворце между вами, где я провел очаровательную ночь, уж наверняка такую, какую не провел король. Лукавая улыбка скользнула на губах ла Варенна, который разговаривал в амбразуре с капиталистом Заметом. — Вот король захватывает этого несчастного кротостью, — шепнул Понти Эсперансу, — это гораздо опаснее. — К счастью для него, — отвечал Эсперанс с принужденным смехом, — что его жена еще не въехала, как король, в Париж. Только что он кончил, как гвардейский капитан позвал Понти по службе. Разговор, таким образом, был прерван к большому удовольствию Эсперанса, которого он огорчал. Понти вышел, но через несколько минут воротился и позвал Эсперанса, который поспешил подойти к нему. — Что такое? — спросил молодой человек. — Мне оказана большая милость; я должен по приказанию короля провожать кого-то в деревню. — Пленника? — Вероятно. Будет очень скучно. Хочешь ехать со мной? По крайней мере, мы поговорим. — Охотно. — Я велю оседлать твою лошадь вместе с моей; жди меня вон в той аллее возле реки. Я приведу наших обеих лошадей; не заботься ни о чем. — Хорошо, — сказал Эсперанс. Он пошел к назначенному месту. Начинало рассветать. Вчерашний дождь перестал, свежий ветерок волновал реку и таинственно шелестел деревьями, наклонявшимися над водой. Из дворца выехали носилки, закрытые большими занавесками; два белых лошака тихо везли их по песку. «Это пленник, к которому имеют внимание», — подумал Эсперанс, когда носилки проехали мимо него. Занавески заволновались от ветра, и из них вышел душистый запах, ударивший в голову Эсперанса, как внезапное воспоминание. — Поезжайте по дороге к Буживалю, — сказал кучеру женский голос, заставивший вздрогнуть молодого человека. В ту же минуту занавеска раскрылась, и любопытная головка выглянула из носилок. — Грациенна! — вскричал Эсперанс. — Месье Эсперанс! — прошептала молодая девушка, которая в своем необдуманном удивлении оставила занавески открытыми. Напротив нее сидела Габриэль, которая при имени Эсперанса закрыла руками свое вспыхнувшее лицо. Молодой человек побледнел и прислонился к дереву, как будто земля исчезла под его ногами. Черное покрывало закрыло от глаз его всю вселенную. Он не слыхал, как подбежал к нему Понти с обеими лошадьми. — Поедем! — весело сказал гвардеец. — Какое прекрасное утро! После такой чудной ночи мы сделаем очаровательную прогулку. Ну, ты еще не садишься? — Я не гвардеец короля, — отвечал Эсперанс мрачным голосом, — исполняй один твою службу. Прощай! Он убежал с раздирающимся сердцем, между тем как носилки двинулись в путь. Занавески, опустившись, заглушили вздох, болезненный, как рыдание. — Какой каприз пришел в голову Эсперансу? — спрашивал себя Понти, принужденный следовать за носилками. Габриэль сдержала свое слово, данное королю.Глава 36 ПО ПОВОДУ ЦАРАПИНЫ
Прошло десять месяцев после взятия Парижа; год кончался. Декабрь рассыпал по окрестностям свои черные туманы, свои глубокие снега. Давно уже зима не свирепствовала во Франции с такой суровостью. Все улыбалось королю. Каждое его желание исполнялось. У него родился сын от мадам де Лианкур, и этого ребенка, родившегося среди побед, собирались крестить в церкви Парижской Богоматери, как только воротится король из Пикардии, где он сражался с де Майенном. Это известие, быстро распространившееся, повсюду принималось с комментариями, и для всякого, кому известно французское остроумие, легко понять, что оно занимало народ больше, чем холод, голод и война. Мы не можем сказать, этот ли предмет разговора выбрали два странных человека, которые ехали в декабре к воротам Мелена. Оба были закутаны в большие полосатые плащи, похожие на арабские бурнусы; они ехали рядом по снегу, произнося проклятия на итальянском языке басом и сопрано. Бас выходил из широкой и могучей груди. Лошадь была маленькая, но всадник великолепный, судя по черным глазам и черной бороде, которых складки плаща не всегда закрывали от холодного ветра. Сопрано была маленькая женщина, то с меланхолическим, то жгучим, как молния, взглядом. Она дрожала на своем лошаке, думая только о том, как бы защититься от ветра, и ругая то своего спутника, то скользкую дорогу, то эту отвратительную страну, то противные меленские ворота, которых все еще было не видать. Наконец доехали до этих ворот. Надо сказать, что дорога сделалась не так пуста по мере приближения к городу. Несколько путешественников проехали мимо итальянца, другие остались позади, и все находили странной наружность этих иностранцев. Они также находили странными этих любопытных и насмешливых французов и, вероятно, говорили себе это на своем языке, а если и не говорили, то глаза молодой женщины и ее ироническая улыбка были довольно красноречивы. У ворот была караульня солдат и сборщик пошлин, который рассматривал приезжих с большим вниманием, чем бы следовало. Наружность иностранцев поразила этого человека, он остановил их. — Как вы торопитесь! — сказал он. — Надо осмотреть ваши чемоданы. По его знаку несколько солдат взяли за узду лошадь и лошака. — Siamo forestieri! — закричала молодая женщина с нетерпением. — О, о! Испанцы! — сказал сборщик, принявший за испанский этот чистый итальянский язык. — Испанцы! — повторили вокруг него солдаты, которых привычка к войне дурно расположила к их врагам. Осмотрели чемоданы, в которых ничего не оказалось подозрительного. Собралась большая толпа. Мнимые испанцы рассуждали между собой с живостью и не могли сказать и двух слов по-французски, чтобы отвечать на вопросы сборщика. Между тем женщина, которая была более раздражительна, совсем открыла свое лицо, которое было правильно, тонко и запечатлено южным типом. Лукавые глаза, подвижная физиономия, игра губ, показывавших два ряда великолепных зубов, не удовлетворили сборщика, который повторил еще упорнее: — Испанцы! Испанцы! Ваши бумаги! Поза спутника дамы была во все время этой сцены чрезвычайно спокойна, невозмутима. Он не давал себе труда пошевелиться. Было ли это действием страха? Часто трусы или люди с неспокойной совестью пользовались неподвижностью как ресурсом. Или он не понимал то, что происходило? Но пока он оставался закутанным в свой плащ и точно жил только одними глазами, зрачки которых быстро переходили от одного присутствующего к другому. Вдруг сборщик тихо заговорил с начальником солдат, а тот закричал: — Да, это правда! Он закрывал свой глаз. — Откройте ваш глаз, — сказал сборщик итальянцу, который не понимал. — Он притворяется, будто не понимает, — шептали присутствующие. — Ваш глаз, ваш глаз! — повторяло двадцать нетерпеливых голосов. Растерявшийся итальянец смотрел на свою спутницу и не шевелился. Начальник поста вдруг сдернул плащ, закрывавший голову незнакомца. Он был красив, имел довольно гордое выражение, несмотря на некоторую пошлость, которая не исключает красоту в низших классах восточных пород. — Его глаз налит кровью, — закричал сборщик, — это он! — Это он! — повторили присутствующие, которые знали эту тайну. — Это он! Это он! — закричало сто голосов, не понимавших, в чем дело. В самом деле, правый глаз итальянца имел под веком красную полосу, доходившую до виска. Солдаты бросились на этого человека, стащили его с его маленькой лошади, и по примеру солдат множество зрителей начали теребить и колотить несчастного, ни имени, ни преступления которого они не знали. Видя это, его молодая спутница начала жалобно и пронзительно кричать. — Не бейте его, — говорили солдаты, — мы его изжарим. — Нет, нет, — говорил сборщик, — он должен признаться, кто его сообщники. — А, злодей испанец! — кричал один. — А, негодный убийца! — ревел другой. — О, povero Concini! — стонала маленькая женщина, храбро заступаясь ногтями за своего несчастного спутника. Но мало-помалу ее самое увлекли к каморке сборщика, которая скоро должна была превратиться для обоих в комнату пытки. Между тем высокий, белокурый молодой человек на прекрасной турецкой лошади и в сопровождении лакея на такой же прекрасной лошади, как и он, подъехал к Меленским воротам; когда он увидал эту сцену, предвещавшую трагическую развязку, когда услыхал крики молодой женщины, он ударил по плечу солдата, тащившего несчастную, которая цеплялась за руку своего товарища. — Эй, приятель, — сказал он, — вы разорвете пополам эту несчастную женщину. — Большой беды не будет, — отвечал солдат с некоторым уважением к величественной наружности незнакомца, — это испанка. — Pieta! Pieta! Signor! — закричала та при виде заступника. — Это не испанка, а итальянка, — сказал молодой человек, который поспешно сошел с лошади и так сильно стал трясти солдата, что тот выпустил добычу. — Итальянка!.. — сказала удивленная толпа. Солдат, сделавшись почтительным, потому что ощупал твердые мускулы незнакомца, приблизился, говоря: — Вы хотите защищать убийцу нашего доброго короля! — О! О! Это другое дело, — отвечал молодой человек. Но женщина поняла, что к ней подоспел переводчик, и начала говорить по-итальянски с незнакомцем, который отвечал ей на том же языке. Радость бедной обвиненной была так выразительна, что она всплеснула руками с таким торжеством, что толпа растрогалась и сказала: — Этот господин их знает. Итальянец, при первом звуке итальянских слов, протянул руки к незнакомцу и закричал: — Что я сделал? Чего от меня хотят? Сборщик и солдат принуждены были остановиться. Нашего молодого человека окружили; его прекрасные глаза сияли чистосердечием, мужеством и умом. Он с первого взгляд приобрел расположение всего собрания. — Милостивый государь, — сказал ему сборщик, — вы понимаете язык этих испанцев? — Это итальянцы, — отвечал молодой человек, — они говорят на самом чистом тосканском наречии. За что с ними обращаются так жестоко? — Посмотрите на его правый глаз, — сказал сборщик. — Он немножко расцарапан. — Это примета, которую нам передали об одном человеке, который должен проезжать здесь, чтобы убить короля в Париже. — Я думал, что его величество не в столице. — Доброго короля туда ждут на крестины его сына. — Какого сына? — Сезара, сына прекрасной Габриэли и короля. Незнакомец побледнел. — Очень хорошо, — прошептал он, с усилием сжимая свою поднимающуюся грудь. — А, этот человек должен убить короля… Стало быть, опять начинается? — Каждую неделю угрожают жизни нашего отца; сегодня очередь вот этого злодея. — Он вам сказал? — Как бы не так! Сначала он притворился, будто не понимает нас, но мы можем догадаться, слава богу! Однако извините, милостивый государь, — недоверчиво прибавил сборщик, — вы что-то слишком защищаете этих негодяев, уж и вы не лигер ли или испанец? Вы с ними говорили на их языке. Есть с вами бумаги? — Конечно есть, — холодно отвечал молодой человек, — и я без всякого затруднения покажу их вам. — Откуда вы? — Я еду из Венеции, куда ездил прогуляться. — Куда вы едете? — В Париж, куда меня зовет кавалер де Крильон. — Кавалер де Крильон! — воскликнул сборщик пошлин с уважением. — Кавалер де Крильон! — повторили солдаты, вздрогнув при этом драгоценном имени. — Вот его письмо; сделайте одолжение, прочтите его, — продолжал молодой человек, подавая развернутое письмо сборщику пошлин. Тот прочел с глубоким уважением и возвратил письмо молодому человеку, перед которым почти все сняли шляпы, бормоча: — Друг храброго Крильона! Между тем оба итальянца могли перевести дух и оправиться. Молодая женщина, схватив за руку своего покровителя, начала с живостью с ним говорить. — Милостивая государыня, — сказал ей молодой человек по-итальянски, — вас и вашего товарища обвиняют в том, будто вы с дурными намерениями едете в Париж. Оба итальянца побледнели. — С какими же? — пролепетала молодая женщина. — Говорят, будто вы хотите убить короля. — Мы? — закричала итальянка. — Мы хотим убить его… напротив… — Кто вы? Старайтесь не колебаться, эти люди наблюдают за вами. Старайтесь не лгать, потому что сам я не прощу вам лжи при таком ужасном обвинении. — Меня зовут Элеонора Галигай, а моего мужа Кончино Кончини. — Чем вы занимаетесь? Она колебалась. — Мой муж — сын флорентийского нотариуса. — А вы? — Я… я его жена. — Что же вы будете делать во Франции? — То, что будет делать Кончино. — Вы отвечаете остроумно, но нечестно. Вы от меня скрываете что-то, и тем хуже для вас, потому что я люблю короля, и, для того чтоб отвратить от него несчастье, я предоставлю вас гневу этой толпы и выпутывайтесь как хотите. Эта угроза, по-видимому, произвела большое действие на обоих итальянцев. — Размыслите, — продолжал молодой человек и приблизился к сборщику и солдатам, говоря: — Эти люди, кажется, не злодеи, а скорее авантюристы, которые скрываются. Я их напугал, они совещаются, и мы узнаем истину. — Зачем у него расцарапан глаз? — приставал упрямый сборщик. — Это правда, я об этом не подумал, — перебил молодой человек и обернулся к итальянцу. — Отчего у вас расцарапан глаз? — спросил он. — Синьор, — с живостью отвечала маленькая женщина, — я ревнива. Кончино — волокита, он вчера перемигивался с какой-то знатной дамой, которая проезжала в носилках, а я ему расцарапала глаза; смеряйте, если хотите, мои ногти. — Это правдоподобно, — отвечал молодой человек, рассматривая руку итальянки, настоящую птичью лапку с прекрасными розовыми ногтями, загнутыми, как когти. — Вам остается сказать мне, зачем вы приехали во Францию; я дал вам необходимое время, для того чтобы дать мне ответ, примиряющий ваши интересы с истиной. Берегитесь, в комнате сборщика разведен огонь, и железо так скоро нагревается. — Per che fare! — закричали оба итальянца. — Чтоб подвергнуть вас пытке, — отвечал молодой человек. — Здесь все любопытны, и, как только я повернусь к вам спиной, вас сумеют заставить говорить. — Это человек благородный, — шепнул итальянец своей спутнице. — Покажем ему рекомендацию. — Постараемся еще помедлить, — отвечала итальянка еще тише. Но молодой человек видел, что присутствующим надоела такая нерешимость и что они начали ворчать. Ему самому наскучило. — Прощайте, — сказал он, — выпутывайтесь как знаете. Он повернулся, чтобы взять за узду свою лошадь, которую ласкали солдаты. Итальянка бросилась, чтоб удержать его, и сказала взволнованным голосом: — Скажите, чтоб вас впустили вместе со мной в такое место, где мы остались бы одни. — Сколько таинственностей, синьора! — Вы поймете почему, — отвечала она. Молодой человек сказал два слова сборщику, который отворил свою дверь. Итальянка вошла, живая, как белка. Кончино остался бесстрастен между солдатами. Молодой человек пошел за Элеонорой в комнату. — Отвернитесь, — сказала она, улыбаясь. Он повиновался, но не так скоро, чтоб не приметить, что она вынимает что-то из-под платья. Он увидал красные шерстяные панталоны, ноги несколько тонкие, но грациозные, и все это появилось и исчезло с быстротой молнии. Итальянка подошла к нему с бумагой в руке. — Вот рекомендательное письмо, которое мне дали во Флоренции, — сказала она. — Оно не запечатано, прочтите, и, когда узнаете, кто мы, обещайте мне честным словом забыть, что вы читали. — Адресовано господину Замету, — сказал он. — Вы его знаете? — Я его видел в Лувре. — А! Вы бываете в Лувре! — с живостью вскричала итальянка. — Как все там бывают, чтобы видеть короля, — отвечал молодой человек. Он прочел в письме эти слова:«Рекомендую Замету мою Элеонору и Кончино, которые едут по делам в Париж. На них надо положиться; это мои преданные слуги. Мария».
— Какая Мария? — спросил молодой человек. — Взгляните на этот известный герб. — Герб Медичи. Итальянка приложила палец к губам. — Итак вы в службе Марии Медичи, племянницы великого герцога Тосканского? — Я ее молочная сестра, дочь ее кормилицы. Я вышла замуж за Кончино; мы бедны и ищем, как бы нажить состояние. Принцесса, которая сама небогата, рекомендует нас синьору Замету, который загребает золото, потому что, как она нам сказала, во Франции можно скоро разбогатеть, когда имеешь хорошие глаза, для того чтобы видеть, и красивые глаза, для того чтобы их видели. — Хорошо, — задумчиво сказал молодой человек, долго смотря на маленькую женщину, которая вырвала у него письмо и опять спрятала его между панталонами и юбками. — Что же, убийцы мы? — спросила, смеясь, итальянка. — Нет, синьора. — Ну, скажите же этим скотам. Но вспомните ваше слово. Не называйте никого. Вы одни должны знать. Молодой человек вышел из комнаты. — Господа, — сказал он сборщику пошлин и начальнику поста, которых он отвел в сторону, — эти итальянцы — купцы с товарами, которые они боятся показать, опасаясь воровства. Я знаю их имена: Элеонора и Кончино. Запишите их в вашем реестре возле моего имени, которое послужит им поручительством. Меня зовут Эсперанс. Я вам оставлю, если вы желаете, письмо кавалера де Крильона как поручительство. — Благодарю вас, — сказал сборщик податей, — но глаз… Эсперанс рассказал про супружескую битву, и все засмеялись. Оба итальянца, примирившись с меленцами, получили даже от сборщика любезный поклон, в котором во всякое время и во всякой стране никогда не отказывают богатому путешественнику. Итальянец сел на свою лошадку, итальянку посадил на лошака Эсперанс, в объятия которого она бросилась со всею фамильярностью старой знакомой. Короткость быстро завязывается при виде красных панталон и хорошенькой ноги. Это обстоятельство заставило итальянку забыть усталость и холод. Позавтракали в хорошей гостинице, и две бутылки французского вина, подогретого и разведенного сахаром, окончательно рассеяли мрачную тучу, нависшую над головой путешественников. Обрадовавшись, что нашли переводчика, они стали расспрашивать Эсперанса, который становился менее общителен, по мере того как допросы умножались. Маленькая женщина, в восторге от прекрасного дворянина, достоинства которого она расхваливала, наконец возбудила бы ревность в Кончино и, если б он был мстителен, получила бы в возмездие несколько царапин. Имя Эсперанса, которого она называла синьором Сперанца, ласкало ей губы, как говорила она, но она выразилась бы справедливее, если б сказала, что оно ласкает ей сердце. Кончино, не разделяя этого энтузиазма, не умолкал насчет услуги, оказанной ему Эсперансом. — Меня разорвала бы на куски эта чернь, — говорил он, — я чувствовал уже их ногти и их зубы… Должно быть, ужасно умирать таким образом! Благодарение ангелу, посланному мне Богом! И он целовал руки Эсперансу, по итальянскому обычаю, между тем как под столом Элеонора, не менее признательная, прятала свои ножки между ногами спасителя Сперанцы. Правда, что во Франции очень холодно. Спаситель, более взволнованный, чем хотел казаться, встал, чтобы покончить с признательностью. Он выразил желание приехать в Париж до вечера, и Элеонора тотчас же, отдохнув от усталости, решилась ехать с ним. Велели привести лошадей, которые отдохнули, все закутались потеплее, и караван отправился в путь. Каждый раз, как нога или плечо могли встретиться, Элеонора, все из признательности, не теряла случая. Она не спускала глаз со своего нового спутника. Кончино философически мечтал и любовался пейзажем. Итальянка спрашивала Эсперанса тысячу подробностей о французских обычаях. Он отвечал с любезной вежливостью благовоспитанного дворянина. Она очень ловко перешла от эстетики к политике, и Эсперанс охладел. Она заговорила о короле. Он осыпал его похвалами. Она стала расспрашивать о старой жене Генриха Четвертого, брошенной Маргарите Марго. Эсперанс рассказал то, что знал. Она перешла к новой страсти короля, мадам де Лианкур, и внимательнее прежнего направила разговор на ту степень привязанности, которую король мог иметь к этой фаворитке. Эсперанс отвечал только односложными словами. Элеонора хотела знать, продолжится ли эта страсть. — Не знаю, — отвечал молодой человек, — я только что приехал из Венеции. — Стало быть, она большая красавица, — спросила итальянка, — если ее называют прекрасной Габриэлью? — Я ее не знаю, — отвечал Эсперанс и тотчас прекратил разговор. После тысячи самых ловких изворотов Элеонора ничего не добилась от Эсперанса об этом предмете, который, казалось, более всего ее интересовал. Зато молодой человек сделался любезен и разговорчив, когда хитрая итальянка расточала ему ласки своих взглядов и слов. А так как Кончино, наконец опомнившись, стал наблюдать зорче, с отчаяния начали разговаривать о деньгах Замета. Таким образом, наступило семь часов ослепительной звездной ночи. Эсперанс хотел проводить путешественников до квартиры Замета за Арсеналом. — Может быть, это вам не по дороге? — сказал Кончино, растревожившись тем, что колено Элеоноры так часто сталкивалось с коленом Эсперанса. — Вовсе нет, я еду в Арсенал, — отвечал француз. Он указал им на дверь богатого капиталиста и простился. — A rivedere, — прошептала Элеонора, — приложив палец к губам. Эсперанс, приехав в Арсенал, узнал, что Крильон еще не воротился со смотра новых войск. Но приказания были отданы приготовить комнату для человека, который спросил его. Молодой человек увидал через это, что Крильон его не забыл. Он вошел в старую готическую комнату, где горел огонь в камине. Его камердинер приготовил постель, подал ужин, которым сам насытился, после того как его господин, утомленный усталостью, лег в постель с надеждой хорошо заснуть. Эсперанс не спрашивал себя, почему Крильон жил в Арсенале. На другое утро, только что он проснулся и одевался, кавалер вошел в его комнату с распростертыми объятиями, со всеми признаками дружелюбной радости. — Ну, беглец, блудный сын, неблагодарный, вот и вы наконец! — вскричал герой, целуя Эсперанса во второй раз. — Что это у вас за страсть — бегать от тех, кто вас любит? Как! Вы объявили, что уедете на две недели, оставили нас среди празднеств после вступления в Париж и остаетесь в отсутствии десять месяцев! Послушайте, друг мой, вы точно хотели убедить нас, что у вас нет ни сердца, ни памяти, потому что с вами обращались здесь хорошо. Эсперанс, растроганный этими знаками привязанности и этими справедливыми упреками, пытался сначала отвечать увертками. Он старался преодолеть или, по крайней мере, скрыть истинное волнение. — Вы знаете, что значит путешествие, — отвечал он, — обещаешь себе сделать сто шагов, а делаешь тысячу. Дорога имеет таинственную привлекательность; деревья как будто протягивают к вам руки и зовут вас, так что едешь далеко, не примечая того. — Я не знал в вас этой наклонности к передвижению, вы любили удобства. — Я люблю их, но везде, где нахожу. — Нашли ли вы их? Мне кажется, что лицо ваше побледнело; вы даже похудели. — От жара. — Ведь теперь мороз. — Во Франции, но не там, откуда я приехал. — Откуда вы? Из Китая? — Как! — с удивлением сказал Эсперанс. — Вы не знаете, откуда я приехал? — Если я вам говорю. — Но ведь вы мне писали туда, где я был. — Конечно, я вам писал, но не зная, куда я пишу. Вы получили мое письмо? — Как это странно! — вскричал Эсперанс. — Вы мне пишете, не зная, в какое место, ваше письмо доходит до меня, а вы его мне не посылали. — Эти вещи случаются только с вами, любезный Эсперанс — весело сказал Крильон. — Но чтоб не подстрекать слишком долго вашего любопытства, узнайте, как это сделалось. Вы простились с Понти и со мной под предлогом какого-то путешествия. Через две недели вы мне написали, что поедете дальше, чем вы предполагали. В четыре месяца от вас не было известия; это было ужасно, потому что в вас принимают участие. — Извините, я писал Понти. — Подождите. Понти рыскал по свету с армией короля. Понти не был в Париже; сегодня дрались здесь, завтра там. Ваше письмо сначала ждало Понти в Париже, в моем доме два месяца, что составляет шесть. Потом, по счастливой случайности, мне прислали его в Авиньон, где я находился. Я хотел отослать его Понти, который был в Артоа, когда я узнал почерк и распечатал письмо. Вы даже не написали вашего адреса. — Вот почему я удивляюсь, — улыбаясь, сказал Эсперанс, — что вы отвечали мне и что ваше письмо до меня дошло. Но вы так добры, и рука у вас такая длинная… — Совсем нет, не делайте меня лучше, чем я есть. Я был раздражен и не отвечал бы, когда в ту минуту, как я больше всего досадовал, в прошлом октябре, я получил вот это письмо. Крильон отпер шкатулку, стоявшую на его буфете.
«Господин кавалер, необходимо вызвать господина Эсперанса из того места, где он находится. Он подвергается там большим опасностям. Благоволите вызвать его письмом, которое я берусь ему доставить. Вы один имеете над ним власть. Назначьте ему свидание в Париже в декабре. Письмо это не имеет другой цели, как участие к молодому господину Эсперансу. Надо во что бы то ни стало оставить его возле вас. Я велю взять письмо завтра из вашего дома».
— Кем это подписано? — вскричал Эсперанс. — Не подписано. Почерк прекрасный, но несколько дрожит, как почерк старика. — И вы написали мне, чтоб я воротился… — Сейчас. Но где же вы были, чтоб подвергаться таким большим опасностям? — Я был в Венеции, — сказал Эсперанс. Крильон подпрыгнул на стуле. — В Венеции? — прошептал он, между тем как кровь прилила к его щекам. — Боже мой! Друг мой, зачем вы поехали в Венецию? — Для того чтоб путешествовать; в Венецию стоит съездить. — Эсперанс, вы обращаетесь со мной не как с другом, — сказал Крильон, сердце которого сильно билось, — вы скрытны. Вы уехали без объяснений, затерялись в отсутствии, возвратились расстроенный, печальный, похудевший — вы, самый веселый, самый румяный из молодых людей, известных мне. Я вас расспрашиваю, вы отнекиваетесь; я настаиваю, вы лжете, да! Ну, пожалуй, не говорите мне ничего. Будем говорить о другом. Дружба Крильона… Ба!.. Что такое Крильон? Старый служака, который уже не помнит своей молодости. — О, какая жестокость! — вскричал Эсперанс. — Вы у меня вырываете тайны сердца. — Они очень горестны? — Должно быть, так, потому что я, никогда не знавший скуки, я так скучал… — Какая же причина этой внезапной скуки? Венеция? Это действительно однообразный город. — О нет! Я в Венеции не скучал, — медленно сказал Эсперанс. — Я был там счастлив, восхитительно счастлив. — Действительно, — сказал Крильон взволнованным голосом, — это веселое местопребывание для молодых людей. — Я там много плакал, — продолжал Эсперанс с очаровательной улыбкой. — А! Вы меня страшно запутали, мой юный друг, — сказал кавалер. — Вы были счастливы и много плакали, как же это согласить? — Прежде я никогда в жизни не плакал, — сказал молодой человек, — а это очень большое удовольствие. — О чем же вы плакали? — О!.. О многом. — О мадемуазель д’Антраг, мошеннице? — Нет, нет! — с живостью вскричал Эсперанс. — Я говорю это потому, что она бегала за вами к женевьевцам; она хотела опять вас поймать, изменница; а я, зная ваши слабости, — сказал себе: «Он еще ею дорожит и старается освободиться от нее, вот почему он путешествует». — Было немножко и этого, — сказал Эсперанс, радуясь, что Крильон перетолковывает вещи таким образом. — Но это не причина, для того чтобы хныкать; в Венеции и без того довольно воды. — Я плакал не о мадемуазель д’Антраг. — О чем же?.. — Соображая мою участь, видя себя одиноким на земле, лишенным любви, я почувствовал смертельную скуку. Я выдержал уже много испытаний, видите ли вы. Мое сердце и мое тело получили жестокие удары. Чем мне утешиться? На чьей груди искать прибежища? Вы меня любите, но я был бы осел, если б стал рассыпать мои жалкие шипы по вашему достославному пути. Понти также меня любит, но это ветреник. Знаете ли, что пришло мне в голову? — Не могу вообразить, — сказал Крильон. — Я думал о моей матери. Кавалер вздрогнул и отвечал испуганным взглядом на спокойный и невинный взгляд, устремленный на него молодым человеком. — О вашей матери… — глухо произнес достойный воин. — Но какая странная мысль, ведь ее нет на свете. — Именно поэтому-то я и подумал о ней. — Для того чтобы вам пришла подобная мысль, вы должны были иметь новую причину. — Я снова прочел ее прощальное письмо. Ах! Счастливый человек мог не понять всего, что было в этом письме, но разбитое сердце тотчас его поняло. Вот почему я ездил в Венецию. — Не понимаю, — продолжал Крильон, — стало быть, вы имели какие-нибудь сведения, которые связывали с Венецией воспоминания о вашей матери? Мне казалось, что я слышал от вас, что вы ничего не знаете, а в письме, которое вы дали мне прочесть, ничего об этом не говорилось. — В моем, — отвечал Эсперанс, — но вспомните, что я привез и вам также письмо того же почерка. — Это правда, ну так что ж? — Вы держали это письмо в руке в первый день, как я имел честь разговаривать с вами в вашем лагере. — Может быть; что ж вы заключаете из этого? — Глаза мои, обратившись нечаянно на это письмо — клянусь вам, нечаянно — прочли эти слова: «Из Венеции, со смертного одра». Крильон вздрогнул. — Эти слова я никогда не забывал, потому что они начертаны той же рукой, которая писала ко мне — рукой моей матери! Крильон молчал. — Так что, когда мной овладела охота плакать, — продолжал Эсперанс, — я отправился в Венецию и отыскивал глазами тела и души то место, где моя несчастная мать испустила последний вздох. Никто меня не знал. Я не хотел расспрашивать никого. Около этой могилы для меня была священная тайна, но я продолжал искать. Дворцы, церкви, монастыри — все, что безмолвно и мрачно, все, что великолепно и шумно, многолюдную базилику и пустой монастырь, развалины, где вьется плющ, сады, где цветут жасмин и роза — я все осмотрел, все допрашивал в моих горестных излияниях. Я поставил себе законом осмотреть все на площади св. Марка, на Пиацетте, на набережной Эсклавон да Кантиери, в убеждении, что моя мать ходила там, где хожу я. Сколько раз я последний, когда всякий шум затихал, разъезжал в моей гондоле по извилинам лагуны и смотрел на небо, смотрел на дворцы, отражающиеся в воде, смотрел на медного льва, на этот меланхолически смешной предмет, на который смотрела также и моя мать! Сколько раз, проезжая при чудном лунном сиянии по цветистым извилинам соседних островов, говорил я себе, что эти оазисы из пахучего тростника, из гранатовых, алоевых и тамариндовых деревьев — прекрасное место для таинственной могилы; везде, где я видел лампаду перед изображением мадонны, везде, где я видел кипарисы в траве за развалившейся церковью, я говорил себе: «Может быть, эта лампада содержится насчет моей матери; может быть, она покоится под этими большими, мрачными деревьями». И я плакал; я любил мою мать. Так хорошо любить кого-нибудь! Крильон встал, повернувшись спиной к Эсперансу, и стал ходить по комнате, швыряя ногой, локтем и плечом каждую мебель, которая попадалась ему на дороге. — Вы смеетесь надо мной, не правда ли? — сказал Эсперанс. Крильон, не показывая своего лица, не отвечая, пожал три раза плечами и, заглянув в камин, сказал: — В этой комнате дымно; я просто ослеп. Он отворил окно. Очевидно, от дыма покраснели веки доброго кавалера. Воздух скоро унес этот дым или воспоминание. — Я полагаю, вы довольно наплакались, — сказал Крильон, — потому что наконец воротились. — Я воротился потому, что вы призвали меня. — Я призвал вас, повинуясь безымянному письму. Но вы ничего мне не говорите об опасностях, которым вы подвергались. — Я не подвергался никаким опасностям! — вскричал Эсперанс. — И непременно остался бы там, если б две причины не заставили меня ехать. — Мое письмо, так? А потом? — А потом причина… самая прозаическая. — Какая? — У меня не было больше денег. Крильон засмеялся. — Вас, может быть, обокрали? — Нет, я перестал получать мой доход. — Как? Этот великолепный доход, которому вы удивлялись каждый месяц… — Исчез. Вот уже три месяца я не получал ничего. Хотите, чтобы я сказал вам мои мысли? — Вы напали на второго Спалетту? — Лучше того. Мое состояние было химерой; старик с седыми волосами умер или отдал мой доход кому-нибудь другому. — Полноте! — Разорен в любви, разорен в деньгах, я разорен совсем. — Вот это прекрасно, — сказал Крильон, дружески потрепав Эсперанса по плечу, — не имея денег, вы будете меньше ветрены, вы останетесь со мной. Но что я говорю? У вас всегда будут деньги, Эсперанс, потому что они у меня есть всегда. — Милостивый государь… — Конечно, у меня нет двадцати тысяч экю, как у старика с седыми волосами, но я буду иметь над ним то преимущество, что я сдержу больше, чем обещал. Итак, утешьтесь, ударимте по рукам и берите из моего кошелька. Говоря эти слова, добрый Крильон отпер свою шкатулку. Эсперанс остановил его. — Извините, — сказал он, — не сердитесь на меня. — Зачем мне сердиться? — отвечал кавалер, перебирая свои пистоли. — Потому что я не приму ваше великодушное предложение, — холодно сказал Эсперанс. Крильон выпустил пригоршню пистолей и, обернувшись к молодому человеку, сказал, значительно нахмурив брови: — Вы заходите слишком далеко. Вы обижаете меня отказом. — Поймите меня. Я не грубиян и не дурак. Конечно, я приму вашу первую пригоршню пистолей… — Только об этом вас и просят. — А вторую я не возьму. Жить в лености за счет того, кто платит своею кровью за всякую золотую монету… никогда! — Это хорошее чувство, но что намерены вы делать? А мне пришла мысль. Вступите в гвардейцы. Через шесть месяцев, я ручаюсь, вы будете прапорщиком. — Я не люблю войну, а дисциплина меня пугает. — Я поговорю с Росни; мы достанем вам место при дворе. — Благодарю, я не хочу служить при дворе. — Напрасно. Двор прелюбезный. Король взял молодую любовницу, которая очень хорошо управляет веселостями. Эсперанс покраснел. — При дворе будут постоянно танцевать и крестить. — Неужели там так весело? — Слишком весело. Это не продолжится. — Почему же, если король так любит свою новую любовницу? — Он, да не все. — Разве можно составить себе счастье, которое принадлежит всем? — Королю — да. — Стало быть, новая любовница не нравится некоторым? — Многим. — А говорят, что она кротка и сострадательна. — Это правда. — Почему же ее не любят? — Любезный друг, королю нужна не любовница, а жена. — Но у короля уже есть жена. — Да, но ему нужна другая, особенно же ему нужен сын, десять, двадцать сыновей. — Мне кажется, у него есть сын, — прошептал Эсперанс. — Незаконнорожденный! — Этот король был счастлив по-своему, а вот уже в его нектар вливают желчь. — Такого счастья он всегда будет иметь, сколько хочет. После прекрасной Габриэли будет другая. — Он расстанется с… этой женщиной? — Его разлучат с нею. — Но эта бедная брошенная женщина? — Выйдет опять замуж и с прекрасным приданым. — Но ведь она уже замужем? — Как же! Король велел ее развести, она свободна. — Под каким же предлогом? Крильон расхохотался. — Этого бедного де Лианкура, — сказал он, — объявили неспособным продолжать свой благородный род. — Но, говорят, от первого брака у него было одиннадцать человек детей. — Тем более причины — сказал судья, чтобы у него их больше не было. Эсперанс, несмотря на сжатие сердца, не мог удержаться от улыбки при этой шутке. — Это, однако, правда, — сказал Крильон, — над этим столько смеялись здесь, что я удивляюсь, как я могу еще смеяться. Надеюсь, что я сообщаю вам известия, способные вас развеселить. — Конечно, — пролепетал молодой человек, сжимая руки, — но, несмотря на всю эту веселость, я вижу несчастного короля и женщину, достойную сожаления. — О! Король неспособен долго огорчаться, и, если верить придворным слухам, он уже принимает свои меры. — Чтобы отослать мадам де Лианкур? — Не называйте ее так. Она маркиза де Монсо после рождения маленького Сезара, чудного ребенка. Ну, я не говорю, чтобы король хотел ее отослать, он любит ее страстно, но развлекается немножко и тут и там. Однако маркиза очень хороша. Ах, как она хороша! Никогда не была она прекраснее! — Поговорим немножко об этом милом Понти, — с живостью перебил Эсперанс. — Он забыл меня? — О нет!.. Но с тех пор как вы уехали, негодяй принялся за свои привычки. Он много был на войне, это извинение, потому что с королем война мало кормит солдат. Нет воды для питья. — Только бы было вино, — сказал Эсперанс. — О! Понти всегда его находит. Он нашел его и в Артоа. Право, вам следует вступить в гвардейцы, вы сделаете из Понти совершеннейшего субъекта. Он вас любит, он вас боится. Вступите в гвардейцы. — Пожалуйста, не настаивайте, — кротко сказал Эсперанс, — я решился безвозвратно. Все, что вы мне сказали, удивило меня. Я не люблю двор, я не люблю свет, я имею только одно желание… — Опять плакать? — О нет! Это кончено, — весело сказал Эсперанс, — я хочу охотиться в странах очень отдаленных, в странах совершенно новых. Я жду, чтобы Понти воротился. Скоро он воротится? — Вместе с королем сегодня утром, к десяти часам, к крестинам. — Очень хорошо. Я обниму друга Понти и тотчас же отправлюсь в путь. — Мы увидим! — вскричал кавалер. — Что вы отказываетесь от моих денег, еще пусть так, что вы отказываетесь поступить в гвардейцы, принять должность при дворе, еще пусть так, но чтобы вы воротились в изгнание, я это запрещаю вам! — Кавалер! — Запрещаю, — сказал Крильон, раздавив сапогом головню, от которой полетели мириады искр, — ваша мать поручила вас мне. — Однако, если я несчастен… — Будьте несчастны возле меня. Вы не были плаксой, когда я с вами познакомился, а теперь вы льете воду, как нимфы с превращениями… нет, я укреплю вам фибры. — Обратите внимание, что я страдал. — Вы получили удар ножом, это правда; а я получил больше шестидесяти ударов, не считая пуль и мелкой дроби; вы лишились трех литров крови, а я лишился целого бочонка — и смеюсь! Я буду танцевать на крестинах маленького Сезара; мы будем вместе танцевать. Эсперанс страшно побледнел. К счастью, его лакей, постучавшись в дверь комнаты, робко просунул голову и руку с письмом. — Это от кого? — закричал кавалер. — От человека, который справлялся, приехал ли месье Эсперанс, — отвечал лакей. Эсперанс взял записку, из которой выпал ключ, как только он ее распечатал. — Это приглашение на бал? — спросил Крильон, увидев изумление на лице молодого человека. — Это еще страннее, — сказал Эсперанс. — С вами всегда случается что-нибудь новое, любезный друг, но хорошо ли, по крайней мере, это новое? — Судите сами. Крильон прочел вслух: — «Монсеньор…» — Только один человек называет меня таким образом, — поспешил сказать Эсперанс, — тот старик, о котором мы говорили. — Тот, который выплачивает вам двадцать тысяч экю в год; посмотрим его слог. «Монсеньор, так как вы в Париже, самом лучшем местопребывании для такого человека, как вы, я думаю, вы скоро поселитесь в доме, купленном вами на улице Серизе…» — Вы купили дом? — с удивлением спросил Крильон. — Кажется, — отвечал Эсперанс, — но продолжайте. — «…на улице Серизе, на деньги, сбереженные вами в три последние месяца. Надеюсь, что вы сочтете этот дом достойным вас и удостоите одобрить распоряжения, сделанные мной. Вы найдете в шкатулке на камине в вашей спальной документы на владение и другие ключи, положенные туда вашим верным слугой Джульермо». Кончив читать, Крильон выронил письмо. Эсперанс и он переглянулись. — Это уж чересчур, — сказал наконец Крильон, — этому верите? — Верю; почему же не верить? — сказал Эсперанс, вертя в руках ключик. — В самом деле, почему же? Улица Серизе недалеко отсюда, позади улицы Ледигьер, где у Замета свой отель. Вы знаете, Замет — итальянский капиталист. — Знаю, — сказал Эсперанс. — Не имеете ли вы желания… — Посмотреть ваш дом? Сохну от нетерпения… — Ну пойдемте же, кавалер. — Шляпу и шпагу! — закричал герой громкимголосом. — И в путь! Улица Серизе примыкала с одной стороны к улице Пти-Мюск, с другой — к фальшивой двери Арсенала, и прорезывала под прямым углом маленькую улицу Ледигьер, в которой Замет, богатый капиталист, выстроил себе отель, славившийся тогда своим великолепием. Этот квартал, почти забытый ныне, сохранял в 1594 году остатки великолепия и жизни. Королевская площадь отстроилась только десять лет спустя, но тут помнили Турнельский дворец, в котором так долго жила Екатерина Медичи, и множество богатых отелей еще находились в улицах Сен-Поль, Сент-Антоан и в окрестностях Бастилии. Стало быть, богатый вельможа мог выбрать этот квартал, для того чтобы выстроить себе там жилище. Сады были многочисленны, обширны и насажены старыми деревьями. Чистый воздух, тишина и уединение в двух шагах от городского движения, широкие улицы были блестящими преимуществами в то время, когда мостовая часто проваливалась под ногами прохожих, когда угол стены превращался несколько раз ночью в засаду, где часто пешеход принужден был влезать на тумбу, чтобы не быть раздавленным лошаком. Эсперанс, войдя с Крильоном на улицу Серизе, приметил там только два дома, довольно скромные, на том конце, который примыкал к Пти-Мюск. Эти дома, уже старые, были оставлены ими без внимания. Но скоро на конце стены, построенной из прекрасного камня, с деревьями, покрытыми блестящим снегом, они увидали в глубине обширного двора дворец в флорентийском стиле; чудная скульптура и прекрасные окна с хрустальными стеклами составляли удивление прохожих, останавливавшихся перед этим новым образцовым произведением. Здание примыкало к улице двумя флигелями, составлявшими павильоны с балконами, с железной балюстрадой, замысловатый узор которой представлял корзину с цветами. Дверь из массивного дуба с гвоздями из полированной стали защищала и украшала вход под каменной нишей с кривыми колоннами. Вид был обольстительный. Крильон и Эсперанс остановились, как любопытные, ища глазами около, не видно ли других домов на улице. — Если письмо старика не шутка, — сказал Крильон, — вот ваш замок. Он хотел постучаться. Эсперанс остановил его. — Мной овладело сомнение, — сказал молодой человек. — Дом, о котором говорит мой поверенный, был куплен, по словам его, на деньги, сбереженные в три месяца, то есть на шесть тысяч экю; а как вы думаете, можно ли достать такой дом за такую сумму? — Одна дверь должна стоить больше, — отвечал Крильон, — но все-таки войдем. — Позвольте расспросить этих честных людей, которые любуются на этот дом. — Вы правы. Эй! Друг мой, позвольте спросить, кому принадлежит этот дом? — Неизвестно, а между тем мы из этого квартала. — Как неизвестно? — продолжал кавалер. — Подобное здание делает честь всему кварталу. Ведь оно выстроилось не само же по себе, черт побери! — О нет! — сказал другой человек с тонким видом. — Если знаешь, да не можешь сказать, не все ли это равно? — Ба! Если вы знаете, так скажите, любезный друг, — перебил Крильон. — Я человек добрый и неспособен сделать вам вред. — Это и видно, сударь; притом в предположении не может быть преступления; говорят, уверяют, будто этот дом… — Вы меня жарите на медленном огне. — Будто этот дом выстроил король. — Ай! — сказал Крильон, смотря на Эсперанса. — Но ведь у короля есть Лувр, — намекнул тот. — Не, для того чтобы помещать там его любовницу, сударь, между тем как здесь, в двух шагах от Замета, его друга, его… — Плохо дело, — шепнул Крильон Эсперансу. — Вы понимаете, — продолжал рассказчик, — король входит через улицу Ледигьер к Замету, думают, что он приехал к нему, не правда ли? — Ну-с? — Ну-с, а он идет к даме на улице Серизе. — Но маркиза де Монсо живет на улице Дойенвэ возле Лувра, — вскричал Крильон, — если не в самом Лувре! Вы видите, чтобы идти к ней, королю не нужно строить отель на улице Серизе. — Я говорю не о прекрасной Габриэли, — возразил рассказчик, лукаво подмигнув. — Король волокита, король забавляется, король способен выстроить себе десять таких домов и все их занять. — Не выдрать ли за уши этого дурака? — сказал Крильон Эсперансу, которого этот разговор терзал. Но во время этого разговора, который привел перед домом собрание необыкновенное в этом квартале, человек высокого роста, вроде сторожа, хорошо одетый и вооруженный, отворил дверь и смотрел. При виде Эсперанса он вскрикнул от удивления, поспешно подошел к нему и поклонился со всеми знаками глубокого уважения. — Что вы делаете? — спросил Эсперанс. — Я отворяю вам, монсеньор, — отвечал этот человек. — Для чего? — прошептал кавалер. — Для того чтобы монсеньор не ждал перед дверьми своего дома. При словах «монсеньор» и «своего дома» толпа разбежалась с удивлением и испугом, опасаясь, что высказала столько предположений в присутствии хозяина дома. Крильон и Эсперанс пошли за сторожем, который запер за ними дверь. — Кто же я? — спросил Эсперанс сторожа. — Монсеньор Эсперанс, наш господин. — Очень хорошо, но как же вы меня знаете, а я вас не знаю! — Я вас узнал, потому что вы похожи, как нам сказали, на ваш портрет. — На какой портрет? — На тот, что висит в вашей комнате, монсеньор. Эсперанс щелкал пальцами — знак его гнева. — Уж не насмехаетесь ли вы? — сказал он. Улыбка на лице сторожа заменилась испугом. — Зачем буду я насмехаться?.. Что я вас узнал? но вы увидите, что вас узнает вся ваша прислуга так, как я. Сказав эти слова, он позвонил в колокол, на звук которого в обширную переднюю сбежалась куча слуг в богатых ливреях. Сторож указал им на Эсперанса. — Монсеньор! — закричали они в один голос, низко кланяясь. — Нечего сомневаться, — заметил Крильон. — Покажите мне этот портрет, — сказал Эсперанс. По двадцати мраморным ступеням, покрытым персидским ковром, он вошел в прекрасную комнату, где его портрет, безукоризненный, живой, висел над камином в рамке с позолоченными листьями. — Я понимаю, — сказал он, — что все эти люди меня узнали. — И я также, — прибавил Крильон в восторге от этого образцового произведения. — Но я не понимаю, — сказал Эсперанс, — как могли снять с меня портрет без моего ведома. Где, когда и как срисовывал меня живописец? Крильон подошел прочитать подпись. — «Франческо Порбус, — прочел он, — Венеция 1594». — А! — вскричал Эсперанс, — помню. Однажды, прислонившись к одному из столбов в церкви, лениво сидя на скамье, я оставался несколько часов в церкви Св. Марка мечтать и молиться. Живописец, окруженный почтительными зрителями, рисовал напротив меня. Я думал, что он рисует купель, и слышал, как венецианцы произносили знаменитое имя Порбуса. — А он писал ваш портрет, — сказал Крильон. — Но не забудьте, что сказано в письме. — Что такое? — Мы в вашей комнате, документы находятся на камине в шкатулке с ключами. Эсперанс подошел, улыбаясь. Ключик, лежавший в письме, отпирал шкатулку. Оттуда Крильон и его друг вынули связку пергаментов, дававших право на владение землей и зданием. Под пергаментом лежала связка ключей с ярлыком на каждом. Слова «денежный сундук» первыми бросились в глаза Эсперансу. — Это, должно быть, вот этот сундучок из розового дерева с железными обручами, — сказал Крильон. — Именно, — отвечал Эсперанс, вложив в него ключ. В сундучке лежали мешки с надписью: десять тысяч экю. — Черт побери! — вскричал Крильон с восторгом. — Если бы у короля было столько! Эсперанс не говорил ни слова. Он задыхался. Он вышел из комнаты и обошел с кавалером галерею, библиотеку, залы, кабинет, где все дышало великолепием и высоким вкусом княжеской роскоши. Камердинер водил друзей. После дома, после обзора хрусталя и серебра, перешли в конюшню, где восемь лошадей ели сено и овес, не удостаивая взглядом своего будущего господина, портрет которого, без сомнения, им не показывали. В смежном сарае красовалась позолоченная карета, обитая бархатом. Эта последняя черта великолепия вырвала у кавалера крик: — Карета! А у короля нет кареты! — сказал он. — У кавалера д’Омаля была единственная карета во всем Париже. Сбруй, экипажей, собак в конуре, вин в погребе, всего было вдоволь; обед приготовлялся в огромной кухне. — Пойдем в сад, — сказал Крильон. Зима конфисковала только часть сада. Лавры, сосны, плющ, рододендроны веселили глаза хозяина видом весны. Длинная оранжерея со стеклянными окнами, дорогая расточительность в то время, заключала целую аллею лимонных и померанцевых деревьев. Солнце улыбалось на все это; оно проливало на вершины высоких каштановых деревьев свое пламя, которое изменяло ледяные сосульки в блестящие алмазы. Жаворонки с криком вылетали из чащи деревьев; песок, только что рассыпанный по аллеям, представлял повсюду мягкую прогулку. Этот огромный сад обещал весной рай. Друзья дошли до конца. Они увидали, что оградой служила высокая стена, часть которой обрушилась, со столетним плющом, вившимся по ней. Там был пролом, который работники приготовлялись чинить. Эсперанс выразил свое удивление. — Монсеньор, — сказал садовник, — эта стена угрожала давно обрушиться, но ее щадили для этого прекрасного плюща. Она обрушилась только два дня тому назад. Чтобы поправить ее, надо было войти к господину Замету, который живет с другой стороны, а господин Замет в отсутствии, и его люди, завидуя вашему дому, монсеньор, не позволили нашим работникам войти. Они говорят, что господин Замет воротится сегодня утром с королем, и, вероятно, он позволит. — Я беру на себя получить его позволение, — сказал Крильон, — и пролом будет заделан завтра. Во всяком случае сообщение с Заметом не очень опасно; он боится воров столько же, как и мы. — О! — сказал садовник. — Говорят, что он очень богат, но он не может быть богаче монсеньора. — Хорошо, — пробормотал Эсперанс, возвращаясь к дому, — вот теперь я превзойду человека, имеющего полтора миллиона экю. — Любезный друг, — сказал Крильон, — может быть, у Замета еще больше денег. Но здесь все отзывается молодостью, любовью и искусством. Дом Замета — денежный сундук, ваш — футляр с драгоценными вещами. Когда вы захотите прельстить женщину, покажите ей этот дом; никогда никто не видал то, что у вас собрано здесь… Ах! Я видел когда-то одну комнату… — Красивее этих? — наивно спросил Эсперанс. Крильон отвечал взглядом и улыбкой. В эту минуту они проходили перед флигелем нижнего жилья, длинной, высокой галереи, все окна и ставни которой были старательно закрыты. Эсперанс машинально обратил туда глаза, пресыщенные столькими чудесами. Явился лакей и подал молодому человеку ключ на серебряном вызолоченном подносе. — Это что еще такое? — спросил Эсперанс. — Вам, вероятно, будет угодно посмотреть ваш кабинет, — отвечал слуга, указывая на дверь из лимонного дерева с эбеновыми инкрустациями. — Мы не видали этой стороны, — сказал Крильон. Эсперанс вложил ключ в замок; слуга поклонился и исчез. Только что дверь была отворена, как восхитительный запах алоэ наполнил переднюю, в которой остановились друзья. Эсперанс приподнял портьеру и не мог удержаться, чтобы не вскрикнуть от удивления. Он увидал обширную залу с кедровыми колоннами; кресла из резного ясеня странной и чудной работы, хрустальную люстру с розовыми, голубыми, желтыми и белыми цветами, где горели свечи таких же цветов, драгоценные обои, картины Беллини Джорджиона и Пальма, эбеновые столы с инкрустациями из слоновой кости; поставец с кувшином из чеканного золота — все это волшебство восхитило Эсперанса, который сиял радостью и восторгом. Но когда он хотел заставить Крильона разделить эти чувства, он увидал, что он, бледный и дрожащий, упал на кресло, глаза его смотрели неподвижно, на лбу выступил пот, как будто он ожидал, что стена обрушится напротив него и явится тень. — Что с вами, кавалер? — вскричал Эсперанс. — Или эта чудесная Диана, подпоясанная Джорджионом, или эта Мадонна Беллини, или эта Сюзанна Пальмы подавляют вас? Крильон едва переводил дух и не отвечал. — Вы говорили, что видели прекрасную комнату. Была она так хороша, как эта? Крильон встал, с упоением обвел глазами все, что видел. Вздох, похожий на рыдание, вырвался у него. — В той комнате, которую я видел, — прошептал он, — было сокровище, которого здесь нет, которое не найдется на земле! Уйдем, уйдем отсюда! Сказав эти слова прерывающимся голосом, он направился большими шагами к двери. Вдруг, обернувшись с внезапным порывом сердца, он схватил Эсперанса в объятия и обнял его со страстной нежностью. — Прощайте, — сказал он. — Король, должно быть, воротился. Он меня ждет. Прощайте! — Вы опять будете здесь, я надеюсь. — О да, буду! — пролепетал Крильон, который убежал в невыразимом волнении, потому что он не мог без трепета найти ожившим в этой комнате свое поэтическое воспоминание о Венеции. Эсперанс, оставшись один, лег на диван, закрыл голову руками и спрашивал себя, не сон ли это. Огонь трещал в камине, свечи горели в жирандолях, и несколько восхитительных часов, часов воспоминания и забвения в одно и то же время, падали капля за каплей на его уязвленное сердце. Он вспоминал свою жизнь с горестью, что находит там только отвращение и мрак, когда веселый, пронзительный голос и звук шпор раздались в передней. Голос этот звал Эсперанса и, как труба, прогонял прочь меланхолию и скуку. — А! — сказал Эсперанс. — Это Понти! Он выбежал из кабинета обнять своего друга, который, приметив его, швырнул свою шляпу в воздух. — Ты, стало быть, принц, — сказал Понти. — Обнимемся же еще раз. — Откуда ты? — Отовсюду. — Как отовсюду? — Да, я видел комнаты, коридоры, конюшни, сад, погреб. — Как, ты уже… — Крильон отправил меня сейчас после церемонии; я прихожу сюда, мне отвечают, что ты предаешься размышлениям; я прогуливаюсь, ожидая тебя. Я вижу, вижу… о друг мой! Лувр ничтожен в сравнении с твоим замком. — Скажи: с нашим замком, потому что и ты будешь иметь свою долю. — В самом деле? — Ты был для меня добрым другом, я буду для тебя лучшим другом. — У меня будут лошади? — Конечно. — Одна из этих комнат? — Выбирай. — И немножко денег? — Бери. Понти бросился на шею Эсперансу. — Ты настоящий вельможа, — сказал он, — а обедать мы будем? — Сядем за стол, если ты хочешь. — Кушанье подано, — сказал метрдотель Эсперансу. — Пойдем, Понти. — А ты мне расскажи про это путешествие, в котором ты разбогател. Должно быть, по наследству? — Да, по наследству… — Я так и думал. Красавица Антраг обкусает себе губы, что лишилась богатого жениха. — Кстати, что с ней сделалось? — Она расставляет сети, чтобы захватить славную добычу. — Напрасный труд, не так ли? — Э! э! Если бы ты видел, какие глазки она строила королю во время крестин — просто срам. — Ты видел крестины? — Я стоял на карауле перед купелью. Ребенок толст, как баран. Кстати, ты получишь конфеты с крестин. — Ты сошел с ума! — Ведь мать ребенка — наша приятельница. Маркиза де Монсо не может заставить нас забыть нашу очаровательную Габриэль в женевьевском монастыре. — Молчи, молчи! — Презирай, сколько хочешь, а я хочу конфет и получу их, хотя бы мне пришлось обратиться к де Лианкуру. Эсперанс расхохотался. Понти, смеясь, ел превосходный обед. — Развесели меня, — сказал Эсперанс, — у меня сердце болит. — Полно! Со всеми этими сокровищами, с этим вином! — Я не пью, а столько сокровищ не служат ни к чему одинокому человеку. — Нас двое; если ты хочешь, чтобы нас было трое, тебе стоит только сказать. Милый мой, я видел сегодня весь двор; есть женщины чудные, такие женщины, видишь, что станешь грезить наяву. На всех этих женщинах ты можешь жениться, если захочешь. — На всех? — Выбери. О, какие веселости! какие пиры! какие прогулки! Друг мой, у тебя удивительные лошади. — В самом деле? — Женщины обожают лошадей; покажи скорее твоих лошадей женщинам. С таким лицом, как твое, я не дал бы вздохнуть свободно ни одной; я хотел бы, чтобы куча их дралась каждый день у моей двери. Время от времени приглашай мужчин в честь вина, иллюминуй дом, давай балы, маскарады. Ах, боги! Если бы я был на твоем месте, Эсперанс, в моем доме было бы так весело, что завтра же прекрасная Габриэль оставила бы для меня французского короля. Эсперанс встал, бледнея. — Молчи, — сказал он мрачным голосом, — ты пьян. Изумленный Понти выронил рюмку. — Да, — сказал Эсперанс, — вы слишком много пили, Понти, это ваш недостаток; когда голова отуманена, говоришь вкось и вкривь. Неприлично королевскому гвардейцу говорить непочтительно о своем короле и об особах, дорогих ему. Здесь есть слуги, которые могут вас услышать. — Это правда, — наивно пролепетал Понти, — но уверяю тебя, что я не пьян. — Не показывай же виду, будто ты пьян. — В доказательство, что я хладнокровен, я докончу эту бутылку. — Нет, пожалуйста! Крильон мне сказал сегодня, чтобы я наблюдал за тобой и не давал тебе пить. — Э, черт побери!.. — Послушай. Ты мне нужен. Будь рассудителен. Ты знаешь, что у нас есть тайна, ты знаешь, что эта тайна чуть не стоила мне жизни и была причиной смерти одного человека. — А! — сказал Понти. — Ты говоришь о ла Раме. Он умер, велика беда! — Все-таки за его душу мы отдадим отчет Богу. — У него не было души. — Будь серьезен. Осталась записка, ты знаешь, записка Анриэтты, единственное оружие, которое я сохранил против этой смертельной неприятельницы. Вот уже десять месяцев, как меня затрудняет эта записка. Я не хотел поручить ее тебе, пока ты был в походе, ты мог быть убит, ее нашли бы на твоем теле. Но теперь ты возьми ее, потому что, как только Анриэтта узнает, что я воротился, ее первым старанием будете украсть у меня ее письмо. — Дай, — сказал Понти, — я не из тех, кого обкрадывают. — Видишь, я спрятал ее в этот крошечный ящичек, плоский, как ладанка; его удобно носить и спрятать, и письмо остается там свежо, как будто написано вчера. — Хорошенькая вещичка, которая при случае отразит удары шпаги, которые Анриэтта д’Антраг велит нам дать. Я их жду, и ящичек будет в безопасности на моей груди, клянусь тебе. Теперь я тебе напомню, что я сегодня вечером дежурный, и между тем как ты будешь сидеть в тепле перед этим веселым камином, вели отвезти меня в караульню. — Охотно. — О, но церемониально! в карете! Черт побери! я хочу ехать в карете в Лувр. Сделаем почин карете, принц, и, пожалуйста, с факелами. — Хорошо, сделаем почин, — сказал Эсперанс, возвращенный к хорошему расположению духа этой сообщительной веселостью. — Хорошо, зажжем факелы. — А завтра, монсеньор, мы сделаем программу празднеств. — Хорошо, пусть будут празднества. Через четверть часа Понти ехал в карете в Лувр среди большого стечения народа, который при виде этой новизны кричал, точно ехал король. Эсперанс надел шубу и пошел ходить по аллеям при лунном сиянии. В эту минуту носилки таинственно подвигались в тени в десяти шагах от дома Эсперанса.
Глава 37 СВИДАНИЕ
В этих носилках, закрытых по причине холода, сидели две женщины, из которых одна, закутанная в меха, опиралась на руку другой. Они осматривали пустынную местность, в которую их привезли, когда человек высокого роста, стройный, со смелой поступью, поспешно прибежал на конец улицы и раскрыл занавеси носилок. Он сделал это так невежливо и так неосторожно, что обе женщины не могли удержаться от крика. — Кто вы? что вам нужно? — спросила одна нетвердым голосом. — Я, маркиза, тот, кто сообщил сведение, вследствие которого вы приехали сюда, и если позволил себе подойти к вам таким образом, то это, для того чтобы докончить мое дело. Конечно, то, что я имел честь вам написать, показалось вам неполно и темно. В самом деле, отвечала та из двух женщин, которую незнакомец назвал маркизой: — Я дурно поняла… — Однако вы приехали. — Ваше письмо приглашало меня в улицу Серизе по важному делу, касающемуся короля. — Король обманывает маркизу де Монсо, точно так. — И вы брались это доказать? — Это легко; если вы приехали, вы увидите вашими собственными глазами. В носилках послышался вздох, сопровождаемый отчаянным движением. — Объяснитесь, — прошептал взволнованный голос: — Но какова ваша цель? — О! я мог бы вам сказать, что эта цель — ваши личные выгоды. Но я не лгу; я действую для моих выгод, и так как я служу вам в то же время, я думал, что вы мне поможете. — В чем же заключаются ваши выгоды, не в каком ли заговоре против священной особы его величества? Предупреждаю вас, что решившись приехать сюда, я предупредила кого следует и мне стоит только позвать… — Это бесполезно; я ничего не предприму против жизни короля, — с горечью сказал незнакомец, — я занимаюсь только одним, я стремлюсь только к одной цели: не допустить одну даму, которую я люблю, поддаться искушению заступить место маркизы де Монсо. — Разве король думает об этом? — Вы сами в этом убедитесь. Король ужинал у маркизы после крестин, не правда ли? — Или лучше сказать, он делал вид, будто ужинает. Я помню, он ни до чего не прикоснулся. — Он берег себя для другого ужина, без сомнения. — Король хотел сейчас лечь спать после ужина, он говорил, что он устал, а когда я хотела войти к нему, меня не пустили. — У его величества было назначено свидание сегодня у Замета. Там будут ужинать с аппетитом, там не будут помнить об усталости. — У Замета?.. — Приподнимитесь и посмотрите вдаль через этот сад на освещенные окна отеля на улице Ледигьер; вы услышите даже флейты и скрипки. — Король там?.. — Король сейчас приехал. Он вошел в маске с одним дворянином, но я его сейчас узнал, как и женщину, ради которой он приехал к Замету. Однако она также в маске. — Как зовут эту женщину? — Извините, это моя тайна, — грубо сказал незнакомец, — пусть маркиза де Монсо сохранит для себя короля, но я не хочу, чтобы она погубила эту женщину. — Увы! Милостивый государь, если бы маркиза была способна обороняться, если бы она умела ненавидеть и мстить, ее щадили бы более. Но если вы отказываете мне назвать сообщницу короля, пусть так. А пока король на празднике с той, которую вы так желаете удалить от него. Странный план приняли вы, милостивый государь. Было бы проще не допустить эту женщину быть на этом празднике. — Я приехал слишком поздно, но праздник будет нарушен, ручаюсь вам. — Как это? — вскричала с беспокойством молодая женщина. — Я полагаю, ничего не случится с королем. — С королем случится только неудовольствие быть застигнутым на свидании. Он побоится публичной огласки. Он побоится, чтобы огласка не дошла до вас, он убежит. Тогда-то вы увидите, как он выбежит, и вы можете уличить его в неверности. — Мне надо поместиться напротив отеля Замета. — В улице Ледигьер? у общего входа? Там, где множество лошадей, лакеев и людей всякого сорта в эту минуту? Там, где вас могут узнать? Нет, нет, нет, маркиза! Притом король выйдет не оттуда. — Почему же? — Потому что есть два других выхода. Во-первых, потайная дверь из отеля Замета; я сам встану там, для того чтобы эта дама не убежала оттуда и не соединилась с его величеством. — А другой выход? — Вы находитесь тут. Это дверь прекрасного нового дома, значения которого вы, может быть, не знаете. — Нет, какой это дом? — Ходят слухи, что его выстроил король, чтобы обеспечить тайну своих неверностей. — Боже мой! — В самом деле до сих пор никто не мог узнать, кто хозяин этого дворца, издержки и красота которого совершенно королевские. — Я понимаю, соседство с Заметом предлог. — Именно, и от Замета, каким-нибудь проходом можно пройти в новый дом, а выйти оттуда легко. Король выйдет оттуда. Но вы будете у дверей и, несмотря на маску, узнаете тех, кто будет выходить. — Конечно. — Теперь посоветуйте маркизе де Монсо беречь свое добро. — Я не допущу короля подвергаться опасностям для сомнительной выгоды. — Выгода ничтожна, — сказал незнакомец с каким-то бешенством, оскорбительным для женщины, о которой он намекал, — потому что король обманывает добрую и прекрасную любовницу для… но прощайте; караульте с вашей стороны, а я возвращаюсь к моему посту. — Я должна вас поблагодарить. — Не стоит, — отвечал незнакомец со злой иронией, — потому что я раздираю вам сердце, но и мое истерзано в куски. Однако, если вы ревнуете, вы можете насладиться вдоволь счастьем, которое состоит в том, чтобы застигнуть особу, которую любишь, на самом месте измены. Прощайте! Говоря таким образом, этот странный человек убежал с проворством преследуемого оленя и исчез в изгибе улицы. — Мужайтесь! — прошептала другая женщина, прижимая к сердцу трепещущую маркизу. — Вся моя жизнь погибла, — отвечала та, — но я буду иметь мужество, Грациенна. Надо приблизиться. — А если король нас увидит? Если он узнает, что вы за ним следите, он вам не простит! Какая огласка, не считая насмешек ваших врагов! — У меня есть враги, это правда, притом не надо давать королю удовольствия видеть меня ревнивой… Это удовольствие, должно быть, для меня одной, — перебила бедная женщина с лихорадочным хохотом, — я должна видеть и быть невидима. Как быть? — Позволите вы мне придумать средство? — Да, Грациенна. — Воротитесь домой, лягте, успокойтесь, и вы мне поверите, если я вам скажу, что я видела или не видела, как вышел король. — Нет, Грациенна, я тебе не поверю, потому что я знаю твое сердце и знаю заранее ответ, который ты мне принесешь, боясь меня огорчить. — Обещаю вам… — Нет, говорю тебе, я увижу собственными глазами, и это смертельное счастье, как говорил этот человек, я выпью до последней капли! — Тогда я придумаю что-нибудь другое. Вы не можете, едва выздоравливая, оставаться на холоде. Кто знает, сколько времени вы будете ждать! — Я буду ждать, если нужно, до самой смерти. — Какое слово! Позвольте мне выйти; я вижу свет в павильоне. Позвольте, говорю я вам. Я придумала средство. Грациенна легко выпрыгнула из носилок и побежала к воротам, остававшимся открытыми, потому что сторож ждал возвращения кареты. Через несколько минут она подбежала к носилкам. — Пойдемте, — сказала она, — все устроено. — Как? — Я говорила со сторожем этого дома. Я сказала ему, что дама, испуганная разбойниками, хотела оказаться у теплого камина, а особенно, чтобы ее не видал никто. Но… — Но у этого камина вы увидите, как будут входить и выходить, потому что дверь возле павильона этого сторожа. — Может быть, он меня увидит, — сказала маркиза, входя в павильон, — но я также увижу его! Незнакомец не солгал. Действительно, король, когда все думали, что он лег спать, отправился к отелю Замета. У Генриха сердце билось, как у злодея. Самый нежный и самый неверный из любовников, он распарывал булавкой великое счастье своей жизни. Что-нибудь новое представилось ему, черные глаза после голубых, демон после ангела; он думал, что все спас, когда уносил только свою голову, а сердце оставлял дома. — Притом, — говорил он себе, — теперь ночь; какой-нибудь куплет между двумя шаловливыми поцелуями, и все погаснет с пламенем свечей Замета. Какой славный человек этот Замет, всегда готов развлекать своего государя! Еще богаче воображением, чем деньгами, он делает веселым мое правление. Все думают, что я в постели, сплю; этот Замет будет меня смешить. Завтра утром, проснувшись в Лувре под моим королевским балдахином, я буду думать, что видел очаровательный сон… а потом как я буду любить мою милую Габриэль! В таком расположении духа король вошел в дверь, у которой ждал его Замет, шепнувший ему на ухо: — Она приехала, она одна. У флорентийца Замета был пир. Танцоры, избранные и немногочисленные, пробовали в большой зале новые танцы. Несколько игроков уселось в углу. Почти все были в масках. Когда король вошел, тоже в маске, никто не пошевелился. Генрих не танцевал, а в карты играл только, для того чтобы выигрывать. Эти два препровождения времени не нравились ему, и он обвел все вокруг унылым взором. Замет приметил это и тотчас вздумал доставить ему третье развлечение. Замаскированная женщина, закутанная в тонкую драпировку восточного покрывала, сидела в стороне, напротив короля, который уже любовался богатыми контурами ее стана и белизной плеч. Замет неприметным знаком указал этой женщине на короля. Она встала медленно и грациозно. Глаза ее бросали два огненных луча сквозь отверстие маски. Она подошла к королю и, посмотрев ему в лицо пристально, очаровав его, сказала голосом, заглушаемым музыкой: — Вот, если я не ошибаюсь, скучающий кавалер. — Это правда, — отвечал король, — но я чувствую, что скука удаляется по мере того, как приближаетесь вы. — Кавалер, — продолжала незнакомка с легкой иронией, — которому, без сомнения, надоело совершенство. — Увы! — сказал Генрих. — Разве существует совершенство, о котором вы говорите? — Не мне отвечать на это. — Однако вы можете отвечать больше чем кто-нибудь. — Я имею только одно достоинство, твердо желать то, чего я желаю. Если я беру за руку кого-нибудь, я держу ее твердо; если беру его ум, я оставляю его у себя. — А его сердце? — Не будем говорить об этом. Руку можно схватить, ум пленить, а сердце-то где же? — Сердце, — сказал Генрих, опуская свой пылающий взгляд, — должно находиться под этим бантом из лент, вышитых золотом, которые дрожат на вашем левом боку; атлас волнуется, стало быть, под ним бьется что-нибудь; назовем это сердцем. Незнакомка, взволнованная этим любовным нападением, потупила голову, и банты ее зашевелились больше прежнего. — Вы мне бросили вызов, — продолжал король, — вот моя рука. А мой ум вас слушает. — Я беру вашу руку, — сказала незнакомка с каким-то торжеством. — Но чтобы говорить свободнее, уйдем из этой залы в цветочную галерею, примыкающую к ней. Я, кажется, скажу моему кавалеру много вещей, интересных для него. — Дай бог, чтобы вы не солгали. Они вошли в галерею, в которой было очень мало гостей. — Прежде всего, — перебила эта женщина с взглядом, который заставил трепетать Генриха, — как мне называть этого кавалера? если называть его милостивым государем, он будет смеяться. — Нет, я смеяться не буду. — Если я назову его государем, я не осмелюсь говорить откровенно. — Я узнан, — сказал король, — пусть так. Притом и я вас знаю. Оставим титулы и притворство, под маской должно говорить правду. — Мне бы следовало броситься к ногам короля и благодарить его за милость, которую он мне дарует. — Если б мы были одни, я бросился бы к вашим ногам. Только, вместо того чтобы благодарить, я стал бы просить. — Государь, прежде всего скажите мне, отчего вы меня ненавидели? Кто-нибудь повредил мне в мнении вашего величества? — Уверяю вас… — сказал король с замешательством. — О, вы меня ненавидели! Вы отворачивались от меня; эта суровость продолжалась бы еще и теперь, если бы человек, которому я поверила свое горе, если бы месье Замет не рассказал вашему величеству, что ваша несправедливая жестокость убивает меня. — Я должен был заметить столько прелестей… — О, не это надо было замечать! — с живостью вскричала замаскированная женщина. — Мое глубокое уважение и мое пылкое желание угодить моему государю. Однако вы не давали мне случая выказать вам это. — Если бы это было так, — возразил Генрих, искусно обойдя это щекотливое положение, — я не заслуживал бы прощения; но этого не было. Дом Антраг считался союзником Лиги, а вы знаете, что теперь лиги нет даже в моем воспоминании. — О, государь! я не прощения прошу; вы должны любить ваших верных друзей, государь. — В самом деле! — вскричал король, подчиняясь жгучему влиянию этой женщины. — Вы хотите, чтобы я считал вас другом? Вы думаете о короле Генрихе? — Я мечтала о нем, и сегодня прекраснейший день моей жизни, потому что я открыла ему мое сердце. Для того чтобы приехать сюда, я подвергалась величайшим опасностям. Если настанет теперь горестная разлука, если настанет изгнание, к которому ваше величество непременно меня присудите… — Я? Я присужу вас к изгнанию? — Если не вы, по крайней мере, мои враги. Если настанет, говорю я, мое вечное изгнание, я унесу с собой воспоминание, которое превратит все мои часы в празднества и торжества. — О, я не изгоню этот очаровательный ум, эти божественные глаза, это нежное сердце! — Разве у меня есть сердце? Ах! это правда, государь, вот я в первый раз чувствую его! Она оперлась на Генриха и пожирала его своими пламенными глазами. Благоухание этой ослепительной красоты начало приводить короля в упоение, когда вдруг прибежал Замет, взволнованный и дрожащий. — Д’Антраг! — вскричал он таким тоном, как будто хотел сказать: «Спасайтесь!» — Отец мой! — сказала молодая девушка, прижимаясь к королю, вместо того чтобы бежать. Но Генрих высвободился от нее и сказал: — О! о! зачем он приехал сюда? — Он спрашивает дочь; он знает, что она здесь. Он раздражен. — Мне изменили, — вскричала Анриэтта, — но король защитит меня! — Я? — пролепетал Генрих, вздрогнув от испуга. — Король властелин, — продолжала высокомерная девушка, — он сумеет меня защитить. — Король никогда не вмешивается в права родительской власти, — возразил Генрих, — спрячьтесь, по крайней мере. Анриэтта не шевелилась, она как будто вызывала грозу. — Эти люди хотят огласки, — шепнул Генрих флорентийцу. — Как мне убежать, государь? — сказала опять Анриэтта, видя, что добыча ускользает от нее. — Не оставляйте меня гневу моего отца. — Перед испанцами я остался бы, но перед отцом — прощайте! — Через сад, государь, — сказал Замет, указывая путь королю. Генрих исчез. Между тем слышался голос д’Антрага в передней, и Замет одним ударом по полу приподнял перегородку, которая вдруг отделила галерею от залы. Освещение, музыка, танцующие, игроки — все исчезло как бы от прикосновения волшебницы. Анриэтта осталась одна, приведенная в отчаяние, пристыженная, на скамье, впотьмах. — Напрасно я погубила себя, — сказала она, срывая свою маску, — я не могу сказать, что привело меня сюда. Замет, вместо ответа, отворил дверь в обоях и указал Анриэтте на молодую женщину, бледную, с черными глазами, которой он сказал несколько слов по-итальянски. Эта женщина села возле Анриэтты, не говоря ни слова. Тогда явился д’Антраг, растрепанный, величественный. Он остановился на пороге комнаты, приметил дочь, а когда не увидал возле нее того, кого надеялся найти, на лице его выразилось самое простодушное разочарование. Уже он раскрыл рот, чтобы закричать: «Где король?», но проблеск здравого смысла, какой-то остаток стыдливости пробился в его голову, взволнованную низким честолюбием; он только скрестил руки трагическим образом и спросил торжественно: — Что вы здесь делаете, когда вас ищут у вашей матери? Анриэтта не отвечала. — Я у месье Замета принужден требовать отчета, — прибавил д’Антраг. — Мне шестьдесят лет, — отвечал тот, — и я не могу внушить вам подозрения. Вы серьезно спрашиваете меня, зачем ваша дочь приехала сюда? — Как же мне не спрашивать! — пролепетал отец. — Когда так, я буду отвечать, что я решительно не знал о присутствии вашей дочери. Мои гости приехали в масках, а дочь ваша не находилась в числе приглашенных мной гостей, и я не знал бы об этом, если б она не сняла маску. — Для чего она приехала сюда? — Спросите ее саму. Но это излишний труд, когда вы видите возле нее Элеонору. — Это эта Элеонора? — Знаменитая итальянка, ворожея, которая предсказывает будущее всем придворным дамам. Элеонора холодно раскладывала на столе засаленные карты и своими смелыми глазами как будто возбуждала мужество и жизнь на бледных чертах Анриэтты. Та воспользовалась этим предлогом; она была спасена. — В самом деле, — пролепетала она, — я желала иметь мой гороскоп. Д’Антраг также удовольствовался этим предлогом. — Для того чтобы удовлетворить такую невинную прихоть, — сказал он, смотря вокруг с подавленным вздохом, — вы не должны были бояться предупредить вашего отца. Я не лишил бы вас этого гороскопа. — Это было бы жаль, — сказал Замет, указывая на карты, разложенные хитрой итальянкой, — потому что он предсказывает вашей дочери удивительное счастье. — Какое? — Этот господин спрашивает, какое счастье предназначено его дочери? — сказал Замет Элеоноре. — Корона! — сказала итальянка, бесстрастная, как сивилла. После этого магического слова она ушла в потаенную дверь; д’Антраг увел дочь, говоря ей шепотом: — Признайтесь, по крайней мере, что король был здесь и говорил с вами. — Может быть, король клал корону на мою голову, — возразила Анриэтта с глухим бешенством, с иронией, — но добродетель и семейная мораль ворвались сюда, и корона упала на пол. — Я тебе объясню, как я был принужден сделать эту огласку, — сказал с отчаянием придворный. Они исчезли. Между тем Замет бежал отыскивать короля, которого он предполагал застать в саду, ожидающего, пока ему отворят маленькую дверь. Но за этой дверью караулил человек, присутствие которого испугало Замета. Капиталист поспешил воротиться, чтобы расспросить слуг и найти следы Генриха Четвертого. Король, взволнованный возможностью огласки и совершенно охладевший к такой победе, добежал до самой темной аллеи сада. Он очутился перед разрушенной стеной, пролом которой казался обширным отверстием, ведущим к свободе. Он, сам того не зная, находился у соседа. Едва сделал он шагов двадцать, как был остановлен Эсперансом, который загородил ему дорогу. Король был замаскирован. Эсперанс, видя человека, не отвечавшего на вопросы и старавшегося бежать, спросил, по какому праву к нему входят в маске, как разбойник, и грозил позвать на помощь. Луна вышла из-за облаков и осветила лицо Эсперанса; король вскрикнул от удивления. — Боже мой! — сказал он. — Мне кажется, я вас знаю. — Он сорвал свою маску. — Король! — прошептал Эсперанс, остолбенев. — Да, король, который бежит со всех ног и не хочет, чтобы его видели. Есть у вас безопасный выход? — Есть, государь, — отвечал Эсперанс, — если бы мне пришлось даже сломать все стены. — Благодарю. Куда надо идти? — Пожалуйте за мной. Они дошли до огромного двора, освещенного лунным сиянием. — Я только возьму шпагу, — сказал Эсперанс, — и сейчас приду к вашему величеству. Генрих остановил молодого человека. — Не следуйте за мной, — сказал он, — ваше уважение заставит меня узнать. Не сохраняйте и таинственности. Прикажите только, чтобы мне отворили дверь. Вот и все. — Я повинуюсь. Но какая неосторожность! Выходить одному и подвергаться кинжалам… Ах, государь! А люди, которые вас любят! — О! пусть они не знают моего сегодняшнего сумасбродства, — сказал король, вздыхая, — вот все, чего я желаю. — Не я буду говорить, — отвечал Эсперанс, поклонившись. Король протянул ему руку с благородной и дружеской улыбкой. — Благодарю, — сказал он, — и прощайте. — Отворите ворота! — закричал кучер, возвращавшийся с пустой каретой. Король быстро прошел двор, стараясь закрыть свое лицо. Ворота отворились, он пролетел их стрелою, но в окно павильона его узнали. — Это он! — сказала маркиза, сжимая руку своей спутницы, которая вела ее к носилкам. — Грациенна, отец мой справедливо проклял меня, и вот мой бедный ребенок — сирота!Глава 38 НЕЖНЫЕ И ПРОНЗЕННЫЕ СЕРДЦА
Король благополучно дошел до Лувра и на другой день, после крепкого сна под королевским балдахином, встал, по обыкновению, при свечах, чтобы исполнить свой ежедневный и огромный труд преображения. Он уже несколько раз спрашивал о Габриэль и маленьком Сезаре. Ответ был, что маркиза, уставшая от вчерашней церемонии, легла рано и спала еще крепко. Генрих потирал себе руки с улыбкой и охотно принялся за работу. Замет также явился. Король приказал принять его, и капиталист, довольный веселым лицом короля, начал осведомляться о подробностях побега короля. Генрих со своей стороны рассказал о проломе, о счастливой встрече с молодым человеком в саду, об его угождении, об его деликатной сдержанности, когда дежурный доктор, приподняв портьеру, доложил королю, что маркизе, когда она встала, сделалось дурно и что она желает говорить с королем не теряя времени. Генрих встал растревоженный, отпустил Замета и приказал прислать к маркизе Сюлли или Крильона, ожидаемых для утренней работы, как только они придут. Дорога была недлинная, из Лувра к отелю маркизы; ее можно пройти было по переулкам, закрытым для публики. Генрих в сопровождении двух служителей скоро был возле Габриэль. Молодая женщина, бледная и со следами глубокого расстройства на своем очаровательном лице, ждала короля на левых ступенях. Грациенна и горничные в нескольких шагах находились тут, как бы, для того чтобы поддержать госпожу, которая шаталась подобно тростнику в бурю. Король подбежал, увидал этот омраченный лоб, эти глаза, обведенные синими кругами, и тотчас, схватив за руку Габриэль, отвел ее в комнату с трогательной заботливостью. — Ждать меня таким образом на холоде, стоя, когда вы страдаете! Она почтительно поклонилась. — Пожалуйста, поменьше уважения ко мне, моя Габриэль, и побольше внимания к вам, — прибавил он, — вы страдаете? Она знаком отпустила Грациенну и горничных. — Да, государь, я страдаю, но не это занимает меня всего более. Я отправилась бы в Лувр сегодня, если бы мои слабые ноги могли донести меня; но, — прибавила она с бледной улыбкой, — они отказались от этой услуги. — Вот я у вас, моя обожаемая красавица; что вы хотите мне сказать? О, мы скоро воротим вам здоровье! Счастье и здоровье не расстаются. — Вот почему я больна, государь, — сказала Габриэль, — позвольте мне сесть; приблизьтесь и выслушайте меня не прерывая; я дурная ораторша, а моя бедная голова очень расстроена. Сказав эти слова, она села, с усилием сдерживая слезы. Это предисловие смутило короля. Он протянул руки, чтобы прижать к сердцу свою огорченную возлюбленную, она тихо оттолкнула эти руки своей ледяной рукой. — Боже мой, что случилось, Габриэль? — сказал Генрих, сам побледнев. — Государь, я имела счастье узнать вас, когда вы боролись еще для поддержания вашей короны; вы меня удостоили вашим вниманием, вы мне внушили нежную привязанность, которую в то время мои ожесточенные враги не могли считать смешанной с честолюбием. Тогда вы разделяли ваши минуты между войной и этой любовью, которой я гордилась, и я царствовала над вами, я могу это сказать, и я могла сделать вас несчастным, отказавшись вам принадлежать. — Это действительно было бы несчастьем моей жизни. Но вы были добры и благородны; ваше слово, свободно данное, вы мужественно сдержали. — Не правда ли? Я перенесла упреки, гнев, ненависть моего отца. Я допустила покрыть презрением человека, имя которого носила, сделать смешным. Наконец, я записала имя д’Эстре между теми, которых народ не произносит никогда без оскорбительной улыбки. — Милая моя, вы стоите выше оскорбления. — Бесполезно утешать меня, государь. Я решилась покориться всем этим несчастьям. Быть другом, поверенной моего короля, смягчать его горести, его страдания моей улыбкой, моим постоянным старанием нравиться ему, делать добро в ответ на зло, делаемое мне — вот какова была роль, которую я себе начертала с непоколебимой волей не изменять ей. — Но к чему все эти речи, Габриэль? — Позвольте мне похвалить себя немножко, — продолжала молодая женщина, лоб которой прояснился. — За меня никто не заступится, кроме меня самой. — Я вас не понимаю. — Вы поймете, государь; но прежде чем я приступлю к главному предмету, позвольте мне заметить вам, что я не раздражаюсь, что я не жалуюсь. Мне сказали, что ваше отречение, которое я приписывала моим слабым достоинствам, было решено вами прежде, чем я просила вас, и что, следовательно, отдавшись вам, как выкуп за эту жертву, я была обманута. Но быть обманутой своим сердцем, это достославно, и я никогда не тревожила вас на этот счет. Мои глаза оставались для вас ласковы и веселы; мои капризы никогда вам не досаждали; мое общество было всегда любезно и кротко, не правда ли, государь? — Увы! увы! Вы меня пугаете этой меланхолией, — сказал король, которого намек, сделанный на его обман в отречении, взволновал как упрек совести, — вы говорите все это только, для того чтобы перейти к упреку более серьезному. — Да, государь, и вот он. Несмотря на всю мою надежду сохранить вашу любовь моим добрым поведением, я должна вас лишиться. Вы меня обманываете. — Я? — И это дурно. Я не имею ни недоверчивости, ни ревности, я верю тому, что вы мне говорите. Как верная собака, я почерпаю каждое из моих чувств в ваших глазах. Печальная, когда вы страдаете, веселая, когда вы улыбаетесь, всегда преданная вам, я имела право требовать взаимной привязанности. — Вся моя любовь принадлежит вам, Габриэль, — сказал Генрих с сердцем, полным тоски. — Нет, государь. — Клянусь вам!.. — Напрасно; король не должен унижать себя до лжи; я, нижайшая слуга вашего величества, одна должна страдать от туч, появившихся на нашем небе. Король поступает по своей воле, по своему вкусу. Его прихоти должны быть священны для всех и для меня первой; я слишком хорошо знаю мои обязанности, для того чтобы осмелиться сделать упрек моему властелину, и Бог мне свидетель, что мой язык не скрывает ничего из того, что происходит в моем сердце. — Но откуда к вам пришла эта роковая идея? — Истина — не идея, государь. — Посмотрим эту истину. По крайней мере, рассмотрим ее оба. — Если вы делаете мне эту милость, охотно. Вчера, государь, вы ушли к себе рано? — Ну да… вы видели. — И легли в постель? — Немедленно. — Только вы встали скоро, потому что через час ваше величество вышли из Лувра. Король был как на иголках. — Кто это говорит? — спросил он. — Ваше величество назначили свидание у Замета. — Маркиза… — Куда вы отправились… О государь! Не отпирайтесь, умоляю вас! — Надо все вам сказать. Да, я должен был говорить с Заметом о разных делах. — У вашего величества сердце золотое, вы удостаиваете еще щадить меня, бедную женщину, и я тем сильнее чувствую горесть, что лишилась этого великодушного сердца. — Вы ничего не лишились, моя кроткая Габриэль. — Ваше величество должны были найти у Замета женщину… — Кто мог сказать?.. — Ваше величество, вместо того чтобы выйти от Замета, вышли украдкой, через соседний дом. — За мной подсматривают? — вскричал Генрих, обижаясь, что его унизили. — Избави боже! — прошептала Габриэль. — Но правда ли это? — Кто вам пересказал? — О! человек, которому хорошо известно это. — Только один мог знать… — Именно этот, — сказала Габриэль, которая ни за что на свете не призналась бы, что подстерегала короля сама. — Молодой человек, не правда ли? — сказал Генрих с гневом. — Положим, что так, — перебила Габриэль, желая прекратить объяснения, стеснявшие ее. — Это гнусная измена, — прошептал король. — Государь, в измене вы виноваты передо мной, я ее не заслужила. Вы разбили мое сердце, из которого доверие и нежность изливались при одной мысли о вас. Вы не только обманули меня, государь, вы навсегда уничтожили спокойствие моей жизни. Что я говорю? Моя совесть неспокойна. — Как! — сказал король, вне себя от гнева и горести. — Ваша совесть? — Да, вы принуждены скрываться, для того чтобы меня обмануть, будто я подстерегаю вас; вы украдкой бежите из Лувра, один, без защиты, по этому мрачному Парижу, где столько ожесточенных врагов хотят вас убить, где столько убийц! Ваша жизнь в опасности, государь, из-за меня, потому что вы принуждены скрываться от моего надзора. Ваша драгоценная жизнь зависит от произвола первого разбойника, который, для того чтобы вырвать кошелек, пронзит сердце короля, это сердце, которым дышит вся Франция. Говоря эти слова, Габриэль с истинной горестью плакала и рыдала и почти без чувств опрокинулась на подушки кресла. — Ах, негодный доносчик! — пробормотал король. — Я узнаю даже его выражения, Габриэль, моя жизнь, моя душа, приди в себя. Прости! Молодая женщина не могла говорить. Король встал на колени, обнял ее, согрел горячими поцелуями ее руки, дрожавшие от лихорадки. — Ты хочешь, чтобы я умер от сожаления, от стыда, — говорил он, — я обвиняю себя, я прошу у тебя прощения. Глупая гордость увлекла меня. Я сумасброд. Меня все прельщает, умоляющий взгляд, обещающая улыбка. Я жалко тщеславен, я представляю собой молодого человека. О, если бы ты знала глубину моего сердца, если бы ты знала, как я тебя люблю! Есть ли женщина нежнее тебя, веселее, достойнее моей любви? Ты обладаешь ею без раздела, верь мне. Мое воображение, может быть, заблудилось, но я клянусь тебе, что это нежное сердце не было тронуто даже слегка. Габриэль, моя жизнь, приди в себя, выслушай меня! — О государь! Сколько милостей, но удар слишком глубоко поразил меня. — Ты забудешь, я сам забыл. — Рана не залечится. — Это невозможно. Я даже не был виновен по намерению. Я ушел без цели, стремясь за прихотью, и не могу упрекнуть себя ни в одной дурной мысли против вас. — Послушайте, государь, другая женщина, а не я, поблагодарила бы вас и сказала, что она вам верит и прощает. Но я слишком правдива, чтобы скрыть от вас мою неутешную горесть. — Неутешную? — Да, то, что вы говорите, сделали по прихоти, без цели и без размышления, вы сделали по вашей натуре, государь, а великий король, занятый гигантскими интересами, не может стараться исправить свою натуру. Притом, как я вам сказала, вы властелин, и ничто не должно мешать на земле исполнению вашей воли. Вы мне обещаете сегодня исправиться, вы будете даже стараться сделать это, а завтра, видя насколько жертва выше прибыли, вы опять примитесь за эти неверности, которые меня убивают, а вас подвергают величайшим опасностям. — Что же вы заключаете, Габриэль? — сказал король, очень взволнованный этой настойчивостью ума, обыкновенно не упорного и не злопамятного. — Вы хотите, чтобы я исправился; укажите мне средство. — Я нашла его, государь, — отвечала молодая женщина тоном мрачного отчаяния, — надо оставить в тени, в ее смиренном состоянии женщину, которую вы уже не любите, надо отказаться от всякого стеснения, следовательно, от всякой таинственности, надо расстаться со мной, государь. — Вы говорите серьезно? — произнес Генрих дрожащим голосом. — Вы видите решимость на моем печальном лице, она рыданиями вырывается из моего сердца. — Ты хочешь меня оставить? — Я решилась на это, и завтра, без шума, без слез, без огласки, я уеду с моим сыном в Монсо, пока не найду убежище. Пораженный король не мог сказать ни слова. Он с волнением ходил по комнате. — Вы меня не любили? — сказал он. — Я этого не сказала, государь, — прошептала она. — Вы даже не принимаете уверение в моей верности. — Кто имеет сердце, тому не нужны ручательства; кто требует ручательств, тот не доверяет; кто не доверяет, тот не любит. Не выстаивайте, любезный государь, вступите в ваши права, возвратите вашу свободу. — Но вы плачете, Габриэль. — Вы видите только половину моих слез. В эту минуту в соседней комнате послышались слабые крики маленького Сезара. Габриэль встала, шатаясь, чтобы утешить сына, но Генрих удержал ее, побежал скорее ее, отворил дверь и, наклонившись к колыбели, где лежал свежий, румяный ребенок его любви, так нежно расцеловал его, что слезы выступили у него на глазах. Ребенок протянул свои крошечные ручки и они коснулись седой бороды доброго короля. Перед этим трогательным зрелищем растроганная Грациенна отвернулась и спрятала лицо свое в занавесках. Сюлли показался на пороге комнаты. Генрих приподнялся с влажными глазами. Сердце его изнывало. Он воротился к Габриэль, которая судорожно удерживала свои рыдания, уткнувшись в подушку кресла. — Прощайте, — сказал он, протянув ей руку. — Вы видите, Генрих, — отвечала она, — я разбиваю мое сердце и не могу этого сделать. Прощайте! — Прощайте! — пролепетал король, задыхаясь. Сюлли сделал два шага к государю, который сказал ему: — Ты видишь, Росни, Габриэль оставляет меня. Он поспешно вышел с лицом, омоченным слезами. Проходя переднюю, Генрих повторял сквозь зубы в сильном гневе: — Этот молодой человек всему причиной! Изменщик, негодяй! А я пожал ему руку! Я отомщу. Сюлли пошел поклониться Габриэль и последовал за своим государем.Глава 39 ВЫИГРАННОЕ СРАЖЕНИЕ
Анриэтта воротилась домой с бешенством в сердце. Дорогой она жестоко терзала отца, который рассыпался в трусливых извинениях. С тех пор как она угадала низкие расчеты графа, она не чувствовала к нему ни страха, ни уважения. Он был для нее орудием, и как орудием дурно послужил ей в этом обстоятельстве, она его наказывала. Жалкий отец потупил голову и подчинился этому новому унижению, Анриэтта легла в постель, но не могла заснуть. Уже этой девушке была знакома бессонница угрызения и недоставало только бессонницы обманутого честолюбия. Она приказала камеристке, девушке преданной, какие нужны интриганкам, принести ей письмо, если оно будет прислано. Она не могла вообразить, чтобы король, как вежливый рыцарь, не вознаградил ее за то, что она должна была выстрадать за него. Она ценила себя слишком высоко, для того чтобы не ждать сожаления или надежды от его величества. Короли могущественны и находчивы, если не от себя, то по внушению своих слуг, а дом Антрагов не был заперт ни для записок, ни для посещения какого-нибудь посланного. Но всю ночь ничто не являлось. На другой день Анриэтта была еще в постели, когда ее отец вошел в ее спальную. Он взял стул и сел у изголовья Анриэтты. Его лицо потеряло выражение вчерашнего смирения. На его лбу можно было различить энергию, похожую на проблеск гнева. Для него также было утро мудренее вечера. Анриэтта поняла, что надо было слушать, прежде чем сердиться. Д’Антраг начал торжественным тоном: — Вы мне неясно объяснили цель вашего визита к Замету. Гороскоп — изобретение более или менее ловкое, которое меня не обманет. Для того чтобы иметь гороскоп, молодая девушка не имеет нужды компрометировать себя двусмысленным поступком, рыскать по улицам, рискуя быть оскорбленной, подавать повод к скандалам. — А что делают, позвольте спросить? — перебила Анриэтта, оскорбленная этим строгим тоном. — Делают то, что я сделал, пишут Замету, чтобы он прислал свою ворожею к графу д’Антрагу; женщинам такого сорта платят за их ворожбу, а когда платят, имеют право спокойно ожидать у себя дома. — Вы писали к Замету? — спросила Анриэтта. — Писал. — Чтобы он прислал Элеонору? — Да. Граф Овернский, ваш брат, которому я рассказал, с трепетом, это правда, ваш безрассудный поступок, тотчас рассудил со своим совершенным тактом, что все это произведет неприятные слухи для вашей репутации, и, для того чтобы заглушить этот слух другим, посоветовал мне позвать к вам ворожею, так что вас не станут упрекать в том, что будет происходить в присутствии вашего отца и вашего брата. — Что сказала моя мать? — спросила Анриэтта. — Ваша мать не знает ничего, слава богу. Я просил вашего брата отправиться в Лувр и узнать от короля или придворных слухи и впечатления вчерашнего вечера. Итак, ваш проступок будет прикрыт, и вы останетесь виновны только передо мной в недостатке доверия, которое, если повторится, может погубить вас навсегда. Молодая девушка, как бы счастливо ни была одарена она, не имеет зрелости в своих планах, точности в своих намерениях и соображениях. Она бежит слепо туда, где блестит ее цель, цель легкомысленная и обманчивая по большей части. Между тем как если бы она принимала советы руководителя, все ее предприятия удались бы. Эта гнусная мораль, сказанная серьезно, не была потеряна для молодой девушки; она чувствовала, что д’Антраг старается взять опять над нею власть и руководство; но она понимала свою собственную слабость, свое неуменье в трудных поступках; притом она не хотела отвергать союзника для плана своей кампании. — Я не намерена отказываться от ваших советов, — сказала она, — но вы мне их не предлагали. Это вы мне оказали недоверие, мне внушили в вашем доме сильную любовь к одному человеку и надежды… Потом меня предоставили себе самой. — Путь, по которому вы идете, по которому идем мы, усыпан препятствиями и опасностями. Человек, которого вы любите, несвободен, и по собственной своей воле. Это препятствие! Упорствуя, вы рискуете встретить соперниц, которые вас погубят. Это опасность! — О! — прошептала гордая красавица с презрительной улыбкой. — Эти препятствия, эти опасности весьма ничтожны. Они могут испугать только малодушные сердца. Но я… Человек, о котором идет речь, несвободен, говорите вы? Но это потому, что его захватили. Этот человек всегда позволит захватить себя тем, которые осмелятся. Осмелимся. Что касается до соперниц, позвольте мне еще улыбнуться. Это вопрос предпочтения, а предпочтение происходит из сравнения. Я добивалась этого сравнения, когда вы меня прервали. Я хотела попробовать, не могут ли ум, остроты, пылкая страсть преодолеть апатию, скромность, кротость, поддерживаемые ничтожной красотой, которую некоторые называют белокурой, другие золотистой, а я называю приторной. Что-то говорит мне, что я заставила бы разделить мое мнение человека, о котором идет речь, когда мой мнимый союзник нагрянул и все испортил. И говорят теперь, что во мне недостает зрелости, я эти соображения отвергаю. — Это прямо нас ведет к объяснению, что случилось вчера, — сказал д’Антраг. — Так как я не хочу, чтобы вы обвиняли меня в ошибке, так как я этой ошибки не сделал, так как мне было лень, желая наблюдать за вами, помешать вам и попасть в какую-нибудь засаду, так как мне было легко, говорю вам, следить за вами под маской, следить за вашим разговором и за каждым вашим проступком, то если я раскричался и сделал огласку, я имел причину, и вот она. Говоря эти слова, граф д’Антраг бросил дочери письмо, которое та начала с жадностью читать.«Милостивый государь, — говорилось в этой записке, — ваша дочь Анриэтта вышла из дома. Она отправилась к Замету на свидание с королем. Может быть, ей хочется прославлять вашу фамилию так, как ее прославила ее мать; может быть, вы закрываете глаза на это благородное намерение; но я имею менее снисхождения и объявляю вам, что если вы не вытащите ее из бездны, я разглашу о вашей угодливости при дворе; сделайте шум, а если нет, я сделаю его. Друг».
Пораженная Анриэтта бросила письмо. — Благоволите мне сказать, что сделали бы вы, — сказал отец. — Какой гнусный доносчик преследует меня таким образом? — закричала она. — Не сделать того, что сделал я, — вскричал д’Антраг, — значило обесславить нас! Вы признаетесь в этом. — О! — заревела Анриэтта, взяв опять письмо. — Чей это почерк? Между тем дверь отворилась и Мария Туше, уже нарумяненная и раскрашенная, подошла к постели дочери. Увидев ее, д’Антраг встал. Анриэтта хотела спрятать письмо, но мать остановила ее движением руки. — Я все знаю, — сказала она спокойно, — сын мне рассказал. — И вы знаете также об этом письме? — спросила Анриэтта, с взглядом, требовавшим от ее сообщницы чрезвычайного внимания. — И о письме также, дочь моя. Граф Овернский, прежде чем направился к королю, посоветовался со мной по своему обыкновению о том, на что надо решиться. — Что же вы решили? — спросил д’Антраг, которому это торжественное уверение всегда внушало некоторый страх. — Если это письмо от врага, оно как будто намекает на мщение; а угадываю тут следствие какой-нибудь интриги. Анриэтта побледнела, Мария Туше перебила своего супруга. — Вы судите здраво, — сказала она, — это враг, это мщение, вот почему граф Овернский должен был сегодня же утром отправиться к этой особе. — К кому? — Это угадать нетрудно. Вспомните, кому интересно оставить для себя короля. — Маркизе де Монсо! — вскричал д’Антраг. — Именно. — Вы правы, я об этом не подумал. — Это правда, — прошептала Анриэтта, сама обманутая спокойствием матери, — ей одной нужно отдалить меня. Знает ли она… — Она знает все. — Она имела подозрения? — Спросите у Анриэтты, с каким свирепым лицом приняла она нас в этой встрече у женевьевцев. — Когда она принудила короля отказаться от нашего гостеприимства, — сказала Анриэтта. — Это может быть, — сказал граф, — у нее есть шпионы. Вот что серьезно. — Вот почему я и послала к ней моего шпиона; он увидит короля в то же время и принесет нам впечатление обеих сторон. Не права ли я была? Антраг одобрил вполне. — Граф Овернский, — продолжала Мария Туше, — сообщил мне также о желании вашем призвать сюда ворожею. Я одобряю это. Примите ее сами. Вы, кажется, понимаете итальянский, Анриэтта? — Вы, кажется, меня учили этому языку. — Пошлите же эту итальянку, граф, как только она придет к моей дочери в моем присутствии, пусть наши люди видят, что никакой тайны нет. Потом, если сын мой пришлет кого-нибудь, пусть мне скажут. Угодливый супруг поклонился и вышел. Мария Туше тотчас пошла удостовериться, не подслушивает ли кто у дверей. Потом, воротившись к изголовью Анриэтты, сказала тихо: — Я полагаю, вы не обмануты тем, в чем я уверила вашего отца? Анриэтта взглянула на нее испуганными глазами. — Вы не предполагаете, — возразила Мария Туше, — что это письмо написала Габриэль д’Эстре? — От кого же оно? — прошептала Анриэтта. — Это ужасное письмо. — Конечно… — Оно от смертельного врага. Оно обещает неумолимое мщение. Оно возвещает невидимого шпиона, живущего в вашем доме, так сказать, в вашей мысли. — Боже мой! — Не имеете ли вы кого-нибудь, кто ненавидит вас до такой степени? Поищите в вашем прошлом, Анриэтта, в вашем прошлом, уже кровавом и мрачном. — Матушка! — Поищите хорошенько, говорю я вам! Анриэтта потупила голову, и глаза ее обнаружили своей болезненной пристальностью ужас совести, которой являлись привидения. — Вы не находите? Ну, я помогу вашей памяти. Этот раненый молодой человек. — О, он слишком великодушен, чтобы написать эти строки! — вскричала молодая девушка, невольно отдавая справедливость благородству своей жертвы. — Притом он исчез, он уехал навсегда. — Ну если не он, то почему же не… — Тот, о котором вы говорите, может быть, был бы способен на эту гнусную угрозу, но он умер. — Должно быть, у меня голова не на месте, потому что не позже как вчера, возвращаясь домой, я видела, как промелькнуло как тень лицо этого несчастного. — Не забудьте, что он бросился в партию герцогини Монпансье; она сделала его своим секретарем; нам сказал граф де Бриссак, и в день вступления короля в Париж он был заперт в Деревянной башне у Новых ворот, между всеми этими испанцами, которых Крильон убил и бросил в реку. — Я это знаю, но… — Но если он остался, мы не могли бы этого не знать. Он не из тех, которые заставляют о себе забывать. Она еще говорила, когда камеристка доложила, что граф Овернский воротился домой. Мать встала. Анриэтта поскорее накинула пеньюар, и скоро граф Овернский вошел к ней вместе с д’Антрагом. — Ну что? — спросила Мария Туше. — Ну, великое событие. Весь двор в волнении. — Что такое? — Король оставляет маркизу. — Возможно ли? — закричали обе женщины. — Был шум, были слезы. Неизвестно, кто приказывал, кто повиновался. Но известно только, что король заперся у себя, а маркиза у себя, и отданы приказания, чтоб ее экипажи отправились завтра в Монсо. Анриэтта и мать переглянулись в восхищении. — Прибавьте, пожалуйста, все толки, — сказал д’Антраг. — Толки вот какие: у короля новая любовь в голове. Ему помогает какой-то верный друг. Произошло свидание, которому маркиза хотела помешать; король рассердился… я пересказываю вам, что говорят; вы понимаете, маркиза рассердилась, и потом произошла бурная сцена. — А потом? — спросила Анриэтта. — А потом советы Росни. Министр против маркизы. Уверяют даже, будто король пожертвовал своей любовницей Росни. Лувр наполнен озабоченными и осторожными людьми, еще колеблющимися, но готовыми решиться. — Называют кого-нибудь в этом свидании? — спросил д’Антраг. — Э! э! — Предмет этой новой любви короля? — спросила Анриэтта. — Э! э! — Не скромничайте, брат. — Сообщите нам, сын мой. — Имейте к нам доверие, граф. — Ну да, называют… но шепотом… — Называют с восторгом, — прошептал д’Антраг, — только бы не называли слишком рано, сохрани Бог! — Какую роль играет в этих толках Замет? — спросила Анриэтта. — Говорят, что свидание происходило у него. — Но король заперся, — сказала Мария Туше, — это значит, что он огорчен. — О да! Король огорчен. Анриэтта нахмурила брови. — Это доказательство его превосходного сердца, его благородного сердца! — вскричал д’Антраг. — Он способен к привязанности, достойный государь. — Она еще не уехала, — прошептала Мария Туше. — Надо что-нибудь сделать, — прибавила Анриэтта, — надо увидеться с Заметом. — О, осторожность, осторожность! — сказал д’Антраг. — Надо бы, чтобы король удалился на двадцать четыре часа, — сказала Мария Туше, — в это время примирение было бы невозможно. — Не посоветоваться ли с ворожеей? — сказал д’Антраг. — Таким образом можно было бы видеться с Заметом. — Я его ждала сегодня утром, — прошептала Анриэтта. — Вы понимаете, что в эту минуту он боится компрометировать себя, — сказал граф Овернский. — Пойдемте к нему, месье д’Антраг, как бы, для того чтобы благодарить его за объяснение, которое он дал вчера, и просить молчать о вчерашнем происшествии. Может быть, Замет имеет возможность удалить короля из Парижа до тех пор, пока маркиза уедет. — И притом не забудем, — сказала Анриэтта, — что сам он заметил вчера, что гороскоп Элеоноры — корона. — Ступайте, господа, — сказала Мария Туше, — принесите нам известия. Между тем Анриэтта кончит свой туалет и будет готова на всякий случай. Граф д’Антраг и граф Овернский ушли, а обе женщины в своей гнусной радости забыли все, кроме успеха. Весь еще дом был взволнован, когда человек по коридору подошел к самому порогу спальной Анриэтты. Он мог видеть, как мать обнимала дочь, а дочь взяла, смяла и бросила в огонь письмо, прежде так их напугавшее. Он приподнял портьеру и вошел в комнату. Обе женщины оглянулись при этом шуме. — Ла Раме! — вскричали они в один голос. — Я сам, — отвечал молодой человек, бледное лицо которого еще более усилило блеск глаз, сверкавших огнем неумолимой решимости.
Глава 40 ПРОИГРАННОЕ СРАЖЕНИЕ
Обе женщины еще не оправились от удивления и смотрели на ла Раме с суеверных страхом, когда он сказал: — Я кажусь вам тенью, милостивые государыни. Мария Туше первая возвратила себе хладнокровие. — Надо признаться, — сказала она, — что если вы действительно существо живое, то ваше появление показывало бы скорее призрак. — Вот настоящий враг! — прошептала Анриэтта так громко, что ла Раме услыхал. Но вместо ответа он продолжал обращаться к Марии Туше. — Вы говорите это по причине моего продолжительного отсутствия, моего исчезновения. — В самом деле, говорили, что вы умерли. — Я должен был умереть, если бы получил в удел только обыкновенную долю жизни. Но, — прибавил он со страшной улыбкой, — я принадлежу к классу сверхъестественных существ. Все, чего достаточно, для того чтобы убить другого человека, меня возрождает и молодит; не находите ли вы, что я помолодел? Марии Туше не нравилась эта шутливость, и другие предметы разговора, более серьезные, были бы ей по вкусу в такую минуту. Но под этой саркастической шутливостью она чувствовала неприязнь, угрозу, а со стороны ла Раме угроза имела свою цену. — Да, — продолжал он, — я железный, медный; если меня можно ранить, то, по крайней мере, нельзя убить. Я этому радуюсь, так как я уже подвергался и буду подвергаться еще стольким катастрофам. Друзья мои радуются также этому. — Объясните нам это отсутствие и это воскресение, — сказала Мария Туше, ободряя взглядом Анриэтту, пораженную беспокойством. — Охотно, вам, вероятно, говорили, что я был брошен вместе с умирающими и мертвыми в окно Деревянной башни. — Говорили, и ваше молчание утверждало нас в этом печальном убеждении. Ла Раме молчал, он смотрел или, лучше сказать, пожирал глазами Анриэтту. — Я имел множество причин, чтобы не показываться, — сказал он наконец, — во-первых, и одной этой причины было бы достаточно, я заботился о моем выздоровлении. Падая, я ударился о сваю, высунувшуюся из воды, рана была страшная, для всякого другого смертельная. В продолжение шести месяцев я был почти без ума. «И теперь это осталось!» — сказали друг другу мать и дочь взглядами. — Потом, когда я выздоровел, — сказал ла Раме, — я не принадлежал себе. Я должен был думать о великодушной особе, дарившей меня своим покровительством. — А! вам кто-то покровительствовал, — сказала Мария Туше. — Неужели вы думали, что я вышел из воды один, с разрубленной головой, — грубо возразил ла Раме. — Конечно, мне покровительствовали действительным и великим образом. — Все, что вы говорите, — перебила Мария Туше, — возбуждает в нас глубокое участие. Вы знаете, какую дружбу имеем мы к вам. — Знаю, — сказал ла Раме со странной улыбкой, которая смутила Анриэтту и ее мать, — поэтому я провел в молчании и уединении только строго необходимое время; как только мне позволено было воротиться в Париж, я вернулся. — Вы воротились сегодня? — Я был уже здесь несколько раз секретно. О, вы этого не подозревали, а я уже за вами наблюдал! — Как! — возразила Мария Туше с чувством оскорбленной гордости. — Вы наблюдали? — Как же! Не естественно ли заниматься людьми, которых любишь, друзьями, о которых сожалеешь? — Вы ничем не рисковали, если бы показались, месье ла Раме, — сказала мать, закусив губы. — Вы не допустили бы нас считать живого мертвым, а за любезную озабоченность, которую вы имели о нас, мы были бы вам признательны. — Я не мог, — сухо сказал ла Раме, — и не должен был показываться. — Ваш покровитель, может быть, скрывается? — Почти, или, по крайней мере, не скрываясь можно желать остаться в стороне. Вы это знаете, герцогиня не в большой милости при новом дворе. — Какая герцогиня? — спросила Мария Туше, которая знала хорошо, но хотела показать неведение. — Герцогиня Монпансье, — отвечал ла Раме с некоторой выразительностью, — моя покровительница. — У вас знаменитое покровительство, месье де ла Раме. — Не правда ли? — знаменитое и преданное; я жду от него больших выгод во всех отношениях. Ударение, сделанное на последних словах, заставило задуматься обеих женщин. Они мысленно отыскивали смысл; ла Раме наслаждался их беспокойством. Разговор прекратился. — Вам остается сообщить нам, — мужественно продолжала Мария Туше, — или почему вы так долго о нас забывали, или для чего вы вспомнили о нас сегодня? — А! Вот мы касаемся вопроса, жгучего вопроса, — сказал ла Раме с цинической самоуверенностью. — Объяснитесь, милостивый государь, потому что я, право, не понимаю ни вашего обращения, ни вашего языка; я знала вас как сдержанного, очень вежливого, скорее послушного, чем свободного с нами. Она сделала намек на подчиненность, в которой ла Раме жил относительно Антрагов; он принимал это положение, несмотря на свое участие в фамильных секретах. — Правда, — отвечал он, — что я всегда был скромен и покорен. Тогда я надеялся, я чувствовал мою молодость, я имел терпение и робость. Я говорил себе: придет моя очередь. Он окончил фразу зловещим хохотом. Анриэтта вздрогнула. — Если вы признаетесь, что вы уже с нами не таковы, как были прежде, — продолжала мать, — вы, стало быть, обвиняете нас, что мы изменились к вам. Отвечайте на мой вопрос одним словом: зачем воротились вы теперь, а не четыре месяца тому назад. — Потому что теперь минута благоприятна для моих намерений. Но я уже вам сказал, что я воротился не сегодня. Говоря таким образом, он устремлял на Анриэтту свой невыносимый взгляд. Пораженная, подавленная, она приняла отчаянное решение. — Поймите, матушка, — закричала она, сжимая руку Марии Туше, — он хочет сказать, что это он послал графу д’Антрагу вчерашнее письмо. — Действительно я, — отвечал он равнодушно. Можно себе представить, какую позу приняли эти обе женщины, услышав объявление войны. — А! это вы, — прошептала Мария Туше, вся побледнев, — это вы решаетесь на подобную засаду. — И приходите признаваться в этом здесь, — сказала Анриэтта. — И подписываете — друг, самое оскорбительное обвинение для чести женщины. — Никогда искренний друг не оказывал большей услуги. — Это письмо сплетение лжи и оскорблений. — Это письмо наполнено истинами, которые я смягчил. — Месье де ла Раме!.. — Правда ли, что вы были вчера у Замета? Обе женщины хотели раскричаться. — Я знал ваше намерение отправиться в улицу Ледигьер, — продолжал ла Раме, — я видел, как вы вошли к Замету. А! Кажется, на это будет трудно дать ответ. — Если я была у Замета, мой отец и мать знают причину. — И мы ее одобрили, — сказала Мария Туше со своим царственным достоинством. — Как это примерно! Вы знаете, что мадемуазель д’Антраг отправилась ухаживать за королем. Вы знаете привычки этой седой бороды, которую преждевременная старость не охладила к греху; вы знаете, что молодая девушка, с которой король говорит два раза кряду, развращена и погибла; вы знаете все это — но ведь это невероятно! Если б вы это знали, вы не одобрили бы. — Клевета, оскорбление! — вскричала Анриэтта. — Оскорбление против его величества! — вскричала Мария Туше. — Полно, полно, к чему такие громкие слова! — глухо перебил ла Раме. — Они делают более шума, но тем не менее пусты. Притом ваше уверение слишком положительно; вы так энергически заклеймили эту спекуляцию, что я должен отказаться от моего письма и от моих слов. Я ошибся, вы самая почтеннейшая мать, а ваша дочь самая добродетельнейшая девица при дворе. Мария Туше не поняла или притворилась, будто не понимает горечь, скрывавшуюся под этими словами. Как бы то ни было, она отвечала: — Не стоило труда поднимать подобный ураган, для того чтобы кончить плачевными вздохами. Мы умеем презирать нападения так же, как и обходиться без оправданий. Я радуюсь, что вы не встретили здесь графа д’Антрага или моего сына, графа Овернского, потому что они не так терпеливо, как мы, вынесли бы сцену, которую вы устроили нам. Возвратитесь к вашей покровительнице; она, может быть, научит вас уважению, которое должно оказывать женщинам. Забудьте нас, потому что вы счастливы. Это будет поступок честного человека и благоразумного ума. Прощайте, месье де ла Раме. Вместо того чтобы повиноваться этим словам, ла Раме сделал два шага вперед. — То, что вы мне объявили, заставит меня вечно остаться с вами. С тех пор, как я уверился в честности вашего семейства, в невинности этой молодой особы, ничто не сопротивляется более предложению, которое я приехал сделать. — Что такое? — прошептали обе женщины. — Милостивые государыни, — продолжал ла Раме с мрачной церемонностью, — я страстно люблю мадемуазель Анриэтту де Бальзак д’Антраг, вашу старшую дочь, и имею честь просить у вас ее руки. Удар грома, разразившийся над головой Анриэтты, испугал бы ее менее этих слов; она бросилась в объятия матери, как в священное убежище. Мария Туше дрожала от бешенства и испуга. Ни та, ни другая не отвечали. — Вы удостоили меня слышать, — сказал ла Раме после продолжительного молчания. Мария Туше, вооружившись всей своей энергией, пристально посмотрела на смельчака. — Верно ваша раненая голова не совсем еще вылечилась? — Совсем. — Стало быть, вы пришли сделать нам оскорбление в нашем доме? — Где же оскорбление? Вы говорите мне это потому, что я сын де ла Раме, неизвестного дворянина? Но мне кажется, ла Раме стоит Антрага. — О, как вы низко злоупотребляете нашей женской слабостью! — Я несколько раз имел дело с мужчинами и не выказал робости, вам это известно. — Еще низость; вы делаете намеки на наши тайны. — Да. — Вы пользуетесь ими, для того чтобы предписывать нам законы. — Я имел только одно это средство и употребляю его. — Это черная гнусность. — Нет, это гнусная любовь! Я вам говорю, что я люблю Анриэтту, почему, я сам не знаю. Понятнее было бы, если б я ее не любил. Я любил ее ребенком. Я обожал ее красоту, восхищался ее мужеством, ее энергией, восхищался порывом, побуждавшим ее к преступлению. Я странное существо; демон сделал мой душу из самого сильного огня своего ада. Преступная Анриэтта более похожа на павшего ангела; ее любовь сделала меня преступным, но наше взаимное преступление связало нас друг с другом. Это цепь; напрасно она старалась бы разорвать ее. Я пытался, но не мог успеть. Однако, если бы вы знали, что я делал! Если бы вы видели, как я плакал, ревел от бешенства, проклинал ее, рубил кинжалом ее изображение, даже ее имя, которое я писал на деревьях в моем уединении! Если бы вы могли видеть, как проходили передо мной все сновидения моих ночей, когда она являлась мне улыбающуюся моим жертвам, как она ласкала их, протягивала губы этим красивым молодым людям, которых я убивал в ее объятиях, одного пулей, другого ударом ножа. Да, вы правы; слабый человек сошел бы сто раз с ума при одной мысли о муках, которые возбудила во мне эта ужасная любовь. Но я стою на ногах, я вижу мою цель; я объявляю вам ясно мою решимость, мою волю. Яд этой любви я буду пить до тех пор, пока он опьянит меня, до тех пор, пока он меня убьет. Отдайте мне вашу дочь, я заплатил за нее довольно дорого, она должна быть моею. Я этого хочу! Мария Туше и Анриэтта отступили, бледные как смерть, перед вспышкой этого разбитого сердца. — О! не надо колебаться, — продолжал ла Раме, — это было бы бесполезно. Когда человек сказал то, что сказал я, это значит, что он все предвидел, это значит, что его нечего щадить. Анриэтта не будет несчастна, а если и будет, пусть она подчинится своей судьбе. Я же подчинился моей. Вы испугались лица, которое я вам показал; но успокойтесь, я опять надену маску. Я наложу, как веселые румяна, мою улыбку счастья на страшную язву, которая на минуту обнаружилась вашим глазам. Протеже герцогини сделается честным мужем, усердным к чести и благосостоянию своей новой семьи; не надо колебаться, вы не можете поступить иначе. Если вы будете продолжать колебаться, вы заставите меня думать, что я угадал ваши намерения насчет короля. — А если бы и так, — безумно сказала Анриэтта, которая надеялась на минуту заставить ла Раме отказаться, угрожая ему новым бесславием. Он улыбнулся с состраданием. — Этого не будет, — возразил он, — вы видите, что я помешал уже раз, я помешаю этому всегда! — Вы? — сказала она, захохотав. — На этот раз, Анриэтта, я предупредил только вашего отца и маркизу де Монсо. Обе женщины вздрогнули. — А в следующий раз я предупрежу самого короля. — О!.. — Я скажу королю все, что я знаю, все, чего не знает он. Я объясню ему, к каким облакам испарилась свежесть вашего первого поцелуя. — Негодяй! король узнает, что мой доносчик — убийца. — О! я сам скажу ему это. А когда я смогу убедить короля, я заговорю при дворе и в городе, я сообщу имя Анриэтты отголоску публичных площадей, отголоску перекрестков, я наполню моими криками, моими обвинениями, моими проклятиями все безграничное пространство, которое простирается от земли к небу. — А я, — заревела Анриэтта со свирепым взором, — я… — Вы меня убьете? Нет, вы не убьете меня, потому что я вас знаю и остерегаюсь. Итак не нужно химерических планов, безумной надежды; что сделано, того воротить нельзя. Мы не можем переменить ничего. Обесславленная, погибшая, вы не можете принадлежать никому другому, кроме меня; ни один мужчина не дотронется до руки вашей, никто не скажет вам два раза слов любви. Вы не будете женой какого-нибудь Лианкура, ни любовницей Генриха Четвертого. Вы не можете даже прибегнуть к вашему отцу, которому неизвестно ваше прошлое, даже к вашему брату, который скоро преувеличит для вас отвращение короля. Вы сейчас угрожали мне их мщением; пусть они придут, я их жду. Сжатые этой железной рукой, обе женщины трепетали и переходили от испуга к гневу. — Не стоит бороться, — сказала Мария Туше, выбившись из сил, — если вы хотите нас погубить, хорошо. Мы приготовим к этому странному событию графа д’Антрага, моего сына и свет. Говоря эти слова, она сжала руку Анриэтты, чтобы придать ей мужество. — А! вы хотите выиграть время, — отвечал ла Раме. — А я не могу его терять. Приготовьте этих господ к нынешнему вечеру, потому что сегодня вечером я женюсь на мадемуазель Анриэтте и увезу ее к себе. — Сегодня вечером! Но это безумство! — закричала Мария Туше. — Сегодня вечером я умру! — сказала Анриэтта с невыразимым отчаянием. — Умрете, вы?.. Как бы не так! — возразил ла Раме. — Пока у вас будет надежда, вы не умрете, а эту безумную надежду вы еще имеете. Итак, сегодня вечером я приеду за вами, чтобы отвезти вас в церковь. Оттуда мы уедем. Если граф д’Антраг и граф Овернский не будут предупреждены прежде, то их можно предупредить после; это все равно. Я угадываю, что вы захотите бежать, — перебил ла Раме, — но и это будет бесполезно. Я вам сказал, все меры приняты мной. Вы видели, известны ли мне все ваши поступки, все ваши мысли. Я точно так же буду знать их до нынешнего вечера. Ваш дом окружен моими людьми. У меня есть друзья, милостивые государыни; вы не сделаете ни движения, ни шага, чтобы я этого не узнал и, следовательно, не предупредил впоследствии. Впрочем, пробуйте; попытка убедит вас лучше всех моих речей. Попробуйте! После последних слов, окончательно поразивших несчастную Анриэтту, он поклонился матери и медленно дошел до двери. На пороге двери он обернулся и голосом утомленным, но еще звучавшим его неугасимой страстью, сказал: — Помните мои слова: пока я жив, вы не будете принадлежать никому, кроме меня, я клянусь в этом. Покоритесь. Может быть, не заставлю вас ждать так долго, как вы опасаетесь; это касается не вас и не ваших, а Бога и меня. Сегодня вечером наша свадьба! Сказав это, он приподнял портьеру и исчез. — На этот раз, — прошептала Анриэтта, — кажется, я погибла. Что вы скажете, матушка? — Я придумаю, — сказала Мария Туше.Глава 41 НАСЛЕДНИК ВАЛУА
Ла Раме, после своего ухода, начал устраивать вечер по программе, которую он начертал своим приятельницам. Он велел приготовить лошадей, раздал приказания своим агентам и дал знать аббату соседней капеллы. Наконец должна была осуществиться его мечта. Его сияющее лицо обнаруживало торжество; будто его злой гений приподнимал его за волосы и не допускал касаться земли. Однако он наконец устал и воротился к себе отдохнуть минуту, то есть воротился в комнату, занимаемую у герцогини, дворец которой был тогда не занят. Герцогиня Монпансье после вступления короля в Париж чувствовала себя там неловко. Великодушная доброта победителя не успокоила ее. Она не могла поверить, чтобы ей простили совсем, когда она не прощала. После первых гримас, утомившись кланяться, истощив все свои улыбки, она сослалась на хорошую погоду, на свое слабое здоровье, на дела в провинции и потихоньку удалилась в свои поместья. В то время французское королевство управлялось с трудом. Политику трудно было вести по милости материальных затруднений. Огромные расстояния, разделения между провинциями, смесь роялизма и лигерства, раздел городов между различными владельцами представляли на каждом шагу невозможность для надзора. Герцогиня Монпансье, удалившись в Лотарингию, была гораздо дальше от руки Генриха Четвертого, чем политический враг будет далек теперь от своего врага за тысячу лье. Герцогиня опять вздохнула свободно. Подточенные ногти опять заострились. К сестре де Майенна начали собираться испанцы, лигеры и недовольные всякого рода. Потом, так как вздохи не были довольно красноречивы, начали стонать, потом критиковать, потом угрожать, потом составлять договор. Этот концерт помешал бы Генриху Четвертомуспать, если б герой не привык засыпать каждый вечер при шуме неприятельской пушки. Разделив католиков французских на старых и на новых, герцогиня с помощью добрых иезуитов придумала множество замысловатых аргументов, для того чтобы доказать, что всякий новый католик был еретик. Отречение короля уничтожалось этим софизмом, и всякий добрый лигер был свободен поэтому опять начать лигу и преследовать обращенного еретика. Само собой разумеется, что в этих новых соображениях занимали выгодное место все испанцы, зараженные скупостью и фанатизмом, которых Филипп II успел напустить на Францию. Возобновили сношения с де Майенном, нерешительный ум и инстинктивное честолюбие которого никогда не умели сказать своего последнего слова. Словом, с тех пор, как король был восстановлен во Франции, все эти ползающие, летящие и скользящие враги, бешеные насекомые, голодные пресмыкающиеся, свирепые грызуны провертели каждый свою дыру в этом августейшем троне, который ядра десяти сражений не успели поколебать. Время от времени герцогиня отправляла в Париж шпиона. Ла Раме — мы знаем, какой милостью он пользовался у нее, — получил этот пост и пользовался властью, для того чтобы наблюдать и за своими делами. Известно, как он их вел, и развязка его приближалась наравне с той, которую его повелительница назначала своим политическим интригам. Итак, Ла Раме воротился во дворец герцогини в маленькую дверь, от которой у него был ключ и которая, отворяясь в коридор дома, смежного с дворцом, сообщалась, хотя этого не было известно никому, с главной квартирой герцогини. В те времена хитростей и засад заговорщики часто покупали часть домов, смежных с их домами. Таким образом, у них было столько потайных выходов, сколько было нужно, для того чтобы впускать посвященных; столько неизвестных дверей, сколько было нужно, для того чтобы спасаться в случае тревоги. Герцогиня Монпансье не пренебрегла этой интересной предосторожностью. Ла Раме хотел, говорим мы, отдохнуть несколько минут и, покончив с интригами, женившись на Анриэтте, увезти свою жену к герцогине, представить ее и взять окончательный отпуск. «Я заключу мое счастье на несколько времени в уединении, где ничто не может его нарушить, — думал он. — Потом, когда пробудятся сожаления и честолюбивые инстинкты Анриэтты, когда моя безумная страсть насытится, когда бред мой пройдет, тогда мы опять появимся в свете, я — излеченный, она — укрощенная». Ла Раме вошел в свою комнату; ночь, скоро наступающая в декабре, быстро спускалась на Париж с вершины мрачного неба. Ла Раме рассчитывал найти во дворце темноту, тишину и уединение. Он очень удивился, услышав шум шагов в коридорах, и, отворив дверь, еще более удивился, найдя дворец освещенным. Коридор, передняя наполнялись мало-помалу молчаливыми посетителями, впущенными, без сомнения, в тайные выходы, о которых мы говорили, потому что главная дверь была заперта. Ла Раме посмотрел на парадный двор и увидал черные группы, посреди которых сверкали под плащами или ножны шпаги, или дуло пистолета. «Что это значит? — подумал молодой человек. — Уж не воротилась ли герцогиня?» — Ее высочество изволили приехать, — таинственно отвечал швейцар, которому ла Раме задал этот вопрос. «Я должен с нею говорить, — подумал молодой человек. — Я должен узнать, зачем она приехала таким образом. Не случилось ли чего-нибудь? Не затевается ли что-нибудь? Я это узнаю. Я должен также сообщить герцогине мои планы, потому что умолчать о них было бы недостатком уважения. Запрем сначала дверь, в которую я вошел». Ла Раме, подойдя к этой двери, увидал, что ее стерегут несколько человек. «Как это странно!» — подумал он. Он поправил свой плащ, взял перчатки и пошел к другой двери своей комнаты. Там он нашел камер-лакея, который почтительным тоном пригласил его от имени герцогини пожаловать в большую залу. Дорогой он видел таинственных посетителей, которые по тому же сигналу шли к тому же месту свидания. Ла Раме вошел в большую залу, где герцогиня Монпансье давала торжественные аудиенции. Эта огромная зала, украшенная портретами знаменитого Лотарингского дома, имела в этот вечер при факелах характер мрачного величия, которого ла Раме еще в ней не видал. Точно будто стены, покрытые угрожающими лицами, зловещим оружием, приготовляли свои отголоски для какого-нибудь ужасного события. Принцесса, сидя возле камина, повернув глаза к огню, ждала, опустив голову на обе руки. Слуга доложил о месье де ла Раме, и герцогиня тотчас встала со страстной поспешностью. — Вы здесь? — вскричал молодой человек, — должны радоваться или тревожиться ваши друзья этому неожиданному возвращению? — Они могут радоваться, — сказала она. — Слава богу! Стало быть, испуг, который во мне возбудило все, что я вижу… — Прогоните его. — А присутствие этих людей на потайной лестнице, по которой я прошел до моей комнаты? — Эти люди поставлены здесь по моему приказанию. — Извините, ваше высочество, я упомянул об этом только потому, что они как будто стерегли меня и преграждали мне путь. — Они действительно вас стерегут, — отвечала герцогиня с тем же вежливым уважением, которое перевернуло все идеи ла Раме с начала разговора. Зачем стерегли его? Зачем герцогиня не называла его ни «ла Раме», ни «мой милый», по обыкновению? Сто вопросов толпилось на губах молодого человека, который не мог произнести ни одного. Но время шло и не добавляло ни решимости, ни дипломатии. Ла Раме чувствовал, что приближается час, когда он должен отправиться к Анриэтте. — Ваше высочество, — сказал он герцогине, — когда вы меня позвали, я хотел сам просить у вас аудиенции. — Вы, однако, не знали, что я в Париже, — возразила она. — Я сейчас об этом узнал, и обязанность предписывала мне сказать вам здесь то, что я поехал бы сказать вам в провинцию. — Говорите. — Мне нужен отпуск на сегодняшний вечер, ваше высочество. — На сегодняшний вечер невозможно, — сказала герцогиня. Ла Раме вздохнул. — Однако он мне необходим; у меня есть обязательство, которое не терпит замедления. — Я знаю, что у вас есть такие обязательства, в сравнении с которыми те, о которых вы мне говорите, считаться не могут. — Я женюсь. Герцогиня вздрогнула в свою очередь. — Вы женитесь? возможно ли это? — сказала она. — Через час. — На ком это, великий боже? — На мадемуазель Анриэтте де Бальзак д’Антраг. — Вы сошли с ума. — Я это знаю, но женюсь. — Я вам позволяла ухаживать за этой девушкой, потому что я думала, что дело идет только о простом препровождении времени. — Препровождение времени! С мадемуазель Анриэттой д’Антраг, со мной! девушки знатной с бедным провинциальным дворянином, таким как я… Препровождение времени! Нет, нет, ваше высочество! это серьезная страсть, которая может удовлетвориться только браком. — Повторяю вам, это сумасшествие, — холодно сказала герцогиня, — и я не допущу вас до этого. — Я знаю, что я делаю. — Нет! — Я отдал вашему высочеству мои услуги и мою шпагу, вы можете располагать мной как орудием, как слугой; руки, душу, ум — я все вам обещал, но не сердце. Герцогиня пожала плечами. Ла Раме продолжал с глухим раздражением: — Может быть, я могу быть вам полезен в эту минуту и мое отсутствие может показаться побегом, когда все слуги вашего дома собрались. Но удостойте подумать, что я прошу только одного часа; через час я буду женат, все мои приготовления уже сделаны. Через час после церемонии я располагал ехать и увезти мою жену, но я не уеду и не увезу ее; через час я ворочусь сюда к услугам вашего высочества… Только я объявляю, что я должен жениться сегодня вечером, и женюсь. Герцогиня, вместо того чтобы разразиться гневом, по своему обыкновению, когда ей сопротивлялись, и как ла Раме этого ожидал, не раскричалась, не пошевелилась, но пристально посмотрела на молодого человека и сказала спокойно: — Я вам сказала, что вы не женитесь на мадемуазель д’Антраг; вы не женитесь на ней ни сегодня, ни завтра, ни через год. — Отчего это? — дерзко спросил ла Раме. — Оттого, что это невозможно. — Вы называете невозможным все, чего вы не хотите! — закричал он, дрожа от гнева. — Нет, — сказала она спокойно, — этот брак не состоится, потому что вы сами откажетесь от него сейчас. — В этом надо меня убедить. — Я это и сделаю; настала минута, и я звала вас к себе только для этого. Герцогиня ударила в колокол, который наполнил залу своим серебристым звуком. Ла Раме, подчинившись этому хладнокровию, остался неподвижен, безмолвен, ожидая события, которое обещало ему это странное начало. На звук колокола портьеры в зале приподнялись и в три колоссальные двери вошло множество людей, лица и имена которых были хорошо известны ла Раме. Это были главные лигерские начальники, на время рассеянные роялистской реакцией, некоторые из фанатических проповедников, прогнанных из Парижа возвращением короля и слишком великодушно пощаженных его милосердием. Иезуит, профессор коллегии, куда герцогиня поместила Жана Шателя, испанцы, депутаты герцога Фериа или самого Филиппа Второго, словом — это был весь главный штаб революции, которую герцогиня Монпансье беспрестанно держала, как разрушительную тучу, над Францией, едва оправившейся от стольких бурь. Перед этой толпой могучих особ ла Раме отступил до двери, которую стерегли алебардщики и мушкетеры лотарингские, герцогиня приметила его движение и одним взглядом приказала караульщикам сомкнуть свои ряды. — Подойдите, — сказала она ла Раме, который был принужден повиноваться. Когда тишина восстановилась в зале, Екатерина Лотарингская сделала шаг к собранию, оперлась рукой о спинку своего кресла и сказала: — Господа, составляющие истинную силу нашей религии, нашего патриотизма, вы знаете по большей части наши намерения, потому что вы разделяли наши горести и наши надежды; но вы не знали, каким образом и в каком виде эти надежды могли осуществиться. Мы не будем скрывать друг от друга, как ненадежно новое царствование, под которым преклонилась Франция. Много обстоятельств могут прекратить его: война имеет свои случайности, политика похищения имеет свои опасности, новый король может пасть на поле битвы, он может пасть также пораженный публичной враждой. Я не говорю о случайной смерти, которую представляет жизнь развратная, исполненная приключений; умирают так же быстро и так же верно, может быть, от излишеств, от оргий, как от пули и от удара кинжала. Бог мне свидетель, и вы видели это все, многие даже меня порицали, что для блага страны я заставила умолкнуть мою неприязнь, забыв несчастье моей фамилии и признала нового короля. Однако я не могу ослеплять себя за счет будущего: у короля нет наследника, ребенок незаконнорожденный не считается; если король умрет, что будет с Францией? Его величество Филипп Второй с чувством достославного великодушия отказался от своих прав на трон. Де Майенн также отказывается. Я отказываюсь также за моего племянника Гиза, который не собрал большинства голосов французской публики. Но среди этого всеобщего несчастья божественное милосердие представило чудесный и удивительный способ спасения. Господа, выслушайте благоговейно слова, которые я произнесу. Существует отрасль королевской ветви, господа; во Франции находится законный Валуа! При этих словах по собранию пробежал трепет, все головы задрожали под ураганом дурно сдерживаемых страстей. Там и сям несколько серьезных лиц главных посвященных, иезуита между прочими, рассматривали старательно общее впечатление. — Валуа! — шептали со всех сторон. — Вы знаете, — продолжала герцогиня, — что от брака Карла Девятого с Елизаветой Австрийской родился ребенок в Париже 27 октября 1572 года, названный Марией Елизаветой Французской. Король ждал, надеялся иметь сына; его мать Екатерина Медичи представила ему дочь, которая даже не осталась жива и смерть которой была объявлена 2 апреля 1578 года. Господа, не дочь родилась у короля Карла Девятого, а сын, которого из ревности и, для того чтобы обеспечить трон своему любимому сыну, будущему Генриху Третьему, Екатерина Медичи велела скрыть и подменила девочкой. Холодное молчание распространилось по всему собранию после слов герцогини. Для ее сторонников, так хорошо ее знавших, это средство переходило за границы чудес. — О! — продолжала герцогиня, искусно воспользовавшись этим молчанием. — Вы молчите, вы поражены, страшное преступление этой подмены трогает вас. Что же будет, когда вы будете иметь перед глазами полные, неопровержимые доказательства, обнаруживающие весь заговор Екатерины Медичи против потомства ее родного сына, покушение, господа, которое без помощи Провидения навсегда погасило бы один из знаменитейших родов, когда-либо появлявшихся в свете? Вот, господа, — сказала герцогиня, развязывая на столе связку пергаментов, писем и мемуаров, — подойдите и посмотрите на эти документы. Привыкайте к мысли, что у вас есть законный властелин, настоящий христианнейший король, и когда убеждение войдет вам в душу, благодарите Бога, что Он вас спас от незаконного царствования и от ереси. Лигеры и фанатические аббаты приблизились с суеверным страхом или, лучше сказать, со спасительным недоверием. Испанцы и иезуиты, знавшие эту тайну, держались поодаль. — Это, — сказала герцогиня, указывая на мемуары, — рассказ о подмене. Он обнаруживает неизвестное место, где Екатерина взяла девочку для подмены молодому принцу. Этот другой документ доказывает вам, как Екатерина велела отнести ребенка к венсенскому дворянину, ее поверенному, ее преданному вассалу, и этот дворянин воспитал ребенка между своими детьми в окрестностях Медана. Ла Раме, неподвижный до сих пор, вздрогнул. — Читайте теперь, — продолжала герцогиня, — читайте показания этого дворянина на его смертном одре и все доказательства, которые представляет он, и для подтверждения этих доказательств свидетельство священника, которому была вверена эта страшная тайна. Читайте и сличайте… Не бойтесь ничего… Проникнитесь священным убеждением! — В самом деле, — прошептали голоса, которым другие вторили, — в самом деле эти доказательства неопровержимы. — И убедившись в них, вы не колеблясь скажете вместе со мной: чудо! — Чудо! — закричали фанатики, главной целью которых было возобновить междоусобную войну. — Итак, господа, вы чувствуете, почему король испанский, почему знаменитый лотарингский дом отказались от своих притязаний ввиду прав Валуа. — Да здравствует Валуа! — закричало собрание. — Теперь, — докончила герцогиня, лоб которой покрылся потом после этой страстной речи, — теперь вам остается узнать принца, чудесно спасенного, жертву Екатерины Медичи, сына Карла Девятого, вашего короля и моего, потому что он жив, господа, потому что он возле вас; он уже проливал свою драгоценную кровь для нашего дела и сам не знал, кто он. Господь позволил, что я извлекла его из неизвестности и надела на его чело корону его отцов! Вчера он был ничто, сегодня он французский король. Явитесь, мой король, вас звали вчера ла Раме. — Это сон!.. — пролепетал молодой человек, упоенный, вне себя, видя, что перед ним становятся на колени герцогиня и весь двор. Он чувствовал, как кровь приливала к его сердцу. Он побледнел и, в угрюмом величии ослепления и безумия, он явился живым изображением этого мрачного Карла Девятого, некоторые черты которого ему передала причудливая судьба и воспоминание о котором еще жило в мыслях большей части присутствующих. — Король шатается! — вскричала герцогиня. — Пусть отведут его в его комнату и пусть его стерегут там хорошенько, — шепнула она своим испанцам. — Народ, — прибавила герцогиня, обращаясь к остальным заговорщикам, — не будет опровергать, увидев, что он сын своего отца. Теперь, господа, начиная с нынешнего дня, будьте готовы. Давно уже каждый из вас знает свой пост и выбрал себе роль. Что-то говорит мне, что событие близко. Вот вам глава. А за ним, надеюсь, ни один француз не откажется идти для торжества доброго дела. Я знаю вас настолько, чтобы не иметь надобности говорить вам, что нескромность есть сигнал нашей смерти. Прощайте, господа, и да здравствует настоящий король! «Да здравствует настоящий король!» — говорили лигеры, проходя перед герцогиней. Иезуит прошел последний и, пока он кланялся, герцогиня спросила его шепотом: — А наш ученик готов? — Завтра, — отвечал иезуит, затерявшийся в толпе заговорщиков.Глава 42 ПОСОЛЬСТВО
На другой день, день назначенный Габриэль для своего отъезда, солнце едва показалось, как два человека, закутанные в плащи, прохаживались взад и вперед по цветнику перед домом маркизы. Было холодно, земля побелела от мороза. Она звучала под шпорами этих двух человек, которые разговаривали тоном таким горячим, насколько их руки и лица были холодны. Тот или другой поднимал голову к комнатам маркизы, где ничто еще не шевелилось. — Уверяю вас, месье Замет, что король, наш повелитель, дал мне печальное поручение, — сказал самый низенький и самый озябший из этих двух человек, — помешать женщине сделать то, что она забрала себе в голову. — Дело идет также о голове короля, месье де Росни, — отвечал флорентиец Замет. — Я пригласил вас поговорить об этом серьезно. Я знаю все ваше усердие к особе его величества и благодарю вас, что вы пришли так рано ко мне сюда, куда меня послал король. О! обстоятельства очень важны. — Неужели очень? — У короля сердце нежное, месье Замет, и с тех пор, как его любовница угрожает бросить его, он не выходит. — Кстати, у вас превосходное зрение, не видите ли вы движения у маркизы? — Еще ничего, месье де Росни. — Мы успеем поговорить еще немножко, прежде чем она проснется. — Но зачем оставляет она короля? — О! вы знаете это лучше всех, потому что вы были невольной причиной этого разрыва. — Совершенно невольно! — вскричал Замет, как будто опасался, чтобы не услыхали обвинения из верхнего этажа. — По совести, я не отвечаю за то, что делает король. — Э! не защищайтесь таким образом, месье Замет. Небольшая беда, что король развлекается. Росни, сказав эти слова, искоса посмотрел на Замета, чтобы оценить действие этих слов. Но Замет был итальянец, то есть хитрый. На его лице нельзя было прочесть с первого взгляда. — Конечно, — продолжал Росни, — маркиза женщина очаровательная, добрейшая. Никогда король не найдет более благоразумную любовницу. Она не делает слишком больших издержек, она не имеет ни спеси, ни честолюбия… — Как много прекрасных качеств! — Я предпочел бы, чтоб их было меньше; я предпочел бы, чтоб король имел дело с какой-нибудь чертовкой, которая заставляла бы себя проклинать раза четыре в день. Король привязывается слишком легко; видите ли вы, ему нужны потрясения, бури в домашней жизни. Не знаете ли вы, месье Замет, какого-нибудь женского демона, довольно хорошенького, чтобы наш государь прельстился им, и довольно злого, для того чтобы он прогнал его потом; это оказало бы нам услугу. — Но, месье де Росни, если король влюблен в маркизу де Монсо? — Но ведь она его оставляет. — Точно ли? — спросил Замет, пристально смотря на Росни. — Ваше присутствие здесь сегодня показывает желание примириться. — Вы угадали справедливо. Король просил меня уговорить жестокую. — И вы ее уговорите, вы так красноречивы. — Вот именно о чем я спрашиваю себя, должен ли я быть красноречив, будет ли это услуга для короля. — Сердцу короля — да. — Но его интересам? — Это другое дело. Впрочем, для человека влюбленного нет других интересов, кроме его любви. — Я постараюсь, как могу, угодить королю. Но надо предвидеть случай, когда маркиза де Монсо останется неумолима. У нее есть характер. Сюлли произнес эти слова тоном, обещавшим мало усердия к переговорам. — В таком случае?.. — В таком случае надо развлечь короля поскорее. — Это легче сказать, чем сделать. — Однако я рассчитывал на вас по двум причинам. — Говорите. — Во-первых, пружина всякого развлечения, так же как и войны, — деньги, а у нас их нет. Замет нахмурил брови. — А у вас их много, — продолжал Сюлли. — О! Уверяю вас, по крайней мере половина того, что я имею… — Помещена во Флоренции у великого герцога… я это знаю, и поэтому вы находитесь с этим государем в весьма хороших отношениях, я полагаю. — Как! — вскричал Замет с беспокойством. — Вы знаете… — Я всегда знаю, где деньги, — перебил Сюлли, — я только не знаю, как их привлечь к нам. Да, у вас там миллион экю. Зачем они не здесь! — Уверяю вас… — Если вы занеможете, не оставляйте всех этих денег во Флоренции; я нашел помещение гораздо выгоднее для вас. — Какое? — Предположите, что король совсем разойдется с маркизой; предположите, что он будет развлекаться там и сям, пока его разведут с королевой Маргаритой; предположите еще, что король опять женится… — А! а! — сказал Замет, снова смотря на Сюлли, который равнодушно царапал своей тростью корзинки, усыпанные инеем. — Имеете вы что-нибудь против брака короля? — продолжал Сюлли. — Но это смотря по тому, каков будет брак, — сказал флорентиец, осматриваясь вокруг, как будто боялся шпионов. — Я говорю о хорошем браке, любезный месье Замет, с принцессой молодой, прекрасной, если возможно, а в особенности богатой. — Это можно найти. — У вас никого нет в виду? — Но… — Есть испанская инфанта. — Чернушка, настоящая обезьяна. — Есть савойская принцесса. — Семь смертных грехов, да еще бедность к тому. — Есть королева Елизавета Английская. — Вот уже шестьдесят лет, как врачи требуют, чтобы она умерла девственницей. — Черт побери! Не нашего короля нужно ли в мужья. Мы перебрали всю Европу, не так ли? Э, нет, мы забыли кого-то, любезный месье Замет. — Кого же? — спросил флорентиец с простодушием, делавшим честь его дипломатии. — Даже из вашей родины. Ведь у вас во Флоренции есть принцесса. — Правда. — Дочь великого герцога Медичи. — Принцесса Мария. — Которой, должно быть, в нынешнем году… — Двадцать лет. — И которая хороша собой? — О, чудо! — Хорошее владение, народ сытый, который дом Медичи умел откормить как следует. — Медичи искусны. — Я думаю; люди, у которых миллион экю от Замета… Кстати, какой характер у этой прелестной принцессы? — Не знаю и не осмелюсь сказать. — Вы должны знать. Кто-то мне рассказывал вчера, что у вас молочная сестра, дочь ее кормилицы. Говоря таким образом, Росни устремил на Замета свои серые глаза, которые были способны изведать глубину души. — Вы знаете все, — отвечал флорентиец, поклонившись. — Все, что может интересовать моего государя, любезный месье Замет. Видите, как все сцепляется без усилий. Свяжите конец с концом наши предположения: разрыв короля с прекрасной Габриэль, его препровождение времени со всеми масками, которых для него найдут, потому что ведь для него можно найти хорошеньких масок; потом развод с мадам Маргаритой, потом новый брак, и заметьте, как ваша флорентийская принцесса придется ко всему этому с миллионом экю, который вам принесет или маркизство, или герцогство, или огромные проценты под залог хорошей земли. — Я слишком люблю короля, — сказал Замет, трепеща от радости, — для того чтобы отвергать все эти предположения. Но сколько трудностей надо победить! — Говорят, ваша соотечественница — ворожея. — Это болезнь нашей страны. — Надо будет узнать от нее мой гороскоп, — сказал Сюлли. — К вашим услугам. — Вы можете быть уверены, месье Замет, что я считаю вас благородным человеком, добрым другом нашего доброго короля. Замет поклонился опять. — Вы дадите взаймы пятьдесят тысяч экю в конце этого месяца, не правда ли? Надо развлечь его величество или войной, или иначе. — Я прощу эту сумму. — Благодарю. Это известие утешит несколько любезного государя, который со вчерашнего дня не перестает печалиться или сердиться; я в первый раз слышал, как он говорит о мщении. — Кому? — Тому, кто пересказал маркизе. Я думаю, прости Господи, что бедняжка поплатится за всех. Но если бы это могло развлечь короля, что за беда! Месье Замет, сегодня 27 декабря, мне хочется послать завтра за пятьюдесятью тысячами. — Завтра слишком рано. — Вот маркиза зовет своих людей. Я оставляю вас, месье Замет. Итак, завтра вечером мы займем у вас деньги в ожидании всех этих процентов, известных вам. — Хорошо. — Не забудьте мой гороскоп. До свидания! Сказав эти слова, Сюлли с значительным видом пожал руку Замету и велел доложить о себе маркизе де Монсо. Габриэль начала уже свои приготовления, и не будучи замеченной, смотрела на министра, занятого разговором с Заметом. Когда Сюлли вошел к ней, все было кончено. Габриэль отдавала приказания, чтобы заложили лошаков. Министр, выразив свои сожаления и свое удивление несколькими вежливыми словами, объяснил поручение, данное ему королем, и начал ходатайствовать за своего государя, но так вяло, что его хваленое красноречие не отличилось в этот день. Габриэль, сияя меланхолической красотой, не переставала во все время, как говорил Сюлли, ласкать и целовать своего ребенка. Потом, после речи министра, она сказала: — Я расстаюсь с королем, любя его очень нежной дружбой. Я оставляю его для его же счастья; может быть, если бы я хотела, я могла бы остаться еще, но королю нужно быть свободным, и все желают его свободы и упрекали бы меня в его неволе. Я перенесла бы с огорчением, если б меня отослали после, а это непременно случится, лучше же мне сделать первый шаг. Неужели вы из тех, который мне скажет, что я напрасно поступаю так? Сюлли был откровенен, когда хотел, и выражался лаконически, как спартанец. — Нет, маркиза, — отвечал он, — я не стану отговаривать вас более того, сколько требует приличие. — В политике приличие не считается, неужели вы посоветуете королю насильно удержать меня? — Ну нет, — сказал он, — хотя я имею к вам дружбу и уважение, которые вы можете испытать, но… — Но вы предпочитаете, чтобы я была в Монсо, а не в Лувре. — О! не вы стесняете, а любовница короля. — Однако я не очень стесняла после моего восшествия на престол, — меланхолически сказала Габриэль. — Я мало занимала места на троне и желаю, чтобы короля и его министров не более беспокоили вперед, как беспокоило их мое присутствие. Прощайте. Я теряю короля, потому что я была нежным другом; он возьмет вместо меня другую, но не заменит меня. Я была кротка с бедным народом, который не будет проклинать мою память. Прощайте, — докончила она, — по крайней мере, вы настолько уважали меня, что не стали лицемерить со мной. Прощайте! Эта ангельская доброта сделала более впечатления на сурового гугенота, чем он ожидал. Смотря, как великодушное создание отирало свои слезы, из которых ни одна не была смешана с горечью, он сказал себе, что действительно Генрих никогда не найдет такого ангела, и упрекал себя, что не более пролил бальзама для излечения такой благородной раны. Он показался себе грубияном и подыскивал средство опровергнуть свои слова, признаваясь себе, что он сделал совсем не то, что поручил ему король. Но так как совесть его радовалась, что он оказал услугу государству и королю, он остановился в ту минуту, когда хотел загладить свою вину. — Я ухожу, — докончил он с уважением, в котором не было ничего притворного, — передать его величеству, что я не успел вас удержать. — Ступайте, — сказала она с улыбкой, — и не слишком хвастайтесь, как вы трудились. Это было ее единственное мщение. Кроткая женщина протянула свою белую руку этому палачу, который поспешно ушел, унося с собой победу и угрызения. Он не дошел еще до передней, в которую провожала его Габриэль, когда послышались шаги запыхавшегося человека, который кричал: — Эй, вы, лошади, не бренчите так громко; вы еще не уехали, черт побери! Это был Крильон, которого бедный Генрих отправил также, угадывая, что у его первого посланника не хватит энтузиазма. — А! месье де Росни, — сказал он. — Ну что, маркиза убедилась? — Нет, — отвечал Росни, досадуя, что явился этот новый сподвижник, — маркиза настаивает и хочет ехать. Габриэль, вооружившись мужеством, сказала: — Это правда, я еду. — О нет! Маркиза, — перебил Крильон, — вы должны прежде меня выслушать. Росни воротился в комнату. Ему любопытно было послушать этого оратора, красноречие и остроты которого возбуждали в нем некоторое беспокойство. — Вас ждет король с нетерпением, — сказал ему Крильон тихо, — а я в это время сделаю новый приступ к маркизе. Росни еще колебался. — А! у вас нет сострадания, — сказал он, — король ждет и плачет. Росни, кусая усы, вышел. — Да, — продолжал Крильон, взяв за руки маркизу и отводя ее к окну, — он в отчаянии, это раздирает сердце; разве вы допустите это? Король французский с красными глазами! — А у меня разве сухие глаза? — Ба! Вы женщина; и отчего вся эта комедия, вся эта огласка? Оттого что король был в маскараде, оттого что он вас обманул, что он, может быть, обманывал вас уже тридцать раз, и вы не сердились за это… Хорошо, славные глупости я говорю, — продолжал он, увидев, как помрачилось лицо Габриэль, — это чистая выдумка. Король никогда вас не обманывал, даже третьего дня. Он рассказал мне все подробно. Не стоит даже нахмуривать брови. Черт побери! Разве ваш сын вырастет и не будет обманывать женщин, а вы станете смеяться? Смейтесь же. Габриэль пролепетала несколько слов с прерываемыми вздохами. Это были те же жалобы, те же намерения, запечатленные кротким упорством, которое отличает добрые сердца, несправедливо оскорбленные. — Если вы уезжаете из самолюбия, — сказал Крильон, — это напрасно. Что сделал король? Он сам просил вас, посылал других вас просить; ваше самолюбие выгорожено, но берегитесь, вы преувеличиваете!.. Как! Этот любезный король имеет ребенка, прекрасного ребенка, только что окрещенного; он привык уже к его ласкам, а вы отнимаете у него этого ребенка, его крошечного собеседника!.. Это жестоко, это дурно! Не делайте этого, потому что я скажу, что у вас злое сердце. — Любезный месье де Крильон, не увеличивайте моего огорчения. Не заставляйте поколебаться мою решимость. Мне остается только мой ребенок и Бог. — А я? — вскричал добрый кавалер, растрогавшись. — Я обещал королю, что вы останетесь, и если бы мне пришлось лечь поперек двери, вы не уедете. Крильон еще говорил, когда на лестнице раздался запыхавшийся голос, кричавший: — Я хочу говорить с кавалером де Крильоном! — К черту скота! — пробормотал Крильон, остановленный в своем красноречии. — Скажите, что я его гвардеец. «Мне-то что до этого?» — подумал Крильон. — Что меня зовут Понти и что я пришел сюда по случаю очень большого несчастья. — У этого негодяя всегда бывают несчастья, — сказал Крильон Габриэль, — но пусть его великое несчастье ждет. — Прибавьте, — ревел голос, — что я пришел от месье Эсперанса. Крильон бросился к лестнице, наклонился через перила и закричал громовым голосом: — Иди сюда, дуралей! — Эсперанс! — прошептала Габриэль, в голове которой, утомленной слезами, промелькнуло невинное и свежее воспоминание. Крильон и Понти уже стояли лицом к лицу. — Полковник, — сказал дофинец, красный, дрожащий и задыхающийся на каждом слове, — где Эсперанс? — А я почем знаю? — Как, вы не знаете? Но ведь вчера вечером к нему приходили полицейские. — Полицейские? Это для чего? — Полицейские? — повторила Габриэль, подходя. — Да, полицейские от имени короля. — Ну? — спросил Крильон. — Они увели Эсперанса. — Куда? — закричал кавалер. — Я спрашиваю об этом вас, полковник. — Но ведь ты осведомлялся? — продолжал Крильон, тряся гвардейца. — Еще бы! — У людей, у соседей, у Замета? — Он сосед Замета? — спросила Габриэль. — Да, на улице Серизе. «В улице Серизе!» — подумала молодая женщина, пораженная внезапной мыслью. — Но к чему же приходили эти полицейские, чего они хотели, что он сделал? — продолжал Крильон. — Ничего. — Кого он видел и принимал? — Никого… кроме человека, закутанного в плащ, которого он приводил третьего дня из сада на двор в половине десятого вечера. Габриэль вздрогнула. — В то время, когда я разъезжал в его карете, — продолжал Понти. — Кто же этот человек? — Кто его знает! — А я думаю, что знаю, — перебила Габриэль с нервным трепетом. — Дом, в котором живет месье Эсперанс, красив? — Да. — Новый? — Совершенно новый. — Большой двор и сад, сообщающийся… — С садом Замета… — Там-то месье Эсперанс провожал вчера человека? — Там. — Этот человек был король! — А! понимаю, — вскричал кавалер, — король вышел от Замета через пролом в стене. — И король, — сказала Габриэль, — вообразил, что бедный месье Эсперанс предупредил меня, и отомстил ему. — Я не понимаю. — Вы поймете после. Крильон хотел отвечать, когда в комнату вбежал лакей, подал Габриэль конверт странной формы и сказал ей на ухо: — Поскорее рассмотрите; говорят, что от этого зависит жизнь короля. Габриэль наскоро разорвала конверт, в котором лежала гипсовая фигурка, к которой была привязана записка. Габриэль прочла ее, бледнея. — Ах, месье де Крильон, — сказала она, — скорее, скорее бегите в Лувр к королю! — Что мне ему сказать? — Я остаюсь в Париже и не оставлю его, что я сейчас буду у него… Ступайте, ступайте, я следую за вами! — Король перестанет плакать и скажет мне в то же время, куда девался Эсперанс! — вскричал кавалер, спускаясь с лестницы с проворством молодого человека.Глава 43 В ЛУВРЕ 27 ДЕКАБРЯ 1594 ГОДА
Зала короля в Лувре была полна людей, озабоченных, растревоженных, военных, статских, которые разговаривали, расхаживая в галерее, о печали короля после его разрыва с Габриэль. Это событие приняло размеры катастрофы. Ходила тысяча слухов об отъезде маркизы и о скором утешении короля. Вдруг Росни прошел по этой зале в кабинет его величества. Его холодную и непроницаемую физиономию с любопытством разглядывали, но никто не мог прочесть на ней истину. Сюлли сам затруднился бы сказать, что он думал в эту минуту. Он не полагал, чтобы Крильону удалось удержать Габриэль, но ему не хотелось также сообщить Генриху окончательный отказ его любовницы. В таком недоумении он шел медленно, чтобы дать себе время найти двусмысленный ответ. Но король не дал ему времени. Только что он приметил его из-под портьеры своего кабинета, как подбежал к нему, и голосом, глазами, душой стал его расспрашивать об успехах его посольства. — Она вам отказала! — вскричал он, увидев угрюмое лицо министра. — Должен признаться, государь, — отвечал тот. Генрих с отчаянием опустил руки. — Этот удар будет для меня смертелен, — прошептал он, — я нежно любил эту неблагодарную. Что я говорю! Это я был неблагодарен. Она мстит за мою измену. Она делает хорошо. «Все это идет не слишком дурно и вспышка рассудительна, — подумал Сюлли. — Я сказал не слишком много, не слишком мало. Если маркиза непременно захочет ехать, это сообщено. Если она послушается Крильона, я не настолько подался вперед, чтобы постыдно отступить. Но, для того чтобы избегнуть первого потрясения, удалим короля». — Государь, — сказал он, — имейте мужество. Вашему величеству не следует оставаться в таком унынии. — Конечно, нет, — отвечал Генрих, — и мое намерение принято. — В самом деле? — сказал Росни с некоторой радостью. — Да, я сейчас пойду сказать маркизе все, что у меня на сердце. — Но, государь, вы подвергаете королевское достоинство урону. Это не важно, что не удалось мне, что не удастся Крильону… — О, мне удалось! — вскричал кавалер, устремляясь в кабинет за камер-лакеем, который докладывал о нем. При виде Крильона, услышав эти приятные слова, король вскрикнул от радости и обнял счастливого посланника, между тем как Росни закусил себе губы. — Она остается, мой Крильон, она остается? — спросил добрый король в восторге, который трудно описать. — Она делает более, она идет сюда! — А! — сказал король вне себя от счастья. — Пойдемте к ней навстречу. Пойдем, Крильон, пойдемте, Росни. — Государь, сделайте милость, будьте умеренны, — сказал гугенот, удерживая Генриха за руку. — Позвольте, государь, — сказал кавалер, удерживая его за другую. — Маркиза де Монсо будет в Лувре через несколько минут, и я исполнил ваше поручение добросовестно; не правда ли? — Да, да, мой Крильон. — Исполните же и мое. — Чего ты хочешь? — Вы послали арестовать молодого человек на улице Серизе. — Да, негодяя, который поссорил меня с Габриэль, изменника, которому я доверился, чтобы выйти неприметно от Замета, и который донес на меня маркизе. — Это невозможно, — сказал Крильон. — Как? — Это более чем невозможно, это несправедливо. Этот юноша человек благородный, а не изменник. — Ты его знаешь? — Еще бы! Знаю ли я Эсперанса! — Да, правда; помню теперь больного у женевьевцев, этого раненого красавца. Я знал, что это лицо мне знакомо. Ну, мой Крильон, твой протеже мне изменил, а я пожимал ему руку! Видишь ли ты, если бы я был, как он, простой дворянин, я заставил бы его проглотить свое вероломство с острия моей шпаги, но я король и должен был отмстить по-королевски. — Ваше величество, — сказал Крильон, бледный от гнева, — находите мое поручительство негодным? — Твое поручительство? — Я ручаюсь, что этот молодой человек также мало изменил вам, как и я, и требую, чтобы его обвинители доказали мне это в глаза… — Ты будешь доволен, потому что мне это сказала Габриэль, и когда она придет, она повторит тебе. — Видано ли когда подобное коварство! — вскричал кавалер. — Сейчас она мне говорила, что он не виноват. Право, двор — это логовище лживых и злых людей. — Вот она! — вскричал король, приподнимая рукой портьеру, чтобы скорее увидеть маркизу, которую лестный говор придворных встретил при входе ее в галерею. Габриэль, которой волнение удваивало красоту, шла быстро, и на пути ее все перья на шляпах касались земли. Король не мог удерживаться более. Он протянул ей руки, потом привлек в кабинет с физиономией, где радость обнаруживалась смехом и слезами. Сюлли вышел, подавив вздох. Крильон дал королю наслаждаться видом своего кумира, дал излиться нежным упрекам Генриха, его вздохам, уверениям и обещаниям, потом взял за руку Габриэль и сказал: — Пока вы счастливы, невинный страдает по вашей вине. Будьте откровенны, маркиза: вы обвинили Эсперанса, вы еще продолжаете уверять в этом? — Боже мой! — сказала Габриэль. — Я забыла. О! Это извинительно при волнении, в котором я нахожусь, и при всем том, что я имею сказать королю. Но я вспомню. — Вы мне говорили, — продолжал король, — что вы узнали все от этого молодого человека. — Я вам сказала, государь, то, что женщина может сказать, когда ей лгут и когда она сама лжет. Дело в том, что меня уведомил письмом о вашем выходе человек, которого я не знаю. Я спряталась на улице Серизе и сама собственными глазами видела, как вы вышли. Я должна обвинить только себя. Я только сегодня узнала, что месье Эсперанс живет на улице Серизе и что ваше величество говорили с ним третьего дня вечером. — Я вам говорил, государь! — вскричал кавалер, целуя руку Габриэль. — Теперь скажите, что вы сделали с этим бедным мальчиком, честным, невинным и оклеветанным? — Стыдно сказать, — отвечал король с замешательством, — я велел запереть его в Шатле. — Черт побери! — сказал Крильон. — В тюрьму, как злодея, моего доброго Эсперанса! Ах, маркиза! Он мог от этого занемочь, даже умереть. В тюрьму! Вот оно что! Женщины лгут и всегда на кого-нибудь! — Я в отчаянии, — сказала Габриэль. — Освободим его, — прибавил король. — Это будет не долго, — отвечал кавалер, и убежал как стрела, оставив вместе любовников. — Государь, не имеете ли вы так же, как и я, угрызения, — сказала Габриэль, руки которой Генрих страстно пожимал. — У меня в душе только нежность и радость с тех пор, как я вас увидел. Ах, боже мой! — вдруг сказал король. — Что такое? — спросила Габриэль с испугом. — Этот сумасшедший Крильон убежал от меня, не взяв приказа, а губернатор Шатле не отдаст ему пленника, несмотря на то что он Крильон. — Напишите поскорее этот приказ, государь; мы пошлем его с пажом, потом ваше величество выслушаете, что я пришла вам сказать. Король начал писать. Он держал еще перо, когда явился Сюлли, стараясь улыбаться Габриэль. — Государь, — сказал он, — галерея полна народа, и я принес вашему величеству приятные известия. — Это действие возвращения гения хранителя, — любезно сказал король, подписывавший приказ освобождения, с которого Габриэль не спускала глаз. — Но какого рода это известие? — Раньи и Монтиньи, пикардийские дворяне, принесли покорность. Это экономия пушек и пороха. Они ждут минуты, чтобы обнять колени вашего величества. — Мятежники?.. Но, любезный Росни, со мной находится мятежница, которая также покорилась; я обязан посвятить ей несколько минут, для того чтобы сделать условия. — Покоренным кажется ваше величество, — серьезно отвечал министр. — И следовательно — я должна делать условия, — также серьезно перебила Габриэль. — О, вы можете их слышать, месье де Росни. — Маркиза… — Во-первых, король не выедет из Лувра… без меня. — Вы, маркиза, становитесь ревнивы, — сказал Сюлли, — а ревность преувеличивает свои торжества. — Я ревнива только к спасению короля, а так как жизни его угрожает опасность, если он выедет из Лувра… — Кто это говорит? — сказал, улыбаясь несколько презрительно, министр. — Вот это, — отвечала Габриэль, показывая письмо, которое она получила у себя. — От кого? — Прочтите подпись. — Брат Робер… я его не знаю. — А я знаю! — вскричал король, схватив записку, которую прочел вслух.«Любезная дочь, не оставляйте короля, не выпускайте его из Лувра и не допускайте приблизиться к нему вот этого человека в случае, если он встретится вам».
— Вотэта фигурка, — прибавила она, вынимая из-под мантильи глиняную статуэтку, сделанную с удивительным искусством. — Мой бог! — вскричал король. — Брат Робер уже показывал мне эту фигуру. — Вооруженная ножом, — сказал Сюлли, — но это чучело — чистая выдумка монаха. — Монах, выдумавший это, — сказал король, — не из тех, которых пугают или которые стараются напугать. Росни неприметно пожал плечами. — Хорошо, — сказал он, — ваше величество не выедете из Лувра, а за этой фигурой будут наблюдать. Но пока, маркиза, у короля есть дела, не терпящие отлагательства. Много людей требуют его присутствия в галерее. Галерея в Лувре; мы не выйдем из ваших условий, отправляясь туда. — Иду, — перебил король. — Росни, приложите печать к этому приказу, который я написал губернатору в Шатле; маркиза его возьмет. — Я его жду, — сказала Габриэль. — А я обойду галерею. — И воротитесь? — Сейчас. — Вы мне клянетесь, что вы не выйдете из Лувра? — Я слишком заинтересован тем, чтобы вам повиноваться, — сказал король, прижимая молодую женщину к своему сердцу, между тем как министр флегматически приготовлял сургуч и печать. Генрих приподнял портьеру. Дежурный камер-лакей топнул ногой, по обыкновению, чтобы предупредить гвардейского капитана, который при этом сигнале закричал: — Король, господа! Генрих вышел с улыбкой на губах, с лучезарным лицом, с глазами, сияющими счастьем, как в день победы. Он подошел к придворным, число которых увеличилось и которые скоро окружили его с почтительной фамильярностью. Габриэль следовала за ним глазами. Она видела, как он направился к группе пикардийских дворян, о покорении которых объявил ему Сюлли. Один из них обратился к королю с короткой речью от имени своих друзей. Генрих отвечал несколькими словами забвения и прощения. Сцена была трогательная, и заинтересовала Габриэль, которая издали смотрела на нее. Сюлли в кабинете приложил печать к приказу и подал его маркизе, внимание которой было на минуту отвлечено. Но как только она взяла конверт, она воротилась к своей обсерватории. Дворяне благодарили короля, поникнув головой, преклонив колено. Собрание благодарило Генриха за великодушие словами признательности. Вдруг из глубины залы раздался крик и явился монах, протянув руки. — Берегитесь! Он здесь! — кричал он зловещим голосом, мрачно раздававшимся под сводами. — Брат Робер! — вскричала Габриэль, и глаза ее искали Генриха. Но король наклонился, чтобы поднять просителей, и над ним, над самой его головой, сверкнул нож в руке бледного молодого человека. Габриэль громко вскрикнула. Она узнала в убийце фигуру, присланную женевьевцем. Жан Шатель проскользнул в толпу и, воспользовавшись случаем, ударил короля ножом. Удар, направленный в горло короля, попал выше, около рта. Он приподнялся, раненный, оглушенный, среди толпы, бледной и онемевшей от ужаса при виде крови, омочившей лицо короля. Габриэль упала без чувств на пол. Убийца, воспользовавшись суматохой, хотел убежать. Брат Робер схватил его за шею, поднял сильной рукой и бросил к гвардейцам, шпаги которых уже были обнажены. — Берегитесь убивать его, — сказал он, — он должен говорить! Между тем Сюлли, дрожащий и бледный, велел отнести короля в кабинет. Общество сетовало, суматоха, горесть, бешенство были невыразимы. Брат Робер вошел в кабинет, куда Сюлли в своем волнении готов был впустить всех. Генрих старался успокоить своих друзей. Он спрашивал о маркизе, которую привели к нему. Он улыбался бедной женщине, которая, опомнившись, плакала, видя, как течет кровь. За дверьми слышался ропот взволнованной толпы. Брат Робер, сторож мрачный и неумолимый, велел запереть двери отряду гвардейцев и омывал рану короля, дрожащими руками соединяя разрезанное тело. — О, статуйка! — прошептала Габриэль. — О брат Робер! — Я не мог поспеть вовремя, — отвечал женевьевец глухим голосом. — Что это за рана? — спросил Генрих, который видел, что никто вокруг него не смел задать этот вопрос. — Легкая, не правда ли? — сказал Сюлли со слезами на глазах. — Да, — отвечал женевьевец. — Ну, надо поспешить объявить это везде! — вскричал министр. Сказав эти слова, он убежал в дверь. Брат Робер остановил его и схватил своей железной рукой. — Вы с ума сошли, брат мой! — сказал Росни, не привыкший, чтобы ему шли наперекор. — Останьтесь! — холодно сказал монах. — Но, государь! — вскричал Росни. — Вы слышите голоса, которые стонут, весь город в тревоге, промедлить секунду, чтобы провозгласить короля здоровым, значит подвергать опасности государство. Занимайтесь вашими молитвами и компрессами и предоставьте нам заниматься публичными делами. — Я вам говорю, — отвечал монах, — что зловещие слухи должны ходить по городу; я вам говорю, что государство подвергнется опасности, если будут думать, что король не при смерти. Я говорю вам, что рана опасна, что нож был отравлен. Говоря это, он нежно сжимал руку короля и улыбался ему и Габриэль, которые понимали оба смысл пожатия руки и улыбки. — Этот человек с ума сошел! — сказал Росни в пароксизме гнева. — Это вы сошли с ума; вы кричите так громко, — возразил вполголоса и поспешно брат Робер. — Как! Вы государственный человек и не понимаете, что происходит! Вы не понимаете, что герцогиня Монпансье сыграла свою вторую партию и что вы помешаете ей сыграть третью и последнюю! Посмотрите на короля, он ничего не говорит, он закрыл глаза; вы видите, что он умер. Эта мрачная фигура, освещенная огнем гения, не имела в эту минуту ничего человеческого; точно это был один из тех великих пророков, мысли, слова которого освещали, как молния, и потрясали, как гром, толпу, остолбеневшую перед их зловещими открытиями. Сюлли посмотрел на короля, который, приложив палец к своим окровавленным губам, предписывал ему покорность и молчание. Потом он тихо опустился на руки Габриэль. Тогда женевьевец отворил дверь, которую служители Генриха заперли за ним. Он вошел в галерею; вся толпа бросилась к нему навстречу, чтобы узнать о здоровье короля. — Что говорят?.. что такое?.. Король!.. король!.. как здоровье короля?.. — спрашивали сто голосов. — Говорят, что король умер, — прошептал женевьевец тоном отчаяния, который вызвал трепет ужаса во всем собрании. — Король умер!.. — повторила толпа со стоном и со слезами. В то же время гвардейцы заставляли выходить из галереи дворян и народ, обезумевших от отчаяния. Под балконом и на улице раздался горестный крик: — Король умер! Брат Робер, молча закутавшись в свой капюшон, вышел из Лувра, следуя с жадностью за печальными следами, расстилавшимися перед ним на каждом шагу по огромному городу.
Глава 44 ОТБОЙ
Мы оставили Марию Туше и ее дочь в трудном положении. Может быть, не бесполезно будет воротиться к ним и посмотреть, как их находчивость помогла им выйти из него. Сначала они не видали никаких способов. Ла Раме поставил их или в необходимость молчать, или в противном случае обесславить себя безвозвратно и покончить навсегда с честолюбивыми мечтами. Выйти из этого круга было первым условием; но ни мать, ни дочь, одна с бешенством отчаяния, другая с флегмой мстительного размышления, не могли до этого достигнуть. Они видели, что действительно дом их караулили, что побег был невозможен; притом, если бы они и бежали, то их гонитель отыскал бы их рано или поздно и им опять пришлось бы начинать снова. Мысль об огласке и о признании, которые обратили бы внимание короля на них, они не могли перенести ни одной минуты. Мария Туше через час борьбы и прискорбных попыток ощупью в этом лабиринте призналась со стыдом своей дочери, что она ничего не придумала, что положение не имело исхода и что единственный способ, не отразить удары врага, но притупить их, состоял в том, чтобы признаться во всем графам д’Антраг и Овернскому, когда они воротятся от Замета и из Лувра. Новый источник отчаяния для Анриэтты. Но в крайних обстоятельствах крайняя горесть становится неизбежна. Все в самых слабых организациях поднимается тогда до могущества, до тех пор неизвестного. Гордая Анриэтта склонила голову перед этой необходимостью. Когда приехали отец и сын, жертва была решена. Мария Туше начала речь и с самыми замысловатыми тонкостями своего красноречия, с самыми ловкими смягчениями рассказала изумленным мужчинам предложение ла Раме и причины этой неслыханной дерзости. Во время этого рассказа, который, разумеется, был краток и приписывал Анриэтте только ветреность молодой девушки, та, закрыв голову руками, рыдала и старалась растрогать слушателей этой пантомимой, которую Цицерон рекомендует оратору, как одну из самых действительных аргументов защитительной речи. Между тем как Мария Туше говорила о гугенотском паже и о нормандском незнакомце, граф д’Антраг, разочарованный в невинности дочери, ходил большими шагами по комнате, с гневом грызя ногти. Граф Овернский, нахмурив брови, смотрел на черные, блестящие локоны, украшавшие белую и круглую шею Анриэтты. Он говорил себе, что его сестрица порядочно навострилась в карьере приключений. Мария Туше кончила свою речь. Молчание, более жестокое, чем гнев, последовало за речью. Анриэтта, которая поняла это молчание, удвоила свои вздохи и слезы, все более скрывая свое лицо. — Из этого выходит, — сказал граф Овернский, — что ла Раме хочет воспользоваться дурным положением мадемуазель д’Антраг. — Да, сын мой. — Так этот ла Раме знает все. Вы доверились этому негодяю? — Мы были принуждены, — торжественно сказала Мария Туше. — Принуждены! — повторил граф Овернский, пожимая плечами. — Как будто можно принудить людей сделать глупость! — Слова были и не сыновние и не братские, но в важных случаях что такое значит чувство? — Это была не глупость, — сказала Мария Туше, — когда дело шло о мщении. — Это другое дело, — продолжал граф, — что же сделает этот ла Раме? — Я уже боюсь его меньше с тех пор, как я имела мужество во всем вам признаться! — искусно вскричала Мария Туше. — Потому что мое главное огорчение происходило от неведения, в котором вы находились насчет того, что касалось Анриэтты. — Я предпочел бы никогда этого не знать, — прошептал д’Антраг мрачным голосом. — Ради бога, не огорчайте виновную, которая раскаивается, — отвечала мать, бросив умоляющий взгляд на сына. — Это правда, — сказал граф Овернский, — выслушаем затруднения этих женщин. Вы боитесь, не правда ли, что, если вы откажете этому негодяю, он все расскажет королю и в короле это произведет отвращение. — Вот все. — Когда так, способ легок! — вскричал граф д’Антраг. — Надо повесить этого негодяя или убить его как собаку, не правда ли, граф? — Боже мой! Я вижу только это, — сказал граф Овернский. — Мертвый он ничего не расскажет королю. — Этот ла Раме ловкий, — прошептала Мария Туше. — Он, вероятно, устроил так, чтобы его тайна пережила его. Он и верно отдал подробную записку с доказательствами какому-нибудь сообщнику, который явится показать ее после его смерти. — А! Если вы боитесь этого, — сказал граф Овернский, потеряв несколько бодрости. — Но, — решился сказать отец, — бумага ничего не доказывает, когда человека нет в живых, чтобы подтвердить ее. Я стою на своем. Отвязаться от ла Раме — это значит, во-первых, уничтожить врага, а во-вторых, уничтожить того, кто хочет жениться на мадемуазель д’Антраг. Его сообщники, если они останутся после него, будут не женихи, они потребуют денег или чего-нибудь другого, их удовлетворят, между тем как удовлетворить ла Раме, отдав ему Анриэтту, — это чудовищно. — Хорошо, пусть его убьют, — спокойно отвечал граф Овернский, — притом это устроит всех на время. Мария Туше приняла вид еще более отчаянный. — Э! Господа, даже это средство нельзя употребить, — сказала она. — Почему же? — спросили оба графа. — Потому что ла Раме знает это средство, знает его хорошо. — Он знает, что вы хотите его убить? Вы ему объявили? — Я забыла вам сказать, — пролепетала Мария Туше, — что в двух гибельных обстоятельствах, о которых я вам сообщала, этот ла Раме нам помогал. — Как! — вскричал граф Овернский. — Гугенотский паж и нормандский дворянин… оба… — Его движение докончило фразу. — Да, — скромно сказала мать. — Смерть моей жизни! — прошептал молодой человек, с восторгом смотря на семейную картину, представившуюся его глазам. — Вы прекрасно устраиваете дела, милостивые государыни. — Все для чести, — возразила Мария Туше выразительно. Д’Антраг вертелся, как змея на горячих угольях. — Я понимаю, — продолжал граф после минутного размышления. — Что этот ла Раме не доверяет. Он знает ваш образ действия, черт побери! Но у вас опасный противник. Мария Туше подняла глаза к небу. — Такой опасный, — продолжал граф, охлаждаясь заметно, — что я не очень ясно вижу исхода из подобной борьбы. — Ба! — вскричал д’Антраг. — Как ни доверяешь смерти, как ни знаешь своих врагов, а все равно придется пасть. — Это не мое мнение, месье д’Антраг, и клянусь вам, что если бы я не доверял кому-нибудь, как ла Раме не должен доверять этим дамам, этот кто-нибудь убил бы меня. — Что же вы сделали бы, позвольте спросить? — Во-первых, я не приехал бы сам за моей невестой в ее дом. Я призвал бы ее запиской в капеллу, где я должен с ней венчаться, и она должна была бы приехать. Так что если меня убьют, так, по крайней мере, после свадьбы. И поверьте, это сделает ла Раме. — Он сказал, что он придет, — прошептала Анриэтта. — Он сказал, а сделает так, как я вам говорю. — Но Анриэтта не поедет в эту капеллу, — вскричал д’Антраг, — и ла Раме должен будет приехать сам. — О! когда так, сколько шуму, огласки, размена писем, и тайна разгласится, а я не стану вмешиваться в этот хаос. — О, граф! — вскричали обе дамы, в глубоком отчаянии протягивая к графу умоляющие руки. — Граф, не бросайте нас, — сказал д’Антраг смиренно. — Непременно вас брошу! Что скажет король, узнав обо всей этой любви, о всех этих убийствах? — Король не узнает ничего, — сказала Мария Туше, — если мы будем иметь вас руководителем и опорой. О, не доводите до крайности молодую девушку, более легкомысленную, чем виновную! — Два человека убитых и третий осужден на смерть, какое легкомыслие! — Для фамилии, граф, для вас самих помогите нам! — А! для меня, это другое дело. Да, для меня, я не говорю, потому что я рискую компрометировать себя, и, сказать по правде, я вижу во всем этом деле интересным только себя самого. Но способ? — Ла Раме придет, — сказала Анриэтта, — я ручаюсь за это; он меня любит и даже за цену своей жизни он не потеряет случая видеть меня. Притом он не думает, чтобы мы осмелились сказать вам правду; он думает, что мы без опоры и без средств. — Это правда, потому что когда он умрет, я не могу помешать, чтобы тайна дошла до короля. — Зачем его убивать? — сказала Анриэтта. — Он меня любит; говорю я вам, и увидев, что вы соединились с нами… Послушайте, граф, позволите ли вы мне, бедной недальновидной девушке, сообщить вам одну идею? — Говорите, говорите! Ваша идея должна быть хороша. Знайте, что я с нынешнего дня буду иметь величайшее уважение к вашему уму. — Посмотрим вашу идею, — сказал д’Антраг. — Я осмелилась бы предложить, господа, чтобы вместо того, чтобы угрожать ла Раме, когда он придет, принять его вежливо; вместо того, чтобы приводить его в отчаяние, ему оказать доверие; вместо того, чтоб убивать, его удалить. — Это очень благоразумно, — сказала колко Мария Туше, — но как его удалить? — Я слышала, — прошептала Анриэтта, — что всякий брак, заключенный насильно, можно уничтожить; а уж тем более когда насилие было так явно, как в этом случае. — Но, моя милая, — сказал граф с циническим смехом, — если вы выйдете замуж, воротить прошлого будет нельзя. Анриэтта покраснела. — Браком в капелле ла Раме довольствуется, — сказала она. — Совсем не это ему нужно, — возразил граф, еще громче засмеявшись. — Черт побери! Я не довольствовался бы этим! Нет, совсем не это надо сделать. — Послушаем, — сказал д’Антраг. — Вы говорите, что он придет за вами, — продолжал молодой человек, — ни граф д’Антраг, ни я не выйдем. Будьте обе одни; сделайте вид, будто вы его ждали и приготовились. — Хорошо, — прошептали три слушателя. — Я пришлю к вам четырех гвардейцев, которые подхватят негодяя. — Позвольте мне вас перебить, — сказала Мария Туше. — У него агенты спрятаны около нашего дома, шпионы, подстерегающие каждый наш шаг. Они увидят, как войдут гвардейцы, и не пустят ла Раме войти, а если он войдет, то будет борьба, а борьба — это шум и случайность, которая может быть неблагоприятна. — Я пришлю двадцать, тридцать, пятьдесят гвардейцев, которые войдут в то время, когда ла Раме уже будет здесь и против которых ему нельзя будет сопротивляться. Дайте мне кончить. Он попробует сделать огласку, он будет обвинять. Тогда мы увидим. Этот ла Раме — протеже герцогини Монпансье, говорите вы, мы отправимся к герцогине Монпансье. Будет объяснение, но не брак. — Я придумала лучший способ, — сказала Мария Туше. — Посмотрим. — Шпионы ла Раме на улице. Сделаем в стене, отделяющей нас от соседнего дома, пролом, в который войдут гвардейцы графа Овернского. Ла Раме слишком влюблен, для того чтобы не бояться смерти или чтоб не привязаться к жизни, если ему подадут надежду обладать Анриэттой. Гвардейцы графа Овернского займут наш дом через этот тайный проход. Они схватят ла Раме, когда он появится. Тот вдруг увидит себя лицом к лицу со смертью, со смертью бесполезной, и, может быть, пойдет на условия или, по крайней мере, даст нам возможность выиграть время. — И притом, если его надо будет убить, его убьют, — сказал д’Антраг, — потому что, повторяю, когда он умрет, его доносы потеряют половину своей ценности. — Вот это решено, — перебил граф Овернский. — Я пришлю людей. Но откуда они войдут? — Отель отделен только домом от улицы Ванри; переодетые гвардейцы войдут через этот дом, хозяев которого предупредит граф д’Антраг. Пролом нашей стены будет сделан тотчас, если бы нам пришлось ломать его собственными руками. — Прекрасно. Теперь мы с графом д’Антрагом со спокойным лицом, с беззаботной физиономией отправимся по нашим делам. Я не говорю, чтобы этот способ был превосходен и чтобы он имел успех, но в том печальном положении, в котором я вас вижу, лучше этого нет ничего. А если вы выиграете только то, что освободитесь от ла Раме-то и это будет утешительно. Обе женщины бросились к графу. Мария Туше с благодарностью пожала ему руку, Анриэтта поцеловала другую с признательностью. Таков был план, задуманный в доме Антрагов. Мы знаем, как он был уничтожен планом герцогини Монпансье. Прошел вечер, гвардейцы были приведены напрасно: ла Раме не являлся. Вся ночь прошла для обеих женщин в смертельном беспокойстве. Д’Антраг потерял и остальные волосы, оставшиеся у него. Не только ла Раме не явился, но и заметили с удивлением, что его шпионы и агенты исчезли из квартала. Этот побег, это безмолвие, которые должны были бы обрадовать этих жалких женщин, удвоили их опасения; во всем, даже в спасении, они видели новую засаду. После ночи, благоприятствовавшей им своим густым мраком, настал день. Утро прошло опять без известий. На записку графа Овернского отвечали: «Ничего!» Это необъяснимое отсутствие ла Раме растревожило д’Антрага до такой степени, что он не мог выдержать, и отправился к герцогине Монпансье узнать, что происходит. Между тем в Лувре случилось происшествие, которое мы рассказали, и уже по всему Парижу распространилось это ужасное известие, когда граф Овернский, бледный, вне себя, прибежал к матери объявить о смерти короля. Пусть судят о действии, произведенном на честолюбие этих женщин единственным ударом, которого они не предвидели. Король умер! Все планы разрушены, карьера Антрагов уничтожена. Теперь какое было дело до прошлого Анриэтты, какое было дело до гнева ла Раме? Что значил этот неизвестный, этот неприметный атом? К чему столько бешенства, столько наточенных орудий? Король умер. Граф Овернский рассказал, как в луврской галерее, куда весь двор собрался видеть возвращение маркизы де Монсо, убийца два раза ударил несчастного государя, который улыбался ему. Он рассказал горесть, ужас, последовавшие за этой сценой, когда неизвестный монах-женевьевец, оказавший первую помощь королю, пришел объявить, что все кончено и что трон опустел. Оцепенение и немой ужас обеих женщин ничто не может выразить; граф также не мог прийти в себя. Король покровительствовал ему, воспитал его, с королем он лишался всего. Кто будет править во Франции? Кто будет сражаться с испанцами, кто провозгласит или уничтожит Лигу? Никогда народ не находился в таком разочаровании после стольких надежд, такого счастья, такой славы, какие обещало это правление. Граф, чтобы освежить свой пылающий лоб, подошел к окну. Плачевные крики раздавались на улице; народ плакал, кричал, крестился; уже лавки начинали запираться, слышался шум запоров, которыми самые благоразумные или самые трусливые защищали себя. Вдруг громкие удары раздались в дверь отеля, и всадник устремился на двор: это был граф д’Антраг, возвращавшийся от герцогини Монпансье, где его не приняли. Десять раз народ останавливал его на дороге, принимая за курьера. Обе дамы и граф окружили его. Он с трудом мог говорить, он запыхался, он дрожал. — Ну что? Ну что? — спрашивали его. — Вы знаете? — Да, да, но вы знаете? — Что такое? — Знаете ли вы, кто будет королем? — Нет. — Принц из дома Валуа, которого герцогиня Монпансье скрывала на всякий случай. — Валуа… но который? — Сын Карла Девятого. — Вы единственный его сын! — вскричала Мария Туше, схватив за руку графа Овернского. — Нет, — возразил д’Антраг, побледнев от бешенства, — нет, я сам это думал сначала, но говорят о законном сыне Карла Девятого и королевы Елизаветы. — Законном? — Да; уже эти слухи ходят в городе, и говорят, будто новый король будет показан народу и торжественно отведен в парламент. В эту минуту смутный шум, похожий на морские волны перед бурей, поколебал весь квартал.Глава 45 НЕДОВЕРИЕ КРИЛЬОНА
Этот шум возвещал народу приближение нового государя, которого провидение так чудесно сохранило ему. Свита, отправившаяся неизвестно откуда, провожаемая лигерами и лотарингскими дворянами, набирала по дороге большое стечение народа, и нельзя было сказать, любопытные или сторонники были те, которые составляли часть свиты. Говор удивления в толпе, совершенная неподвижность и молчание приближавшихся дворян составляли контраст с шумной горестью людей, узнававших в первый раз о смерти короля. Среди свиты, верхом, ехал ла Раме, лицо которого, бледнее обыкновенного, поразительным образом напоминало Карла Девятого. Его сторонники позаботились одеть его таким образом, чтобы сделать еще заметнее это сходство, и несмотря на моду, показывали народу полукафтан, длинный и сжатый, как оса, гофрированный воротник и ток с пером знаменитого виновника Варфоломеевской ночи. Несколько лазутчиков, искусно подосланных в толпу, выставляли это сходство сына с отцом, и в этой толпе суеверного народа, где кипел еще религиозный фанатизм, новый претендент уже приобретал некоторое расположение в качестве наследника государя, который хотел уничтожить ересь во Франции. Ла Раме поехал через Гревскую площадь, чтобы проехать по улице Кутеллери, где жила женщина, обладать которой он хотел более прежнего. Пыл его страсти увеличивался от упоения неожиданного успеха. Можно было видеть, как это двойное пламя бросалось ему в голову и покрывало его лицо зловещим румянцем. Он ехал по Гревской площади среди огромного стечения народа, который стремился туда со всех концов города, и глаза его, сверкавшие сдержанным огнем, уже пожирали дом Анриэтты, которую он искал издали на балконе. Он увидал ее наконец; она также его приметила. Мария Туше, граф д’Антраг и граф Овернский также узнали этого мрачного всадника, окруженного таким странным уважением. Их удивление, их руки, поднятые к небу, выражение всех этих физиономий, смотревших на его триумф, возбудили в ла Раме самую сильную радость, какую он когда-либо чувствовал в своей жизни. Это удивление, это восклицание Антрагов отмстили за все его прошлые унижения, загладили все его горести. Еще минута, и он будет под окном Анриэтты, и та, которая накануне прогоняла его, как незначительного жениха, будет приветствовать его как знаменитого короля. Но между тем как ла Раме въезжал со своей свитой в улицу Кутеллери из улицы Эпин, большое движение произошло на противоположном конце этой улицы. Там была толпа довольно густая, в центре которой находился человек верхом, размахивавший руками и сообщавший своим слушателям огонь, сверкавший в его взглядах и словах. Этот человек был Крильон, который из Лувра бросился в Шатле освободить Эсперанса, и не застав губернатора, занимавшегося в городской ратуше с архитекторами, отправился к этому губернатору требовать от него пленника. Но дорогой добрый кавалер увидал испуганных людей, которые бежали и кричали: — Король умер! Эти слова остановили его, поразив его в сердце. — Король умер! — сказал себе Крильон, останавливая свою лошадь на улице Арси, — это невозможно; я только что оставил короля, он был жив и здоров; это невозможно. Кавалер, думая таким образом на своем седле, где он сидел подобно статуе, не примечал, что он говорил громко и что около него составилась группа честных граждан, проникнутых уважением и состраданием к этой благородной фигуре, к этим седым волосам, к этим густым усам дворянина, которого весь Париж знал и уважал. Достойный воин не примечал также, что рассуждая о возможности подобного несчастья, он мало-помалу опустил руки, склонил голову и что ветер унес его шляпу. Женщина, вся заплаканная, подошла к лошади, положила руку на луку седла и сказала Крильону: — Это правда, господин Крильон, наш добрый король умер. — Кто это говорит? — прошептал Крильон. — Вот мой муж и мой сын, они служат у господина де Раньи. Она показывала на двух человек, красные глаза которых обнаруживали отчаяние. — Они видели сами. — Повторяю вам, что я оставил короля только полчаса назад. — Четверть часа тому назад какой-то злодей заколол короля в Лувре. — Я был со своим господином в конце галереи, — сказал один из этих людей, — я видел, как его величество упал и как его унесли. Вот его кровь, которую я собрал на полу. Он показывал большое красное пятно на своем носовом платке. — Кровь доброго короля! — застонали все присутствующие с рыданиями и слезами. — Что будет с нами? Крильон вздохнул так горестно, как будто его душа готова была улететь с этим вздохом. Потом, разбитый, уничтоженный, он побледнел и две крупные слезы выкатились из глаз на его мужественные щеки. — Ах, бедный государь! — прошептал он. — Бедный, милый друг! Я должен еще видеть его. Говоря таким образом, кавалер повернул свою лошадь к Лувру. — И думают уже дать ему преемника, — сказал один из граждан. — Как будто это возможно, — прибавил другой. Крильон повернулся при этих словах. — Какого преемника? — спросил он. — Вы слышите эти крики, монсеньор? — сказала одна женщина. — Конечно, слышу. — Они возвещают прибытие нового короля, отправляющегося в парламент. — Какого короля? — Сына Карла Девятого. — Что вы мне рассказываете, добрые люди? — вскричал кавалер, мало-помалу оправляясь. — Как! Королем выбрали графа Овернского? — О нет, монсеньор! Этот незаконнорожденный, а другой родной сын королевы Елизаветы, сохраненный герцогиней Монпансье. — О! о! дети, вы несете вздор, — сказал Крильон, — ваш сын Карла Девятого, сохраненный таким образом, заставляет меня сомневаться в смерти нашего короля. — Посмотрите, вот на конце улице он едет; посмотрите, как все стремятся туда. — А! Мне любопытно посмотреть и я туда поеду. Говоря эти слова, Крильон подвинул свою лошадь к улице Кутеллери. Он не мог еще ничего видеть, но стал уже подозревать; его сердце, твердое как у льва, закалилось, его гордая голова приподнялась. — Друзья мои, — сказал он тем, которые шли возле его лошади. — Говорят, что король умер, но я этого не знаю. Мне показывали его кровь, но если бы вы знали, сколько крови пролил я, а между тем не умер, как вы можете видеть! Черт побери! Что-то мне говорит, что если бы король, мой добрый друг, расстался с жизнью, его душа дала бы мне об этом весть. Мы слишком любим друг друга, для того чтобы он не простился со мной! Черт побери! Дети, король не умер. Эта речь, сопровождаемая смелыми движениями, мужественными взглядами, умилением, которое понимала толпа, обожавшая героя, собрала вокруг Крильона целую кучу народа, успокоенного его словами. — Нет, — продолжал кавалер, — пока я сам не увижу мертвым того, кого я сейчас видел живым, пока я не увижу его угасших глаз, его безмолвных губ, я скажу, что король жив, друзья мои, а я не знаю другого короля, кроме его. Пойдем посмотреть того другого. — Пойдем за Крильоном, — повторяла толпа, медленно направлявшаяся навстречу свите претендента, закрытого тогда изгибом улицы в этом месте. Но после поворота этого изгиба две партии очутились лицом к лицу. Сверкающие глаза Крильона тотчас отыскали триумвиратора в центре группы, которая кричала: — Да здравствует сын Карла Девятого! — Черт побери! — закричал кавалер громовым голосом, приподнимаясь на стременах. — Кто это кричит: да здравствует другой король, а не Генрих Четвертый, ваш король и мой? Этот крик, это появление заглушили весь говор. Ла Раме побледнел при звуке этого голоса, как шакал дрожит при реве льва. Но он был под балконом Анриэтты, она его видела, он пошел бы наперекор аду. — Я сын короля Карла Девятого, — сказал он своим надменным голосом. — Я король, потому что король умер. Толпа, следовавшая за ним, рукоплескала его словам. — О! — вскричал кавалер тоном оскорбительной иронии. — Так это-то ваш король? Я его знаю. Так вот сподвижник лиги! Ну, хорош он!.. И вы следуете за этим негодяем, дураки, и кричите: «Да здравствует король» этому мошеннику!.. Подожди, подожди! Крильон один, но он покажет тебе, как разжалуют королей твоего сорта! Эй вы, окружающие меня, следуйте за мной во имя нашего короля. А вы, изменники или дураки, окружающие вашего — ну, показывайте себя!.. За шпаги! за шпаги! да здравствует настоящий король! При этих словах, непреодолимый порыв и энергию которых никто не может описать, Крильон вынул шпагу из ножен и хотел пришпорить лошадь, но улица была так наполнена народом, что лошадь не могла сделать шага. Женщины и дети убежали и спрятались под воротами. Ла Раме храбро обнажил шпагу. Но его сторонники, советовавшиеся между собой после прибытия Крильона, сняли его с лошади и утащили, чтобы спасти его жизнь или не компрометировать нового достоинства в стычке, которая не могла привести ни к чему хорошему. Действительно, около Крильона множество граждан вооружились наскоро. Окованные железом палки, алебарды, ружья начинали сверкать на улице. Битва была неизбежна. — Но, монсеньор, — говорили кавалеру, — если король действительно умер, надо же ему преемника. — Черт побери! Я не хочу, чтобы был этот. Посмотрите, как его сторонники улепетывают, как исчезают! Армия его уже растаяла. А он-то где? Куда его увели? Спрятаться в каком-нибудь погребе! Ах, беда! Надо же, чтобы эта улица была так загромождена! Да, негодяй, он прячется за стенами… Он убежал в какой-то дом и я не могу его поймать! В самом деле, посоветовавшись между собой, Антраги заключили, что король умер, потому что граф Овернский видел, как его убили, так ла Раме нельзя было уже убивать или позволить этому безумцу Крильону убить его, и что политика требовала доставить ему убежище. Это было вдохновением Мари Туше, которое поддержал Антраг и сам граф Овернский, которые при виде Крильона поспешили уйти с балкона, чтобы их не заметили. Граф д’Антраг послал сказать сторонникам ла Раме, что ему предлагают убежище в соседнем доме. Предложение это, разумеется, было принято тем охотнее, что ла Раме знал, что в этом доме он найдет Анриэтту. Таким-то образом наследник Карла Девятого исчез из глаз Крильона, который повел свою группу осаждать этот проклятый дом. Между тем ла Раме в отеле Антрагов слышал, как ворота трещали под усилиями осаждающих. Руководимый друзьями, он дошел, сам того не подозревая, до пролома, сделанного накануне в стене, чтобы впустить солдат, которые должны были захватить его или даже убить. Фортуна, столько раз причудливая к нему, представляла ему сегодня способ спасения в том, что вчера было бы для него гибелью и смертью. Но ла Раме хотел объяснить Анриэтте свое вчерашнее отсутствие и свое новое положение. Дворяне, сопровождавшие его, представляли ему непрочность народного расположения, опасность оставаться в доме, который можно было взять приступом в десять минут. Люди в отеле объясняли ему, что, оставаясь, он погубит безвозвратно хозяев дома, которые дали ему убежище. — Крильон не щадит ничего, — говорили ему, — а толпа, помогающая его слепому гневу, разграбит и убьет все, что попадется ей под руку. Ла Раме упорно звал Анриэтту. Ничто не отвлекало его от этой идеи, ни треск петель, уступавших мало-помалу ударам нападающих, ни крики кавалера, страшный голос, которого заглушал шум тысячи голосов. Он говорил, что хочет остаться и умереть до тех пор, пока увидит Анриэтту. Она явилась наконец, бледная и дрожащая, увлекла за руку молодого человека к пролому, скрытому обоями под лестницей, и толкнула его туда при помощи нового усилия его сторонников. — Там, — сказала она, — сад, потом двор, потом улица Ванри. Ступайте!.. Ступайте и не забудьте, что вас спасла та, которую вы хотели погубить. — Хорошо, — отвечал он, — хорошо, я заплачу за эту услугу короной. Путь, который вы открываете мне, Анриэтта, я принимаю как самую кратчайшую дорогу в парламент. Там меня ждут мои друзья, мои подданные. Я должен туда прибыть, хотя бы мне пришлось бороться со всеми препятствиями, даже со стыдом. «Корона! — подумала молодая девушка, ослепленная этим блестящим словом. — Мне предсказывала ее ворожея. Почему мне не получить ее от ла Раме, если не от того, кто умер?» — Прощайте, государь, — сказала она, — до свидания. — Благодарю, — сказал он с восторгом и пожимая ей руку. Он вложил в это пожатие вероломной руки весь огонь души своей, навсегда обезоруженной тем, что он считал доказательством любви. Несчастный! Он был лучше своей сообщницы, потому что считал ее лучше себя. Однако после побега ла Раме Антраги должны были подумать о том, как оправдаться перед Крильоном. Антраг показался в окне с низкой решеткой и подозвал кавалера. — А! — вскричал Крильон, увидев д’Антрага. — Я должен был догадаться. Должна быть измена, если вы тут. — Милостивый государь, — сказал тот, — не теряйте время на то, чтобы клеветать на нас, к нам ворвались против нашей воли; группа сторонников претендента перелезла через ваши стены и сделала отверстие, чтобы дать ему возможность убежать; спешите, спешите, а то мы погибли. Вдруг шум, в сравнении с которым весь шум этого утра был только тихим говором, поднялся со стороны Гревской площади. Крильон, опасаясь атаки, направленной на арьергард его группы, обернулся к новым волнам народа, который хлынул из окрестности. — Да здравствует король! — ревела толпа. С Гревской площади показалась карета с открытыми окнами. Четверка лошадей тяжело тащила огромную махину, окруженную французскими и швейцарскими гвардейцами, ослепительной толпой пажей, дворян и офицеров. В карете в черной одежде, с голубой лентой на шее, с обнаженной головой, с бледными щеками сидел Генрих Четвертый, улыбаясь, несмотря на свою разрубленную губу, которую хирурги зашили и перевязали. Он протягивал руки народу, который с каждой стороны кареты бросался между ногами лошадей, между ружьями гвардейцев и благословлял Бога за неожиданное счастье, возвратившее ему короля. Ветер донес эти крики до Крильона, который, дрожа от гордости и радости, бросился вместе с толпой навстречу Генриху Четвертому. — Я вам говорил, — кричал он, обращаясь к гражданам, помогавшим ему, — вы видите, что он не умер! Это зрелище, величественное и чудесное, не могло, однако, сравниться с тем, которое умный наблюдатель приметил бы на балконе Антрагов. При виде воскресшего короля, настоящего владельца короны, Мария Туше и ее муж чуть не упали в обморок от страха. Граф Овернский стремглав бросился с лестницы поздравлять Генриха. Анриэтта громко вскрикнула, что привлекло внимание всех, и упала без чувств на руки отца в самой театральной позе. — Дочь моя умрет от радости! — вскричал отец. — Да здравствует король! да здравствует король!.. Генрих, проезжая мимо их, не потерял ни одной подробности из этой сцены и любезно поклонился балкону, несмотря на гневное движение и пожатие плеч Крильона, которому гвардейцы дали место в поезде.Глава 46 КОРОЛЬ ЗАСЫПАЕТ, ГАБРИЭЛЬ ВСПОМИНАЕТ
Когда король воротился в Лувр после этой прогулки, которая успокоила весь город и смутила его врагов, Сюлли ждал его с главными членами совета и скоро явился женевьевец, который также сделал свою прогулку и скромно стоял в стороне за густыми складками портьеры. Король, несколько больной, послал монаху рукой поцелуй в виде гасконского приветствия, безмолвное приветствие, которое поняли они одни. Это была таинственная плата за огромную услугу, таинственно оказанную невидимым другом. Сюлли, торжествующий и обрадованный, поспешил навстречу своему государю и помогал его несколько медленной походке; в то же время Габриэль, прибежавшая при первом известии о возвращении Генриха, подставила ему свой лоб и руку, ласку и опору. Крильон не замедлил присоединиться к группе и со своим обычным здравым смыслом сказал Сюлли: — Я думаю, что у нас найдется дело. — Да, друзья мои, — перебил король, — но вы видите, я говорю с таким трудом, а доктора так строго приказывают мне молчать, что вам придется угадывать то, что надо будет делать. — Мы угадаем! — вскричал Сюлли. — Будем прежде всегда радоваться успеху этого выезда, который я посоветовал королю. Генрих посмотрел на своего друга женевьевца, который улыбался и не отвечал. — Радуйтесь сначала, — сказал он, — совету, который мне подал отец женевьевец, представиться мертвым. Без этого счастливого вдохновения заговор самозванца Валуа не обнаружился бы. — Это правда, черт побери! — вскричал кавалер. — Но где же этот добрый женевьевец? Ведь его надо поблагодарить! У меня есть друзья у безонских женевьевцев. Генрих указал пальцем на капюшон, который более прежнего искал тени. Но Крильон устремился к нему и с восторгом закричал: — Да это мой храбрый товарищ у Новых ворот! Это мой брат Робер! О, мы в хороших руках; если он даст королю своего эликсира для ран, король много будет говорить завтра, а послезавтра слишком много. Господа, поблагодарим брата Робера; не так ли, месье де Сюлли? — Не благодарите меня, — прошептал монах, — потому что я не чувствую в себе сил говорить вам комплименты. — Что такое? — пролепетал король, к губам которого Габриэль приложила свою нежную руку. — Наш брат женевьевец еще недоволен, — сказал Сюлли с легким оттенком колкости, — мы, однако, следовали его советам, его приказаниям. Сегодня монах управлял французским королевством. Сегодня Генрих Четвертый почти назывался Генрихом Третьим. — При Генрихе Третьем были люди умные, — отвечал брат Робер с холодной серьезностью, — и когда король слушал добрые советы монахов, он, по крайней мере, находил служителей, которые исполняли его приказания и исполняли их умно. — Что это значит? — с волнением спросил министр, потому что намек был так прям, что он не мог не отвечать. — Я хочу сказать, — отвечал женевьевец, устремив на Росни свой твердый и блестящий взгляд, — что его величество приказал слушать моих советов и исполнять мои приказания, а этого не сделали. — О! о! Мессир женевьевец, как вы строги! Вот как власть упоительна, она сейчас бросилась вам в голову; позвольте же спросить, чем же я пренебрег из того, что вы предписали? Вы хотели, чтобы пощадили этого негодяя Шателя, и он находится в хороших руках. Вы хотели, чтобы короля считали умершим — так и было, чтобы он выехал и показался — он выехал; чего же еще? — Я хотел, — отвечал брат Робер, — чтобы мина, подведенная врагами его величества, открылась совсем и чтобы его враги были уличены. — Разве их не уличили? не доказано ли, что самозванец ла Раме, называющий себя Валуа, составил заговор? — Где же он? — Его ищут. — Где его сообщники и зачинщики? — Потерпите, мессир женевьевец; господа члены парламента произведут следствие и тогда вам будут отвечать. — Э! Если бы вы сделали так, как я говорил, следствие было бы кончено. Если бы вы велели занять отель Монпансье… — Он был пуст. — Да, когда вы решились послать туда ваших учтивых дворян в перчатках. Они стучались и им сказали, что герцогиня не возвращалась из своих поместий. — Именно. — Надо было послать кавалера де Крильона с сотнею гвардейцев. Надо было окружить весь квартал сетью шпаг и ружей, войти в окна, выбить двери, осмотреть каждый погреб, и тогда вы нашли бы эту даму в глубине какого-нибудь алькова с ее бумагами и со всей ее тарабарщиной, и с ее приверженцами, и спросил бы ее, что она тут делает со своими иезуитами. Вместо этого, пока вы стучались в дверь, как к королеве, герцогиня убежала через потайную дверь; она насмехается над вами, и вы увидите, как она сейчас явится из своей провинции с запыленными офицерами, с инеем на усах, ведь у этой благородной дамы есть усы, и когда вы будете ее обвинять, она вам скажет, что вы принимаете ее за другую. Вот чего не случилось бы при короле Генрихе Третьем, и я обращаюсь к воспоминанию кавалера де Крильона, который имел честь служить этому государю. — Черт побери! — пробормотал кавалер. — Все, что говорит этот преподобный брат, чистая истина. Мы сделали глупость, месье де Росни!Король говорить не может, а смеется исподтишка. Это была нелепая глупость. — Я не принимаю вашего выражения, — отвечал Росни, — я подожду, прежде чем обвиню себя. — Вы не долго будете ждать, — прошептал монах, надвинув капюшон до самой бороды. В самом деле, только что он сказал эти слова, как дежурный капитан прибежал доложить, что герцогиня Монпансье приехала в Париж и желает приветствовать его величество. Росни покраснел. Крильон всплеснул руками. Монах не шевелился. — Ах, любезный Росни! — шепнул король министру, указывая ему на брата Робера. — Он знает ее хорошо. Пусть впустят герцогиню. Останься здесь, Крильон. Женевьевец тотчас поклонился королю и удалился в боковую дверь. Габриэль пошла за ним. — Какая бесстыдная! — заворчал Крильон. — Я не прочь послушать, как она будет объяснять своего Валуа перед Бурбоном. — О! она объяснит, — возразил Генрих. — Но я не стану говорить. К счастью, у меня губа разрублена. Росни, вы Демосфен, говорите вы. «Я теперь возьму свое», — подумал Росни. Доложили о герцогине Монпансье. Брат Робер не ошибся. Она была покрыта тонкой пылью, которую сильный мороз поднимает на дорогах. А иней, должно быть, растаял от огня ее шальных глаз. Когда она быстро шла по длинной галерее, стараясь придать равновесие своим неровным шагам, самые храбрые дворяне отступали от ее длинных юбок, как от атмосферы, зараженной чумой. Но она, нечувствительная к этому презрению, смешанному с опасением, продолжала свой путь, заставляя самых смелых опускать глаза. Сам король не знал, как ему держать себя, когда портьеры его кабинета опустились перед герцогиней. — Как, государь! — издали закричала герцогиня. — Разве это правда?.. Ваше величество подвергались большой опасности? Генрих указал на черную тафту, закрывавшую его рану. — Не говорите! не говорите! — поспешила она сказать. — О, какое ужасное покушение! — Покажите нож, — шепнул король своим слугам. Сюлли подошел к герцогине с ножом Шателя в руках. — Вот нож, — сказал он. — Как он похож на нож Жака Клемана! — холодно сказал Крильон, гордый взгляд которого говорил еще яснее голоса. Герцогиня хотела пренебречь этим взглядом, но напрасно, она опустила глаза на спокойное и насмешливое лицо короля. — Это я, ваше высочество, буду иметь честь разговаривать с вами от имени его величества, которому доктора предписали молчание, — сказал Росни, — и, если бы вы не приехали, я послал бы за вами от имени короля. Генрих сделал знак, чтобы герцогине, которую, по-видимому, нисколько не испугали эти слова, принесли табурет. — Благодарю за честь, — сказала она, — но прежде прошу вас сообщить мне подробности этого происшествия. — Разве вы не знаете? — В дороге до меня дошли… некоторые слухи. — Вы знаете убийцу. — Я?.. — Конечно, потому что он бывал у вас постоянно в продолжение шести месяцев. Герцогиня нахмурила брови и сжала губы. — Вы, вероятно, намекаете на материи, которые мне продавал Шатель. — Каждый день? — Вы как будто допрашиваете меня. — Точно так; я думаю, что этого желает и король. Герцогиня, бледнея, посмотрела на Генриха. Тот, сделав усилие, прошептал: — Это необходимо, кузина, для того чтобы вы помогли нам развязать каждую нить заговора. — А! если так, я готова подвергнуться всем возможным допросам. Вы спрашивали меня о Шателе? — Который не оставлял вас шесть месяцев, — продолжал Росни. — Но которого я отослала год тому назад. — Чтоб поместить его к иезуитам? — Кажется, так. Разве я поступила дурно? — Может быть, потому что уверяют, будто Шатель признается во многом, компрометирующем… — Кого? — Иезуитов, — спокойно отвечал Росни. — Но мы лучше сделаем, если оставим пока этого Шателя, которого сумеют заставить говорить, и будем рассуждать о заговорщике, его сообщнике. — У него есть сообщник? — Этот мнимый Валуа. — Ла Раме, кажется? — Вы уже знаете? — Да; мне рассказали эту странность. — Черт побери! Вы называете это странностью, герцогиня, — вскричал кавалер, — странностью, от которой одного сожгут, а другого колесуют, не считая того, сколько будет обезглавленных. — Кавалер де Крильон, — сухо сказала герцогиня, выдерживая на этот раз взгляд своего честного врага, — я приехала сюда говорить с королем. Вместо его величества я говорю с месье де Росни, но с вами я не говорю и прошу вас не принуждать меня к этому. — О! о! — отвечал Крильон с презрительной иронией. — Когда я говорил с вашим братом Гизом, он не всегда был любезен, но всегда умел быть вежлив. Но если вы не хотите, я тоже вовсе этого не желаю и не стану разговаривать. Я молчу, только слушаю. Генрих подозвал кавалера, чтобы его успокоить, и оперся на его плечо. — Король, — с живостью сказала герцогиня, — утомлен этой болтовней и наши рассуждения… — Объясняют ему многое, — перебил Сюлли, — итак, мы говорили, что вы слышали о преступлении этого самозванца? — Да. Мне все рассказали. — Ла Раме также был в числе ваших слуг? — Напрасно стала бы отпираться. — Необыкновенное несчастье, герцогиня, и вот уже действительно странность: два обвиняемых человека, один в том, что хотел убить короля, служил вам шесть месяцев, другой в том, что хотел свергнуть с престола его величество, служил у вас еще вчера. — Не правда ли, как это странно, кузина? — прошептал король. — Это очень горестно, государь. — Вас должно это мучить. — Я занемогу от этого. — А я чуть было не умер, — сказал Генрих, не будучи в состоянии удержаться от удовольствия отпустить гасконскую остроту. — Государь!.. молчите! — закричал Крильон. — В процессе, которой произойдет от этих событий, вы не можете не явиться, — продолжал Сюлли. — Милостивый государь!.. — перебила гордая лотарингка. — Как свидетельница. Не скажете ли вы заранее его величеству то, что вам известно. — Я готова. — Во-первых, кто выдумал этого мнимого Валуа? — Он сам себя выдумал, я полагаю. Притом ваши судьи спросят у него. — Черт побери! — вскричал кавалер. — Она знает, но… извините, государь, я молчу. — Кавалер де Крильон хотел сказать, герцогиня, что этот самозванец убежал. — А! — сказала она холодно. — Но вы, вероятно, его поймаете. — Для этого сделают все. Какой может быть у него план? Броситься в провинцию, где находя более неведения, бедности, легковерия, он привлечет к себе каких-нибудь негодяев и возбудит мятеж. — Это может быть; провинция дурно понимает свои обязанности. — Но как вы думаете, ваше высочество, его самозванство должно кончиться при рассмотрении его доказательств? — Я думаю, что вы ошибаетесь на этот счет, — сказала герцогиня, спокойно смотря на Генриха и на Крильона. — Рассмотрение его доказательств возбудит больше расположения, чем отвращения. — Вы знаете их? — спросил король с живостью, несмотря на боль от раны. В этом вопросе заключался весь процесс. Герцогиня храбро приняла его. С такими врагами она не могла долго вести мелкую войну. — Государь, — отвечала она, — известная в продолжение многих лет как неприятельница французских королей, я похожа на магнит, который притягивает, как говорят, железо и грозу, но забывая, что я имела счастье примириться с вашим величеством, ко мне относятся со всякими жалобами, всяким оружием против вас. — И она прескверно пользуется им, черт побери! — проворчал Крильон сквозь зубы. — Из этого произошло, — продолжала герцогиня, делая вид, будто не примечает удивления, в которое ее смелость бросила Сюлли и самого Генриха, — что этот ла Раме сообщил мне намедни все свои притязания. Сначала я приняла это за бред. — Сначала, — повторил король, — а потом? — Я прежде всего уверю короля, что этот ла Раме был для меня чужой, что меня интересовало его лицо по его сходству с государем, которого я знала; но что, кроме этого неопределенного участия, я обращалась с ла Раме как со всеми моими служителями третьего разряда. Однако, как только он показал мне свои документы… — У него есть документы? — вскричал Росни. — Конечно, — холодно отвечала герцогиня, — а то как бы ему стали верить? — Это правда, — прошептал Генрих. — Да, черт побери! у него есть документы, — вскричал неисправимый кавалер, — у него есть, я их знаю! Он вор, убийца, да еще какой! — Молчи, — сказал король в свою очередь, — дай говорить кузине; она видела доказательства. — Я должна признаться, государь, что они поколеблют много умов. — Ваш, может быть, ваше высочество? — спросил Росни, сдерживая Крильона, который топал ногами. — Не стану отрицать, государь; но я дала обещание в верности вашему величеству и буду считать себя освобожденной только… — Когда я умру, кузина. — Она думала, что освободилась сегодня утром, — пробормотал Крильон. — Да, государь, — сказала эта смелая женщина, — я обязана вам верностью до самой смерти. Поэтому, несмотря на доказательства, я даже не выслушала притязаний ла Раме, и пусть-ка он скажет, что я дала ему позволение хоть одним словом. Я была еще в своих поместьях, когда он начал свое предприятие. Крильон, Сюлли и Генрих переглянулись, вспомнив о брате Робере, который предсказывал им дерзость герцогини. — Из всего этого происходит, — сказал Росни, — что доказательства, которыми располагает этот самозванец, блистательны и могут ослепить, и без непоколебимой верности ее высочества к королю она приняла бы этого претендента. — Почему же нет? Если бы это был Валуа и если бы несчастное происшествие нынешнего утра лишило нас Генриха Четвертого, у которого нет наследника. — О!.. — вскричал Сюлли, увлеченный гневом и чувством опасности, которую обнаружили ему эти слова. — У короля нет законных наследников, нет! Но я клянусь, что он будет их иметь. — Я желаю этого от всего моего сердца, — отвечала герцогиня, вставая, — таким образом меня не станут подозревать, что я добиваюсь короны, которую Богу не угодно было назначить моей фамилии; таким образом, при первой опасности короля, мои враги не станут меня обвинять в соучастии в умысле и даже в сообщничестве, как некоторые дерзкие позволяют себе делать. Крильон пожал своими могучими плечами, чтобы стряхнуть эту женскую стрелу. — Таким образом, — возразил он, — никому не придет охота по неурожаю прививать Валуа к ла Раме. Да, черт побери! Государь, имейте детей, имейте, чтобы все Шатели, которые явятся, попятились назад. — На этот раз слова ваши золотые, — колко сказала герцогиня, — я кончила и желаю вашему величеству всякого благоденствия, какого вы заслуживаете. Герцогиня встала, поклонилась и пошла к двери кабинета, потом, после нового поклона, прошла также величественно, как и прежде, по галерее, наполнившейся говором и мрачными взглядами. — Вот вы и побеждены, Росни, — сказал король, с утомлением откидываясь на спинку кресла. — Эта злодейка скрывает от нас какой-нибудь новый заговор. — Да, опасность есть, — прошептал министр, — но я беру на себя внутренность города. — А я окрестности! — вскричал Крильон. — Сейчас еду верхом за шапкой этого негодяя Валуа, за проезд которого наверняка платит герцогиня, и привезу его сюда повешенным. — Ступайте, мои добрые друзья, ступайте, — сказал король, совсем бледный, — я устал, я печален от всех этим ужасов. Пусть попросят маркизу прийти сюда порадовать мне глаза своим добрым присутствием, а потом я засну и надеюсь завтра опять сделаться мужчиной. Через десять минут Сюлли объезжал город со своими людьми, а Крильон окрестности со своими гвардейцами. Король тихо заснул, посмотрев на своего маленького Сезара и приняв нежные попечения Габриэль. Маркиза вышла из комнаты короля и, покачав своей головой, отяжелевшей от стольких событий, — прошептала: — Все идет хорошо; министры думают о спокойствии народа, Крильон о наказании виновных, а мне пора подумать о бедном невинном, о котором все забыли в этой суматохе. Она взяла на столе приказ, подписанный утром королем об освобождении Эсперанса, приказ, который оставался тут, с утра забытый. — Он страдает через меня, — прошептала она, — и через меня излечится.Глава 47 КОРОЛЕВСКИЙ ПЛЕННИК
Малый Шатле, куда король отправил своего пленника, хотя мрачное здание, не имело, однако, печальной репутации Большого Шатле. Тюрьмы в последнем, говорили, были до такой степени ужасны, что воображение самых смелых злодеев дрожало при мысли о заточении в этих могилах. Говорили об одной тюрьме, называемой Чулками Иаокраса, куда жертву спускали на блоке, как ведро в колодец. И там, с ногами, опущенными в ледяную воду, с телом разбитым конической формой этой тюрьмы, где нельзя было ни лечь, ни стать, пленник мучительно умирал в первые две недели. В Малом Шатле тюрьмы хотя не такие жестокие, однако представляли очень печальное местопребывание, если судить по части здания, посвященной свободе. Комнаты, в которых жил губернатор, получали свет и воздух только в узкие окна, пробитые в каменной стене. Все, говорят историки того времени, отворачивали голову с ужасом, проходя перед крепостью. Туда-то отвели Эсперанса. Губернатор, прочитав королевский приказ и внимательно посмотрев на ясное и очаровательное лицо своего пленника, которое показывало больше удивления, чем страха, назначил ему обыкновенную тюрьму. Пока полицейские вышли с тюремщиком исполнить это приказание, Эсперанс спросил губернатора с убедительной вежливостью, не сделает ли он ему одолжение ответить на некоторые вопросы, а именно: — Где я и зачем я здесь? Губернатор, любезный старик, гугенотский дворянин, — отвечал спокойно: — Вы находитесь в Малом Шатле, государственной тюрьме; а причину вашего ареста вы должны знать лучше всех. — Я совершенно не знаю. — Король знает и этого достаточно. Губернатор, записав в своем реестре имя пленника, вежливо повернулся к нему спиной. Эсперанс, несмотря на свою твердость, не нашелся сделать ни вопроса, ни возражения. Тюремщик пришел за ним и отвел его в квадратную, черную и грязную комнату. Тюремщик держал в руке лампу, дивный свет которой позволил Эсперансу различить эти ужасные подробности. Но когда он унес с собой этот жалкий свет, молодой человек остался в самой страшной темноте. Он тотчас постучал в дверь, чтобы позвать тюремщика, который уходил. Тот воротился. — Извините, друг мой, — сказал Эсперанс. — Вы забыли оставить мне лампу. — Если вы за этим меня призвали, то напрасно, — отвечал тюремщик. — В тюрьме нельзя иметь лампу. Лампа — огонь. — Извините меня, я хотел писать, а для этого нужен свет. — Писать? Разве здесь пишут? — Ну, мой друг, — спокойно сказал Эсперанс, — если запрещено писать, я не стану. Но вам не запрещено оказать мне услугу, очень простую услугу, за которую вам заплатят хорошо. — Это зависит оттого, какая услуга. — Сходить к кавалеру Крильону. — К храброму Крильону? — вскричал тюремщик. — К нему. — Вы его знаете? — Это мой друг. Скажите ему только, что я в Малом Шатле. Вы будете помнить мое имя: Эсперанс. — Прекрасное имя для пленника, — сказал тюремщик с насмешливой улыбкой. — Не правда ли? — отвечал Эсперанс, не показывая ни горести, ни горечи. — Ну, сделаете вы то, о чем я вас прошу? — Я посмотрю, — сказал тюремщик, который вышел задумавшись, потому что столько терпения и кротости внушили ему невольное уважение. Этот человек не пошел к Крильону, а рассказал губернатору свой разговор с пленником, и губернатор, в котором наружность пленника возбудила сочувствие, пришел через несколько часов в комнату Эсперанса. — Вы говорите, что вы друг кавалера Крильона? — сказал он. — Да. — Когда так, стало быть, вы большой преступник, если кавалер Крильон вас бросил: он не оставляет в беде своих друзей. Я его знаю, я воевал вместе с ним десять лет. Эсперанс рассказал, что знал, что он делал, кто он. Он вложил в свой рассказ искренность и чистоту всей своей души. Он удивлялся аресту, не имевшему причины, и приписывал недоразумению, которое должно было разъясниться. — А пока, — прибавил он, — умоляю вас не оставлять меня в этой черной и вонючей конуре. Я оставил воздух, солнце, и будь я женщина, я сказал бы, что мне здесь страшно. Притом, комнату, которую вы мне дадите, я занимать долго не буду, и как только кавалер де Крильон узнает… — Но, молодой человек, он не узнает. Каждый государственный пленник входит сюда неизвестный. Я не имею права объявлять о его присутствии кому бы то ни было, потому что, может быть, то тайна между королем и пленником, тайна, которую король удостоил мне вверить и которую я не имею права выдавать. Здесь я имею дело только с королем, потому что он подписал приказ о вашем аресте. Эсперанс потупил голову. Ему показалось, что дверь, на минуту отворенная, в которую он видел свет и свободу, заперлась крепче прежнего. — Как вам угодно, — прошептал он. — Я не хочу стеснять вас или затрагивать вашу совесть. Я буду страдать и молчать. Старый дворянин знал толк в пленниках; он умел различить безропотную покорность от лицемерия, терпение от трусости. «Какой прекрасный характер, — подумал он. — Это, может быть, избалованный ребенок, которого король хочет исправить несколькими днями заточения. Не надо увеличивать наказания. Он уже покорился своей участи, бедный мальчик. Он уже лег на солому». Он ударил кулаком по столу. Явился тюремщик. — Отведите этого господина наверх. Эсперанс встал, и угадывая, что ему оказывается милость, поблагодарил губернатора с чувством. Он пожал руку старику, который сказал ему, тихо освобождая свою руку: — Комната наверху хорошая. Я сажал туда за наказание моего сына. — У вас есть сын? — Был, вам ровесник. — Вы его лишились? — Восемнадцати лет, от ружейного выстрела… После Омальского сражения. Кавалер Крильон хорошо его знал, потому что взял его к себе в гвардейцы. Мой бедный Урбен. — Урбен? — вскричал Эсперанс. — Может быть, Урбен дю Жарден? — Вы его знали? «О! Гугенотский паж, убитый ла Раме», — подумал молодой человек. — Кавалер де Крильон иногда говорил мне о нем. Взволнованный старик поспешил отвечать: — Это добрый Крильон поднял умирающего Урбена и принял его последний вздох. Да не будет сказано, что передо мной напрасно было произнесено имя Крильона. Ступайте, ступайте с тюремщиком. Он ушел, не прибавив ни слова и оставив Эсперанса погруженным в горестное изумление. Как! Он, жертва, спасшаяся от ножа Анриэтты, заменил в комнате жертву, павшую от выстрела того же убийцы. Эта тюрьма наверху, строганная для непослушного ребенка, показалась Эсперансу раем после ада, в котором он пробыл. Своды были низкие, пол холодный, но воздуху было много; заходящее солнце наполняло эту комнату своими красными лучами; в оба окна, похожие на каменные глаза, пленник, приподнимаясь на цыпочках, видел сквозь решетку великолепную панораму. Эсперанс вскрикнул от радости. Его дворец накануне доставлял ему менее удовольствия. Радость его еще увеличилась, когда тюремщик, спешивший теперь угождать, отодвинул запоры массивной двери, выходившей на маленький балкон, совершенно закрытый решеткой, как клетка. Оттуда вид был удивительный. Решетка была так устроена, что снаружи нельзя было видеть внутрь; но сидевший на балконе, вися над пустым пространством, видел и дышал свободно и непринужденно. Эсперанс пошарил в кармане и отдал тюремщику половину пистолей, лежавших там. Тюремщик приготовил постель, развел в камине огонь, поставил на стол довольно опрятный, порядочный ужин и ушел, задвинув запоры, зловещего звука которых обрадованный Эсперанс даже не слыхал. Настала ночь. Холодное безмолвие поднималось от города к Шатле. Молодой человек, наполнив свои легкие чистым воздухом, запер дверь и сел у огня в кресле, на котором бедный Урбен, без сомнения, провел немало ночей. Несмотря на приятный запах ужина, несмотря на благовидную наружность бутылки с длинным горлом, несмотря на благотворное действие огня, весело трещавшего в камине, Эсперанс мало-помалу потерял свое спокойное расположение духа, и его веселость, воротившаяся на минуту, улетела вместе с клубами дыма, поднимавшемуся к небу. Он думал, бедняжка, о том быстром наказании, которое послал ему Бог после чрезмерного счастья. Переворот не заставил себя ждать. Нельзя безнаказанно достигнуть вершины человеческого благоденствия, всегда должно ожидать громовых ударов. Эсперанс, стараясь изведать причины своей немилости, находил только одну, и обладание дворцом на улице Серизе было дано ему обманом. Этот обман, в котором, может быть, скрывалось преступление, был открыт. Король, узнав обо всем и стыдясь, что ему оказал помощь ложный владелец дома, мстил, сделав фанфарона простым вором. Как растолковать молчание Крильона, если не той же причиной? Крильон также мог считать себя игрушкой обмана, хотевшего употребить во зло его покровительство, и убежденный королем, молчал. А Понти… увы! Благородный Эсперанс обвинил Понти в неблагодарности или слабости. Но мысль, что над ним будут насмехаться и презирать его повсюду и что слух об его заточении дойдет до Анриэтты и Габриэль, преобладала над всеми горестями. Анриэтта будет смеяться и радоваться. Габриэль скажет себе, что авантюрист Эсперанс не стоил воспоминания. И с высоты своего величия она произнесет позорный приговор, который навсегда исключит Эсперанса из ее головы, из ее сердца. Лицо безонского раненого, в котором она принимала участие в продолжение трех дней, которому с нежностью она предложила вечную дружбу, это лицо изгладится загрязненное, и Габриэль будет искать вокруг себя других друзей в этой толпе прекрасных дворян, менее его щадивших любовь и самолюбие короля… Эта мысль вызвала не слезы, а кровь из распухших глаз молодого человека, потому что он признался себе при этом ужасном несчастье, что уже целый год сердце его не имело ни одного биения, в котором не повторялось бы как отголосок имя Габриэль. Эта горесть, эта жажда к движению и к рыданиям была болезнь любви, потребность призвать мать, навсегда потерянную, это было мучение страдающей души; а безумная радость увидеть Париж после добровольного отсутствия — это было дурно скрытая надежда отыскать женщину, от которой он бежал за моря. С минуту он говорил себе, любуясь золотом и мрамором своего дворца, что Господь сжалился над его горестью, что Габриэль при луврском дворе услышит об его богатстве, об изяществе его дома и добре, которое он делает бедным, и что хор похвал и благословений дойдет до ушей этой обожаемой женщины и сохранит в ее душе сладостное и поэтическое воспоминание, которое она должна была сохранить о своем однодневном друге. Он убаюкивал себя этими очаровательными мечтами, и вот судьба разрушила все здание, которое, разлетевшись в прах и дым, присоединялось в вечности к честолюбивым мечтам, которые породила и уничтожила любовь. Таковы были мысли Эсперанса. Между тем часы шли. Угли шипели, готовясь погаснуть. Уже лампа издавала последний блеск; скоро темнота, холод должны были распространиться в комнате. Эсперанс попросил прощения у Бога в своем тщеславии, набожно поручил себя Его милосердию и лег на постель, думая о бедном Урбене дю Жардене, меланхолическая тень которого, может быть, каждую ночь посещала это счастливое убежище его первых лет. Сон сменил это волнение и владелец отеля на улице Серизе забыл под каменными сводами бархат, эбен и золотую бахрому своей княжеской постели. Следующий был несчастный день. Эсперанс, получив свои завтрак и запас дров, не видал больше тюремщика, который не приходил даже в час обеда. Он видел странное движение в отдаленных улицах, потому что он мог видеть далеко: все соседство Шатле было от него закрыто выпуклостью башни. Он заметил людей, поднимавших руки к небу, других отиравших глаза, слышал звук оружия в крепости. Множество всадников, во главе которых он приметил Росни, проехали по набережной. Что значил этот шум, эти воинские прогулки? Что значило в особенности забвение, в котором его оставляли, без огня, без провизии, без известий, без друзей, даже раздраженных? Крильон, Понти, зачем не передавали ему, по крайней мере, свое неудовольствие? День показался очень длинен бедному пленнику; все черные призраки, которые день рассеял, воротились, когда он почувствовал, что через два часа наступит ночь. Неужели он будет вести такую жизнь? Спать, страдать — вот отныне его путь и его цель! Он чуть было не впал в отчаяние, когда увидал, что солнце посылало прощальные лучи на железную решетку его балкона. — Как! — вскричал он. — Разве никто не любит меня на этом свете? Как! каменных стен достаточно, чтобы отдалить человека от всех, кто его знал, и ничье сердце не имеет силы, чтобы бросить вздох, который перешел бы за эти стены и достиг моего сердца! Я посылаю же мои обеты и мои мольбы за горизонт, неужели не найдется никто, кто возвратил бы мне их? Говоря эти слова, он с унынием сел на скамью за решеткой балкона и опустил на руки свою голову, отяжелевшую от горестей незаслуженных. Между тем запоры застучали, дверь отворилась, тюремщик перешел через всю комнату и ударил по плечу пленника. Это прикосновение грубой руки, хотевшей оказать ласку, заставило Эсперанса опомниться. — Ах! — вскричал он. — Вот и вы наконец! — Немножко поздно, но у меня были другие заботы. — Это не совсем вежливо, — улыбаясь, сказал Эсперанс. — Разве вы не знаете, что короля чуть не убили? — Боже мой! — вскричал молодой человек с испугом. — Возможно ли это? — Такого доброго короля! — О да! — сказал великодушный Эсперанс. — Редкого короля. — И вы понимаете, что узнав это, у меня недостало духа кормить пленников, — наивно прибавил тюремщик. — А у пленников недостало бы духа. Но как же здоровье короля? — Подробностей не знаю… Сюда идут, и вы сейчас узнаете все. — Сюда идут?.. Кто же? — Губернатор. — А! — проговорил Эсперанс. — Губернатор? — Да, он всегда провожает посетителей. — Разве ко мне приехал посетитель? — А то как же! Разве губернатор приехал бы просто так? Лестница слишком высока для его старых ног. — О друг мой! Позвольте мне идти к ним навстречу. — Не к чему, — отвечал тюремщик, — они пришли. Эсперанс не спускал глаз с двери тюрьмы. Он увидал сначала губернатора, потом за стариком женщину, голову которой закрывала бархатная мантилья. Эта женщина при виде этой печальной тюрьмы сделала движение ужаса и сострадания. Она остановилась, как будто ее маленькие ножки не могли идти далее. Губернатор подошел с улыбкой к Эсперансу, с улыбкой взял его за руку и подвел к неизвестной даме. Эсперанс позволял себя вести с сердцем взволнованным признательностью и любопытством. Когда он был в двух шагах от посетительницы, старик поклонился и ушел, оставив дверь тюрьмы открытой, между тем как тюремщик, по знаку незнакомки, сел на пороге двери. — Вы свободны, месье Эсперанс, — сказала она дрожащим голосом, от которого трепет пробежал по жилам пленника. Он подошел, протянув руки; она приняла ласку, от которой без сомнения слегка покраснело ее ангельское лицо. — Габриэль!.. — вскричал Эсперанс, сложив руки. — О! Извините, маркиза! Он вне себя отступил перед своей мечтой, которая явилась живая на пороге его темной тюрьмы.Глава 48 ОДИН ИЗ ТЫСЯЧИ КУПЛЕТОВ СЕРДЕЧНОЙ ПЕСНИ
Эсперанс и Габриэль смотрели друг на друга молча, предаваясь оба непреодолимому влечению красоты, которую ни тот, ни другая никогда не находили столь совершенной. Молодой человек увидал Габриэль серьезнейшей женщиной, оставив ее совершеннейшей девушкой. Ничто не могло быть нежнее линий ее лица, выражение которого облагородили мысль и заботы. А фигура, прежде небезукоризненной грации выиграла, развившись, то сладострастное очарование, которое изменяет в любовнике меланхолию любви в страсть. Эсперанс при виде этих золотистых волос с богатыми шелковистыми косами, этой белой и мягкой кожи, под которой виднелись длинные лазурные жилки голубых глаз, томность которых очаровывала, губ красных, груди, трепетавшей под кружевами, — Эсперанс отступил, как мы сказали, и прижал обе руки к груди, где зажигалась тройная любовь: воображения, души и чувства. Габриэль также любовалась в пленнике кротким благородством лица, его красноречивой бледностью, выражением горькой печали, сжавшей углы его нежного рта. Изящная сила этой мужественной молодости напоминала ей изображение древних богов, один вид которых обнаруживал небесное происхождение. Эсперанс отбросил назад великолепные волосы, оттенявшие его лоб, и это гордое движение взволновало сердце Габриэль, точно так, как дрожал Олимп в поэме Виргилия при родном движении Юпитера. Молодой человек прервал молчание. — Вы здесь, маркиза, в тюрьме? — Это был мой долг, — отвечала она с живостью. — Если бы я просто послала вас освободить, если бы я не дала вам объяснений сама, может быть, ошибку, сделанную мной, можно было бы назвать по справедливости другим именем… а вы и без того уже имеете довольно причин сердиться на меня. — Я, маркиза? — Вина моя все-таки существует, но я надеюсь, что вы мне простите. — Я решительно не знаю, о какой вине говорите вы. — Я заслуживаю эту сдержанность, но не преувеличивайте, прошу вас, потому что вы уязвите сердце дружеское, несмотря на то что вы можете думать. — Я ничего не думаю, клянусь вас. — О! ваши глаза говорят совсем другое. Я знаю, как откровенно выражают вашу мысль эти глаза… Вы на меня сердитесь. Уверяю вас, однако, что отвечая королю, я не знала, что вы поселились в этом доме на улице Серизе; я не знала даже вашего возвращения в Париж, не знала даже и вашего отъезда — отъезда странного, неожиданного, таинственного; но эти дела касаются только вас, итак, я настаивать не стану. — Боже мой! уверяю вас, что я не понимаю ни слова из того, что вы мне говорите! — вскричал Эсперанс. — Вы обвиняете себя в вине, в которой я никогда не думал вас упрекать. Я попрошу вас даже объяснить мне эту вину, если только она существует. — Но, — сказала Габриэль со смущением, потому что она считала это неведение притворным, — я говорю о вашем аресте. — Я полагаю, не вы причиной его; король, вероятно, имел свои причины, которых я не знаю, но которые должны быть совершенно чужды вам. Габриэль рассказала молодому человеку недоразумение, раздражившее короля и побудившее его к мщению. Она обвинила себя, что не разъяснила это недоразумение, источник неприятного приключения для Эсперанса. — Но, — прибавила она, — с той минуты, как ваше имя было произнесено, как я узнала, что король говорил с вами, с этой минуты мне не в чем упрекать себя, даже в замедлении. В самом деле, я приехала бы ранее, если б не ужасное происшествие, которое чуть не лишило Францию короля. — Я не знаю даже этого происшествия, — сказал Эсперанс, — пленнику неизвестно ничто. Габриэль рассказала про покушение на жизнь короля, но слегка упомянула о претенденте, самозванце Валуа. Это была политика, а Габриэль, по-видимому, искала другого предмета для разговора. — Вот каким образом, — сказал Эсперанс, печально качая головой, — живешь ли в тюрьме, или объезжаешь отдаленные страны, время проходит и изменяет счастье, существование, привязанности, а мы не знаем этого! Он подавил вздох и, приняв равнодушный вид, продолжал: — Будем благодарить Бога. Король спасен, а вы счастливее и прекраснее прежнего. Она не отвечала. Она наклонила свою очаровательную головку. Одной рукой она опиралась на спинку высокого стула, другая томно висела. — Вы произнесли слова, которые я нашла горькими, — сказала она. — Я? — Да, смысл от меня не ускользнул. Вы сказали, что в отсутствии сердца, на которые рассчитываешь, переменяются. — Я это сказал? — Я слышала. Не ко мне, я полагаю, относится этот упрек? — О!.. зачем мне иметь смелость делать вам хоть тень упрека? По какому праву? С какой целью? Упрек!.. Я имел к вам полное уважение, а с тех пор, как я знаю вашу доброту ко мне, полную признательность. — Мне недостает времени пускаться в тонкости, — сказала она с ангельской кротостью, — притом я большой враг уверток, употребляющихся при дворе. Посмотрите, солнце закатывается и бросает на нас свои последние лучи; оно предупреждает меня, что мне остается здесь провести несколько минут и что потом я, может быть, никогда не буду иметь случая убедить вас. — В чем? — В моем сожалении, что я была причиной таких неприятностей для вас. — Они забыты, — сказал Эсперанс, — вашим поступком остался бы доволен принц, король, а я, бедный, неизвестный иностранец, ослеплен радостью и гордостью. Он вложил в эти слова колкость, которая ее удивила, потому что тотчас, воздерживаясь с обычной скромностью женщин, которые позволили сердцу увлечь себя, она отвечала: — Я обязана была для кавалера де Крильона увидеть вас и извиниться перед вами. Он упрекал меня в моей неосторожности; он приезжал уже сегодня утром за вами, но не нашел губернатора, и в эту минуту принужденный по службе оставить вас пока без внимания, он будет мне признателен, что я не забыла дружбу, которую он имеет к вам. Вы свободны. Весь воздух этого города принадлежит вам. Воротитесь в ваш маленький дворец; будьте счастливы… Вы колеблетесь? Неужели вы уже похожи на тех пленников, о которых я слышала, которые сожалеют о своей тюрьме и отказываются от свободы? Этот тон притворной веселости заставил Эсперанса нахмурить брови. Он сделался мрачен. — Вот вы уже раскаиваетесь, что были слишком добры со мной, однако я не хотел употребить во зло вашу доброту. Я вас слушал. Каждое слово, сходившее с ваших губ, платило мне за печальные часы, проведенные здесь. Но если вы приказываете, я готов выйти. Она становилась веселее по мере того, как Эсперанс терял свою веселость. Задумчивая, улыбающаяся, с лицом, освещенным розоватым отблеском заходящего солнца, она сделала несколько шагов к балкону, перешла за порог и села на каменную скамью, на которой за несколько минут перед тем сидел Эсперанс. Потом ее лицо постепенно изменило выражение. Оно побледнело, глаза потускнели. Молодой человек, следовавший за нею, как будто она была душа, а он тело, остановился возле нее и стал на колено на пороге, смотря на нее со сложенными руками. — Не правда ли, вы говорите себе, что можно быть счастливым в тюрьме? — Да, я именно думала это, — отвечала она. — И эта мысль к вам пришла… — Когда я смотрела на мою тюрьму… Она указала ему на Лувр, отражавший в воде свою черную колоннаду, оставленную солнцем. — Вы выйдете из этой тюрьмы, — сказала она, — а я ворочусь в ту… Он горестно вздохнул и сказал: — Нельзя быть королевой, не будучи отчасти невольницей. — Я не королева, — вскричала она с горечью, — но я невольница — о да! — По вашей собственной воле, — прибавил он с трепещущим сердцем. — Это правда. — Надеюсь, вы не раскаиваетесь? — Нет, — сказала она так тихо и таким отрывистым голосом, что одни губы говорили. — У вас восхитительный дом, месье Эсперанс, — продолжала Габриэль, оправляясь с усилием. — Вам говорили? — Я видела. — Вы? — Я ведь вам объясняла сейчас, что я входила к вам, чтобы караулить короля. — Я не хорошо понял. — Я вам говорила, что я застала короля в вашем доме. — То есть, когда он выходил от меня? — То есть он выходил через ваш дом, потому что он вошел через улицу Ледигьер. — Я не знаю, откуда шел его величество. — Пожалуйста без деликатности; он сам признался. Он был у Замета, чтобы видеться с женщиной. — Ах! Маркиза, если вы впустите в ваше сердце стрелу, которую называют ревностью! — Я не ревную! — вскричала она. — Зачем же вы хотели караулить короля? — Вы правы, — сказала она холодно. Ее блуждающий взор искал Арсенал, как бы, для того чтобы приметить за деревьями улицу Серизе. — Я ищу ваш дом, — сказала она, — его видно отсюда? — Нет. — Вы будете там очень счастливы, не правда ли? Ваш дом так богат, так очарователен. — Говорят. — Сад хорош? — Очень. — Не хуже женевьевского? Знаете… в Безоне? Эсперанс вздрогнул. — Со своими лилиями, которые ночью кажутся большими свечами, с розами и жасминами, которые наполняют воздух благоуханием на солнце, с упоительными гвоздиками, которые окаймлены тимьяном, где в полдень жужжало столько пчел. Вы помните этот прекрасный сад? — Помню, маркиза, — отвечал Эсперанс, дрожа. — Я забыла большие померанцевые деревья в аллее возле монастыря; я не гуляла с той стороны, чтобы не быть осыпанной их цветами. Однажды вечером, возвращаясь в мою комнату, я нашла померанцевые цветы в моих волосах. Это было в тот вечер, когда вы оказали мне услугу. Вы тогда были очень нездоровы; я нашла вас очень добрым для меня и очень деликатным. Эсперанс прислонился к углу двери; он сделался так бледен, что сам это чувствовал, и не хотел, чтобы видели его бледность. — Я была счастлива в то время, — прошептала Габриэль. — А теперь разве вы несчастливы? — прошептал он. — Говорят, у вас есть сын, такой же прекрасный, как и вы. — Маленький ангелочек! — сказала она, покраснев. — Это более чем нужно, для того чтобы быть счастливой. — Вот уже три раза, как вы повторяете мне одно и то же слово, — сказала Габриэль, обернувшись к Эсперансу, — а между тем вы знаете, что огорчаете меня. — Я?.. — Неужели вы считаете меня счастливой?.. Возможно ли это? Положите руку на сердце и отвечайте. — О маркиза! Я не знаю. — Если вы не знаете, не говорите, что я счастлива. Если я говорю вам о вашем счастье, я думаю, что оно не помрачено ни малейшим образом; это потому, что я знаю… — Что же знаете вы, позвольте вас спросить? — Что вы путешествовали так весело, беззаботно, так что даже забыли всех, кто беспокоился за вас в Париже. Кавалер де Крильон часто говорил это при мне. Возвратившись, вы нашли готовым дом, который вы велели для себя выстроить. Вы богаты, молоды, свободны, чего же вам недостает? Свободы? Я вам возвращаю ее, и если мне придется проходить мимо вашей двери, я скажу с уверенностью: тут живет счастливый человек! — Вы говорите так, как я говорил сейчас, — сказал Эсперанс, — и ваши расчеты очень расстроятся, маркиза, потому что если вы пройдете мимо моего дома, вы скажете не то. — Почему? — Потому что, во-первых, я не стану там жить. — Это что значит? — Я буду ночевать там сегодня в последний раз. — Я вас не понимаю. Какой более очаровательный дом найдете в Париже? — Завтра я оставлю Париж. Мне скучно здесь. Да, маркиза, счастливый человек скучает. — А!.. и… может быть, опять отправитесь путешествовать? — Вероятно. — Надолго? — Навсегда. Она сделала движение, исполненное волнения и беспокойства. — В ваши лета, — сказала Габриэль, — разве бывают такие серьезные дела, которые занимают всю жизнь? — У меня нет дел. — А! понимаю… Извините, я как будто допрашиваю вас. Но я любопытна из дружбы. Мы когда-то заключили с вами договор о дружбе; вы это, без сомнения, забыли? — Конечно, нет, — прошептал Эсперанс. — Я хотела сказать, что это вечное отсутствие не может иметь другой причины, кроме… вашей женитьбы, — прибавила она резким тоном. — Нет. — Это правда, что и без женитьбы можно соединиться с любимыми особами, с тем чтобы никогда с ними не расставаться. — Особу, с которой я хочу соединиться, действительно я люблю, — сказал Эсперанс, — но это моя мать, и она умерла. — О! — сказала Габриэль, взяв его за обе руки. — Тогда вы не можете уехать, потому что ничто вас не принуждает к этому, а все вам запрещает это. — Кто же может принуждать меня остаться в городе, где каждый звук, каждый голос приносит мне новое страдание? Я вам сказал, что я несчастен, что я умру здесь от горести. Для чего же мне здесь оставаться? — Но ведь вы воротились сюда, вы были здесь вчера? — Вчера, это было возможно… сегодня нет. — Но у вас здесь есть друзья. — Крильон и Понти, покровитель и протеже, два эфемерных воспоминания. — А других нет? — Те, которые думали обо мне вчера, забудут завтра. Она потупила голову с глубокой меланхолией. — Вы правы, — сказала она. — Надо уметь обходиться без опоры на этом свете. Урок ваш жесток, но спасителен. — Вы говорите это не о себе, маркиза; вы всемогущи, к вам обращаются с просьбами все, а вам не нужен никто. — Ах! — вскричала она с разбитым сердцем. — Назовите мне хоть одного друга… назовите! Даже сын мой мне еще не друг, потому что глаза его еще закрыты для меня, так же как и его сердце. Все на меня нападают, все меня ненавидят. Никто меня не защищает, никто даже не может сделать усилия, чтобы вежливо солгать и предложить мне дружбу. Вы поклялись мне в дружбе — и берете назад вашу клятву! — Ах, маркиза, — сказал Эсперанс слабым голосом, — есть клятвы, которые связывают нас выше нашей воли, и человек иногда слишком слаб, для того чтобы сдержать то, что он обещал. — Так, вы меня бросаете! вы увидите, как я буду страдать, и не протянете мне вашу руку? — Если бы я увидал это печальное зрелище, я не перенес бы его, поэтому я и не хочу его видеть. — Итак, когда одному из ваших друзей будет угрожать смерть, вы побоитесь этого печального зрелища, и чтобы не видеть его, вы бросите вашего друга, вместо того чтобы помочь ему. Я думала, что у вас есть сердце. — У меня есть сердце, маркиза, которое ваши несправедливые упреки раздирают. В самом деле, для чего мне оставаться? чем я могу вам служить? Разве вы желаете видеть, как я страдаю? — Страдаете… отчего? — Сделайте милость, не вырывайте у меня ни слова более. Вы видите, как я борюсь. — Скажите мне ваше страдание, и вы увидите, буду ли я так слаба, чтобы не помочь вам и не излечить вас. — Ну! — сказал он, побежденный страстью и великодушным упорством Габриэль. — Я вам скажу, если вы меня принуждаете; выслушав меня, вы не станете уже останавливать меня в моем намерении, ни упрекать в том, что вы принудите меня сделать. Если я уехал неожиданно в прошлом году, это оттого, что я увидал, как вы вышли от короля на другой день после взятия Парижа; это потому что мое мужество уже истощилось; это потому что я обвинялвас уже в измене и во лжи; это потому что я проклинал уже вас за то, что вы обещали мне дружбу и не дали любовь; я знаю, что говоря таким образом, я навсегда расстаюсь с вами, но судьба увлекает меня; то, что я говорил, я не стану повторять; сердце мое лишится всей своей крови, но с кровью уходит и горесть. Да, я уехал несчастный и воротился еще несчастнее. Если бы я нашел вас счастливой, упоенной, забывшей все — о! я надеялся, я приготовил мое сердце к утешению забвения, презрения… да, презрения… Простите мне, если я совсем теряюсь… Но вместо этого, вы являетесь мне кроткой, нежной, доброй; я вижу вас несчастной; все в вас интересует мое сердце и мою душу, я чувствую, что я полюблю вас так безумно, что лишусь и уважения, как лишился спокойствия. Вы не свободны, вы любите короля, стало быть, в конце каждой мысли для меня два раза смерть. Я кончил, сердце мое пусто; еще день, и, может быть, в него войдет отчаяние. Не раздражайтесь, жалейте обо мне; позвольте мне запрятать мое безумие в таком уголке мира, где вы не услышите, как я вздыхаю, где вы не узнаете, люблю ли я вас. Габриэль, бледная, откинула голову назад и закрыла глаза. Точно будто этот ураган страсти разбил ее, точно она не дышала, точно она умерла… Эсперанс, стыдясь своей слабости, закрыл лицо руками. Он не видал, как молодая женщина оживлялась мало-помалу, провела по лбу холодной рукой и обернулась к нему, чтобы сказать: — Итак, вы любили меня в Безоне? — Да. Она подняла глаза к небу, вздохнула; без сомнения, она говорила себе, что тогда перед нею были открыты две дороги. И что она выбрала менее счастливую. Но эта душа не умела составлять сделки с честностью. — Я дала обещание королю, — сказала она просто, как бы отвечая самой себе. — О! Неужели вы хотите сказать, — вскричал Эсперанс, — что без этого вы полюбили бы меня? — Да; мало того, я нежно вас люблю. — Всего лишь дружбой? — Я не знаю, дружба это или любовь, и не ищу разницы. Я не знала даже, что я вас люблю. Только когда вы мне сказали, что уедете и не воротитесь более, я приметила это. Не уезжайте. — Вы выслушали меня и говорите таким образом? — Почему же нет? За тысячу лье или здесь будете вы меня любить, это все равно. Вы любите мою душу, потому что я иначе вам не принадлежу. А любить мою душу вам не помешает ничто. Что касается страданий, которых вы боитесь, разве моя улыбка, разве мое пожатие руки не излечат вас? Когда вы будете уверены, что сделаетесь самым драгоценным моим другом, что вы занимаете мои мысли, украшаете мою печальную жизнь, и когда вы посвятите мне всю вашу жизнь, будете мне помогать, советовать, будете защищать меня, неужели это удовольствие и труд не займут все ваши дни? Не оставляйте меня; у меня нет отца, мой отец перестал меня любить, он не уважает меня даже, потому что пользуется моей протекцией, чтобы иметь место при дворе. Вы скажете, что у меня есть король. Он меня обманывает, вы это знаете лучше всех, и если бы не мой ребенок, если бы не рана, сделанная вчерашним убийцей, я навсегда рассталась бы с королем и заперлась в вечном уединении. Теперь посмотрите, кто меня окружает: честолюбцы, которых я стесняю, или честолюбцы, которым я служу, женщины, которые завидуют моему месту, мнимые друзья короля, которые советуют ему меня бросить; здесь вероломство, там козни, далее удары кинжала или яд — вот моя жизнь в ожидании смерти… О! не думаете ли вы, что мне нужен друг, который поддерживал бы мое сердце и не допустил бы меня отчаиваться в мои лета? Я прочла с первого дня в вашей душе и вы поняли мою; вы не ошиблись: я горда, я имею силы, чтобы любить. Не таковы ли и вы и не дадим ли мы Господу зрелище двух сердец, столь нежно соединенных, столь благородно преданных, что он не откажет нашей святой дружбе в своем благословении? О! со вчерашнего дня эта мысль очистила меня как божественное пламя; она наполнила меня невыразимой радостью!.. Если бы вы знали, как я буду вас любить! Вы почувствуете лучи этой нежности, которая отыщет вас повсюду, чтобы проникнуть в вас как живительное солнце. Подумайте, что мне двадцать лет, что мое сердце переполнено и что я умру молодая. Любите меня! помогайте мне!.. не оставляйте меня одну на этом свете, потому что ваша душа, я это чувствую, была создана для моей! — Ах! — вскричал Эсперанс вне себя и от радости и от горести. — Вы у меня требуете всей моей жизни? — Всей! — Хорошо, вы получите ее! Таким образом надо было говорить со мной, чтобы быть понятой. Я отдаюсь вам навсегда; возьмите мой ум, мое тело, мою душу; но вот мое условие, я назначаю себе награду. — Скажите. — Вы будете говорить со мной, когда можете, вы будете мне улыбаться, когда не можете со мной говорить, вы будете меня любить, когда не можете мне улыбаться. — О! — прошептала Габриэль со слезами на глазах. — Как милосерд Господь, что создал вас для меня! Ее прервали тяжелые шаги; тюремщик, устав, без сомнения, так долго сидеть, ходил по комнате и старался развести огонь в камине. — Мы забыли об этом человеке, — сказал Эсперанс. — Пойдемте!.. — вскричала радостно Габриэль. — Там свобода! Зажгите свечу и посветите нам на лестнице. Тюремщик поспешил повиноваться; все трое вышли. Габриэль шла за тюремщиком, а за нею Эсперанс. Спускаясь с лестницы, она оборачивалась и беспрестанно улыбалась Эсперансу, и ничего не могло быть прекраснее этой любви, сиявшей на двух юных лицах. У дверей, где ждал ее губернатор, чтобы проводить, Габриэль бросила свой кошелек, наполненный золотом, бедным, которые любовались экипажем. — Это день радости, — сказала она. Когда она села в носилки и ее верховые пустились в путь, она протянула обе руки Эсперансу и привлекла его так близко к себе, что он чувствовал ее душистое дыхание. — Благодарю мою освободительницу! — сказал он громко, кланяясь с уважением. — Благодарю моего друга! — сказала она шепотом. Наклонившись, она прижала свои губы к руке Эсперанса. Ее носилки были уже далеко, а молодой человек еще искал и свои мысли и свою дорогу.Глава 49 ПРАВО ОХОТЫ
Когда Эсперанс воротился домой, думая удивить своих людей, он сам был удивлен: его ждали. За два часа дано было знать дворецкому, который так же, как и весь дом, перешел от сильного беспокойства к безмерной радости и приготовил все так, как будто господин после обыкновенного отсутствия возвращался к обеду. По этой предупредительности Эсперанс узнал свою освободительницу, которая не хотела подвергать его случайности возвращения в беспорядочный дом. Это была та самая женщина, которая обещала ему ежеминутную бдительность и уже сдержала слово. Он поблагодарил своих людей за участие, за их заботливость, сел за превосходный обед, до которого касался только глазами, потому что сердце, переполненное тайной радостью, мешало желанию желудка. Приятное мучение голода хорошо известно влюбленным, этим танталам, умирающим от голода и от счастья в одно и то же время. Эсперанс поспешил в свою спальную, чтобы заснуть, говорил он, но на самом деле, для того чтобы думать без свидетелей. Его свежий и упорный двадцатилетний ум повторил ему верно, слово за словом, знак за знаком, всю сцену в тюрьме, и Эсперанс двадцать раз кряду испытывал все новое наслаждение. Отныне какое занятие будет в его жизни! Как будет наполнена эта жизнь или воспоминанием, или надеждой! Какой неисчерпаемый источник наслаждений в этой мысли, что он был выбран Габриэль и что ничто не может прервать поэтическое и целомудренное сообщение двух душ, навсегда соединенных! Сон, последовавший за этими размышлениями, был восхитителен и продолжал эти мечты, а на другой день, пробудившись и вспомнив, как он будет счастлив, Эсперанс вообразил, что он живет в первый раз, а до тех пор прозябал. Приятный сюрприз ожидал его по выходе из спальной. Понти пришел обнять его с излиянием преданного сердца. Потом явился Крильон, которого предупредила Габриэль и который, воротившись из своей экспедиции, хотел увидеть того, кого он называл несчастным пленником. Никогда подобная веселость не царствовала в доме простого смертного. Эсперанс сиял радостью. Понти заметил кавалеру неистощимое красноречие Эсперанса. Понти находил превосходным поступок Габриэль. Крильон утверждал, что она должна была так поступить. Эсперанс улыбался и поддакивал тому и другому. В этот день много говорили, не о Габриэль, потому что Эсперанс искусно прерывал разговор каждый раз, как он направлялся к ней, а о самозванце Валуа, о хитрой герцогине и о всех неприятностях, какие должен был иметь король от этой новой политической интриги. После того как Эсперанс и Понти выразили свою ярость против ла Раме и подивились этому сильному могуществу врага, который, всегда поражаемый, всегда приподнимался, Эсперанс спросил кавалера, каким образом подобный негодяй может причинить неприятности королю. — Король, — отвечал Крильон, — очень этим озабочен. — Однако у короля голова славная, — сказал Эсперанс. — Голова… голова… — пробормотал Крильон. — Если вы позволите мне говорить, полковник… — сказал Понти. — Говори, только хорошенько. — Везде говорят, что король был ранен в голову и что это имело влияние на мозг. — Это немножко преувеличено, — возразил Крильон, — но ум короля, кажется, ослабел, это верно. Поверите ли, мы чуть не поссорились вчера из-за этой мошенницы Антраг. — В самом деле? — сказал Эсперанс, краснея. — Да, король уверял, что эта девушка действительно упала в обморок на балконе из любви к нему и что я клевещу на нее, утверждая противное. — Вы утверждали противное? — спросил Эсперанс. — О! Говорю я королю, — если бы я захотел привести ее в чувство, мне стоило только сказать одно слово, произнести одно имя. — Надеюсь, вы ничего не сказали, кавалер, — отвечал Эсперанс, — потому что это касается моей деликатности. — Я сказал только это. Король нахмурил брови, натер бальзамом свою больную губу и — пробормотал сквозь зубы: «Каждый раз, как бедный король любим, все стараются убедить его, что он…» — Что такое? — сказал Эсперанс. — Полковник хотел сказать: обманут, — поспешил прибавить Понти, — а все-таки жаль, что любезный государь не знает, что такое ла Раме для мадемуазель д’Антраг, и наоборот, потому что, с характером короля, рано или поздно непременно установится связь. Граф Овернский и все Антраги способствуют этому, и тем хуже для маркизы де Монсо. — Один гвоздь выколотит другой, — сказал Крильон. — Кавалер! — вскричал Эсперанс. — Умоляю вас быть добрее к самой уважаемой и очаровательной женщине при дворе. — Он говорит это потому, что она вывела его из тюрьмы. Но полноте великодушничать; если бы она не посадила вас туда, ей не нужно бы было вас освобождать. — Позвольте мне заметить вам, — сказал Эсперанс, — что между мадемуазель д’Эстре и мадемуазель д’Антраг есть разница, как между ангелом и фурией. В тот день, как мадемуазель д’Антраг будет царствовать над королем, я пожалею о Франции. — А я жалею о нас, — вскричал Понти, — потому что мы у ней на дурном счету, между тем как маркиза нам покровительствует. Это очевидно, не правда ли, Эсперанс? — Еще одно слово об этом ла Раме, — перебил молодой человек, — есть у него сторонники, распространяются его истории? — Все лигеры, все испанцы, множество аббатов, а особенно иезуиты будут его поддерживать. — Партия большая, — прошептал Эсперанс, — но надо будет сражаться. — Кстати, о сражении, — перебил Крильон, — знаете, что король, проснувшись сегодня утром, говорил о вас? — Ему подсказала маркиза, может быть, — заметил Понти, — потому что наверняка она рассказала все, что было известно всем, про свою поездку в Малый Шатле. — Именно. — Что же сказал король? — Король немножко удивился, что вам досталась честь подобного вмешательства, потом передумал и нашел, что сделано не довольно, для того чтобы заставить вас забыть прошлую немилость. — Не довольно? — Да, король великодушен в некоторые дни. «Конечно, — сказал он, — молодому человеку должно быть лестно покровительство маркизы, но это не вознаградит его за незаслуженный арест». — Он сказал: за незаслуженный? Это хорошо! — вскричал Понти. — «Вот каким образом, добрейший государь на свете, — сказал я королю, — всегда делает немножко зла, замечая того». — «Я ошибся насчет этого молодого человека, и вознагражу его», — прибавил король. — Это очень хорошо, — сказал гвардеец. — Это действительно благородно, — прибавил Эсперанс. — Это справедливо, — сказал Крильон. — Но я не вижу, почему этот рассказ пришел вам в голову, когда говорили о сражениях? — спросил Эсперанс кавалера. — А вот почему. Его величество способен предложить вам роту в каком-нибудь полку. Наш великий монарх очень заботится набирать офицеров, и, если находит их красивыми, храбрыми, богатыми, он выхватывает их. Вот вы предупреждены. — Он меня не прельстит, — сказал Эсперанс. — О! не говорите этого; он обольстителен, когда наточит свой язык. Я помню, что раз сто он заставлял нас, своих друзей, делать чудеса одним словом, произнесенным особенным образом. Если он предложит вам роту, вы завербованы. — Пока еще нет, — сказал Эсперанс, улыбаясь, — притом его здесь нет, чтобы мне предложить. — Его здесь нет, но вы скоро будете в Лувре, и как же вы отказываетесь? Да, вы будете в Лувре. Его величество приказал привезти вас в Лувр как можно скорее, и мы пойдем сегодня же. — Я пойду, — сказал Эсперанс с такой радостью так скоро найти случай увидеть Габриэль. — Какое счастье, если бы Эсперансу предложили вступить в гвардию, — сказал Понти, — и если бы я служил под его начальством, как было бы славно служить, какие я получал бы отпуски! — Экий ты лентяй! — сказал Крильон. — Не будем предвидеть так далеко. Если Эсперанс вступит в гвардию, он будет сначала под моим начальством, и я решительно запрещу ему баловать такого негодяя, как ты; ты уж и то порядочно избалован. — А наш дворец придется разве бросить? А наши повара, наш погреб и все приятности жизни, черт побери! Эсперанс, не будь слаб, не принимай почестей вместо счастья. Если вы будете моим начальником, как я поеду в вашей карете? Как я буду говорить «ты» тому, кто может меня арестовать? Не будь слаб, Эсперанс. — Не бойся ничего, — отвечал тот с улыбкой, — я буду остерегаться как огня этих искушений гордости. Почести! Это трын-трава для людей счастливых. — Настоящая трын-трава! — повторил Понти. — Какие смешные философы! — вскричал кавалер. — Бескорыстные, монсеньор, как Аристид и Курий. — Глупцы, когда вы не будете молоды, когда лишитесь ваших волос и зубов, когда не заставите потуплять глаза ни одну женщину, вы увидите, явится ли у вас честолюбие. Что делать в этой жизни без волос, без зубов, без любви, если не будешь иметь бубенчиков честолюбия? Притом я не знаю, почему этот Понти всегда говорит за двух? Ты беден, неимущ, твоей перспективой даровая постель на каком-нибудь поле битвы, такая постель, с которой не встают, если только ты не отправишься на солому в твой запыленный замок. Эсперанс, напротив, богат, блестящ, капиталист, у него есть все, что у тебя есть и чего у тебя нет. Говори за себя одного. — Нет, — перебил Эсперанс, — Понти, напротив, имеет все, что имею я. — Это правда, — сказал гвардеец. — Полноте! Разве он будет иметь наследницу, которая рано или поздно будет очень рада выйти за Эсперанса. — Поздно, — сказал Эсперанс, смеясь так весело, что Понти стал ему вторить, а кавалер, принужденный им подражать, закричал: — Я не знаю, что нынче в глазах Эсперанса, но это точно яркое пламя! — Это от удовольствия. — Черт побери! От удовольствия побывать в тюрьме! Вы неразборчивы. Если тюрьма вам так нравится, почему не попросить вам короля, чтобы он время от времени отправлял вас туда, чтобы возвратить вам веселое расположение духа? Вот человек, который приехал ко мне из Италии, бледный, мрачный, вздыхал, говорил только о похоронных предметах, вдруг его бросают в тюрьму как цыгана; я воображаю себе, что он от этого умрет, зная его расположение к меланхолии… я не спал от этого два дня — и смотрите вот он каков… Эсперанс продолжал смеяться, а Понти помирал со смеху, сам не зная над чем. — Какие глупые мальчики! — вскричал кавалер. — Хочешь их развеселить и не можешь, а когда вздумаешь хоть один раз нагнать на них тоску, они хохочут во все горло. Поедемте в Лувр смотреть на седые усы короля и на его разрубленную губу. Это заставит вас подумать, во-первых, о ла Раме, которого четвертуют когда-нибудь, если он не растерзает вас прежде, потом о змееныше Шателе, с которого потихоньку сдирают кожу, чтобы выпытать от него несколько добрых истин. Вы подумаете также о вашей приятельнице д’Антраг, которая так хорошо к вам расположена, о кинжалах матери Туше, все о предметах веселых, и мы увидим, расхохочетесь ли вы под нос королю; впрочем, Шатле недалеко со своим губернатором. Кстати, его зовут дю Жарден; он отец своего сына; вы знаете, что я хочу сказать, Эсперанс. Смейтесь над ним еще, если хотите! Молодые люди перестали смеяться, чтобы сделать удовольствие Крильону, и отправились в Лувр, где Понти увидал, что равенство есть вымысел на земле, потому что он остался в галерее, между тем как оба его спутника вошли в кабинет короля. Эсперанс должен был остаться доволен своим визитом. Генрих очень ласкал его, но не делал ему никакой публичной овации. Он отвел его в сторону и сказал ему со своей любезной улыбкой: — Дело, происходившее между нами, должно между нами и остаться. Никто не знает, что вы были брошены в тюрьму Генрихом-тираном; не будем объявлять этого свету, не надо также говорить этому любопытному и болтливому свету, что король вел себя как школьник. Мое королевское достоинство не так прочно, чтобы выдерживать подобное потрясение. Останемся добрыми друзьями, молодой человек. Я имел надобность в вас, и вы оказали бы мне большую услугу, если бы не демон, покровительствующий женщинам и всегда изменяющий мужьям. Однако ваша добрая воля будет все-таки считаться. Просите у меня чего хотите, только бы я мог исполнить ваше желание. Ты доволен, Крильон? — Доволен ли Эсперанс? — спросил кавалер. — Как нельзя более, — отвечал молодой человек, преклоняя колено. — Ну, спрашивайте же, мой прекрасный поверенный! — вскричал король. — Только не просите денег. — Э! Государь, он даст вам взаймы, если хотите, — сказал Крильон. — Черт побери! А я не откажусь, возразил король. — Ну, чего он хочет? — Ничего, государь, кроме чести вашего расположения. — Этого слишком мало, — сказал Генрих, немножко недовольный, что ему нечего предложить. Эсперанс почувствовал этот оттенок со своею тонкой деликатностью. — Государь, — сказал он, — я страстный охотник, а у меня еще нет земель. — Вы хотели бы охотиться на моих землях? — спросил Генрих. — Время от времени, государь, с позволения вашего величества. — Согласен, — отвечал король, не видя, что за портьерой божественный профиль, видный только для одного Эсперанса, дал молодому человеку обещанную улыбку за недостатком слов. Улыбка была лукава, потому что Габриэль слышала позволение данное Эсперансу охотиться на землях короля[299]. Боясь засмеяться, чтобы ее не увидали, и покраснеть, если ее увидят, Габриэль предпочла уйти, видение исчезло от жадных глаз Эсперанса. Аудиенция кончилась. Крильон увел своего протеже. — Теперь, — сказал он, — вы королевский гость. Право охоты в лесах его величества открывает вам королевские дома во всякое время. — А! — сказал Эсперанс с притворной наивностью. — Во всякое время? — Да, будет там король или нет. Это преимущество не имеют даже принцы крови. Вам захочется охотиться за оленем ночью при фонарях, король вам не помешает. — Я буду пользоваться этим, — отвечал Эсперанс со вздохом, — и постараюсь никогда не употреблять этого во зло. «Я буду видеть Габриэль, когда захочу, — подумал он, — даже так, что она не будет об этом знать… Вот истинное счастье!» По выходе из королевского кабинета, Крильон и молодой человек расстались. Понти, увидев, что его товарищ такой же веселый, как и прежде, сказал ему: — Если ты в таком хорошем расположении духа, будем забавляться. — Хорошо; но каким образом? — Мне пришла в голову одна мысль. Дай праздник на новоселье. Мы примем в твоем дворце всех добрых собеседников и всех любезных женщин в Париже; надо же составить себе круг, черт побери! — О! о! Столько людей… — Поверь мне, Эсперанс, надо распространить наше знакомство, я расскажу тебе почему. — Расскажи. — Я сегодня дежурный, и у меня нет времени, но вели завтра приготовить хороший завтрак, и я расскажу тебе много разных разностей. — Хорошо. Эсперанс воротился домой самой длинной дорогой, медленно. Он не был бы в состоянии выдержать своего упоения, если б не дышал воздухом в продолжение двух часов. В передней он приметил привязанную к мраморному столу и обгладывавшую цветы в корзине очаровательную лань, на кожаном ошейнике которой была серебряная дощечка с вырезанной надписью: «Из королевских лесов». Люди его с гордостью объявили ему, что этот подарок был прислан из Лувра. — Опять Габриэль! Столько ума, столько души, — прошептал он, — с такой совершеннейшей красотой. О! Боже мой, не слишком ли я счастлив!Глава 50 БАЛЬНЫЕ ИНТРИГИ И ДРУГИЕ
Может быть, читатель удивится, что мы еще не ввели его к соседу Эсперанса, богачу Замету, отель которого на улице Ледигьер пользовался в Париже большой известностью. Замет, знакомства которого по милости его богатства искало все дворянство и все министры, занимавшие у него деньги, был один из тех людей, портрет которых истории не всегда удается очертить. То, что такой человек делает открыто, занимает мало места в летописях эпохи; но тот, кто найдет его следы на подземных ступенях, которые он сделал, чтобы дойти до своей таинственной цели, тот, кто сумеет осветить этот темный тип отблеском истины, удивится гигантским размерам, которые примет его наружность. Замет, флорентиец, преданный Медичи и их агент во Франции, служил им с преданностью, которую он относил к признательности, но которую без клеветы можно приписать честолюбию самому необузданному и самому разумному. Он обязан был своим состоянием Екатерине Медичи и обещал себе, что другая Медичи удесятерит это состояние. Только, для того чтобы достигнуть подобного результата, недостаточно было сил одного человека. Во Франции уже не было Медичи. Екатерина умерла со всем своим потомством, о котором никто не сожалел, надо сказать, а французы, кажется, не были расположены отдаться опять под иго итальянцев. Имя Медичи значило тогда религиозную войну, Варфоломеевская ночь, междоусобная война. Оно значило также: голод, развращение, серийные преступления. Тридцать лет убийств, грабежа делали кровавую и гнусную свиту этому имени. Но Замету было нужно сблизить, соединить золотые безоны с французскими лилиями. Он принял свои меры; история говорит нам, ошибся ли он. Через некоторое время после сцен, описанных нами в последних главах, Замет прохаживался в один вечер в своем отеле на улице Ледигьер, в большой зале, смежной с его галереей. Он был озабочен и размышлял о письме, полученном им из Флоренции. Сидя у стола, на который она опиралась обеими руками, синьора Элеонора также размышляла, и глаза ее, сверкавшие умом, напрасно призывали мятежный дух вдохновения. В углу залы человек, более сонный, чем задумчивый, красивый лентяй, с наружностью дворянина и с робостью лакея, ждал одного слова от Замета или от Элеоноры, чтобы решиться привести в движение свое тело, приятно оцепеневшее от жара. — Курьер ждет, — прошептал Замет по-итальянски, — и депешу надо отправить сегодня вечером. Что сказать? Есть у вас какая-нибудь идея, Элеонора? — Была бы, если вы захотели лгать, — отвечала флорентийка. — Но к чему лгать? Там нужна правда. — Правда то, что король не умер. — Это можно написать и доставить удовольствие во Флоренции. — Правда также, что король воротится больше прежнего к маркизе Монсо. Когда они готовы были поссориться! Когда я уже начал переговоры с Сюлли! — Это приведет в отчаяние, — сказала Элеонора. — Однако надо сообщить это во Флоренцию. — Увидят, что ничего нового не сделано. А пока время проходит. Элеонора пожала плечами с видом, который говорит: что же я могу тут сделать? — Когда так, письмо скоро будет написано, — сказал Замет. — А особенно скоро прочтено. Пишите же, повторила Элеонора. — Пишите сами, — проворчал Замет. — Вы не сказали бы мне этого два раза, если б я умела писать. Берите перо. — У меня подагра, — возразил Замет. — Ваша подагра не смела бы показаться, если б вы могли сообщить приятные известия, — сказала Элеонора, улыбаясь. — Кончено, у тебя нет подагры, пиши! Лентяй потянулся, как собака, вылезшая из конуры. Элеонора подала ему перо, которое он взял левой рукой. — По крайней мере, диктуйте, — сказала Элеонора Замету. Тот продиктовал перечень событий, случившихся в последний период: рану короля, его примирение с Габриэль, появление самозванца Валуа. Кончино писал медленно, дурно, левой рукой. Замет стал его в этом упрекать; он сослался на ожог в большом пальце правой руки. Дело было в том, что он не хотел, чтоб его почерк был узнан, и действительно его каракульки не мог бы разобрать самый искусный архивариус. Когда диктовка была кончена, он бросил перо и отряхнулся, как будто после тяжелой работы. — Свободен ли я? — спросил он. — Ступай, — отвечала Элеонора. — Куда это он ходит каждый вечер? — спросил Замет. — Играть, — отвечала Элеонора, — чтобы накопить для нас приданое, которого никто нам не даст, я это вижу, если мы сами его не приобретем. Это нападение на казну Замета не имело успеха, но решило конец разговора. Кончино встал и ушел. Замет прочел депешу, запечатал ее печатью, составленной из нескольких букв, и Элеонора взялась передать ее курьеру, готовому ехать. — Теперь, — сказал Замет, — кажется, пора мне одеваться; я хочу быть на балу, который дает мой сосед, этот сосед, упавший с неба, который, говорят, богаче меня. Он пошел в свою комнату, сказав эти слова с очевидной горечью. Как только Элеонора осталась одна, она осторожно раскрыла депешу, написала быстрой рукой две или три строчки на оборотной стороне конверта, не трогая печати, и сама пошла отдать депешу тому, кто ее ждал. Она возвращалась в переднюю, когда раздался лошадиный топот. Элеонора поспешила воротиться к себе, где через десять минут молодой и звучный голос назвал ее по имени. Это была Анриэтта, закутанная в манто, бледная, как будто она была больна, смущенная, как будто пришла с каким-нибудь важным намерением. Элеонора приняла ее с суетливой вежливостью итальянцев, посадила, обласкала, положила ей под ноги волчью шкуру и сделала тысячу комплиментов ее красоте. Анриэтта слушала ее с рассеянным видом или, лучше сказать, не слушала. — Что с вами? — спросила Элеонора. — Зачем вы приехали? — Я приехала с отцом, — отвечала Анриэтта по-итальянски. — Он у синьора Замета, с которым он разговаривает, пока я буду разговаривать с тобой. — Что вам угодно, синьора? — О!.. почти ничего, но это ничего будет мне полезно, если ты возьмешься за это. — Я готова. Анриэтта собралась с мыслями или, лучше сказать, расположила их в порядке, чтобы выгодно изложить. Тактика дипломата, который намеревается лгать, чтобы заставить своего противника сказать правду. — Кажется, синьор Замет будет на балу сегодня? — спросила она. — Да, синьора. — У соседа? — Стена об стену. Говорят, прекрасный будет бал. В целом квартале говорят о нем. — Кто пригласил синьора Замета? Сам сосед? — Не думаю. А, кажется, знаменитый воин, который был здесь намедни. — Крильон? — Именно. — Так что ты не видала этого соседа? — Никогда, и не знаю даже, как его зовут. — Этого не нужно. Я надеялась только, что ты его видела. — Для чего? — Чтоб узнать, когда будет нужно. — Только-то? Я могу увидеть его сегодня, если захочу. — Каким образом? — Поставлю лестницу у стены нашего сада, который возле его сада. Праздник будет в саду. Хозяин будет там прогуливаться, я его увижу. Глаза Анриэтты засверкали. — Это хорошая мысль, — сказала она, — да, точно, надо поставить лестницу. Средство неблагородное, прибавила она с горечью, — но неприглашенные должны устраиваться как могут. — Это меня удивляет, — заметила Элеонора. — Говорят, много придворных приглашено. Почему вы там не будете с вашими родными? Анриэтта покраснела. — Я не знаю, но мне это все равно, Элеонора; не об этом идет дело. «Должно быть, не все равно», — подумала итальянка, видя, как нахмурились брови Анриэтты д’Антраг. — Мы говорим, — продолжала Анриэтта, — что ты можешь видеть этого господина… и этого уже много, но этого недостаточно. — А! — Когда ты хорошенько его увидишь, так что будешь уверена, что узнаешь его всегда и везде, тебе надо рассмотреть дом. — Его дом? — Чтобы наблюдать за его поступками. Элеонора сделалась серьезна. — Вы сказали мне: или недостаточно, или слишком много, — возразила она. — Приказание, понимаемое вполовину, всегда дурно исполняется. Наблюдать — слово неопределенное; объяснитесь точнее. Когда я буду наблюдать? где? для чего? Анриэтта пристально посмотрела на проницательную итальянку. — Я думала, Элеонора, что обращаясь к ворожее, я, буду избавлена от половины объяснений. — С половиной объяснений я угадаю все, но с четвертью я угадаю только половину. — Мне поручила одна моя приятельница, — сказала Анриэтта, обдумывая каждое слово, — которая любит этого молодого человека… — Это молодой человек? — Я так полагаю… Мне поручили, говорю я, узнать, может ли она надеяться быть любимой. Надо тебе сказать, что моя приятельница сомневается в этом. — Она хороша собой? — Да. — Почему же ему не полюбить? — Это не причина. — Это зависят от того, какого рода любви требует ваша приятельница. — Она не очень требовательна; однако, Элеонора, если сердце молодого человека занято другой? — Вот то-то и есть! — Я хочу это узнать… для моей приятельницы. — Понимаю. И чтоб узнать это, вы желаете, чтобы я наблюдала за этим молодым человеком? — Именно. — Чтобы я знала, где он бывает? — Да, Элеонора. — С кем он видится? — Да. — Кого он любит, словом? — Ты угадала. Моя приятельница будет тебе признательна. Я ей сказала, что ты живешь в ста шагах от дома этого господина. — В тридцати шагах, синьора. — Что из твоего окна виден его сад. — Почти его комната. — И это известие так обрадовало мою приятельницу, что она дала мне для тебя двадцать дукатов, в награду за твои труды. Элеонора взяла дукаты и спрятала их в карман с плохо скрываемой жадностью. — Я не стану смотреть через стену, — сказала она, — я пойду в дом. — Ты это можешь? — Ничего не может быть легче. Замет входит же туда, а он вчетверо толще меня. — Но если он встретит тебя там? — Я сумею его избегнуть. Притом, что за беда, если он меня увидит? Разве я не свободна? — Но ты не приглашена. — Я хожу, куда хочу. А если войду к этому господину, то я буду очень глупа, если не успею с ним говорить, а он будет очень хитер, если успеет скрыть от меня что-нибудь. — Элеонора, ты жемчужина! Когда ты начнешь? — Сегодня. — В день бала? — Именно. Если молодой человек любит кого-нибудь, эта особа непременно будет на бале. Для кого дают бал, если не для любовницы? А если любовница его там, я вам назову ее прежде, чем пройдет полночь. — Ты права, — сказала Анриэтта. — Каждое твое слово — правило мудрости. Ну, пока ты будешь действовать, я хочу доставить себе удовольствие следовать за тобой взором. Эта лестница меня искушает. Твой сад темен и пуст, не правда ли? — Тем более, что синьор Замет будет в отсутствии, Кончино также. Люди будут играть между собой или рано лягут. — Я пойду и скажу моему отцу, что ты даешь мне урок в хиромантии, что он может воротиться домой и прислать за мной в два часа. Однако сделай вид, что сядешь со мной. Когда уйдет мой отец, ты проскользнешь к соседу, проводив меня прежде в сад и поместив на лестнице. Это будет преинтересно. — Непременно, и вы увидите праздник, как будто были приглашены. Анриэтта закусила губы. — Ты не видишь никакого препятствия, Элеонора? — Никакого. Но так как надо предвидеть все, я надену мой флорентийский костюм, который так мне идет, и ручаюсь, что он привлечет внимание короля, если он будет на балу. — Невозможно, чтобы король присутствовал там, — с живостью сказала Анриэтта. Они были прерваны графом д’Антрагом, который пришел за дочерью. Все случилось так, как обе женщины придумали. Отец согласится ехать, оставив Анриэтту погруженную в ученые соображения линий и планет. Только он ушел, Элеонора начала одеваться; она покрыла свои прекрасные волосы наколкой с длинными иглами, надела корсаж, затканный золотом, полосатую юбку и шелковые пестрые чулки. Одетая таким образом, она была хороша тем странным очарованием, перед которым всегда бледнеет правильная красота, и Анриэтта призналась, что никогда более очаровательный взгляд не бросал столько пламени, более опасного для спокойствия мужчин. Элеонора повела Анриэтту в глубину темного свода и подняла своими маленькими сильными руками лестницу, тяжелую даже для мужчины. Анриэтта влезла на эту лестницу и поместилась так, что спрятала голову под плющом, спускавшимся с вазы, стоявшей на стене. — Вижу, благодарю! — прошептала она, наклонившись к Элеоноре, которая хотела знать результат пробы. Завернувшись в манто, прислонившись руками к стене, молодая девушка обещала себе быть терпеливой. Элеонора обещала ей скоро воротиться. С другой стороны слышалась прелюдия инструментов, блистали огни в аллеях. Ночь была великолепна; первое дыхание весны согрело землю; фиалки, спеша распуститься, посылали свое благоухание из тени, которую они любят. От пламени факелов и цветных фонариков сверкал на конце ветвей первый пушок изумрудных листьев. Вдали сиял дом; стекла походили на зажженные фейерверочные снопы. Толпа гостей мало-помалу наполняла сад. Ужин, приготовленный для танцующих, выказывал свое великолепие в большой зале нижнего жилья. Он походил на один из тех гигантских пиров, которые изображал Поль Веронез. Хозяин, начинавший таким образом, не мог не иметь множество друзей. Понти, в сумасбродно великолепном костюме, бродил около буфета, точно стоял на карауле; может быть, он оберегал для себя некоторые куски или бутылки. Эсперанс, свежий и очаровательный, как обыкновенно, обходил гостей и принимал поздравления и приветствия. Лань, встревоженная и ослепленная ярким освещением, следовала за ним, стараясь встретить его ласковую руку. Когда он проходил по аллеям, чтобы отдать приказания или проводить какую-нибудь женщину, которая тихо говорила с ним, говор восторга поднимался на пути его. Замет также ходил по саду, вычисляя издержки этого роскошного пира. Он отыскал Крильона, который лукаво старался доказать ему, что теперь его станут называть нищим, а Эсперанса Крезом. Замет захотел удостовериться в этом и потом, как другие, приветствовать Эсперанса. Крильон оставил их гулять вдвоем и говорить о финансах. Однако этот разговор стеснял молодого человека, несмотря на его привычку к наивной откровенности. Чем более он признавал себя бедным и неуверенным в своем богатстве, тем более Замет пугался его соперничества. Вдруг Замет вскрикнул от удивления и с волнением выпустил руку Эсперанса. — Что такое? — спросил Эсперанс. — Вы видели за этими деревьями женщину в итальянском костюме? — Нет, но можно поискать. «Как это странно!» — думал Замет. — Да, вот она, вот она, — сказал он. В самом деле заблудившаяся Элеонора прошла как тень. — Эта маленькая женщина, которая повернулась к нам спиной? — Да, я видел ее лицо. — Вы ее знаете? — Конечно, и не понимаю, как она могла попасть сюда. Позвольте мне удовлетворить мое любопытство. Говоря эти слова, Замет быстро направился к аллее, где исчезла итальянка. Эсперанс едва успел спросить себя, кто эта женщина, когда вдруг увидал, что она бросилась из-за дерева, за которым пряталась от Замета. Она прямо подошла к молодому человеку и остановилась напротив него с удивлением и восхищением. — Сперанца! — вскричала она. «Флорентийка в красных панталонах, — подумал Эсперанс. — По какому случаю?» — Как? — с живостью продолжала Элеонора. — Это вы хозяин этого дома? — Да. — В самом деле? — Спросите у синьора Замета, который видел вас и ищет. — О!.. — вскричала она, схватив его за руку. — Отведите меня в сторону на несколько минут; я должна говорить с вами.Глава 51 ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖНО, БУДЬ ЧТО МОЖНО
Это был час, в который утомленные танцоры хотят освежиться, а музыканты отдохнуть. Ужин выставлял все свои обольщения, столы наполнялись проголодавшимися гостями. Эсперанс, устремив на молодую флорентийку пронзительный взгляд, приметил, что она хочет сообщить ему что-то серьезное. Он попросил у нее несколько минут, чтобы показаться за ужином и разместить гостей. Пока он удалялся с обещанием скоро воротиться, Элеонора пошла одна по аллее зеленых деревьев, в конце которой возвышалась стена, которую Анриэтта выбрала обсерваторией. Но на углу этой аллеи Элеонора вдруг встретила Замета, который, подстерегал ее несколько минут и готов был загородить ей дорогу. Лицо капиталиста обнаруживало беспокойство его ума. — Элеонора! — вскричал он, приближаясь к итальянке. — Зачем вы здесь и разговариваете по секрету с этим молодым человеком? — Я могла бы вам отвечать, что это не ваше дело, — сказала она с улыбкой. — Нет, вы не можете, потому что при малейшем подозрительном поступке вашем в Париже я буду принужден дать об этом знать их высочествам во Флоренцию. — Так же как и я сама буду принуждена это сделать, — спокойно отвечала Элеонора, — если вы с вашей стороны сделаетесь мне подозрительны; однако я предоставляю вам полную свободу, не правда ли? Вы во все стороны разбрасываете нити ваших дел, а я не нахожу этого дурным. Замет, несколько оторопев от этой самоуверенности молодой женщины, возразил, что оправдываться нельзя обвиняя. — Я вас не обвиняю, а защищаюсь. Я пришла сюда потому, что я знаю хозяина дома. Это тот самый молодой человек, которого я встретила у Меленских ворот, когда меня хотели остановить; он защитил меня и спас мою тайну и мою жизнь. — А! это другое дело. Однако вы могли бы меня предупредить. — Я не знала, что он наш сосед. — Вы этого не знали час тому назад, а знаете теперь? — Да. — Это странно, сознайтесь сами. — Сознаюсь, но разве в моей судьбе есть что-нибудь другое, кроме странностей? Я читала у наших старых поэтах, что три богини, которые прядут жизнь смертных, употребляют золотую нить для счастья, а темную для несчастья. Мой моток, должно быть, перепутан самым странным образом. — Все это мне не объясняет, — упорно продолжал Замет, — каким образом вы узнали в одну минуту, что вы знаете синьора Эсперанса. Она приняла веселый вид. — Сперанца! — прошептала она. — Красавца Сперанца! Признайтесь, что он красавец и что так близко от него сердце женщины должно получать быстрые предуведомления. — Ты влюблена, Элеонора? — Почему и нет? — А Кончино? — Мы еще не обвенчаны. — Тем более причины, вероломная, чтобы ты его не обманывала. — Кончино слишком ленив, чтоб заниматься подобными вещами. Я говорю так много глупостей, — продолжала молодая женщина тоном более серьезным, — а Сперанца сейчас придет, и я хочу поговорить с вами серьезно. — Как! Он придет? Сюда? К тебе? — Да. — Он оставит своих гостей для тебя? — Да. — Об этом будут говорить. Ты сделаешь вред этому бедному синьору. — Дерзни! — сказала Элеонора, глаза которой бросили молнии. — Чем я хуже тех, с которыми он разговаривал бы, если б меня не было здесь? — Конечно, — отвечал Замет, — но… — А особенно я не хуже той, которая прислала меня с ним говорить. — А!.. — вскричал Замет. — Тебя послали… кто? — Синьорина, будущая королева. — Анриэтта д’Антраг? — Тише! Не произносите громко это имя, чтобы оно не донеслось вон до той стены. — Она подстерегает… о, это очень хорошо! — Возвращаясь домой, не наткнитесь на лестницу; вы свернете шею будущему величеству. — О, Элеонора, как ты умна! — В самом деле? — Как! Антраг послала тебя говорить с Эсперансом? — Для одной приятельницы, — сказала Элеонора, подмигнув. — То есть она сама в него влюблена. Хорошо; что же ты должна сказать Эсперансу? — Множество разных разностей. — В особенности имея доказательства… — Предоставьте мне. — Ах! Элеонора… Эту, когда мы ее посадим туда, куда она хочет сесть, не так трудно будет уничтожить, как маркизу де Монсо! — Надеюсь. — Она очень порочна, эта Анриэтта, — с презрением продолжал Замет, — даже не умеет себя держать! В ту минуту, когда она хочет свергнуть женщину, которая держит себя так хорошо! Но берегись, Элеонора, компрометировать ее с Эсперансом слишком рано. — О! не бойтесь, — улыбаясь, сказала итальянка. — Видишь ли, минута хороша для нас; король поддается; она его околдовала, несмотря на то что она такая дрянь. Вчера он потихоньку спрашивал Пия о ней; мало того, послал ла Варенна осведомиться о здоровье этих дам. Дело идет, не будем ему мешать. — Не бойтесь ничего, говорю я вам, синьор Замет. Сперанца слишком очарователен, для того чтобы я позволила этой француженке захватить его. О нет… бедный, милый Сперанца, она не завладеет им. — Ты его приберегаешь для себя, не правда ли? — спросил старый флорентиец с двусмысленным смехом. — Это самое большое счастье, какое только может с ним случиться. Но я слышу там хохот… — О, вино такое славное! — Такое же, как хозяин. Он идет, он идет! — Я бегу. — Напротив, оставайтесь. Я предпочитаю не секретничать. — Но кто ты для него, я должен это знать. — Я Элеонора Галигай, жена Кончино, состоящая под покровительством Марии Медичи. Замет сделал движение ужаса. — Несчастная! — вскричал он. — Ты сказала ему это имя? — Надо же было показать ему, что я не испанка и не авантюристка, недостойная его покровительства. — Но он может догадаться, что ты служишь здесь принцессе. — Как! Ведь и вы также флорентиец и в то же время добрый приятель короля и маркизы де Монсо, так как вы будете новым приятелем мадемуазель д’Антраг и всех других до тех пор, пока… — Молчи, он может услыхать. Эсперанс подходил, отыскивая итальянку. Он увидал ее под руку с Заметом, которого захватила эта хитрая женщина. — Как! — весело вскричал он. — Синьор Замет, вы уже поймали на лету флорентийскую горлицу. — Флорентийские горлицы, синьор Сперанца, — перебила Элеонора, оставив руку Замета и взяв за руку Эсперанса, — белые с розовыми глазками, а я черная, с глазами еще чернее. Я ворона. — Эта девочка, — сказал Замет, — захотела прийти сюда насильно. Она здесь, вы хозяин дома, и я оставляю вас. — Она в безопасности со мной, — сказал Эсперанс, смеясь. Элеонора бросила на него странный взгляд, как бы упрекая его в этих словах, которые другую успокоили бы. Замет поклонился и ушел. — Вот я к вашим услугам, — сказал Эсперанс, — но прежде позвольте мне задать вопрос. — Извольте. — Замет сказал мне, что вы желали быть у меня, а приметив меня, вы вскричали, как будто не ожидали меня видеть. — Это правда. — Когда так, это довольно странно. — Я не опровергаю. Но вы меня выслушаете, не правда ли? — Говоря эти слова, она нежно пожимала руку молодого человека. — Я пришла, — продолжала она, — оказать вам услугу или, по крайней мере, избавить вас от неприятности. — Благодарю. — Вы не подозреваете, какое участие вы мне внушаете… это признательность. — Добродетель великодушных сердец. — Я с нетерпением искала случая заплатить мой долг; случай представился, я пользуюсь им. — Но вы все-таки мне не объясните, — сказал Эсперанс, — каким образом вы пришли оказать мне услугу, не зная, что вы идете ко мне. — Не будем слишком распространяться об этом, это повлечет бесполезное рассуждение. Будем смотреть на результат. Однако я хочу быть с вами откровенна, потому-то, видите ли, синьор Сперанца, когда говоришь с вами, начинает ум, потом вмешивается сердце и прогоняет ум. — Добрая Элеонора! — Итак, я говорю, что я пришла сюда избавить вас, по всей вероятности, от неприятности. — А! — Да, я шла к хозяину этого дома с некоторыми идеями и с некоторым поручением. — Скучным? — Конечно. Когда я вдруг увидала Сперанца, лицо которого никогда нельзя забыть, тогда мои идеи переменились; вместо неприятности я приношу услугу. Элеонора, не довольствуясь тем, что держала Эсперанса одной рукой, оперлась на него обеими руками, такими же красноречивыми, как и ее глаза. — Мне поручили, — сказала она, — спросить у хозяина этого дома… заметьте, не у Сперанцы. — Спросить?.. — Какую женщину он любит, — медленно произнесла итальянка, погрузив свой блестящий взгляд в ослепленные глаза Эсперанса. Он быстро оправился, но его волнение не укрылось от Элеоноры. — Сперанца, — сказала она с волнением, — ты не принужден мне отвечать. — Этот вопрос, мой прекрасный друг, изменяет свою важность, смотря по тому, кто делает его. Вы делаете его? — Я не говорю, что у меня нет на это желания, Сперанца, — отвечала она страстным тоном, — но я слишком вам предана, для того чтобы лгать. Это не значило бы оказать вам услуги. А вы уверены, не правда ли, что я хочу оказать вам услугу и должна. — Я буду вам признателен, — сказал Эсперанс с волнением, потому что он старался скрывать любопытство, которое этот вопрос возбуждал в нем. Кто в самом деле старался узнать имя той, которую любил Эсперанс? Кто мог читать и, может быть, уже прочел это сладостное и ужасное имя в глубине его сердца? — Вы будете мне признательны за это? — спросила Элеонора с неопределимым жаром, который она почерпала, сама не отдавал себе отчета в том, в глазах Эсперанса и в соприкосновениях с ним, — скажите, что вы будете мне признательны за это. Он взял руку итальянки и поднес ее к губам. Она побледнела, и жгучий ток пробежал по ее жилам и зажег их, как один из тех ядов, которые поражают мгновенно. — Для меня будет невозможно сопротивляться вам, когда вы мне приказываете повиноваться, — прошептала она, — вы желаете знать, кто меня послал расспросить вас. Клятва не допускает меня произнести ее имени… но сделайте, что я вам скажу, и вы узнаете. Он с удивлением посмотрел на нее. — Я немножко ворожея, — сказала она, — не забывайте этого. Вот человек несет факел; это, наверно, один из ваших лакеев? — Да, и именно неаполитанец; он вас поймет. — Прикажите ему сделать то, что я скажу. Эсперанс позвал лакея и шепнул ему несколько слов. Этот человек почтительно подошел к Элеоноре, которая в свою очередь сказала ему на ухо: — Пойдите к последней сосне в аллее направо, и когда мы дойдем до двадцати шагов от вас, зажгите как бы нечаянно вашим факелом первую ветвь этой сосны. Потом вы ее отрежьте. Лакей смотрел на нее с изумлением. — Повинуйтесь, — сказала Элеонора. — Я велел вам повиноваться этой даме, — прибавил Эсперанс. Лакей поклонился и ушел. — Теперь, — сказала Элеонора Эсперансу, — смотрите хорошенько, где мы. — В аллее из сосен и лиственниц. — В конце которой есть стена? — Заметова. — На стене что вы видите? — Мы слишком далеко, а темнота слишком глубока, но я могу различить каменную вазу, из которой падает плющ… Но эта скотина неаполитанец зажжет мои деревья. — Смотрите все на это место, и приблизимся туда. Вдруг пламя сверкнуло на смолистой ветви и обдало красноватым отблеском бледное лицо Анриэтты, которая смотрела из-под своего лиственного убежища, и Эсперансу таким образом явилась страшная маска, искривленная ревностью и ненавистью. Он чуть было не вскрикнул; Элеонора сильно сжала ему руку, заставила его повернуться и продолжать прогулку в противоположную сторону с наружным спокойствием беззаботно прогуливающегося человека. — Анриэтта?.. — прошептал молодой человек. — Вас послала Анриэтта. Элеонора не отвечала. — Анриэтта хочет знать имя любимой мной женщины… Стало быть, она подозревает? — А разве она имеет причины подозревать? — спросила Элеонора. — Нисколько, — сказал Эсперанс с волнением, которое легко понять. — Однако вы взволнованы. Что я должна ей отвечать? — Что вы хотите, Элеонора. — Я должна ей ответить что-нибудь, Сперанца, и что-нибудь правдоподобное, потому что она не легковерна и ее нелегко обмануть. — Отвечайте ей… отвечайте ей, — вдруг весело сказал молодой человек, — что я влюблен в вас. Молния сверкнула из глаз итальянки. — Вы этого хотите? — сказала она страстно. Он взглянул на нее. Этот порыв испугал его. — А вы скоро охладели, синьор. — Нет… это вы все воспламеняете вашей непреодолимой веселостью. — Вы называете это веселостью? — Но… — Послушайте, Сперанца, будем говорить откровенно. Вид этого лица, который я показал вам на стене, возбудил в вас очень большой испуг. — Не стану отпираться. Испуг, однако, очень сильное выражение. — Итак, синьора Анриэтта попала метко. Вы опасаетесь, чтобы она не узнала предмет вашей любви. — У меня нет любви! — с живостью вскричал Эсперанс. — Необходимо это доказать этой женщине, Сперанца, потому что я знаю толк в физиономиях, а та, которую мы видели сейчас, очень угрожала вашему спокойствию. Как вы поручите мне доказать Анриэтте, что она ошиблась? Вы колеблетесь. Хотите я вам помогу, — прибавила итальянка с улыбкой, выражение которой ничем нельзя передать, — кажется, мне пришла в голову мысль. Эту услугу я намеревалась оказать вам, как только вас узнала. — Я согласен. — Есть только одно средство. Полюбите действительно кого-нибудь, и я скажу синьоре имя этой особы и докажу ей… что я не лгу. Неужели вам так трудно, Сперанца, сказать чье-нибудь имя? Здесь много женщин. Я сейчас смотрела на них, многие очень хороши. Если бы вы захотели выбрать… — Она говорила, задыхаясь. — Может быть, — продолжала она голосом едва внятным от волнения, — может быть, вам не нужно искать очень далеко, потому что вы должны знать, что Господь создал вас таким образом, что вместо того чтобы дышать, как другие люди, простым дыханием, вы дышите огнем любви; вы обладаете чарами, как говорят у нас. Кто вас видит, разгорячается; кто до вас дотрагивается — горит. Говоря эти слова, она дрожала и вся ее душа перешла в ее взгляд и в ее голос. «Опасность велика, — подумал Эсперанс, — для меня и для Габриэль. Вот две женщины сговорились против меня; одна моя смертельная неприятельница, другая меня любит. С этой я разрушу все влияние той; если захочу, я упрочу мою тайну… что я говорю? Я погублю Анриэтту. Что нужно, для того чтобы сделать из Элеоноры непобедимую союзницу? Пожатия руки, поцелуя, обещания; из тысячи мужчин ни один не колебался бы и каждый бы думал, что действует как благородный человек». Он провел ледяной рукой по лбу. — Ну что же? — сказала Элеонора, — отвечайте мне одно слово как искреннему другу. «Неужели я поступлю как подлец?» — подумал Эсперанс. — Я так и сделаю, Элеонора, — сказал он, — да, я поступлю с вами как с другом. Элеонора, вас послали узнать, люблю ли я кого-нибудь. Вы та женщина, которую я полюбил бы с большой радостью, если б мое сердце было свободно. Но оно несвободно. Я оставил в Венеции женщину, которую я люблю до безумия. Я поклялся ей любить ее всегда и безраздельно. Моя душа так создана, что я скорее умру, чем изменю этой клятве. О! я знаю, что надо мной стали бы смеяться, если б эта нелепая верность отсутствующей была известна свету. Но я говорю с женщиной, сердце которой говорило со мной. Вы меня поймете, Элеонора, когда я вам скажу, что с небольшой ловкостью я мог бы вас обмануть, и на несколько часов, а может быть, и на несколько дней, показал бы вам любовь, не принадлежащую вам. Вы меня поймете еще лучше, когда я прибавлю, что я не скрываю от себя затруднения моего положения, опасности, если вы хотите, которой меня подвергает моя грубая откровенность. Но если бы для отвращения этой опасности я изменил моей клятве, я не простил бы себе никогда, что отдал бы мои губы и мое тело другим, а не той, которая обладает моей душой. И она не простила бы мне этого; мое спасение зависело от моей неверности. Она умерла бы от горести, а я от стыда. Узнает ли она это? Скажет свет, может быть, нет; но я это буду знать и никогда не осмелюсь посмотреть прямо в глаза, каждое движение которых управляет движениями моей жизни. Вот мой ответ, Элеонора. Я не могу любить более одной женщины за один раз; может быть, когда-нибудь я перестану любить ту, которая обладает мной теперь. Кто знает, может быть, это случится завтра! Тогда я стану вас умолять, Элеонора, отдать мне то, чего теперь я не могу от вас принять, то есть самой очаровательной любви, какой только может гордиться честный человек. Окончив эти слова с нежной вежливостью, он поднес к губам холодную руку итальянки, которая смотрела на него, бледнея, но без гнева и упоения, которое мало-помалу проходило, чтоб уступить место дикому восторгу. — Хорошо, — сказала она после продолжительного молчания. — Но что ваш друг должен передать синьоре д’Антраг? Эсперанс смотрел на Элеонору с трогательным выражением великодушной откровенности. — Когда пользуешься счастьем, — сказал он, — иметь такого остроумного и деликатного друга, как вы, ему не предписывают, что надо делать, а доверяются его уму и сердцу. Элеонора пожала обе руки молодого человека и, уходя, шептала с мрачной горестью: — Вот как я хотела бы быть любимой! О, но эта женщина должна быть совершенна… Женщина, достойная Сперанцы!.. Я понимаю, что Анриэтта ревнует и хочет ее узнать. Пусть она ищет со своей стороны, а я пойду со своей!.. Да, найду; даю себе неделю, чтобы узнать имя этой женщины!Глава 52 УЛИСС И ДИОМЕД
Тотчас после ухода Элеоноры Эсперанс опять погрузился в печальные размышления, которые занимали его при начале разговора. «Опасность была бы велика, — думал он, — если бы я чувствовал к Габриэль ту обыкновенную любовь, которая неосторожно обнаруживается материальными доказательствами. Но как открыть то, что волнуется в глубине падших сердец? Может ли Анриэтта собрать мои вздохи и передать их Генриху Четвертому? Может ли Элеонора схватить, как улику, улыбку Габриэль, которую она посылает мне, и неуловимый поцелуй, летящий от ее души к моей? Никогда письмо, никогда свидание не обнаружат наших чувств. Пусть-ка мои враги попробуют погубить меня или повредить Габриэль. Вот, — прибавил он с меланхолической радостью, — выгода рыцарской преданности, и не многие понимают ее настолько, чтоб узнать ее и следить за ней. Никто не может настигнуть ее и загрязнить на той высоте, до которой она возвышается. Ни ненависть Анриэтты, ни страсть Элеоноры не помешают мне спать, когда все разъедутся, когда я останусь один и могу весь предаться Габриэль; пусть-ка отгадают ее имя в непроницаемых изгибах моего сердца!» Думая таким образом, Эсперанс подошел к своим гостям, которые уже приготовлялись к отъезду. Танцы закончились, музыканты замолкли, пламя последних свечей, дрожа от свежего утреннего дуновения, погасло. Случилось то, чего желал Эсперанс: он остался один. Однако он сожалел, что не простился с двумя друзьями, также уехавшими, без сомнения, а когда управляющий подошел спросить, доволен ли монсеньор праздником, Эсперанс, поблагодарив его, осведомился, в котором часу уехал Крильон. — Около двух часов тому назад, — отвечал управляющий, — кавалер де Крильон утомился от шума танцев, у него отяжелела голова, и он спросил у меня ключ от вашего кабинета. Он должен еще быть там. — Отворите мне дверь, — сказал Эсперанс. Управляющий повиновался. Тогда Эсперанс увидал Крильона на большом кресле, спящего так крепко, как он спал бы на своей постели, если б исполнил один все танцы всех танцоров. Эсперанс не хотел прерывать этого священного сна; на лице храброго кавалера было столько благородной ясности, столько прекрасного спокойствия! Эсперанс тихо затворил дверь и спросил управляющего: — А Понти хорошо ли веселился? — Кажется, монсеньор. — Куда он отправился — к себе домой или в гвардейские казармы? — Он здесь. Эсперанс искал глазами в зале. Управляющий, улыбаясь с лукавым видом, приподнял скатерть, под которой Эсперанс приметил две ноги, которые тотчас узнал по смешным кисточкам огненного цвета, которые украшали их. Он не мог удержаться от смеха и потащил к себе за ноги пьяницу, поднял его, посадил и порядком побранил. Понти раскрыл тусклые глаза и пролепетал несколько извинений. Он уверял, что пробовал любезничать с дамами. Он выставлял все обольщения своего ослепительного костюма; но ни алый бархат, ни серизовый атлас, ни разные вещицы, которые он на себя навешал, не принесли ему никаких выгод. Дамы в этот вечер смотрели только на хозяина дома и улыбались только ему. — Напрасно я говорил, что я твой друг, — продолжал Понти, — ни одна не оставалась со мной более двух минут. Правда, я танцую дурно, но я все-таки твой друг. Словом, видя, что я не имею ни прибыли, ни надежды, я прибегнул к неизбежному утешению. — Ты напился! — Какое славное вино! — Ты напился чересчур! — Скряга! — Вы пьяница и дуралей… вы заставляете меня краснеть за вас перед лакеями. Понти хотел протестовать, но его ноги отказались принять участие в его гневе. Он опять упал на стул, на который посадил его Эсперанс. — Завтра, — прошептал он, грозя. — Да, да, завтра, — прошептал Эсперанс, который не мог удержаться от смеха. В эту минуту к Эсперансу подошел лакей сказать, что с ним хочет говорить монах. — Монах? В такое время! Не нищий ли, привлеченный остатками ужина? — Нет, это не нищий. — Это, без сомнения, собиратель подаяний, — сказал Эсперанс. — Он сказал себе, что после удовольствия сердце более расположено к благотворительности, и я нахожу его мысль замысловатой. Несмотря на позднее время, пусть он войдет. — Он уже вошел, — сказал лакей, — и не ожидая ответа, пошел в сад, как будто всю жизнь жил в этом доме. Эсперанс посмотрел, что у него в кошельке, и пошел навстречу монаху. Тот, предмет любопытства для слуг Эсперанса, спокойно гулял на террасе между кустами и погасающими фонариками. Его высокий рост, закрытый капюшон, движение плеч, походившее на порыв некоторых больших птиц, когда они прыгают, поразили Эсперанса знакомым воспоминанием. — Женевьевец! — вскричал он. — Брат Робер! — Я сам, — отвечал он. — Здравствуйте, месье Эсперанс. — Добро пожаловать, любезный брат… Какой счастливый случай привел вас сюда? — Я проходил мимо, — сказал тот беззаботно, — как невероятно проходить из Безона мимо улицы Серизе в три часа утра. — Я предпочел бы, — заметил Эсперанс, улыбаясь, — чтобы вы нарочно пришли ко мне. — Я, конечно, пришел к вам… и к кавалеру Крильону. Он, кажется, здесь? — Да, брат мой. — Я пошел к нему от короля. Мне сказали, что вы даете бал и что кавалер у вас. Эсперанс велел одному лакею разбудить Крильона, между тем как женевьевец с холодным любопытством смотрел на Понти, который на своем кресле делал отчаянные усилия, чтоб возвратить употребление своих мыслей и ног. Брат Робер указал на него пальцем. — Да, — сказал Эсперанс, — это Понти, страшный пьяница, который даже вас не узнал, так он напился. — О!.. — прошептал Понти, вытаращив глаза, которыми он намеревался говорить за недостатком языка. — Он меня узнал, — спокойно сказал монах, повернувшись к Понти спиной и идя навстречу Крильону, который поспешно вошел. — Брат Робер здесь!.. — вскричал добрый кавалер. — Да, меня не пригласили, я пришел незваный. При этих словах, произнесенных с флегмой, свойственной этому странному человеку, Крильон и Эсперанс обменялись взглядом, который означал: он хочет что-то нам сказать. — Не сесть ли нам в моем кабинете? — сказал Эсперанс. — Нам хорошо и здесь, — сказал брат Робер. — Заприте двери! — закричал Эсперанс своим людям. Все пространство между гостиными и залой осталось свободно и пусто. Понти храпел на стуле. — Ну, брат Робер, — сказал Крильон, с нетерпением желая приступить к делу, — скажите нам, что привело вас сюда? — Удовольствие вас видеть. — Это конечно, а потом? — Мне кажется, что лицо любезного брата печально, — перебил Эсперанс. — Я действительно печален, — отвечал женевьевец. — Почему? — Я сейчас из Лувра и нашел короля в большом отчаянии. — В большом отчаянии? — вскричали в один голос и Эсперанс и Крильон. — Конечно… Неужели вы думаете, что возобновление междоусобной войны во Франции безделица? — Ах, боже мой! — сказал Крильон. — Где же междоусобная война? — Теперь в Шампани, кавалер, завтра в Лотарингии, послезавтра везде. — Но кто ее затеял? — Новый Валуа. — Этот мошенник ла Раме? — Он будет короноваться в Реймсе. — С ума, что ли, вы сошли, брат мой? — вскричал кавалер так громко, что разбудил Понти. — Ла Раме будет короноваться в Реймсе? — Ла Раме! — пробормотал Понти, отыскивая шпагу оцепеневшею рукой. — Сделайте милость, расскажите нам, как это возможно, — просил Эсперанс монаха, который только этого и желал. — Ла Раме или Валуа, как вы хотите, — отвечал он, — убежал из Парижа. Он нашел в провинции небольшое войско, которое собрала для него герцогиня. К этому войску присоединились испанцы, посланные Филиппом Вторым, потом недовольные; во Франции их всегда много. Вся эта сволочь признала или сделала вид, будто признает нового государя, а он, чтобы придать себе тотчас вид французского короля, идет к Реймсу со своей армией и хочет там короноваться. Вот и все; ничего не может быть проще. — Черт побери!.. А король? — сказал Крильон. — Их будет во Франции два, — спокойно отвечал брат Робер. — А королевская армия? — Их также будет во Франции две. Что я говорю? будет три, потому что у де Майенна все еще есть войско. — Надо же сделать что-нибудь, с отчаянием сказал Крильон. — Что? — спросил монах со своей невозмутимой флегмой. — Король ничего не придумает! Меня никогда в этом не уверят. — Король придумал кое-что, но если он не имеет средств привести в исполнение свои планы? — Ба!.. А может быть, эта коронация просто выдумка? — Нет, — с твердостью сказал брат Робер. — А! это другое дело, если вы знаете наверняка… Но откуда узнали вы эти слухи? — Будет долго вам рассказывать. Довольно вам знать, что я знаю это наверняка. — Расскажите, тьфу, к черту, это стоит того! — Нет. Это тайна исповеди. — Король знает? — Почти. Но я не хотел огорчать милого государя, он и так уже огорчен без меры. И он прав. Армия в Лотарингии, армия в Пикардии, армия на юге, недостаточно ли этого, для того чтобы истощить Францию? А теперь еще четвертую надо вести в Шампань. — Не считая того, что в это время могут сделать что-нибудь скверное в Париже, если король тронется отсюда, — сказал Эсперанс. — Именно, — подтвердил монах. — Вы оба перечисляете опасности, — вскричал кавалер, — а не скажете ни слова о средствах к спасению! — К спасению!.. — прошептал Понти. — Старайся молчать, — сказал Крильон, смотря на него искоса, — а то я выцежу из тебя все вино, которым ты напился. — Не может ли предложить нам какой-нибудь хороший способ наш брат Робер? — продолжал Эсперанс. — Его мудрость должна внушить ему средства, если я не ошибаюсь. — Мудрость говорит: уничтожь причину, и уничтожится действие, — отвечал монах. — Хороша штука; это разумеется само собой! — сказал Крильон. — Уничтожить ла Раме, не будет междоусобной войны. Но как его уничтожить? — Это трудно, — произнес брат Робер, не показывая ни малейшего волнения. — Его хорошо оберегает его армия, то есть два или три полка лигеров. Крильон с гневом кусал усы. — Хороша армия! — продолжал он. — Пусть мне дадут двести человек, и я всю ее перевешаю. — Вам не дадут двести человек, — сказал монах, — а если и дадут; то эти мятежники вас ждать не станут, они будут отступать перед вами до тех пор, пока увеличатся до такой степени, что будут в состоянии решиться на сражение. — Ну а после сражения? — Междоусобная война, — холодно сказал брат Робер. — Этого именно надо избегнуть. — Уж не хотите ли вы уничтожить армию, не сражавшись с нею? — иронически спросил Крильон. — Да, я хотел бы, — отвечал монах, устремив проницательный взор на воина. Эсперанс понял, что у женевьевца есть готовая идея, и сосредоточил все свое внимание на том, чтобы угадать ее. — Гигант пожрал бы или раздавил этих пигмеев, — продолжал Крильон, — но мы живем уж не в те времена. — Вы такой же гигант, какими были герои Гомера, — сказал женевьевец, — и вы способны сделать все, что делали они. — Вы думаете? — добродушно спросил Крильон. — Кавалер, в продолжение вашей героической карьеры вы делали кое-что побольше того, чтобы входить в лагерь похищать лошадей. — Лошадей Реза[300], — сказал Эсперанс. — Я учился этому в моих юных летах, — сказал Крильон, — да, Улисс и Диомед среди всей армии, это прекрасно, но трудно. — Я понимаю, — сказал Эсперанс, — надо размозжить голову этому негодяю среди его армии, и междоусобная война кончится. — Это правда, — просто сказал Крильон. — Это правда, — повторил женевьевец, — только убить его будет недостаточно. — Как это? что вы еще хотите прибавить? — Я предпочел бы, для безопасности государства, чтоб самозванца представили в суд и судили публично. — И казнили, — добавил Крильон. — Это правда, черт побери! Я назовусь Диомедом! — А я Улиссом, — сказал Эсперанс. Монах встал. — Я мог бы, если б вы согласились, оказать вам довольно важную услугу, — сказал он. — Я провел бы вас в самый центр этой армии. — Как это? — закричали Крильон и Эсперанс. — У меня теперь в монастыре три испанских офицера с хорошими паспортами к новому государю. Они проговорились приору дом Модесту, который, как вы знаете, олицетворенная проницательность. То немногое, что они высказали о своих замыслах, было для него достаточно, чтобы угадать все. Он тотчас отправил меня в Париж уведомить короля. Но я нашел его величество в таком унынии, что у меня недостало сил сообщить ему подробности. Я надеялся укрепиться в разговоре с вами, и Господь послал мне успех. — Но эти разбойники испанцы не станут вас ждать, и пока вы здесь, они отправятся дальше. — Они будут меня ждать, — спокойно сказал монах. — Как вы можете это знать? — Я их запер. — Военных! Они шпагами выбьют двери. — Я велел отнять у них шпаги. — Они выскочат в окно и унесут свои бумаги. — Я позаботился, чтобы с них сняли платье. Испанцы люди скромные, они не захотят бегать голые по дороге. Крильон расхохотался и обнял брата Робера. — Ну, пойдемте же! — вскричал Эсперанс. — Поедемте, — сказал кавалер, взяв женевьевца за руку. Вдруг что-то загородило им путь. Это был Понти, о котором они забыли. Он кричал: — И я поеду, черт побери! — А, это ты! Спи! — сказал Эсперанс. — Прочь! — вскричал Крильон. — Я… понял… — пролепетал Понти. — Будут драться. — Мы не берем пьяниц; пьяница — враг. А если ты понял важное дело, которое мы задумали, пусть это будет наказанием, способным исправить тебя навсегда. — Эспе… ранс… — пролепетал Понти, стараясь уцепиться за своего друга. — Ступай спать, говорю я тебе! Мы сядем на лошадей, а ты не можешь даже держаться на ногах. В самом деле, стараясь освободиться, молодой человек заставил пьяницу полететь через всю комнату. Понти стонал и старался сложить руки с умоляющим видом. — Я тебе запретил, — серьезно сказал Эсперанс, — напиваться до потери рассудка. Ты мне поклялся и не сдержал клятву. Бог наказывает тебя. Понти рыдал, но от опьянения не был способен сделать ни малейшего движения. — У негодяя есть сердце, — сказал Крильон, — но он пьян как извозчик; он сейчас заснет. Оставим его и пустимся в путь. Эсперанс и монах быстро вышли и направились к конюшням. Они сами помогли конюхам оседлать лошадей. Эсперанс унимал собак, которые, видя приготовления к отъезду, лаяли, чтоб их не забыли. — Полно, Кир, полно Рюсто! — говорил молодой человек. — Ваши друзья лошади уходят на такую охоту, где собаки бесполезны. Оставайтесь на цепи; мы поговорим об охоте, когда я ворочусь. Он поласкал лань, — прошептал очень тихо имя той, которая прислала ее, и вспрыгнул на седло, как только ему подвели его лошадь. Через несколько минут три всадника скакали по дороге к Безону. Эсперанс набросил темный плащ на рясу и капюшон женевьевца, который, переодетый таким образом, не походил на монаха. Между тем Понти, уцепившись за стол, успел встать. Все вертелось в его голове. Стаканы, серебряные блюда, золотые кубки танцевали страшную круговую пляску. — Негодяй! — бормотал он, стараясь удержаться на ногах. — Ты пьян… ты дрожишь… ты вертишься… Он ударил себя в лицо. — Подлец… ты обесславлен… станут драться, а тебя там не будет! Ты опротивел твоим друзьям. Вот тебе, дуралей, вот тебе, пьяница, вот тебе, поганая свинья! Он сопровождал каждый эпитет ударом кулака. Слуги, спрятавшиеся за дверями, смотрели на него с ужасом и уважением. «Если он найдет ножик на столе, он способен себя убить», — думали они. Но от ударов кулаком кровь полилась из лица; Понти еще метался, но рука тверже хваталась за стол; он с радостью смотрел, как лилась его кровь, из которой исчезало его опьянение. — Воды! — закричал он страшным голосом. — Воды негодяю Понти! Ему подали графин, который он с жадностью выпил, пролив порядочно на усы и на грудь. — Хорошо, я теперь силен. А, они уехали! Ну и я поеду. Лошадь! Он направился, описывая кривые круги, к конюшне, которую старались от него запереть. Но его бешенство разрушило бы все препятствия; принуждены были оседлать ему лошадь; только надеялись, что он не будет в состоянии на нее сесть. Но страшная воля этого человека повелевала даже непослушной плотью. Десять раз он пробовал сесть и десять раз падал. Плача от бешенства, вне себя от отчаяния, он взял шпагу в руку и закричал испуганным лакеям: — Злодеи! Если вы мне не поможете, я всех здесь перережу! Сделайте милость, мои добрые друзья… умоляю вас! Растроганные лакеи — они любили этого доброго молодого человека и к его пьянству не имели такой строгости, как их господин, — подошли и хотели убедить Понти, что он делает бесполезные усилия. — Вы не нагоните их, — сказал управляющий, — они уехали, не сказав, куда они едут, и они уже далеко. Останьтесь, останьтесь!.. Мы позаботимся о вас. Понти чуть было не лишился мужества при этом новом препятствии. Но услышав лай, он закричал: — О мой Кир! О мой Рюсто! Они сумеют найти Эсперанса… Выпустите их, выпустите, я поеду за ними. Он влез на седло; отвязанные собаки запрыгали от радости и бросились вперед, нюхая след. Понти опустил левую руку, уцепился правой рукой за седельную луку, и лошадь быстро устремилась по холодному утреннему ветру.Глава 53 КОРОЛЬ ТЕБЯ ТРОНЕТ, ГОСПОДЬ ТЕБЯ ИСЦЕЛИТ
Новый король французский ла Раме основал свой лагерь близ Реймса, в старом загородном доме, который служил ему в одно время и крепостью и дворцом. Там-то он предавался химерам, там он мечтал о богатстве и любви. Окруженный солдатами, которые старательно оберегали его и число которых увеличивалось каждую минуту, он занимался, как деятельный и умный человек, вооружением их, в то же время стараясь уверить народ, что законная ветвь королей, последняя надежда Франции, удостоила почтить своим присутствием город Реймс, где делаются короли. Множество людей, праздных, легковерных, как все те, кому нечего делать, посещали ла Раме и уходили очарованные. Он имел то благородство стана и лица, которое согласуется с понятиями, которые составляют себе о королевском достоинстве: взгляд у него был светлый и гордый, даже немножко жестокий, принцев Валуа, преемником которых он называл себя. Не было ли этого довольно, для того чтоб зеваки, которых всегда было много во Франции, приписывали ему много прав и воздавали большое уважение? Ла Раме думал гораздо более о прочном. Его хорошо оберегали. В окружности одного лье его полторы тысячи воинов разместились с некоторым стратегическим искусством, а сообщения от этих линий с главной квартирой, где находился начальник, были устроены таким образом, что, как в паутине, ни до одной нити в окружности нельзя было дотронуться незаметно от центра. В один весенний вечер, свежий и чистый, замок нового государя представлял зрелище более странное, чем царственное. На большом дворе, превращенном в парадный, стояли телохранители его величества ла Раме, то есть около двухсот испанцев или бешеных лигеров, между которыми наблюдатель узнал бы много лиц, которых мы видели у герцогини Монпансье в день провозглашения последнего Валуа. Посреди двора, под большим каштановым деревом, возвышалось нечто вроде трона. Бедное, старое кресло, еще великолепное в тени большой пыльной залы, из которой его вытащили, как будто пугалось чести, которую ему делал яркий свет дня, несмотря на обои, снятые со стены и замысловато прицепленные к ветвям дерева, чтобы служить балдахином над троном. Обои, которые не выбирали, потому что других не было, представляли мученичество какого-то католического святого. Он изгибался с веревкой на шее — гибельное предзнаменование — среди толпы палачей и римских воинов в уродливых касках. Там и сям художник рассыпал на земле гвозди, раскаленное железо, топоры, ножи и стрелы — словом, все принадлежности пыток. Но хотя на эти обои любопытно было посмотреть, зрители оставляли их без внимания для зрелища еще более странного. На двор приносили на носилках или привозили в телегах с тюфяками и соломой больных жалкой наружности, за которыми шла толпа поселян или горожан. Офицеры нового короля ставили этих больных в ряд с правой стороны трона, зрителей с левой, и взоры всех звали монарха, который одним прикосновением должен был вылечить этих несчастных, если он действительно был французским королем. За два дня перед тем ла Раме получил из Парижа записку, в которой заключались только эти слова:«Надо вылечить золотушных».
Так как он не мог не узнать руки, начертавшей эти слова, так как к записке была приложена порядочная сумма, назначенная на издержки для этой церемонии, ла Раме хотел повиноваться своей покровительнице; это было средством нанести сильный удар суеверных умам в провинции; это было присвоение преимущества, особенно принадлежавшего французскому королю. Ла Раме собирался вылечивать золотушных перед своим народом. Отыскали и нашли людей, страдавших этой ужасной болезнью. Это были больные, которых, как мы видели, поместили с правой стороны трона, в ожидании прибытия короля. Действовал ли он как шарлатан, обманывающий толпу? Нет, он серьезно взялся за эту роль. Сумасбродная любовь этого несчастного развивала в нем страсть к величию и представлению. Имея дело с гордой женщиной, он хотел повелевать ею и возбудить в ней восторг к себе, а единственным способом к этому было посадить ее на трон, потому что она добивалась трона. Ла Раме, игрушка судьбы, походил после своего поступления в короли на того человека в арабских сказках, каждое честолюбивое желание которого всемогущий калиф исполнил. Пиры, дворец, корону — это дается ему все на день, а вечером бедняга падает с этих высот на солому, где его ждут отчаяние и мрачное помешательство. Ла Раме грезил наяву. Он верил искренно, что он король, потому что ему было нужно быть королем, и никто так не верил его королевскому происхождению, как он сам. Когда он показался в передней своего дворца в старинном костюме времен Карла Девятого, когда его встретил звук труб и говор толпы, говор почтительного удивления поразил его слух, он гордо выпрямился, и Карл Девятый не отрекся бы от подобного преемника. Его телохранители с трудом сдерживали толпу. Он приказал пустить ее приблизиться к нему. Потом, направляясь с величественным видом к больным, которые бросались ему в ноги, он дотрагивался до их лба и шеи белым и нервным пальцем, произнося твердым голосом употребительные в таком случае слова: — Король тебя трогает, Господь тебя вылечит. Между больными Реймса было несколько так искусно подготовленных, что их выздоровление было немедленным. Они поднялись и с криками восторга показали народу свое тело, очищенное как бы по волшебству. Чудо было очевидно. Эти чудесные исцеления, может быть, стоили дорого герцогине Монпансье, но успех превзошел издержки, и убежденные зрители кричали с заразительной энергией: — Да здравствует король! Ла Раме не сомневался ни минуты в своей королевской силе. Несчастный, он так любил Анриэтту! После церемонии, когда он получил поздравления своего войска, двух-трех аббатов-фанатиков, когда реймские дамы поднесли ему подарок, состоявший в королевской мантии с полным одеянием, молодой человек, жаждая сообщить свое торжество своему кумиру, заперся у себя, и вместо того, чтоб благодарить Бога или просить у него милостей, слепец написал Анриэтте письмо, которое должно было сообщить этому скептическому сердцу благоприятное впечатление, произведенное реймской церемонией. «Да, — писал он, — я король. В эту минуту я слышу повсюду крики: “Да здравствует король! Да здравствует Карл Девятый!” Сердце мое сладостно волнуется, потому что эти крики означают больше, нежели они говорят; это потому что, мой прелестный и нежный друг, они хотят сказать: “Да здравствует королева Анриэтта, жемчужина красоты, благородная супруга нового государя!” Итак, вы скоро получите эту корону, которая одна только может прибавить красоту вашему челу. Я приобрету ее в жестоких битвах может быть, но тем лучше, потому что это доставит славу моему имени, а вы славу любите. Как я горд и счастлив! Прежде я сомневался. Ваше сердце казалось закрыто для меня навсегда. Я не знал, что вы столько же благоразумны, сколько и прекрасны, а ваши надзиратели безжалостны и многочисленны. Но в этом последнем испытании, где вы открылись мне, мне блеснула наконец ваша мысль. Вы мне улыбнулись, вы меня спасли, вы пожали мне руку. А между тем я почти оскорбил вас накануне, и если бы вы меня не любили, мщение для вас было бы легко… Благодарю. Я никогда не забуду вашего сострадания и сладостного обещания. Я не забуду также поощрений, которые вы сумели переслать мне после моего прибытия сюда. Потребен был весь ваш ум и частичка вашего сердца, чтобы преодолеть столько затруднений. Отныне все будет для меня легко. Как только я буду в состоянии выдержать кампанию, вы можете присоединиться ко мне. Я с нетерпением желаю окружить вас королевской пышностью. Мои офицеры сообщают мне о заговорах, которые каждый день составляются против похитителя престола, ренегата Генриха Наваррского. Вчера еще несколько солдат пришли предложить убить его среди Лувра, среди его сарданапальских удовольствий, которыми он бесстыдно наслаждается. Но корона, которую он носил, делает его священным для меня. От короля к королю эти преступления невозможны. Я не покушусь на его жизнь иначе, как на поле битвы. Там другое дело, и я горю желанием доказать этому мнимому герою и его гвардейцам, слывущим непобедимыми, что рука Валуа умеет победоносно владеть шпагой. Живите, однако, без опасений, моя милая душа; по мере того как время уходит, мне кажется, что я приближаюсь к вам. Много мрачных идей, зловещих воспоминаний изглаживаются перед лучезарным светом, окружающим меня. Эта мрачная туча прошла и растает от блеска молнии. Битвы теперь не замедлят. Я жду близкого подкрепления. Король испанский присылает ко мне трех своих лучших офицеров, вслед за которыми идет войско, отправившееся уже неделю назад. Я посоветуюсь с этими офицерами, как завязать сношения в самом Париже, где, меня уверяют, уже заметно волнуется прежняя лига, которую я хочу возобновить в качестве католического принца. Как только дела мои решатся, я буду короноваться в Реймсе. Не приедете ли вы туда, милая душа? Не отдадите ли вы мне этого дня, чтобы загладить тот горестный день, когда Беарнец отрекался в Сен-Дени, куда вы отправились вместе с вашими родителями, где я был неизвестный и брошенный; потом мы отправились вместе в Безонский монастырь… Жестокое воспоминание, за которое должна бы уже отомстить слава, но которое еще горит в глубине моего сердца!.. Да, вы приедете в Реймс. Не правда ли? Что-то говорит мне, что вы столько же храбры, сколько прекрасны, и что вы с гордостью захотите доказать мне ваше великодушие. Притом, вы заинтересованы в моем торжестве и можете подвинуть его вашими советами и вашим присутствием. Если вы составили какой-нибудь план для путешествия, если вам должно обмануть бдительность ваших родителей, скажите одно слово, я пришлю вам одного из моих трех испанских офицеров, пришлю денег, лошадей и паспорта, чтобы приехать ко мне. Я жду этих офицеров с часу на час. Это письмо будет вам отдано завтра. Вы можете мне отвечать через три дня. Сделайте это без опасения: посланный будет надежный. Прощайте, милая душа. Сохраните мне ваше сердце. Я люблю вас с такой силой, что если я употреблю только часть этой горячности на завоевание, я через год завоюю весь мир. Карл, король». Бедный ла Раме вложил всю свою душу в эти страницы. Он верно изобразил свою жизнь: угрызения, стыд, ужас; он ничего не забыл в прошлом: надежду, гордость, необузданную любовь; он ничего не забывал в будущем. Образ этой прелестной Анриэтты, этого демона, терзал его одиночество; она казалась ему привлекательнее сквозь препятствия. Чтобы иметь ее возле себя, он вступал в борьбу со всей Францией. Может быть, для того чтобы сохранить ее, он не принял бы все короны Вселенной. В его глубокой душе происходила отчаянная борьба между рассудком и безумием. С неутомимой логикой, он чувствовал иногда ничтожество своей мечты; в другие минуты он упивался своими желаниями, которые побуждали его к неистовству, к бреду. Подобным грезам, разрушающим организм, божественная премудрость почти всегда приготовляет быстрое пробуждение. Когда ла Раме перечел свое письмо, старательно поправляя то, что казалось ему слишком холодно, прибавляя там и сям слово, способное подстрекнуть соревнование или жадность Анриэтты, он отдал письмо одному из своих поверенных с приказанием немедленно отнести его по адресу. Потом он поехал верхом делать смотр своему лагерю и обеспечить спокойствие на ночь. В этом безумце были задатки хорошего офицера и храброго человека, если бы демон не раздул свое пламя в глубине его души. Ла Раме объехал при наступлении ночи передние посты, осмотрел каждую караульню, сделал нужные распоряжения, для того чтобы линии не могли быть разбиты неожиданным нападением. Он выслушал донесения своих лазутчиков. Никакого войска, никакого отряда не виднелось в окрестностях на двадцать лье кругом. Ла Раме приказал начальникам постов в авангарде допустить к нему, если явятся, трех испанских офицеров с паспортами, печать и содержание которых он объяснил. Если эти офицеры придут пешком, им дадут лошадей, если приедут верхом, им дадут конвой, и сейчас дадут знать об их прибытии в главную квартиру. Для всякого другого кроме этих офицеров линии были закрыты. Курьеры, разумеется, составляли исключение, потому что они знали пароль. Ла Раме удостоверился в благоприятном действии, которое произвело на его войска излечение золотушных. Он собирал там и сям благоприятные сведения о расположении народонаселения, и уезжая объявил о быстром прибытии сильного подкрепления и важных сумм. Итак, все шло хорошо; новый король, приветствуемый криками солдат, воротился в главную квартиру шагом, наслаждаясь гордостью и любовью, двойным упоением сердца и мозга. Его ждал ужин, к которому он пригласил главныхначальников в своей армии. Кушанье было хорошее, вина вдоволь. В Шампани дурно смотрят на того, кто не хочет пить произведения великолепного винограда. Но ла Раме, человек трезвый, только подливал своим гостям. Пили за славу престола, за победы Франции, за здоровье католического короля, говорили о знаменах, об экипировке войск, о сражениях и засадах, а особенно о контрибуциях. Война стоит так дорого, особенно война междоусобная. Ужин, несмотря на сдержанность короля, продолжался до одиннадцати часов вечера и грозил продолжиться за полночь, когда быстрый топот раздался во дворе и скоро вошел солдат, доложивший ла Раме о прибытии к первым постам испанских офицеров, о которых он предупреждал. Он встал из-за стола и тотчас отпустил своих гостей. — Господа, — сказал он, — подкрепление, которое я вам обещал, явилось. Я, разумеется, проведу ночь в разговоре с этими офицерами, которые люди с достоинствами и посланы ко мне его величеством королем испанским. Караульте хорошенько, господа, и подадим хорошее мнение о нашей бдительности и о дисциплине прибывшим союзникам. Присутствующие почтительно поклонились; король прошел в парадную залу и отдал необходимые приказания, для того чтобы офицеры были к нему приведены, как только они прибудут в замок.
Глава 54 КОГТИ ПРОЗЕРПИНЫ
Три человека явились вечером к аванпостам ла Раме. Верхом все трое, запечатленные все трое тем типом дворян и воинов, которых Франция привыкла давно узнавать в испанцах, они были отведены к начальнику поста, и один из них, молодой человек прекрасной наружности сказал по-испански, что его товарищи ни слова не понимают по-французски, и показал рекомендательные письма и паспорта. Осмотрев эти документы, начальник поста узнал трех офицеров, о которых он был предупрежден. Он отдал приказание проводить их в главную квартиру. Эти испанцы, спокойная, сдержанная внешность которых согласовалась с характером их нации, проехали таким образом фланги и с любопытством наблюдали каждый пост, и не говоря ни слова, понимали друг друга, обмениваясь взглядами или пожатием руки, когда глаза их встречали что-нибудь стоящее того. Устройство было хорошо. Паролем обменивались каждую минуту. Испанцы приехали в главную квартиру через полчаса. Тут конвои удалился, чтобы дать сведение часовым, караулившим дворец. Испании остались одни, пока пошли доложить ла Раме. Они воспользовались этим, чтобы стать треугольником таким образом, чтобы видеть приближение шпиона, и в продолжение нескольких секунд разговаривали с живостью и шепотом, заключив разговор пожатием руки. Когда эти испанские офицеры сошли с лошадей, можно было лучше судить об их наружности. Один был человек пожилой, без сомнения начальник. Он зябко кутался в свой плащ, как настоящий испанец; он был дороден и сед. Два других были моложе его и поправляли один свою шпагу, которая сошла со своего места во время езды, другой шпору; одну он потерял в дороге. Все трое смотрели на здание, называемое дворцом солдатами ла Раме; они измеривали, так сказать, вышину и толщину, как чистые испанцы, гений которых, как известно, состоит в том, чтобы оценить низко всякую собственность, не принадлежащую им. Пришли наконец предупредить их, что король дает им аудиенцию. Они переглянулись, как бы спрашивая, кто пойдет первый. Старший тотчас пошел вперед и двое других последовали за ним, не произнося ни слова. Они услышали в передней голос, который говорил: — Вы уверяете, что эти офицеры ни слова не знают по-французски. Я это предвидел и знаю настолько по-испански, чтобы разговаривать с ними. Ступайте же и наблюдайте, чтобы никто нам не помешал. Если мне понадобится кто-нибудь, я позову. Этот голос заставил их вздрогнуть. Один из младших офицеров, низенький, широкоплечий, покраснел и толкнул своего товарища, который холодно отвечал: — Король! — Да, господа, — сказал вестовой, — это действительно говорил король. Улыбка, мелькнувшая на их лицах при этом ответе, уже исчезла, когда проводник воротился к ним и сказал: — Войдите, господа. Ла Раме сидел возле стола, на котором горели свечи. Он внимательно перелистывал бумаги испанцев; он нашел в тексте рекомендации короля испанского верные признаки участия, которое имели к нему за Пиренеями. Будучи озабочен, а также и, для того чтобы выказать более достоинства, он ожидал, чтобы шум шагов на полу замолк, для того чтобы поднять голову и посмотреть на своих гостей. — Добро пожаловать, сеньоры, — сказал он по-испански. Офицеры медленно подошли и остановились. Ла Раме поднял глаза и точно увидал привидения: рот его раскрылся, кровь застыла в жилах. Прямо перед ним стоял Крильон, с правой стороны Эсперанс, с левой Понти. Менее храбрый человек лишился бы чувств от страха. Ла Раме наклонился вперед, как бы, для того чтобы проникнуть сквозь магический туман, который распространился между ним и настоящими испанцами, но как обманываться долее? Лицо Крильона было мрачно, лицо Эсперанса серьезно, лицо Понти насмешливо, с оттенком свирепой ненависти. — Во-первых, — сказал ему Крильон, — так как вы нас узнали, не шевелитесь и не кричите; вы знаете, что случится, и вы настолько умны, чтобы угадать наши намерения. Говоря эти слова, он сделал знак Понти, который подошел к ла Раме с длинным кинжалом в руке. — Говорите с нами, если хотите чего-нибудь, — сказал кавалер, — но шепотом и чтобы никто не пришел сюда. А не то, отправив вас на тот свет, мы отправим и того человека, а я считаю бесполезным столько убийств. Оцепенение и испуг ла Раме невозможно описать. Впрочем, испуг был гораздо слабее оцепенения. Смелость подобного безумного покушения остановила в нем даже разум. Оцепенение его простиралось до такой степени, что он позволил Понти снять с него портупею и обезоружить без малейшего сопротивления. Наконец это опьянение прошло, кровь приняла опять свое течение, врожденное мужество в этом человеке утишило биение сердца. — Если вы пришли меня убить, — сказал он своим врагам, — зачем это уже не сделано? — Мы пришли не для этого, — отвечал Крильон, — однако мы не отступим от этой крайности, если вы нас принудите. Но до сих пор я не нахожу ее необходимой. — А может быть, это и случится, — сказал ла Раме, — потому что я не баран, чтобы молчать всегда, как я это сделал в первую минуту удивления. — Удивление естественное, которого я не порицаю, — отвечал кавалер. — Самый храбрый человек может быть иногда удивлен, я даже вам скажу, что вы недурно приняли это. Пока он говорил, ла Раме собрался с мыслями. Он походил на борца, который, сбитый с ног первым ударом, приподнимается и принимает лучше свои меры. — Я вижу, господа, — сказал он, — что вы сделали большую ошибку и что вы погибли. Эсперанс не пошевелился, Понти удвоил ироническую угрозу, Крильон тихо покачал головой. — Не думайте этого, — сказал он. — Извините. Вы сказали, что от меня зависит остаться в живых или быть убитым. — Совершенно. — В этом весь ваш расчет. Вы сказали себе: он испугается смерти и будет молчать. — Мы действительно это сказали себе. — Из двух одно: или я буду молчать, что вы сделаете со мной? или я закричу, и вы меня убьете… что сделаете с собой? — Я не совсем понимаю, — сказал Крильон. — Да, если я буду молчать, вы заставите меня подписать что-нибудь, мое отречение, например… Положим, что я подпишу его. Как вы выйдете из лагеря? А если вы меня убьете, еще хуже, что скажут мои солдаты? Ваша безопасность во всяком случае подвержена сомнению. — Милостивый государь, — сказал Крильон, — вы рассуждаете так хорошо, что с вами приятно разговаривать. — Да, но разговор не должен быть продолжителен, — сказал ла Раме, — потому что вас могут узнать. — Благодарю; оставайтесь только спокойны и не думайте о нас, потому что мы знаем, что делаем. Да, мы убили бы вас, если б в первую минуту вы позвали на помощь; мы убьем вас и теперь, если вы это сделаете, потому что солдаты обыкновенно бросаются как бульдоги на тех, на кого им показывает их господин, а мы не хотим быть убиты до объяснения. Но позовите спокойно в окно, или позвольте одному из нас позвать ваших главных офицеров, даже солдат, если вы предпочитаете, мы готовы. — Драться против трех тысяч! — сказал ла Раме, смеясь принужденно, но смеясь над этим фанфаронством. — Нет, но не надо меня подзадоривать, однако. Я, конечно, паду. Нет, мы не будем драться против вашей армии; мы прочтем бумаги, которые у меня в кармане, и битва сделается невозможна. — Что такое в этих бумагах? — холодно спросил ла Раме. — Позовем ваших солдат, если вы хотите, и вы узнаете это в одно время с ними. Вы колеблетесь. Я вижу, что вы человек благоразумный. — Я понял, — сказал ла Раме, — что вы постараетесь развратить моих солдат каким-нибудь обещанием короля или даже быть может клеветой. — Я им докажу просто, что вы такой Валуа, какой я ла Раме, и это их охладит. — Милостивый государь, — вскричал молодой человек, побледнев от гнева, — докажите! — Я согласен, — сказал Крильон, подходя к окну в то время, как Понти дотронулся острием своего оружия до тела ла Раме. В дверь тихо постучались. Лоб ла Раме прояснился; он хотел закричать. Понти прижал свой кинжал, лезвие кольнуло. Эсперанс протягивал уже руки, чтобы принять труп. — Я задвинул задвижку, — сказал Крильон, — отоприте, Эсперанс, и впустите всех, кого хозяин захочет принять. А вы, Понти, вложите кинжал в ножны. Лицо ла Раме посинело. По избытку храбрости он не закричал, но эта уверенность его врагов смутила его. Он растерялся. — Если бы я хотел, — прошептал он, — мы погибли бы все вместе; но полета моей судьбы вы не остановите. Мне предназначено быть счастливым и знаменитым, несмотря на ваши бумаги и кинжалы. Крильон улыбнулся и пожал плечами. Явился мажордом. — Государь, — сказал он, — посланный, отправленный вами сегодня вечером, воротился. — Воротился? — пролепетал ла Раме, смутившись от молнии радости, которая сверкнула в глазах его врагов. — Зачем он воротился? — О, государь… и в каком состоянии… Крильон приблизился к ла Раме. — Вы не понимаете, — шепнул он ему на ухо, — хотите я вам объясню, зачем он не продолжал свой путь к Парижу? Ла Раме дрожал. — Потому что мы его остановили, — продолжал Крильон, — и отняли у него письмо. — Ступай, — сказал ла Раме мажордому, который ждал. — Ступай! Дверь затворилась. — Да, — продолжал Крильон, — это письмо, вместе столь нежное и столь подробное, это образцовое произведение любви и политики в наших руках; оно не дойдет по адресу. Вот почему ваш курьер воротился. Ла Раме не мог верить ушам; все в нем дрожало; глаза его как будто жадно кричали: говорите! объяснитесь! скажите мне! — Мы подъезжали к вашему лагерю, — с недоверчивостью сказал Крильон, — и каждая фигура была для нас подозрительна, это разумеется само собой. Вдруг мы встретили вашего курьера. Мы трое загородили ему дорогу, он сосчитал нас и сказал: — Бьюсь об заклад, что это испанцы, которых мы ждем в Реймс. — Да, — отвечал по-испански Эсперанс, который знает прекрасно этот язык. — А меня ждут в Париж, — продолжал ваш курьер. Тут нечего было колебаться, мы арестовали негодяя и взяли от него письмо вашей любовницы. Хорошенькая девушка, не правда ли? — Как! вы ее знаете? — с трудом проговорил ла Раме, отирая пот, выступивший на лбу. — Знаем ли мы Анриэтту д’Антраг, жемчужину красоты, как вы говорите? Спросите у Эсперанса, знает ли он ее; ведь вы чуть не убили его за нее? — О! — заревел ла Раме, затронутый в сердце больше ревностью, чем кинжалом. — Кавалер, — шепнул Крильону великодушный Эсперанс, — пощадите этого несчастного. — Полноте! — вскричали Понти и полковник. — Сделайте милость! Это сострадание было последним ударом для ла Раме, он почти без чувств упал на стул. — Анриэтта!.. — прошептал он. — В прекрасное положение поставили бы ее, — продолжал Крильон, — она теперь ваша сообщница. — Моя сообщница? — Конечно, участница мятежа, посягательства против безопасности государства и особы короля — словом, всех ваших преступлений, которые исчислены в этом письме. — Ах, боже мой! — вскричал ла Раме. — И самое меньшее, что может случиться с этой восхитительной особой, это быть повешенной; но я думаю, что она будет сожжена… — Живая, — прибавил Понти со свирепым хохотом. — Это правда, это правда… — сказал ла Раме с волнением, — ее можно компрометировать; но это письмо с вами? — Еще бы! — Ну! — заревел молодой человек. — Мы все здесь умрем; я позову и заставлю убить вас или сам вас убью. Я не хочу, чтобы эта женщина терпела хоть малейшее подозрение из-за меня. — О! о! будем же резаться… когда так, — сказал Крильон. — Я возьму это письмо на ваших трупах! — прибавил ла Раме с бешенством. — Отдайте его мне, это будет лучше. — Но разве вы принимаете нас за идиотов? — кротко сказал кавалер. — Неужели мы были бы так неблагоразумны, что принесли бы вам такой интересный документ?.. О нет! — Где оно и что вы с ним сделали? — спросил молодой человек, которому эти слова казались слишком вероятными. — Оно в руках одного человека, который должен отдать его нам, когда мы воротимся. Если мы не воротимся завтра в полдень, этот человек, надежнее вашего, будет продолжать свой путь и отдаст письмо реймского короля парижскому. Тогда-то мадемуазель д’Антраг должна будет иметь дело с президентами суда. — Она погибла! — сказал ла Раме с самым трогательным отчаянием. — Господа, господа, вот этот удар поражает меня. Господа, пощадите эту невинную молодую девушку. Она невинна, клянусь вам! — Вы слепы, — сказал Крильон, — это мошенница. — Господа, вы дворяне, вы не употребите ваши силы против женщины. Она будет наказана за то, что была великодушна. Она была моей невестой, господа! — Это не мешает женщине быть повешенной, — флегматически сказал Понти. — О! кавалер… Ах, храбрый Крильон! Посмотрите, прошу ли я какой-нибудь пощады для меня. Нет, убейте меня, я подставлю горло… Поражайте, но пощадите бедную женщину. — Это невозможно, — сказал Крильон, — мы будем принуждены сделать здесь страшную огласку. Если вы умрете, придется заниматься вашей смертью, и мы не поспеем в полдень к тому месту, где нас ждет наш товарищ, и завтра утром письмо будет отдано Генриху Четвертому. Вы напрасно дадите себя убить, я напрасно буду говорить всем вашим людям, что вы ложный государь, я напрасно истреблю испанцев, потому что они не сдадутся — они знают слишком хорошо, что их ожидает — я напрасно погибну с моими двумя товарищами, ваша судьба, как вы говорите, тем не менее отразится на вашей сообщнице, и виселица будет готова для всей этой семьи гадин, которых называют Антрагами. — Ну, — сказал ла Раме с величественным движением, — не нужно огласки, не нужно шума, не нужно битвы. Вы будете в полдень на назначенном месте. Вы будете там через два часа, если только два часа пути отсюда до того места. — А! — сказал кавалер, пораженный, так же как и его друзья, величественным ореолом, который великая любовь набросила на чело виновного. — Вам нужен я, не правда ли, — сказал молодой человек, — а не она? Вам нужно мое бесславие, мое осуждение, а не казнь бедного существа, которое я люблю. Я согласен. Я мог бы дать убить себя здесь, вы получили бы тогда только половину победы. Возьмите меня живого, вы меня унизите, вы меня осудите. Только пощадите ее! Три товарища переглянулись с удивлением. — О! не подозревайте никакой засады, — перебил молодой человек, — засады нет. Я действую откровенно. Но прежде поклянитесь мне именем Крильона, что это письмо не спрятано здесь на одном из вас. — Клянусь, — сказал Крильон, — я никогда не был клятвопреступником. — Знаю. Этого довольно. Мы поедем все четверо. Вы видите, доверяюсь ли я чести. Мы приедем к вашему товарищу, он отдаст вам письмо, которое вы ему вверили, вы отдадите его мне, и потом я принадлежу вам. — Вот человек! — не мог удержаться, чтобы не сказать Крильон. — Который был бы человеком прекрасным… — прибавил Эсперанс. — Если бы Прозерпина не оцарапала его когтями, — пробормотал Понти, — но она оцарапала и как еще глубоко, черт побери! — Ну, господа, вы согласны? — спросил ла Раме, дрожа, чтобы ему не отказали. — Решено! — вскричал кавалер. — И вы хорошо сделали, что так скоро повели дело. Я избавлю вас от всех бесполезных страданий. Я имел намерение лишить вас похищенных вами прав в присутствии всей вашей армии, я имел для этого все необходимые доказательства. Теперь я этого не сделаю. Вы вошли сюда королем для этих негодяев, королем вы и выйдете. — Я просил только о милости, — холодно сказал ла Раме, — я ее получил, мне нет никакой нужды до остального. — Ну, поедем же, — сказал Крильон. — Поедем, — повторили его друзья. Ла Раме позвал своих людей и спокойным голосом сказал: — Лошадей этих господ и мою лошадь. — Будем осторожны! — шепнул Понти на ухо Эсперансу. — Негодяй уже спасся от веревок попрочнее этой. — Месье де Понти, — грустно отвечал ла Раме, услышавший эти слова, — не остерегайтесь, это бесполезно; цепь, которой вы меня держите на этот раз, я не буду даже стараться разрывать. Обратившись к офицерам, которые мало-помалу появлялись во дворе, он сказал: — Я поеду на рекогносцировку с этими господами. Когда его приветствовали криками: «Да здравствует король!», которые заставили Крильона подпрыгнуть на седле, он прошептал с таким трогательным выражением, что Эсперанс растрогался до глубины души: — Прощай, королевство! Через несколько минут кавалькада молча проезжала лагерь под предводительством ла Раме.Глава 55 КАК ЛИГА ПОБИЛА ИСПАНЦЕВ И НАОБОРОТ
Маленький отряд доехал таким образом до местечка Олизи, где ждал таинственный спутник, обладатель письма. Ла Раме горячо желал доехать скорее. Без оружия, бесстрашный, погруженный в глубокую задумчивость, он во всю дорогу не подавал повода к беспокойству своим стражам. В Олази, в гостинице, нашли того, кого Крильон ожидал там найти. Это был брат Робер, который от скуки занял место у окна первого этажа и смотрел на всегда оживленный зрелищный рынок в маленьком городке. Ла Раме не казался удивлен, очутившись в присутствии монаха. Он понял тайный союз этих людей; он чувствовал, что его судьба разбивается о неизбежный подводный камень. Безропотно покорный судьбе, как фанатики арабы, он не выказал ни горечи, ни недоверия. — Мы успели, — сказал Крильон женевьевцу, — благодаря вашему содействию, и я думаю, что герцогиня побеждена. Ей теперь нечего больше делать. Ла Раме подавил вздох, пока рассказывали о его преданности и поражении. Монах отвел Крильона в сторону и шепнул ему: — Остерегайтесь, чтоб у вас не отняли его на дороге; хотя мы держали эту экспедицию в секрете, слух о ней мог дойти до герцогини и засаду устроить недолго. Вы понимаете, как важно для сообщников помешать признаниям виновных. За вами следовал кто-нибудь из Реймса? — Не думаю, мы ехали скоро. Между тем ла Раме с нетерпением говорил Эсперансу: — К чему совещаться таким образом? Мы приехали. Вот ваш товарищ. Где письмо? — Это правда, — отвечал Эсперанс и пошел прервать разговор Крильона и монаха. Крильон поспешил спросить письмо у брата Робера. Тот вынул его из кармана, но не отдал ла Раме, который жадно протянул руку. — Когда он получит письмо, вы с ним не сладите, — сказал он вслух. — Это правда, брат мой, — отвечал Крильон, — но я обещал. — Это письмо, — упорно продолжал женевьевец, не обращая внимания на судорожный гнев, начинавший волновать ла Раме, — есть вместе и улика его преступления и доказательство его сношений с самыми жестокими врагами короля. Он не один заслуживает наказания. — Я купил это письмо моею жизнью, оно мое! — закричал ла Раме. — Я обещал, — повторил Крильон, — надо отдать. — Это должно было уже быть сделано, кавалер де Крильон, — сказал ла Раме, ногтями раздирая себе пальцы. — Отдайте, когда он будет в Париже, господа, — перебил женевьевец. — Это значило бы изменить моему слову, — сказал Крильон. — Отдайте, брат Робер, отдайте письмо этому молодому человеку. — Спасение государства и короля выше вашего слова! — вскричал брат Робер. — Выше данного слова нет ничего, — сказал Эсперанс. Женевьевец подошел к Эсперансу и сказал ему вполголоса с выразительным взглядом: — Это письмо погибель женщины или, лучше сказать, чудовища, которое, если вы его не задушите, погубит Габриэль. Эсперанс вздрогнул. Почему брат Робер говорил ему это так таинственно? Стало быть, этот странный человек знал и угадывал все? Понти громко и сильно держал сторону монаха. — С изменниками, — говорил он, — всякая страсть законна. Но Крильон уже краснел от презрительного взгляда ла Раме. Он взял письмо из рук брата Робера и подал его побежденному без условий и комментариев. Ла Раме поспешно распечатал, прочел и спросил огня. Эсперанс поспешил принести ему огня из соседней комнаты. Тогда пленник сжег роковую бумагу и разбросал на ветер пепел, или, лучше сказать, дым, за которым он следил глазами до тех пор, пока он исчез. С этой минуты он сел и не выказывал более признаков беспокойства, даже внимания к тому, что происходило около него. Но Крильон и женевьевец рассуждали горячо. Несколько раз кавалер казался не согласен со своим собеседником, однако после наконец уступил. Крильон подошел к Понти и Эсперансу и отвел их в сторону. — Вы отведете пленника в Париж, — сказал он, — брат Робер последует за вами. Вы ускорите шаги и при малейшем признаке помощи, предложенной ла Раме, без всякой нерешимости раздробите ему голову. — Будьте спокойны, полковник, — отвечал Понти. — Он ни на что не покусится, — возразил Эсперанс, — теперь он мертвый; но зачем вы оставляете нас, кавалер, можно вас спросить? — Я? — заметил Крильон. — Затем что мне неприятно уезжать из этой страны, оставляя в ней тысячу человек, вооруженных против нашего короля Генриха Четвертого. Брат Робер уверяет, что без начальника они сами разбредутся, а я говорю, что герцогиня, или испанец, или де Майенн могут придать опасную жизнь этому мятежному телу. Я хочу их уничтожить. — Вы один? — У меня есть план, не беспокойтесь. Мне остается посоветовать вам, Эсперанс, не доверять вашему нежному сердцу. Подумайте, что этот ла Раме должен быть колесован на Гревской площади. Не будьте беспечны. — Бедный безумец! — А вам, Понти, простили ваше вчерашнее пьянство, вы загладили ваш проступок хорошей услугой с той минуты, как вы нас догнали. Однако вы заметите, что собака Рюсто лучше вела себя при этом. Но если вы отсюда до Парижа дотронетесь до рюмки, которая пахнет вином, я велю вас повесить как негодяя. — Полковник, полковник! — бормотал гвардеец. — Пощадите меня и удостойте исправлять иначе, чем угрозами. Устроив все таким образом, Крильон отправил отряд. Ла Раме ехал между Эсперансом и Понти, брат Робер сзади с пистолетом, который он скрывал под рясой. Крильон дал письмо женевьевцу к губернатору Шато Тьери, которого просил дать пленнику конвой и посадить его в закрытую повозку, из опасения, чтобы его сходство с Карлом Девятым не возбудило подозрения в стране. Пленник вежливо поклонился Крильону и сказал ему: — Если мы не увидимся, позвольте вас поблагодарить. Простите мне и забудьте меня. — Может быть, я сделаю что-нибудь получше, если вы будете продолжать вести себя благоразумно, — отвечал Крильон. Он повернул лошадь и поехал обратно. — Что хочет он сказать? — спросил ла Раме. — Он мне отвечает, как будто я просил у него милости. — Молчите, бедный гордец, — перебил Эсперанс кротким и серьезным голосом, — кавалер хочет сказать, что добрый христианин никогда не должен отчаиваться ни в людях, ни в Боге. Вы молоды, горизонт кажется вам несколько ограниченным в эту минуту, но за этим горизонтом есть другие. Вы увидите, как они раскроются перед вами. Ла Раме с удивлением смотрел на него. Он не понимал прощения обид и не верил этому в других. Приехавши в Шато Тьери, губернатор исполнил просьбу Крильона, и путешествие совершилось быстрее и без всяких приключений, достойных замечания. Между тем Крильон нашел лагерь ла Раме в смертельном беспокойстве. Исчезновение начальника не объяснялось. Офицеры искали, осведомлялись, разговаривали шепотом, солдаты начинали переглядываться и требовать, чтобы им показали короля Карла Десятого. Испанцы захотели узнать, что сделалось с тремя их офицерами, приезду которых весь лагерь накануне радовался. Караульни в авангарде не знали ничего, кроме того, что видели, то есть, что ла Раме уехал с этими офицерами, которые провожали его на рекогносцировку. Беспокойство перешло в испуг. Решили послать собрать сведения у главных начальников предприятия, у де Майенна и герцогини Монпансье. А пока осмотрели окрестности до Олизи, где ла Раме останавливался со своими похитителями. Известие, которое узнали там, было ужасно. Король уехал в Париж. Король казался скорее пленным, чем повелителем. Король исчез. Эти известия, привезенные в лагерь, произвели там действие самое ужасное. Раздался барабанный бой, солдаты взялись за оружие, испанцев обвинили в измене, потому что король исчез с испанцами. Те оправдывались неудовлетворительно, потому что понимали еще меньше французов, что случилось. Одни уверяли, что если три испанца, посланные Филиппом Вторым, увезли короля, то верно для какого-нибудь важного намерения. Им отвечали, что когда увозят начальника и прячут его, не давая о нем известия, то это называется изменой. От слов перешли к оскорблениям, от оскорблений к ударам. Началась драка. Расплачивались за старые долги. Кровь потекла и ослепила сражающихся. В эту-то минуту приехал Крильон. Раненый, которого он встретил, объяснил, в чем дело. Этот человек был умен; он рассказал кавалеру, что если бы эти люди могли понять друг друга, они сейчас перестали бы драться. Но добрый кавалер не разделял мнения раненого. Он нашел это зрелище приятным. Он стал на возвышение; видеть, как дерутся испанцы и лигеры — это благословение небесное. Крильон от удовольствия кусал свои седые усы, но испанцы, воины опытные от продолжительной войны, не поддаются, они собираются в домах соседней деревни и ограждают себя баррикадами, между тем как их лучшие карабинеры поражают там и сям самых ожесточенных лигеров. Скоро должна наступить минута объяснения, потому что лигеры пересчитывают своих раненых и мертвых. Но это не нравится Крильону. — Французы побеждены испанцами, черт побери! — закричал он и бросился в середину сражающихся. Лигеры, уже взбешенные, что их побили, и бесясь еще больше оттого, что их упрекают в том, спрашивают, кто этот неизвестный человек, бросающийся таким образом среди ружейных выстрелов. — Это я, Крильон, — говорит старый воин, — разве вы меня не узнали? — Крильон! — повторяют французы, удивленные и испуганные. — Стало быть, вас атаковали королевские войска? — спросил один лигерский офицер. — Сейчас будете атакованы, — отвечал Крильон, — за мной идет авангард. — Через измену испанцев! — вскричал офицер. — Точно так. — Смерть испанцам! — вскричали сто голосов около кавалера. — Вперед! — заревел Крильон, огненная шпага которого наэлектризовала все французское войско. Все спешат на его голос, под его начальство. Двери домов выбиты, дома горят. Испанцы сдаются; но Крильон не слышит. Резня продолжается, трупы накопляются, красный шарф испанский исчезает под потоками крови. Напрасно несколько беглецов стараются убежать, их ловят и безжалостно убивают. Крильон говорит тем, кто требует пощады: — Король вам простил и отослал вас из Парижа, приказав не возвращаться. Вы воротились — сами виноваты. Когда все кончилось, когда остались в живых только французы, они, хотя радуясь своей победе, с беспокойством смотрели на кавалера, который ждал, сидя на своей лошади, чтобы восстановились порядок и тишина. Крильон остался доволен: ни одного испанца и тридцатью лигерами меньше. — Ну, лигеры, — сказал он, — знаете ли вы, что вы сделали? Вы заключили мир с настоящим королем. У вас вчера был король ложный. Это был призрак, посланный вероломными испанцами, и вы были так глупы, что служили ему. Вы не знаете, куда он девался. Он сдался настоящему французскому королю и сегодня оставил ваш лагерь, он едет в Париж принести покорность нашему государю. Молчание отчаяния и ужаса царствовало в толпе, которая чувствовала себя во власти этого смелого победителя. Крильон, спокойный, как будто за ним стояло сто тысяч человек, прибавил: — Чего вы боитесь? Я объявляю вас свободными; отправляйтесь к себе домой, если хотите, я даю вам слово, что вас преследовать не станут. Но, скажете вы, куда нам деваться? карьера наша кончена. Ну воротитесь со мной в Париж. Вы поступили как храбрецы и с вами поступят как с храбрецами. Если вам нужны деньги, вам дадут; повышение я вам обещаю; это, я думаю, лучше, чем репутация убийц, изменников и нищета. Ваш начальник бросил вас, испанцы вас обманывали, истинный француз вас зовет. Следуйте за Крильоном, вы знаете, чего стоит его слово. Головы заволновались, быстрые и жадные взгляды совещались. Потом, как будто одна и та же мысль вдруг блеснула в тысяче голов, лигеры закричали: — Испанцев больше нет! Да здравствует Франция! — Да здравствует король! — прибавил Крильон. — А то ничего не будет. — Да здравствует король! — повторили новообращенные. Крильон чувствовал, что нельзя терять ни минуты. Он велел наскоро собрать лагерь, позвал офицеров, обласкал их, обещал им, чего они хотели, и повез с собой, предоставив солдат самим себе, в уверенности, что тело всегда следует за головой. Этот отряд офицеров был увезен с такой быстротой, Крильон дорогой вез их в таком порядке и так искусно, в каждом городе хитрый воин так ловко окружал их верными войсками, поддерживавшими обращение, что в невероятно скорый промежуток в Париж явилось все, что недавно называлось армией короля Карла Десятого. Крильон устроил этот отряд в Сен-Мартенском предместье, придал ему самый благоприятный вид и повел в Лувр этих лигеров, которые неделю тому назад угрожали огнем и кровью всей Франции. — Государь, — сказал Крильон королю, который не верил глазам, — я привел к вашему величеству полк волонтеров, которые уничтожили в Шампани испанские гарнизоны. Они желают знать, что сделалось с ла Раме, самозванцем Валуа, который раздувал там мятеж и называл себя величеством. — Он в тюрьме в Шатле, — сказал король с улыбкой, — и теперь начался его процесс.Глава 56 ПЕРВАЯ ОХОТА
Король отправился на охоту в Сен-Жермен. Но пошел дождь, охоты быть не могло. Провели день довольно скучно в старом замке, и король, вместо того чтобы рыскать по лесу, работал, играл или спал. Двор скучал еще больше его. На другое утро только приехали дамы. Генрих встретил Габриэль, которую нашел грустной и холодной, несмотря на ее усилия преодолеть себя. Погода не располагала к веселости: она была серая, неприятная; тучи бежали, полные снегом, которого не смели послать на землю, потому что была весна, но снег мстил за это, распространяя на пути своем декабрьский холод. Но деревья распускали зеленые листья и птицы пели в лесу. Под зелеными сводами дубов расстилались изумрудные ковры, испещренные цветами. Природе недоставало только солнца. Оно все оживило бы на земле — растения и сердца. Генрих повел Габриэль в цветник, где искусство садовников силилось заставить цвести лилии и розы, которые через две недели сами распустились бы великолепно. Маркиза была закутана в меховую мантилью; король, как воин, пренебрегающий временами года, прогуливался в весеннем костюме — в полукафтане лилового цвета и в белых панталонах. — Как вы мрачны, маркиза, — сказал король, взяв за руку Габриэль, — вы дрожите и дуетесь. Это верное представление погоды. — Я признаюсь, государь, что мне действительно холодно и плечам и уму. — А сердцу? — Я не говорила о сердце, государь, — кротко сказала Габриэль. — Вы на меня сердитесь, что я вызвал вас из Парижа, маркиза, вы предпочитали Париж? Габриэль покраснела. Может быть, ветер сделался холоднее. — Я никогда не имею предпочтения, — отвечала она, — не посоветовавшись с желанием короля. — О, как эти слова были бы приятны и хороши, если б их внушила не одна безропотная покорность! — вскричал Генрих. — Ну, маркиза, откройте мне ваше сердечко. С некоторых пор вы меня принимаете очень холодно. В чем вы меня упрекаете? Разве я переменился? Или вы сохранили вашу прежнюю ревность? Говоря таким образом, Генрих проницательным взором следил за каждым оттенком честной физиономии Габриэль, и это любопытство не показывало в добром короле совершенное спокойствие совести. Габриэль не обнаружила ничего, что оправдало бы предложения Генриха. — Нет, государь, — отвечала она развязным тоном, который совершенно успокоил короля. — Это удивило бы меня, — прибавил он, — потому что мое поведение теперь примерно. Габриэль улыбнулась без горечи. — Я бросил все, что может вас огорчать, — сказал король, — право. Притом, в мои лета уже следует быть благоразумным; ведь я сед и не имею ли я возле себя самую ангельскую женщину! Он нежно пожал руку Габриэль. Но облако не улетело с чистого чела маркизы. — Если я печальна, в этом король не виноват, — отвечала она. — Кто же виноват? — Я, я сама, я пугаюсь всего, у меня такой несчастный характер. — Но какого рода огорчение можете вы представлять себе, маркиза? Предоставьте это бедным венчанным мученикам, на которых раз двадцать в день падает непредвиденное страдание. Те имеют право иметь болезненно-чувствительную душу. Но вы окружены людьми, которые снимают цветы с вашего пути. Итак, если вы только сами не отыскиваете, по привычке, женщин… — Нет, — с живостью перебила Габриэль, — мои горести не так химерны, как ваше величество предполагает. Не имею ли я неизлечимую рану презрения моего отца? — О, вашего отца!.. Вот это презрение вовсе не тревожило бы меня. С тех пор, как он назначен начальником артиллерии, предпочтительно перед Сюлли, граф д’Эстре не должен бы презирать вас, мне кажется. — Государь, он в глубине сердца имеет против меня большую неприязнь, а дочь не может видеть без сожаления, как к ней изменился нежнейший отец. — Не говорите мне этого, маркиза; этот нежнейший отец был самый свирепым тюремщиком. Вспомните Буживаль и горбуна Лианкура. Полно, полно! если вы сожалеете об этом отце до такой степени, что дуетесь на меня, я вас обвиню в неискренности и буду думать, что вы придираетесь ко мне по какой-нибудь тайной причине. Габриэль вздрогнула. — Право, государь, — отвечала она, — вы не хотите понять моего положения. Неужели я должна объяснять его такому гибкому уму, такому деликатному сердцу, как ваше? Как! Я, будучи безукоризненной девушкой и из хорошего дома, теперь любовница короля! Я должна гордиться этой честью, которая бесславит меня. Если б вы знали, как народ называет меня! — Народ вас любит за вашу доброту. — Нет, народ ненавидит меня за то, что я занимаю место, где он хотел бы видеть законную жену, которая дала бы вам дофинов и принцесс. Народ женится, государь, и уважает брак. — А! если вы упрекаете меня этим, — сказал Генрих с унынием, — если моя кроткая Габриэль ссорится со мной по поводу вещей условленных… — Сохрани меня Бог, государь! Разве я честолюбива? разве я жадна? разве я когда-нибудь вмешивалась в дела вашего государства? Или вы считаете меня настолько тщеславной, настолько глупой, чтобы забыть мое ничтожество? Государь, судите обо мне хорошо, только ваше мнение может утешить меня за мнение других; отдайте мне, по крайней мере, справедливость и не приписывайте расчетам горечь, которая изливается из моего сердца. — Знаю, знаю, — прошептал Генрих, который верил бескорыстию этой великодушной души. — Но жалоба доказывает, что вы страдаете, а видеть ваши страдания, это для меня пытка. — Я не требую ничего более, — с живостью сказала Габриэль, — для меня достаточно этого одного слова моего короля. Как только вы поняли, что я страдаю, как только вы жалеете обо мне, я довольна, я буду стараться утешиться, излечиться от этой печали, которая неприятна вашим взорам. Сказав эти слова, она подняла голову и как будто отряхнула слезы со своих длинных влажных ресниц. — Моя бедная Габриэль, — тихо произнес король, доброе сердце которого было обмануто этой невинной хитростью, — ты страдаешь — да, я это знаю; тебя заставляют в эту минуту терпеть несправедливости, которые я примечаю более, чем мог сказать — тебя, добрейшую, совершеннейшую женщину, которая когда-либо приближалась к трону! Негодяи! Они не умеют ценить этой души, которая, вместо того чтобы мстить, плачет, а потом спешит скрыть свои слезы. Но имей терпение! Я не властелин у себя, Габриэль. Меня теснят со всех сторон; Валуа ла Раме, злодейка герцогиня со всеми своими Шателями, де Майенн — надо расправляться со всеми. Теперь не время думать о делах моего сердца. Имей терпение… настанет день, когда я буду предписывать законы другим, и тогда я заставлю уважать Габриэль. — Государь! — вскричала маркиза. — Ваша доброта заходит далее моей горести, простите меня. Я была сумасшедшая. Должна ли я бросать горечь в чашу, из которой ваше величество почерпаете забвение своих важных забот? Нет, государь, я счастлива, очень счастлива, я сказала все это из женского каприза. Я не жалуюсь ни на что, простите мне. Вот посмотрите, солнце пробивается сквозь тучи, оно освещает в природе все; посмотрите, глаза мои блестят, веселый луч спускается до глубины моего сердца. — Вы превосходная женщина, Габриэль, — прошептал взволнованный король, целуя ее в лоб, — а я исполню то, что я сказал… Только он кончил эти слова, когда на конце той аллеи, где они прогуливались, показался ла Варенн, секретный посол Генриха, репутация которого была слишком хорошо известна при дворе. Этот добродетельный человек скромно стоял к ним спиной и смотрел на левкои и буквицы со вниманием, доказывавшим его сельские вкусы. Король его видел, но не показывал вида. Маркиза его приметила и засмеялась. — А! секретный посол его величества, — сказала она. — Где? — спросил Генрих. — Вон там, государь; он наклонился, так что касается носом фиалок. Пусть он будет осторожнее, бедняжка! — Для чего? — Когда он наклоняется таким образом, у него из карманов могут выпасть любовные записочки. — Вы всегда насмешливы, моя Габриэль. — Без злости, государь, клянусь вам. Но позовите его; он, может быть, хочет вам что-нибудь сказать. — Серьезное, это может быть. Я поручил ему привезти мне известие о парижском процессе. — Вы ваши процессы выигрываете всегда, — сказала Габриэль и потащила короля навстречу ла Варенну. Тот видел это движение и счел благоразумным избегнуть встречи с Габриэль; он удалился, срывая цветы, до соседних кустов сирени. — О! — сказала Габриэль. — Я, кажется, его пугаю. — Экий скот! — пробормотал король сквозь зубы. — Он точно прячется от вас. Эй, Фуке! эй, негодяй! Фуке было настоящее имя этого человека, который прежде был дворецким у Екатерины Наваррской, сестры короля, и разбогатев, переменил имя Фуке на маркизство ла Варенн. Когда нового маркиза называли Фуке, он понимал, что настала гроза. Он навострил уши и подбежал к королю, делая тысячу извинений Габриэль, веселость которой все увеличивалась. Генрих, который был так умен, не должен ли был заметить, что женщина, смеявшаяся таким образом, когда дело шло о ревности, не должна быть очень пламенно влюблена? Но, увы! Умные люди часто бывают слепы. — Что это, — сказал король, — ты как будто бежишь, когда тебя зовут. Игра, что ли, это? — О государь! Я не видал ни вашего величества, ни маркизы. Эти кусты скрывали от меня ваше августейшее присутствие, а то я не позволил бы себе нюхать цветы. — Он заставит меня умереть от смеха, — сказала Габриэль, — спасите его, он тонет. — Нет, — перебил король, — он не имеет причины путаться. Ну, привез ты мне известие о процессе? — Привез, государь; но не все еще кончено. Судьи еще рассуждают о наказании. — А обвиненный? — Этот ла Раме держит себя очень хорошо при допросе; он рисуется, как будто какой-нибудь живописец находится тут, чтобы снимать с него портрет; но как он ни вертись, голова его нетвердо держится на плечах. Когда прения кончатся, первый президент обещал мне прислать нарочного к вашему величеству с уведомлением, прежде чем приговор будет произнесен. — Вы видите, — сказал король Габриэль, — что ла Варенн на этот раз просто парламентский пристав. — Ба! ба! — отвечала маркиза. — Поищите-ка хорошенько в его карманах. Хотите, я вам помогу? Ла Варенн принял вид сокрушения, который удвоил веселость Габриэль, но он затруднился бы отвечать, когда на рубеже леса послышался выстрел и отголоски повторили его до горизонта. Лай собак раздался вдали и смолк. — О! о! — сказал король. — У меня охотятся и убивают, как кажется! Кто это охотится в Сен-Жермене, когда мои собаки в конуре, а мое ружье не снято с крючка? — Государь, — сказал ла Варенн, — это кавалер де Крильон, который с утра охотится за зайцами. — Крильон!.. — отвечал король, развеселившись. — Мы отобедаем вместе. Он один? — Он с этим красивым молодым господином, таким богатым, которому ваше величество дали право охоты. — С Эсперансом, может быть, — сказал король равнодушно и не смотря на Габриэль, которая при этом имени почувствовала, как вся кровь бросилась ей в лицо. — Да, государь, с месье Эсперансом. — Ну, поедем верхом к ним навстречу, — сказал Король. — Хотите, маркиза? Погода прекрасная, и зато нагуляем аппетит. — Охотно, — отвечала Габриэль, сердце которой билось от радости. — Я оденусь для верховой езды, — сказал король, — пойдем, ла Варенн. — А я совсем готова, — сказала Габриэль, — и подожду моей лошади, прогуливаясь на этом теплом солнце. — Я прошу у вас только несколько минут, — вскричал король, — поскорее, поскорее, ла Варенн, чтобы не заставить ждатьмаркизу! Габриэль, упоенная сладостной надеждой, облокотилась на каменную балюстраду, облитую теплым светом, и благодарила Бога, богатые милости которого нигде не обнаруживались так великолепно, как в этом месте, самом чудном из его творений. Пока она погрузилась в свои страстные мечты, Генрих продолжал путь к замку, а ла Варенн старался своими маленькими ногами догнать его. Только что они вошли в комнату, где камердинеры стали одевать его величество, как ла Варенн, воспользовавшись выходом лакеев, шепнул: — Государь, маркиза меня очень испугала своей шуткой обыскать меня. — Почему это, ла Варенн? — Потому что она нашла бы кое-что в моих карманах, государь. Королю подали сапоги. — Что такое? — спросил Генрих в промежуток, когда камердинер вышел. — Вашему величеству известно, куда я послан был вами. — Это так, но у тебя в кармане нет комплимента, который я тебе поручил передать, или даже тех, которые поручили тебе? — Нет, но… На короля надели шпоры и плащ. — Ла Варенн даст мне хлыст и шляпу, ступайте, — сказал король. — Продолжай, ла Варенн. — Вот что мне отдали к вашему величеству. Он подал королю записку, который поспешно ее прочел:«Любезный государь! Воспоминание о вас смущает мои ночи и мои дни. Как можно жить, страдая таким образом? Как можно жить без этих восхитительных мук? Великодушное сердце Генриха поймет меня, потому что я сама себя не понимаю. Анриэтта».
— Какое волнение! — сказал восхищенный король. — Это безумная страсть, — прибавил тихо ла Варенн. — В самом деле? — Бред. Представьте себе, государь, вакханку — о, да такую красавицу! — И маленький человечек вытаращил свои бесстыдные глаза, подражая взгляду тигра или кошки. Пылкий король задрожал всем телом. Он, без сомнения, вспомнил ножку нимфы на понтуазском пароме. — Да, — прошептал он, — она очень хороша. — Что ваше величество прикажете?.. Что я буду ей отвечать? — Я подумаю. — Маркиза изволит ждать ваше величество, — пришел сказать конюший. Король вздрогнул и заторопился. — Эта милая маркиза, — вскричал он, — поедем! Найди меня где-нибудь в стороне, ла Варенн; я дам тебе ответ. Ах, записка! Он опять прочел ее и бросил в огонь, повторяя: — Не надо никогда заставлять ждать дам. Через несколько минут он сидел на лошади, но прежде держал стремя маркизе, которую осыпал предупредительностью и нежными ласками, чтобы вознаградить, без сомнения, за неверность своего неисправимого ума. Король и Габриэль взяли с собой только конюшего и пажа. Генрих знал все перекрестки леса и охотился хорошо. Он прямо направился к охоте. Рюсто и Кир, эти славные собаки, напали на косулю и вместе с другими собаками рыскали по королевскому лесу. Генрих ехал прямо, Габриэль следовала за ним в некотором расстоянии. Конюший по правую его руку раздвигал ветви рогатиной. Генрих скоро встретил Крильона, который ждал пешком с охотничьим ружьем в руке, и закричал ему: — О, храбрый Крильон! Не прими короля за косулю. — Государь, какая приятная встреча! — вскричал Крильон, подбегая с распростертыми объятиями и веселым видом к своему королю. Генрих тотчас сошел с лошади. На луке седла лошади Крильона висели два фазана и заяц. — А, вот как ты истребляешь мою дичь! — сказал король. — Это не я, государь, я не сделал еще ни одного выстрела, это Эсперанс. Вот стрелок! — Он опустошит мои владения, — сказал король смеясь. — Где он? Я должен его похвалить. В ста шагах раздался выстрел. — Вот, — сказал Крильон, протянув руку в ту сторону, — прибавьте косулю к списку. Собаки замолкли. В чаще скоро показался человек, раздвигавший ветви одной рукой, а другой таща жертву. Это был Эсперанс, который при виде короля удивился и смутился. Крильон громко хохотал. — Маркиза, — сказал Генрих Габриэль, которая в эту минуту выехала на прогалину, — посмотрите, как обирают бедного короля. Эсперанс вскрикнул при виде своей прелестной приятельницы. Она уже послала ему обещанную улыбку. Она была румяна от радости; он был бледен. Все это волнение было приписано браконьерству. — Какой славный зверь, — сказал король, щупая косулю, — и какой жирный, несмотря на время года. — Я его убил для вашего величества, — отвечал Эсперанс. — Вот это хорошо, — возразил Генрих, — и вы съедите вашу долю, молодой человек. Пойдем, Крильон, я должен с тобой говорить. Обняв рукой шею Крильона, Генрих увел его за несколько шагов, оставив Эсперанса и Габриэль одних, друг против друга, в середине прогалины с ослепительно блестящей зеленью. В глазах конюшего и пажа, которые стояли в почтительном расстоянии, они могли, с трепещущим сердцем, но со всеми признаками самой церемонной вежливости, обменяться следующим разговором: — Здравствуйте, друг. — Здравствуйте, друг. — Вы здесь? — Я надеялся вас встретить. — Вы получили уже мою улыбку, не правда ли? — Она проникнула в мое сердце. — Нашим вторым условием было говорить с вами, когда я могу; теперь я могу; что же вы хотите, чтобы я вам сказала? — Всякое ваше слово — гармония, очаровывающая меня. — Потому что всякое мое слово говорит вам одно, не правда ли, Эсперанс? — Более или менее ясно, Габриэль. — Ну! будем откровенны, если вы непременно этого хотите. Я… вас… люблю… — О! — прошептал Эсперанс, закрыв глаза от огня этой обворожительной улыбки и приложив руки к сердцу, как будто оно было поражено пулей. — О, сжальтесь! Послышались шаги короля и Крильона. — Все равно, — говорил король, — ты подвергался слишком большой опасности, отправившись один арестовать самозванца Валуа в его лагере. Не делай этого в другой раз, я запрещаю тебе это. — Да, — сказал Крильон, — этот бедный ла Раме доставил бы мне много трудов, если б его пришлось брать силой посреди его людей. Но, повторяю вам, государь, я знал его слабую сторону и воспользовался ею, так что я овладел им без труда. В сущности это человек не злой. — Его слабую сторону! — сказала Габриэль, вмешиваясь в разговор, для того чтобы Эсперанс успел оправиться. — Скажите нам ее, месье де Крильон. — Э! э! это удивило бы короля, — сказал, лукаво смеясь, добрый кавалер. — Скажите, скажите, — просил Генрих. — Кавалер, — перебил Эсперанс, приложив палец к губам, — позвольте мне напомнить вам, что это тайна, которую вы поклялись уважать. — Да, да, черт побери, да, я этого не забуду! — К черту эти тайны! — сказал Генрих. — Я все-таки узнаю эту и скажу вам, маркиза. Вдруг в лесу послышались звуки рога. — Это кто-нибудь ко мне, — сказал король, — меня ищут… надо отвечать. Эсперанс протрубил точно так же. Скоро показался ла Варенн на огромной лошади, за ним ехал курьер. — К королю! — сказал ла Варенн, указывая курьеру на его величество. Генрих распечатал конверт и сказал холодно: — Ла Раме осужден на смерть. Эсперанс потупил голову с таким уважением, как будто дело шло о враге, достойном сострадания. — Ну, он это заслужил, — сказал Крильон, — пусть его повесят! — Я, кажется, имею честь говорить с господином Эсперансом? — сказал ла Варенн. — Точно так, — отвечал молодой человек. — Осужденный вас просит через турнелльского пристава получить позволение поговорить с ним в тюрьме. Эсперанс взглянул на короля, который слышал эти слова. — Разве он вас знает? — спросил Генрих с весьма естественным любопытством. — Да, да, он его знает! — вскричал кавалер, расхохотавшись. — Или, лучше сказать, знал, не правда ли, Эсперанс? Эсперанс сделал умоляющее движение рукой. — Хорошо, мы не будем больше ничего говорить, — прибавил Крильон. Эсперанс все ждал позволения короля. — Поезжайте, поезжайте! — сказал Генрих. — Я вам позволяю все, что вы хотите. Вели подписать это позволение, ла Варенн. Крильон поехал за королем и за маркизой. Эсперанс сел на лошадь и простился с его величеством; он также низко поклонился Габриэль, которая, чтобы утишить внезапный кашель, приложила, смотря на Эсперанса, два пальца к своим губам. — Боже милостивый! — прошептал Эсперанс. — Благослови этого верного друга, который дает мне больше, чем обещал. Он воротился в Париж с подписанным позволением, спрашивая себя, по какой причине ла Раме потребовал его к себе в такой жестокой крайности.
Глава 57 МИЛОСЕРДИЕ
Ла Раме после своего ареста склонился под рукой судьбы. Он как будто выполнил свои обязанности на земле. Все это видели судьи, придворные, народ, и все отдавали справедливость его спокойствию, благородству позы и словам. Его упрекали только в том, что он выказывал величие, не принадлежавшее ему. Оно было бы достойно удивления, если б кровь Валуа действительно текла в его жилах. Но напрасно являлся он перед судьями с такой самоуверенностью, напрасно ссылался на доказательства, известные нам и отданные ему герцогиней. Напрасно более полные сведения были представляемы в трибунал для доказательства подмены, будто бы сделанной Екатериной Медичи в колыбели ее внука; все эти проделки, искусно приготовленные невидимой рукой, рукой герцогини, и поддерживаемые ее сторонниками, которые своим тайным влиянием еще покровительствовали ла Раме перед судьями, весь этот тягостный труд врагов короля рушился, говорим мы, под усилиями обвинения. Тогда явились доказательства подлинные, неопровержимые документы, которые, равномерно доставленные тайной рукой, доказали весь обман и обнаружили часть его пружин. Многие из судей долго рассуждали, говорят, с каким-то женевьевцем, который остался неизвестен, но не безмолвен, и пролил яркий свет на эту таинственную интригу. В присутствии страшных обвинений против зачинщиков заговора парламент остановился с испугом. Преступление доходило до своего источника, и до какого источника! Самых знаменитых домов, женщины, имя которой было популярно и почти царствовало в Париже. Спросили короля; он сам испугался и объявил, чтобы открыто обвинить герцогиню Монпансье, он желает иметь неоспоримые, явные доказательства, например признание и донос самого ла Раме. Судьи только этого и желали. Ла Раме подвергли пытке. Тогда не знали ничего убедительнее слов самого обвиненного и не тревожились о том, каким образом добивались этих слов. Но ла Раме, подвергнутый пытке водой и огнем, не признался ни в чем, а кричал еще громче, что он Валуа и докажет свое происхождение своим мужеством в пытках. Король был очень раздосадован этой неудачей. Он сильно упрекал в этом турнелльских судей. Стоическая твердость подсудимого подтверждала факты, уничтоженные было логическими прениями трибунала. Ла Раме, утверждая, что он Карл Валуа, оправдывал герцогиню Монпансье и становился интересен даже на эшафоте. Нам не нужно говорить, как торжествовала герцогиня. Она распространила в публике, что она не виновата, если один Валуа остался жив, если этот молодой человек имел мужество требовать своих прав на наследство Карла Девятого. Она бесстыдно отрекалась, что помогала ему. Она опровергала доказательства, и зная нежелание короля подвергать это дело новым прениям, она громко удивлялась, что ее обвиняют в легковерии, которое было одно время преступлением всего Парижа. Но стараться спасти несчастного молодого человека от казни или тюрьмы она не решилась. Бездушная, как все люди, живущие одним честолюбием, она не хотела отважиться на борьбу, в которой все поддерживавшие ее постепенно исчезли. Ла Раме, однако, рассчитывал на нее. Он должен был надеяться, что в награду за его молчание и его верность он получит какое-нибудь уведомление, какую-нибудь помощь, даже свободу. В продолжительные дни своего заточения, своего допроса, своей пытки он постоянно прислушивался к шуму, наблюдал за каждым камнем, за каждым движением тюремщика. Этому несчастному казалось, что вдруг тюрьма отворится, что вдруг тюремщик даст ему оружие и ключ; ему казалось, наконец, что герцогиня Монпансье неусыпно бодрствует, следует за каждой его мыслью и что замедление в его освобождении происходит единственно от выбора способов и средств. Однако ничто не являлось, а время шло, и страдания тела, еще сильнее душевных, увеличивались каждую минуту. В ту минуту, когда ла Раме овладело сомнение, судьи искусно старались поколебать его и вырвать признание против герцогини; но подсудимый был честен, великодушен и, несмотря на самые блестящие обещания, сохранил тайну, губившую его. Может быть, ла Раме еще надеялся на герцогиню. Мы этого опровергать не станем. Но не отчаиваться в подобных обстоятельствах уже доказывало большое благородство. Молодой человек в своей тюрьме выдерживал сильную борьбу Свобода, которую ему предлагали иногда, это была возможность сойтись с Анриэттой, а сойтись с Анриэттой не значило ли жить? Никогда ла Раме не считал себя несчастнее и никогда не был доволен собой. Его геройская жертва восстановила его в собственных глазах. Анриэтта, без сомнения, узнает это и найдет в этом новое поощрение любить своего спасителя. Благородное воспоминание об его поступке и сладостный образ его возлюбленной поддерживали радость и мужество в глубине сердца, которое турнелльские палачи старались смягчить. Ла Раме чувствовал счастье, похожее на упоение, упорно стараясь сохранить имя Валуа, которое делало его повелителем Анриэтты. И так как судьба не допускала сделать из нее королеву, по крайней мере, для женщины, которую он любил, он останется вечно принцем и королем. Но настал день приговора. Это час торжественный, который заставляет склоняться самые смелые головы. Приговор был без апелляции, а от его друзей не было помощи, даже таинственного знака! Кто может описать страшное брожение человеческого мозга в безмолвной тюрьме, когда тысячи предположений рождаются и умирают, как призраки, в горячке, когда самые ужасные опасения сталкиваются с самыми безумными надеждами, когда минуты принимают размеры длинных годов, когда все прошлое тонет, как разбитый корабль, а будущее освещается грозными огнями небесного гнева? Ла Раме чувствовал, что он погиб. Священник, посланный к нему, растолковал ему это. Ла Раме не имел даже высокой радости излить свои горести в лоно религии: эта религия предписывала ему полное признание в его поступках, а осужденный не хотел признаваться ни в чем. Надо было отрешиться от жалких страстей жизни; ла Раме дорожил этими страстями более, чем жизнью; гордость и любовь были его плотью и кровью. Он молчал, когда священник предложил ему прощение взамен искреннего признания; но заметив в словах посланника мира это выражение: «Забудьте тех, кого вы любили, и примиритесь с вашими врагами», несчастный хотел, по крайней мере, исполнить хоть один из этих божественных законов, он послушался одного из криков своей совести и просил приехать к себе Эсперанса, его смертельного врага. Однако он не ожидал прибытия человека, с которым так жестоко поступил; он начинал сознавать себя, и с истинной вспышкой признательности принял он приход молодого человека в его тюрьму. Эсперанс не терял ни минуты, чтобы явиться на зов побежденного врага. Губернатор Шатле, этот старик, который, как мы видели, был так добр к Эсперансу, узнал своего бывшего пленника и, улыбаясь, проводил его к ла Раме. Сцена была трогательная. Осужденный находился в одной из тех страшных темниц, которые похожи на каменные гробы. Тут употреблено было все искусство, чтобы сделать невозможным побег. Повсюду гений человека и инстинкт самосохранения отступали перед этими массами гранита, которые пришлось бы поднимать, перед этими железными дверями, которые предстояло бы разбивать. Эсперанс задрожал, входя в эту тюрьму, и признался себе, что он скорее умер бы, чем провел одну ночь в этом аду. Ла Раме был свободен в своих движениях; цепи в подобном месте становились излишни. Он пошел навстречу к своему великодушному посетителю, которого губернатор ввел к нему. Им оставили лампу, и тюремщики удалились. Холодное ожидание предшествовало сначала первым объяснениям. Человек свободный и победитель смотрел на своего жалкого врага; он старался придать своей позе довольно деликатного смирения, чтобы не оскорбить несчастье. Пленник устремил на Эсперанса растроганный взгляд. — Благодарю, — прошептал он, — благодарю. — Я вас слушаю, — сказал Эсперанс. Ла Раме приподнял свои исхудалые руки и провел ими медленно по своему бледному лицу. Он делал усилие, чтобы укротить последние содрогания гордости. — Я не хотел расстаться с жизнью, — сказал он глухим голосом, — не выпросив прощения у человека, которого я несправедливо ранил… и теперь охотнее, чем когда-либо, я признаюсь, что мое преступление недостойно прощения, потому что теперь я знаю великодушие врага. Он не мог сказать более, волнение душило его голос, притом Эсперанс остановил его. — Вы делаете в эту минуту, — сказал он, — доброе дело, которое искупает много других. Давно уже я вам простил. Я знал уже, что большая часть ваших преступлений происходили от вашего ослепления. — Мои преступления? — возразил ла Раме, удивленный этим жестоким названием. — Надо же назвать этим именем убийство и мятеж, — кротко сказал Эсперанс. — Но, повторяю, вы для меня не так виновны, как кажетесь другим. Я знаю, говорю я вам, демона, который вас погубил. — О, не обвиняйте Анриэтту, когда я не могу ее защищать! — вскричал ла Раме твердым и почти грозным голосом. — А вы, — возразил Эсперанс, — не истощайте ваших сил в напрасном прощении мнимого великодушия. Вы погубили себя для этой женщины, бедный безумец; посмотрите, как она вам платит! — Она приехала бы сюда, — перебил ла Раме, — если б я этого потребовал; но должен ли был я требовать этого? Должен ли был честный человек компрометировать слабостью в свои последние минуты женщину, которую он спас ценой своей жизни? Она молчит, она скрывается, я одобряю это. Она принадлежит свету, своему семейству, она не может принять даже отблеск моей печальной знаменитости. Не обвиняйте ее, когда я ее извиняю. — Это как вам угодно, — сказал Эсперанс. — А вы, — прибавил ла Раме с мрачным взглядом, — имеете менее права, чем всякий другой. Эсперанс покраснел при этом ревнивом намеке. Очевидно, воспоминание его связи с Анриэттой еще было живо в сердце пленника. — Сохрани Бог, — сказал он, — чтобы я стал обвинять мадемуазель д’Антраг… Но я не могу же не видеть света. Она допустила меня убить, она допускает вас умирать. Все это не показывает очень нежное сердце, но если вы довольны, я не прибавлю ни слова. — Что же вы хотите, чтобы она сделала? — вскричал ла Раме с живостью, обнаруживавшей волнение его души. — То, что делают в ужасных обстоятельствах, в которые ее неблагоразумие, ее кокетство часто ставили ее: искупают свои проступки великодушной преданностью. Но, нет, говорю вам, у ней нет сердца. Спросите ее, — прошептал он, понизив голос, — плакала ли она по Урбене дю Жардене? Пролила ли она столько слез, сколько я пролил крови? А когда вы умираете один в этой тюрьме, она должна бы испускать рыдания, которые были бы слышны сквозь эти стены. — Я не могу слышать, — сказал ла Раме, — но я уверен, что она плачет. Говоря таким образом, несчастный как будто благодарил отсутствующую Анриэтту взглядом невыразимо кротким. «Я не видал ничего более достойного уважения, как безумие этого человека», — подумал Эсперанс. — Милостивый государь, — прибавил ла Раме, — видимо, все бросили меня. Неужели вы полагаете, однако, что никто не думает обо мне? Но Шатле нелегко взять приступом; вы приехали сюда, потому что кавалер де Крильон может выпросить у короля все, чего вы желаете; я рассчитывал на это, когда просил вас к себе. Всякий другой, если б был также великодушен, как вы, не мог бы попасть в мою тюрьму. Я вас видел, вы мне простили, вы еще окажете мне услугу. — Какую? — О! Величайшую услугу, услугу, которая загладит для меня все ужасы смерти и изменит мои последние минуты в сладостный восторг. Анриэтта знает ли, что я спас ее, предав себя вам? Знает ли она, что если б я действовал для себя одного, я мог бы пасть со славой, и тогда избавил бы себя от заточения, от горя, пытки и эшафота? Знает ли она это? — Не могу вам сказать, потому что только трое человек могли бы сказать ей это, а ни один из нас троих не говорил с мадемуазель д’Антраг. — Вот услуга, которую я прошу у вас, — вскричал ла Раме, приподнимаясь, чтобы схватить руку Эсперанса, — скажите ей… скажите ей, не когда я умру, а теперь. Не, для того чтобы она решилась сделать что-нибудь в мою пользу, но чтобы она сделала знак и произнесла тихо одно слово, которое вы принесете мне и которое освежит меня в минуту последнего испытания. Вы понимаете это, не правда ли? Нельзя же быть совершенно бескорыстным, тогда так страстно любишь женщину. Притом, я прошу очень немногого, одного знака, одного слова. Попросите их у нее для меня и передайте их мне, когда я выйду из этой тюрьмы на смерть. Я налагаю на вас трудную обязанность, не правда ли? — прибавил он, судорожно сжимая руки своего врага. — Но у вас великое сердце, и может быть, вы замерили всю глубину моего; сделайте это для меня. Господь, уже вас благословивший, будет продолжать для вас то, что он не хотел сделать для меня, проклятого им. Я читаю в ваших глазах, что вы исполните мою просьбу… О! но это еще не все, что я требую от великодушного Эсперанса, — сказал он со стоном, который заставил задрожать молодого человека от сострадания и уважения. — Говорите, — отвечал он. — Надо обещать мне еще более этого, — продолжал ла Раме, воспламеняясь постепенно по мере того, как увеличивалось сочувствие его собеседника, что видел он. — Да, вы скажете Анриэтте о моей жертве и воротитесь мне передать, что она вам скажет для меня; но потом?.. потом, слышите ли вы эти ужасные слова? потом я умру; я не буду уже беречь мое сокровище и защищать его, как я употребил на это всю мой жизнь. О! Вы красавец, она вас любила, — сказал он с яростным ревом, — она, может быть, опять вас полюбит, если увидит, и когда сравнит вашу торжествующую молодость, блеск вашего богатства, счастье вашей жизни с холодными останками преступника, умершего на эшафоте… О, она не должна вас любить!.. ее сердце, ее тело не должны принадлежать никому на земле; я не хочу терпеть в моей могиле страшные пытки ревности! Мертвецы имеют душу, которая страдает еще… Обещайте мне, что вы не отнимете у меня Анриэтту. Попросите ее для меня отказаться от света, заключиться в монастырь; она это сделает, не правда ли? Она не может сделать ничего другого. Как может она блистать при дворе любимицей короля или под руку с супругом, с воспоминанием о человеке, который умер, для того чтобы спасти ей честь? Анриэтта пострижется, обещайте это мне! Она не будет видеть после меня лица мужчины; она обязана это сделать в награду за мою преданность. Я знаю, что я требую очень трудного, но я страдаю; надо сжалиться надо мной; вы должны понять ужас моего положения. Эта женщина, которую я оставляю такой прекрасной, такой пленительной, Анриэтта… слабое создание, которое забудет меня, может быть, завтра… Ах! малодушная женщина, которая не ложится в могилу со мной! Сказав эти слова, несчастный неистово качал своей истерзанной головой, и слезы отчаяния наполняли вместе с кровью его глаза. Эсперанс был тронут до глубины души эгоизмом, столь болезненно искренним этой неугасимой любви. Какой беспорядок в этом сердце, какая буря, какая страшная молния освещает этот хаос! Итак, ни угрызения, ни сожаления, ничего кроме этой любви! Ла Раме, подобно бешеным идолопоклонникам, которые в своем безумии разбивают своих безмолвных истуканов, ла Раме стал оскорблять своего кумира. Человек, оскорбляющий таким образом то, что он любит, погиб безвозвратно, ему остается только умереть. Эсперанс подошел к пленнику и взял его за руку. Глубокое сострадание наполняло его сердце. Этот бедный молодой человек был прощен в его глазах. В присутствии подобного злополучия не могло быть ни ненависти, ни презрения. Этот человек плакал, обвинял себя, он сделался другом для великодушного Эсперанса. — Послушайте, — сказал он, — я нахожу вас до того несчастным, что сделаю для вас все. Как! Вместо того, чтобы думать о смерти, вы не думаете скорее о том, как спастись? Ла Раме, стыдясь своих слез, приподнял голову при этих странных словах. — Спастись? — сказал он. — Что вы хотите сказать? — Да, король не сердится на вас. Я слышал его голос, когда он говорил: «Поезжайте к ла Раме…» Если вы хотите меня выслушать, я одним словом изменю ваш ад в лучезарный горизонт. Ла Раме слушал с жадностью. — Сделайте что-нибудь сами для себя, — сказал Эсперанс, — помогите милосердию короля. — Что могу я сделать? — Подождите. Вы настойчиво уверяли перед судьями, что вы Валуа, когда это неправда. Ла Раме нахмурил брови. — Это неправда, говорю я вам; я знаю, что вы утверждаете это из гордости, вы не хотите прослыть самозванцем в глазах Анриэтты. Я понимаю — все от такой страсти, как ваша. Ла Раме покраснел, видя, как этот светлый взгляд читает в глубине его сердца. — Ну, если вы так этим дорожите, — продолжал Эсперанс, — не сознавайтесь в своей лжи. — Я думаю, что я Валуа, — гордо перебил ла Раме. — Я с этим согласен. Скажите, что вы это думаете, но скажите так же, кто вас заставил это думать. Ла Раме сделал движение. — Низость, — перебил он, — измена. — Разве герцогиня вам не изменяет? Разве она прислала вам помощь? — Надо иметь терпение. — Безумец! Или вы будете ждать, что палач вонзит вам эту истину в горло?.. Вам изменили, говорю я вам. Ну, если герцогиня думает только о своих жалких интересах, думайте о ваших. Хотите свободы? Хотите сегодня вечером скакать по большой дороге на хорошей лошади и иметь перед собой пятьдесят лет жизни? — Я?.. — Я предлагаю вам свободу, если б мне пришлось пожертвовать моею жизнью, для того чтобы возвратить ее вам. Вы мне тронули сердце, и ведь я тоже участвовал в вашем несчастье. — У вас прекрасная душа, — сказал растроганный ла Раме. — Напишите, что вы искренно считаете себя Валуа потому, что вас уверили в этом. Назовите просто зачинщицу этого заговора. Словом, будьте так же честны с королем, как другие были с ним низки и подлы. Ваша совесть должна подкреплять мои слова, если вы искренни. Взамен того, что вы напишете, я дам вам свободу и жизнь. Клянусь Богом, который слышит меня! — Дадите ли вы мне Анриэтту? — вскричал ла Раме, сердце которого внезапно забилось при мысли об этом неожиданном спасении. — Об этом надо спросить ее, а не меня, — отвечал Эсперанс. — Могу ли я знать, что находится в глубине ее сердца? — Вы обещали мне отправиться к ней сейчас. — Это правда. Я поеду. — Ну, попросите ее ехать со мной, и я соглашусь. — И напишете королю то, что я вам сказал? — Сию же минуту. Бежать с Анриэттой! О, для этого я согласен на все! Эсперанс протянул руку ла Раме. — Поклянитесь мне в том, что вы сейчас сказали. — Я клянусь Анриэттой д’Антраг! — вскричал ла Раме с блестящими глазами. — Но если она откажет? — прошептал Эсперанс. Облако пробежало по лицу пленника. — В таком случае я с радостью умру, — сказал он. — Но она меня любит; она согласится! О, теперь, когда я начал надеяться, я горю от нетерпения! Поспешите… Каждая минута будет веком тоски. Спасите меня, возвратите мне Анриэтту, и я буду обожать вас на коленях! Эсперанс пожал руку несчастного. — Вы не напрасно меня позвали, — сказал он, — молчите; положитесь на меня, и пусть мое имя принесет вам счастье! — Через сколько времени вы воротитесь? — прошептал ла Раме, побледнев от радости. — Считайте медленно до десяти тысяч, — отвечал Эсперанс. Постучавшись в железную дверь, которую ему отперли, Эсперанс послал улыбку ла Раме, который следовал за ним жадными глазами, и исчез.Глава 58 ОСТРОВ ЛУВЬЕ
Эсперанс не сделал и ста шагов из Шатле, как все меры его были приняты. Мысль спасти ла Раме преобладала в нем над всеми другими. Он хотел употребить на это все свои ресурсы, свое состояние, влияние своих друзей, даже Габриэль. Но время уходило. Когда приговор произнесен, пытка выдержана, пленникам остается жить немного часов. Эсперанс сначала подумал о том, как доставить себе с Анриэттой разговор, который он обещал ла Раме. Это возмущало сердце Эсперанса; но, как мы сказали, никакое отвращение и никакие затруднения не могли преодолеть величия души этого молодого человека. У него ум был так же глубок, как и сердце. Он сказал себе, что, для того чтобы получить разговор с Анриэттой, не компрометируя себя, не написав, не ходя к ней, он должен обратиться к Элеоноре. Он написал к итальянке письмо на тосканском языке, в котором заключались эти слова:«Мне нужно видеть на несколько минут особу, которую вы мне показали в день бала под плющом на стене Замета. Я вверяюсь вашей дружбе и прошу привести ко мне эту особу. Проводите ее, чтобы она не опасалась засады, и вы можете ей сказать, что самые дорогие ее интересы требуют этого разговора. Пусть она выберет место свидания. Вы окажете таким образом услугу двум особам, из которых одна, та, которая говорит с вами, обещает вам всю свою признательность».
Он подписался Сперанца и не сомневался в успехе. «Итак, — думал он, — это чудовище придет. Уговорю я ее или нет, это все равно; но так как я хочу спасти пленника, я во всяком случае выведу его из тюрьмы. Для этого что надо сделать? Отправиться к доброму Крильону, который все может выпросить у короля, к Крильону, который один может во всякое время входить к королю и выпросить такую трудную милость». Эсперанс подумал потом, что он может иметь надобность в сильной и преданной руке, и послал сказать Понти, чтобы он пришел вечером. Устроив все таким образом, Эсперанс пошел к Арсеналу, где Крильон в этот день ужинал у Сюлли. Ожидали даже короля и делались великолепные приготовления. Кавалер разговаривал со своими друзьями, когда его позвали от имени Эсперанса. Он вышел и увидал по серьезной физиономии молодого человека, что дело идет о чем-нибудь важном. Эсперанс повел Крильона в сад и там без приготовлений, без изворотов, как прилично людям такого характера, рассказал про свой визит в Шатле, сострадание, овладевшее им при виде таких страданий, и кончил этими словами: — Я думаю, что мы с вами как христиане должны сделать что-нибудь. — Что же такое, боже мой? — спросил Крильон. — Выпросить ему помилование. — Вот еще! — вскричал кавалер. — Пропустить самый прекрасный случай отправить в ад этого демона, посланного на нас чертом! Вы, верно, сошли с ума, прося меня об этом. — Нет, клянусь вам, что я зрело это обдумал, и напротив, сойду с ума от стыда и горести, если мне не удастся мое предприятие. Крильон нахмурил брови. — У вас есть страсть, знаете ли какая? — сказал он. — Обыкновенно человек не знает себя. Я покажу вам зеркало. У вас есть страсть к великодушию. Я нахожу вас похожим на Энея Виргилия. Этот герой вам знаком, друг мой; каждый раз как он наносил удар мечом, он плакал, а он нанес много ударов. Я всегда находил этого героя необыкновенно смешным. Радость от пожара Трои и смерти жены, верно, помрачила ему рассудок; но у вас, Эсперанс, я не знаю ложных причин. Излечитесь от великодушия. — Я никогда ничего не просил у вас, — перебил он, — хотя вы были так добры, что часто предлагали мне разные малости. Сегодня я вас прошу, неужели вы мне откажете? Притом, дело идет не обо мне одном; вы обязаны делать то, о чем я вас прошу. — Обязан? — Вспомните, в Реймсе, когда вы были тронуты кротостью и великодушием этого несчастного, вы сказали ему эти слова, которые я еще помню: Может быть, я сделаю что-нибудь лучше для вас, если вы будете благоразумны. Он был очень благоразумен, несчастный! — Конечно, я это сказал, — отвечал Крильон со смущением, — но… — Вы сказали, стало быть, надо сделать, — заметил Эсперанс с твердой кротостью. — Черт побери! Молодой человек, ты, кажется, даешь мне уроки? — Нет, освежаю вам память. — Э! Разве вы думаете, что я не думал об этом, видя короля в таком хорошем расположении сегодня утром? Во все время, пока мы возвращались, мы говорили об этом жалком орудии герцогини Монпансье, и я уверял короля, что ла Раме не закоренелый злодей, но в глубине сердца я в восторге, что он исчезнет из этого света. Мы отдаем ему справедливость, мы его извиняем, но он уже приготовился к великому путешествию, пусть едет. — Я ему обещал, что он останется жив, — упорно возразил Эсперанс, — и умоляю вас выпросить у короля подтверждение этого слова. Говорят, король будет ужинать здесь. — Да, он даже ужинает теперь без меня. — Я вас не удерживаю и умоляю вас простить мне мою докучливость. Я живу, как вам известно, в двух шагах. Эту милость я должен получить сегодня вечером. Голос Эсперанса, его монолог, дошел до сердца Крильона. — Подождите, подождите, — сказал он, — нет, еще не ужинают. Я вижу всех в библиотеке; только накрывают на стол. Подождите несколько минут, я пойду к королю, и да или нет: вы унесете с собой ответ. Эсперанс отошел с трепещущим сердцем. — Нет, — сказал Крильон, — сядьте на эту скамью за этим грабом. Я приведу короля сюда, и вы услышите его, как будто он будет говорить с вами. В самом деле через несколько минут король, в черном костюме, с обнаженной головой, сошел с крыльца с Крильоном и стал гулять по аллее смежной с грабом, за которым скрывался Эсперанс. Генрих выслушал горячую просьбу Крильона. Крильон горел нетерпением исполнить желание Эсперанса и в то же время просил короля хорошенько рассмотреть интересы государства. — Э! э! храбрый Крильон, — сказал Генрих, — государство ничего не значит в этом деле. Ла Раме — или Валуа, или ла Раме. Единственный аргумент, который я имею, чтобы доказать, что он не Валуа, это вздернуть его на виселицу. — Это правда, — сказал Крильон. «Это правда», — подумал Эсперанс, отдавая справедливость королевской проницательности. — Когда так, — сказал Крильон, — пусть его повесят, и все будет кончено. Эсперанс задрожал, услышав странную защитительную речь своего ходатая. Король задумался, и его глубокий взор потупился в землю. — Какое мне дело, — сказал он, — что этот человек останется жив, если мне докажут, что он только орудие герцогини Монпансье! Притом, мне не нужно его прощать, это подаст дурной пример. Если это тебе доставляет удовольствие, пусть он просверлит стену и убежит. Я не караулю пленных. Эсперанс вздрогнул от радости. — Да, но вы можете преследовать их и поймать. — Черт меня побери, если я стану когда-нибудь заниматься тем, куда он девался; у меня характер не злой, и от виселицы меня тошнит. — Но губернатор, который даст ему убежать… — Этот добрый старик дю Жарден, бывший собрат по религии, достойный человек, которого я люблю… Нет, Крильон, я не стану мучить этого бедного дю Жардена, только бы вместо убежавшего пленника он доставил мне показание, что ла Раме, а не Валуа, пробил мою стену. Таким образом я выиграю: я сберегу веревку, а герцогиня похохочет, когда я покажу ей это показание. — Она должна плакать, — сказал Крильон, бросив взгляд на граб. — Я повторяю, — прибавил король спокойно, — что ла Раме может убежать; я не скажу того же о Валуа. — Я понял, — сказал Крильон, провожая короля до крыльца, где его ждали уже несколько вельмож. Там он его оставил, и Эсперанс пришел пожать руку кавалера. — Благодарю, — сказал он, — благодарю; я предвидел эту необходимость показания. Я получу его даже полнее, чем требует король. Теперь надо подумать о средствах. — Я сегодня вечером буду у дю Жардена, — сказал Крильон. — И ла Раме поместят в верхнюю комнату, где был я. — Хорошо. — Таким образом он может убежать в эту ночь с помощью веревки с узлами без всякого подозрения в соучастии. — Устройте это как хотите. — Благодарю еще раз! — вскричал Эсперанс, сердце которого было переполнено радостью. — Только вы делаете глупость, — прошептал Крильон, — но вы так убедительно просили. Это была первая ваша просьба, и я не мог отказать вам. Говоря эти слова, он обнял Эсперанса с нежным восторгом. В самом деле, лицо молодого человека никогда не имело более лучезарной красоты. Всякий добрый поступок проистекает свыше. Каким образом красоте не сделаться великой, когда она освещается божественным лучом? Эсперансу оставалась самая неприятная часть поручения. Он вздохнул, но решился исполнить ее. Элеонора уже ответила. Синьор Сперанца нашел, воротившись домой, Кончино, который дремал на кресле и сказал ему: — Сегодня вечером, в половине девятого, на острове Лувье. Было четверть девятого. Половина времени, назначенного ла Раме, уже прошла. Не без сильного волнения ровно в половине девятого Эсперанс, отправившийся тотчас в назначенное место, увидал лодку, проезжавшую по маленькой речке напротив Арсенала, а потом под вязами явилась женщина, старательно закутанная в легкую мантилью, которая как покрывало закрывала ее голову. Под этой тканью сверкали черные глаза Анриэтты. При входе на остров осталась Элеонора, менее взволнованная, чем ее спутница. Сделав знак с улыбкой молодому человеку, она села на ствол опрокинутого дерева. Остров Лувье был в то время частной собственностью, садом, и часто назывался антроговским, потому что был куплен этой фамилией. Эсперанс пошел навстречу молодой девушке, принужденная походка которой не показывала благоприятного расположения. Она выбрала место свидания удобное для нее и успокоительное для Эсперанса, который в случае засады имел со всех сторон возможность убежать. Стоило только прыгнуть в реку. — Вы меня звали, — сказала Анриэтта первая холодным и отрывистым тоном, — вот я здесь. Эсперанс поклонился. — Вы должны предположить, что я решился беспокоить вас только по встречам очень важным. — Без сомнения. Элеонора сказала мне, что дело идет о моих личных интересах, и я спрашивала себя, каким образом вы можете участвовать в моих интересах. — Не я, — возразил Эсперанс, решившись не терять минуту на бесполезные предисловия, — а месье де ла Раме. Анриэтта побледнела и задрожала. Эсперанс тогда прямо посмотрел на нее и был поражен зловещим выражением этого лица, столь прекрасного для тех, кто не мог видеть под чертами прозрачность души. — Я вас избавлю, — сказал он, — от вопросов; я предупрежу их всех. Вот в двух словах, о чем идет дело. Месье де ла Раме в тюрьме и осужден на смерть, он будет казнен, вам это известно. — Это известно всем, — сказала Анриэтта едва внятным голосом. — Но неизвестно никому, что этот несчастный был взят среди своего лагеря, без борьбы, а он человек храбрый. — Против храброго Крильона и тех, кто был с ним, против таких врагов, — сказала Анриэтта с холодной иронией, — всякая борьба была бы безумна. — Ла Раме сдался нам не из благоразумия для себя. Им руководило другое чувство, гораздо благороднее, гораздо трогательнее. Мы все были растроганы. Вы сами будете растроганы. — Я слушаю анализ этого чувства, — сказала Анриэтта, стараясь сохранить свое хладнокровие, хотя несколько сконфуженная бесстрастным презрением, выражавшимся в каждом слове Эсперанса. — Ла Раме уступил только опасению компрометировать вас, — прибавил он, пристально смотря на нее. — Компрометировать меня?.. Месье де ла Раме… что это значит? «Подожди, змея, я помешаю тебе шипеть», — подумал молодой человек. — Он написал вам длинное письмо, наполненное любовью и признательностью; он благодарил вас за поощрение его планам, предлагал вам половину своей короны, называл вас своей королевой и подписался: «Карл, король». Анриэтта при каждом слове становилась тревожнее и взволнованнее. — Это письмо, — продолжал Эсперанс, — было послано вам прямо в Париж с курьером, когда мы с Крильоном остановили этого курьера, взяли письмо и внимательно обсудили его содержание. Анриэтта помертвела и машинально искала опоры около себя. В голове Эсперанса промелькнула молния сострадания, но отвращение коснуться этой женщины преодолело человеколюбие, и он холодно предоставил ей прислониться к стволу дерева. — Вы понимаете, — продолжал он, — какое действие произвело бы это письмо на короля; видите, каким опасностям подвергаются иногда, не зная о том! Он скрестил руки. Анриэтта шаталась; пот выступал крупными каплями на ее лбу. — Ла Раме сжалился над вами, — продолжал Эсперанс, — он умолял своих врагов отдать ему это письмо, обещая взамен предать им себя без сопротивления и не покушаться на свою жизнь. Он губил себя, чтобы спасти вас. — Что же отвечали? — спросила бледная Анриэтта. — Согласились. — Так что письмо… — Сожжено. Вам нечего более бояться. Щеки и глаза Анриэтты д’Антраг точно осветило пламя. — Да, — продолжал Эсперанс, — но несчастный, жертва своей преданности, в тюрьме и близок к смерти. Знаете ли вы, что казнь назначена завтра утром в восемь часов? — Что же делать? — спросила она. — И есть ли средство спасти этого несчастного? — Ла Раме нашел и послал меня к вам сообщить вам об этом. Анриэтта почувствовала, что готовится новый удар, и удар еще ужаснее, может быть. Она прочла в самоуверенном взгляде Эсперанса, что самая важная часть его поручения еще не была исполнена. Она собралась с силами, чтобы приготовиться к новой борьбе. — Я слушаю, — сказала она, — и буду способствовать всеми возможными путями спасти того, кто спас меня. — Это прекрасные чувства, они облегчают мне путь. — Чего желает месье де ла Раме? — Он страстно любит вас… — Я полагаю, вам не это поручено мне сказать. — Не прерывайте меня, прошу вас. Он вас любит, говорю я, до такой степени, что не может без вас жить и желает, чтобы вы формально дали ему слово. Анриэтта посмотрела на Эсперанса с непритворным удивлением. — Какое же я могу дать слово несчастному, минуты которого сочтены? Жить без меня не может составлять для того вопроса, потому что он умрет. — Предположите, что он останется жив, — спокойно сказал Эсперанс. Она вздрогнула. — Кто же его спасет?.. — вскричала она с испугом, от которого она показалась Эсперансу отвратительной. — Я. — Вы насмехаетесь. — Яутверждаю, что ла Раме будет спасен. — А король? — Король согласен. Вы видите, что ничто не может помешать ла Раме жить, ничто, слышите ли вы? Анриэтта чуть было не вскрикнула, но она почувствовала, что обнаружив таким образом весь свой эгоизм, она помешает молодому человеку продолжать свои объяснения. Но она уже изменила себе, было уже слишком поздно, Эсперанс понял ее, он читал истину на дне этой лужи. — Я знаю, — сказал он, возмущенный, — что вы предпочли видеть мертвого, и его так же, как других, но я этого не хочу, он останется жив, и я принес вам его желание: он требует, чтобы вы сопровождали его в изгнании. На этот раз Анриэтта не могла уже владеть собой. — Это безумный бред, — сказала она, — и тот мнимый спаситель, стало быть, спас меня только, для того чтобы вернее меня погубить. — Я не рассматриваю его намерения, я повинуюсь его воле, которая притом сделалась моею. — Что такое? — заревела тигрица. — Это моя воля! — отвечал лев. — Довольно преступлений, довольно крови, на которой плавает ваше честолюбие, низкое, как ваша любовь! Ла Раме, прощенный королем, бежит нынешнею ночью из Шатле. Вы поедете с ним. Он называет это наградой за его жертву. А я знаю, что это будет и для вас и для него самым ужасным наказанием, но пусть так! Когда Провидение определило месть, оно мстит как следует. Вы поедете с этим человеком, а если нет, то, бросив глупую деликатность, до сих пор удерживавшую меня, я обвиню вас, сославшись на свидетельство Крильона и Понти, в ваших преступлениях перед трибуналом короля, и мы увидим, не пожалеете ли вы тогда об изгнании, которое предлагает вам ваша жертва. «Я погибла, — подумала Анриэтта, — особенно если я обнаружу мои мысли». Она закрыла лицо руками, как будто рыдания душили ее. Она действительно рыдала. Положение стоило того. — Милостивый государь, — сказала она, — я знаю, что я принадлежу этому несчастному. Я знаю, что я умерла для света. Но не думаете ли вы, что я имею право плакать о бесславии, которое будет наброшено на все мое семейство? Я была виновна, но неужели я должна быть так ужасно наказана? — Я вижу только это средство, — сказал Эсперанс, — искупить ваши преступления. Столько пролитой крови не омывается в один день. Вы будете страдать, но это необходимо. — Ну, — сказала она, — если так сурова моя обязанность, я буду повиноваться. — С этой минуты, — сказал Эсперанс, — я вам прощу и буду вас уважать. Она посмотрела на него со странным видом. — На другой день вашей свадьбы с ла Раме вы получите от меня, в каком месте ни находились бы вы, это письмо, которое вы с таким упорством требовали от меня и которое тогда я не стану считать себя вправе удерживать. Глаза Анриэтты сверкнули. Только сильная ненависть, страшная ярость могли вызвать подобную искру. — Хорошо! — пробормотала она, заскрежетав зубами. — Теперь что я должна сделать? Как будет совершен этот побег? — Вы знаете Шатле? — спросил Эсперанс. — Да. — Над воротами возле Малого моста есть наверху небольшая комнатка, куда на эту ночь переведут пленника. Оттуда он убежит. Я буду ждать его нынешнею ночью с лошадьми или, лучше сказать, мы будем его ждать, потому что вы поедете со мной. Анриэтта задрожала, как будто хотела снова возмутиться. — Эта комната, — продолжал Эсперанс, чтобы окончательно разрушить последнюю нерешимость этой низкой женщины, — напомнит вам еще одно воспоминание. Ла Раме, к счастью, этого не подозревает, потому что он никогда не осмелился бы войти в эту комнату. — Отчего же? — Там жил в молодости, в своей беззаботной и счастливой молодости, сын губернатора Шатле, красавец гугенот, который теперь умер, Урбен дю Жарден; вы помните это имя? Анриэтта вскрикнула. Эсперанс приписал это испугу. — Урбен дю Жарден, — прошептала она, — был сын губернатора Шатле? — Увы, да! — отвечал Эсперанс, не примечая страшного выражения торжества, которое вспыхнуло и погасло на бледном лице Анриэтты, — да, это был его сын, и я видел, как текли слезы старика, когда во время моего кратковременного заточения он посадил меня на кресло, где спал когда-то его несчастный сын и где, может быть, сам того не зная, он посадит убийцу в нынешнюю ночь. — Довольно, довольно! — сказала Анриэтта с лихорадочной поспешностью, которая заставила подумать Эсперанса, что это последнее воспоминание убедило ее. — До завтра! Дайте знать, в котором часу, и полагайтесь на меня. «А тем более, — подумал Эсперанс, — что она не может поступить иначе». — Прощайте, — сказал он, — я возвращаюсь к ла Раме. Она показала ему на лодку, которая привезла ее. Он ушел, тихо пожав руку Элеоноре.
Глава 59 МЩЕНИЕ ОТЦА
Эсперанс воротился домой приготовить оружие, лошадей и деньги. Он отдал приказания с предусмотрительной скоростью. Он обвернул вокруг своего тела длинную шелковую веревку, тонкую и прочную, и тотчас взял за руку Понти, с изумлением смотревшего на эти приготовления. Понти, предупрежденный запиской, ждал своего друга уже несколько минут. Оба молча направились к Шатле. Дорогой Эсперанс рассказал гвардейцу важные происшествия этого дня; когда он дошел до разговора с Анриэттой и о намерении спасти ла Раме, Понти поднял руки к небу. — Вы с ума сошли, — сказал он Эсперансу, — вы серьезно думаете спасти этого злодея от виселицы? Разбойника, который требовал, чтобы меня расстреляли, который чуть было вас не убил, который… — Все это известно, Понти, — перебил Эсперанс, — не к чему повторять. — И ты условился с этой Антраг, ты говорил с этой тварью! — К счастью, потому что все решено. Понти иронически расхохотался. — Честный Эсперанс, — сказал он, — он думает, что можно решить что-нибудь с подобной женщиной! Она просто насмехалась над тобой. — Попробуй-ка доказать мне это. Попробуй-ка найти хоть одно отверстие, в которое Анриэтта могла ускользнуть, как ты говоришь. — Какая необходимость, — пробормотал Понти, — человеку счастливому вмешиваться в дела этой шайки разбойников? — Если бы даже я рассуждал, как ты, с эгоизмом, я все-таки опровергнул бы твой аргумент. Вмешиваясь в дела Анриэтты и ла Раме, я устраиваю свои дела, и я не знаю ничего искуснее, ничего полезнее этого двойного отъезда, который освобождает меня навсегда от ла Раме и его достойной сообщницы. Да, Понти, ты никогда не узнаешь, до какой степени для меня необходимо, чтобы Анриэтта удалилась из Франции и не возвращалась сюда никогда. Но Богу известно, однако, что не мои выгоды руководили мной в принятом мной намерении. Если из этого выйдет что-нибудь хорошее для меня, я припишу это единственно Богу. Понти был поражен этими соображениями, но все-таки отвечал ворча, что Анриэтта еще не уехала, что она находчива и сумеет найти способ не уезжать из Парижа. — Ты все забываешь, — отвечал Эсперанс твердым тоном, — что у нас есть талисман, который разобьет всякую волю Анриэтты. Пока этот медальон будет висеть на моей шее или на твоей, Анриэтта будет повиноваться нам, как невольница. — А, если так, я сдаюсь, — сказал Понти, — и ты заставил меня вспомнить, что твой месяц прошел, теперь моя очередь носить этот медальон, так как мы разделяем поровну этот опасный залог. — Если бы даже твоя очередь не настала, Понти, я отдал бы сегодня, потому что нынешнюю ночь я буду с Анриэттой, и было бы неблагоразумно оставлять медальон на моей груди; несчастье случается так скоро! Падение с лошади, неожиданный выстрел, обморок. Ты знаешь, как она обирает трупы! Понти взял и спрятал на шее плоский, тонкий медальон, в котором лежала записка Анриэтты, эта кровавая записка, которую наши читатели, вероятно, не забыли. — Я в обморок не упаду, будь спокоен, — сказал Понти. — Исполняй строго мои приказания, — продолжал Эсперанс, — не пренебрегай никакими мелочами. Побег ла Раме должен совершиться до рассвета; будь готов, когда ты будешь мне нужен. Через час я присоединюсь к тебе. Говоря таким образом, молодой человек оставил Понти и вошел в Шатле. Сначала он отправился к губернатору, с которым поговорил несколько минут, чтобы удостовериться, что по обещанию Крильона все было устроено, потом вернулся в тюрьму ла Раме, который в своем нетерпении тысячу раз сбивался в счете и думал, что начинает уже рассветать. Стук запора восхитительно раздался в его ушах, он побежал к двери и сжал в объятиях с нежностью, к которой сам не считал себя способен, благородного освободителя, который, возвратившись, принес ему жизнь или смерть. — Ну что, — спросил ла Раме, дрожа, — что она сказала? — Ла Раме с упоением сложил руки. — Не правда ли, она меня любит? — От всего сердца, — сказал Эсперанс. — Знаете ли, что она делает для меня великую жертву! Оставлять все, родных, богатство, будущность для несчастного пленника! — Она согласна. — Это прекрасно, — повторил Эсперанс с невозмутимым хладнокровием, — но вы успеете впоследствии выразить мадемуазель д’Антраг ваш восторг и вашу признательность, а теперь нам надо спешить. Ла Раме сделал знак одобрения. — Я теперь от губернатора, — продолжал Эсперанс, — Крильон с ним говорил. Король согласен, не помиловать вас — он не может этого сделать, — но закрыть глаза на ваш побег. Вы должны облегчить совесть короля признанием, о котором мы условились. — Я уже придумал выражения, — сказал ла Раме. — Надо написать? — Подождите… Вам переменят комнату, вас отведут наверх. Там есть терраса с железной решеткой. Вот пила, которой вы подпилите две перекладины. Вы худой, этого прохода будет для вас достаточно. Вот шелковая веревка, на ней может повиснуть весь Шатле… позвольте, я ее сниму… Она имеет сто футов, десятью больше, чем все здание; привяжите ее сами и спускайтесь, обернув ваши руки, чтобы не обрезать их, в вашу норковую шляпу. Ла Раме взял с судорожной радостью вещь, которую подавал ему Эсперанс. — А как же я найду Анриэтту? — спросил он. — Вы меня не обманываете, она точно обещала? — Я предвидел этот вопрос. Вы увидите, как она будет вас ждать на конце Малого моста. У вас, кажется, хорошее зрение? — Я узнаю Анриэтту за целое лье ночью. — Спускайтесь только когда приметите ее. Притом с нею будут лошади, это поможет вам узнать. Я предупреждаю вас, что, для того чтобы не возбуждать подозрения, мы спустимся на берег реки под тень набережной. — И вы тоже там будете? — Я положусь только на себя, чтобы вас спасти. Я дал слово. — Говорят, что иногда ангелы небесные принимают человеческую форму для покровительства несчастным, — прошептал ла Раме с выражением раскаяния и признательности. — Я твердо этому верю с нынешнего дня. — Итак, — перебил Эсперанс, — все решено; когда начнут благовестить к заутрени в соборе Парижской Богоматери в три часа, спускайтесь. Часовой будет прохаживаться так, чтобы не видеть вас. — А до тех пор я подпилю решетку и привяжу веревку. А когда мне написать показание? — Вы найдете в верхней комнате все, что нужно для письма, и губернатор до вашего побега придет посмотреть, так ли написано показание, как следует. — Губернатор придет? — Да, — отвечал Эсперанс с невольным трепетом; он думал, что эти два человека никогда не должны бы встречаться. — Этот губернатор добрый старик, — продолжал он. — Кроткий с пленниками, повинующийся Крильону, к которому он чувствует признательность. Вы не знаете этого старика? — Никогда его не видал; я был так взволнован, входя в тюрьму; помню только, что тюремщик сказал мне, что он гугенот. — Гугенот он или католик, это все равно, только бы он дал вам убежать! — с живостью сказал Эсперанс, сердце которого раздирали эти подробности. — Я говорю вам об этом, — продолжал ла Раме, — по основательной причине. Гугенот может смотреть дурными глазами на Валуа, отец которого устроил Варфоломеевскую ночь. — Ведь вы подпишите, что вы не Валуа, — коротко сказал Эсперанс. — Притом оставим это. Вы ни слова не скажете губернатору, и он не раскроет рта. Он возьмет показание и уйдет. — Я мог бы сейчас вам это показать, — сказал ла Раме, — и тотчас же бежать. Эсперанс был поражен этой настойчивостью ла Раме. Не зловещее ли предчувствие побуждало пленника таким образом опередить назначенный час? — Я думал, что поступаю хорошо, — сказал Эсперанс, — давая вам всевозможные обеспечения. Вы хотели быть уверенным в присутствии мадемуазель д’Антраг, вы имеете эту уверенность, Вы хотели дать ваше показание за обеспеченную свободу, и это решено. Теперь вам надо перейти в верхнюю комнату. Надо иметь время подпилить решетку, написать, а потом, со своей стороны, и мы не готовы. Час свидания еще не назначен мадемуазель д’Антраг, она должна приготовиться. Подумайте, что три часа утра настанут скоро. — Это правда, — вскричал ла Раме, — простите, что я докучаю вам таким образом! Я старался, видите ли вы, избегнуть приближения дня, который должен был сделаться моим последним днем; тюремщик мне сказал: завтра в восемь часов… от трех до восьми промежуток так короток! — В восемь часов вы будете так далеки от смерти, как не были никогда, — сказал Эсперанс с улыбкой, способной возвратить жизнь умирающему, — но чтоб поспеть вовремя, начнем действовать заранее; я вас оставляю. — Да благословит вас Бог! — сказал ла Раме. — Помните все наши условия. — Они запечатлены здесь, — сказал пленник, коснувшись своего лба, — как ваши благодеяния записаны в моем сердце. При этих словах ла Раме встал на колени, взял руку Эсперанса и приложил ее к своим пылающим губам. Благодетель удалился, взволнованный, благодаря небо, которое давало ему способ сделать человека счастливым до такой степени. Только что Эсперанс ушел, как ла Раме старался восстановить спокойствие в своей голове, чтобы приготовиться ко всему. Сначала все шло, как было условлено. Два тюремщика пришли за пленником, отвели его в верхнюю комнату и оставили его там с огнем. Ла Раме подпилил перекладины, крепко привязал веревку, приготовил шляпу, которая должна была сберечь его руки во время спуска, потом бросил взгляд, горевший нетерпением, на горизонт, еще мрачный и безмолвный, воротился к столу и написал показание так ясно, как желал Эсперанс. Он прибавил к этому то, чего от него не требовали: свои сожаления о том, что он был так горд и простодушен, что интрига этой женщины, герцогини, побудила его возмутиться против своего короля. В эту великую минуту ла Раме чувствовал, как душа его возрождалась от потоков радости, стремившихся в нее. Он был добр, он был благороден, счастливая любовь превращала его в героя. Только что он кончил писать, как на лестнице раздались тяжелые шаги. Отворилась дверь, на пороге показался старик. Ла Раме узнал губернатора по описанию Эсперанса. Он встал и почтительно поклонился, решившись, по совету своего покровителя, не говорить, если с ним не заговорят. Он обернулся к окну, с наслаждением любуясь первым бледным и тонким туманом, который поднимается на воде при приближении рассвета. Небольшой колокол заблаговестил к заутрени в Сен-Мартенском квартале; заутреня в соборе Парижской Богоматери тоже не замедлит начаться. В то же время проницательные глаза молодого человека увидали на конце Малого моста, на берегу реки, в самой черной тени, движение, похожее на лошадей, спускающихся с покатости. Он не выдержал более и, воротившись к столу, хотел умолять губернатора поскорее унести показание и запереть дверь. Но, к своему великому удивлению, он увидал, что старик стоит с бумагой в руке, и что бумага эта не показание, он даже не взглянул на него. Физиономия старика не показывала той обязательной кротости, которую расхвалил Эсперанс. Его бледные и глубоко изменившиеся черты, глаза, сверкавшие мрачным выражением, странный трепет губ обнаруживали, напротив, скрытную неприязнь, почти угрозу. — Милостивый государь, — сказал растревоженный ла Раме, — вот показание… Я считаю его достаточным и, кажется, могу отправиться. — Не об этом идет дело, — отвечал старик могильным голосом, — прежде чем отправиться, допрашивали ли вы вашу совесть? — Я обвинил себя перед Богом. — В мятеже, в преступлении против короля, да. О, король вам простил, без сомнения, потому что просил меня позволить вам бежать; но это единственные ли преступления, в которых вы можете себя упрекнуть? Назначенный час пробил в соборе Парижской Богоматери; ла Раме вздрогнул и сделал движение, чтобы бежать к окну, старик остановил его за руку. — Отвечайте мне сначала, — сказал он. — Что я должен вам отвечать? — прошептал ла Раме, которого этот свирепый допрос удивлял и который боялся, что он имеет дело с безумным. — Скажите мне просто, ла Раме ли вас зовут? — Конечно, я это подписал на этой бумаге. — Скажите мне, тот ли вы человек, который после Омальского сражения убил за изгородью ничего не подозревавшего всадника? Ла Раме побледнел и отступил от сверкающих глаз старика. — Отвечайте же! — вскричал тот со страшной запальчивостью. — Милостивый государь… если я был преступен, — пролепетал ла Раме вне себя, — меня должны упрекать в этом и наказать Бог и король. В последнюю минуту мои враги расставляют мне эту новую засаду. Каким образом мои частные поступки касаются других кроме меня и по какому праву вы допрашиваете меня? — Потому что меня зовут барон дю Жарден, и вы убили моего сына! Ла Раме громко вскрикнул и, оледенев от ужаса, упал на кресло и закрыл руками лицо. — Стало быть, уведомление было справедливо, — прошептал старик, — убийца Урбена находится на том самом месте, где я столько раз обнимал Урбена! Милостивый государь, — продолжал он с мрачным величием, — король вас помиловал, но я вам не прощаю. Вы убили моего сына, вы умрете. Вы слишком еще счастливы, что я позволяю вам кончить жизнь как мятежнику, когда я мог бы заставить вас осудить, как… Губернатор стукнул кулаком в дверь, и в минуту показалось несколько солдат, занявших комнату. — Я из сострадания к осужденному, — сказал им старик, — поместил его в лучшую тюрьму, но, видите ли, он подпилил решетку и приготовил веревку, чтобы бежать. Будем караулить его, ребята, будем караулить его до восьми часов, чтобы он не избегнул божеского правосудия! Солдаты стали между пленником и окном, губернатор сел поперек двери и прибавил: — Если кто-нибудь позовет меня, ответа не будет. Я не тронусь отсюда до прихода палача! При этих словах трепет пробежал по жилам преступника. Он приподнял голову, и как будто угроза смерти возобновила его мужество, оживила его гордость и прекратила его страшное беспокойство; он сказал старику, указывая ему на показание, оставшееся на столе возле погасавшей свечи: — Не намерен ли негодяй, который донес вам на меня, воспользоваться моей кончиной и бесславить меня после моей смерти? Я остаюсь Валуа, потому что умираю, и полагаю, эта бумага становится бесполезна. Губернатор подал ему бумагу, не отвечая ни слова. Тогда ла Раме сжег то, что написал, и придвинул кресло, чтобы сесть. Но при воспоминании о словах, вырвавшихся у несчастного отца, ла Раме ужаснулся этого места. Он оттолкнул кресло и остался на ногах, наклонив голову, скрестив руки на груди, среди солдат, наблюдавших за всеми его движениями. Вот какова была мрачная картина, которую осветили первые лучи дня. Между тем Эсперанс, верный своему обещанию, ждал на назначенном месте. Анриэтта повиновалась. Она ехала в носилках за лошадьми, приготовленными для ла Раме, а носилки, скрытые в соседней улице, караулил Понти верхом. При условленном сигнале Эсперанс приблизился к Шатле, думая, что пленник спускается; но минуты проходили; известно, почему побег не мог произойти. Эсперанс все ждал. Когда настал рассвет, Анриэтта, на лице которой изображалась адская радость, объявила, что ничто не принудит ее выставить себя напоказ в подобном квартале, что Эсперанс обманул ее, что побег не может совершиться при солнечном свете, и эти причины показались основательными обоим молодым людям. Они должны были позволить вероломной женщине воротиться домой; притом она могла только их стеснять, так как ла Раме не являлся. Эсперанс десять раз старался войти в Шатле, его не пускали. Он спрашивал себя, не передумал ли король. Он вообразил, что ла Раме не хотел написать довольно подробного показания. Словом — все, что расстроенная голова может придумать, Эсперанс говорил себе во время трех смертельных часов ожидания. Он не мог понять, каким образом ла Раме, по крайней мере, не покажется. Он понимал еще менее, каким образом, если препятствия происходят от короля или Крильона, последний дал ему знать. Понти, отправленный Эсперансом к кавалеру, воротился сказать, что король не переменял ничего. Кавалер вызвался сам приехать в Шатле, чтобы уверить в этом. Между тем Гревская площадь наполнялась зрителями, виселица возвышалась, требуя своей добычи, и в половине седьмого прибыли в Шатле палач и новый отряд солдат. Именно в это время приехал кавалер и взял с собой в тюрьму Эсперанса и Понти. Осужденный находился уже в нижней зале, окруженный всеми принадлежностями смерти. У дверей этой залы стоял неумолимый старик, решившийся не выпускать из рук своего мщения. Крильон подошел к нему попросить объяснения в этом странном недоразумении, губернатор показал ему письмо странного, неизвестного почерка.«Барон дю Жарден, пленник, которому мы должны позволить в эту ночь бежать, — убийца вашего сына Урбена».
— Да ведь это правда, — прошептал Крильон, смотря и на губернатора, и на Эсперанса, который читал письмо и бледнел. — Он признался, — сказал старик. — О, зачем я вмешивался в дело этого злодея! — вскричал кавалер. — Никогда нельзя было вообразить подобной гнусности, — пролепетал Эсперанс, который угадал, кто сделал донос. — Никогда не было более праведного правосудия небесного, — сказал Понти. — Ради бога, постараемся еще… поедем к королю, — сказал Эсперанс. — Если король захочет спасти этого злодея, я сам окажу себе правосудие, — перебил губернатор. — Все кончено, — сказал Крильон. — Поедемте, Эсперанс, нам нечего больше здесь делать. — Вам, может быть, — отвечал молодой человек, волнение которого обнаруживали влажные глаза, — но я не могу уехать, не высказав этому несчастному, сколько я страдаю. Крильон пожал плечами и вышел. Уже процессия отправилась в путь. Ла Раме шел, высоко подняв голову, с твердым взором, между двойным рядом солдат. Когда он поравнялся с губернатором, он закрыл на минуту глаза и прошептал тихо: — Простите! — Я прощу через полчаса, — таким же тоном отвечал старик. Вдруг ла Раме приметил Эсперанса, который расталкивал толпу, чтобы подойти к нему. Вместо того чтобы поблагодарить этого честного защитника, благородные намерения которого выражались в эту минуту в дружелюбном взгляде, ла Раме сказал: — А, изменник, вот и ты! А, негодный доносчик, ты пришел оскорблять мои предсмертные минуты, а потом, когда ты убедишься, что я умер, ты спокойно украдешь у меня Анриэтту. Я знал, — прибавил он с ужасным гневом, — что ты еще любишь ее и никогда не уступишь ее мне! Я знал, что ты не отпустишь ее со мной! Эсперанс, вне себя, хотел его прервать. — Злодей!.. злодей!.. — продолжал ла Раме. — Но я буду отмщен. Она меня любит и будет упрекать тебя в моей смерти. Он сделал движение, чтобы поднять руку на Эсперанса. — Как! — закричал Понти, сжимая руки своего друга. — Ты позволяешь оскорблять себя таким образом?.. Ты?.. отвечай же этому злодею, который обвиняет тебя!.. Скажи ему правду об этой женщине. — Молчи! — сказал Эсперанс с высокой кротостью. — Этому несчастному остается жить только несколько минут. Если я сделаю то, что ты говоришь, он умрет в отчаянии. Молчи! Пусть он сохранит свое доверие, свое последнее счастье, пусть он считает себя любимым, а меня низким изменником… пусть он умрет с миром! Толпа, не оскорбляя его, следовала за осужденным, который мужественно шел к Гревской площади и искал еще в этой безмолвной толпе или сторонников, присланных его освободить, или последнюю улыбку своей невесты. Ничего! Роковой час пробил, молодой человек вошел на лестницу как триумфатор, предал себя палачу и отдал душу Богу, прошептав имя Анриэтты.
Глава 60 КРОВЬ ЗА КРОВЬ
В самый день смерти несчастного ла Раме, иногда в Лувре еще говорили об этом, и одни радовались, а другие сожалели, потому что для всех было очевидно, что палач наказал только орудие интриг герцогини Монпансье, в этот день, говорим мы, вся знать толпилась во дворце, чтобы поздравить короля и возобновить ему уверение в преданности и уважении. Два экипажа остановились у дворца. Из одного вышли д’Антраг и граф Овернский под руку с Марией Туше, более величественной, и с Анриэттой, более блистательной, чем когда-нибудь. Последней с восьми часов утра уже нечего было бояться самого опасного своего сообщника, того, который так давно ей угрожал. Из другой кареты с гордостью и с самоуверенностью вышла герцогиня Монпансье, свита которой была многочисленна и великолепна. Герцогиня была менее спокойна. Ла Раме, умирая, обнаружил слишком много тайн. Оба общества сошлись у лестницы. Анриэтта и ее отец остановились, чтобы пропустить страшную лотарингку. Герцогиня устремила проницательный взгляд на молодую девушку, и как бы угадав, что она способна продолжать и докончить ее дело, удостоила ее улыбкой и поклоном. По волнению, поднявшемуся во дворце, в залах и галерее, по мрачной физиономии Сюлли, по мимолетной бледности, которая покрыла на минуту черты короля, все поняли, что должна произойти интересная сцена. Екатерина Лотарингская одна шла медленно и вырывала поклоны у всех тех, которые имели неблагоразумие смотреть ей в лицо. Она дошла таким образом до галереи и, отыскивая короля, приметила, что он тихо говорил со своим министром и капитаном гвардейцев. Потом Генрих опять начал играть и не выказывал уже волнения. Герцогиня подошла к карточному столу, и говор, поднявшийся сначала, потом молчание, сменившее его, предупредили короля, что пора повернуть голову; притом герцогиня уже начала один из тех комплиментов, на которые была мастерица. — Государь, — говорила она, — я приехала, несмотря на мое слабое здоровье, поздравить ваше величество… Король тотчас ее прервал. У него был холодный и сухой вид, который показывал в нем, так как лицо его было всегда любезно и дружелюбно, сильный гнев, потому что Генрих, когда он был раздражен, умел сдерживать себя настолько, чтобы сохранить все свои преимущества. — Кузина, — сказал он среди глубокого молчания всего собрания, — уж сегодня я никак не ожидал вашего визита. Лотарингка изменилась в лице. Она надеялась, что долготерпение Генриха удовольствуется на этот раз наружной вежливостью и что дипломатические сношения могли еще существовать. — Почему же, — отвечала она с волнением, — ваше величество меня не ожидали? — Потому что сегодня вечером здесь не место для такой честной принцессы, как вы, когда в Лувре живет король, заставляющий погибать на эшафоте ее родных. — Государь, что значат слова вашего величества? — Это собственные ваши слова, кузина, а не мои. Вы всегда считали ла Раме Валуа, вы доставили ему документы, деньги, кредиты; он сам ничего не знал, этот несчастный; вы открыли ему его происхождение. — Государь, эти обвинения… — Я должен был бы сделать вам, скажете мне, через моих президентов в Бастилии. Но вы женщина, а я веду войну только с мужчинами. Мало того, я избавляю женщин, когда могу, от всего, что, может быть, им неприятно. Поэтому я избавлю вас от необходимости являться в Лувр. Ваши владения обширны, живите в них, кузина. Вы принадлежите к числу тех опасных соседок, которых любят удалять от своих земель. Генрих встал, поклонился герцогине, которая была вне себя от бешенства и стыда, показав таким образом, что он высылает ее, сел на свое место и взял карты среди говора шумного одобрения. Лотарингка зашаталась. Черты ее исказились, желчь бросилась в лицо, и ужасно было видеть этот желтый лоб, под которыми два глаза черно-красного цвета дико сверкали, как дрожащее пламя. Она ушла, задыхаясь, но на первых ступенях силы ей изменили. Ее люди отнесли ее в карету. Только что она исчезла, как все стали дышать свободнее. Точно будто у короля и у Франции не было больше врагов. Генрих оставил карты и стал обходить группы придворных, среди которых граф д’Антраг, выражая свою радость шумнее двух дюжин обыкновенных энтузиастов, старался привлечь внимание его величества. Король приметил этого достойного графа и улыбнулся ему. Он увидел также и Анриэтту. Она была так хороша, и, когда она смотрела на короля, грудь ее поднималась с таким волнением, что король нашел только одно средство против волнения, которое чувствовал сам: он наговорил комплиментов чопорной и величественной Марии Туше, погасив холодом этого полустолетия пылкий огонь восемнадцатилетнего возраста, сжигавший его. Граф Овернский порхал около этой группы, пуская там и сям и всегда кстати вспомогательную стрелу. Между тем на одном конце залы смеялась и очаровывала Габриэль, взглядов которой добивался многочисленный двор. Маркиза де Монсо не видала и не слыхала ничего, несмотря на кажущуюся свободу своего ума. Она села таким образом, чтобы видеть каждое новое лицо в галерее, но тот, кого она ждала, не приходил. Более совестливый, чем Анриэтта д’Антраг, он нее хотел явиться в Лувр торжествовать смерть врага. Когда король налюбезничался вдоволь с Антрагами, удостоверившись взором украдкой, что Габриэль за ним не наблюдает, он воротился к ней, восхищаясь, что ему не помешали, а ла Варенн, из угла залы наблюдавший за каждым движением своего повелителя, вывел благоприятное предзнаменование для новой интриги из сдержанности и ловкости короля, потому что Генрих обыкновенно не умел сдерживать себя, когда дело шло об удовлетворенной прихоти. — Надо посмотреть, — шепнул король Сюлли, — что сделалось с герцогиней, потому что она вышла отсюда, как бешеная львица. Она может укусить… Через полчаса капитан гвардейцев, посланный разузнать об отъезде лотарингки, воротился сказать королю, что как только она приехала, с ней сделался обморок, и что в ожидании докторов она лежит без чувств. — Я поступил с нею грубо, — сказал Генрих, — только бы не стали упрекать меня, что я хотел ее убить. — Чтобы отплатить ей, — возразил Сюлли, — пусть говорят. — А если герцогиня Монпансье все будет лежать без чувств, — сказал капитан гвардейцев, — должна ли она оставить Париж? — Пусть она обязуется не шевелиться, не говорить, не думать, я ее принуждать не стану, — отвечал король, смеясь. — Злая гадина, — пробормотал Сюлли, — еще с ней надо церемониться! Пусть расстанется со своей гадкой душой, и чтобы все это не кончилось. — Э! э! До конца еще далеко, — сказал Генрих со вздохом, который не укрылся от Габриэль, — после герцогини у нас останется Майенн, и он будет шевелиться, говорить и действовать еще долго. Какая гидра эта лига!.. Чем более срубают ей голов, тем более их является. Габриэль при имени Майенна коварно улыбнулась и отвечала, положив свою белую руку на руку короля: — Самая крошечная рука может вырвать большую занозу. Олоферн был побежден Юдифью. — Что вы хотите сказать этими загадочными словами? — спросил Генрих, очень любопытный по своему характеру. — Ничего, — отвечала маркиза, — только то, что де Майенн слишком толст, для того чтобы быть злым. Сестра его худощава, государь, вот почему вам трудно с нею сладить. — Точно будто эта маркиза посадила толстяка Майенна в мешок и сдернула шнурки! Посмотрите, какой у нее торжествующий вид! Генрих был прерван приходом графа Овернского, который привез известие о герцогине. — Государь, — сказал он, — доктор объявил, что жизнь герцогини в опасности, что ее никак нельзя перевезти, и хотя, придя в чувство, герцогини приказала, чтобы ее увезли, служители послали узнать приказания вашего величества. Генрих сделал вид, будто не слышит. Сюлли отвечал: — Король не доктор, — и повернулся спиной. Однако было справедливо, что герцогиня была поражена смертельно. Только что оправившись от обморока, она почувствовала паралич тела, энергического и послушного, которое до сих пор подчинялось всем ее приказам и любой ее воле. Осужденная жить только мыслью, она провела несколько часов невыразимой тоски и не придумала ни одного средства избавиться от руки короля, которая первый раз тяготела над нею с намерением ее раздавить. Средств не оставалось более никаких. Прошедшее представляло ей только поражение, а будущее обещало только смерть. Постепенно исчезли ее орудия, разбитые повелительной судьбой. Шико правду сказал королю. У нее осталось только три средства, из которых последнее погибло на виселице с ла Раме. Герцогиня еще рассчитывала на брата де Майенна, не для себя, потому что этот брат ее не любил, но против Генриха, которому де Майенн еще угрожал. Она послала к нему гонца насчет заговора ла Раме и предлагала ему соединить войска, которые еще у него оставались, с войсками самозванца. По милости Крильона последние были уничтожены, но герцогиня Монпансье еще надеялась, что де Майенн соберет их остатки и возобновит союз, еще теснее прежнего, с Испанией. Однако герцог ничего не отвечал сестре, и она не могла понять его молчания. Не был ли захвачен гонец или де Майенн из осторожности пока воздерживался? В нетерпении, со своего болезненного одра, герцогиня отправила к герцогу своего последнего верного агента, с приказанием привезти ответ во что бы то ни стало. — Спешите, — сказала она, — известить моего брата, что я умираю и не могу терять время. Гонец торопился, и по возвращении нашел госпожу свою еще более страдающую душевно, чем телесно. Она все лежала в темноте и безмолвии, точно старалась заставить о себе забыть, как раненая пантера, которая зарывается под листья в свое логовище и остается там много ночей, не имеет ничего в себе живого, кроме глаз. При дворе о герцогине говорили только, для того чтобы спросить, умерла ли она наконец, а она в это время оживлялась мало-помалу и ждала ответа де Майенна, ответа благоприятного, она в этом не сомневалась, чтобы отравиться к нему в лагерь и подстрекать его всем своим бешенством и всем своим отчаянием. Наконец гонец приехал, он несколько дней употребил на трудный переезд между шпионами и обсервационными постами, которые окружали де Майенна на краю Пикардии. Герцогиня приподнялась на постели, трепеща от радости, распечатала письмо, привезенное ее, и поцеловала его, потому что почерк де Майенна обещал ей новую возможность начать. Но вот что писал ей брат:«Сестра, каждый хлопочет за себя на этом свете. Вы постоянно действовали по этому правилу. Вы ослабеваете, говорите вы, а у меня не осталось больше сил. Вы очень больны, а я считаю себя похороненным. Во всех этих последних делах вы, без сомнения, думали о ваших интересах, я начинаю думать о моих и приготовляю себе спокойствие в этой жизни в ожидании вечного. Живите в мире, сестра, как я постараюсь сделать это сам».
Герцогиня была поражена в сердце. С ней сделался обморок точно такой, как при выходе из Лувра, и на этот раз ее жизнь находилась в серьезной опасности. Мало того, повторился странный и ужасный феномен, который тоже в мае 1574 года испугал Венсенский замок, повторился, как будто для тех же преступлении Верховный Судия послал одно наказание. В ночь, последовавшую за этим кризисом, герцогиня заснула, несмотря на лихорадку; она проснулась, орошенная потом, она позвала, она кричала, чтобы ее горничные вынули ее из жгучей ванны, в которой скользили ее исхудалые члены. Горничные прибежали со свечами и отступили от ужаса, увидев, что на лбу госпожи выступил кровавый пот. Кровь беспрестанно выступала из каждой поры ее тела. Позванные доктора объявили, что герцогиня страдает той таинственной и ужасной болезнью, которая двадцать два года тому назад положила Карла IX в могилу. С этих пор не было более надежды, не было более средств. Герцогиня хранила угрюмое и свирепое молчание. Она пристально смотрела в зеркало, стоявшее в ногах ее кровати, с зловещим выражением ужаса, на капли крови, которые, всегда вытираемые, появлялись снова на ее щеках, висках и руках. При каждой вспышке гнева, при каждом сильном волнении пот увеличивался, и красная скатерть разливалась по лицу и по телу преступницы, так жестоко наказанной. Доктора удалились с ужасом, даже слуги боялись прикоснуться к проклятой небом больной. Послали за священниками, которые при виде этого кровавого трупа лишались чувств от испуга или бежали от ужаса. В ночь, последнюю ночь страдания, герцогиня хрипела на своей облитой кровью постели; она звала на помощь и никто к ней не приближался. Вдруг она приметила монаха высокого роста, который медленно шел в соседней комнате и перед которым низко кланялись слуги, от страха стоявшие в стороне. Этот монах дошел до постели умирающей и молча смотрел на страшное зрелище этой кончины. Увидев его с опущенным капюшоном, герцогиня поблагодарила его взглядом, потому что она не смела пошевелить руками, боясь почувствовать влажную теплоту крови. — Я хочу разрешения моих грехов, — сказала она мрачным голосом, еще запечатленным надменной властью, которая управляла каждым движением ее жизни. — Для того чтобы получить разрешение, — сказал монах, — вам надо исповедаться. — Я грешна, — сказала герцогиня шепотом, — в скупости, честолюбии, гордости. — А еще? — сказал монах. Она с удивлением посмотрела на него. — Если я могу упрекнуть себя в других грехах, мое тело страдает, моя память слабеет… голос мой замирает, не требуйте слишком многого в подобную минуту. Наказание, кажется, превосходит проступки… — Вы не говорите о преступлениях? — спросил монах. — О преступлениях? — прошептала она в остолбенении. — Да, о преступлениях! — повторил исповедник громким голосом. — У вас недостает сил, я этому верю, но я могу вам помочь. Вы признались в честолюбии и гордости. Но в разврате… этом отвратительном преступлении, которое испортило вашу молодость и даже ваш зрелый возраст, этом смертельном грехе, которым вы пользовались как знаменем, чтобы набирать себе легион убийц! — Монах! — закричала герцогиня, приподнимаясь одной рукой на постели. — Сознавайтесь! — торжественно сказал монах. — Если вы желаете отпущения грехов. Пораженная ужасом, герцогиня вместо ответа старалась рассмотреть под капюшоном черты человека, который осмеливался говорить таким образом. — Перейдем к убийству, — продолжал неумолимый исповедник. — Сосчитаем: Генрих Третий убитый, Генрих Четвертый — пораженный два раза, Сальсед, колесованный на эшафоте, ла Раме, умерший на виселице, тысячи солдат, павших на поле битвы, а жертвы, испускавшие дух в тюрьме, а дети, скончавшиеся от голода со своими матерями, а целые семьи, которые во время осады Парижа грызли трупы, чтобы поддержать свое жалкое существование, между тем как вы пили в вашем дворце за похищение французского престола! Сознавайтесь, герцогиня, сознавайтесь, если не хотите явиться перед судилищем Господа с этой ужасной свитой жертв, проклинающих вас. Герцогиня видела, как все присутствовавшие жадно подошли к дверям и поджидали ее ответа на этот страшный допрос. — Кто вы? — прошептала она. Монах медленно опустил свой капюшон и умирающая, узнав его, вскрикнула и сложила руки. — Брат Робер! — сказала она. — О, я понимаю, кем я была побеждена! Сжальтесь! — Признавайтесь же в ваших преступлениях! — Сжальтесь! — Говорите только «да» каждый раз, как я буду обвинять; этого будет достаточно и для людей, и для Бога. Разврат и ваши гнусные расчеты?.. — Да, — отвечала герцогиня задыхающимся голосом. — Умиравшие с голода парижане, убитые солдаты, задушенные пленные? — Да. — Сальсед и ла Раме, взведенные вами на эшафот? — Да, — прошептала герцогиня после молчания, прерываемого конвульсиями. — Генрих Четвертый, столько раз поражаемый?.. А!.. вы колеблетесь; берегитесь, единственная ложь помрачит заслугу двадцати признаний. Признавайтесь! — Да, — прошептала она так тихо, что монах с трудом мог расслышать. — А Генрих Третий, ваш король, ваш бывший друг, убитый вашим любовником Жаком Клеманом? — Никогда! Никогда! — закричала она, ломая себе руки, откуда кровь выступала крупными каплями. — Вы отпираетесь? — Отпираюсь. — Осмельтесь же отпереться перед Богом, перед которым вы явитесь через несколько минут и гнев которого вы должны уже слышать! — Сжальтесь!.. Признаюсь, признаюсь, — сказала герцогиня, спрятавшись, бледная и трепещущая, под изголовье. — Когда так, — продолжал монах торжественным тоном, — я разрешаю вас именем Бога на этой земле и прошу Его разрешить вас на небе. Умирайте с миром! Он протянул руки к постели; глаза умирающей бросали еще зловещее пламя, пламя гнева, может быть… А может быть, и вечных мук. Мало-помалу это пламя погасло, голова наклонилась, руки натянулись как бы для последней угрозы, но дыхание Господа разрушило этот жалкий труп. Герцогиня Монпансье глухо вскрикнула и скончалась. — Теперь, — прошептал монах, — Генриху Четвертому нечего бояться других врагов, кроме себя самого. Моя обязанность кончена. Теперь моя очередь думать о Боге. — Закрыв себе голову, он немедленно прошел по зале среди присутствующих, стоявших на коленях.
Глава 61 АЙЮБАНИ
Время шло. Неделя, которую назначила себе Элеонора, чтобы узнать тайну Эсперанса, прошла; потом прошло еще несколько недель, а итальянка не добилась желанных доказательств. Эсперанс, знавший планы Анриэтты и угадывавший любопытство Элеоноры, остерегался; притом он думал, что, при всей ловкости и искусстве лучших шпионов, что же могли открыть обе эти женщины? В самом деле, когда он бывал у короля, или с Крильоном, или один, что могло быть естественнее? Разве другие не бывали там так же, как и он? Когда он охотился в королевском лесу, или один, или с королем, разве это могло назваться призраком? Допустив даже, что Габриэль приезжала на охоту, разве с Габриэль не были другие дамы, и кто мог льстить себя мыслью, что уловил когда-нибудь пожатие руки или поцелуй, илиподозрительное слово? Эсперанс жил счастливо и спокойно. Притом его враги или шпионы не подавали признаков жизни. Иногда, это правда, в первые дни любопытства Элеоноры, Эсперансу представлялся позади него, издали, когда он ездил куда-нибудь, силуэт ленивого Кончино, галопирующего верхом на лошади; но Кончино как будто отказался от упражнения, которое не приносило ничего, а стоило дорого. Замученные лошади, боль в пояснице, время от времени падение на неудобной дороге — вот какова была его прибыль, потому что Эсперанс, на отличной лошади, неустрашимый, неутомимый всадник, забавлялся, заставляя своего шпиона скакать сломя голову, перепрыгивать через рвы и переплывать реки. Кончино должен был от этого отказаться. Молодой человек наслаждался счастьем быть любимым без угрызений и без препятствий, но чтобы не упустить из вида ничего, он купил небольшой домик в предместье, делая вид, будто ездит туда тайно, и в этом уединенном квартале только и речи было, что о лошаках, серых мантильях, хорошеньких ножках и об отважных пилигримках, являвшихся и исчезавших в этом эрмитаже. Слухи распространялись, а Эсперансу только этого и хотелось. Габриэль очевидно знала, что значат эти неверности, и все шло к лучшему, потому что шпионы были сбиты с толку. Мы не скажем, чтобы счастье Эсперанса было полное. Любовники всегда обязуются оставаться бескорыстными, и даже эссенция любви есть честолюбие и скупость. Не требуют ничего, желают всего, и если только душа не так твердо закалена, как у Аристида или Курия, желание обнаружится и заговорит языком, который скоро противоречит принятому обязательству. Эсперанс каждое утро получал от Габриэль сувенир. Его замысловатый друг умел разнообразить свои посылки с деликатной тонкостью женщин, которые никогда не затрудняются перед невозможным. За ланью с ее ошейником последовали африканские цветы, привезенные знаменитым путешественником Жаном Мокэ. Коллекция была богата и заняла несколько недель. Потом в промежутках были кружева, собака редкой породы, вещица, единственную ценность которой составляли работа или древность, редкое оружие, медаль, мраморная статуэтка, рисунок, рукопись, книга, иногда материя, один раз голубые китайские рыбки, другой раз карп из Фонтенебло с кольцами на плавательных перьях. Каждое утро Эсперанс ждал присылки с биением сердца и спрашивал себя, какую мысль будет иметь в этот день Габриэль. Если мысль была смешна, он смеялся, дружелюбно, он вздыхал. А послами были купцы, слуги, разносчики, женщины, которые приносили вещь, не видя даже Эсперанса, все-таки люди, которые, если бы их спросили, не могли отвечать ничего, не зная ничего. Но для молодого и нежного любовника, как Эсперанс, могло ли быть достаточно этого ежедневного сувенира? Аристид не пожелал ли бы другого? Курий, принимая медали, ланей и карпов, не думал ли бы, что Габриэль имеет другие средства к обольщению, еще обольстительнее? Наконец, не должна ли была наступить минута, когда человек, по природе ненасытный, проснется и будет требовать вдвое и вдесятеро более того, что было ему предложено, и променяет свою посредственность, приятную, недосягаемую, счастливую, эту золотую посредственность на жизнь вздохов, опасных поступков, движений, которые так скоро обнаруживают любовника и губят любовницу? Может быть, та минута уже настала. Может быть, враги Эсперанса заснули только по милости этой вероятности. В один летний вечер, когда Понти, верный спутник, следовал в саду за своим нетерпеливым Орестом, и когда оба казались в замешательстве, как случается, когда стесняешь друг друга, Эсперанс, после прогулки, во время которой он надеялся, что Понти простится с ним, бросился на мягкий дерн и, положив руки под голову, устремив глаза на неизмеримую небесную лазурь, по-видимому, забыл всю вселенную. Понти последовал его примеру. Оба рядом погрузились в неопределенное наслаждение экстаза. Молчание их прерывалось только щебетанием птиц, отыскивающих свои гнезда. — Эсперанс, — сказал наконец Понти, — или я тебя стесняю, или мне кажется, что ты скрываешь от меня что-нибудь. — Что же такое? — спросил Эсперанс, не обращая внимания на вопрос, который его друг делал ему раз сто. — Ты скучаешь. — Я? Я никогда не находил жизнь столь приятной. — Ты, верно, устал. — Я так свеж, как будут завтра свежи птицы, которые теперь ложатся спать. — Эсперанс, ты очень часто ходишь в предместье. — Ба! — И молодой человек отвернулся, чтобы скрыть лукавую улыбку. — Ты заставляешь слишком много говорить о себе, Эсперанс, — прибавил Понти, делая ударение на каждом слове, — и когда-нибудь у тебя очутится на руках целый легион отцов, мужей и любовников, которые потребуют у тебя отчета. — Понти, ты преувеличиваешь. — Я тебе говорю то, что говорят. Я был вчера на карауле в малых покоях. О твоих подвигах рассказывали у короля. — Разве у короля нет своих подвигов? — Он имеет на это право. — Ты, кажется, читаешь мне нравоучения? — Я пересказываю тебе нравоучения Крильона, который находит, что ты скрываешь слишком много и что ты скоро будешь открыт… Ты не тщательно скрываешь твои следы. — Называют кого-нибудь? — спросил Эсперанс с любопытством. — Посмотрим; скажи мне одно имя, одно. — Я скажу тридцать имен, если повторю все, что говорят о твоих любовных приключениях. Эсперанс пожал плечами. — Надо же проводить молодость, — сказал он, подавляя легкий вздох, потому что действительно он сожалел несколько о своей молодости. — Таким образом, — продолжал Понти, — я составил план. — План? Для меня? — Да, друг мой, я сказал себе, что мой долг наблюдать за всем, чтобы с тобой не случилось ничего неприятного. — Это благоразумная мысль. — Неприятность ты получишь от злоупотребления посещений в домик предместья. Уж ты, кажется, устал, побледнел, растревожен, признайся в этом. — Но… — Надо подрезать самый корень зла. Я решился поселиться в этом домике, таким образом я буду оберегать тебя, и всякая опасность найдет меня с оружием. — Что это за чепуха? — сказал Эсперанс, приподнимаясь, чтоб лучше рассмотреть лицо Понти. — Как! Ты говоришь серьезно? — Совершенно серьезно. — Ты намерен поселиться в домике предместья? — Таково мнение Крильона. — Мой добрый друг, я нежно люблю Крильона, — сказал Эсперанс, притворяясь раздосадованным, — я к тебе имею очень глубокую привязанность, но я буду умолять вас обоих не вмешиваться в мои дела. — Человек, имеющий друзей, не принадлежит себе. — Перестань смеяться, Понти. — Я не смеюсь; завтра я оставляю чудесную квартиру, которую ты дал мне здесь, оставляю ее с сожалением, потому что жить с тобой мое главное счастье, но это необходимо; я всегда подчиняюсь долгу, я солдат, я знаю дисциплину. Завтра я поселяюсь в предместье. Эсперанс встал, схватил Понти за руки и сказал: — Ты сделаешь мне удовольствие и перестанешь говорить глупости. Ты живешь здесь и оставайся здесь. А идеи Крильона я берусь исправить со всем уважением и со всею дружбой, какие я обязан иметь к нему. Перестань думать о том, чтобы жить в домике предместья. Твоей ноги не будет там. Понти, привыкший поступать по своей воле, с удивлением посмотрел на Эсперанса. — Ты мне отказываешь? — сказал он. — Я тебе запрещаю думать об этом. Лицо Понти приняло такое странное выражение обманутого ожидания, что Эсперанс чуть не засмеялся, хотя однако для него необходимо бы оставаться серьезным. — Позволь мне сказать, — прибавил Понти, взяв за руки своего друга, — мое перемещение в предместье было не только обязанностью относительно тебя… — А что же еще? — Занимаясь твоими делами, я трудился также и для своих. — Расскажи мне, — сказал Эсперанс, смеясь. — Я, кажется, влюблен, — прошептал Понти с лицом вместе и расстроенным и самонадеянным. — О, мой бедный Понти! В кого? — Это целая история. Я расскажу тебе ее когда-нибудь. — Мы никогда не будем иметь лучшего случая. Мы одни под деревьями, под голубым небом. Воздух душист, птицы молчат, вода очаровательно аккомпанирует своим журчанием, говори. — Друг мой, это индианка. — Что? — вскричал Эсперанс. — Что ты говоришь? — Это индианка… Видишь ли, мне кажется, будто это сон. — Разве в Париже есть индианки? — О, любезный друг! Она скрывается, она убежала оттуда. — Откуда? — С берегов Ганга. — Отчего это? — Наверняка не знаю, но полагаю, оттого что ее хотели принудить сгореть на могиле ее мужа. — А! Она вдова? — Кажется. — Чья? — Э, ты многого спрашиваешь у меня, я сам этого не знаю. Столько вопросов нельзя делать, когда влюблен. — Извини меня, я не хотел тебя оскорбить. Итак, это скрывающаяся беглянка? — Ты хочешь сказать, что это авантюристка, не правда ли? — Совсем нет. — Если б ты видел ее перья, бриллианты, жемчуг и индийский костюм! — Воображаю все это. Но хороша ли она? — Она немножко желта… но ведь она в этом не виновата; она немножко мала, но и я невысок. У нее черные глаза… О, какие глаза! и птичья лапка с ногтями!.. О чем ты думаешь? — Я спрашиваю себя, каким образом ты мог встретить индианку на парижских улицах. — Когда я тебе расскажу, ты придешь в восторг. Только со мной случается подобное счастье. — И ты влюблен? — Страстно; тем более, что индианка несвободна и у меня нет случая видеться с нею. — Однако ты ее видел? — Да, но случайно. — Ты ей сказал, что ее любишь? — О, сразу же. — Как же она отвечала? — В том-то и затруднение. Будучи индианкой, ты понимаешь, она по-французски не говорит. — А ты не знаешь по-индийски. На каком же языке вы объясняетесь? — Делаешь, что можешь; есть знаки, гримасы, движения; выдумываешь язык, каждый говорит по-своему; это очень мило. — Это должно быть очаровательно, но не полно. Пантомима не может объяснять политических подробностей, спорных вопросов и фамильных обстоятельств. Как ее зовут? — О! У нее очаровательное имя: Айюбани. — Айюбани? Имя действительно восхитительное. — Так что я хотел, — наивно продолжал Понти, — попросить у тебя домик в предместье. Я не могу бывать у Айюбани, за которой надзирают женщины и какой-то монгольский принц, ревнивый ягуар. Если он увидит меня у нее, он ее убьет. — Бедная Айюбани! Но если он увидит ее у тебя, разве он не убьет ее точно так же? Объясни-ка мне это. — Ты спрашиваешь меня о невероятных вещах! — вскричал Понти. — Ведь я тебе говорю, что мы с нею почти не может понимать друг друга; как же ты хочешь, чтобы мы пускались с нею в подобные точности? Я люблю ее — вот и все, и думаю, что она меня также любит. Хочешь, да или нет, помочь моей любви? — Друг мой, ты не понимаешь моих намерений, — сказал Эсперанс, смеясь при виде раздражения Понти, — я горю желанием служить тебе, но не знаю каким образом. Обязанность друга наблюдать за своим другом; ты мне сейчас это объявил, и я в этом убежден. А если монгольский принц потребует от тебя отчета, что ты сделаешь? — В твоем доме я сумею защитить себя и защитить Айюбани. — Возьми же мой дом. — Ну вот и прекрасно! — И покажи мне эту индианку. Я никогда не видал индианок. — Она никогда не снимает своего покрывала. — Я полагаю, ты заставляешь ее снимать иногда, хоть бы, для того чтобы видеть ее черные глаза. — Я знаю ее характер; если она узнает, что я показываю ее кому-нибудь, она способна не возвращаться более. Подожди немножко, дай мне ее приручить. После мы тебя представим. — Как хочешь. Но прости меня, мне пришла пресмешная мысль. — Скажи. — Если вы оба используете пантомиму, каким же образом Айюбани могла объяснить тебе такие сложные обстоятельства, как эти: «Я вдова; меня хотели сжечь живую; я не хочу, чтобы кто-нибудь меня видел, а если вы покажете меня кому-нибудь, а оставлю вас навсегда. Впрочем, я отправлюсь, если вы хотите, в другой дом, с условием, чтобы монгольский принц, который ревнует меня, не узнал о моем поступке»? Признаюсь тебе, Понти, что эти объяснения трудно дать не говоря, и я со своей стороны не взялся бы сообщать их, ни понимать. В особенности слова «монгольский принц» никак нельзя передать жестами. Понти пожал плечами. — Индийский язык совсем не такой трудный, как думают, — отвечал он, — я понимаю много фраз; я должен даже сказать, что каждый раз, как представится затруднение, Айюбани находит слово, передающее ее мысль. Она очень умна и сочиняет выражения по своим потребностям. — Это чудо, — прошептал Эсперанс. — Притом, — перебил Понти, — дело идет совсем не о том; наши затруднения касаются меня, и если я их уничтожу… — Это правда, друг мой. Ну, используй мой домик в предместье. — И обещай мне не компрометировать меня какой-нибудь нескромностью. Ты очень нескромен, Эсперанс! Молодой человек молча улыбнулся. — Это недостаток, — сказал он, — но я исправлюсь. — Ты не будешь стараться видеть Айюбани прежде, чем она даст позволение? — Обещаю. Ты увидишься с нею завтра? — Может быть… наверняка не знаю. — Не мучься. Завтра я не буду в Париже. — А!.. Ты охотишься? — Да. — Где? — Право, не знаю. В Сен-Жермене, Фонтенебло, в Сенарском лесу. — И уедешь рано? — Очень рано. — Когда так, ты дашь мне ключи от домика в предместье. — Сейчас. — Отправиться мне сегодня вечером приготовить там все? — Как хочешь. Эсперанс свистнул особенным образом. Его собаки тотчас прибежали, прыгая от радости, а за собаками лакей, которого этот сигнал особенно звал. — Ключи от домика в предместье месье де Понти, — сказал он, — ступай, Понти, за этим человеком, и успеха! — Ты лучший из друзей, — сказал Понти, обнимая Эсперанса. — Немножко нескромен, но я прощаю тебе. — Благодарю. — Увижусь я с тобой сегодня? — Я уже буду в постели, когда ты воротишься. — Не ночевать ли мне там? — Как хочешь. Отныне этот домик твой. Восхищенный Понти полетел как стрела. Как только Эсперанс остался один, он думал несколько минут обо всем, что ему сказал Понти. Потом, когда настала ночь, он притворился, будто лег спать, по обыкновению. В два часа утра он встал. В доме все спали. Он велел оседлать одну из своих лучших лошадей, выбрал хорошую короткую шпагу, взял охотничий карабин, деньги и тихо вышел.Глава 62 ГРЕМИТ ГРОМ
Через несколько часов после отъезда Эсперанса две молодые женщины прогуливались в саду Замета. Это были Анриэтта и Элеонора. Анриэтта два раза в неделю навещала свою ворожею, которую постоянные сношения сделали ее другом. Анриэтта выбирала утро, потому что было хорошее время года, сад Замета обширен и красив, утром все еще спят и это время удобнее вечера, так как тайна не годится для репутации молодой девушки. Притом так решил фамильный совет Антрагов, верховный судья каждого поступка Анриэтты. С тех пор как дело шло о короне, этой невинной молодой особе позволяли выходить по утрам. Но у Анриэтты эти два визита имели двойную цель, король писал к ней два раза в неделю и ла Варенн приносил его письма в восемь часов утра к Замету, для того чтобы в том многолюдном квартале, где жили Антраги, слишком известная личность ла Варенна не была примечена. Итак, Анриэтта и Элеонора прогуливались в саду Замета в ожидании письма короля. Предмет их разговора не изменялся: они всегда разговаривали о Габриэль, об успехах королевской нежности, о поступках Эсперанса. Элеонора, побуждаемая событиями, придала всей этой интриге быстрый ход. В этом кругу ожесточенных врагов фаворитки предсказывали ту самую минуту, когда маркиза падет. Проницательный ум Анриэтты помогал хитрости Элеоноры; обе женщины очень скоро отгадали все, что бедный Эсперанс скрывал с таким старанием. И хотя они только предполагали, этих предположений было достаточно, для того чтобы приготовить все основания нападения на Эсперанса врасплох. Вспоминая первый значительный поступок Габриэль, ее приезд в Шатле, чтобы освободить Эсперанса, Анриэтта, которая, впрочем, видела Габриэль с молодым человеком в Безоне, сказала себе, что женщина в высоком и щекотливом положении маркизы не поехала бы сама освобождать пленника, если б не принимала в этом пленнике участия, которое было выше всех светских условий. И она была права. С той минуты, освободившись сверх того от всяких опасений после смерти ла Раме, Анриэтта наблюдала за Габриэль, и в ее улыбке, в тоне ее голоса, признаках ничего не значащих для всякой другой, кроме женщины ревнивой, она прочла то же участие и еще более горячее, которое связывало маркизу де Монсо с Эсперансом. Правда, что кроме этих улыбок ничто не доказывало их сношений, но следует ли останавливаться, когда подозреваешь? И разве пренебрегают даже ничтожными доказательствами, когда решаются придумать в случае надобности всевозможные доказательства? Охоты Эсперанса, его поездки были подстерегаемы. Элеонора присоединила свои наблюдения к наблюдениям Анриэтты. Эсперанс думал, что поступает гнусно, привлекая внимание на свой домик в предместье. Но в один день или, лучше сказать, в один вечер смелость Элеоноры расстроила его соображения. Итальянка приметила из донесений своих агентов, так же как и своими собственными глазами, что эти женщины находили друг на друга, несмотря на различные экипажи, на разнообразные костюмы и на разные часы свидания. Элеонора, говорим мы, поставила Кончино на углу улицы предместья. Итальянец, притворившись пьяным, отдернул мантилью, в которую закутывалась одна из этих таинственных дам, она закричала, убежала, позвала на помощь, но Кончино ретировался, узнав Грациенну, преданную служанку Габриэль. Какое открытие! Нечего было сомневаться, что любовь Эсперанса не могла быть обращена к такому низкому предмету. Выберет ли он, самый красивый, самый богатый, самый изысканный из придворных, служанку, чуть не мельничиху! Невозможно. Стало быть, Грациенна привозила письма, или назначала свидания молодому человеку от имени своей госпожи. Это предположение, как ни было оно правдоподобно, не было принято Элеонорой, которая знала от самого Эсперанса его намерение остаться верным венецианке, которую он любил. Но Эсперанс мог солгать. Он не был так неблагоразумен, чтобы позволить приносить к нему письма женщине, Грациенне, которую так легко было ограбить. Нет, Грациенна бывала в домике предместья не как посланница с записками, которые можно было отнять, она бывала у Эсперанса, для того чтобы заставить думать, что молодой человек принимал женщин и имел любовные интриги. Габриэль, ревнуя к своему любовнику, не позволяла ему других призраков, кроме Грациенны. Эсперанс, для того чтобы успокоить свою любовницу, ничего не требовал более, и деликатность этих двух совершенных созданий становилась самым сильным доказательством, которое их враги могли представить против них. Как только Элеонора нашла ключ к этим соображениям, ее труд сделался легче. Напрасно люди менее искусные стали бы уверять, что Грациенна была довольно приятна, для того чтобы нравиться часа на два молодому человеку; напрасно стали бы ссылаться на то, что Генрих Четвертый, король, очень любил мельничих, садовниц и миловидных женщин всех сословий: Элеонора знала Эсперанса и не могла ошибиться в его вкусах. Эсперанс должен был любить принцесс, герцогинь и королев. Он, может быть, довольствовался бы маркизой, но уж никак не ниже. Невероятно, чтобы Грациенна пользовалась его расположением. Стало быть, оставалось только отыскать тот решительный час, которого не может избегнуть ни один влюбленный и около которого он кружится самым роковым образом, как бабочки около притягивающего их пламени. Сторонники политического брака короля с отчаянием видели, как развивалась его любовь к Габриэль. Во главе этих заговорщиков, хотя отдалившись от всякой пошлой интриги, Сюлли не переставал повторять, что маркиза была для Генриха самым опасным из всех обольщений. В самом деде, говорил умный гугенот, короля можно захватить только сердцем. У него слишком много ума, слишком много здравого смысла, слишком много рассудительного эгоизма, для того чтобы не угадать корыстолюбивых расчетов, более или менее прикрытых хитростью любовницы. Но против истинного бескорыстия, против искренней горести, против честной привязанности он бессилен, он подчиняется очарованию, он любит домашнее спокойствие, целомудренную ровность характера доброй женщины. Габриэль, которая не хочет ничего и не требует ничего, которая всегда смеется и никогда не ссорится, эта ужасная совершеннейшая женщина всегда мешает королю жениться. Если только, прибавлял он с гневом, она не заставит его, против своей воли, сделать ее французской королевой. Эти идеи, переходя от Сюлли к Замету, от Замета к Антрагам возбуждали в них страшную бурю. Элеонора раздувала ее энергически, Анриэтта, мужественная, гордая, не примечала, что сделалась невольницей своего орудия. Элеонора постоянно рассказывала Анриэтте то, что могло возбудить в ней гнев и приводить ее к поступку, за который ответственность итальянка побоялась бы взять на себя. Только бы ее интрига делала шаг вперед, Анриэтта не отступала никогда. Идти вперед — таков был девиз Антрагов. Роль Элеоноры обрисовывалась также ясно, с оттенком чисто итальянским: заставить идти вперед — вот каков был девиз флорентийского союза. Рассказав эти подробности, последуем за обеими женщинами в сад Замета, по которому они гуляли, срывая там и сям цветы, еще влажные от утренней росы. Посланный короля, аккуратный как солнечный луч, явился в ту минуту, когда Элеонора рассказывала своей приятельнице об отъезде Эсперанса ночью. Это обстоятельство, рассказанное только как подробность ежедневного надзора, это простое донесение полиции союзников не взволновало Анриэтту, привыкшую слушать, что в такой-то день Эсперанс отправился на охоту, в такой-то пробовал лошадь, в такой-то, наконец, запирался в домике предместья. Приход ла Варенна представлял больший интерес. Анриэтта взяла письмо, чтобы прочесть его, поодаль. При первых словах она вскрикнула от радости. Этот крик подозвал к ней Элеонору. Обе молодые женщины вошли в тенистую аллею, которая скрыла их на минуту от глаз ла Варенна. — Знаешь, что король предлагает мне, Элеонора? — Догадываюсь, — сказала лукавая флорентийка, — но все-таки скажите. — Полдник в Сен-Жермене сегодня вечером. — О! о! Что скажет граф д’Антраг? Полдник… вечером… Сен-Жермен… вот три ужасные слова для добродетели девушки! Странная улыбка Анриэтты очень скоро доказала Элеоноре, что ее добродетель способна выдержать такие ничтожные опасности. — Я знаю, — продолжала итальянка, понимавшая даже молчание, — я знаю, что вы не согласитесь ни на что до падения вашей соперницы. Но все-таки опасность есть. Притом, если маркиза застанет вас с королем? — Маркиза уехала сегодня рано утром в Монсо. — Уехала одна? — спросила итальянка. — Конечно, если король пользуется ее отсутствием, чтобы предложить мне этот полдник. — Уехала одна! задумчиво повторила Элеонора. — Я вижу, что очень выгодно, — продолжала Анриэтта, — воспользоваться этим отсутствием, чтобы провести час с королем и сказать ему несколько добрых истин. — Что правда, — сказала Элеонора задумчиво. — О чем ты думаешь? — Об этом отъезде в Монсо. — Ты думаешь, что это хитрость Габриэль, для того чтобы застать врасплох короля? Маркиза неспособна на подобную мелочь, это хорошо для таких дур, как мы, моя милая, а у маркизы душа великая, как верно говорит месье Эсперанс, у которого душа огромная. Великие души не подстерегают и не шпионят, фи! — Это правда, маркиза уехала в Монсо не затем, чтобы вас застать врасплох. — Ты, кажется, бредишь наяву. Куда смотрят так пристально твои большие глаза? — Они стараются следовать за Сперанцой, который также уехал сегодня утром. — Эти совершенные любовники захотят встретиться? — с презрением сказала Анриэтта. — Никогда! Это было бы вопреки их совершенству, и они не дадут нам над ними этой победы. Сперанца, как ты говоришь, отправился с любовью подмечать в грязной траве следы какого-нибудь зверя, потом он страстно пройдет пять или шесть лье по лесу, исцарапав себе руки и лицо колючками. Наконец, в пароксизме нежности, он пошлет малую или крупную дробь в какого-нибудь зверя. Вот что сделает Сперанца, идеал любовников, вот что он делает в ту минуту, когда я говорю с тобой. Потом, запыленный, весь в поту, он сядет за стол с этими двумя служаками Крильоном и Понти. Они опорожнят несколько бутылок, и икота очень гармонически смешается со вздохами. Вот какова его любовь! Элеонора улыбнулась. Анриэтта, обрадовавшись, что излила свою ненависть в нескольких колких словах, продолжала тоном более серьезным: — Стало быть, ничто не мешает такой несовершенной женщине, как я, провести час в Сен-Жермене с королем, который желает меня видеть и которого я должна перевоспитать. Перевоспитать совершенно. Отец мой не оставит меня, будь спокойна. Он боится еще больше тебя моей слабости. О, моя слабость! — прошептала она со зловещей молнией в глазах. — Было время, когда мое сердце было слабо… Тогда каждый мучил его сколько хотел. Теперь моя очередь! Довольно презрения, довольно оскорблений, довольно страданий! Слабость для других, а сила и торжество для меня! — Вы говорите, как должна говорить королева, — сказала Элеонора спокойно и с той самоуверенностью, которая заставляет лесть проникать до глубины сердец, наиболее закаленных. — Что вы будете отвечать ла Варенну? — Что в назначенный час я буду в Сен-Жермене. — А который назначен час? — Четыре часа. Я только успею одеться. Говорят, что маркиза одна имеет вкус во Франции. Мы увидим, скажет ли это король сегодня вечером. Пойдем скорее отвечать ла Варенну. Но я вижу кого-то возле него. — Это Кончино. — В сапогах, запыленный, разве твой Кончино тоже охотится? — Нет, но он следил сегодня утром за Сперанцой и воротился сообщить известия о нем. — Это прекрасно. Я узнаю их до отъезда. Кончино, пожав руку ла Варенна, пошел искать дам. Он нагнал их на повороте дороги. — Ну что? — спросила Элеонора. — Он поехал по дороге в Мо. — Он, верно, охотится в Лувре, — сказала Анриэтта. — Кажется, через Мо едут в Монсо? — холодно спросила Элеонора. — Это правда, — отвечала Анриэтта, вздрогнув. — В четырех лье отсюда, в Вошуре, он остановился, — продолжал Кончино, — и ждал. Обе женщины переглянулись. — В семь часов приехала, кажется, из Парижа, карета маркизы. Анриэтта сделала движение. — Карету провожали, — прибавил итальянец, — только два верховых. Синьор Сперанца подъехал к дверце и поговорил минут десять с маркизой, потом, снова остановившись, пропустил карету вперед, а сам повернул назад. — Он воротился в Париж? — спросили в один голос обе женщины. — Нет, он повернул направо через поле. — И ты не поехал за ним! — вскричала Элеонора. — На равнине он увидал бы меня; притом я устал; следовать за Сперанцой, когда он едет на вороной лошади, невозможно. Я пойду спать. Говоря таким образом, Кончино флегматически повернулся спиной и ушел. Анриэтта и Элеонора оставались с минуту в изумлении. — Они назначили себе свидание в Монсо! — первая вскричала Анриэтта. — Это вероятно. — Это наверняка. И для того, чтобы их не видели вместе, они расстались, он поехал в объезд, а она прямо; они сойдутся под тенью деревьев вечером. — Пока вы будете также под тенью деревьев с королем. — И мы пропустим подобный случай! — с пылкостью вскричала Анриэтта. — И мы не предупредим короля… — Ведь вы едете с ним в Сен-Жермен. Он не может быть за один раз в двух местах. — Наши агенты, которых пошлют в Монсо, сделают донесение. Элеонора презрительно улыбнулась. — Донесение шпионов!.. Разве это может быть достаточно королю против обожаемой женщины, против женщины такой очаровательной, как маркиза? Анриэтта вздрогнула под этим страшно язвительным намеком. — Это правда, — сказала она, — надо поймать обожаемую женщину посредством того, кто ее обожает. — Но ваше свидание, — перебила итальянка, глаза которой сверкали лицемерным состраданием. — У меня будет время на свидания, когда маркизу прогонят из Лувра. — Очень хорошо; отвечайте же ла Варенну, он ждет. — Отвечай ему сама, а мне хотелось бы придумать… — Король пишет не ко мне, — возразила Элеонора, — отвечать ему с моей стороны было бы неприлично. — Ну я беру на себя ла Варенна, а ты можешь уведомить короля о свидании, назначенном его приятельнице. — Каким же способом? — спросила итальянка, как будто сама не могла придумать. — Письмом… — Безымянным?.. Это средство известное. — Ты не хочешь, однако, чтобы я сама донесла? — А что, какое имею на это право? — Но время проходит, — вскричала пылкая Анриэтта, — мы не делаем ничего! — Моя ли это вина? Подайте мне мысль. — У меня голова не на месте. — Оправьтесь, оправьтесь. Писать нельзя, это правда, но можно говорить, это будет вернее. — Кто же будет говорить? — Ах, боже мой! Хоть ла Варенн. — Этот трус, он все боится компрометировать себя. — Все зависит от того, что он будет говорить. — Помоги мне. — Вам не нужно никого. Скажите ла Варенну что-нибудь вроде этого… Но нет, таким образом вы выдадите себя. — Придумай, ты так умна. — Это трудно. А посмотрим… Откажитесь от свидания, потому что вы боитесь ловушки маркизы. — Да. — Прибавьте, что вы знаете наверняка, что маркиза назначила свидание одному из своих верных друзей, чтобы приготовить ей сменных лошадей, для того чтобы ей воротиться сегодня в Сен-Жермен. — Но тогда король останется в Сен-Жермене. — Это зависит от того, как вы опишите ему друга Габриэль. Если бы это описание могло внушить ревность королю! — Понимаю, ты демон ума. — Полноте, вы гораздо умнее меня. Говорите же скорее с ла Варенном. Анриэтта тотчас подошла к маленькому человечку. — Я принуждена отказаться от свидания с королем, — сказала она. — Благоразумие не допускает меня писать к нему. Нас подстерегают, маркиза уехала сегодня утром в Монсо не одна, как думал король, но с одним молодым человеком, с которым она, без сомнения, намерена застать нас в Сен-Жермен сегодня вечером. Ла Варенн с испугом вытаращил глаза. — Прибавьте, — продолжала Анриэтта, — что этот человек олицетворенная деятельность, сила и ловкость; это самый опасный надсмотрщик, это Эсперанс! — Эсперанс? Этот очаровательный господин, который все охотится? — Да, на земле его величества. Отправляйтесь же скорее предупредить короля. — Маркиза уехала с Эсперансом? — сказал ла Варенн. — Король навострит ухо! — Пусть он навострит оба! — вскричала Анриэтта. — Ступайте, ступайте! Ла Варенн не заставил повторить приказание и отправился со всею скоростью своих маленьких ножек. — Теперь, — сказала Анриэтта Элеоноре, — что надо делать? — Ждать, — отвечала итальянка. — Ты думаешь, что король настолько ревнив к Габриэль, чтобы отправиться к ней в Монсо? — спросила Анриэтта с очевидной горечью. — Да, думаю; но даже если бы он не поехал в Монсо из ревности, он поедет из опасения, чтобы маркиза не застала его. Он захочет успокоить ее своим присутствием. Словом, он поедет, а нам только этого и нужно, и приедет сегодня вечером именно в благоприятную минуту. Анриэтта кипела нетерпением. — Жалкая роль для такой женщины, как я, ползать как земляной червяк! — Червяк делается бабочкой. Но расстанемся. Не оставайтесь долго в этом квартале, — сказала итальянка, провожая Анриэтту, которой она повелевала все более и более, так что предписывала ей каждый поступок и каждое движение. Анриэтта повиновалась и поспешно воротилась домой. Тогда Замет, ждавший окончания всех этих переговоров, вышел из своих комнат к Элеоноре. — Подвигаемся ли мы? — спросил он. — Судя по тому, что сказал мне Кончино, у нас должен быть какой-нибудь результат сегодня же. — Надеюсь, — отвечала флорентийка. — Достаточно будет хорошей огласки. Только бы король приехал вовремя, а один из его друзей, усердный, такой, какого нам надо, прострелил бы голову этому Эсперансу; эта огласка навсегда уничтожит маркизу. — Потише, — сказала Элеонора, нахмурив брови, — маркизу я оставляю вам, а Сперанца заметил меня, спас, и я не хочу тронуть ни одного волоска на его голове. — А, ты также сентиментальничаешь, щадишь врага, потому что он красив! — Что вам до этого за дело, если я успею! — Успевай же скорее! — Я успею ловкостью скорее, чем насилием. Мне уже удалось узнать через Понти о каждом поступке Сперанцы. Предоставьте действовать флорентийке Элеоноре и индианке Айюбани. — Мы подвигаемся. Только я требую, чтобы Сперанца остался здрав и невредим, кроме необходимости. Я этого требую. Вы слышите?Глава 63 ТРИ ЗОЛОТЫХ МЕДВЕДЯ
Габриэль, жаловавшаяся, когда была девушкой, что она не имеет свободы, испытывала после своего возвышения все неприятности неволи. Король не был подозрительным тираном, но он любил находиться вместе с любимой женщиной, он избегал этикета и всегда приходил к Габриэль в такую минуту, когда она менее всего его ожидала. Но не в этом состояла мука. Габриэль любила легкий и веселый характер короля, любила порывы его великодушного сердца. Общество короля не могло ее утомлять, но после отъезда короля являлись придворные, женщины, толпа, потом поставщики, просители и, наконец, слуги, которые были любопытнее всех других. А так как Габриэль чувствовала потребность иногда свободно пользоваться своим временем, так как она должна была скрывать свои поступки, даже невинные, из опасения, чтобы их не сблизили с поступками Эсперанса, часто случалось, что, обескураженная, усталая, она сожалела о своей буживальской цепи, о длинных родительских нравоучениях; всякая неприятность очень скоро огорчала эту кроткую и чувствительную душу. Генрих ничего не мог сделать для этого. Никто столько, как он, не любил независимости. Он искал все способы развлечь Габриэль, по большей части из нежности и немного из эгоизма, потому что, делая ее свободнее, он делал длиннее и свою цепь; а мы знаем, что у него были тайны, требовавшие свободы. Вот почему Генрих с удовольствием согласился на желание маркизы съездить в Монсо на несколько дней. — У вас много работы, государь, и я мало вас буду видеть, — сказала Габриэль, — мне надоели окрестности Парижа. Мне хотелось бы, чтобы Сезар подышал воздухом не таким пронзительным и таким чистым, как сен-жерменский, от которого он кашляет и тревожится. Монсо в своей веселой равнине даст отдых моим глазам, ослепленным огромными перспективами Сен-Жермена. Мне очень бы хотелось съездить в Монсо. — Поезжайте, милая красавица, — отвечал король, который имел свои причины, чтобы остаться одному. — Я должен организовать армию, чтобы покончить с де Майенном, новые угрозы которого не дают мне спать ни днем, ни ночью. Вам надоедят эти нищие солдаты, которым я делаю смотр каждый день и которых я должен одевать, осматривать с ног до головы, как настоящий вербовщик. Поезжайте в Монсо и возвращайтесь скорее с нашим Сезаром, выросшим и румяным. Габриэль приготовилась не торопясь, как всегда. Она послала своих женщин и своего сына вперед с лошаками с приказанием ждать ее на половине дороги. Для своего сына она попросила у короля провожатых, а сама, предпочитая уединение, взяла двух верховых, которым было приказано ехать за ее каретой. Заметили, что накануне своего отъезда маркиза имела продолжительный разговор с приором женевьевцев, к которому ездила в Безон. Потом она гуляла в саду с братом Робером, который предложил ей ее любимые цветы и фрукты. Зоркие глаза, а их всегда много около вельмож, приметили, что разговор женевьевца и Габриэль был серьезен, что маркиза слушала его с чрезвычайным вниманием, что брат Робер настойчиво повторял свои советы, а в наружности Габриэль выказывалась покорность послушной ученицы. Единственные слова, какие могли уловить аргусы, были перед отъездом: — Еще раз благодарю, друг мой, за них обоих и за меня. Нечего спрашивать, было ли много толков об этих словах. Кто эти двое, обязанные признательностью брату Роберу? Может быть, мы это узнаем, если последуем за Габриэль в Монсо. Она отправилась в путь, простившись накануне с королем. Она хотела уехать на рассвете. Как только солнце взошло на горизонте, ее женщины уехали с маленьким Сезаром. Через полчаса тяжелая карета Габриэль проехала Париж, еще спавший. Габриэль могла насладиться несравненным видом огромного города, который был живописен в то время со своими хижинами и монументами, странно стоявшими рядом, когда еще не было видно ни одного жителя. Скоро Габриэль доехала до ворот, около которых столпились крестьяне и телеги, привозившие провизию в город. Она проехала мимо ослов и корзин, загородный запах которых заставлял ее улыбаться, между тем как видя эту даму в ее карете, любуясь этим несравненным лазурным взором и этой свежей красотой, которая осталась популярной, все эти поселяне повторяли: — Прекрасная Габриэль! Скоро, когда карета проехала дальше и теплый воздух Парижа уступил место свежему ветерку равнины, Габриэль вздохнула свободнее, почувствовав детскую радость. Первый раз в жизни она была одна на дороге, могла выйти из кареты, ходить, бегать. Ее конюшие, двадцатилетние молодые люди, воспользовавшись позволением, срывали орехи с кустов. Кучер занимался лошадьми, а Габриэль стала смотреть по сторонам, как будто старалась подстерегать чей-то приход или стараться открыть шпионов. Она ждала Эсперанса, которому накануне, через Грациенну, как мы знаем теперь, назначила свидание, так давно требуемое. Но Эсперанс показался только в Вожуре среди леса в охотничьем костюме. Он нес карабин в правой руке, а левой вел чудную лошадь, всегда неспокойную. При въезде в лес, молодые конюшие исчезли и являлись только изредка, гоняясь друг за другом. Эсперанс мог подойти к карете, не примеченный никем, кроме кучера. Но известно, как тогдашние кареты были высоки, длинны и широки. Выпуклые бока этого ящика не допускали голосам изнутри доходить до ушей кучера. Эсперанс, как искусный тактик, воспользовался этим прекрасным устройством кареты и, держась несколько назад, наклонившись во внутренность, он скрыл совершенно свои слова и себя самого от кучера, при том же и нелюбопытного. Другие глаза видели издали эту сцену. Кончино, осторожный и ленивый, дорого заплатил бы за право слышать фразы, которыми обменивались под сводами кареты. — Знаете ли, обожаемая Габриэль, что вы очень не осторожны! — Знаете ли, мой возлюбленный Эсперанс, что вы очень трусливы сегодня! — Стало быть, вы имели важные причины, чтобы выехать так рано и потребовать меня днем перед глазами шпионов? — Они нас увидят, может быть, но не услышат, я полагаю. Посмотрите, видите ли вы многих конюших? Эсперанс высунул голову из кареты и осмотрел дорогу, повертывавшую в лес. — Я вижу одного, — сказал он, — он гонится за другим и хлещет его сорванными ветвями. Они на десять минут впереди от нас. — Стало быть, ничто вам не мешает пожать мне руку. Пожмите хорошенько эту руку, потому что каждая из ее фибр доходит до моего сердца, которое тает от удовольствия, когда я вас вижу, когда я вас касаюсь. Эсперанс взял теплую руку Габриэль и прижал ее к своим глазам, к своим губам, лаская ее продолжительным поцелуем. — Теперь вы спокойнее, — сказала Габриэль, щеки которой приняли перламутровый оттенок белых роз. — Довольно, Эсперанс, довольно! Нам нужен рассудок, мне — чтобы говорить, вам — чтобы слушать. — Вы едете в Монсо? — продолжал послушный молодой человек, медленно кладя руку Габриэль на ее колени. — В Монсо, да, сегодня вечером. Приезжайте ко мне туда. Эсперанс вздрогнул, и пламя, сверкнувшее в его глазах, и обрадовало и огорчило Габриэль, которая угадала смысл, приданный любовником этим неблагоразумным словам. — Вот, — сказала она меланхолически, — эти простые и естественные слова воспламеняют мозг моего друга и заставляют его забывать, что между нами не может быть и речи о мечтах, разжигающих воображение. — Это правда, — отвечал Эсперанс тем же кротким и печальным тоном, — от вас ко мне слово «ночь» значит только темнота, а слова: «приехать ко мне» значат только разговаривать о делах и улыбаться. Я это забыл на минуту, простите мне. Ваши глаза так красноречивы, что всегда хочется им отвечать! Габриэль потупила голову с волнением, которого благородство ее характера не позволяло ей скрывать. — Да, — прошептала она, — я напрасно смотрю на вас таким образом, но как помешать глазам отражать каждое движение сердца? Я постараюсь, однако, если вы этого требуете. — Все, что вы делаете, все, что вы говорите — прекрасно, Габриэль, и я благодарю вас за все. Это я виноват, что желаю более, когда должен бы считать себя счастливым! Но вот, кажется, конюшие приметили меня и приближаются. — Когда так, сократим наш разговор, — с живостью сказала Габриэль, которая оторвалась от приятного оцепенения тела и души. — Я призвала вас, Эсперанс, чтобы попросить услуги, которую, с вашей преданностью, скромностью и храбростью, вы один можете мне оказать. — Приказывайте. — Я еду в Монсо, куда жду одного человека. — Короля? — Нет; человека, присутствие которого у меня может подать повод к опасным предположениям, к серьезным событиям. Эсперанс посмотрел на нее. — Вы меня поймете, когда посмотрите на этого человека. Вы знаете Жуарра? — Проезжал. Ла Марэ налево, а лес направо. — На ружейный выстрел от города есть гостиница, которая называется «Три золотых медведя». Вы войдете и увидите в садике человека, крестьянина, очень толстого и белого лицом. Скажите ему только ваше имя — Эсперанс, и он пойдет за вами. — Все это легко. — Но не так легко будет привести его в Монсо, чтобы вас никто не видал. В конце парка идет дорога, до того изрытая рытвинами, что немногие отваживаются по ней ходить. Напротив самого глубокого места на этой дороге вы найдете пролом в моей стене. Войдите туда с вашим товарищем. Грациенна приведет вас обоих. — Я уверяю, что все это, как оно ни таинственно, сделатьне трудно, — сказал Эсперанс. — Я забыла одну подробность, друг мой, я забыла, потому что она терзает мое сердце. Может быть, на дороге будут поставлены шпионы, вооруженные, которые захотят схватить человека, которому вы будете служить проводником. В таком случае, мой возлюбленный, вы молоды, мужественны, ловки, надо спасти этого человека с опасностью вашей жизни и не допускать, чтобы ему сделали малейшее насилие, малейшее оскорбление. — Хорошо, — просто отвечал Эсперанс, — вот ваши конюшие в двадцати шагах, любопытство овладело ими, они нас услышат. — Я кончила… Окажите мне эту услугу; она огромна и сохраните себя для меня, я буду вам признательна. — Заплатите мне заранее таким взглядом, каким вы смотрели на меня сейчас. Благодарю. В котором часу быть мне сегодня у пролома в стене? — Как только наступит ночь. Конюшие стали на свое место, с удивлением смотря на Эсперанса. Он почтительно поклонился Габриэль и, осмотрев дорогу быстрым взглядом охотника, повернул лошадь направо и поехал по равнине. Там на открытом месте Эсперанс часто осматривался, не виднеется ли позади него голова шпиона. Он увидал только одного всадника далеко на горизонте, который не следовал за ним, а ехал к Парижу. От Вожура до Жуарра далеко, особенно по проселочной дороге. Эсперанс, очень утомленный, приехал к трем часам к тому маленькому городку, куда отправила его Габриэль. Там он отдохнул, рассчитав, что от Жуарра до Монсо всего два часа езды и что ему оставалось еще довольно времени выполнить данное ему поручение. Освежившись, отдохнув, Эсперанс начал думать серьезнее о поручении, данном ему Габриэль. Кто такой был этот человек, жизнью, свободой которого так дорожили? Габриэль не имела семейных тайн, которые были бы неизвестны Эсперансу; ее никогда не обвиняли во вмешательстве в политические интриги. Она не принадлежала к числу тех сварливых характеров, которые назначают и сменяют министров. Кто же мог быть этот человек и что же выйдет из его приезда в Монсо? Но так как Эсперанс не принадлежал к числу тех мечтателей, которые ломают себе голову, чтобы выдумывать разные бредни, так как, напротив, он любил во всем ясные идеи и светлый ум, он сказал себе, что Габриэль должна знать, что она делает, и что прекрасных, ясных глаз женщины достаточно, чтобы успокоить даже слепца во всех возможных опасных местах. Он весело пошел к городу, размышляя о слове «признательность», которым Габриэль кончила разговор, и парк Монсо превратился для него в сады Армиды, в которых не будет недостатка ни в очарованиях, ни в очаровательнице. Он бредил наяву и был очень счастлив. Он уже примечал направо от дороги золотых медведей на вывеске, качавшейся на заржавленном треугольнике. Он остановил свою запыхавшуюся лошадь, бросил поводья конюхам, которые в это время всегда были готовы хорошо принимать путешественников, потом прошел двор, как будто всю жизнь жил в этой гостинице, и вошел в указанный сад. Это была маленькая загородка, где красовались между морковью и салатом розы, гвоздика и жимолость. Турецкие бобы с красными цветами вились вокруг длинных жердей, виноградные лозы с зелеными кистями покрывали развалившуюся стену. Собаки залаяли, большой ручной еж свернулся в комок под сапогом Эсперанса, который, отыскивая своего крестьянина, смотрел везде, кроме своих ног. Наконец шелест листьев привлек внимание молодого человека в угол этой маленькой загородки, которую Габриэль удостоила именем сада. Под чащей хмеля и виноградной лозы, возле бочки, зарытой в землю, вроде цистерны, где зеленые лягушки ныряли в грязной воде, Эсперанс приметил человека, очень дородного, голову которого покрывала крестьянская шляпа, совершенно закрывавшая лицо. Этот странный поклонник красот природы показался бы безжизненным, его можно было бы принять за пугало, если бы в его тонкой и белой руке не шевелился хлыст, мутивший воду в бочке, чтобы пугать лягушек. Эсперанс, внимательно рассмотрев этого человека, наружность которого согласовалась с описанием Габриэль, отважился, так как незнакомец настойчиво скрывал свою голову, произнести каббалистическое имя, которое должно было возбудить доверие этого недоверчивого крестьянина. — Эсперанс! — прошептал он, срывая испанскую вишню с соседнего куста. Тотчас дородный человек поднял голову и показал решительное и приметное лицо, при виде которого Эсперанс не мог не подумать: «Я понимаю». Довольно продолжительный осмотр незнакомца, очевидно, послужил к выгоде Эсперанса, потому что этот охотник за лягушками тонко улыбнулся и, встав с дерновой скамейки, сказал: — Когда вам будет угодно? — Я к вашим услугам, — отвечал Эсперанс. Толстяк провел своего проводника к калитке этого сада, указал ему на двух лошадей, ждавших там, и вежливо попросил помочь сесть на седло. Эсперанс поднял эту массу с силой мускулов, которая вызвала новую улыбку у незнакомца. — Я вижу, — сказал он, — что мне выбрали хорошего спутника. — Считаю за честь оказать вам услугу, — с уважением отвечал Эсперанс. — Ну, поедем, — прибавил толстяк. Эсперанс, не отвечая, поехал вперед, положив левую руку на карабин, а шпага находилась под его правой рукой. При наступлении ночи оба прошли в пролом в стене Монсо, и Грациенна, ждавшая внутри, проводила их до очаровательного грота, находившегося в самой густой части парка, и сказала толстяку: — Сюда, монсеньор. А Эсперансу: — А вы ждите у этой двери и хорошенько караульте.Глава 64 ВАННЫ ГАБРИЭЛЬ
Среди парка в Монсо, в долине, увенчанной амфитеатром из каштановых, яворовых и дубовых деревьев, возвышался грот из мшистых скал, которые Екатерина Медичи с большими издержками велела привезти из Фонтенебло. Вода соседнего источника, теплого от продолжительного течения по солнцу на песке, лилась в грот, в широкий и глубокий бассейн. Туда-то, под зубчатый свод плюща и диких цветов, Габриэль в жаркие дни лета приходила освежаться и отдыхать. Не раз, подобно Диане, охраняемой нимфами, она купалась в бассейне с песком, мягким, как бархат, и чтобы после ванны не встречать в парке любопытных и не тотчас подвергаться жару и яркому дневному свету, она возвращалась в замок, не будучи видимой, по галерее, вырытой под амфитеатром, которая дверью, ключ от которой был у одного короля, соединялась с гротом ванн из большой соседней аллеи. Украшенный или испорченный, лучше сказать, мрамором и архитектурными украшениями, этот грот, ныне разрушенный, еще называется «ваннами Габриэль». Этот грот составлял большую и высокую овальную залу, куда открывалась та потайная дверь, о которой мы говорили. Перед залой со стороны парка была передняя, изгибы которой мешали видеть внутренность и даже слышать слова, поизносившиеся в зале. Внутренность грота освещалась факелом из душистого воска. В зале находились стулья и стол. В свежей воде бассейна торчали бутылки с длинными шейками, назначенные к вечернему полднику, а чудные фрукты, выложенные пирамидой в большой корзине, издавали из своего темного угла упоительный запах. Грациенна приподняла длинную колонну плюща, висевшего со скалы, как дрожащая занавесь, впустила незнакомца и ушла, оставив свою госпожу одну с этим таинственным человеком. Габриэль, в белом платье, со своими прекрасными светло-русыми волосами, сиявшими при свете восковых свечей, пришла навстречу своему гостю, взяла его за руку и довела до стула. — Добро пожаловать, ваше высочество, — сказала она, — извините, что я принимаю вас в таком мифологическом месте, но я слышала, что великие полководцы любят открытые позиции, где их движения свободны, и я не имела притязания запереть герцога де Майенна, чтобы держать его в моей власти. Майенн — это был он — отвечал на этот комплимент с любезностью, которая была ему свойственна и которую вызывала очаровательная улыбка Габриэль. — Вы видите, маркиза, — сказал он потом, — что я не боялся отдаться в вашу власть, а под этими скалами величайший воин на свете был бы пойман так же легко, как птица, влетевшая в клетку, особенно когда дверь караулит такой человек, как тот, которого вы мне послали, Геркулес с головой Адониса. Габриэль, чувствуя, что она краснеет, предложила герцогу стул и сама села. — Вы здесь в большей безопасности, чем среди вашей армии, — сказала она, — король в Париже; мое слово ручается вам за безопасность. Что касается вашего проводника, если б во Франции существовал более благородный и храбрый дворянин, я выбрала бы его в ваши провожатые в этом посещении, великодушное доверие которого я умею ценить. — Вы мне подали пример, маркиза, когда, две недели тому назад, приехали ко мне в Жуарр, где я скрывался и где вы могли бы застать меня врасплох. Вы начали таким образом совещания, и я должен отплатить вам взаимностью. — Ах, герцог! я хотела бы ценой моей крови примирить двух принцев, которые держат в своих руках счастье Франции. — Это зависит не от меня одного, — сказал Майенн, — король меня ненавидит. — Вы ошибаетесь, — с живостью вскричала Габриэль, — король вас боится. Эта лесть заставила проясниться лоб герцога. — Если б это была правда, — сказал герцог, — все было бы кончено; но ваша деликатность не может помешать мне видеть неприязнь, с какой ведут со мной войну. — Герцог, — отвечала Габриэль, — если бы я могла, не огорчая вас, назвать одну особу из вашей фамилии… особу, имя которой еще покрыто трауром… — Мою сестру… — прошептал Майенн. — Да, герцогиню Монпансье; это единственная особа вашего дома, заслужившая неприязнь короля. Майенн молчал. — Всем известно, — прибавила очаровательная дипломатка, — как король добр и как скоро он забывает обиды. — Однако он теперь вооружается, и вместо того чтобы мало-помалу прекратить войну, он приготовляется истребить мои последние ресурсы. — Вы не такой противник, которого можно щадить. — Если бы вы знали, маркиза, как меня утомили эти распри, — сказал герцог, вытирая себе лоб, с которого струился пот, несмотря на ночь и свежесть грота, — если бы вы знали, как, особенно после смерти моей сестры, я чувствую ничтожность этих притязаний! Я никогда не хотел быть королем, я только родился герцогом и принцем и хочу умереть в моем звании. Габриэль промолчала в свою очередь. Она предложила Майенну вина, бисквит и фруктов. — Мой поступок доказал вам, — продолжал он, принимая рюмку, — что я желаю вступить в переговоры, но не как побежденный мятежник. У меня есть еще армия; и если бы во мне осталась хотя бы одна капля той честолюбивой мечты, которая воодушевляла мой несчастную сестру, я выговорил бы себе лучшие условия. Ах, маркиза! сохрани вас Бог понять когда-нибудь, чего стоит заслужить имя великого полководца! Король имел счастье прославить себя, опираясь на свое право. А я мятежник. Я показываю хорошее расположение испанцам, которые меня ненавидят и которых я ненавижу. Каждый раз, как дерутся, мои союзники хотели бы видеть меня мертвым, а я хотел бы видеть их убитыми. Все мои друзья падают один за другим или, утомленные, оставляют меня. Я скоро останусь один. Наступает старость. Я толст, тяжел, и, для того чтобы приехать сюда, ваш проводник должен был посадить меня на лошадь. Когда я найду доброе согласие, которое возвратит мне спокойствие, общественное уважение и друзей? Увы! все это я должен приобретать войной, и я буду уважаем и спокоен только в тот день, когда пуля положит меня на поле битвы. — Говоря таким образом, Майенн отирал пот с лица, а Габриэль удивлялась, что он так грустен и уныл. — Как бы мне хотелось, — вскричала она, — чтобы король вас услыхал; мир скоро был бы заключен! Несчастный враг для него почти друг. Майенн встал со сверкающими глазами. — Если б это случилось, если б король услыхал мои слова, я умер бы, кажется, от стыда и горести. Но король меня не слышит, не правда ли, маркиза? — сказал герцог, бросая вокруг тревожный и мрачный взор. — Вы не расставили мне эту засаду, чтобы подвергнуть меня сарказму моего врага? Он сделал уже шаг к выходу из грота. — Ах, герцог! — сказала Габриэль, взяв его за руку. — Вы меня оскорбляете. Разве вы приехали сюда не по данному вам слову, разве у меня вероломная душа?.. Успокойтесь, я одна слышала ваши слова, я одна знаю вашу тайну, и вы можете вверить мне условия мира, которые я предложу королю от вашего имени. Только что она окончила эти слова, как поспешные шаги раздались в трех шагах от нее, потайная дверь отворилась и явился король, со свечой в руке, с изменившимся лицом, с глазами, сверкавшими гневом. — С кем вы здесь, Габриэль? — спросил он, стараясь узнать лицо около себя. — О, измена! — пробормотал Майенн и отступил, положив руку на шпагу. — Герцог де Майенн! — сказал Генрих, до того изумившись при виде лотарингца, что из его трепещущей руки выпала свеча. — Герцог! герцог! — вскричала Габриэль, протянув руки к Майенну. — Не обвиняйте меня, я невинна! Если есть измена, так в этом виноват король. — Понимаю, маркиза, — отвечал Майенн с презрительной улыбкой. — Сцена разыграна прекрасно. Вы не ждали короля. Король приехал неожиданно. Он нашел вас случайно с герцогом де Майенном, а так как также случайно его величество, без сомнения, провожает целая свита, мятежника схватят, и война кончена. Прекрасно сыграно, маркиза! — О государь! — сказала Габриэль, проливая горькие слезы. — Этого оскорбления я не забуду во всю мой жизнь. Вы правы, герцог, все обвиняет меня. Вы имеете право называть меня низкой и вероломной. Да, вы справедливо обращаетесь со мной таким образом. Майенн, удивляясь даже среди своего гнева, молча смотрел на странную сцену, представлявшуюся его глазам. С одной стороны Габриэль, вся в слезах, ломала себе руки с самым искренним выражением сильной горести; с другой — Генрих Четвертый — бледный, пораженный, потупив голову, более походил на побежденного, чем на победителя, и на лице которого обнаруживались стыд и сожаление в слабости, которая его унижала, в собственных глазах. — Скажите, по крайней мере, государь, — вскричала Габриэль, — что я не участвовала в засаде, жертвой которой сделался герцог… Возвратите мне честь, государь, мне, потому что я хотела доставить вам дружбу этого благородного человека! Король понял при этих словах всю обширность своего проступка. Своим неожиданным появлением он разрушил здание, с таким трудом воздвигнутое Габриэль. Какой стыд и какое несчастье! — Я это и сделаю, — прошептал король прерывающимся голосом. — Я один виноват. Мне дали знать, что маркиза назначила свидание в Монсо; я почувствовал ревность и отправился сюда. Я приехал несколько минут тому назад, все мне здесь показались сконфуженными, никто не хотел мне сказать, где скрывается маркиза. В комнатах не было никого. Я стучу, зову — нет ответа. Мне пришло в голову, что маркиза ищет уединения в своих ваннах. У меня есть ключ от потайного выхода. Я побежал сюда; шум голосов заставил меня отворить дверь… Майенн сохранял свою спокойную и презрительную позу; принужденная улыбка сжимала его губы; шпагу он вложил в ножны. — Вы не должны сомневаться, герцог, — кротко сказал король, — вы видите мое волнение, мое огорчение; убедитесь, что я не умею лгать. Я должен прежде всего извиниться перед маркизой, которую, по избытку привязанности, я безумно и недостойно подозревал. А так как вы до некоторой степени имеете право подозревать ее искренность и мою, я вижу только одно средство доказать вам несправедливость ваших обвинений. Сцена происходила между нами без свидетелей; вы приехали свободно, вы свободно должны воротиться, и я предлагаю вам не только моих лошадей, но и конвой с моим королевским словом. Я прибавлю к этому мои извинения, кузен, потому что я виноват и хотел бы ценой королевства искупить мнение, которое я заставил вас иметь о моей любовнице и обо мне. При этих словах, которые Генрих произнес со всем величием своей души, Габриэль отерла слезы, а герцог с трепетом смотрел на это открытое лицо, на эти ясные глаза, в которых дышало благородство. — То, что случилось, освобождает вас от всего сказанного, — вскричала Габриэль, подходя к Майенну, — можете взять назад ваши слова, герцог; никто, кроме меня, не узнает их никогда. Это чистосердечие и порыв этой деликатной и честной души оказали на Майенна глубокое впечатление. Он потупил голову, в свою очередь, и стал вертеть в руках свою шляпу, как настоящий крестьянин, смущенный добротой своего помещика. Ожесточенная борьба происходила в этой надменной душе между гордостью и признательностью. Он оставался неподвижен, бессилен и к хорошему и дурному. Генрих принял эту нерешимость за остаток недоверчивости. Преодолев огорчение, которое это возбуждало в нем, он сказал: — Может быть, вы боитесь засады вне замка. После того, что случилось, вы имеете право всего бояться, кузен. Я сам вас провожу, моя особа будет отвечать за вашу, и если этого аманата вам достаточно, сделайте знак — я к вашим услугам. — Вы слишком церемонитесь со мной, государь! — вскричал Майенн, увлеченный благородством подобного предложения. — Я ваш подданный и чувствую, что надо вам служить. Притом, меня почти победили доброта и красноречие маркизы. Вы довершили дело, государь; это я прошу прощения у вашего величества, и вот я у ваших ног, только не знаю, буду ли в состоянии приподняться. При этих словах, он встал на колени, дрожа от волнения. — Отлично! Я беру это на себя, — сказал Генрих с глазами, полными слез. Он действительно приподнял Майенна и обнял его так нежно, что самые жестокие сердца растрогались бы при подобной сцене. — Какая для меня великая радость, кузен! — вскричал король, беспрестанно обнимая де Майенна. — В королевстве не будет более междоусобной войны, а у меня одним добрым другом больше. — Как надо благодарить Бога! — сказала Габриэль, с упоением сложив руки. — Разве вы думаете, что о вас надо забыть? — сказал Генрих, оставляя де Майенна и подбегая к Габриэль, которую он принял к своему сердцу. — Вот, кузен, ангел милосердия и примирения! Вот мой гений-хранитель, самая совершеннейшая женщина во Франции! — Не я стану это опровергать! — с жаром вскричал де Майенн. — И ее оклеветали! — продолжал король. — И я приехал к ней неожиданно, чтобы оскорбить ее! — Я благодарю за это Бога, — сказала Габриэль. — Я очень страдал, милая душа, но теперь все кончено. После этого горестного испытания мы слишком счастливы, чтобы обвинять друг друга. — Я попрошу награды для моих доносчиков, — сказала Габриэль, улыбаясь, — потому что они причиной успеха, которого я не могла бы получить одна. Чего вы ищете около вас, государь? — Я ищу, с кем приехал герцог… — Я приехал один, государь, — отвечал де Майенн, — я доверяю ангелам, которых я встречаю. — Мало того, — сказала Габриэль, — герцог принял проводника от меня. Габриэль вывела короля из грота и указала ему на Эсперанса, прислонившегося к скале со шпагой в руках. — Так вот любезник, на которого мне донесли! — прошептал король, узнав своего соперника. — Вот тот, который должен был приготовлять вам сменных лошадей, чтобы застигнуть меня врасплох в Париже! Вот тот, кого вы мне предпочитаете! А, ла Варенн! Я должен краснеть… Он не видал, сколько румянца вызвали эти слова на щеки Габриэль. Эсперанс также отвернулся, чтобы скрыть не свой румянец, а непреодолимую горесть, которую возбуждало в нем присутствие короля и это жестокое пробуждение после стольких чудных мечтаний. Однако, когда, проходя мимо него, Габриэль взяла его за руку, чтобы поблагодарить, он собрался с мужеством и вылил всю горечь своего сердца в безобидном вздохе. — Мне остается спросить вас, кузен, — сказал Генрих Майенну, — каковы ваши намерения на сегодняшний вечер? Угодно вам ужинать с нами, как с добрыми друзьями, на смех изменникам и негодяям, которые будут беситься, видя наше примирение? Или вы предпочитаете воротиться домой и обдумать? — Обдумать?.. — вскричал герцог. — Ах! Сохрани Бог, государь! я довольно обдумывал, довольно ночей провел без сна. Здесь должны быть и хорошие постели и хорошее вино. — Я ручаюсь за это, — сказала Габриэль. — Благоволите предложить мне и то и другое на эту ночь, а завтра… — Завтра мы поговорим о делах, хотите вы сказать, — прибавил король. — Это будет недолго, так как я согласен заранее на все, что вы от меня потребуете. — На все? — спросил лотарингец с улыбкой. — И еще кое на что в придачу, — сказал Генрих. — Только бы вы не потребовали от меня маркизы, потому что, в таком случае, вы лучше потребуйте от меня жизни. — Не буду и думать об этом, государь; и если маркиза удостоит меня своею дружбой, я останусь доволен. — Я слишком вам признательна, для того чтобы не любить вас всем моим сердцем, — сказала Габриэль. «Эти люди так вырывают друг у друга мою Габриэль, — думал Эсперанс, следовавший за ними поодаль, — что мне не останется ничего». Направились к замку, где внезапный приезд короля произвел смятение и суматоху. Толпа увеличивалась. Предполагали, что Габриэль будет изгнана, даже называли назначенную ей тюрьму. Партия Антрагов торжествовала. Многие предусмотрительные слуги маркизы уже укладывались. Генрих уехал скоро из Парижа, но его свита приехала за ним в Монсо, и приезд ее еще увеличил беспорядок, как масло, подлитое в жаровню, усиливает пламя. Когда эта тревожная, взволнованная, любопытная толпа, во главе которой находился граф Овернский, приметила короля, спокойно выходящего из грота под руку с Габриэль, а подле него человека еще неизвестного, между тем как Эсперанс и Грациенна шли позади, никто не мог понять этого спокойствия и присутствия в Монсо третьего незнакомого лица. Но Генрих, смеясь исподтишка, закричал издали: — Господа, прикажите поскорее подать ужин для меня и для моего кузена де Майенна, который хочет сегодня пить за мое здоровье. Имя де Майенна раздалось в этом собрании как громовой удар; и когда при свете факелов все узнали герцога возле слуг короля, изумление слилось с говором, который нежно ласкал Габриэль. Граф Овернский побледнел с досады. — Да, господа, — сказал король, входя в большую залу замка, — мой кузен де Майенн сообщает мне, что у меня нет лучшего друга, как он; а я объявляю, что отныне у него не будет лучшего друга, как я. — Благодарение Господу Богу! — сказал Сюлли, подходя с лицом, сиявшим радостью. — Мы должны также благодарить и эту особу, — отвечал король, указывая на Габриэль, — это она все устроила своим умом, своим сердцем и своею дружбой ко мне. Я ей обязан спокойствием и счастьем моего королевства. Среди тишины, водворившейся в собрании, изумленном такой неожиданной развязкой, король прибавил: — Подавайте же ужинать герцогине! — Герцогине? — повторило несколько особ, удивленных этим новым титулом, потому что у Монсо было только маркизство. — Да, — подтвердил король, — герцогине де Бофор, маркизе де Монсо и де Лианкур. — О государь! — сказала Габриэль. — Где остановятся ваши милости? — Подали ужин, — заметил король, — дайте мне руку, кузен. Ах, Габриэль! Как вам пришло в голову примирить меня с Майенном? — Эта мысль не совсем моя, государь, — скромно сказала молодая женщина. — Кто же вам внушил ее? — Душа всякого доброго дела, брат Робер. — Брат Робер? — вскричал король. — Он… это он внушил вам мысль примирить меня с де Майенном?.. О, это было бы великолепно! — Кто этот брат Робер? — спросил Майенн, удивленный волнением короля. — Я расскажу вам это, когда мы будем одни, кузен; история стоит труда, и более чем всякий другой вы сумеете ее оценить. О, брат Робер!.. И я отплачу ему за эту услугу. Мы об этом подумаем! За стол, кузен, за стол! Герцогиня, пригласите нашего друга Эсперанса, и напьемся холодного, очень жарко. Видя, что лицо их друга внезапно помрачилось, Габриэль шепнула ему: — Я понимаю: вы находите, что я получила мою награду, а вы, по обыкновению, не получили ничего. Ну, это было бы несправедливо. Приезжайте в субботу в мой буживальский дом; мы проведем там прекрасный вечер с Грациенной. — С Грациенной? Стало быть, вы не доверяете мне? — Я не доверяю себе. До субботы! А сегодня будем пить за здоровье короля и за поражение наших врагов! — Согласен! — отвечал Эсперанс.Глава 65 СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ
Возвращение графа Овернского к родным и известия, привезенные им, возбудили смятение в этом интересном обществе. — Вот, — сказал он, — чем кончились ваши планы. Маркиза сделалась герцогиней и имеет союзником де Майенна, героя дня. А за Эсперансом все ухаживают наперебой, король его обнял и готов отдать ему все ключи от своего дома. Надо признаться, что вы, очень ловкие особы, подвернули меня неприятности получить подобную пощечину. При этих словах Мария Туше сделала гримасу, Анриэтта стала грызть свои прекрасные ногти, граф д’Антраг стал рвать на себе те немногие волосы, которые остались на его голове после стольких неудач. — Стало быть, все погибло, — сказал он с отчаянием. — Почти. — Постараемся утешиться, — отвечала Анриэтта, побледнев от бешенства, — однако, так как я не мужчина, я не так скоро лишусь мужества. — Вам это легко говорить, — сказал граф Овернский. — Я хотел бы посмотреть, что сказали бы вы вчера, когда все собрание хохотало мне под нос, а король смотрел на меня через плечо. — Мы просим у вас прощения, — перебил отец. — Мы огорчены за вас, сын мой, — сказала мать. — Подождем конца, — прибавила Анриэтта, для которой эта гроза была летним дождем; она видела много гроз похуже этой. — О! вы не долго будете ждать, — дерзко сказал молодой человек. — Однако предсказание ворожеи, — тихо произнесла Мария Туше. — Корона, не так ли? — вскричал граф Овернский, смеясь. — Да, рассчитывайте на нее, вы выбрали хорошую дорогу. — А если эта дорога нехороша, — колко сказала Анриэтта, — мы выберем лучшую. Три советника были поражены непреодолимой решимостью, которая обнаруживалась в этих словах. — А так как мы здесь в своей семье, то можем говорить друг другу правду. Мне надоели эти постоянные неудачи; я удивляюсь, как вы еще выдерживаете; это героизм. После этого откровенного признания самое унылое молчание водворилось в собрании; вдруг во дворе послышался лошадиный топот и слуга доложил о ла Варенне. Никогда не приезжал он к Антрагам днем. Должно быть, обстоятельства были важны. Семейный страх увеличился, особенно, когда маленький человечек вошел с холодным видом и нахмуренными бровями. Все побежали к нему навстречу, ему вдруг было предложено три кресла. Он упал на самое большое со стоном, вырванным усталостью. — Уф! — сказал он. — Ваш покорнейший слуга, милостивые государыни. Ай! ваш преданный слуга, милостивые государи. Присутствие графа Овернского показывает мне, что вам известно все. — Увы! — прошептал отец между тем, как Мария Туше подняла глаза к небу. — Мы спаслись одним чудом, — сказал ла Варенн. — А все-таки спаслись, — вскричала Анриэтта, тряся маленького человечка с мужской силой. — Одним чудом! — О, расскажите, расскажите нам! — просили четыре жадные голоса. Ла Варенн принял величественный вид. — Вы знаете удивление короля, праздник, данный де Майенну и герцогство маркизе, и… — Да, да! пропустите это. — Я ждал минуты объяснения. Король, ужиная, бросал на меня свирепые взгляды… Я от этого заболел, я и теперь еще болен, милостивые государыни. Мария Туше сыскала в своей шкатулке эликсиров и предложила целую коллекцию. — Можете вы продолжать? — спросила Анриэтта. — Да. Сегодня утром настала роковая минута. Я вертелся в передней, король сделал мне знак и увел меня в сад. — «Вот! — закричал его величество. — Какие донесения делают мне! Вот интриги маркизы… теперь надо говорить: герцогини! Вот…» Ах, милостивые государыни, много жестокого слышал я для ушей дворянина. Антраги старались не смеяться, думая о дворянине, который закалывал цыплят у сестры короля. — Что вы отвечали, месье де ла Варенн? — спросил отец. — Что мог. — Вы меня обвинили? — спросила Анриэтта. — Я имел искусство не сделать этого. — Государь, — сказал я, — в этом виноват не я. — Стало быть, в этом виноваты те, которые сказали вам. — Видите ли, нас обвинили! — вскричала Мария Туше. — Государь, те, которые сказали мне, верили тому, что говорили. — Чему верили они? — с гневом спросил король. — Государь, они знали отъезд месье Эсперанса с маркизой — с герцогиней — и, судя по короткой дружбе герцогини с этим господином… — Вы дуралеи, — сказал король. — Дуралеи! — Мадемуазель д’Антраг, государь, имела право бояться, чтобы маркиза-герцогиня не застигла ваше величество, потому что это уже случилось у Замета. — Хорошо, хорошо, браво! — вскричали Антраги. — Вот что значит отвечать! — Я это придумал! — скромно сказал ла Варенн, хорохорясь, как павлин. — Я имел это чудесное вдохновение. — А что сказал король? — Король, пораженный этим воспоминанием, потупил голову; а так как он справедлив, он прибавил: — Правда, что этого можно было бояться, а намерения герцогини насчет моего примирения с де Майенном нельзя было подозревать. — Эта поспешность вашего величества все испортила, — осмелился я прибавить. — Все устроилось, скотина, — сказал король, смеясь, и ударил меня кулаком по плечу. Судите о моей радости! Когда король называет меня скотиной и колотит, это значит, что он в восторге. Я тотчас этим воспользовался. — Ваше величество не видите, — возразил я, — что самая несчастная особа во всем этом бедная мадемуазель д’Антраг. — Я постараюсь ее утешить, — отвечал король. Безумная радость сверкнула в глазах отца и матери. Презрительная улыбка сжала губы Анриэтты. — Утешить… — прошептала она. — Так что неудача на нашей стороне, — сказал отец. — Нет, слава богу! — сказал ла Варенн, обмахиваясь шляпой. — Но по милости кого? — Мы будем вам благодарны… — выразительно сказала Мария Туше. — Это большое счастье, — перебил граф Овернский. — Анриэтта правду говорила, сын мой, во всем этом есть предназначение. Молодая девушка была не так довольна, как ее родственники; в этой мнимой победе ничего не было для ее гордости. — Как! — сказала она ла Варенну. — Это все, что король заблагорассудил сделать для меня? — То, что я должен прибавить, относится только к вам. — Говоря таким образом с циническим бесстыдством, он взял за руку молодую девушку и отвел ее к окну. Граф д’Антраг, не спуская глаз, наблюдал лицо Анриэтты; Мария Туше следила по чертам дочери за действием каждого слова, произносимого ла Варенном. Анриэтта краснела, и глаза ее сверкали. Улыбка хитрой радости, осветившей ее лоб, внушила бы живописцу настоящее выражение для демона, которому поручено искусить праведника. Кончив свое посольство, ла Варенн уехал, получив от Марии Туше залог признательности: ящик с золотыми бусами, подарок ценный, как приличествовало награде этих положительных спекулянтов. Анриэтта как будто осталась в восторге после ухода де ла Варенна. Отец и брат взяли ее за руки и спросили, жеманясь: — Ну что? — Так, ничего!.. — отвечала она, радуясь, что заставляет их томиться. — Чего от нас хочет король? — Безделицы. — Скажите эту безделицу, сестрица. — Просто свидания для объяснения. — О! о! — сказал д’Антраг, присоединяясь с гордостью. — Кажется, его величество не может обойтись без вас. Что же вы отвечали? — Многое. — Вы наверняка сказали, что девушка вашего звания не соглашается на свидание? — Конечно. — Без поруки для ее чести, — поспешила прибавить Мария Туше. — Да. — Что же сказал ла Варенн? — спросил граф Овернский. — Одобряет он эти условия? — Одобряет или нет, — сказал д’Антраг, — об этом надо судить нам. Молодого человека удивил этот резкий тон графа, обыкновенно столь любезного с ним. — Мнение короля значит что-нибудь в этом, — сказал он, — я знаю его, и не думаю, чтобы он был расположен принимать условия заранее. — Король слишком ветрен, сын мой, и на его слово положиться нельзя. — Не таков был король Карл, ваш знаменитый отец. — Мне кажется, — перебил граф д’Антраг, — что хорошее и верное содержание… тридцать или сорок тысяч экю, например, придадут прочность слову короля. — Мне было обеспечено пятьдесят тысяч в такое время, когда деньги были реже, чем теперь, — сказала Мария Туше. — Что такое деньги? — прошептала Анриэтта с презрением. — Средство отказаться без упреков совести от данного слова. — Денег не нужно! — вскричала Мария Туше. — А что же вам нужно? — воскликнул граф Овернский. — Вы хотите, чтобы король женился на ней? — А почему же и нет? — сказала Анриэтта. — Так сначала уничтожьте его брак с королевой Маргаритой. Ведь король женат, моя милая. — Брак этот будет уничтожен. — Для этого надо время, а разве вы можете придать королю терпения? Вы опротивите ему и этим воспользуются люди, не такие взыскательные, как вы. — Граф говорит правду, — прошептал д’Антраг. — Я повторяю, что восемьдесят тысяч экю… — Положите сто и кончите чем-нибудь, — сказал молодой человек. Анриэтта с гневом пожала плечами. — Это настоящий аукцион, сказала она. — Вы очень глупы, — возразил ее отец, — или вы предпочитаете не получить ничего, как Дайелль, Флеретта, Коризанда и столько других? — Я предпочитаю корону. — Э! если вам нужна погремушка, — сказал граф Овернский, — купите золотой обруч, надевайте его на лоб и любуйтесь перед зеркалом. Вы похожи на девочек, которые хотят носить сережки и не хотят, чтобы им прокалывали уши. Пока вы жеманитесь, прихоть короля перейдет к другой. — Прихоть?.. — сказала Анриэтта, обидевшись. — Граф прав, — возразил отец. — Сто тысяч экю заставляют человека размышлять и стоят маркизств и герцогств, которые расточаются так щедро. — Мне пришла в голову мысль, которая согласует все, — сказала Мария Туше с величием характера, — по милости моего способа король покажет, из прихоти или из любви ищет он мадемуазель д’Антраг. Король обяжет себя на будущее время, не компрометируя настоящего; король обеспечит честь этого дома, не лишившись права своей любви. — Черт побери! Ваше средство — всеобщая панацея, — сказал граф Овернский, — благоволите сообщить. — Это обещание короля жениться на мадемуазель Анриэтте де Бальзак д’Антраг. — Я согласна! — сказала Анриэтта. — Таким образом, — перебила Мария Туше, наслаждавшаяся своим торжеством, — король может не жениться после смерти королевы Маргариты; тогда он не женится ни на ком, и Анриэтта не будет бояться соперницы. — В самом деле, — сказал д’Антраг, — обещание было бы действительным. — Если король подпишет, — заметил граф Овернский, — но подпишет ли он? Это напоминает мне человека, который проехал бы реку сухим, если его лошадь выпьет всю воду, но выпьет ли она? — Если король не подпишет, это значит, что на его нежность полагаться нельзя, и я откажусь, — сказала Анриэтта. — Вы сделаете хорошо, дочь моя; честь прежде всего; но это не мешает обеспечить вам сто тысяч экю, — заметил отец. — Напротив, — сказал граф Овернский. — Действуя таким образом, — докончила Мария Туше, — мы навсегда освободимся от неизвестности. Да или нет заставят заключить или уничтожить дело навсегда. — Вы очень надменно поступаете с королем. — Кто нам мешает теперь? — возразила Мария Туше, с гордостью вспоминая прошедшую опасность и смерть ла Раме, которая навсегда освободила Анриэтту. — Ничто не препятствует нам теперь, и чем более будут требовать от короля, тем лучшее мнение получит он о сокровище, которое отыскивает. — О настоящем сокровище, — сказал граф Овернский с улыбкой и поклоном, дерзко оскорбительными для его сестры. — Бездонное сокровище! — прибавил достойный отец, целуя девственный лоб, на котором столько раз появлялась постыдная краска. Тут лакей доложил, что синьора Галигай ждет дам в их кабинете. — Ворожея! — вскричал граф Овернский. — Я бегу! — Нет, останьтесь, — сказал Антраг, — придумаем вместе дарственную запись и обещание женитьбы. — Я сама хочу это просмотреть, — поспешила прибавить Мария Туше, садясь возле сына и мужа. «Пойду скорее к Элеоноре, — подумала Анриэтта дрожа, — ее визит сегодня тревожит меня». Она прошла в кабинет, где Элеонора, опираясь локтем о стол и опустив лоб на руку, следовала пальцем на скатерти за причудливыми арабесками вышивки. Она была озабочена. — Что такое случилось? — спросила Анриэтта, умевшая угадывать настроения своей поверенной. — Важное дело, — сказала итальянка, — Понти вчера дрался. — Какое нам дело и откуда ты знаешь этого человека? — Я его знаю, для наших общих выгод. Хотите знать, за что он дрался? — Ты меня пугаешь своими ораторскими предосторожностями. Не о мне ли дело шло в ссоре? — Судите сами. Понти был в трактире, где обедают дежурные гвардейцы; говорили о любви короля и о том, кто сменит маркизу де Монсо, ныне герцогиню де Бофор?.. — Ну? — Многие назвали вас; это право, принадлежащее вашей красоте. — Когда ты делаешь мне комплименты, Элеонора, я дрожу. Далее! далее! — Господа, — сказал Понти, у которого голова закружилась от вина, — особа, которую вы называете, никогда не будет ничем для короля. Его спросили почему. — Да, почему? — спросила Анриэтта, все более тревожась. — Потому что я не хочу. Обе женщины переглянулись. Элеонора продолжала свой рассказ. — Как! — сказал Понти один гвардеец. — Мадемуазель д’Антраг, прекрасная, благородная, безукоризненная, не заслуживает любви короля? — Безукоризненная! — вскричал Понти с горьким смехом. — Ах, черт побери!.. Если королю нужна ее добродетель, я могу сообщить ему об этом кое-что. — Негодяй! — прошептала Анриэтта. — Что же отвечали ему? — Обнажили шпаги, когда явился Крильон. — Я полагаю, он наказал дерзкого? — Вот что он сказал гвардейцам: «Вы все дураки, и все просидите под арестом». — Это оскорбление, — сказала Анриэтта, помертвев. — Более опасное, чем вы думаете, — возразила Элеонора, — потому что эти слухи могут дойти до короля. Вы должны принести энергическую жалобу. Она замолчала, увидев, что Анриэтта, сжав губы, потупила голову и глубоко размышляла под двойной тяжестью стыда и страха. Элеонора поняла, что мадемуазель д’Антраг не станет унижаться до такой степени без причин. — Что за нужда до обвинения этого Понти, — продолжала Элеонора, — если он не может его доказать! В то же время она пытала взором смущенную душу Анриэтты, все молчавшей. — Разве он может его доказать? — прошептала она. — Может быть, — слабо произнесла Анриэтта. — Каким образом? — Есть письмо от меня. — К кому? Боже мой! — К… к другу этого Понти. — К Сперанце? — вскричала флорентийка. — Да. — И вы мне ничего не сказали… какое несчастье! Надо отнять это письмо. — О! я все пробовала: слезы, угрозы, просьбы. Он не хочет мне отдать. Я думаю только об этом день и ночь. Но как найти это письмо? Где он его спрятал? Сколько раз я думала поджечь его дом, сколько раз я хотела заколоть его самого, этого злодея Эсперанса!.. Но у него ли в доме это письмо? носит ли он его на себе? Не сделаю ли я бесполезного насилия? Что же делать? Как я страдаю! Я сойду с ума! — Что говорит ваша мать? — спросила Элеонора. — Неужели ты думаешь, что я призналась ей в этом проступке? Не сделала ли я уже довольно признаний? Не достаточно ли упивалась я стыдом в ее присутствии?.. Ты одна, Элеонора, знаешь мой тайну. Спаси меня! Ты узнаешь все, узнай по картам, где это письмо… возьми его, спаси меня! — Разве это письмо очень вас компрометирует? — Если оно попадет в руки короля — я погибла. — В самом деле? — вскричала итальянка с странным выражением. — Ну, успокойтесь, синьора, я вас спасу. — Ты найдешь это письмо? — Да; но воротитесь к вашей матери и ни слова более!.. Предоставьте это дело мне. Я скоро сообщу вам что-нибудь. Анриэтта поцеловала итальянку с безумной радостью. «То, что карты мне не скажут, я узнаю от Аюйбани», — подумала Элеонора с улыбкой. «Я зашла слишком далеко, — подумала Анриэтта, — и отдала себя на произвол Элеоноры, но я буду наблюдать за ней». Она воротилась к матери, итальянка ушла по потайной лестнице.Глава 66 УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
Де Майенн провел ночь не совсем спокойную в Монсо. Он должен бы, однако, спать крепко в доме такой благородной хозяйки, как Габриэль. Но лотарингец знал историю и припоминал множество победителей, которые заплатили тюрьмой за безрассудное предприятие побежденного. Он с нетерпением ждал дня, чтобы новые уверения Генриха Четвертого подтвердили вчерашнее великодушие. Утро вечера мудренее. Он нашел короля таким же спокойным и любезным, как после сцены в гроте. Многочисленная толпа придворных присутствовала при свидании новых друзей. Генрих взял за руку лотарингского принца и поспешно увел его в парк. — Поговорим о делах, как мы условились, кузен, — сказал король. — Ваше величество мне сказали, что разговор будет непродолжителен, — отвечал Майенн. — Он продолжится сколько вы хотите, кузен. Он будет короток, если вы потребуете малого, и продолжителен, если вы потребуете многого; это зависит от вас. Герцог удостоверился проницательным взглядом в искренности короля и высказал свои условия так вежливо и твердо, как только мог. Он потребовал, по обычаю, обеспеченных городов, не для себя, говорил он, а для своих сторонников на шесть лет. — Сколько вам нужно? — спросил король. — Три. Это слишком много, государь? — Пусть будет три; какие вы предпочитаете? — Мне хотелось бы Шалон, если ваше величество не против этого, потом город Серр в Бургундии и, наконец, Соассон. — У вас прекрасный вкус, кузен; возьмите это все. — Государь, в этой несчастной войне принимали участие многие мои друзья. — Вы хотите, чтобы они были избавлены от всяких обвинений и упреков за прошлое? — Точно так, государь. Мне казалось бы жестоко оставить этих добрых друзей в затруднениях, откоторых ваша доброта освободила меня. — Согласен, кузен; все ли это? — Мне стыдно просить так много, но эта война была предпринята для пользы католической религии и мне не хотелось бы, ради моей чести, чтобы сказали, что в мирном договоре, заключенном с вашим величеством, бывший начальник лиги ничего не выговорил для… — Для лигеров, это справедливо. Посмотрим, что могло бы сделать вас приятным для этих господ, вас, слышите ли, кузен? Потому что я совсем не желаю сделать им удовольствия. — О государь! Одна небольшая статья, один крошечный пункт против гугенотов. — Я не принадлежу уже к реформатской религии, кузен, и следовательно, имею право согласиться на ваше желание, с условием, однако, чтобы вы не потребовали новой Варфоломеевской ночи. Оба засмеялись. — Послушайте, — прибавил король, — у вас есть три города, делайте с ними, что хотите. — Я прошу, — сказал Майенн, — чтобы все офицеры и чиновники в этих трех городах были католики. — В продолжение шести лет, кузен? — Да, государь. — Ну, если только в этом состоит весь вред, который вы делаете кальвинистам, я согласен. — Злые языки не скажут, — прибавил Майенн, обмахиваясь платком, потому что король водил его большими шагами по солнцу, и с него струился пот, — что я поступил как эгоист. — Нет, кузен, — сказал Генрих, лукаво смотря на запыхавшегося толстяка, но ускоряя шаги, — римско-католическая религия будет довольна вами. Это все ваши условия? — Позволите ли вы, — сказал Майенн, — поговорить немного и обо мне теперь, когда я обеспечил спокойствие других. — Говорите, герцог, говорите о себе. — Государь, вот щекотливый пункт. Я очень компрометировал свое состояние в этой войне. — Я думаю, — сказал Генрих. — Но ведь города, которые вы занимали, платили вам контрибуцию… мои города. — О государь! Самую безделицу, между тем как я и мои приверженцы разорялись. — Бедный кузен! — Ваше величество дорого мне стоили, — прибавил лотарингец со вздохом уныния и утомления. Король все ускорял шаги, поднимаясь на пригорки и шагая по долинам, как настоящий беарнский охотник. — Сколько могли вы истратить таким образом? — спросил Генрих, который чуял итог, соразмерный со вздохами де Майенна, и остановился на минуту, чтобы послушать этот итог. Герцог вместо ответа громко сказал: — Уф! «Если я дам ему обдумать, — подумал Генрих, — он удвоит сумму». И он пошел вперед, прежде чем герцог успел перевести дух. — Государь, ваше величество испугаетесь, если я вам скажу настоящую цифру, и я сам никогда не осмелюсь просить короля войти в мои сумасбродства. Только считая оружие, боевые припасы и жалованье войск, больше миллиона. — О! о! — сказал король, нахмурив брови. — А на договоры и разные потери еще миллион. — Кузен… — На суммы, отнятые вашими победоносными войсками, на контрибуции, собранные с моих владений, на конфискации еще миллион, по крайней мере. — Вы были богаче меня, кузен, если потеряли все это, — сказал король несколько сухо, — потому что если бы мне пришлось выплатить подобную сумму, я сделался бы банкротом. Лотарингец увидал, что он зашел слишком далеко. — Государь, — сказал он, — сохрани Бог, чтобы я заставил ваше величество поплатиться за ошибки, сделанные мной! Платит побежденный, а не победитель. — Здесь нет ни того, ни другого, — отвечал Генрих с кротостью, — мы друзья. И он опять быстро зашагал. — Ну, если мы друзья, — сказал герцог, покраснев как мак и с трудом ворочая своим пересохшим языком, — сделайте мне одолжение, остановитесь на минуту, потому что я задохнусь, если вы не сжалитесь надо мной. — Бедный кузен! — сказал Генрих, смеясь. — Вот мое единственное мщение вам. Остановим наши ноги и наши счеты. Вот прекрасная дерновая скамья; заметьте, что я увел вас на сто шагов от замка, где в погребах герцогини находится в избили это арбоасское вино, которое вы так любите. Чтобы нам кончить, скажите, какая сумма вам нужна? — Тремястами тысячами экю, государь, я заплачу самое главное; но если бы было триста пятьдесят… — Мы прибавим пятьдесят тысяч, кузен. — Ну, это все, государь, — сказал герцог с радостью. — Дайте мне руку, Майенн, кончено. Герцог отер себе лицо, как человек, спасенный от смерти. Генрих послал за дворецким, чтобы герцог освежился. В это время подошли придворные и вместе с ними герцогиня де Бофор. Майенн встал, чтобы приветствовать прекрасную хозяйку. Габриэль была ослепительна счастьем и красотой. — Вы видите, герцогиня, — сказал король, — что если бы мои ссоры с де Майенном могли решаться бегом, как на олимпийских играх, я побеждал бы его каждый раз… — И положили бы в могилу, — прибавил герцог, — если бы король не сжалился надо мной, я умер бы сейчас. — Но уж и вы также не приготовляетесь ли на бег, герцогиня? — продолжал король. — На вас амазонка. — Государь, я дала обещание быть у обедни, если Господь позволит вам примириться с герцогом, и приготовляюсь исполнить обещание. — Уж не собираетесь ли вы в церковь Святого Иакова Компостельского? — спросил король. — Я собираюсь в Безон, государь, и воспользуюсь соседством, чтобы съездить в буживальский дом моего отца. — В Безон? Это правда, я забыл, — прошептал король, задумавшись. — В Безон! Это, кажется, знаменитый монастырь? — спросил герцог. — Женевьевцев, да, кузен, — отвечал Генрих выразительно. — В этом монастыре живет тот монах, которого герцогиня назвала вам вчера. — Мой советник, герцог, первый виновник нашего настоящего спокойствия. — Кажется, брат Робер? — Да, герцог. — Ну, продолжайте ваши приготовления, герцогиня. Может быть, мы поедем вместе в ту сторону. Удивленная Габриэль хотела расспросить. Король сделал ей знак, который она поняла и прошла дальше, чтобы оставить Генриха с Майенном. — Кузен, — начал король после краткого молчания, — мы думали сейчас, что кончены наши дела. Ну, нет, они еще не кончены, потому что мне остается, если не предложить вам условие, то, по крайней мере, просьбу… Успокойтесь, это деликатность, которая, я надеюсь, не будет значить ничего для такого благородного человека, как вы. — Я слушаю вас с величайшим вниманием, государь. Это насчет чего? — Насчет брата Робера. — Я его не знаю, государь. — Это правда; но он, кажется, вас знает. Я должен начать несколько выше. Вы меня слушаете, не правда ли, любезный кузен? «Что он хочет мне сказать?» — подумал Майенн, удивленный серьезным видом короля после такой дружеской фамильярности. Генрих, потирая лоб рукой, казался погружен в озабоченность, как приличнее приступить к делу. Де Майенн ждал первых слов, не без некоторого беспокойства. — Вы мне обещаете исполнить все, о чем я вас попрошу, кузен? — сказал король. — Если это зависит от меня, государь, обещаю. — Это так же легко, как вырвать эту сорную траву, герцог. Да, вы вырвите это дурное воспоминание из сердца одного человека… Но я начинаю. Майенн был как на иголках. — Кузен, у меня был когда-то добрый друг, храбрый дворянин, служивший также моему брату, покойному королю Генриху Третьему. Добрый друг, достойный и превосходный гасконский дворянин… — Как его звали? — спросил герцог. — Я не совсем припоминаю в эту минуту его имя, — сказал король с легким замешательством, — я его вспомню после и вы так же, может быть. Этот гасконец не был счастлив; вначале его карьеры с ним случилось ужасное несчастье. — А! — Судите сами, кузен. У бедного дворянина была где-то в Париже, на углу улицы Нойе, кажется, молодая и очаровательная любовница. В одну ночь, когда он отправился к ней, один принц, ревновавший к нему, велел окружить дом, схватить любовника и так сильно отколотить его палками, что несчастный выскочил в окно и спрыгнул с балкона на улицу, рискуя убиться. Оскорбление было из таких, которые благородный человек не забывает, и принц, сделавший это… — Государь, — перебил де Майенн, на лице которого яркий румянец сменился чрезвычайной бледностью, — поступок этого принца был низок, и он не раз просил прощения у Бога тем смиреннее, что бедный и оскорблявший его простил и, говорят, умер самым жалким образом. — Вы знаете, о ком я говорю, кузен, я это вижу по вашему волнению. — Да, государь, я знаю гасконца и знаю принца. Бедный Шико, зачем ты не можешь теперь простить Майенну! — Его звали Шико, вы правы. Отойдемте в сторону, кузен; я боюсь, что нас услышат; пойдемте, я докончу мой рассказ; в вашей горести, по вашему раскаянию, я предчувствую, что мы легко согласимся с вами. — Собеседники исчезли в четверть часа под деревьями, а когда они воротились, в лице де Майенна виднелись следы глубокого расстройства, Лицо короля сияло радостью, и придворные, всегда внимательные, могли только уловить эти слова де Майенна: — Ваше величество останетесь довольны. Генрих дружески пожал ему руку. — Ну, господа, — сказал он громко, — мы поедем в Безон, чтобы повиноваться герцогине. Она дала обет, мы поможем ей исполнить его; а так как мой кузен де Майенн поедет с нами, мы сделаем очаровательную поездку в эту прекрасную погоду в любезном обществе герцогини. Весь двор уехал из Монсо и ночевал в Сен-Дени, куда приехали поздно. На другой день после завтрака эта блестящая труппа отправилась опять в путь, увеличившись еще приглашенными дворянами и дамами. Король запретил Габриэль предупреждать женевьевцев. Двор остановился перед монастырем в ту минуту, когда колокол звал монахов к вечерне. Удивление общины было велико. Уже король и придворные вошли в капеллу, и Габриэль искала глазами брата Робера, которого один из слуг пошел звать в сад, двое других слуг прикатили кресло дом Модеста к первому месту на клиросе. Брат Робер пришел, не зная ничего, кроме того, что король приехал в монастырь, и уже направлялся к Габриэль, которую можно было узнать скорее всех по шелковому зеленому платью и богатым кружевам у корсажа, когда вдруг он остановился, как будто его ноги прилипли к плитам. Его проницательные глаза, должно быть, встретили какое-нибудь странное препятствие, потому что страшная бледность мало-помалу разлилась по его лицу. Из его расширенных ноздрей точно испарялся горячий пар, а капюшон, откинутый назад этим непредвиденным потрясением, обнаруживал лицо, оживленное грозным выражением. Все это пламя прилило из его сердца к голове и брызнуло из зрачков. Брат Робер смотрел таким образом на Майенна и как будто хотел уничтожить его этой вспышкой одной секунды. Герцог, сам удивленный, тщетно старался выдержать этот взгляд. Может быть, он узнал бы, если б король не сделал ему таинственные знаки. Майенн отвернулся и как будто с любопытством смотрел на архитектуру капеллы. Капюшон женевьевца упал на глаза и закрыл все, гнев и пламя. Между тем Габриэль, стоя на коленах, набожно молилась; король молился также, склонив голову. Около них двор подражал этой набожности, и слышался только голос двух монахов, которые попеременно пели псалмы. Служба скоро кончилась и монахи приготовлялись выйти из капеллы. Но король стал у двери; герцог поместился возле него и задумчиво и робко искал украдкой неуловимый взгляд брата Робера, все стоящего на коленях возле столба, хотя все уже встали в конце службы. Присутствующие смутно слышали приближение какой-то торжественной сцены. — Я горячо молился, — сказал король громким голосом, — чтобы поблагодарить Бога за милость, которую он излил на это королевство. Я молился за моих подданных, за моих друзей; а вы, герцог? — Я, государь, — отвечал де Майенн, — я молился за моих врагов, которые многочисленны и неприязнь которых мне хотелось бы уничтожить. Да, господа, — прибавил он, — в ту минуту, когда покровительство величайшего короля на свете делает меня непобедимым, в тот день, когда я был прощен, хотелось бы мне, чтобы совесть моя очистилась прощением тех, кого я оскорбил в моей продолжительной жизни, исполненной гордости и насилия. Придворные переглянулись с удивлением. Король молчал и опустил глаза, чтобы избегнуть удивленного взгляда Габриэль. Дом Модест вытаращил глаза по направлению того угла, где стоял на коленях брат Робер. Женевьевец, стоявший на коленях, без сомнения, не слыхал этих слов, потому что после машинального движения продолжал свою безмолвную молитву, склонившись до земли. — Господа! — продолжал Майенн, делая шаг в ту сторону. — Многие из вас понимают, что я делаю намек на злые поступки моей жизни. Возмущение против государя принадлежит к их числу, но пусть он позволит мне сказать, что как ни велик этот проступок, не за него я упрекаю себя больше всего. Король был силен и защищался до того, что стал победителем, тогда я был мятежный, но не низкий человек. Но не раз я был сильнее врагов менее знаменитых, которых уничтожал моим могуществом. У них-то я хочу просить прощения. Глубокая тишина сдерживала даже дыхание всех присутствующих. Женевьевец медленно приподнял свое закрытое лицо, касавшееся земли. Глаза толстого приора сверкнули проблеском ума. — Между этими несчастными, которых я притеснял, — продолжал Майенн, — есть один, которого я хотел был найти здесь, у подножия алтаря, перед лицом Господа, в присутствии короля. Это был честный и храбрый дворянин, который заслуживал все мое уважение. Я низко оскорбил его. Однако он был лучше меня. Он умер, говорят, проклиная меня. Женевьевец, выпрямив высокий стан, вдруг приподнялся и прислонился к столбу; капюшон все закрывал ему голову. — Да, он умер, — продолжал герцог, мало-помалу приближаясь к женевьевцу. — И если бы Богу было угодно воскресить его, потому что для Бога нет ничего невозможного, я смиренно преклонился бы перед этим дворянином, как преклоняюсь перед этим монахом. Я просил бы у него прощения в оскорблении, столько же несправедливом, сколько жестоком, и подал бы ему, как подаю этому брату, трость, которую я держу в руке, и сказал бы ему: «Я оскорбил вас, Шико, отмстите мне и возвратите вашу честь. Я удовлетворяю вас». Сказав эти слова, Майенн протянул трепещущую руку и подал свою трость брату Роберу. Тот, когда имя Шико поразило его слуг, вдруг открыл свое лицо; его жадные, блестящие глаза смотрели с радостью, походившую на восторг, и на герцога, и на собрание, и на короля, и на Габриэль, которые все были глубоко взволнованы этими словами, которым звание того, кто произносил их, придавало столько торжественности. Майенн потупил голову. Голова брата Робера возвышалась над ним несколько времени с невыразимой гордостью. Потом женевьевец, трепеща, прислонился к столбу, закрыв руками глаза, из которых брызнули крупные слезы на его исхудалые пальцы. Дом Модест поднял руки к небу и впал в свое оцепенение. Майенн медленно удалился; двор ждал короля, чтобы удалиться в свою очередь, но король сделал знак, что он не хочет, чтобы его ждали, и остался в капелле, откуда ушли все мало-помалу за Габриэль и герцогом. Оставшись один с братом Робером, который казался статуей на каменной колонне, король взял его за руку и сказал растроганным голосом: — Ну, нашел ли я друга? Все ли будешь ты называться для меня братом Робером? Женевьевец зарыдал и упал к ногам короля, прошептав с усилием: — Меня зовут Шико и я благодарю моего короля: он заплатил мне все свои долги. Генрих поднял его, обнял и поспешно вышел из капеллы, чтобы не возбудить любопытства. Тогда Шико побежал к дом Модесту и вскричал, в порыве безумной радости: — Теперь будь счастлив и ты, будь свободен!.. Говори!.. — О, спасибо! — отвечал приор, отдуваясь как тюлень.Глава 67 ОПАСНОСТИ РЕВНОСТИ
Между тем среди всеобщей радости, когда все французские сердца вкушали в первый раз после стольких лет сладость мира и согласия и когда воины посылали последние выстрелы в испанскую партию, погибавшую во Франции, а Сюлли в главе организаторов открывал все источники кредита и богатства, один человек в этой счастливой стране остался несчастным. Это был Эсперанс, которому новое счастье принесло только горести и опасения. Возвышение Габриэль как будто сделало между ними еще больше расстояния; опасности увеличивались; около фаворитки ожесточалась ненависть, смертельная зависть. Притом не было ли уже довольно трудно приблизиться к Габриэль без унижения почестей, которые делали ее дом еще менее доступным, чем прежде? Притом, размышляя — а бедный Эсперанс размышлял — он спрашивал себя: какую пользу он извлек из своей деликатной любви? Мужчина отдает свое сердце, всю свою жизнь, уничтожает себя для единственной мысли, оставляет все — веселых друзей, сумасбродную любовь, теряет все спокойствие, славу и богатство, чтобы всегда быть готовы повиноваться неприметному знаку, невидимой прихоти любимой женщины, и что же выходит из этого? Мирные радости совести наконец истощаются. Молодость заговорит, она красноречиво переводит пылкие вдохновения, пожирающую потребность. Таково было часто отчаяние Эсперанса, когда он слышал около себя шум молодости и жизни. Со своим великодушным умом, со своей нежной душой, он не обвинял своей кроткой любовницы, но обвинял судьбу, которая не допускает никогда, чтобы человек был совершенно счастлив. Особенно во время продолжительных прогулок в полях и лесах, когда настает вечер, когда цветы смешиваются с листьями в обширном пространстве перспектив, когда все дышит благоуханием, тишиной и таинственностью, когда во всей природе поднимается гармоническое дыхание, которое говорит всем существам: отдыхайте и любите, тогда-то Эсперанс возвращался унылый, усталый от обманов и одиночества своей жизни. Что значит великолепный пир, где человек пьет один? Что значит лошадь, на которой он ездит всегда один, когда было бы так приятно скакать вдвоем в аллеях, устланных травой и мхом, пить золотистое вино из одного бокала и слышать на мягком ковре шелест легких шагов любимой женщины? Эсперанс не был счастлив; он не имел даже этого пошлого утешения — жаловаться поверенному. Слишком много опасностей угрожало Габриэль, для того чтобы любовник мог вверить кому-нибудь тайну, от которой зависели честь и жизнь его любовницы. Поэтому он проводил жалкие часы, говоря ложь даже Понти, которого беспечный эгоизм увлекал в другие места, даже Крильону, более проницательному может быть, но также и строгому. Эсперанс, живший по соседству с Заметом, под надзором Элеоноры, соединившейся с Антрагами, не имел ни одного свободного движения и чувствовал приближение минуты, когда его враги, вместе с врагами Габриэль, приготовив во мраке оружие, которое им было нужно, перейдут из выжидательного к наступательному положению, так что ему невозможно будет избегнуть ни одного из их ударов. Это было жестоким испытанием для этого характера, смелого в своем спокойствии, для этой прямой и непреклонной натуры, которую Господь создал, для того чтобы идти беззаботно к цели, благодаря всемогущей силе ее мускулов и твердости души. Но что делать? Один Эсперанс все разбил бы вокруг себя; интриги и заговоры Анриэтты были бы для руки его смешной сетью паутины, но Эсперанса держали посредством Габриэль; он это чувствовал и приходил в отчаяние. «В целой Франции есть только одна женщина, — часто думал он, — любовь которой могла бы меня парализовать до такой степени, и именно эту женщину выбрал я. Но, слава богу, я люблю с мужеством и буду охранять ее, сколько могу. Что я говорю о моем мужестве? Если б я имел его, я уехал бы уже, не говоря ничего Габриэль, и она освободилась бы от всех опасностей и горестей, какие навлекает на нее моя любовь». Потом он размышлял, что без него Габриэль, может быть, уже погибла бы, что Анриэтта д’Антраг, поддерживаемая завистниками, успела бы свергнуть фаворитку. Он любил повторять себе, что его присутствие возле Габриэль необходимо, что если бы не страх, который он внушал Анриэтте, если бы не беспрерывные угрозы запиской, это чудовище, эта убийца Урбена и ла Раме уже укусила бы в сердце кроткую Габриэль. — Да, — говорил он с энергией, — я буду сражаться с тобой до самой смерти, ядовитая сирена; да, я защищу от тебя лучшую из женщин. Горе тебе, если ты поднимешь голову! Горе тебе, если я услышу свист твоего ядовитого языка! потому что мало-помалу сострадание угасло в моей душе, и я раздавлю тебя ногой. Мы сказали, что Эсперанс был создан добрым, доверчивым и твердым. Эти три добродетели не оставляют в сердце места для продолжительной печали. Сила не допускает опасения, доброта не допускает ненависти, доверчивость не допускает подозрений. Эсперанс каждый раз, как печалился таким образом, развеселялся при одном имени Габриэль, при воспоминании о ее улыбке, и опять делался счастлив при мысли, что он был полезен и, без сомнения, любим. Король, после поездки в Безон, воротился в Париж писать мирный договор с Майенном, а также и, для того чтобы оставить Габриэль несколько времени на свободе и одну в отцовском доме в Буживале. Герцогиня назначила Эсперансу свидание в субботу вечером. Суббота наступила наконец. Молодой человек, приготовляясь от отъезду, рассчитывал от этого свидания получить гораздо более, чем от других. Он был расположен и к большему честолюбию. Его права увеличились после услуги, оказанной в Монсо, и Габриэль пожалела о нем. Стало быть, она считала его обиженным. Это преимущество, которым воспользуется всякий любовник. До отъезда в Буживаль, куда он хотел ехать без всякой таинственности, потому что человек, за которым следят, подвергается этому столько же скрываясь, сколько и показываясь, Эсперанс велел позвать Понти, чтобы узнать несколько положение своих дел. Понти, после выходки в трактире, держал себя поодаль, боясь, что его будут бранить. Он не был тогда совершенно пьян и не был вполне нескромен, но, конечно, мог бы совсем молчать насчет Анриэтты и совсем не пить, как он обещал. Это двойное нарушение было ли настолько важно, чтобы набросить холодность между друзьями? Эсперанс этого не думал, и притом Крильон рассказал ему все дело, не слишком обвиняя Понти — до того он ненавидел Антрагов. Добрый кавалер даже прибавил тихо на ухо Эсперансу: — У негодяя язык слишком короток, а я в его лета и на его месте болтал бы целые три дня о таком богатом предмете. Черт побери! Я не знаю такой острой шпаги, которая могла бы отрезать язык дворянину, который хочет говорить. Но вы теперь жалкие люди. Является старик и приказывает вам молчать — и вы молчите. Вам велят вложить шпаги в ножны — и вы вкладываете. Жалкие люди! Эта странная выходка против слишком скромной и слишком дисциплинированной молодежи очень рассмешила Эсперанса и расположила его гораздо лучше к Понти, который явился в улицу Серизе с фанфаронским видом, с робостью в сердце, ожидая выговора от своего друга. — Ну, — вскричал Эсперанс, — как ты разрядился! В самом деле Понти цвел, как лавка на ярмарке. Он навешал на себя лент, надушился помадой, как щеголь, получающий сто тысяч годового дохода. Понти бросил на свой наряд небрежный и довольный взгляд. — Ты даешь мне деньги, я их трачу, — отвечал он. — Трать, Понти, трать; будь скуп только на две вещи. — А! знаю, знаю, — заворчал гвардеец, — скуп на вино и слова, вот что хочешь ты сказать. — Как ты легко угадываешь! — Я неделикатный человек, то есть не дурак. — Черт побери! Откуда вы набрались таких теорий о деликатности, мэтр Понти? — Синьор Эсперанс, люди, которые встречают бешеного волка и из деликатности дают ему укусить свою руку, дураки. Я предпочитаю укусить, чем быть укушенным. И несмотря на упрек, который я вижу на ваших губах за мою вспышку в кабаке, а вам скажу, что каждый раз, когда зайдет дело об этой волчице, об этом шакале, об этой ядовитой крысе, которую зовут Ан… — Сделайте одолжение, замолчите, — сказал Эсперанс, подходя к Понти со взглядом укротителя. — Я не говорю вам об этих людях. Какая муха укусила вас? — Вот я еще забыл назвать ее мухой, — проворчал Понти. — Скажи мне лучше, как идет твоя любовь? — Чудесно! Как может быть иначе? — Какой же ты нахал! — Это не нахальство, а умение себя вести. Женщины сейчас захватят вас в руки, если вы не станете остерегаться. — Итак, твоя индианка тебя не захватила? — Нет. — Однако индианка, должно быть, дикарка. Может быть, впрочем, твоя ручная. — Не следует полагаться на это, — сказал Понти. — Однако ты ее укротил и счастлив? — Я еще только укротил характер. — Она тебе сопротивляется? — Это олицетворенная добродетель. — Но, мой милый, если женщина не говорит, не понимает, не бела лицом да еще добродетельна в придачу, какое же удовольствие остается тебе? — О! Очень много. Женщина, с которой ссоришься, никогда не наскучит. — Вы ссоритесь? — Мы деремся. Эсперанс расхохотался. — Ты, мой друг, — сказал он, — расскажи мне это. — Она ревнива. — Все желтые женщины ревнивы. Но, стало быть, ты подаешь повод к ревности, ветреник? — Она сама сочиняет. — Как она ревнует, по-индийски или по-французски? — Ты смеешься; она ревнует, как самые бешеные парижанки. Хочешь, я расскажу тебе один пример? — Расскажи, друг мой, расскажи. — Сегодня, час тому назад… Но прежде взгляни на мой полукафтан. — Этот зеленый атлас по восьми франков за аршин. — По десяти. Посмотри, каков. — В самом деле. — А царапины ногтями сосчитай. — Я нахожу, что их много. — Это мои раны. — Как! Индианка защищается таким образом? — Это я защищаюсь. — Ах, Понти! Я не понимаю, объяснись. — Я хотел ее поцеловать, она сопротивлялась. Вдруг она остановилась и спросила знаком: «Что это у вас под вашим полукафтаном?» Ты знаешь, Эсперанс, что я там скрываю. Она открыла мою грудь и приметила золотой медальон. Эсперанс сделался серьезен. — Что это такое? — спрашивали жадные глаза Айюбани, пока я, смеясь, закрывал мой полукафтан. — А ты смеялся? — холодно сказал Эсперанс. — Если бы ты видел ее гнев! Она мне сделала знак, что это портрет любовницы. Я смеялся; что это сувенир любви, я расхохотался еще громче. Наконец, она бросилась на меня, как тигрица, чтобы вырвать у меня медальон. Произошла баталия, перемешанная с переговорами. — За кем осталась победа? — спросил Эсперанс, нахмурив брови. — Ты серьезно задаешь мне этот вопрос? — Да. — Я серьезно буду тебе отвечать. Моя милая Айюбани, — сказал ей, — если вы дотронетесь до этого, я ударю вас по пальчикам, а если вы будете настаивать, то я с вами поссорюсь. — Она поняла? — Как нельзя лучше. Она надулась и сделала вид, будто хочет уйти. Но тут-то я хочу тебе доказать преимущество твердости в любви. Айюбани почувствовала, что мое решение неизменно, и не настаивала. Мы расстались лучшими друзьями на свете. Я поклялся ей только, что это ладанка с мощами. — Понти, — сказал Эсперанс, которого этот смешной рассказ не заставил улыбнуться ни разу. — Возврати мне медальон. — Что такое? — Возврати мне, говорю тебе, эту записку. Я нахожу, что она не в безопасности в твоих руках. — Ты с ума сошел? — Я в здравом уме; возврати ее мне. — Точно, Эсперанс, ты мне не доверяешь. — Это совершенная правда. Мужчина, принадлежащий женщине, не принадлежит себе. Сегодня ты устоял от любопытства Айюбани, завтра ты не устоишь. — Ты оскорбляешь меня. — Вовсе нет. — Эсперанс, это нерассудительно. Как ты хочешь, чтобы эта индианка подозревала записку и ее важность? Она, может быть, не умеет читать и по-индийски. — Я не верю твоей индианке, я не верю Айюбани, я не верю ничему. Дай мне медальон. Он произнес эти слова решительным тоном, который оледенил кровь в жилах Понти. — Притом, — прибавил Эсперанс, — следует бояться не одной твоей любовницы. Ты любишь ужины и пирушки по ночам. — И вино, не так ли? — Да, вино. — Ты меня оскорбляешь! — вскричал Понти со сверкающими глазами. — Разве я пьян в эту минуту? Нет, не правда ли? — От гнева может быть. — Непременно от гнева, потому что ваша несправедливость возмущает меня. Ну! если вы желаете отнять ваше доверие от того, кто ему никогда не изменял, от того, кто отдал бы за вас жизнь, будьте довольны. Он чуть не разорвал свой полукафтан и дрожащею рукой стал искать золотой медальон, спрятанный под его рубашкой. В своих раздраженных усилиях он терзал свою грудь так, что кровь выступила на белом и тонком полотне. — Только, — прошептал он, стараясь разорвать шелковый шнурок, сдерживавший медальон, — расстанемся!.. Я вам отдам ключ от вашего домика. Эсперанс был тронут, он видел, как из сердца выступила кровь и из глаз брызнули слезы его друга. «Я не могу ему объяснить, — думал он, — что эта записка обеспечивает Габриэль еще более меня. Он примет меня за труса, за эгоиста и не поймет. Неужели я должен разойтись со старым другом для опасности, может быть, химерической?» — Довольно, — сказал он Понти, — довольно, не будем больше говорить об этом; я был не прав, ты добрый и хороший товарищ; застегни твой полукафтан, успокой твои нервы, не раздражайся больше против меня. Понти оставался в нерешимости и еще дулся, может быть, потому, что он был разбит от волнения. Эсперанс спокойно застегнул полукафтан Понти, пожал ему руки и, дружески улыбнувшись ему, посмотрел на стенные часы, которые уже пробили час отъезда. — Счастливого успеха и радостной любви! — сказал он Понти, потом сел на лошадь и исчез. Но между тем он думал: «Сегодня у меня нет времени, но завтра я узнаю, кто такая эта индианка и до какой степени она ревнует к Понти. Сегодня еще предоставим действовать лукавому демону, потому что нельзя поступить иначе, но завтра — о! завтра мне надо быть осторожным. Завтра я просто возьму медальон от Понти и отдам его Крильону». А Понти думал: «Эсперанс становится своенравен. Слишком большое богатство изменяет характер. Человек, которому все удается, скоро становится несносен. Не доверять Айюбани! Видно, что он избалован придворными дамами, этими злодейками из белой кожи. Не хочу и слышать об этой белой коже. Фи!.. Но вот скоро будет пора отнести мой букет индианке. Так как она послушна моей воле, то я должен быть аккуратен. Бедная милая горлица… желтая!» Он отправился к домику. Эсперанс и Понти исчезли каждый со своей стороны, когда к Элеоноре, располагавшей выйти, неожиданно явилась Анриэтта. Камеристка не успела доложить о ней, она сама отворила дверь и вошла вслед за служанкой к Элеоноре, которая тихо разговаривала с двумя неизвестными женщинами. Анриэтта быстрым взглядом удостоверилась, что итальянка дает им какие-то интересные наставления. Увидев Анриэтту, Элеонора вдруг остановилась и сконфузилась, несмотря на свое обычное присутствие духа. В голове Анриэтты мелькнула мысль. — Кончите что вам нужно с этими дамами, — сказала она поспешно. — Я забыла приказать моим людям лучше скрыть мою карету. Я скажу только несколько слов моему лакею и ворочусь. Она вышла, позвала лакея, доверенного человека Антрагов, и сказала ему: — Две женщины выйдут из этого дома, одетые так-то и так-то; пойдите за ними и скажите мне, кто они, куда идут и где живут. Когда лакей ушел, она воротилась со спокойным и развязным видом к итальянке, которая, со своей стороны, отпускала обеих женщин, не показывая ни подозрения, ни беспокойства. Анриэтта поняла, что она назначает им свидание, но часа не могла расслышать. — Вы мне простите, — сказала Элеонора, — ко мне, как к ворожее, приходят беспрестанно; эти две дамы гадали у меня, и ваше присутствие в минуту объяснения… — Вас стеснило, может быть? — Не для меня, а для вас, вы не любите, чтобы вас видели здесь; я полагаю, что вы будете мне благодарны за то, что я сократила совещание, — ловко прибавила итальянка. — Благодарю, — отвечала Анриэтта, жадное любопытство которой, как искусно ни было скрыто, не укрылось от проницательных глаз Элеоноры. — Вы пришли сюда в такое время и так поспешно, прибавила итальянка, — не случилось ли чего нового? — Да. Вы знаете, что герцогиня в своем буживальском доме? — Знаю. — Знаете ли вы так же, что он уехал? Анриэтта обозначала таким образом того, кого она не смела назвать Эсперансом. — И это знаю, — холодно отвечала Элеонора, — я видела, как он уехал. Элеонора, удивленная этим спокойствием, когда дело шло о их делах, сказала: — Надеюсь, вы знаете, что значит это двойное отсутствие. Я удивляюсь, как вы сами не поехали. — Я и без того узнаю, — сказала Элеонора тем же самоуверенным тоном, — я вчера послала Кончино в Буживаль. Герцогиня приехала туда только третьего дня; ее не теряли из вида ни минуты; напротив, я нахожу, — прибавила итальянка с коварным взглядом, — что вы очень холодны и равнодушны, не находясь в Буживале или в окрестностях. — Я? — вскричала Анриэтта. — Конечно. Что могу сделать я, бедная иностранка, даже в таком случае, когда узнаю о свидании Сперанцы и герцогини? К чему послужит мое свидетельство? Ведь я ничего не значу в этой стране. Вы, напротив, хотите убедить короля, что вы одна достойны его; вы можете привести на место свидетелей, важных по своему званию и власти; вам, синьора, надо быть сегодня вечером в Буживале. Анриэтта закусила губы. — Мы сваливаем друг на друга, — сказала она, — и, если я не ошибаюсь, вы меня отправляете туда, куда я намеревалась просить вас отправиться сегодня вечером. Она сделала ударение на последнем слове. Элеонора поняла намерение. Она чувствовала, что ее подозревают, но на лице ее не выразилось никакого неудовольствия. — Я не могла бы отправиться сегодня, — отвечала она. — А! вы будете заняты вечером? — спросила мадемуазель д’Антраг. — Да, синьора, и для вас. — В самом деле? — спросила Анриэтта тоном, обнаруживавшим полнейшее недоверие. — Я должна сегодня вечером заняться очень важным гаданьем насчет письма, о котором вы мне говорили. Анриэтта вздрогнула. — Я скоро узнаю, где оно, — прибавила Элеонора. — Через гаданье? — Да, синьора. — При котором я не могу присутствовать, моя добрая Элеонора? — спросила Анриэтта лицемерно ласково. — О нет! ваше присутствие нарушит чары. С которых пор могущественные духи соглашаются говорить в присутствие предмета, интересующегося их признания? Если бы вы явились, это было бы лучшим средством ничего не узнать. Вот почему, может быть, вы поступили бы благоразумно, если б отправились в Буживаль следовать телесными шагами за материальной частью наших дел, между тем как я стану беседовать с духами. Анриэтта, сделав над собой усилие, очень мучительное для ее неукротимой гордости, взяла за руку итальянку и дружески сказала ей: — Я буду тебе повиноваться, добрая Элеонора. Я поеду сегодня в Буживаль. Ты говоришь, что Кончино уже отправился туда? — Лентяй ругался, но поехал; у него хорошие глаза, когда он согласится не спать. — Я также поеду. Может быть, я ничего не узнаю. Ты знаешь, что женщину, которая остерегается, трудно поймать врасплох. Но это приятная прогулка и, для того чтобы ты была спокойна сегодня вечером, для того чтобы твое гаданье удалось, я поеду. Она сказала эти последние слова так естественно, так любезно, что они обманули Элеонору и заставили ее подумать, что она убедила свою сообщницу. — Завтра, — сказала итальянка, чтобы вознаградить это повиновение и поддержать доверие Анриэтты, — завтра я сообщу вам результат таинственной операции. С завтрашнего дня вы не будете уже более дрожать за эту записку, которая доставила вам столько бессонных ночей! Сказав эти слова, она поцеловала руку Анриэтты, которая обняла ее по всем правилам признательности и простилась с нею. Когда она воротилась к своей карете, зная, что Элеонора подсматривает за нею из-за какой-нибудь занавески, она не теряла ни минуты, и лошади ее повернули в Сент-Антуанскую улицу. Там ждал ее лакей и подошел к дверцам. — Ну? — спросила Анриэтта. — Эти две женщины отправились к аптекарю Моке, знаменитому путешественнику, и принесли оттуда страусовых перьев, стеклянных ожерелий, диких цветов и восточных материй. — Это для чего? — спросила Анриэтта с удивлением, как бы говоря сама с собой. — Право, не знаю, — сказал лакей, — они очень смеялись, выходя оттуда и смотря на все эти вещи. — Они ничего не говорили такого, что ты мог бы расслышать? — Ничего, только сказали, что им надо одеться рано, чтобы поспеть в домик. — Они это сказали! — вскричала Анриэтта, и в глазах ее сверкнула радость. — Точно так. — Хорошо! хорошо!.. Так Элеонора будет вызывать духов в домике. Я знаю одного духа, на которого она не рассчитывает и который там будет.Глава 68 РИГА В БУЖИВАЛЕ
Если ищешь самого богатого выражения человеческой красоты, оно наверняка находится в чертах и позе двадцатилетнего человека, который идет на битву или на любовное свидание. Он храбр, он любим. Его улыбка горда и приятна. У него нет ни одной мысли, которая не была бы запечатлена великодушием сердца, ни одного движения, в котором не отразилось бы соединенное действие всех его способностей. Ему необходима осторожность; это видно по его деятельному и обдуманному взгляду; ему необходима и сила; шаги его тверды и движения гибки; он счастлив и лоб его сияет, и те, которые приметили бы в вечернем тумане этого быстрого всадника, угадали бы, что мысль выше облаков пошлого человечества уносит таким образом человека и лошадь. Так приятно думать о счастье, которое получаешь и даешь; доверия любовника достаточно, чтобы придать ему восхитительную красоту. Эсперанс выбрал материю и цвета, которые нравятся Габриэль: он знает, какие она предпочитает духи, она будет смотреть на эту вышивку, на эти кружева, она будет дотрагиваться до этой перчатки, она коснется рукой до атласа на этом плече. Кто знает, может быть, сделавшись смелее и влюбленнее, она отдохнет на минуту со своим сердцем на этом шарфе, дрожащем при каждом биении сердца Эсперанса. Молодой человек дорогой наполнил свою голову самыми сладостными мечтами. Вот почему, поехав медленно, он мало-помалу ускорил бег своей лошади, которая, наконец, летела как стрела, повинуясь невольной горячности всадника. Розовые облака мало-помалу гаснут на лазури; наверху все еще блестит, на земле темнота сгущается, все предвещает свободу и тишину; это один из тех дней, которые бывают не каждый год в жизни. Воздух разгорячен в уровень с сердцами, нежная томность смягчила ветерок, бархатистая вода приливает к берегу без шума. В природе нет более энергии, нет более борьбы. Глаза, которые встретятся, не будут иметь силы отвернуться; руки, которые соединятся, не разъединятся более; губы, которые начали шептать слово любви, не могут кончить его, не замирая в вечном поцелуе. Таково было пламя, пожиравшее сердце и жилы Эсперанса, что он приехал, сам того не подозревая, в Буживаль. Он оставил лошадь в кустарнике, в трехстах шагах от дома, и чтобы дойти до дома Габриэль пешком, выбрал самую темную сторону дороги, и его пылкие глаза отыскивали окно дома, это окно, которое Грациенна должна была открыть, чтобы подстеречь его приход и ввести в дом, не разбудив собак и немногих служителей в доме д’Эстре. Когда Габриэль уговаривалась в Монсо с Эсперансом, она думала было назначить свидание на мельнице. Там они были бы свободны и одни; но ее деликатность вызывала слишком много воспоминаний. На мельницу приезжал когда-то Генрих, и герцогиня де Бофор не хотела вызывать ни одного отголоска, знакомого Габриэль той невинной эпохи. Впрочем, что могло быть безопаснее дома? Герцогиня находилась без свиты в этом доме среди преданных служителей и была уверена, что король не нарушит ее убежища. Эсперансу незачем было скрываться, он мог удалиться рано. Те, которые даже увидят, как он войдет, не будут иметь никакого подозрения о поступке, сделанном без таинственности, потому что, иначе, любовник мог бы войти в калитку, которая выходила в лес. Грациенна ждала у окна и пошла отворить дверь Эсперансу. Ничто не показывало зорким глазам молодого человека присутствия шпиона, следы которого он чувствовал столько раз. Огромная телега с сеном, которое косцы не успели свалить в ригу, загораживала ворота. Эта рига закрывала дорогу, как оградная стена, землю, принадлежащую фамилии д’Эстре: она примыкала к флигелю замка, так что эта рига, флигель и замок составляли с забором четырехугольник, заключавший в себе двор и все службы. Грациенна проводила Эсперанса за телегу, загораживавшую ворота, и через ригу в флигель, где он нашел Габриэль, задумчивую и не так обрадованную, как он надеялся, в кресле перед открытым окном. Он надеялся, что она встанет, подбежит к нему и протянет руки. Она повернула к нему бледное лицо и медленно протянула ему свою дрожащую руку, которую он схватил, чтобы поцеловать, удивляясь, что она так холодна. Грациенна ушла, затворив за собой дверь. Эсперанс стал на колени возле кресла, лоб его коснулся груди Габриэль и он чувствовал, как бьется ее сердце с неправильностью ужаса или горести. — Габриэль, — сказал он, — это не волнение любви. Ваши глаза влажны, я вижу следы слез на ваших щеках. — Я в самом деле плакала, — отвечала она. — Вы страдали… может быть, из-за меня? — Да, Эсперанс, из-за вас. Он взял обе руки, но когда подносил их к своим губам со страстным движением, Габриэль отдернула их и закрыла себе лицо, которое в одно мгновение было омочено слезами. — Боже мой! Что с вами? — вскричал молодой человек. — А я ехал сюда с веселой душой, с пением на губах, а я во всю дорогу благодарил Бога за обещанное счастье! — Бедный Эсперанс! — прошептала Габриэль. Он приподнялся, внимательнее посмотрел на нее и сел возле нее, стараясь успокоиться, чтобы лучше видеть и лучше понять. — Если вы сожалеете только обо мне, — сказал он, — тем лучше, я буду еще слишком счастлив. Объясните мне причину сострадания, которое я вам внушаю. — В самом деле, — отвечала она, устремив на него такой нежный взгляд, что он вздрогнул от любви, — я не заслуживаю столько доброты, я так малодушна, что плачу, что огорчаю вас, когда мне следовало бы радоваться и просить вас поздравить меня. — Я вас не понимаю, Габриэль. — Прежде всего, я отру эти малодушные слезы. Простите их слишком слабому существу. Да, я хочу придать твердость моему взгляду, моему голосу, я хочу порадовать ваше сердце и вложить мужество в мое, передав вамдостойным образом известие, которое я должна вам сообщить. — Известие… — Которое наверняка обрадует вас и которому я сама должна радоваться. Повторяю, я была малодушна. Да, Эсперанс, да, друг верный, друг любимый, приятное известие! Таким образом мне следовало начать. Я сделаюсь свободной и буду вполне принадлежать вам, мой Эсперанс! — Свободна?.. Вполне принадлежать мне? — вскричал он с таким чистым восторгом, что его красота сделалась лучезарной. — Правду ли вы говорите, Габриэль? Возможно ли это? — Да, — отвечала она, улыбаясь сквозь слезы. — Безумец, — сказал он глухим голосом, — она плачет, а я верю словам, которые опровергает ее горесть! Как вы можете быть свободны, Габриэль, — я этого не вижу. Свободна и счастлива! Поймем хорошенько друг друга. Габриэль молчала с минуту, как будто старалась собрать свои мысли и прогнать тучи, которые покрывали ее лоб. Борьба этой нежной души с неизвестным страданием возбудила гнев Эсперанса, который прибавил: — Вы знаете, что ваше волнение раздирает мне сердце… Говорите, умоляю вас; нет несчастья, которого не представило бы себе мое воображение вместо того мнимого приятного известия, которое вы сообщаете мне со слезами, со вздохами и рыданиями. Комната, в которой находились любовники, освещалась маленькой лампой, бледный свет которой дребезжал от ветра с реки. В открытое окно виднелись летучие мыши, которые не смели влететь в окно и стукались в стекло. — Вы должны выслушать меня с большим спокойствием, милый Эсперанс, — сказала наконец Габриэль, — потому что никогда, вы сами в этом признаетесь сейчас, нам не было до такой степени нужно наше присутствие духа; потому что если я сообщила вам, что я сделаюсь свободна, то эта счастливая свобода будет стоить нескольких усилий, нескольких пожертвований для одного из нас, а может быть, и для обоих. Будьте терпеливы, выслушайте меня. Эсперанс не отвечал ни слова, но по расстройству его лица можно было видеть, как болезненно было усилие, которое он делал, чтобы слушать молча. — Вчера, — продолжала Габриэль, — король приезжал вечером. Я его не ждала. Он приехал верхом, один. Я сначала смутилась, подумав, что он, может быть, подозревает намерение, заставившее меня остаться в Буживале. У нас нет недостатка ни во врагах, ни в шпионах, которые не раз умели выследить нас, если не погубить. Но король имел такой ласковый и радостный вид; он был ко мне так добр и так доверчив, что я скоро успокоилась. Мое спокойствие, однако, было непродолжительно. Эта благосклонность скрывала другие опасности, которых я не опасалась. Успокойтесь, Эсперанс. Король взял меня за руку и повел на берег реки, где мы нашли лодку мельника. Мы сели в нее оба; я очень удивлялась таинственной серьезности его величества, и подъехали к мельнице, которая была пуста. Мельник спал на траве на острове. Мы были решительно одни, как будто эта сцена была приготовлена заранее. Тут Габриэль остановилась и взяла за руку Эсперанса, которого этот рассказ тревожил и делал мрачным. — Король, — продолжала Габриэль, — сохранял какую-то торжественность, которая все более меня удивляла. Он посадил меня на скамью, а сам сел на поперечное бревно. Кто узнал бы короля и герцогиню в этих двух особах, так странно поместившихся на пыльных досках? — Здесь, Габриэль, — сказал он мне, — уже давно я просил вашей любви и обещал вам свою; с тех пор судьба моя переменилась, но не переменилось мое сердце. Я иногда огорчал вас. Вы же доставляли мне только радость и утешение. Еще недавно я был обязан вам одним из моих самых сладостных триумфов, потому что он не стоил ни одной капли крови моему народу. За все это вы должны получить вознаграждение. Все ваши горести должны изгладиться. Настала минута доказать вам мою признательность. Отныне, Габриэль, никто не станет оскорблять вас в этом королевстве. Я в нем первый, и вы будете первая, потому что я решился после замедлений, которые надо мне простить, и хотел объявить вам об этом на том самом месте, где с таким бескорыстием, когда я был беден, вы поклялись посвятить себя мне. Вы сделаетесь моей женой. Габриэль остановилась, увидев бледность, которая как покров смерти покрыла лицо Эсперанса. Удар, полученный им, заставил задрожать его глаза. Он болезненно сжал свои белые руки и остался неподвижен и безмолвен. — О, вы страдаете! — сказала Габриэль с нежным великодушием. — Нет, нет, я восхищаюсь, — отвечал он. — Только если в этом состоит свобода, о которой вы мне говорили… — Друг мой, — перебила Габриэль, — вы чувствуете, что я тотчас же отказалась от этой чести, которую заслуживаю так мало. — Почему же вы заслуживаете ее так мало? — сказал Эсперанс. — Потому что я чувствую к королю только дружбу, потому что даже его благодеяния не могли согреть моего оледенелого сердца, потому что я отдала вам всю мою любовь. При этих словах, произнесенных с невыразимой простотой, Эсперанс, хотя сердце его растаяло, сохранил серьезное и задумчивое выражение, которое он принял с начала разговора. Он старался обмануть еще самого себя. Он боролся еще против этой страшной грозы, которая угрожала поглотить всю его будущность. — Не испытание ли вам предлагал король? — спросил он. — Не старался ли он возбудить в вас законную гордость? — Нет. Он показал мне письма, которые он посылает в Рим, чтобы уговорить папу уничтожить его брак с королевой Маргаритой. Ответ, по словам посланника, не может не согласоваться с желанием короля. — Это действительно было единственное препятствие, Габриэль, и так как оно уничтожено, ничто не препятствует вашему счастью. Он произнес эти слова без горечи, без гнева, не выказывая мужества, которого у него уже не было. — Ничто? — спросила она с удивлением. — Нет, ничто. — Даже я? — Зачем вам сопротивляться воле короля? Он ваш властелин. — У меня есть еще другой властелин. — Кто же? — Вы. Если соглашусь, согласитесь ли вы? Я сомневаюсь. — Ваша доброта велика, а деликатность безгранична, — отвечал Эсперанс с легким трепетом в голосе, — советоваться таким образом со мной, когда я более ничего, как мимолетная тень в вашей жизни; называть меня властелином, когда я поставляю себе за славу быть вашим врагом — это крайняя степень великодушия. Габриэль, благодарю вас; я этого ожидал от вашего неисчерпаемого сердца. Конечно, я очень вас любил, но теперь каким именем назвать мне чувство, которое вы внушаете мне? Габриэль не так поняла эти уверения: она думала, что он благодарит ее за то, что она хочет остаться верной ему. — Вы понимаете, — продолжала она, — в какое замешательство привело меня предложение короля. К счастью, я имела присутствие духа объявить себя неспособной отвечать тотчас. Я сослалась на это ослепительное счастье, на то, что я его недостойна… Словом, я просила позволения подумать. Ну, милый Эсперанс, возвратите ваш свежий румянец. Я предпочитаю проколоть себе сердце, чем возбудить в вас беспокойство. Да, пусть я умру прежде, чем огорчу вас! — Добрая Габриэль! — Как холодно говорите вы это! Разве я только добра для вас? Или вы боитесь возбудить во мне сожаление о пышности, которую я приношу в жертву? В таком случае, Эсперанс, вы не знаете моей души и очень огорчаете это бедное сердце, которому так нужны излияния и ласки в ту минуту, когда оно радовалось, что дает вам первое доказательство любви. Эсперанс встал и взял за руку молодую женщину. — Я думаю, — сказал он с усилием, — что мы не поняли друг друга. — Как?.. — Вы хотите, Габриэль, во-первых, самого сильного выражения моей признательности… Оно было вам дано так живо и так горячо, как только я мог вырвать его из моего сердца. Вы хотели бы также видеть меня радостным и торжествующим. Но почему? потому что вы делаете мне жертву, не правда ли? Но эту жертву я не хочу принять. — Вы не принимаете? Вы хотите, чтобы я вышла за короля? — Да. — Но ведь это наша вечная разлука, Эсперанс, подумайте! — Знаю. — Любовница короля могла бросить взгляд на человека достойного быть любимым. Гордясь тем, что остается невинной и чистой, она могла отдать свое сердце этой любви; она хотела позволить ей овладеть всеми ее мыслями, всей ее жизнью; но жена короля, Эсперанс, но королева… О! Королева любить не может, даже в самой глубочайшей тени ее сердца! — Это правда, — прошептал он задыхающимся голосом. — И вы желаете, — вскричала она, — не быть более любимым мной! Вы можете обойтись без моей любви! — прибавила она таким раздирающим голосом, что последние фибры несчастного молодого человека задрожали. — Я остановил мой взор на женщине, которую любил король и которая когда-нибудь могла сделаться свободной, — отвечал Эсперанс с благородством непоколебимой решимости. — Я мог жить единственной этой страстью, этим безумием. Но осмелиться обратить эти жгучие желания, эту преступную надежду к королеве!.. О, никогда, Габриэль! это невозможно! — Вот почему я не буду французской королевой, — сказала она, сжимая его в своих объятиях, — и вот почему сейчас я вам сказала, что я свободна! Говоря таким образом, она сжимала его со всем пылом своего сердца. Глаза его зажгись мрачным огнем; он взял нежные руки, скрестившиеся на его плече, сжал их в своих дрожащих пальцах и пылким, непреодолимым голосом сказал: — Надо быть королевой; ваша честь зависит от того, ваш сын требует этого! Он когда-нибудь может потребовать от вас отчета в том, чего лишило его ваше ложное великодушие, ведь у вас есть сын, Габриэль, не будем стараться забыть об этом. Король обожает его. Неужели вы отнимете сына у этого бедного государя? Неужели вы лишите этого сына такого знаменитого отца? О! вы не знаете, сколько страдают дети, которые не находят чести в своей колыбели… А я это знаю. Мать моя из глубины своей могилы напрасно бросает мне сокровища, я предпочел бы одну из ее улыбок. Ее поцелуй не благословил меня, вот почему мне никогда не будет удачи на этом свете. Какой рукой будет для вас печаль этого ребенка, который станет упрекать вас за разрыв с королем, когда вам можно было сохранить для него отца и приобрести корону! И я допущу до этой несправедливости! Я заставлю вас остаться в неизвестности, когда Господь создал вас столь прекрасной и столь совершенной, для того чтобы вы сидели на первом престоле в свете! Человек, которого вы удостоили полюбить, не будет низким эгоистом, и если бы я осмелился скрыть эту королеву в своем убежище и думал о славе, которая ждала ее без меня, я умер бы от стыда, как вор умирает с голода в пещере на драгоценностях, украденных из королевской короны. О, как должен я любить вас, Габриэль, чтобы вырвать у себя сердце, говоря таким образом! Будьте королевой и продолжайте уважать меня наравне с вашим знаменитым супругом, потому что если он предложил вам свой трон, то это я привел вас к нему за руку, это я сохранил для вас сына, и каждый раз, как вы будете смотреть на этого ребенка, каждый раз, как отец будет его ласкать, вы с гордостью будете думать о вашей любви ко мне, вы почувствуете себя вправе сожалеть обо мне и любить меня всегда! Она не отвечала, руки ее томно опустились, сила оставила эту очаровательную головку, которая наклонилась, как надломленный цветок. — Да, сын мой принадлежит королю, — сказала она потом с горестным вздохом, — но, Эсперанс, разве таким образом следует расставаться? Эсперанс, я вас люблю, как никогда не любил никто! — Как я счастлив! — сказал задыхающимся голосом неустрашимый молодой человек. — Эсперанс, — продолжала Габриэль с глазами, утопавшими в слезах, и ломая свои прекрасные руки, — если б я была добрее к вам, если б с большим мужеством и с меньшим эгоизмом я, отдавшись вам, установила между нами вечную связь, вы не сказали бы мне сегодня: расстанемтесь! будьте королевой! Но я играла вашей страстью. Я сплела цепь, которая ранила только вас, сдерживала только вас… а я, имевшая все счастье, становлюсь теперь свободна! Это невозможно, Эсперанс, вы обвинили бы меня, прокляли, вы перестали бы меня любить! О, ради бога, поменьше уважения, поменьше чести… но побольше вашей любви! — Габриэль, пока мое сердце будет биться, пока глаза мои будут видеть свет, пока в моем уме будет в состоянии зародиться мысль, я буду вас любить. Это условие моей жизни, как моя кровь, как мое дыхание. Имейте мужество — расстанемся! — Никогда! никогда! — Наша любовь, моя Габриэль, не будет походить на любовь обыкновенную, составленную из радостей и восторгов. Счастье слишком пошло; Господь сохранял для нас более благородное, более избранное наслаждение — наслаждение мучений, слез и вечных сожалений! О, Габриэль! мои страдания только начинаются; но, клянусь вам, ничего, даже смерть, не заставят меня объявить, что ваша любовь не составляет для меня высокого блаженства. Габриэль, прощай! Я люблю тебя безумно, прощай! Ты дала мне лучшие дни в моей жизни! — Эсперанс, я предпочитаю лучше умереть! — Нет, нет! Сохраним это сладостное воспоминание, но спасем честь короля, вашу, вашего сына! Спасем мою честь! Ах, Габриэль! — вскричал он в порыве нестерпимой горести. — Зачем вы мне сказали о предложение короля! Я принадлежал бы еще вам, я был бы еще свободен, но теперь, вы видите, наша разлука решена, потому что вы отняли от меня право взять вас, не обезглавив нас обоих! Когда она хотела ему отвечать, странный шум, зловещий треск пронесся в тишине ночи. Оба прислушались. Габриэль бросилась к окну. Отдаленные крики, похожие на стоны, неслись из равнины. Вдруг небо покраснело с левой стороны, длинный столб пламени и дыма вырывался из кровли риги, сильный жар вдруг, как туча, ворвался в комнату. Габриэль схватила Эсперанса за руку, привела его на балкон и показала на покрасневшее небо. — Мне кажется, горит вон там, — сказал молодой человек, указывая на ригу, черный профиль которой обрисовывался на пурпуровом грунте. — Пожар! пожар! — вскричала Грациенна, с испугом вбежав в комнату. — Где пожар? — Загорелась телега с сеном неизвестно каким образом. Пламя ворвалось в окно риги… все горит. Стена, загораживающая дорогу, вся в огне. — Бегите, Эсперанс! — сказала Габриэль молодому человеку. — Двор уже полон собравшихся людей; они придут сюда, они уже стучатся в дверь. — Я заперла эту дверь, — отвечала Грациенна. — Бегите! Бегите, месье Эсперанс! Я уведу герцогиню! Скоро загорится здесь! — Но и она и мы, Грациенна, можем пройти только по двору? — Конечно; но проходите прежде, вас не заметит никто. — Посмотрите на всех этих неизвестных лиц, которые подстерегают… Увидят, как выйду отсюда я, потом герцогиня; мое присутствие здесь будет обвинением для нее. — Но, Эсперанс, — храбро сказала Габриэль, — что за беда, если вас увидят, ведь вы все-таки должны уйти? — Это нам расставили какую-нибудь ловушку, — прошептал Эсперанс. — Засада или нет, а уйти надо… Вот… меня зовут, мои люди меня ищут, они стучатся в нижнюю дверь. — А вот здесь стена трещит за нами! — вскричала Грациенна, побледнев от страха. — Эта стена выходит к чердаку риги; огонь сейчас проберется сюда. Габриэль бросилась на шею Эсперансу. — Уйдемте, — сказала она, — уйдемте! — Посмотрите! — вскричал Эсперанс, указывая герцогине на двор, освещенный отблеском пожара, на двор, где толпилось множество фигур, размахивавших руками со страхом. — Что там такое? — Там, за этим каштановым деревом, возле колодца… Подождите нового отблеска огня. — Я вижу мужчину в плаще, мужчину, который как будто прячется и подсматривает в одно и то же время. — Это Кончино, один из наших шпионов! Он знал, что я здесь, и хочет видеть, как я выйду. Габриэль задрожала. — Вы видели блеск его глаз, которых он не спускает с единственного выхода, остающегося нам? — Стена распадается, посмотрите! — с ужасом вскричала Грациенна. В самом деле, большой пролом открылся в этой стене, за которой виднелась рига, вся в огне и дыму. За ригой блестела река, точно свинцовое кипучее озеро. Габриэль и Грациенна схватили Эсперанса и потащили его к двери. Было пора: лестница наполнялась уже слугами, которые искали герцогиню и Грациенну. Но Эсперанс вытолкнул их, коснулся губами губ Габриэль, которая обернулась, чтобы скорее увести его, захлопнул дверь, повернул ключ и вынул его, несмотря на усилия обеих женщин, которых двадцать преданных рук увлекали с лестницы; взглянул сперва на шпиона, который ждал внизу, потом на горящую ригу и на свободу, которая сияла за тридцать футов от огня. — Да, ждите меня внизу, низкие негодяи! — сказал он с геройской улыбкой. — А! вы не сочли за нужное караулить реку! Вы положились на пожар. Вы ждали меня не с той стороны! Ну, мертвый или живой, я не буду служить вам доказательством против Габриэль, потому что если я избавлюсь, вы меня не увидите, а если я умру, это текучее пламя не оставит вам и следа моего трупа. Он поднял глаза к небу, поручая душу свою Богу, завернул плащом голову, взял в руку шпагу, как бы, для того чтобы сражаться с пожаром, и собрав все свои силы, бросился в средину пылающей риги по направлению к открытому окну.Глава 69 НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ
Понти с огромным букетом в руке прохаживался во дворе домика предместья, домика таинственного, находившегося в центре пустыни и архитектура которого внутри составляла настоящий лабиринт, достойный любовной мифологии. Настала ночь, а индианка не приходила. Привыкнув к ее капризам, которыми отличается всякая женщина, не пользующаяся свободой, Понти продолжал свой монолог, начатый у Эсперанса, против его оскорбительной недоверчивости и непонятных изменений его характера. — Он потерял даже свою терпимость, которая делала его характер самым совершенным из всех известных мне, говорил гвардеец, в сотый раз входя в маленькую переднюю. Он никогда не говорил дурно о женщине; он заставлял меня молчать, когда я выражался как следует насчет этой Антраг, а теперь начинает злословить самых честных женщин. Он подозревает Айюбани! Понти пожал плечами и бросил несколько капель воды на букет, стебли которого его пальцы энергично сжали. — Как он может думать, чтобы эта наивная индианка интересовалась непонятной запиской злодейки Анриэтты? Подозревает ли даже Айюбани о существовании Анриэтты? Она ревновала, это так. Ну, она имеет на это право. Она видела на мне золотой медальон, этого довольно. Индианки любят то, что блестит, это известно. Я не индиец, а сделал бы то же самое, если б увидал на груди Айюбани золотую вещицу… О, на груди Айюбани! — закричал Понти со стоном или, скорее, с ржанием очень нежным. — Но она не приходит, а темнота уже густа. Неужели Эсперанс напророчил мне несчастье? Понти начал вертеться туда и сюда, как человек растревоженный, праздный. Двадцать раз растворял он дверь, чтобы посмотреть, не видно ли кого на улице. Шум носилок на неровной мостовой предместья раздался вдали. Эти носилки повернули в узкую улицу, где находился домик; они остановились; нет более сомнения, это Айюбани. Понти поспешно отворил дверь и, по своему обыкновению спрятавшись, чтобы его не приметили носильщики, он привлек к себе индианку, закутанную в большой плащ, который скрывал ее с ног до головы. Сильный и пылкий, как бывают мужчины в его лета, он взял слабое создание на руки и отнес его в домик, в запертую залу, где восковые свечи горели давно, где ковер был толст, запах душистый, тишина глубокая. Айюбани позволила с важностью королевы посадить ее на мягкие подушки, приняла букет и стала им любоваться, улыбалась, нюхая каждый цветок, и осталась довольна. Понти скрестил руки, как индус, и сел напротив нее с меланхолической физиономией, со вздохами и восклицаниями, которые у этих любовников, лишенных ораторских ресурсов, составляли сущность разговора. Мы видели, что Понти нарядился, как принц на свою свадьбу. Он надеялся, что индианка это заметит. Для этого он принимал самые авантажные позы. Айюбани позволила ему хорохориться, как павлину, она все лукаво улыбалась, и, должно быть, то имело какое-нибудь особенное значение, потому что любовники довольствовались этим каждый со своей стороны в продолжение нескольких минут. Однако все надоедает, даже приятности мимики. Человек — существо, скоро пресыщающееся самыми совершеннейшими удовольствиями. Когда Понти надоело заставлять индианку любоваться собой, начал любоваться ею в свою очередь. И мы должны сказать, что Айюбани, как женщина деликатная, позволяла ему это с любезной взаимностью. Айюбани очень хороша. Глаза ее черны той красноватой чернотой, которая похожа на жилки эбенового дерева; чувствуешь, как огонь пылает под ее зрачком. Маленькая, сложенная стройно и великолепно, как женщина страстная, она знает свои преимущества, она употребляет их со сдержанностью, достойной похвалы. Как только Понти хотел выразить желание, которое внушала ему ее совершенная красота, молодая индианка покраснела, тихо оттолкнула руку, которая хотела взять ее руку, и приложила палец к губам. Понти остановился. Айюбани начала длинное предисловие из выразительных жестов. Она рассказала, что ее тиран сделал крепче свою цепь. Тираном был Могол, имя которого она произносила таким очаровательным и таким бархатистым голосом, таким обольстительным и горловым тоном, что почти одна индианка на свете могла выговаривать это имя таким образом. Понти выразил, как не нравился ему этот тиран. Он встал, положил руку на шпагу и предложил идти убить этого тирана, что было прекрасно понято. Его удостоили остановить с испуганной физиономией. Но его мужество произвело прекрасное действие. Он тотчас пожал плоды. Он поцеловал руку Айюбани, не получив пощечины, которая обыкновенно бывала наградой за подобную вольность. Айюбани опять приложила палец к губам. Понти стал слушать всеми глазами. Вот что индианка выразила ему фигуральным языком со всею изысканностью мимики: — Я никогда больше выезжать одна не буду; тиран принуждает, чтобы меня провожали. — Ба! — закричал Понти. — Провожали две женщины. — Однако вы приехали одна, одна! — вскричал Понти. — О счастье! Чтобы выразить счастье, складывают обе руки, сжав все десять пальцев, и бросают к небу пылающие взгляды. — Нет, — сказала Айюбани с печальной гримасой. — Вы не одна? — Нет, со мной две подруги в носилках. — Ну, пусть остаются там. — Невозможно! Понти не подумал спросить себя, почему эти надзирательницы оставались так спокойно в носилках, вместо того чтобы прийти туда, где их присутствие было необходимо. Горесть Айюбани требовала взаимности. Понти старался подражать грациозной гримасе индианки и, надо сказать правду, исполнил это прилично. — Надо сходить за ними, — продолжала Айюбани. — О! зачем? — спросил Понти. — Надо!.. Могол приказал! Имя Могол было произнесено. Понти печально опустил голову, но тогда божественной Айюбани пришла мысль. Она встала, растянула свои гибкие члены с восхитительным жеманством, отбросив голову назад, протянув свою тонкую ножку, она приняла позу Альмеи, начинающей танцевать. В то же время она указала на улицу и показала пальцами число два. — То есть, — угадал Понти, — вы приведете сюда обеих женщин и будете танцевать? — Они также будут, — возразила Айюбани, подражая позе двух женщин, танцующих друг против друга. — Очень хорошо! Она заставит танцевать своих надзирательниц, — понял Понти, — очень хорошо! Айюбани, увидев на стене египетский систр и бубен, сняла их с видом торжества. — И займутся музыкой, я послушаю, — сказал себе Понти. Айюбани побежала в переднюю, свистнула особенным образом, и тотчас две женщины, закутанные как две египетские мумии, явились к двери, которую отворил им Понти по приказанию индианки. Напрасно он с любопытством старался рассмотреть двух надзирательниц Могола. Повязка из страусовых перьев закрывала им лоб, полосатая материя падала с этой повязки на лицо, которое она закрывала, и в два отверстия, как в маске, виднелось пламя, но не веки их глаз. Множество стеклышек, странных костей, раковин и кораллов бренчало при каждом движении этих странных существ. Ноги их были обуты в сандалии из древесной коры и исчезали под складками тяжелой материи, точно сплетенной из морских трав. У каждой в руке был лук, а на спине колчан, наводненный теми страшными зубчатыми стрелами, острие которых, замысловато жестокое, всегда изумляет глаз европейца. Понти видел, как эти две фигуры встали одна направо, другая налево от двери; они были высоки и походили на гвардейцев. Могол умно их выбрал. «Вот это испугает любовь, — подумал Понти, — но я слышал, что дикие женщины впечатлительны, что они не могут устоять против увлечений танцев и музыки, я их очарую. Здесь нужна не сила, а ловкость, а у меня, слава богу, в ней недостатка нет». Айюбани также посмотрела на костюм своих спутниц, по-видимому осталась довольна, улыбнулась им и подала одной систр, другой бубен. Потом начала танцевать, принудив Понти сесть на то место, которое она прежде занимала. «Если когда-нибудь при мне станут говорить дурно об индианках, — подумал молодой человек, — я буду утверждать, что это самое честное создание на свете. Назначали ли когда-нибудь француженки свидание с целой свитой и проводили ли время на этих свиданиях танцуя при свидетелях? Это олицетворенная невинность или я не знаю в ней толк». Он смотрел, как танцевала Айюбани, и бил такт руками, ногами и головой, и мало-помалу сладострастная грация поз и движений неутомимой индианки очаровала его. Она была так ловка, так легка, так красноречиво прекрасна, что Понти сознался в мудрости Могола, назначившего свидетельниц для хореографических упражнений Айюбани. Наконец она остановилась в ту минуту, когда гвардеец страстно протянул к ней руки. Она уклонилась бы от той опасной гирлянды, которая уже обвивала ее, и оттолкнув молодого человека, который уже обнимал ее, села, задыхаясь и смеясь, на подушки. Понти, несмотря на надзирательниц Могола, упал на колени, сложив руки перед индианкой, но та приложила палец к губам, что заставило ее собеседника обратить внимание на начинавшийся разговор. — Хорошо ли я танцевала? — спросила Айюбани знаками. — Восхитительно, божественно! — Хотите вы также танцевать? — Благодарю, — отвечал Понти. — Попробуйте. — Нет, я буду танцевать дурно после ваших грациозных танцев. Айюбани не настаивала, но приложила свою руку к запыхавшейся груди. — Вы меня любите? — понял Понти. — Нет, я не это хочу сказать. — Она положила руку на свой желудок. — Вы страдаете, вам слишком жарко? — Нет, опять не то. Она приложила к губам три пальца, с движением несколько пошлым, которое у всех народов означает: мне хочется есть. — Она голодна! — вскричал Понти. — Бедный ангел! Она столько прыгала! Он побежал в буфет, в котором стояло несколько графинов. Понти, человек предусмотрительный, всегда имел под рукой съестное; он нашел фрукты и подал Айюбани полдник, который за недостатком сытности имел, по крайней мере, заслугу неожиданности. Индианка пила как птица. Она спросила воды, и пока Понти, повернувшись к ней спиной, отыскивал эту жидкость, очень редкую в его буфете. Айюбани налила в рюмку с вином несколько капель из хрустального флакона. Понти принес графин и хотел налить, но Айюбани подала ему рюмку с вином, чтобы он выпил за ее здоровье. Он повиновался, улыбаясь; она подала ему вторую, от которой он отказался, верный, несмотря на свой любовный бред, обещанию воздержания, которое он дал своему другу. Айюбани примешала много воды к своему вину и выпила. Потом, сделавшись общительнее, она взяла Понти за обе руки и старалась его заставить танцевать вместе с ней. Держать Айюбани в своих объятиях, покрывать ее поцелуями, несмотря на ее сопротивление, потом соревноваться с нею в скорости и легкости — таково было в продолжение нескольких быстрых минут занятие молодого человека, который забыл всю вселенную и видел в конце этого бешеного упоения танцев упоение, еще более сладостное, любви. Он забыл, говорим мы, всю вселенную, и, следовательно, он думал о двух надзирательницах, которых он намеревался выгнать или запереть, когда наступит время. Они били в бубен, барабанили по систру и придавали какое-то бешенство быстрым танцам Айюбани. Индианка цеплялась за Понти всеми десятью пальцами и заставляла его вертеться вместе с собой со страшной быстротой. А между ними ее пристальный и смелый взгляд, как у восточных волшебниц, следил за каждым мускулом в лице Понти. Сначала какая-то странная экзальтация разлила краску по лбу молодого человека, потом дрожащее пламя сверкнуло из его глаз, наконец, губы его раскрылись и — пробормотали бессвязанные слова, без сомнения, мольбы о любви. Тогда индианка схватила его еще крепче, и видя, что он побледнел и остановился, как бы пораженный внезапным головокружением, она посмотрела ему в лицо и поддерживала, между тем как он падал на подушки с хриплым вздохом, который слабел мало-помалу и скоро перешел в неприметное дыхание. Айюбани сделала тогда знак обеим женщинам, которые прекратили музыку и поспешно удалились. Тогда индианка бросилась как коршун на безжизненное тело, раскрыла своими сильными руками полукафтан Понти, ощупала и схватила золотой медальон с жадностью голодной гиены и зубами отгрызла шелковый шнурок. Она захватила наконец это таинственное сокровище, она завладела тайной, которая причинила и должна была причинить столько несчастий. Задыхаясь, вне себя от любопытства, от радости, она подошла к свече, чтобы лучше рассмотреть этот медальон и раскрыть его. Но ящичек запирался с помощью секрета. Напрасно ее упорные и ловкие пальцы, напрасно ее ногти хватались за скользкий металл, секрет не поддавался; Айюбани, потеряв терпене, раздраженная препятствием, кусала медальон, но не могла его открыть. Глухой стон заставил ее вздрогнуть. Понти, может быть, бредил, он изгибался, как змея, на ковре и стукал по полу своим сильным кулаком. — Этот человек силен как бык, — сказала индианка, — он способен проснуться, а если он проснется, я умру. Я не должна делать неосторожности. У себя дома, ножницами, чем-нибудь, я скоро открою этот проклятый медальон. Теперь, — прибавила она с торжествующей улыбкой, — Анриэтта может уничтожить Габриэль, а Элеонора держит в руках Анриэтту! Уйду! Говоря таким образом и не спуская глаз с Понти, который стих, Айюбани искала карманов платья, чтобы спрятать туда медальон. Вдруг чьи-то две руки схватили ее за руку и вырвали у нее сокровище; она обернулась с глухим криком. Перед нею стояла Анриэтта с глазами, сверкавшими адской радостью. — Благодарю, — сказала она с колкой иронией, — благодарю моя, добрая Элеонора; твое индийское гадание удалось вполне. При этих словах Анриэтта громко захохотала, а ложная индианка, пораженная, упала на стул, имея у своих ног тело несчастного Понти. Сколько времени она старалась прийти в себя, она сама не знала. В ушах ее все еще раздавался этот адский хохот, она все чувствовала ожог от этих рук, которые вырывали у нее медальон. Но у Элеоноры, закаленной как сталь, бессилие страха не могло долго оставаться; она вскочила, тряхнула своими охладевшими членами и начала думать о мщении. Куда девались ее женщины, которые, конечно, изменили ей? Как догнать Анриэтту? Как поправить это постыдное поражение, при одной мысли о котором возмущалась вся ее гордость? Прежде всего надо выйти из дома. Элеонора сделала усилие и направилась к двери. В ту же минуту в передней раздался шум шагов. Это были не женские шаги. Притом женщины Элеоноры не стали бы ждать ее после того, что случилось. Нет, это были шаги мужчины, мужчины взволнованного, торопившегося. Элеонора внятно слышала бренчание ножен шпаги. Не расставили ли ей засаду? Анриэтта, не довольствуясь тем, что утащила у нее записку, не хотела ли отнять у нее жизнь? Человек, который шел вооруженный, не был ли убийцей, которому было поручено навсегда погрести тайну Антрагов по преданию этой фамилии? Бледная и дрожащая, при шуме приближавшихся шагов, Элеонора задула свечи и спряталась за дверью. Человек бежал. Элеонора видела в щель двери, как увеличивался его черный силуэт. — Понти! — кричал этот человек. — Понти! Отвечай же!.. Где ты? — Сперанца здесь! — прошептала Элеонора, зубы которой застучали от испуга. — О, если это он, я погибла!Глава 70 КРОТКИЙ ЭСПЕРАНС
Эсперанс так бешено бросился, что первым прыжком перескочил пятнадцать футов, вторым десять и очутился в окне. Пламя сожгло его плащ, обожгло ноги, и промежуток одной секунды, во время которой он сдерживал свое дыхание, не мог бы безнаказанно повториться, но найдя в окне воздух менее жгучий, он выпрыгнул на стога сена полусгоревший и погрузился в реку. Пламя пожара освещало эту водяную скатерть; но в том месте, куда Эсперанс погрузился, большие деревья с левой стороны и остров напротив мешали приближению зрителей. Мельник, боясь за свою мельницу, отрезал веревку от лодки. Никто не видел, как Эсперанс вышел из горящей риги. Молодой человек, бросившись в реку, как отличный пловец, перевел дух только два раза до другого берега, стараясь выбирать тень, потом на другом берегу окончил под группой кувшинок благодарственную молитву, которую со своим неизменным хладнокровием начал в воде. Отерев свое лицо и будучи уверен, что никто его не приметит на острове, совершенно пустом, где только несколько испуганных коров смотрели на пожар ослепленными глазами, он сказал: — К чему я благодарил Провидение за спасение моей жизни, если теперь эта жизнь кончена? Но Господь милосерд, позволив, чтобы герцогиня не страдала из-за меня. Наши враги побеждены и на этот раз Анриэтта и Элеонора, ожесточенные демоны, приказавшие огню поглотить меня, я вызываю вас на бой! Теперь надо сказать вам это в глаза. Молодой человек бросил последний взгляд на пылавшую ригу. Несмотря на сильное пламя, старое здание еще держалось. Оно походило на те геройские цитадели, которые отражают приступ врагов. Сено сгорело, но стены устояли, и Эсперанс, видя, как уменьшался красный столб, поспешил отыскивать глазами на лугу, освещенном еще блеском огня. Он увидал на зеленой мураве белую фигуру, возле которой толпилось несколько человек. Это, должно быть, была Габриэль, несчастная женщина, которая могла думать, что друг ее навсегда погиб. Эсперанс узнал Грациенну, стоявшую на коленях перед своей госпожой. Это горестное зрелище остановило Эсперанса на несколько минут, но когда он увидал, что герцогиня приподнялась, опираясь на руку Грациенны, когда он уверился, что жизнь Габриэль была спасена так же, как и его, ничто не удерживало его более. Он опять бросился вплавь, не теряя из виду берег, чтобы избегнуть встречи. К счастью, дорога была пуста. Эсперанс доплыл до кустарника, выжал воду из своего платья и, отыскав свою лошадь, которую он оставил в кустарнике и которая заржала от радости, поскакал к Парижу и через час въезжал в его ворота. Дорогой его деятельный ум составил план. Кроме нескольких невидимых ожогов, Эсперанс думал, что когда он переоденется, все следы пожара исчезнут; но нельзя было явиться к себе в дом, к своим людям, в таком виде, который компрометировал его. Эсперанс вспомнил, что у него есть домик в предместье. — Там, — сказал он, — у меня есть платье, белье, полный костюм. Трудно надеяться встретить там Понти, потому что ночь и его индианка не получила позволения от Могола не ночевать дома, однако все возможно на этом свете, даже снисхождение Могола. В случае, если я найду Понти и индианку, я сумею быть скромным. Впрочем, нет, не надо быть слишком скромным, я хочу узнать, кто такая эта Айюбани. Решившись таким образом, Эсперанс прямо поехал к домику в предместье. Он въехал в улицу в ту минуту, когда две мнимые индианки бежали, когда Анриэтта, сговорившись с одной из них, входила в дом. Носилки Айюбани ждали в десяти шагах от двери. Карета Анриэтты ждала на повороте улицы. «Сколько экипажей! — подумал Эсперанс, проницательные глаза которого приметили все, несмотря на темноту. — Уж не дает ли Понти сегодня бал?» Размышляя таким образом, молодой человек сошел на землю и медленно приблизился, ведя лошадь за собой. Дверь на двор была полуоткрыта. Эсперансу стоило только толкнуть ее, чтобы ввести лошадь, и он искал кольца, чтобы привязать ее, когда шелест платья привлек его внимание и заставил взглянуть в переднюю. Какая-то женщина бежала так скоро, что ноги ее едва касались земли. Эта женщина, закутанная в мантилью, исчезла как видение и прямо добежала до кареты, около которой Эсперанс различил несколько мужчин, которые помогли даме сесть и проводили ее, когда она поехала. «Что это значит? — подумал Эсперанс. — Разве это индианка убежала таким образом? А оставшиеся носилки кого же ждут?» Он воротился запереть дверь на улицу и, возвращаясь к передней, закричал: — Понти! где ты? Повсюду была тишина и темнота. Запах воска недавно погашенной свечи, запах вина, недавно налитого, бросались ему в голову по мере того как он приближался ощупью. Он вошел в залу. Но не сделал он и двух шагов, как ноги его наткнулись на какое-то препятствие… на чье-то тело. Он наклоняется, щупает… мужское платье, атлас, которым Понти так гордился, в ту же минуту шумное дыхание заставило Эсперанса узнать его друга. Слава богу, Понти не умер, он только спит; запах вина значителен: несчастный пьян опять на этот раз. Эсперанс приподнял его с отвращением и посадил на стул. Но другой шум коснулся его слуха: заскрипела дверь. Эсперанс прислушался. Прерывистое дыхание обнаружило в двух шагах от него присутствие спрятанного человека. Дверь двигается, шелестит материя и что-то легкое, воздушное бежит, проскальзывает в переднюю. Это была Элеонора, которая, считая минуту благоприятной, старалась убежать, пока ее не увидали. «О! о! — подумал Эсперанс. — Сколько птиц в этой клетке! Я не позволю им улететь всем, не увидав цвета их перьев». Он выпустил Понти, протянул руки и схватил женское платье. — Сперанца! Пощадите! Пощадите! — закричала итальянка, падая на колени. — Элеонора! Измена! Я это подозревал, — отвечал Эсперанс с ужасным биением сердца. Заперев дверь, толкнув Элеонору на середину комнаты, он прошептал: — Что вы здесь делаете и зачем Понти лежал тут? Элеонора не отвечала. Эсперанс выбил кулаком окно. Слабый свет звезд скользнул в комнату на тело Понти. Эсперанс увидал раскрытый полукафтан, разорванную рубашку и со свирепым криком поднял руку на Элеонору, стоявшую на коленах. — Злодейка! Ты украла медальон! Отдай его мне, или ты умрешь! — Сперанца, — отвечала итальянка, — он уже не у меня. — Ты лжешь! — У меня его отняла другая. — Ты лжешь! — Анриэтта! Эсперанс вздрогнул от испуга; он вспомнил побег закутанной женщины. Он считал все возможным от этих двух сговорившихся демонов. — Да, — продолжала Элеонора, — я хотела взять записку, я в этом признаюсь. Но изменница подстерегала меня, она бросилась на меня и отняла. Беги, Сперанца! Беги! О, отними у нее медальон! Ты еще можешь ее догнать. — Элеонора, если ты солгала, я найду тебя! — Клянусь спасением моей души, я сказала правду. Эсперанс оттолкнул итальянку, которая целовала его колени, бросил назад плащ, стеснявший его, и выбежал как бешеный из дома. Элеонора побежала за ним, дрожа от страха и от радости; она осмотрелась вокруг: молодой человек был уже далеко, он летел как джинн-истребитель. Элеонора заперла за собой дверь домика, села в носилки и уехала. Между тем Анриэтта скакала с отчаянной быстротой для всякого, кто захотел бы догнать ее. С двух сторон ее кареты бежали вооруженные люди, которых она взяла, чтобы они ей помогли в случае надобности, и которых, будучи столько же осторожна, сколько и мужественна, она не заблагорассудила призвать, так как не нашла в этом надобности. Эти пять человек были любимые солдаты графа Овернского, мужественные негодяи, опытные во всех хитростях ремесла, которое в то время умели и во время мира пользоваться всеми выгодами войны. Мария Туше, знавшая все, постаралась устроить все к возможности успеха дочери, не компрометируя себя, и с нетерпением ждала результата. Это было последнее отважное предприятие. Когда записка будет отнята у Эсперанса, все тучи исчезнут с горизонта. Анриэтта в карете щупала рукой, дрожавшей от радости, золотой медальон, на котором ловкость Элеоноры потерпела неудачу. Так как, итальянка, она хотела открыть пружину, но, обломав ногти, отказалась от этого. Движение кареты мешало ей, притом было темно, и ее усилия были совершенно бесполезны. Двадцать раз бросила бы она этот медальон в колодец, в сточную яму, реку, если бы не желание, весьма естественное, убедиться, действительно ли в этом медальоне находится записка, настоящая записка. Хитрые, злые люди самые подозрительные, потому что они знают по опыту, что везде есть место для хитрости или измены. Итак, Анриэтта решилась раскрыть медальон дома; ее нетерпение устремилось на кучера, на лошадей. Но Париж в то время не имел ни широких улиц, ни хорошей мостовой; Париж был смертельным врагом карет: ехать рысью значило подвергаться смерти. Надо было довольствоваться самым тихим шагом, какой только позволяли повороты и неровности дороги. Однако карета приехала без препятствий, благополучно, дверь отеля была открыта; Анриэтта взбежала на лестницу с легкостью птички. Она уже с живостью разговаривала с Марией Туше, показывая ей медальон и отыскивая ножницы или кинжал, чтобы сломать металлическую дощечку, если пружина не откроется, когда внизу раздался громкий шум, потом крики, потом шаги на лестнице. Мария Туше побежала к двери, чтобы узнать, Анриэтта успела только спрятать на груди медальон. Человек, бледный, с растрепанными волосами, вошел или, лучше сказать, влетел в комнату. За ним бежали два лакея, которые неистово размахивали руками и кричали: — Остановите! Видно было по их безобразным гримасам, что они не могли остановить его сами. — Эсперанс! — вскричала Анриэтта, отступая до кресла, как бы за тем, чтобы укрыться за него. — Бегите! — сказала Мария Туше инстинктивно, потому что она поняла всю опасность, какой подвергалась ее дочь. Эсперанс бросился между Анриэттой и дверью, сообщавшейся с соседними комнатами, и голосом, в котором преобладал глухой гнев, сказал: — Вы меня не ждали, а это я, и если вы хотите, чтобы этилюди услышали то, что я вам скажу, сделайте знак и я закричу при них. — Уйдите! — сказала Мария Туше слугам, которые ушли с удивлением и с гневом. — Я нахожу дерзостью с вашей стороны, — прибавила она, — являться ко мне в такой час и насильно врываться в дверь как разбойник. — Пожалуйста, без фраз, — сказал Эсперанс, — это я буду расспрашивать, если позволите. Мадемуазель д’Антраг, где золотой медальон, который вы у меня украли? Анриэтта по необдуманному движению поднесла руку к груди, измятые кружева и беспорядок которой служили, впрочем, достаточным показанием. Потом она стала искать около себя выхода и опять отступила назад. — Возвратите его мне, — продолжал Эсперанс, — и не делайте ни шага отсюда, или клянусь именем Бога Живого, я, щадивший вас слишком долго, пригвозжу вас к этому креслу ударом шпаги. — Помогите! помогите! — кричала Анриэтта вне себя от бешенства и страха при виде сверкающих глаз, сжатых зубов и бледности, которые в человеке таком храбром показывали бешенство, дошедшее до бреда. Мария Туше стукнула в стену и вдруг явился д’Антраг, испуганный, полуодетый, с топором в руке. При виде Эсперанса, он закричал: — Кто такой этот человек? Но поза и взгляд этого человека скоро переменили направление его мыслей, он испугался и начал реветь, как обе женщины. Слуги, которых удалила Мария Туше, воротились на эти крики. — Помогите! — повторила Анриэтта, вне себя от страха. Д’Антраг подошел, махая топором. — Пусть он не подходит, — вскричал Эсперанс, — или я его убью! Граф остался неподвижен. — Милостивый государь!.. сжальтесь!.. успокойтесь!.. — сказала растревоженная мать молодому человеку. — Сжальтесь, не делайте огласки. — Отдайте мне золотой медальон, и я уйду! — Сюда идут!.. — Он погибнет, матушка, это наши солдаты! — вскричала Анриэтта, судорожно топая ногами. В самом деле из коридора высовывались головы вооруженных людей, которые поднимались на лестницу и вошли в соседнюю комнату, между тем как дрожащая Мария Туше старалась их остановить. Но как только Эсперанс увидал блеск шпаг, он прыгнул, как лев; это было уже не смертное существо, вооруженное слабым оружием человечества; никогда более страшное олицетворение войны и силы не являлось взглядам людей; огонь сверкал из глаз Эсперанса, дыхание его кипело, как горячий дым. Он сначала сшиб с ног Антрага и выкинул его топор в разбитое окно, потом, воротившись к Анриэтте, сказал с пеной на губах: — А! Ты не хочешь возвратить мне записку! Ну, я ее возьму. И он бросился на свою неприятельницу, разорвал кружева и шелк, оттолкнул руки, царапавшие его, вырвал медальон, который они сжимали, и отбросив презренную женщину, которая совершенно обезумела, с диким взглядом, с обнаженной грудью, едва переводившей дух, обесславленную при отце, при матери, при солдатах, которых эта страшная борьба, эта победа быстрее мысли оледенили головокружительным оцепенением. Но Мария Туше, пробудившись наконец, то есть возвратившись к своим диким инстинктам, закричала как настоящая подруга Карла Девятого: — Помогите! Убейте его! Убейте! — Фамильная привычка, — сказал Эсперанс, — но мы еще посмотрим! В то же время он взял в руку шпагу, его длинная и сильная рука придала кругообразное движение блестящему лезвию, которое, встретив двух передних солдат, нанесло им две глубокие раны; крики раненых заставили других подумать. Их нерешительностью воспользовался Эсперанс, который очертя голову бросился на трех остальных. Одна шпага коснулась его, он разбил ее как ударом молотка, от удара эфесом в живот противник упал. Эсперанс покончил со слугами несколькими ударами шпаги и в три прыжка очутился внизу лестницы. Он слышал еще крики, угрозы, вой, чувствовал, что за ним гонятся, и мог сосчитать шаги своих робких преследователей; но какое дело победоносному льву до безвредной жалобы побежденного пастуха? На улице некоторые ночные дозорные, привлеченные шумом, старались преградить ему путь, но блеск страшной шпаги разогнал их без труда, и после нескольких поворотов, которые молодой человек искусно делал в лабиринте соседних улиц, он остался один, вдыхая с наслаждением свежий ночной ветерок и облитый нежным светом луны, которая молча улыбалась ему с высоты небес.Глава 71 РАЗЛУКА
На другой день Эсперанс, разбитый усталостью и горестью, потому что он был все-таки человек, отдыхал головой и телом в тишине своей уединенной комнаты, когда управляющий пришел спросить его угодно ли ему принять Понти, несмотря на строгое приказание, которое Эсперанс отдал своим слугам, не впускать к нему никого. Эсперанс колебался с минуту, потом, нахмурив брови, сказал: — Хорошо, приведите его. Управляющий побежал исполнить это приказание. Эсперанс встал и начал ходить по комнате, повторяя сквозь зубы ту знаменитую греческую азбуку, которую римский император читал всегда семь раз между вспышкой гнева и своим первым словом. Понти вошел. Эсперанс успокоился. Он посмотрел на своего друга спокойно и увидел вместо замешательства, которого он ожидал, вместо изменившейся физиономии, веселую улыбку и какой-то развязный вид. Греческая азбука так далеко улетела из головы Эсперанса, что потребовалось бы новое успокоительное средство. — Друг мой, — непринужденно сказал Понти, — я должен сказать тебе известие, которое сначала тебя рассердит, потому что я знаю твою щекотливость на этот счет, но минутное размышление заставит тебя передумать и ты будешь смеяться вместе со мной. — Послушаем, — отвечал Эсперанс, — это известие, которое заставит меня смеяться. И Понти остановился с некоторым замешательством. — Прежде скажи мне, что с тобой? — спросил он. — Со мной? Ничего. Я жду, что ты скажешь. В этом-то и состояло затруднение. Понти в ту минуту, когда приходилось говорить, сделался менее самоуверен. — Ты кажется колеблешься? — сказал Эсперанс вовсе неодобрительным тоном. — Я должен прежде извиниться. — В чем? — Ты был прав, друг мой. — Когда? — Вчера. — Насчет чего? — Насчет ревности, столь опасной в женщинах. Ах! ты был прав, я смиренно в этом сознаюсь. — Я жду, — сказал Эсперанс, — ведь ты пришел сегодня, конечно, не за тем, чтобы сказать мне только, что я был прав вчера? — Случившееся происшествие оправдало твои слова, — с замешательством сказал Понти. — Какое происшествие? Ну, Понти, старайся говорить, как говорят мужчины, а не как дети, которые боятся, что их разбранят. Понти приосанился; тон оскорбил его еще больше слов. — Милый мой, — сказал он, — у меня было вчера назначено свидание с индианкой Айюбани. Она привезла с собой надзирательниц, которых навязал ей Могол, но как умная женщина, она заняла этих женщин музыкальными инструментами, так что мы провели упоительный вечер. — Все это не доказывает, что я был прав вчера, — заметил Эсперанс. — Конечно, если бы было только это… Но среди моего бреда, от усталости ли, от избытка ли счастья, это должно быть скорее, я заснул. — А! — сказал Эсперанс глухим тоном, который сделал это слово похожим на звук заряжаемого ружья. — А во время моего сна, — продолжал Понти несколько дрожа, но с притворным смехом, — эта негодная индианка захотела поближе взглянуть на медальон. — На медальон?.. — На наш медальон… знаешь… — Конечно. Она его увидала? — Негодная унесла его, чтобы помучить меня. Это женская шалость. О! Но будь спокоен, она не далеко с ним уйдет, мы у нее отнимем, а я предоставляю себе наказать ее за любопытство тем неуважением, которого заслуживает такой упрямый, такой порочный, такой фальшивый пол. Эсперанс в это время взял розу и вырывал шипы без малейшего трепета в своих белых и тонких пальцах. Понти, который в свои последние слова старался вложить всю убедительность, на какую только был способен, с беспокойством ждал результата своего красноречия. — Таким образом, — холодно сказал Эсперанс, — медальон украден. — О! украден… — То есть его у тебя нет уже более? — Нет, но я получу его обратно, когда захочу, потому что… — Ты отыщешь Айюбани, не правда ли? — Еще бы! — Где это? — Но… где я обыкновенно вижусь с нею. — А если ее зовут не Айюбани? — Индианку-то? — Если она такая же индианка, как мы оба? — Вот еще! — Если эта женщина есть орудие наших врагов? — Полно! — сказал Понти, еще более растревожившись. — Если она расставила самую грубую, самую нелепую ловушку, засаду глупейшую, в уверенности, что поймает в нее тщеславие, чванство и упрямство? — Эсперанс! — В уверенности, что она легко восторжествует с помощью чувственности, лености, пьянства? — Что значат эти слова? — Что ваша индианка интриганка, что вы попались в ловушку, несмотря на мои предостережения, что вы забыли обещание, клятвы, честь!.. что мой залог, порученный другу, находился в руках безумца, гордеца и пьяницы! — О!.. — Что вы дали себя обокрасть не в сладострастном сне, которым вы осмелились хвалиться, потому что индианка не сделала вам даже этой печальной чести, но в оцепенении опьянения, постыдного порока, который затмевает в вас очень небольшое количество хороших качеств. — Эсперанс, — сказал Понти, побледнев, — вы слишком часто оскорбляете меня… — Молчите! — закричал Эсперанс громовым голосом. — Ваша индианка называется Элеонора Галигай; она друг и поверенная Анриэтты д’Антраг; ее отправили к вам со стаканом в одной руке, с бутылкой в другой. — Клянусь Богом… — Не клянитесь, не прибавляйте богохульства к вашему бесчестию, не клянитесь, говорю я вам, из опасения, чтобы я не назвал вас лжецом, назвав уже пьяницей. Я видел вашу Айюбани, я держал ее в этой руке с ее погремушками и тряпками. Я и вас держал также, тяжелого, мертвого, пьяного. — Я не пил! — Вы лжете! Рюмки были еще наполнены на столе, под которым вы валялись, и во время этого сна ложная индианка вас обокрала, медальон, который я вверил вам, перешел из рук Элеоноры в руки Анриэтты д’Антраг. — Анриэтты? — пролепетал пораженный Понти. — Медальон у нее… О! И несчастный опустил руки в самом горестном унынии. Вдруг он приподнялся и сделал шаг к двери. — Я сумею умереть, — сказал он, — для того чтобы вырвать его у нее! — Успокойтесь, это уже сделано, — возразил Эсперанс с холодной улыбкой. — Богу было не угодно, чтобы мне изменили таким низким образом, чтобы все столь драгоценные интересы, обеспечиваемые этой запиской, были навсегда погублены человеком без чести и без мужества. Я явился вовремя и со шпагой в руке отнял мою собственность. Я мог погибнуть и спасся только чудом. Было сто возможностей против одной, чтобы сегодня утром, проснувшись от вашего тяжелого сна, вы узнали о моей смерти и о торжестве моих врагов. Слава богу, если у меня нет друзей, у меня есть ангел-хранитель! — Эсперанс! — вскричал Понти с волнением, дрожа и сложив руки. — Клянусь всем, что есть священного на свете, я не был пьян! — Ведь вы валялись на полу? — Я не был пьян, я не пил. — Вы это забыли. — Ни одной рюмки!.. Клянусь честью… — К чему это? — возразил Эсперанс с холодным достоинством. — Вы не обязаны извиняться передо мной. Я рассказал вам успех моего предприятия только, для того чтобы избавить вас от извинения. Отняв записку у Анриэтты д’Антраг, я уничтожил действие вашей измены, Это нельзя назвать иначе, как изменой, потому что если она невольна или в ней участвовали только ваши физические чувства, преступление осталось то же, на него указывает результат. Не отпирайтесь же, не оправдывайтесь, это будет бесполезно. — Но нельзя позволить подозревать себя таким образом, когда человек не виновен, а несчастен. — Называйте это таким именем, каким хотите. — Я никогда не позволю, — горячо сказал Понти, — обвинить меня, что я даже по заблуждению физических чувств изменил дружбе. — Кто вам говорит о дружбе, месье де Понти? — сказал Эсперанс, выпрямляясь с неумолимой гордостью. — Я полагаю, вы употребляете это слово не о вас и не обо мне. Оно сделалось так же непонятно, как и невозможно. Я уже вас предупреждал, я уже вам прощал. Теперь все связи уничтожены между нами. Человек, который вас любил, не существует более, вы его убили в нынешнюю ночь. Я никогда не буду вас ненавидеть, только между нами ничего уже не будет общего. Кроме дружбы, ее обязанностей, ее прав, вы заслуживаете все мое уважение, потому что вы имеете качества, внушающие его. Вот и все. Раскланяемся как следует честным людям, но со шляпой, а не с сердцем в руке. Прощайте! Понти во время этих ужасных слов переходил постепенно от холода к жару, от пота к дрожи. Его бледность, потом его пылающие щеки, трепет всего тела и тотчас же мертвенная неподвижность возбудили бы сожаление во всяком, кто находился бы при этой раздирающей сцене. Время от времени он старался собраться с мыслями. Губы его шевелились, рука протягивалась. Потом, пораженный в сердце неумолимой логикой Эсперанса, а еще более голосом своей совести, испуганный воспоминанием об опасности, которой подвергался его друг, он снова опустил голову и снова собирался с мыслями. Гнев, это вдохновение демона, влил яд в его сердце, раздираемое раскаянием и угрызением. Понти хотел приподняться, защищаться, обвинить. В обвинениях, которыми его осыпали, была некоторая несправедливость, которую демон советовал ему опровергнуть. Мало-помалу этот черный яд вылился наружу. — Милостивый государь, — сказал Понти, сжав кулаки, дрожащими губами и изменившимся голосом, — конечно, я виноват, но только в неосторожности, виноват в глупости, в легковерии, в упрямстве, может быть; но вы сказали, что я вам изменил будучи пьян, а это неправда. Я не изменник и вчера не пил. В этих двух обвинениях, по крайней мере, я требую от вас удовлетворения. Эсперанс посмотрел на него со спокойным состраданием. — Только недоставало, — сказал он, — чтобы вы меня вызвали как трактирный забияка или разбойник. Дурная мысль, месье де Понти, потому что если вы умеете мужественно держать шпагу, то я еще искуснее вас в этом отношении. Часто я давал вам блистательные доказательства этому, сверх того, на моей стороне справедливость, которой будет достаточно, для того чтобы одержать верх над вами, если во время дуэли ваши глаза будут пытаться выдержать взгляд моих глаз. Но дьявол, внушивший вам этот дурной совет, потеряет свой труд сегодня. Я не стану с вами драться. Вы сделаете благоразумнее, если обдумаете мои упреки и извлечете из них пользу, для того чтобы ваши будущие друзья могли воспользоваться опытностью, которая так дорого стоила нам обоим. Я очень вас любил, месье де Понти, я вас любил как брата, посланного мне Богом; соображаясь с неровностями моего характера — увы! далеко не совершенного — я старался быть другом любезным и не думаю, чтобы в продолжительное время нашего сближения вы могли сделать мне хоть один упрек. А если я ошибался, если вы имеете какую-нибудь причину сердиться на месье, я прошу у вас прощения с искренней горестью, потому что дружба есть для меня чистый луч божественного милосердия и мне не хотелось бы ценой моей жизни помрачить его невольно. Если до нынешнего дня я оскорбил вас или сделал вам вред, говорите. Понти, едва дыша, вне себя, вдруг приложил обе руки к сердцу, как бы, для того чтобы вырвать из него грызущую его змею, потом горькие, жгучие слезы наполнили его глаза, и, желая скрыть это отчаяние, он закрыл лицо дрожащими руками и убежал из комнаты с невнятными рыданиями. Эсперанс остался один. Горесть Понти, конечно, растрогала бы его при других обстоятельствах. Но в сравнении со своими собственными страданиями Эсперанс считал очень легкими страдания других. Человек не отказывается без ужасной битвы от сладостных грез своей молодости, он не хочет состариться в два часа, он призывает к себе сколько может свои жизненные силы. «Нет более друга, нет более любви, — думал Эсперанс, — это должно было случиться. Один не помог мне сохранить другую. У меня было два отдельных счастья; страшное дело, два громовых удара похитили их у меня в одно время. Ничего не осталось в жизни, так богато наполненной еще вчера. В какую сторону ни поверну глаза, я вижу только погибель, разрушение! О Габриэль! нежный и благородный друг… У меня остается, по крайней мере, утешение оплакивать тебя. Погибла ты для меня во всем цвете твоей красоты, без пятна, без упрека… Он остановился, потому что страшная буря била ему в голову и в сердце. «Будем мужчиной, как говорят утешители, — продолжал думать он, — то есть будем мужественны; разве человек мужествен? разве он даже благоразумен? Иметь мужество не значит ли не иметь памяти и души? Я любил Габриэль, я любил Понти, она была во всех моих мыслях, она сопровождала каждое биение моего сердца. С тех пор как я ее знаю, не прошло и минуты, во время которой воспоминание о ней не заставляло бы звучать во мне фибр, отдававшихся с головы до ног так, как в бронзовом автомате. Теперь фибр разбит, пустой автомат не будет более звучать. Понти, очаровательный товарищ с черными, блестящими, искренними глазами, с белыми зубами, всегда голодными, храбрый друг, который любил меня и остроты которого столько раз заставляли меня смеяться, он также для меня потерян, я не увижу его более! Это вина этой роковой любви. Если бы я не должен был скрывать мою жизнь, я сделал бы Понти моим поверенным; он понял бы, до какой степени драгоценно свидетельство записки, посредством которой я держу Анриэтту в страхе, и он возвратил бы мне эту записку по недоверчивости к самому себе, и теперь я еще верил бы Понти и не произнес бы тех горьких слов, которые жгут как едкий яд даже последние следы десятилетней дружбы!.. Но нет! Так было предназначено. Всего лишь надеяться, всего лишиться — вот моя участь. Имя мое пагубно, оно приносит несчастье моей жизни. О, мать моя, мать моя! Прости! Говоря таким образом, молодой человек упал на колени перед аналоем, и его мать наверняка бросила на землю взгляд, смешанный с горечью, видя, как ее обожаемый сын борется с неизлечимой горестью.Глава 72 АНТРАГИ И ИНТРИГИ
Король гулял в Сен-Жерменском цветнике. Он держал в руке бумаги и, по-видимому, читал их с большим вниманием. Но это было притворством, чтобы обмануть того, кто мог наблюдать за королем из окон замка. Генрих не читал, а разговаривал с ла Варенном, который, идя по левую его сторону и скромно опустив глаза, не терял ни одного из слов короля и отвечал ему, хотя никак нельзя было бы угадать разговора между ними. — И ты говоришь, что этой бедной Анриэтте лучше? — сказал король, перевертывая лист. — Да, государь; у нее был жестокий припадок; я думал, что она умрет. — Это было бы очень жаль. При моем дворе нет более прелестной нимфы. И она чахнет от горя? — Есть от чего, государь; она любит вас до безумия и вдруг узнает о вашем предстоящем браке с другой. — Что мне рассказывали о какой-то странной сцене, которая разбудила ночью всех жителей в ее квартале? — О какой-то сцене? — спросил ла Варенн с простодушным видом, потому что король намекал на знаменитую историю отнятой записки, а покровителю Антрагов было нужно совершенно отвлечь подозрение короля. — Да, слышали крики, угрозы, видели Антрага в халате и с топором в руке. Говорили о какой-то записке. — Я знаю теперь, о какой записке ваше величество изволите говорить. Точно, дело шло о записке. — О записке отнятой. — Ваше величество знаете всё, — сказал ла Варенн с лакейским восторгом, — какая полиция! — Довольно хорошая, ла Варенн, довольно хорошая. Что это была за записка? — Вот вся правда, государь. Мадемуазель д’Антраг писала к вам страстно, по своему обыкновению, отец пришел и отнял у нее записку. Он хотел убить свою дочь. — Ах, боже мой! — Она чуть не умерла от стыда и горя. — Разве этот Антраг дикарь? — Государь, он защищает свою честь. Вы опасны для отцов и мужей, потому что вам стоит только показаться, чтобы понравиться. — Чем же это кончилось? — спросил Генрих, польщенный в глубине сердца, хотя он был слишком умен, для того чтобы это показать. — О, ужасное происшествие! Он угрожал запереть ее в монастырь, в тюрьму. — Но Анриэтта мужественна, разве она не защищается? — Сколько может, но как же победить отца? — Я знаю таких, которым это удалось. — Эти, государь, имели вас опорой. Если б вы только протянули руку этой бедной девице, она имела бы силы справиться с целым светом. Вот отчего происходит ее печаль, она чувствует себя брошенной. — Осторожнее! — сказал король на повороте аллеи. — Ты подходишь слишком близко. Иди позади. Я вижу, как шевелятся занавески, на нас смотрят. Ла Варенн стал завязывать шнурки своего башмака. — Эта женщина стоит мне больших хлопот, — продолжал король. — Она стоит того, государь. Не дайте умереть от горести такой красавице. Ваше величество не можете знать, до какой степени совершенна эта красота. — Что же делать? — Помогите. — Отец грубиян, а я хочу тишины, мне уже надоели такие отцы. — Он просит только, чтобы ему отвели глаза. Сделайте это. — Что же я должен сделать? — О, очень немного! Вчера еще эта бедная девица говорила: «Как жаль, что король не считает меня достойной нескольких пожертвований, потому что если б он хотел, я завтра бы имела много свободы, чтобы повиноваться влечению моего сердца». — Э! Я готов на пожертвования, но какие? Этот Антраг такой жадный. — Как человек бедный, государь. — Если только нужны деньги, немного найдется. Я много тружусь для моего народа и, по совести, думаю, что имею право развлекаться. Я скоро пополню эту сумму. — Разве вся Франция не принадлежит вашему величеству? — Эта бедная девушка должна очень страдать, что ею торгуют таким образом. — Она просто мученица. «Пусть король только покажет вид, — говорила она мне, — что он обращается со мной, как с благородной девицей, пусть обещает мне…» — Что же такое, боже мой? — Некоторую прочность в своей нежности. — Это легко. — Обещать, это правда, государь. — Ну, если она требует обещания… Ла Варенн молчал. — Я полагаю, что она не ждет обещания на ней жениться, потому что я женюсь на герцогине де Бофор. Ла Варенн начал молча смеяться, и король увидел его страшную улыбку. — Ты над чем смеешься? — спросил он. — Над тем, что ваше величество из бесполезной деликатности делаете совершенно противное тому, что следует сделать, чтобы иметь скорый успех. — Я не понимаю. — Ваше величество, позвольте мне высказать мои мысли? — Говори. — Эти Антраги тщеславны и, если надо признаться, жадны. — Я так думаю. — Они мучат свою дочь, потому что она не дает довольно удовлетворения их гордости и скупости. — Скупость можно насытить не разоряясь, я надеюсь. — И гордость также, государь. Вот пример: герцогиня де Бофор ведь думает, что вы на ней женитесь, не правда ли? — Конечно, и она права. — Она права. Хорошо. Однако ваше величество уже женаты. Стало быть, герцогиня должна верить вашему величеству, чтобы не дать разрыва первого вашего брака. Почему же Антраги, если ваше величество обещаете жениться на их дочери, не будут верить этому так же, как герцогиня? — Во-первых, я им не обещаю. Или ты принимаешь французского короля за такого бездельника, как ты, ла Варенн? Ла Варенн согнул спину. — Обещание обещанию рознь, — прошептал он. — О! если они удовольствуются малым, — сказал Генрих весело, — то дело возможно. — Но, государь, еще раз, дело идет не о них. Их можно обмануть, даже прибить… но помогите бедной девице, государь, или бросьте ее совсем, дайте ей умереть от горя, она будет страдать меньше от преследований своих родных. — Сохрани бог, чтобы такое совершенное существо умерло от моего бесчеловечия! — Подайте же ей притворную помощь. Пусть она имеет для своих гонителей какую-нибудь причину, чтоб действовать. Обещание, данное ей, это ее спасение, это ее свобода, это право лететь в объятия своего короля. Когда после придется сводить счеты с родными, она поможет вашему величеству расхохотаться им под нос. Тем более что долг нельзя будет заплатить, потому что ваше величество будете уже женаты на другой. — Это не совсем глупо, — сказал Генрих, задумавшись. — Стало быть, я могу пролить несколько капель бальзама на раны этой влюбленной красавицы? О, государь! она способна упасть в обморок от радости. — Не обещай слишком многого от меня. — Напротив, она, государь, надает вам обещаний, и вы увидите, с какой пылкостью… — Уйди, демон-искуситель, уйди скорее; я вижу, Росни входит в сад. Кто это с ним? Мое зрение слабеет. — Замет, государь, а там, на эспланаде, кавалер Крильон говорит с гвардейцем. — Суровая компания, — сказал король, перелистывая свою корреспонденцию прилежнее прежнего. Ла Варенн проскользнул, как ласка, между боскетами. И Генрих ждал приближения Росни, который размеренными шагами шел по той же самой аллее, где гулял король. Министр всегда имел озабоченный и строгий вид. Но в этот день лицо его имело еще более мрачный оттенок, поразивший короля с первого взгляда. Генрих весело вскричал: — Вы идете как вестник несчастья, друг наш! Что нового? Или деньги в моих сундуках превратилась в листья, как в арабской сказке? — Нет, государь, деньги вашего величества добротные и накопляются, слава богу, каждый день. Я позволил себе обеспокоить короля, чтобы получить решительный ответ. — Насчет чего, Росни? — Да все насчет этого великого события, — сказал министр со вздохом. — Моей женитьбы? Вы опять за свое?.. Неужели вы никогда к этому не привыкнете? — Никогда, государь, — с важностью отвечал гугенот. — Это необходимо, друг мой, иначе вы не привыкнете видеть меня счастливым. Росни остался неподвижен. — Я мечтал о другом союзе для вашего величества, — сказал он наконец, — о союзе богатом и знаменитом. — Друг мой, я столько раз повторял вам мои доказательства в пользу этого брака. Я прибавлю, что теперь он сделался необходим, потому что все о нем говорят. — Если только это… — Довольно, Росни, ты меня огорчаешь. Ты не можешь говорить против этого брака, не оскорбляя герцогиню де Бофор. — Нет, — с живостью сказал Сюлли, — я нападаю не на невесту, а на брак. — Пощади и того и другую. Я решился. Я знаю, что вы скажете и что все скажут, но мне это все равно. Я знаю также, что в Европе есть незамужние принцессы и что политика могла бы заставить меня склониться к той или к другой. Ну а теперь слишком поздно. Я буду счастлив без принцессы. — По крайней мере, государь, не женитесь, не сковывайте вашей свободы. — Полно, я сделаюсь свободен, когда женюсь. Мне нужны дети, герцогиня даст мне таких же прекрасных и милых, как она. Если я не женюсь, все женщины передерутся за меня, О, не улыбайтесь, Сюлли! Меня любят, а если вы не верите, что меня любят, верьте, по крайней мере, что они добиваются моей короны. Вокруг меня столько интриг и распрей, от которых ослабевает моя власть. Десять мужчин, соединившихся против моего могущества, десять Майеннов, каждый со своей армией, не могут сделать столько вреда государству, сколько две женщины, которые перессорятся из-за меня — меня, старика с седой бородой, над которым вы смеетесь. Я знаю силу женщин и опасаюсь их. Я не хочу, чтобы их честолюбие нарушало спокойствие моего народа. Когда я женюсь, честолюбие такого рода не будет уже невозможно. Я знаю себя; мне нужны развлечения, прихоти, среди самого полного блаженства я ищу любовных интриг. Теперь Габриэль делает меня таким счастливым, как я не был никогда, а я обманываю ее для мошенницы. Это мой порок. Сделавшись королевой, она будет, по крайней мере, защищена от моих проказ. У меня будет щит для отражения стрел всех этих амазонских эскадр, которые метят в мое слабое сердце. Вы часто слышали, как я развивал перед вами мою политику как государь; я теперь анализирую вам мое положение, как человека; поймите его, уважайте его, не огорчайте меня, потому что ваш ум серьезен, ваше мнение имеет для меня вес и всякое сопротивление с вашей стороны мне неприятно. — Государь, — возразил Сюлли, очевидно расстроенный этой откровенностью своего государя, — если б говорил только человек, я позволил бы себе отвечать, и мог бы привести также хорошие теории. Но я понимаю, что со мной говорит король, и воздержусь, несмотря на все мое желание заботиться об интересах государства. Король нахмурил брови. — Увы! — продолжал Росни. — Как суров путь к истине! Сколько у него шипов! сколько затруднений представляет он для честного служителя, который хотел бы вести по нему своего властелина! Мои мнения, говорите вы, государь, имеют некоторый вес для вас. Однако вы не советуетесь с ними. — Я знаю слишком хорошо, что они мне скажут, Росни. — Может быть, вы также осуждаете и ваши, — мужественно продолжал министр. — Согласен, но я решился, я люблю герцогиню и не найду никогда, даже на первом троне в Европе, женщину, которая лучше бы заслуживала мою любовь своею кротостью, своей несравненной красотой, своим бескорыстием и добрыми услугами, оказанными мне. Слушать, что мне скажут против нее, было бы изменой, потому что она безукоризненна. Еще раз, перестанем говорить об этом; поверьте, Росни, что ваше усердие выкажется более молчанием, чем спором. — Не все согласятся покориться воле вашего величества. — Кто же это? — спросил Генрих. — Ваше величество не забыли, без сомнения, что на свете существует королева Маргарита? — Моя жена? Конечно, я этого не забыл, я имею слишком много причин, чтобы помнить об этом. — Ее согласие на развод необходимо, государь. — Ну? — Королева Маргарита не захочет дать согласия на брак, который… — Который? — Который не доставит королю больших успехов в его карьере или благоденствия государству. — Это что такое? — спросил Генрих с волнением. — С каких пор королева Маргарита вмешивается в государственные дела? Пусть она знает, слышите ли вы, что я этого не позволю. Но все эти интриги направлены против герцогини, ей делают препятствия, препятствия жалкие. — И которыми вашему величеству не следует пренебрегать, — холодно сказал Сюлли, — если королева Маргарита будет упорствовать в своем отказе, ваше величество не можете жениться, потому что папа не разрешит. — Какая злая женщина! — пробормотал король. — Что сделала Габриэль этой… — Королева уверяет, — перебил Сюлли, — что она уступит свое место только женщине своего звания. — Черт побери! — вскричал король. — Это моя вина, если я слышу подобные глупости! Ее звания! Двадцать раз должен был бы я лишить ее этого звания, в случаях у меня не было недостатка. Вот будьте добры, и волк вас съест. Я деликатничал с этой французской принцессой, я не запер ее в монастырь за все ее гадости, за весь ее разврат, я не погасил в сырой тюрьме эту старую кровь Валуа, вечно кипящую — и вот как меня вознаграждают за это! Довольно! Я сделаю это! — Может быть, это будет опасно. — Право, стыдно вас слушать, — возразил король. — Я уничтожу ваши опасности, если будет нужно, и если требуют огласки, я сделаю ее! Старуха Маргарита злится на молодую и свежую Габриэль, она завидует ее цветущей молодости. Черт побери! Я заставлю сгнить эту злую женщину в четырех стенах смирительного дома. — Я согласен с этим, государь, — проворчал гугенот, — но вы не сделаетесь через это свободным. — Зато я овдовею, — возразил король. — Отправляйтесь ко всем чертям с вашими французскими принцессами!.. И если вы сговорились с моими врагами, ждите, что я стану защищаться против вас. Ступайте, сударь, ступайте! О, Крильон, приди хоть ты! Порадуй мне сердце, которое все эти люди вырвали у меня! Сюлли, недовольный, пристыженный, опустил голову и после церемонного поклона медленными шагами пошел ко дворцу, подойдя к Замету, который ждал его с беспокойством и спрашивал у него известий, он отвечал: — Нет никакой надежды для вашей тосканской принцессы, герцогиня де Бофор будет королевой. О! Гримасничайте сколько хотите; если у вас имеются только гримасы, для того чтобы допустить до этого несчастья, наклоните голову. Сказав эти слова, он ушел угрюмый, как кабан. Что-то дико зловещее сверкнуло на мрачном лице Замета, который, удаляясь в другую сторону, пробормотал: — Мы увидим. Между тем Генрих уцепился за руку Крильона, как утопающий за доску спасения. — Ах, мой храбрец! — сказал он. — Как меня мучат! — Кого же не мучат, государь? — Разве и тебя также? — Еще бы! — Знаешь, все эти злые французы опять составляют лигу против меня. — Ба!.. почему же это? — спросил честный кавалер. — Потому что я хочу жениться на моей любовнице. — Это, конечно, глупость, — сказал Крильон. — Что? — Но так как это касается вас, а вы уже перестали носить курточки, так как вы этим довольны, женитесь, черт побери, женитесь! — Вот это прекрасно! — вскричал Генрих, обнимая кавалера. — Вот это умные слова! — На той или на другой женитесь вы, — прибавил Крильон, — все выйдет дурное дело, черт бы побрал всех женщин! — Зачем ты это говоришь с таким сердитым видом? — Потому что… потому что я взбешен, государь. Видите вы там этого гвардейца? — Там? Подожди, — сказал Генрих, оттеняя глаза рукой. — Славный солдат, негодяй, который стоит золота. — Ну? — Ну, он подал в отставку. — Чего же ты хочешь? — Я этого не хочу. Это ваш лучший гвардеец. — Как его зовут? — Понти. — Ах да! Храбрец. Зачем же он оставляет мою службу? — Потому что он поссорился со своим другом из-за женщины. Он весь иссох, весь пожелтел, его трясет лихорадка. Из-за женщины! Черт побери! Проклятые твари! Но я не хочу, чтобы он бросал службу! Сделайте мне удовольствие, призовите его, государь. — Охотно. — И прикажите ему остаться в гвардейцах. — Если ты этого хочешь… — Непременно. — Призови его, я это устрою в двух словах. Крильон сделал знак, и гвардеец был приведен к королю. Понти не походил на прежнего Понти. Глаза его потускнели от горя, румянец сбежал с лица, он похудел. Он остановился в нескольких шагах от короля, который несколько времени благосклонно на него смотрел. — Я хочу, чтобы ты остался у меня на службе, — сказал Генрих, — тебе будет хорошо служить у меня, я ручаюсь за это. Я найду тебе случаи отличиться. Понти хотел отвечать. — Я приказываю, — сказал король, ударив его по плечу и в то же время сунув ему в руку горсть пистолей. В то время для дворянина было почетно получать деньги от короля. Понти замолчал и не подумал бы зажать деньги в руке, если б Генрих сам не закрыл ему ладонь. — Этот мальчик болен, — сказал король, смотря на него с участием, — тебе надо позаботиться о твоем здоровье. Он ушел, а Крильон приблизился к Понти. — Если ты дезертируешь, упрямая голова, я велю изрубить тебя на куски! — сказал он. — Мне это все равно, — отвечал Понти с красными глазами. — Уж не хочешь ли ты расплакаться, теленок? Хорошо. Я еду в Париж и поговорю обо всем этом с Эсперансом… Черт побери! Ведь он действительно плачет, — сказал Крильон, растрогавшись, — какой осел! Кончив это утешение, он в свою очередь ударил по плечу гвардейца; но бедный скелет не имел уже сил вынести подобную ласку: ноги его подогнулись и он как одурелый сел на траву.Глава 73 ПРИЗНАНИЕ
Крильон сдержал свое обещание. В тот же вечер он приехал к Эсперансу. Кавалер не терял времени на то, чтобы примечать, что происходило вокруг него; он не видал слуг, переносивших мебель и багаж, этого движения, неразлучного с близким отъездом, ни печального и взволнованного вида в доме, потому что дом носит в своем облике верный отпечаток впечатления хозяина. Крильон, оставив лошадь и людей своих во дворе, прямо пошел в сад, где должен был находиться Эсперанс. Свежий, туманный вечер обещал бурную ночь. Быстрый вихрь поднимал в аллеях кучи сухих листьев, которые летели, как солдаты при трубном звуке. Этот прекрасный сад, истощив все цветы, жил только вечной зеленью хвойных деревьев. Вода уже не текла с веселым журчаньем лета. Черные безмолвные птицы прятались на обнаженных вершинах; даже песок хрустел с каким-то зловещим звуком под ногами. Эсперанс задумчиво ходил по пожелтевшим листьям, когда кавалер приметил его и позвал. Молодой человек с поспешностью обернулся при звуках этого дружеского голоса. — Ах, кавалер! Добро пожаловать, а я собирался ехать к вам. Крильон остался неподвижен от удивления при виде опустошения, которое такое краткое отсутствие произвело в свежей молодости его фаворита. Эсперанс, бледный, с волосами, растрепавшимися от ветра, с впалыми щеками, улыбался с болезненной приятностью тени, вызванной на минуту на землю. — И он также! — закричал кавалер. — Это, верно, эпидемия! Почему и вы также похудели и приуныли, как этот бедный Понти? Мимолетная краска выступила на лбу Эсперанса, но он не отвечал ничего. — Это уж не от огорчения ли, что вы поссорились? — спросил кавалер. — Может быть! Ну, когда так, примиритесь же скорее. — Это невозможно. — Как! За женщину вы останетесь в ссоре, врагами? Вот что невозможно, черт побери! Краска Эсперанса сделалась пламенем, яркий блеск которого отражался в его глазах. — Кто вам сказал, кавалер, что причина моей ссоры с Понти — женщина? — Он, черт побери! — И… он назвал ее? — прибавил молодой человек с беспокойством, которое Крильон заметил. — Нет. Понти — человек благородный. Он мне не сообщил никаких подробностей. Я чувствую сильное любопытство узнать, какая женщина на свете заслуживает, чтобы два друга расстались из-за нее. Понти умирает там от горя, а вы здесь. Пора это прекратить, Вы худеете оба, так что жалко смотреть. Полно, вы не злы, не упрямы, вы не можете быть виноваты, вы выше его, сделайте же первый шаг. Эсперанс молчал с упорством принятого намерения. Крильон не мог удержаться от легкого движения нетерпения. — Я обязался, — продолжал он, — примирить вас; я говорил об этом при короле. Эсперанс вздрогнул. — К чему? — с живостью прошептал он. — Разве у короля не довольно своих забот, чтобы обращать внимание еще и на наши? Зачем говорить королю о ссоре Эсперанса с Понти? Какое дело до этого королю? Какую мысль подали вы ему? Что скажет двор? Тон молодого человека удивил Крильона, в богатом воображении которого подозрения находили легкую пищу, быстрое развитие. — Как вы это говорите! — сказал он медленно, проницательно рассматривая лицо Эсперанса, на котором бледность и румянец сменялись беспрестанно, как морские волны во время бури. — Если б я мог угадать, что вы так старательно скрываетесь от короля, мой язык не так болтлив, чтобы я не мог его удержать. — Я не скрываюсь, но… — Дела молодости до меня уже не касаются, — перебил Крильон, — не правда ли? Тайны молодых людей должны быть для меня ныне, как то оружие, которым старик не может управлять, не раня себя или других. В этом обстоятельстве, по крайней мере, я выказал добрые намерения, и это надо простить. Говоря таким образом, кавалер отвернулся, чтобы не выказать, до какой степени оскорбил его упрек Эсперанса. — Вы меня огорчаете, — вдруг сказал взволнованный молодой человек, — предполагая во мне недоверие к вам, которого не существует. — Вот уже целый век, как вы меня не видали, как не охотились и не являлись при дворе. Об этом говорят, этому удивляются. — Я убежал от всех. — Из-за ссоры с Понти; стало быть, эта ссора очень важная? — Очень. — Зачем вы скрывали ее от меня? — Я сейчас к вам ехал, чтобы сообщить, — отвечал Эсперанс взволнованным голосом, выражение которого огорчило кавалера. Глаза Крильона обратились с большим вниманием от изменившегося лица Эсперанса на окружающие предметы. В первый раз приметил он, что слуги укладывали вещи с поспешностью, не предвещавшей ничего хорошего. — Вы ехали ко мне, Эсперанс? А кажется, скорее выехали в Иерусалим, в Америку, на Луну, со всей этой поклажей, — сказал кавалер, стараясь засмеяться, в надежде рассмешить молодого человека. Но тот отвечал с серьезным видом: — Я действительно еду, и главная цель моего визита к вам состояла в том, чтобы сообщить о моем путешествии. Крильон сделал движение беспокойства. Множество признаков показывали ему нечто важное. Подозрения начинали обрисовываться более резкими чертами. — Это шутка, не правда ли? — спрашивал он, взяв за руку Эсперанса. — Нет, нет, друг мой! Это действительность, я еду. — Опять в Венецию? — Нет, — отвечал Эсперанс с глубокой меланхолией, — я все потерял в Венеции и найду в ней только горести; я туда не поеду. — Э, боже мой! куда же вы поедете? — Не знаю, куда я поеду, мой любезный покровитель, но далеко и надолго. — Позвольте, позвольте! — возразил Крильон после тягостного молчания, во время которого он напрягал все способности ума и сердца, чтобы угадать причины такого намерения. — Если б вам предстояла сомнительная, опасная битва, я полагаю, вы накануне приехали бы ко мне просить совета, если не помощи? — Кавалер!.. — Вы не забыли, вы не можете забыть, — прибавил кавалер голосом слегка дрожащим, — что когда вы приехали в Париж, я предлагал вам мою дружбу, мою помощь, что я был к вам предупредителен, а это не часто случается со мной. — Это воспоминание остается для меня единственным утешением, — сказал Эсперанс, взволнованный переменой, вдруг совершившейся в тоне и глазах кавалера. — Единственным утешением, которое вам остается? Но что же такое случилось с вами? отчего вам нужно утешение? О, во всем этом скрывается какое-то несчастье! Разорвем скорее покрывало, под ним рана, я хочу ее видеть, я имею на это право. — Кавалер… я сам не знаю… — Извороты, увертки! У вас самый ясный ум и твердая воля, какие я только знаю, несмотря на маску Аполлона. Когда человек, такой как вы, закусывает губы, то это не затем, чтобы делать гримасу, это значит, что он страдает. Ни слова более, кроме решительного ответа. Я расспрашиваю, отвечайте: отчего вы переменились, отчего вы прячетесь, отчего вы поссорились с Понти? Зачем вы уезжаете? О, не царапайте себе руки ногтями, не отворачивайтесь, не сжимайте рот! Я здесь, я васне выпущу, я жду! Сказав эти слова со всем самовластием своих лет, своего возраста, своей славы, Крильон остановил Эсперанса на углу аллеи, возле скамейки, вдали от всех глаз, посадил его не без некоторого насилия и сам сел возле. — Зачем вы уезжаете? — повторил он. Эсперанс сделал усилие и отвечал: — Потому что мне скучно в Париже. — Это невозможно. Вы богаче всех нас, обладаете хорошим здоровьем, любимы всеми, вы не можете скучать. — Если б я не скучал, уехал ли бы я? — Я вижу, что неправильно задал вопрос; вы очень искусно стараетесь увернуться. Это мне доказывает, как вы мало имеете дружбы и уважения ко мне. — Я уже вам говорил, что у меня никого нет на свете, кроме вас. — Э! Если вы меня любите, покажите мне это. Вы очень молоды, я очень стар; я должен подавать пример мужества, однако если б я страдал, я закричал бы вам: помогите! — Ах, не всегда пользуешься счастьем иметь возможность кричать, когда страдаешь! Эти слова вырвались у него с горестным вздохом. — Другим может быть, но мне можно все сказать, я Крильон. — Это правда. Ну, зачем мне скрывать? Вы видите слишком хорошо, что я несчастен. — Ты, дитя мое? — сказал храбрый воин тоном исполненным нежности. — Эсперанс несчастен, но с которых пор? — О! время не значит ничего, кавалер. — Еще недавно ты сиял радостью. — Это время прошло; но не будем об этом говорить. Горести составляют часть жизни. Жизнь предписана нам, хорошую или дурную, ее надо принимать. Когда я был счастлив, я не кричал от радости, зачем же теперь мне иметь шумную горесть? Нет, только припадки могут находить меня слабым, и я не хочу представлять из себя зрелище ни для кого. Вот причина моего отъезда. Крильон печально покачал головой. — Эсперанс, — прошептал он, — причина не та. — Что хотите вы сказать? — Не та, говорю я вам. Вы умеете оставаться взаперти, вы независимы и вас в Париже мог не видать никто, притом было бы достаточно поездки в какую-нибудь провинцию. Но не забудьте, что вы мне сказали: я еду далеко и надолго. — Чтобы притупить горечь, кавалер. — Горечь любви, может быть? — с участием сказал Крильон. Эсперанс покраснел, но сумел воздержаться и отвечал: — Я в этом признаюсь, если б вы даже стали насмехаться над этой слабостью. — Я не стану, я сумею сочувствовать всяким горестям. Я был молод, я любил, — прибавил он с дружеской улыбкой, — однако для любовных горестей есть лекарство. — Отсутствие, не правда ли? — Нет. Отсутствие, напротив, есть самое жестокое мучение, после смерти. Но можно вылечиться, приближаясь к любимой женщине; вы, напротив, как будто бежите от этой женщины, потому что уезжаете. — Это правда. — Я не могу предполагать ни минуты, чтобы она вас не любила; это предположение нелепое. Не умерла ли она? — Не расспрашивайте меня, прошу вас, — сказал Эсперанс, — уже вы знаете более, чем мое сердце хотело сказать. Не настаивайте. Крильон, не слушая его, продолжал мечтать. — Я не знаю никакой женщины, известной красоты или известного звания, которая умерла бы недавно в Париже, — прошептал он, как бы говоря сам с собой. — А! мы забываем еще одно мучение… замужество той, которую любят. Но я не знаю также женщины, которая выходила бы замуж, разве только прекрасная Габриэль. Эсперанс побледнел и поспешно отвернулся, когда Крильон без всякого намерения поднял на него глаза, которые были потуплены во время его рассуждения. «Ах, боже мой!» — подумал Крильон, пораженный внезапно мыслью при виде страшного волнения, возбужденного его последними словами. — Кавалер, — сказал Эсперанс, поспешно вставая, — становится поздно и холодно. Не угодно ли вам, чтобы я приказал слугам поставить лошадей в конюшню? — Пожалуй, — рассеянно отвечал Крильон, рука которого дрожала, разглаживая усы. Эсперанс увел его к дому; он шел вперед, он бежал, каждое его движение было лихорадочно, голос как будто раздирал губы. Крильон оставил его отдавать бессвязные приказания и вошел в дом, где поджидал его. Когда молодой человек явился, освежив свой лоб и восстановив спокойствие на своем лице, он почувствовал, как рука кавалера проскользнула под его руку. Крильон увел в большую венецианскую залу несчастного Эсперанса, которого все эти приготовления довольно тревожили, и заперся там с ним. Из рук храброго Крильона не так легко было вырваться. Он имел время обдумать, утвердиться во всех своих подозрениях, и принял решительное намерение. — Эсперанс, — сказал он резко, — я знаю вашу тайну и причину вашего отъезда. Женщина, которую вы любите, выходит замуж. — Право, вы удваиваете мою муку, — сказал молодой человек слабым голосом. — Я еду, чтобы бежать от смертельной мысли, а вы преследуете меня ею безжалостно. Ну да, я люблю женщину, которая выходит замуж, женщину, которая выходит за короля. Угадываете вы? Довольны вы? Буду я иметь счастье, по крайней мере, заставить вас признаться, что я несчастнейший из людей? — Бедный Эсперанс! — отвечал Крильон с унынием. — Вы были правы. Для вашей горести нет лекарств. О, несчастный, несчастный Эсперанс! Сохрани меня Бог увеличивать ваше несчастье! — По крайней мере, вы пожалеете обо мне, друг мой, не правда ли? — Если бы дело шло о женщине обыкновенной, — продолжал старый воин, — я не хотел бы погасить в вас надежду, я ободрял бы вас преодолеть все препятствия. Вы увидали бы, что я с пылкостью молодого человека оспаривал бы для вас эту женщину даже у ее мужа, потому что я люблю вас, Эсперанс, и не остановился бы ни за какими сумасбродствами, чтобы вас утешить. Но здесь что делать? Я могу только умолять вас не думать больше об этой женщине. — Да, — с живостью прошептал Эсперанс, — это образ без тела, химерическая мечта, и вы слишком благоразумны, для того чтобы поощрять мое безумие. Не будем больше об этом говорить, я смиренно вас прошу. — Эта женщина, мое бедное дитя, любима королем, моим королем, который для нее пожертвует всем, даже жизнью. Я не могу вам помогать против короля. Я не могу думать иначе как с ужасом о горести, которую возбудит в нем подобная попытка. Нет… сейчас еще он говорил мне о ней, он защищал ее, он открывал мне свое сердце, и я советовал ему пренебречь всем, чтобы жениться на герцогине. Я знаю, что раздираю вам душу, милый мой, но это необходимо. Путь начертан… надо принести горестную жертву. — Я уже ее принес, вы видите, — перебил Эсперанс, — потому что я сообщил вам о моем отъезде. Крильон сложил руки. Холодная безропотность молодого человека, его грустная улыбка, сжатие губ показывали сильное отчаяние, преодолеваемое мужеством, способным убить человека, подавив горесть. — Делать нечего, — продолжал Крильон. — Если б даже дело шло не о счастье короля, если б даже мне возможно было вам помочь, захочет ли этого она? Отвергнет ли она честолюбие, которое ведет ее к трону?.. А против честолюбия что может сделать любовь в женщине? — О! что говорите вы о любви? — вскричал Эсперанс, приведенный в себя несправедливым обвинением, который, сам того не зная, не подозревая, сделал Крильон, — о любви между герцогиней и мной? Ах! Разве эта благородная женщина знает о моем безумстве? Подозревает ли она мою смелость? — Как… вы не говорили? — Никогда, — сказал великодушный молодой человек, — никогда я не говорил и даже не думал при ней. Моя страсть никогда не имела отголоска. Габриэль слишком любит короля, и он заслуживает этой любви. Она отдалась ему так благородно, а он теперь также благородно называет ее своей женой! Что буду я делать между ними — я, неизвестный, бесполезный, праздный человек? Я буду отравлять их счастье моими виновными мыслями… Вы говорите, что она честолюбива. Что может быть достойнее уважения? Не о чести ли ее, не о счастье ли ее сына идет дело? Боже мой! но эта страсть, которую вы угадали, потому что мое сердце прозрачно для вас, это безумие сделалось бы гнусным преступлением, если б герцогиня могла подозревать его существование. Я еду, говорю я вам; но если б я мог думать, что кто-нибудь проник в мою тайну, я не уехал бы, а убил себя. Крильон встал, подошел к Эсперансу и обнял его. — Да, уезжайте, — сказал он, — но не отчаивайтесь и не торопитесь. Не все погибло для ваших двадцати лет, для вашего мужественного сердца. Кто знает, какие сокровища хранит для вас будущее! Дитя, не возмущайтесь! — О, окажите мне милость верить, — вскричал Эсперанс вне себя, — что я не утешусь никогда! Нет, друг мой, никогда! Такую женщину найти нельзя. Вы хотите, не правда ли, чтобы это жалкое сердце при вас выказывало свою рану? Неизреченная радость! Я могу говорить с кем-нибудь! Я поражен в моей жизни, я не имею более сил, не имею более мужества. Моя обязанность исполнена, я чувствую, что душа вырывается от меня… я так давно жил этим фибром, который порвался. Я любил уже Габриэль, когда я уехал, знаете… Ну, я опять уезжаю; но у меня нет даже слез. Не утешайте меня, это бесполезно. Могу ли я огорчаться? могу ли я страдать? Я мертв. Крильон закрыл руками свое печальное лицо. — Дитя, — сказал он, — вы меня выслушаете, потому что во мне говорит сердце. Я понимаю, что вы не любите Париж. Оставьте его. — И я буду иметь еще огорчение вас лишиться! — вскричал Эсперанс. — Зачем? — сказал кавалер спокойным тоном. — Напротив, вы будете гораздо ближе ко мне после этого отъезда, потому что я поеду с вами. — Вы? — Конечно, я стараюсь, король заключил мир, я уже ему не нужен в счастье. Вы будете иметь меня спутником; хотите? — Но, кавалер, — сказал молодой человек, смотря на Крильона с восторгом, смешанным с изумлением, — для чего мы хотите сделать для меня подобную жертву, когда вас ждет блестящая будущность, награда за достославные услуги, вы прошли только половину вашей почетной карьеры, каким образом предпочитаете вы меня славе? — Неужели вы думаете, что у меня каменное сердце? — отвечал Крильон. — Я вам говорю: страдайте с мужеством, но с условием, что я помогу вам страдать. — Что я сделал, для того чтобы вы удостаивали меня такой драгоценной дружбой? Вы мне предлагаете оставить для меня величайшего короля на свете, и я уверен, что вы не оставите меня ни для какого короля. — Это правда, — сказал Крильон, смущенный наивным вопросом молодого человека, — вы спрашиваете у меня причину моей привязанности к вам; она очень проста. Как вас не любить? Знайте себя лучше, Эсперанс; вы добры, вы благородны и прекрасны. Глазам приятно на вас смотреть, душа радуется в соприкосновении с вашей душой. Сколько королей не стоят вас! Ах! я полюбил вас не вдруг. Нет. Несмотря на рекомендацию вашей матери… ведь ваша мать прислала вас ко мне… хоть по одной этой причине вам следует меня любить, Эсперанс. Вам надо очень меня любить и убедить себя в том, что вы сейчас сказали из деликатности, то есть, что у нас нет никого на свете, кроме меня. А если б я думал, что не могу утешить вас со временем… если б я сомневался в вашей дружбе… если б я считал вас неблагодарным… Нет, обнимите меня! Мое сердце тает, когда я обнимаю вас. Эсперанс повиновался. Он положил свою голову на эту мужественную грудь и усыпил свою горесть у сердца, которое никогда никому не изменяло.Глава 74 ПРОРОЧЕСТВО КАССАНДРЫ
Время шло. Все силы, соединившиеся против Габриэль, увеличивались в молчании. Эсперанс ждал, чтобы Крильон приготовился к отъезду. Кавалер заставил своего молодого друга обещать вооружиться терпением и безропотностью до благоприятного случая. Эсперанс не хотел обнаруживать своих страданий ни перед кем. Около него говорили о путешествии очень продолжительном, очень приятном, которое он предпринимал с Жаном Моке для чести науки и для славы прибавить несколько колоний к французскому королевству. А пока молодой человек сосредоточивал в себе свою горесть и питался ею. Запершись у себя или делая вид, будто отлучается на охоту в отдаленные леса, он исчезал мало-помалу от света и от двора. Его видели только раза два на веселых празднествах карнавала. Он старательно избегал встречи с Понти. Решившись разойтись с бедным гвардейцем, потому что его отсутствие должно быть вечным, он обещал себе, однако, поехать к нему накануне своего отъезда, обнять его и простить ему, потому что эта дружба не угасла в сердце Эсперанса; он знал по верным рассказам о горе Понти после их разлуки. Ничто не могло утешить гвардейца. Мрачный, раздражительный, молчаливый, Понти не вставал с постели во все время, которое не был на службе, и эти молодые люди, прежде столь блестящие, столь шумные, исчезли из общества. Дома Эсперанс вел такую же жизнь. Пост кончался, а так как король обыкновенно в это время жил в Фонтенебло, оттуда молодой человек получал каждое утро ежедневный подарок Габриэль. Род подарков переменился: они состояли только в увядших цветках, трогательной эмблемы жизни, остановившейся в своем развитии. Эти свидетельства постоянства не удивляли Эсперанса. Он знал сердце этой великодушной женщины. Но чем более она старалась увековечить в нем память о любви, тем более он считал себя обязанным отвечать ей таким же великодушием. Обязанность Габриэль, говорил он себе, беспрерывно протягивать мне руку, а моя обязанность убегать от Габриэль. Каждый из нас трудится таким образом для счастья другого. И он продолжал оставаться в уединении и ускорял приготовления к отъезду. Согласие Габриэль на эту разлуку, казалось ему, приобретено молчанием, которое ничто не прерывало после их последнего свидания в Буживале. В начале Страстной недели все было кончено. Наступала весна. Разрешение Рима на развод и, следовательно, на новый брак короля находилось в дороге, в чемодане королевского курьера. Эсперанс велел приготовить лошадей на завтра, и по согласию с Крильоном, который должен был после соединиться с ним, он уезжал один. В последний раз бедный изгнанник захотел пройтись по своему дому и проститься с ним навсегда. Он был так счастлив в этом приятном уединении; оно было наполнено воспоминаниями об его любви. Повсюду сувенир Габриэль представлялся его глазам, ласкал его руку. Его неутомимый друг день за днем наполнил своею мыслью целый дом, от передней, где красовались померанцевые деревья, подаренные ею, до этажерок, наполненных прихотями ее фантазии, до клеток, населенных болтливыми птичками, до жардиньерок, насаженных растениями, до стен, увешанных оружием, до медальных шкафчиков, набитых диковинами, до полок, наполненных книгами, из которых каждая, даже книга отвлеченной науки или трактат о теологии, представляли для Эсперанса мысль о любви. Лань повсюду бегала за своим хозяином, терлась своим мохнатым лбом об его руку, которую лизала время от времени. «Увы! — думал Эсперанс. — Этот отъезд есть образ смерти. Умерший не уносит с собой своих любимых сокровищ. Перстень, любимый портрет, какая-нибудь вещица — вот все, что может поместиться с ним в могиле. Остальное предоставляется посторонним. Все, что он любил живой, о чем он заботился своими руками, что он обожал, эфемерные кумиры, он оставляет после себя людям, которые будут грубо обращаться с этими святынями и осквернят их двусмысленной улыбкой, если могут угадать, какую цену приписывал им их бывший хозяин. Я один, обладавший таким множеством этих драгоценных богатств, что с ними сделаю? Потащу ли их с собой в повозках, на кораблях, стану ли укладывать и растюковывать, смешной путешественник, предметы моей любовной жизни? Однако я научился жить среди этих безделиц, я сделал из них мой горизонт и моему зрению будет больно обходиться без них. Оставить ли их, когда я уеду, как мертвец, о котором я говорил сейчас? Но тогда найдутся люди, которые станут касаться без уважения до вещей, которых касалась Габриэль. Нет, я буду подражать мудрецу, который все носит на себе. Я выберу самую маленькую вещицу, самое тонкое кружево, самый последний цветок, запечатленный ее дыханием, я спрячу их на моем сердце, и когда мои лошади выедут, когда я отпущу моих слуг, когда останусь один дома, совсем готовый к отъезду, я сожгу все мои сокровища. Металлы растаяли, вместе с хрусталем, деревья сгорят, выпущенные птицы улетят, книги, мебель, матери распадутся пеплом, а дом исчезнет в этой огненной бездне, и через несколько дней все, до чего я касался, все, что я любил, употреблял, изгладится, как хозяин, из памяти людей. Я сделаю из всего этого огромную могилу, где кое-что мое будет покоиться неразлучно с кое-чем принадлежавшим Габриэль». Когда он кончал эту мысль скрепя сердце и со вздохами, очень позволительными в подобном несчастье, легкий шум заставил его вздрогнуть; он обернулся, перед ним стояла запыхавшаяся Грациенна, которая сказала: — Слава богу! Опасность прошла! Тот никогда не любил, если не понял бы действие, которое произвело ее присутствие на молодого человека, еще дрожавшего от болезненных воспоминаний. Какую приятность имеет для любовника лицо, часто пошлое, поверенной! Грациенна была совсем не красавица; однако имела счастливое и улыбающееся лицо. Сколько раз сердце молодого человека дрожало при шуме ее шагов, как будто это была Габриэль, но никогда, однако, он не находил ее такой доброй и прекрасной, как в это утро. Он вскрикнул от радости и побежал к ней с распростертыми объятиями. Грациенна спросила его, не слушает ли кто-нибудь, и выслушав уверения Эсперанса, прибавила: — Я принесла письмо от герцогини; но, для того чтобы получить его, вам надо оставить меня одну в этой комнате. Она покраснела. Эсперанс посмотрел на нее, не понимая. — Так как меня часто преследовали, останавливали, даже обкрадывали, когда я ходила в домик предместья, — сказала Грациенна, — я спрятала это письмо под платьем. На этот раз, чтобы отнять у меня письмо, надо было бы меня убить, а враги герцогини еще не смеют убивать днем на улице. Эсперанс поблагодарил мужественную девушку и запер ее. Переходя в соседнюю комнату, он спрашивал себя с невыразимым волнением, что могло заключаться в этом письме, первом, какое к нему писала Габриэль. «Она довольно честна и довольно мужественна, — думал он, — что хочет дать осязаемое доказательство своей любви ко мне. Благородная неосторожность! Габриэль неспособна изменить долгу своего сердца, ей было бы стыдно не отдаться мне так, как я отдался ей!» Эта мысль воспламенила его на минуту, но последствия были печальны. «Она посылает мне последнее прощание, — подумал он, — прощание вечное. Стало быть, все кончено!..» Грациенна отворила дверь; голова Эсперанса была потуплена, глаза его были мутны. — Вот, — сказала она, подавая ему маленькую ладанку, вышитую шелком и пропитанную тем таинственным благоуханием Востока, которое заставляет мечтать о женщинах и цветах. Эсперанс открыл ладанку и вынул бумагу, лежавшую в ней. Грациенна подошла к окну и скромно отвернулась, чтобы Эсперанс мог читать свободно.«Друг, — писала Габриэль, — я знаю, что вы хотите ехать, я знаю, что ваш отъезд назначен на завтра. Крильон сказал это при мне с убеждением, которое меня пугает. Однако я этому не верю, но меня пугает все. Нет, я не поверю никогда, что вы уедете, не поговорив со мной в последний раз. Но вы настолько великодушны, что будете иметь это печальное мужество. Вы любите меня настолько, что готовы пожертвовать собой таким образом. Я дрожу, когда пишу к вам это. Не делайте оттого, ради бога, потому что вы доведете меня до такого отчаяния, что я отправлюсь на край света за последним прощанием, которое вы обязаны мне дать. Завтра большая охота в Фонтенебло; вы можете приехать. Мы будем одни. Тайно ли вы приедете, или покажетесь, я вас жду, Грациенна вам объяснит, где и как. Подумайте, что я не приму никаких извинений. Через час после вашего отказа я приеду к вам».
Перечитав письмо несколько раз, Эсперанс впал в глубокое недоумение. Никогда честная любовь не выражалась яснее, никогда приказание более решительное не было дано более законным властелином. Ослушаться значило компрометировать женщину, мужество которой в минуты экзальтации не знало границ; повиноваться — не значило ли рисковать еще больше? Таков был тезис, который несчастный Эсперанс внимательно обдумывал в продолжительные минуты, показавшиеся часами Грациенне. Он говорил себе, что Габриэль имела право требовать этого последнего прощания, что средство, предлагаемое ею, было легко, что не скрываясь можно было иметь свидание без опасностей, даже в глазах самых жестоких врагов Габриэль. С другой стороны, какое значение имело публичное свидание? К чему искать горести, которые не имеют права выказываться? С какой целью Габриэль приказывала своему любовнику подвергаться пытке, не испуская ни вздоха, не проливая слезы? Разве она до такой степени была уверена в самой себе, что захотела подвергнуться подобному страданию? Отказаться от подобной женщины, когда она сама предлагает себя нам, умолять ее забыть любовника, чтобы думать только о своем богатстве, о своем сыне, не достаточно ли этого для исполнения долга? Неужели надо еще прибавлять к этому горесть, видеть эту женщину в объятиях другого? Однако, это зрелище Эсперанс увидит в Фонтенебло. В другом предположении, то есть если он откажется от свидания, что случится? Габриэль компрометирует себя. Может быть, ждут только одного ее неосторожного поступка, чтобы погубить ее. Любящая, мужественная, способна на все, она в самом деле приедет к Эсперансу, а если ее застанут на подобном свидании, она действительно погибнет. Нет, говорил ему рассудок, она этого не сделает. Притом зависит от меня, чтобы она этого не сделала. Я предпочитаю умереть, чем отправиться в Фонтенебло, холодно обращаться с ней при свидетелях смешным прощанием. Что касается тайного разговора, в конце его, может быть, будет смерть. Я не поеду в Фонтенебло; но неужели я буду так глуп и так низок, чтобы сказать ей, что я не поеду? Неужели я вызову фанфаронством безумное великодушие, результат которого погубит благородное создание? Нет, вместо того чтобы уехать завтра, я уеду сегодня. Только Грациенна уйдет отсюда, я уеду вслед за нею. В эту минуту, когда она будет отдавать свой ответ Габриэль, я сделаю уже пятьдесят лье; в ту минуту, когда Габриэль будет ждать меня в Фонтенебло, я уже выеду из Франции; в ту минуту, когда она приедет ко мне сюда, как она говорит, дом превратится в груду пепла, уже холодного, хозяин сделается тенью, басней, Габриэль не найдет даже предлога, чтобы повредить себе. Вот как может действовать мужчина, вот как можно спасти женщину! Это решено, это сделано! — Грациенна! — сказал он. Грациенна подошла с сердцем, сжатым от этого продолжительного ожидания, которое казалось ей дурным знаком поспешности Эсперанса исполнить желание ее госпожи. — Моя добрая Грациенна, ты говорила правду сейчас. Опасности велики около нас, но мы к ним привыкли. Я поеду в Фонтенебло. Я поеду завтра. В котором часу герцогиня предпочитает меня видеть? — Если вы приедете на охоту, то утром, и когда вы воротитесь, мы сумеем найти минуту устроить вам разговор с герцогиней. «Вечером у меня будет больше времени», — подумал Эсперанс и сказал: — Я предпочитаю вечер, Грациенна. — Герцогиня тоже предпочтет. После ужина она скажется нездоровой и уйдет; она будет совершенно свободна. — Но как я войду в замок? — Это мое дело. Будьте через час после наступления ночи у витой лестницы на Овальном дворе. Будут ужинать, и никто не может вас заметить в эту минуту. Я отведу вас на место, которое назначит герцогиня. — Хорошо, — сказал Эсперанс. — Ночь наступает в шесть часов, я буду в семь у витой лестницы. — Я ухожу с радостью; мне гораздо веселее, нежели было, когда я пришла. — Ты ничего не говоришь мне о герцогине, — грустно сказал Эсперанс. — Она по-прежнему прекрасна, не правда ли? Грациенна покачала головой. — Если б вы видели, как она писала это письмо, — отвечала она, — вы не так медлили бы дать мне ответ. — О! не думай, чтобы я колебался, — сказал Эсперанс, тронутый до глубины сердца. — Неужели ты не понимаешь всех моих опасений? Дитя, знай, что ее жизнь зависит от неосторожности, которую я позволил бы ей сделать. — Знаю, и поэтому сердце мое билось так сильно, когда я несла эту записку. Эта записка — доказательство, доказательство смертельное. — Успокойся, — сказал Эсперанс с волнением, от которого прерывался его голос и дрожала рука, — от этого доказательства не умрет никто. Он зажег свечу и, страстно поцеловав письмо на всех местах, до которых могла дотронуться рука Габриэль, сжег бумагу и растер пепел между пальцами. — Ты расскажешь ей все, что видела, Грациенна, и повторишь все, что я сказал. Я люблю Габриэль до самой смерти; запомни это хорошенько, Грациенна. — Да, я запомню это, я это думаю почти так же нежно, как говорите вы. — И что бы я ни сделал, Габриэль должна сказать себе: «Он это сделал из любви ко мне». — Но что вы сделаете? — вскричала молодая девушка, испуганная тоном, которым были произнесены эти слова. — Я скажу это завтра вечером герцогине, — поспешил прибавить Эсперанс, стыдясь, что увлекся счастьем послать такое важное прощание той, которую он не хотел больше видеть. Грациенна, успокоенная этим ответом, улыбнулась и пошла к лестнице. Точно будто Эсперанс не мог решиться отпустить ее. — Тебе трудно будет воротиться в Фонтенебло, — сказал Эсперанс, — холодно, носилки идут медленно. Я бьюсь об заклад, что на переезд понадобится семь часов. — Я буду спать дорогой; я так рада, что привезу завтра утром ответ, который обрадует мою госпожу. Она ушла. Эсперанс удержал ее и побежал к шкатулке. — Что вы ищете? — спросила она. — Сегодня в первый раз ты принесла мне от нее письмо, — прошептал молодой человек, — я имею право заплатить тебе за это. Он вложил ей в руку изумрудное ожерелье, богатство которого вырвало крик восторга у Грациенны. — Я никогда не осмелюсь это носить! — вскричала она. — Эти-то изумруды? Это мой цвет, — сказал он, улыбаясь, — меня зовут Эсперанс; помни обо мне. Говоря таким образом, он поцеловал ее; этот поцелуй, этот подарок имели, несмотря на усилия Эсперанса, торжественность, которая возбудила в Грациенне недоверчивость еще больше прежнего, и она хотела просить у него объяснений, когда три удара раздались в дверь. — Это меня зовет управляющий, — сказал Эсперанс, — должно быть, случилось кое-что важное. Грациенна спряталась за занавес. Эсперанс отворил дверь, спрашивая что случилось. — С вами хочет говорить какая-то женщина, — шепнул управляющий. — Как ее имя? — Она не хочет сказать. — У меня нет дела ни с какой женщиной, откажите ей. — Она настаивает, и это иностранка, она и выражается и понимает плохо. Я мог только понять, что она называет вас Сперанца. Молодой человек вздрогнул. — Женщина низенькая, смуглая, живая? — спросил он. — Да, очень живая. — Откажите, откажите скорее! — сказал Эсперанс, выталкивая его из комнаты. Но тот остановился на лестнице. Женщина, которой он хотел отказать, загораживала ему дорогу. Она не послушала двух лакеев и решительно шла к Эсперансу, несмотря на отказы и усилия трех человек. — Сударыня, — сказал наконец взбешенный управляющий, — вы слышали приказания монсеньора? — Скажите ему, что дело идет о его жизни, — сказала иностранка, продолжая идти вперед. Возвысив голос, так чтобы ее слышал Эсперанс — она знала, что он стоит за дверью — она прибавила по-тоскански: — И о жизни еще более драгоценной для вас, Сперанца! Эти слова, произнесенные мрачным тоном, не допускали сопротивления. Эсперанс поручил Грациенну управляющему, с приказанием вывести ее по потайной лестнице. И чтобы ускорить уход Грациенны, которая колебалась, не понимая, он шепнул: — Ступай, или ты погибла. Потом, заперев дверь, он бросился навстречу к женщине, которая поднималась на последнюю ступень лестницы. — Какая странная смелость! — сказал он по-итальянски. — Вы, верно, помешались, Элеонора, осмелившись явиться ко мне? — Сперанца, — перебила итальянка, — неужели вы были так неосторожны, что отвечали герцогине письменно? Сердце Эсперанса замерло при этом ужасном вопросе. — Если вы написали, — быстро прибавила Элеонора, — возьмите назад письмо, еще есть время. — Я не знаю, что вы хотите сказать, — пролепетал Эсперанс, очень бледный. — Я говорю, что Грациенна несет записку от вас и что она, герцогиня и вы погибли, все трое! Призовите ее назад и сожгите ваше письмо, как вы сожгли письмо герцогини, дым которого еще носится под этими сводами. — Это новая ловушка, не правда ли? — спросил Эсперанс, колеблясь между недоверчивостью и испугом. — Я следовала за Грациенной от Вильжуфа, — продолжала Элеонора, — я видела, как она вошла к вам; от меня зависело схватить ее, не допустить к вам или перехватить письмо. Грациенна вышла отсюда; она не сделает и ста шагов, как наши агенты остановят ее с вашим письмом. Вот почему я вам говорю, воротите Грациенну, Сперанца. Понимаете ли вы меня? Засада ли это? Эсперанс не нашелся что отвечать; аргумент был убедителен; его унылый вид доказал, что он был убежден. — Тем лучше, — продолжала Элеонора, видя, что он остается неподвижен. — Вы не писали, тем лучше! Я же должна сказать вам много другого. Примите меня в комнате или в саду, где хотите, я не могу говорить на лестнице. Кончив эти слова, она сошла с лестницы. Эсперанс пошел за нею, укрощенный, изумленный. Когда они пришли в сад, молодой человек успел приготовить себя к новому нападению, которое предвидел, он сказал: — Я слушаю, удивляясь вашему двусмысленному поступку, но слушаю. — Никогда, — возразила Элеонора, — не имели вы больше надобности в вашем внимании, Сперанца, каково бы ни было ваше желание обвинить меня, проникните в смысл моих слов. Представьте себе, что с вами говорит пророчица. — Я знал, что вы ворожея, — иронически перебил Эсперанс, — но не знал, что вы также и пророчица. — Ради бога, не насмехайтесь! После нашего последнего свидания враги ваши сделали огромные, быстрые успехи. Они достигли цели своего честолюбия и касаются цели своего мщения. Близкая будущность заставит вас понять мои слова, непонятные сегодня. Сперанца! Давно я слышу, что вы собираетесь ехать, а вы все не уезжаете. Я каждый день наблюдаю за вашей нерешимостью, я вижу, как вы делаете приготовления, назначенные, для того чтобы обмануть глаза менее проницательные, чем мои. Сегодня медлить нельзя. Все близится к концу. Сперанца, уезжайте! Она говорила с такой торжественностью, слова ее были так звучны и так дружелюбны, во всей ее наружности дышало такое истинное или так хорошо разыгранное волнение, что молодой человек был тронут слишком глубоко, для того чтобы это скрывать. — Но я еду завтра, вы это знаете, так как вы знаете все, — отвечал он, — притом, какое чувство внушило вам этот совет? То, что я видел, заставляет меня даже подозревать ваши услуги. — Это правда, — сказала она печально, — забудьте мои поступки, а обратите только внимание на мои слова. Вспомните, что я начала любовью к вам… — Полноте! Лицемерие самое опасное из ваших оружий. Чем более вы замазываете медом ваше вероломство, тем более я не доверяю вам. Анриэтта также меня любила… а, для того чтобы оценить Элеонору, мне достаточно вспоминать Айюбани. — О! — прошептала итальянка с гневом, — Айюбани трудилась не против вас, Айюбани трудилась для себя самой… против… Но к чему стану я обнаруживать мои тайны? Вы мне не верите? — Нет, — решительно сказал Эсперанс. — Сперанца, — снова перебила Элеонора, которую это новое оскорбление, столь заслуженное, заставило вздрогнуть, — я вам доказала сейчас свою преданность, позволив Грациенне свободно войти к вам и выйти… — Вы ничего мне не доказали. Может быть, в ваши виды входит необходимость казаться мне великодушной в восемь часов вечера, чтобы лучше зарезать меня в полночь. — Проклятие! — вскричала Элеонора, с бешенством разрывая носовой платок, который она держала в руке. — Ну, я сейчас сказала тебе, чтобы ты ехал, и повторяю это, умоляю тебя, заклинаю! Каждая минута, которую ты проводишь в этой стране, похищает у тебя год жизни. Сперанца, ты похож на тех блестящих, смелых птиц, которые свили себе гнезда на красивых тростниках у реки. Поднимется гроза, вода вскипит, вырванный из корня тростник укатится в реку. Уезжай, Сперанца, уезжай, не оглядываясь назад… я не могу сказать тебе более. Бог мой свидетель, что я дала бы половину моей крови, чтобы спасти тебя! — Я понимаю ваши намеки, — холодно сказал Эсперанс, — этот тростник, которому угрожает буря, герцогиня, не правда ли? — Да. — Что же я имею общего с герцогиней? — Отрекаться передо мной в участи, которую ты имеешь к герцогине, мной, которая знает все, была бы слишком грубая ложь! Эта женщина погибла, говорю я тебе, ничто на свете, ничто не может ее спасти. Беги от нее, если не хочешь быть погребенным под развалинами ее гибели. — Ничто не спасет ее, говорите вы. О! А я надеюсь, что она спасется, — отвечал Эсперанс с преувеличенной кротостью, — ее губит ее несчастное честолюбие. Разве нельзя ее спасти, скажите, если она откажется от трона? — Признаюсь, это единственное средство. — А! бедный демон, твоя хитрость обнаружилась! — с торжеством вскричал Эсперанс. — Твои высокопарные слова скрывали очень жалкую тайну. Если ты хочешь меня испугать, придумай что-нибудь другое. — Довольно! — вскричала Элеонора глухим голосом, крепко сжимая руку Эсперанса. — Я уже слишком много сказала, может быть. Не много слов высокопарных или ничтожных сорвутся теперь с моих губ; я молю Бога, чтобы они вошли в твое зачерствелое сердце. Уезжай! Не видайся никогда с Габриэль! Уезжай быстрее стрелы. Но твои уши глухи, твое сердце закрыто, ты продолжаешь смеяться. Делай же что хочешь, беги туда, куда зовет тебя судьба, только в роковой час вспомни все, что я тебе сказала; ты сам этого хотел! Гибни и не обвиняй меня! Прощай! Говоря таким образом, она закуталась в свою мантилью с диким отчаянием и убежала, оставив Эсперанса, взволнованного, несмотря на его неизлечимое недоверие. «Что Габриэль угрожает опасность, это возможно, — думал он после продолжительных размышлений ночью. — Но если эти соединившиеся чудовища велят мне ехать, это значит, что мое присутствие может помочь герцогине. А если Элеонора, чего я не допускаю, была искренна, если Габриэль действительно угрожает опасность, я был бы подлец, если бы бежал. Итальянка говорит “да”, индианка говорит “нет”. Что говорит Эсперанс? Эсперанс будет завтра вечером в Фонтенебло».
Глава 75 ПОНТИ НАХОДИТ ОБЕЩАННЫЙ СЛУЧАЙ
День ожидания казался смертелен Эсперансу; но слишком много интересов было затронуто, для того чтобы он решился опередить час, назначенный герцогине. Он уехал в полдень из Парижа, простившись со всем своим домом и раздав награды своим лучшим слугам. Он оставлял только привратника и двух садовников, решившись, воротившись тотчас после своего разговора с Габриэль, исполнить намерение, принятое накануне, не оставив никаких после себя следов. Он угадывал, что за ним будут следить, но как же быть? Хитрость была невозможна с такими врагами, как Элеонора и Анриэтта. Не хитрить, а идти прямо к цели было лучшим шагом. Тактика Эсперанса состояла из смеси двух планов. Оставаться несколько времени в Фонтенебло, хорошенько спрятаться и исчезнуть в ту минуту, когда доложат об его приезде. Относительно дороги притворство было невозможно. Он ехал в Италию, Фонтенебло находится на этой дороге. В семь часов вечера настала уже ночь; погода была мрачная, холодная. Все городские жители утеплялись и грелись. Огонь мелькал в каждом окне, между тем как двери начинали запираться. Эсперанс знал Фонтенебло подробно. Ни одно дерево в лесу, ни один поворот в замке не укрылись от него. Он столько раз прогуливался по лесу и по галереям. Он знал лучше чем кто-нибудь часы обедов, ужинов, игр, собрания и привычек королевского дома. Он неприметно проскользнул через кухонный двор; слуги суетились в людских, и это позволило ему дойти до витой лестницы на овальном дворе. Он приметил в тени растревоженную Грациенну в окне нижнего жилья. Она наблюдала уже несколько минут и ничто не показалось ей подозрительным. Она проводила Эсперанса в свою комнату, чтобы дать ему последние наставления. Минута была благоприятна; мелкий и холодный дождик моросил, скрывая обзор плохо освещенных дворов. В те экономные времена три четверти дворца по крайней мере были темны и не заняты, и король собрал в одной части дворца всех своих гостей, чтобы сберечь деньги и избавить своих слуг от излишних трудов. Грациенна сказала Эсперансу, что она поведет его к герцогине, которая, для большей безопасности, ждала его в своей комнате. Видя неодобрение Эсперанса, Грациенна прибавила, что Габриэль после размышления убедилась, что никакой тайник в замке не был священнее и безопаснее ее комнаты. Притом, чтобы дать себе больше свободы, она захотела притвориться усталой и больной и, следовательно, остаться дома. Эсперанс не сделал возражения, он надвинул шляпу на глаза и пошел за Грациенной, с сердцем настолько растревоженным опасением, сколько трепетавшим от волнения при мысли, что он увидит Габриэль. Мы сказали, что пробило семь часов. Все запиралось во дворце. Огромные дубовые поленья горели в каминах. Ужин короля жарился на вертелах и стол был накрыт. Охота кончилась несколько поздно; король только что снял сапоги. Он наряжался, чтобы явиться авантажным своим гостям. Пока камердинеры одевали его и прыскали духами его бороду, он разговаривал с Заметом, который почтительно стоял у камина напротив кресла короля. — Да, — говорил Генрих, — то, что я решил, сговорившись с герцогиней, будет добрым примером для парижан. Они увидят, что мои придворные не безбожники. Герцогиня хочет провести в Париже последние дни Страстной недели, ее увидят в соборах, она будет говеть. Ей следует уже принимать набожный вид, который приличествует для королевских особ для назидания народа. Замет поклонился. Он не спускал своих зорких глаз с лица короля, стараясь вырвать у него продолжение его мысли. — А у меня, — продолжал Генрих, — много дел здесь; я их закончу, а потом приеду к герцогине, которая будет в Париже у тебя. — У меня, государь? — Да, помести ее у себя; твой дом — земной рай. У тебя мебель лучше, чем у меня, Замет. Угощай хорошенько герцогиню, которая тебе все возвратит, когда будет королевой. Или от отблеска огня, или от скрытого волнения, на лице флорентийца мелькнул синеватый отблеск. — Это для меня большая честь, государь, и я употреблю все силы, — сказал он, — однако я признаюсь, что не приготовился в эту минуту. — Ба! Если кушанья будут нехороши, тебя извинят, так как теперь пост. Однако у нас за обедом будет сегодня скоромное последний раз на этой неделе. У меня есть разрешение папы на один обед, и мой охотничий аппетит выбрал именно обед нынешний, Впускай ко мне, ла Варенн! Ла Варенн повиновался. Несколько вельмож ждали в соседней комнате и были впущены к королю. Тут был и граф Овернский, который представил королю графа д’Антрага, своего отчима. Антраги наконец получили приглашение в Фонтенебло. Король прекрасно принял графа д’Антрага, несмотря на лукавую улыбку, которая не сходила с его губ во время представления. — Но я не вижу дам, — сказал Генрих, ища глазами вокруг себя. — Государь, — поспешил сказать граф Овернский, — у дам, когда возвращались с охоты, опрокинулась карета; они желают получить позволение вашего величества отдохнуть несколько часов. — Они не будут ужинать? — вскричал Генрих. — Я боюсь, что их желудок пострадал от падения, — отвечал, смеясь, молодой человек. — Неприятно! — сказал король с досадой, — дороги в этом лесу очень дурны; будем надеяться, что у меня скоро достанет денег, чтобы сделать мои леса удобными для дам, как сады. Ну, я извиняю дам, выпьем за их здоровье. Видя, что многие присутствующие смотрели на него, стараясь проникнуть в его мысли, он прибавил: — К счастью, присутствие герцогини вознаградит нас. Только он кончил, приметив облако, которое эти слова вызвали на лицо графа д’Антрага, когда Беринген, первый камердинер короля, вошел и сказал что-то тихо его величеству, черты которого тотчас приняли выражение сильной досады. — Вот что называется несчастьем! — вскричал Генрих. — В ту минуту, когда я говорю о герцогине, она прислала мне сказать, что охота утомила ее, что она нездорова и не может быть за ужином. Но ее желания все равно, что приказания. Ступайте, Беринген, сообщите ей мои сожаления и скажите, что после ужина я приду узнать о ее здоровье. Все поспешно приблизились к Берингену, чтобы просить его передать герцогине почтительный поклон. В это время король прохаживался перед камином и думал: «Вот начинается мучение; Анриэтта не хочет ужинать с Габриэль, а Габриэль не хочет сесть за один стол с Анриэттой. Анриэтта неправа; я прямо выскажу ей мои мысли; она слишком рано начинает быть требовательной. Габриэль права. Бедный милый друг! Я ее успокою, но как устроить все это?» Метрдотель явился со своими помощниками. — Пойдемте ужинать, господа! — сказал король тем поспешнее, что ему нужно было заглушить вздох. Все присутствующие пошли за ним, перешептываясь, а самые хитрые анализировали причины отсутствия этих двух дам. Между тем как все собрание шло по галерее за пажами, которые несли свечи, дежурный гвардеец, сидевший на скамейке, опустив голову на обе руки, поддерживавшие ружье, оставался глух и неподвижен, как статуя. Шум шагов и голосов не заставил его опомниться. — Вот этот-то спит! — закричал король весело. — А! Здравствуй, храбрый Крильон, это один из твоих гвардейцев? — Кажется, что так, — отвечал кавалер, приготовляясь разбудить ударом кулака этого соню, который так дерзко нарушал свою обязанность, но король остановил его. Он позвал пажа, который держал подсвечник с шестью свечами, и яркий свет бросился в лицо гвардейцу. Он приподнялся, показав изумленное, бледное и отчаянное лицо Понти, который, поняв всю свою ошибку, выпрямился как на пружине. — Я знаю это лицо, — сказал король, смеясь. Все засмеялись; бедный Понти от этих насмешек потупил голову с выражением мрачного отчаяния. — Это бедный Понти, я его не узнал, так он похудел, надо его извинить, — прошептал Крильон. — Да, да, — отвечалкороль, — продолжай дремать, мы стоим не перед неприятелем. — Хорошо, если бы так! — пробормотал Понти с мрачными решительным видом, который поразил короля и показал ему, сколько еще было свирепой энергии под этим оцепенением. Как только все прошли, Понти опустил руку и ружье, галерея сделалась темна и гвардеец сел на свое место на скамейке, не взглянув ни разу на великолепный пир, приятный запах которого доносился до галереи. Король занял место, гости последовали его примеру; но Генрих, развернув свою салфетку, нашел под нею записку. — О! о! — сказал он, нахмурив брови. — Редко записка, доставленная таким образом, сообщает что-нибудь счастливое государю. Неужели есть заговор против моего аппетита? Все-таки подавайте. «Нет подписи, тем хуже», — подумал Генрих. Он начал читать. Легкая дрожь пробежала по его членам и неприметно расстроила черты; но видя, что за ним наблюдают, он кончил чтение.«Государь, — писали в записке, — одна дама, хотя вы думаете, что она одна, сегодня вечером устроилась так, чтобы пригласить к себе гостей. Если ваше величество не помешаете этому свиданию, это значит, что у вас слишком много терпения и слишком мало любопытства».
Полминуты было достаточно, для того чтобы вызвать целый ворох мыслей в взволнованной голове короля. В этой записке намекали на одну из дам, находившихся в Фонтенебло, на Габриэль или Анриэтту. «Очевидно, — подумал король, — за столом находится тот, кто знает или угадывает значение записки; может быть, тот, кто писал ее, смотрит на меня». Король спокойно сжег записку и сказал улыбаясь: — Приятное известие. Будем ужинать! Он в самом деле хотел ужинать, но его аппетит пропал. Шум пира и желание казаться веселым придали ему волнение, которое не обмануло гостей; обыкновенно ничего не было естественнее веселости короля. Однако Генрих успел составить план, мучительно выработанный среди смеха. «Хотят, — думал король, — чтобы я из ревности отравился к герцогине или захотел узнать, одна ли у себя мадемуазель д’Антраг. Одна из этих соперниц приготовляет другой атаку, но кто будет побежден? Я! И надо мной будут смеяться, на что бы я ни решился против одной и против другой». Замет во время этой сцены разговаривал со своими соседями, не переставая наблюдать за королем. Но этот надзор флорентийца был достоин подобного мастера. Его ловкий, гибкий взгляд умел встречаться с Генрихом только в хорошие минуты. Тот, не менее искусный, смотрел на всех и занимался всем, отыскивая на каждом лице признак, который подтвердил бы его подозрение. — Ужин длился долго для бедного короля, мучившегося таким образом; он не узнал ничего и стал держаться своей мысли. Записку ему прислала та или другая из двух соперниц. Может быть, она не имела никакой цены, может быть, она значила так много, чтобы заслуживать разъяснения. Но Генрих так хорошо чувствовал стесненность своего положения, если он сделает решительный шаг, что решился оставаться в совершенной неподвижности. Однако его плодовитый ум, раздражительный, когда дело шло о препятствиях, не позволял ему оставлять без результата подобное уведомление. По крайней мере, Генрих обязан был собственно для себя разузнать главную часть тайны. Два средства, естественно, представлялись. Навестить герцогиню, как он обещал, никто этому не удивится. Навестить Анриэтту, каждый будет об этом говорить, поднимется шум, огласка. Габриэль никогда не простит ему этого, да и какая польза выйдет из этого визита? Разве можно найти у женщины того, кого она хочет спрятать, когда приличия, достоинство запрещают спрашивать и растворять двери? Нет, визит не принесет никакого результата. Притом, эта записка, низкий донос, не докажет ничего. Сколько раз Габриэль и сама Анриэтта были оклеветаны? Не бывает ли во дворце всегда какая-нибудь скрытая змея, которая шипит, когда не может укусить? Доносчик и на этот раз солгал. Однако, если он не солгал, что делать? Надо признаться, что обсуждение такой щекотливой проблемы было нелегко среди разговора за ужином. Но король был не новичок. Он часто вел переговоры более сложные, а при короле Карле IX и при королеве Екатерине Медичи можно было выучиться в хорошей школе. Генрих придумал средство за десертом. Он вспомнил, что комнаты Антрагов были назначены Берингеном в конце коридора, доходившего до комнат герцогини. Эта предосторожность благоразумного Берингена позволяла королю, в случае надобности, встретиться с кем-нибудь в этом коридоре, не удивив никого. Коридор был огромный, темный и пустой, потому что в каждой комнате была особая лестница. Генрих, отличный тактик, подумал, что из этого места надзор будет удобный, верный и не компрометирует никого, только нужно было найти надзирателя. Выбор был нелегок. В ожидании вдохновения, Генрих решился не делать огласки, даже не ходить к Габриэль, как он мог бы это сделать не выдав себя, потому что он объявил о своем посещении до чтения записки и потому что это посещение оправдывалось нездоровьем герцогини. Он решился также не говорить об Анриэтте, сделать вид, будто забыл о ней; эта решительная нейтральность собьет с толку шпионов, если они находились за столом и захотели бы наблюдать за действием записки. Генрих, обрадовавшись, что спас таким образом свое достоинство и той женщины, на которой он хотел жениться, даже новой любовницы, устремил все свои способности на выбор поверенного. Вышли из-за стола, и уже опираясь на руку Крильона, король хотел рассказать свое недоумение и поручить исполнение своего плана этому верному другу, но он подумал, что поручение это было ниже такого человека и требовало больше гибкости, чем рыцарства. Крильон был бы слишком мужествен и мало хитер; в настоящем обстоятельстве нужно было присутствие духа, решительное сердце и крепкая рука, и все это в человеке неизвестном. Глаза короля остановились тогда на Понти, который на этот раз, навытяжку и с блестящими глазами, стоял на своем посту, когда король проходил по галерее, возвращаясь в свою комнату. Встретившись глазами с Понти, Генрих угадал, что он нашел нужного ему человека, и остановился. Обратившись к присутствующим, он сказал: — Мы будем играть, господа. Оставим спать больных дам, которым нужно отдохновение. Я это говорю для вас, граф Овернский; пожелайте от меня вашей матери и вашей сестре спокойной ночи. Прощайте, граф д’Антраг. Я говорю это также и нашей возлюбленной герцогине, которая уезжает завтра рано утром говеть в Париж; не так ли, Замет? — В котором часу, государь? — Вечером она будет у тебя. — Итак, я уеду сегодня же, государь, все приготовить, чтобы герцогиня не слишком жаловалась на мое смиренное гостеприимство. — Поезжай. Приготовляйте денежки, господа, я намерен вас обыграть сегодня, — прибавил король с улыбкой более меланхолической, чем насмешливой, потому что невольно подумал о пословице, приписывающей счастье игроку несчастному в любви. — А! вот мой гвардеец проснулся, — прибавил Генрих, пропуская присутствующих, — продолжайте идти, господа, я должен утешить этого бедного гвардейца в сделанной им ошибке. Ступайте, я вас догоню. Он подошел к Понти. Оба стояли одни среди галереи, паж вдали держал свечи. Никто не мог слышать. Король начал тихо говорить на ухо гвардейцу, умные глаза которого обнаружили более преданности, нежели удивления. — Ты понял? — спросил король. — Совершенно. — Ты думаешь, что можешь успеть? — Ручаюсь. — Бдительный, как кошка, немой, как рыба? — Точно так, государь. — Но если тебе станут сопротивляться, если от тебя ускользнут, ты, кажется, не очень силен? — Пусть на это не полагаются, я сегодня не в духе. — Будь осторожен. Вот ключ, необходимый для тебя. Ступай. Я не лягу, пока ты не отдашь мне отчет. Король вложил ключ в руку Понти и пошел играть в свой кабинет.
Глава 76 ЛЮБОВЬ
Грациенна провела Эсперанса в комнату, обитую фиолетовым штофом с большими цветами. Мебель была эбеновая или из слоновой кости, а некоторая из чеканного серебра, как было в моде в Италии в ту эпоху, когда искусство не считало унизительным способствовать к пользе жизни. Уголья горели в камине из красного мрамора, поддерживаемого белыми кариатидами. Золотая лампа спускалась с потолка на трех длинных цепях из того же металла. Это был подарок Карла Пятого Франциску Первому. Две чудные картины Рафаэля и Леонардо да Винчи, образцовые произведения, стоившие вдвое дороже золотой лампы, сияли в своих рамках со спокойной и благородной свежестью бессмертия. Эсперанс бросил рассеянный взгляд на эти чудеса. Он смотрел на портьеру, из-под которой должна была явиться Габриэль. Грациенна ударила в колокол и поспешно ушла. Скоро шум быстрых шагов заставил задрожать душу молодого человека, зашумела толстая материя, и портьера приподнялась. Габриэль подбежала, бледная от радости, а на ее глазах, на ее кротких глазах сверкали слезы, как жемчужины. Она раскрыла объятия, призывая Эсперанса, и долго прижимала его к сердцу, и ни он, ни она не имели ни силы, ни охоты произнести ни одного слова, Однако она взяла за руку своего друга и растроганными глазами смотрела на опустошения, которые столько горестей запечатлели на этой безукоризненной красоте. Он улыбался и упивался счастьем смотреть на нее. Она первая прервала это очаровательное молчание. — Прежде всего, — сказала она, — не беспокойтесь. Это место, самое опасное по наружности, на самом деле самое безопасное, потому что только сюда наши шпионы не могут пробраться. Над нами комната Грациенны. В моих комнатах нет слуг, которые думают, что я в постели, и ужинают. Я могу опасаться только посещения короля, но он сам ужинает и о каждом его шаге мне скажет Грациенна за четверть часа до того, как кто-нибудь может прийти сюда. Если король придет сюда после ужина, как он велел сказать через Берингена, вы успеете десять раз пройти к Грациенне по лестнице из моей спальной. — Притом, — отвечал Эсперанс, сжимая руки Габриэль, — король ужинает долго после охоты, и меня, вероятно, уже не будет у вас, когда он кончит. — Это все равно, — перебила Габриэль. — Я должна сказать вам так много, что минуты, как бы продолжительны они ни были, все-таки покажутся нам слишком коротки. — Ничто не может сравниться с важностью того, что я должен сообщить вам, моя Габриэль. Если бы вы не назначили мне свидания вчера, я сегодня утром попросил бы у вас аудиенции. — Стало быть, я имела причину думать, что вы не уехали бы, не увидевшись со мной. Это было бы преступлением. — Я не хочу лгать. Может быть, я совершил бы это преступление, если бы не важность известий, дошедших до меня. Габриэль, ваши враги торжествуют, они уже не угрожают, они приготовляются нанести решительный удар. — Какие враги? какое торжество? какие угрозы? какие удары? — сказала Габриэль с лихорадочной веселостью, от которой обдало холодом сердце Эсперанса. — Хотя мои известия очень неопределенны, они тем не менее должны объяснить вам опасности, ожидающие вас. Я признаюсь, что не могу ничего определить в точности, но по этому самому допускаю все подозрения, все опасения. — Послушайте, — перебила герцогиня, садясь и привлекая возле себя на диван молодого человека, задрожавшего от этой ласковой фамильярности, на которую Габриэль никогда не была так расточительна, — вы ничего не знаете, говорите вы, вы не можете ничего определить; ну а я знаю всё и расскажу вам подробно все это неопределимое, что так сильно вас волнует. Я дрожала, что вы не придете, вы так осторожны, так деликатны, вы не король, не рыцарь, а под одним из ваших прекрасных розовых ногтей скрывается больше чести и вежливости, чем во всем венчанном рыцарстве вселенной. Слушайте же. Эсперанс выразил, что слушает всей душой. — Враг, пугающий вас, — сказала Габриэль, обернувшись к нему и смотря прямо ему в глаза, — этот страшный враг — Анриэтта д’Антраг; она угрожает моей будущности, не правда ли? Она имеет виды на короля, она идет к цели большими шагами — вот что вы хотели мне сказать? — Да… и не пренебрегайте этим, герцогиня! Да, она достигает цели! — Она достигла, — сказала Габриэль, презрительно улыбаясь. — Три ночи тому назад король удостоил ее посещением, а она удостоила его своим милостивым расположением. Вы дрожите, взгляните на меня. Я смеюсь. Да, все произошло самым честным образом. Один хорошо купил, другая хорошо продала. Что может быть лучше в делах? Король заплатил сто тысяч экю и обещанием жениться за жестокую добродетель красавицы Антраг. Смейтесь же, друг мой, смейтесь же! Эсперанс побледнел от гнева. — Я видела, как Сюлли отсчитывал деньги, — продолжала Габриэль, — меня спрятали за окном напротив; я доставила себе это удовольствие. Министр собрал сумму крупной монетой, и чтобы затронуть короля, вздумал покрыть весь пол этими деньгами. Король, призванный министром, чтобы дать квитанцию, пришел, и тот указал ему на пол, усыпанный деньгами. — Какое дорогое удовольствие! — прошептал Генрих. — Да, он это сказал. О! как ни страдала бы брошенная женщина, она слишком счастлива, вспоминая в подобную минуту, что она не продала себя. — Габриэль, — сказал Эсперанс, — деньги не значат ничего, но вы мне не говорите об этом обещании жениться, однако это главное. — К чему? Что нам за дело до этого? — Но другие права возле ваших… — Полноте! О моих ли правах теперь идет дело? Неужели вы полагаете, что я дорожу тем, чего может добиваться мадемуазель д’Антраг? — Но ваш сын? — Довольно об этом, Эсперанс, прошу вас. — Габриэль, я, любя вас более жизни, не хочу приносить себя в жертву, для того чтобы дать восторжествовать Анриэтте д’Антраг, когда мне стоит сказать слово, чтобы погубить ее. Не сердитесь на эту негодную женщину, моя Габриэль, вы делаете ей слишком много чести. Она падет постыдно, как нечистый червь, осмелившийся подняться до цветка и который срывает ветер и раздавят ногой; одно слово, сказанное королю, три строчки, показанные его величеству, и королевское звание Анриэтты д’Антраг исчезнет прежде, чем начнется; шаг труден, опасен, может быть, я сделаю его завтра. — Точно вы стараетесь меня утешить, Эсперанс, — сказала Габриэль тоном оскорбленного достоинства. — Неужели вы уважаете меня так мало, что думаете, будто я сержусь? Говорить с королем! Оспаривать у Анриэтты д’Антраг брачное обещание! Нападать на нее, чтобы поддержать меня! О, это сделала бы Анриэтта д’Антраг, но я… Деньги свои она заработала, обещание купила, оставим ей все это, мой Эсперанс, и вместо того, чтобы думать о моих погибших почестях, о моей разбитой короне, вместо того чтобы выставлять мне способы, остающиеся у вас, для того чтобы сохранить мне королевство, вместо того, чтобы осквернять себе усы и губы, говоря о всех этих грязных интригах, поговорим, мой благородный друг, о нас, о наших верных клятвах, о наших испытаниях, так храбро перенесенных, отдохнем от всех этих гнусностей, сжав наши честные руки, упиваясь нашими нежными, чистосердечными улыбками. Мало того, чтобы улыбаться, мой Эсперанс, будем смеяться над нашей нелепой совестливостью, над нашей глупой деликатностью. Да, пока ты меня любил и уезжал со слезами, чтобы оставить меня чистой и безукоризненной королю, супругу, между тем как из уважения к данному слову, к признательности, к дружбе — словом, ко всему, что честно и благородно, я позволяла тебе умирать, сама умирая от любви, эти люди, которым мы оба жертвовали нашим сердцем и нашей кровью, составляли в гнусности жадный торг презренным телом и нарушенной клятвой. Одна продавала свою особу, другой — свою подпись. А ты — безумец, устремлялся в бездну пламени, чтобы избавить короля от подозрения; ты принимал изгнание и смерть, чтобы сделать законным моего сына, которого этот король одним росчерком пера объявил навсегда незаконнорожденным. Если я умру сегодня, завтра Анриэтта д’Антраг потребует моего наследства и ты будешь принужден называть ее твоей королевой. Право, будем смеяться, милое сокровище моего сердца, и пусть наше презрение сожжет даже воспоминание об этих ничтожных бедствиях, как этот поцелуй, вырвавшийся из души моей, истребит в нас глупость героизма, ложную честь великодушия. Изумленный Эсперанс смотрел на Габриэль. Он никогда не подозревал, чтобы она была так горда и пылка; она обняла его, ласкала глазами, дыханием, губами. — Друг, — шептал он вне себя, чувствуя, что его увлекает эта непреодолимая сила, — друг, берегитесь! Если все, что вы сказали, внушено справедливым гневом, если этот бред любви только негодование, если этот огонь, которым вы меня сжигаете, огонь гнева, берегитесь! Он угаснет слишком скоро; завтра вы будете упрекать меня в моей слабости. О Габриэль! позвольте мне умереть, обожая вас. Завтра, может быть, умру, проклиная вас. — Эсперанс! — вскричала она экзальтированно, что тотчас придало ее красоте характер сверхъестественного величия. — Эсперанс! я твой гений счастья, я награда всей твоей жизни; разве ты не видишь этого, разве не понимаешь? Я боролась с тобой в добродетели, в жестокости даже, я измучила твое сердце, с которым, если уж Господь послал мне его, должна бы была, несмотря ни на что, слить мое сердце. Я поступила низко, я употребила во зло твою любовь, вместо того чтобы предаться тебе как невольница! Разве ты из мрамора, о мой возлюбленный! Как эти древние боги юности и гения, на которых ты походишь? Наши слезы, наши вздохи, наши жертвы, наши страдания разве ты считаешь за ничто, что цена за них кажется тебе незаслуженной? Ну а я тебе скажу, что ты меня не любишь, Эсперанс, я скажу тебе, что ты меня оскорбляешь. Да, пока я слушала тебя молча, низко преклоняясь перед твоими геройскими расчетами, которые приносят пользу только мне — да, до сих пор я не была достойна твоей любви, но теперь я не хочу, чтобы говорила королева, теперь я заставлю молчать даже мать, словом — пришла очередь любовницы. Прости мне, о! Прости, что я думала хоть одну минуту, что долг предписывал мне затоптать ногами такую преданность, как твоя! А когда я раскрываю тебе объятия, когда говорю тебе: Эсперанс, я страстно тебя люблю! Эсперанс, я тебя обожаю! Эсперанс, ты огонь моих зол, источник моей жизни, я не чувствую в себе ничего не принадлежащего тебе, и так как ты не хочешь посвятить мне свою жизнь, так как ты говоришь о смерти, дай мне, по крайней мере, право умереть с тобой! Он хотел прошептать несколько слов, признательную молитву к Богу, позволившему, чтобы подобное счастье досталось бедным смертным существам, но отказ или молитву она затушила своим поцелуем, своими слезами. Он чувствовал, что облако скрыло от него землю. В самом деле, в эти слишком краткие минуты эти две души улетели на небо. — Да благословит тебя Бог! — сказал Эсперанс. — Твое сердце стоит моего; да, ты гений счастья! — Увы! к чему не переселились они совсем на небо? Почему оба должны были спуститься на землю? Что такое большая пыльная дорога, для того кто возвращается из звездного рая? Эсперанс это понял, и эта горькая мысль заставила склониться его голову. Уже задумчивый, безмолвный, он сожалел. Габриэль, столько же блистательная, столько же веселая, сколько он был грустен, обняла его с чистосердечной улыбкой и сказала: — О! зачем тебе огорчаться? зачем даже думать? Неужели ты думаешь о маркизе де Лианкур, о герцогине де Бофор? К чему? Здесь только Габриэль, твоя жена. — Моя жена? — вскричал он с упоением. — Ты не предполагаешь, — прибавила она с небесной улыбкой, — чтобы я могла быть теперь чем-нибудь другим. Всякий другой брак сделался невозможен. Я счастлива, я свободна! Эсперанс, целый свет принадлежит нам! Грациенна стукнула в соседней комнате. Это был условленный сигнал, если она имеет сообщить что-нибудь своей госпоже. Обнявшиеся любовники стали прислушиваться. Известие о нашествии врагов не заставило бы их задрожать в эту минуту. — Король вышел из-за стола, — сказала Грациенна, — но он идет не сюда, а в свой кабинет играть с гостями. Все спокойно. — Слава богу! мы можем докончить нашу беседу, — вскричала Габриэль, — этот вечер наш, не правда ли, друг? На горизонте нет туч. Для наших сердец существуют только лучи и лазурь. Как мы счастливы! — Тише! Голос твой как будто оскорбляет эти своды. Однако, я чувствую, слушая тебя, неизъяснимую радость, которая следует за осуществлением мечты. Я мечтал о тебе сейчас, и теперь я тобой обладаю. — И навсегда. Ты не станешь больше спорить? — Я умру. Потерять тебя, когда я тебя не знал, было уже свыше моих сил, потерять тебя теперь невозможно! Не бойся ничего; я не стану уже говорить тебе о долге, о чести, я не стану уже жертвовать тобой. Ты мое достояние, я стану защищать его против всех! — Вот что следовало сказать мне в Буживале, Эсперанс! Сколько счастливых дней потеряли мы! — Нас ждут другие, более чистые, лучшие, заслуженные, неоспоримые. Король освободил тебя своей изменой. Подумай, Габриэль, что ты не можешь жить при этом проклятом дворе, где тысячи козней расставлены под твоими обожаемыми стопами. — Не правда ли? — Знаем ли мы, можем ли мы только подозревать, что эти демоны замыслили для твоей погибели? Надо иметь их душу, чтобы угадать их ум. Я приехал с испугом предупредить тебя, и теперь дрожу, ничто не успокаивает меня. Я не знаю, как мог жить с этим страхом. Один поцелуй, Габриэль, один поцелуй, чтобы доказать мне, что эти чудовища не сделали из тебя уже призрак. — Да, Эсперанс, — сказала Габриэль с упоительной улыбкой, — и я также боюсь. Не стану скрывать от тебя: твоя мысль поддерживала меня, сверх того у меня была моя мысль. Что-то повторяло мне, что чем более ты удалялся, тем более наше свидание было ближе. Это справедливо до такой степени, что я видела без ужаса, почти с удовольствием приготовления к твоему отъезду. Я говорила себе, что я призову тебя вовремя, ты видишь, что я была права. Но этого счастья не надо лишаться, и если мы соединились, то не будем расставаться более. Эсперанс, эти злодеи убьют меня, если ты меня не увезешь. — Скажи, когда? как? говори, я готов! — Я все приготовила со своей стороны. Инстинкт заменил мне политику. Я условилась с королем провести неделю в Париже у Замета. — У Замета? Не делай этого! — вскричал Эсперанс, бледнея. — Это гнездо ехидн, не езди туда!.. — Я это знаю так же, как и ты; да, я знаю, что Замет за одно с Антрагами, но Замет живет возле тебя, это соседство заставило меня забыть весь страх. Чувствовать тебя возле себя — может заставить меня пройти через пожар; ты подал мне пример. — Не езди к Замету, умоляю тебя! — сказал Эсперанс, думая с трепетом о зловещем предсказании итальянки. — Я обещала быть у него завтра и завтра утром уеду отсюда. — Ты обещала? — спросил Эсперанс с криком отчаяния. — О да, но Габриэль может уничтожить то, что решила герцогиня; есть у тебя какой-нибудь план? — У меня будет тысяча, только бы ты не ездила к Замету. — Ты знаешь что-нибудь? — спросила Габриэль с легким трепетом в голосе. — Я ничего не знаю, но уверен, что если ты туда поедешь, то умрешь. Она с трепетом прижалась к груди молодого человека. — О, умереть! — прошептала она. — Теперь? Нет, я не хочу умереть! — Как ты намерена сделать эту поездку из Фонтенебло в Париж? с гвардейцами? — Нет, но шпионы будут тут, и король, пожалуй, захочет велеть проводить меня. Не надо надеяться на свободу до Парижа. Притом, я должна ехать по Сене в лодке, носилки будут ждать меня в Берси. — Постарайся промедлить, чтобы приехать в Берси только при наступлении ночи. — Это легко. — Возьми с собой Грациенну. — Непременно. — Как только носилки сделают шагов двести, вели остановиться под каким-нибудь предлогом, и между тем как Грациенна займет кучера и слуг, выскользни из носилок; я буду тут с хорошими лошадьми. — Очень хорошо. Грациенна будет продолжать путь и приедет одна к Замету. — И скажет там, что ты отправилась сделать визит в городе. — К моей тетке де Сурди, например. — Да, что ты воротишься несколько поздно. Между тем мы уедем. У меня есть две лошади, способные сделать двенадцать лье за один раз. Но… ваш сын? — О! Я об этом думала, — печально сказала Габриэль. — Мне хотелось бы взять его с собой. Но имею ли я право отнять его у отца? Король любит этого ребенка. Оба потупили голову, вздох вырвался из груди обоих. — Конечно, я делаю преступление, оставляя моего сына, — прошептала Габриэль. — Вы предпочтете быть убитой, оставаясь при дворе, Габриэль; вы думаете о вашем сыне и уже забываете меня! — Я сделаю преступление, если это нужно, но не низость, — прошептала герцогиня, пожимая руку Эсперанса, — я принадлежу вам; я должна была размыслить прежде чем вручать вам мою судьбу… Теперь слишком поздно! Если король справедлив, он скоро возвратит мне моего сына. — Будьте спокойны, Габриэль; Анриэтта д’Антраг позаботится возвратить его вам. Итак, не надо колебаться; все ли решено? — Все. — Завтра вечером мы будем соединены или разлучены навсегда, потому что, предупреждаю вас, если нас остановят, я стану защищаться, а защищаться против короля значит вдвое подвергаться смерти. — Мы будем защищаться, Эсперанс, — спокойно сказала герцогиня, — лучше пасть вместе, чем томиться отдельно в тюрьме. — Если так, — возразил Эсперанс, тронутый этой твердостью, — ничто не удерживает нас более, и мы преодолеем все препятствия. Ночи еще длинны. Мы приедем в Диеши прежде, чем вздумают послать за нами погоню, потому что, для того чтобы нас догнать, король должен дать приказания через шесть часов, последующих за нашим отъездом, а он узнает о нашем отъезде, может быть, через двадцать часов спустя. Мы будем уже вне Франции. — Да услышит вас Бог! — Бог видит чистоту моего сердца, знает борьбу с этой любовью, знает непоколебимую преданность моей любви. — Богу известно, Эсперанс, что вы мое единственное честолюбие и мое единственное счастье. — Он слышит клятву, которую я произношу перед ним, — вскричал Эсперанс, — любить вас, пока мое сердце бьется, пока капля крови останется в моих жилах! — Вам также вся моя жизнь, — сказала Габриэль, обвивая руками шею Эсперанса, на которого она посмотрела так страстно, что слезы выступили у них обоих на глазах и, смешавшись, потекли по щекам в торжественном поцелуе, которым они запечатлели эту клятву. — Как мы печальны, — продолжал молодой человек, — для людей, уверенных в своем счастье, это неблагодарность. — От печали, вы думаете, так переполнено мое сердце? Иногда плачут от радости; но есть верное средство осушить мои слезы: не уходи, сожми меня в твоих объятиях. — Завтра ничто нам не помешает, но сегодня, прости, что я тебе напоминаю, Габриэль, становится поздно. — Вы уходите? — вскричала она тоном, который впечатлил Эсперанса. — Это необходимо. — Нет! нет! останьтесь! Только здесь, возле меня вы в безопасности. — Король может прийти после игры; не подвергайте меня необходимости спрятаться, Габриэль. Притом, как могу я потерять всю эту ночь, которую могу так полезно употребить на приготовления для вечного соединения? — О боже мой, — сказала Габриэль задумчиво и уныло, — я не подумала, что вам надо уйти, какая темная ночь! — Она лучше меня скроет. — Ветер ревет. — Он заглушит мои шаги. Успокойтесь, моя возлюбленная, прикажите Грациенне выпустить меня. — О нет! — вскричала молодая девушка, которая слышала. — Я могла быть вам полезна, когда вы пришли, а теперь могу возбудить подозрение, провожая вас. Возьмите ключ у герцогини, он отворяет все двери в замке; только у короля есть такой. С этим ключом вам не нужен никто, а это очень важно в такой час, потому что становится поздно. — Слышите, Габриэль, становится поздно; до завтра! — Навсегда, Эсперанс! — остановила она его. — Проведите эту ночь в комнате Грациенны, я оставлю ее у себя, а завтра на рассвете… — Герцогиня, отпустите его, — сказала Грациенна, — днем его узнают. — Пусть же он уходит… Но таким образом… о! таким образом не узнают ли его, несмотря на темноту? Оставьте вашу шляпу, Эсперанс, ваш вышитый плащ и наденьте плащ моего управляющего. Те, которые вас увидят, примут вас за моего человека. — Он и без того ваш, — улыбаясь, заметила Грациенна, которую за эту остроту расцеловали оба любовника. Она подала молодому человеку плащ, назначенный Габриэль, и переодетого таким образом Эсперанса узнать было нельзя. Предлогов больше не было, надо было уходить. Из сердца любовницы вырвались болезненные рыдания, которые поцелуи любовника не могли заглушить и которые безотчетно взволновали его самого. — До завтра, — повторяла Габриэль, — до завтра! По какой дороге пойдет он, Грациенна? — Просто по коридору, а потом по лестнице. Чем проще он выйдет, тем лучше. — Притом, какое препятствие могу я встретить, я не вижу никакого. — И я также, — сказала Грациенна. — И я, — прибавила Габриэль. — Ну так прощай! до завтра! Они обменялись в тысячный раз прощальным поцелуем. Грациенна, упрямая, как верная собака, тащила Эсперанса к двери за плащ. Вдруг Габриэль бросилась и опять его схватила. — Ты меня любишь, не правда ли? — Должен ли я тебе отвечать? Она приложилась губами к уху Эсперанса и прибавила: — Скажи мне, что ты уходишь счастливый. — До того счастливый, что мне кажется, нечего больше ожидать от этой жизни. — Меня! меня! мою любовь! — Ради бога, сударь, уходите! — сказала Грациенна, употребляя силу, чтобы разлучить его с Габриэль, которая без чувств упала к ней на руки. Коридор был темен, холодная тишина царствовала повсюду. Эсперанс, взяв с собой ключ, сам отпер дверь и, прислушавшись, приглядевшись, переступил за порог твердыми шагами и быстро пошел впотьмах.Глава 77 ОРАНЖЕРЕЯ
Уже Эсперанс прошел коридор и начал спускаться с лестницы, когда позади него послышались шаги. Он обернулся и, несмотря на темноту, увидел человеческую фигуру, отделявшуюся от амбразуры окна, в которое пробивался не свет — в эту ночь никакого света не было — а темнота, менее мрачная. Эсперанс остановился, чтобы посмотреть: тень шла с его стороны, потом также остановилась. Встревожившись, он стал поспешно спускаться и скоро позади него раздались шаги на первых ступенях лестницы. «Неужели за мной следят?» — подумал он с некоторым волнением. Но так как он прекрасно знал Фонтенебло и его бесконечные извороты, он льстил себя надеждой, что сбил с пути шпиона, если это был шпион. Он удвоил шаги и пошел по другому коридору, который вел к павильону оранжереи. Быстрые шаги, звучно раздавшиеся на каменных плитах коридора, показали ему, что за ним следуют. Эсперанс подумал, что надо поскорее добраться до двери и, если осмелятся следовать за ним и в эту дверь, то покончить с врагом. Он ускорил шаги, направляясь к двери, которая из оранжереи вела на двор Принцев. Но там его зоркий глаз приметил, что дверь заперта, а за дверью отряд солдат, сидевших во дворе и старавшихся развести огонь, который гас от дождя, несмотря на все их усилия. «Зачем тут пост? — подумал он. — Обыкновенно тут не бывает солдат. Но мне не нужно проходить по этому двору. Сначала выйдем отсюда». В самом деле оставаться тут было бы опасно. Он мог очутиться между воротами и шпионом, шаги которого приближались к нему. Он спрятался в угол, удерживая дыхание, чтобы пропустить вперед себя и рассмотреть своего преследователя. Он не обманулся в ожидании: этот человек прибежал и опередил его на три шага. Эсперансу хотелось броситься на него и задушить, но он мог вскрикнуть, солдаты могли услыхать. Подобная огласка в доме короля могла безвозвратно погубить все драгоценные интересы, которые Эсперанс лучше защитит ловким побегом. При слабом свете головней, разгоравшихся во дворе, Эсперанс смутно увидал фигуру шпиона; это была тень худощавая, с нетвердой походкой и уже запыхавшаяся, как собака, гнавшаяся за оленем. Эсперанс выбежал из своего угла и с новой мыслью воротился назад, между тем как шпион, прислонившись к двери, спрашивал себя, куда девалась его добыча. Подняться на лестницу и отворить ключом, данным ему Грациенной, дверь левого коридора было для молодого человека делом одной минуты. Он очутился таким образом в коридоре, заваленном брусьями, из которого впоследствии Генрих Четвертый сделал знаменитую Оленью галерею. Эсперанс запер за собой дверь и начал смеяться, думая об обманутом ожидании шпиона. Он знал, что в конце этого коридора есть лестница, которая ведет на Овальный двор, и ничто не тревожило его более. Он перевел дух. Вдруг шелест руки у двери заставил его вздрогнуть. Нет никакого сомнения, шпион увидал эту дверь и хочет войти, но как он отворит? Замок заскрипел, дверь отворилась, и Эсперанс почувствовал холодный пот на лбу. У шпиона также есть ключ. Этот ключ, отворяющий все двери в Фонтенебло, как сказала Габриэль, имеет один король, стало быть, это король преследует Эсперанса, или, по крайней мере, посланец короля. Стало быть, он имеет подозрения, стало быть, тайна Габриэль в опасности. Сопротивляться невозможно, надо бежать и бежать так быстро, чтобы опередить врага на десять минут. Эсперанс бросился бежать и исчез в другую дверь. Но на Овальном дворе тоже стояли часовые. Нет более сомнения, караул везде, это заговор. Человек, посланный за Эсперансом, играет роль охотника, оцепляющего лес, охотника, который гонит добычу в сети или под пулю охотников. Ничто не показывает, однако, чтобы король велел убить Эсперанса, одного человека было бы недостаточно, но очевидно, его хотят захватить, узнать и уличить… Габриэль погибнет. При этой мысли кровь закипела в жилах ее любовника. Что делать? Бегая по коридорам и отпирая двери, которые шпион может отворять так же, как и он, Эсперанс не рискует ли встретиться лицом к лицу со вторым шпионом и быть принужденным тогда к битве, которую он хочет избежать во что бы то ни стало, чтобы не увеличить беды? Всегда будет время дойти до этого, если положение сделается отчаянным. Он бежит, ищет выхода, и ему уже удалось, шпион далек, шума нет, шагов его уже не слышно. Эсперанс, воротившись в темный и заваленный коридор, в будущую Оленью галерею, остановился, чтоб перевести дух, на том самом месте, где через пятьдесят восемь лет должен был пасть Мональдески. Вдруг шумное дыхание, или, лучше сказать, хрипение, раздалось в его ушах; нет никакого сомнения, этот человек тут, возле Эсперанса, он его ищет в темноте. Каким образом мог он добежать без шума? Он приближается, а шагов его не слышно, только чувствуется его дыхание. «Понимаю, — подумал Эсперанс, — шпион, выведенный из терпения тем, что меня предупреждает шум его шагов, идет босиком, он слышал мои шаги, а я и не подозревал его. Вот опасный плут. Прочь сострадание, или я погиб!» Рука протягивается ощупью к молодому человеку, задрожавшему при этом прикосновении. Он отвечал на это таким сильным ударом кулака, что враг повалился наземь. Эсперанс отпер окно и выскочил в сад оранжереи. Глухой шум, смешанный с проклятиями, показал ему, что шпион также выпрыгнул из окна. Мало того, Эсперанс увидал, как сверкнуло в темноте лезвие шпаги. Удар кулаком произвел свое действие: от оборонительного шпион перешел к наступательному положению. Погоня перейдет в борьбу. Незнакомец, истомленный, запыхавшийся, стыдясь своей усталости и полученного удара, решился прибегнуть к оружию. В этих случаях беда тому, кто даст себя предупредить. Победа почти всегда остается за тем, кто ударит первый. Тотчас же Эсперанс придумал новый план. В двадцати шагах от него возвышается стена, покрытая виноградными лозами, с которых Габриэль часто присылала ему знаменитый виноград. Он перелезет через эту стену, доберется до окон здания, выходящего на двор с фонтанами, и там он будет спасен. Но прежде всего надо прекратить погоню врага; этот странный сыщик разгорячается все более и более. Он бранится страшным образом каждый раз, когда его босая нога скользит по земле, вымоченной дождем. Если Эсперанс поскользнется, он погибнет от шпаги, которая жаждет крови. Притом он также кипит гневом. Настала минута положить конец. Направляясь бегом к стене, он снял свой плащ, потом на повороте аллеи прыгнул в сторону. Преследовавший его человек обогнал его; проворный любовник Габриэль бросился, как тигр, очертя голову на шпиона, который старался отыскать его в темноте, опрокинул его, закутал плащом и сломал под складками сырого плаща его шпагу. Эсперанс докончил свою победу несколькими ударами, которые вырвали у врага глухой рев, и когда он уверился, что тот закутан в суконном плаще, Эсперанс бросился бежать по направлению к стене и, схватившись за шпалеры, начал отважно подниматься. Но тот, с пеной от бешенства и боли, разорвал плащ обломком шпаги, приподнялся на коленях, ослепленный, в опьянении и, слыша, как шпалеры затрещали под тяжестью Эсперанса, хотел броситься в ту сторону, но упал, запутавшись в грязные лоскутья плаща. Его враг скоро достанет до закраины окна и ускользнет от него. — Остановись или я тебя убью! — хочет закричать побежденный, но голос его замер в иссохшем горле, бешенство его дошло до безумия, он взвел курок пистолета и выстрелил в стену, осветившуюся от блеска выстрела. Беглец остановился, руки его опустились и он упал, наклонив голову, как птица с ветви, и враг его устремился к нему, бормоча со свирепой радостью: — Увижу я наконец тебя в лицо! Он приподнял тело и приложил свои жадные глаза к лицу раненого. Но вдруг глаза его помутились, волосы стали дыбом, руки оледенели в теплой крови. — Понти! — прошептал голос слабый, как дыхание. — Как, Понти, это ты меня убил? — Эсперанс! — вскричал несчастный гвардеец, отступая в безумном испуге. — Ты меня убил!.. — О, боже мой! О, боже мой!.. я убил Эсперанса! О, боже мой!.. я убил моего друга!.. О, боже мой!.. И Понти на коленях рвал на себе волосы и ломал руки, произнося невнятные крики. — Так ты меня не узнал, Понти? — Он спрашивает! Он меня обвиняет, что я хотел его убить, когда я его любил больше моей жизни! — Но тебе приказал король… — Преследовать и узнать человека, который выходил… — От герцогини? — Или от Анриэтты д’Антраг, он наверняка не знал. — Как? Он сомневался… Стало быть, не все погибло! — вскричал Эсперанс, приподнимаясь с радостью. — Можно еще спасти Габриэль. Ничто не обвиняет ее, кроме моего присутствия; помоги мне, Понти, я должен уйти отсюда; я не хочу, чтобы меня нашли; скажи, что ты меня не догнал, что я убежал, что ты меня не узнал. Помоги мне, у меня достанет сил перелезть через стену… Ах! не дотрагивайся до меня… я слишком страдаю… я не могу сделать шага. Понти, расстегни… дай течь моей крови, я задыхаюсь… я умираю. — Не говори этого, или я вырву себе сердце у твоих ног. — Ну, убей меня, возьми меня на плечи, брось мое тело в землю… Похорони меня живого, но чтобы меня не нашли, чтобы не обвинили Габриэль. Спаси ее, спаси ее, Понти! — Мой бедный друг! И Понти с рыданиями рвал свое тело. — Зачем он пощадил меня сейчас, а не убил как собаку? — Не плачь, не кричи, а то придут. Скажи мне лучше, что надо сделать, для того чтобы герцогиня не была обезглавлена, чтобы этот демон Анриэтта не восторжествовала? Придумай же… видишь ли, она смеется в этой темноте. О, зачем ты в меня попал, Понти? Я убежал бы и все было бы спасено. Несчастный, вне себя от страдания и от отчаяния, протягивал к Понти умоляющие руки. Тот бросался на колени, вскакивал, молился Богу, колотил себя в лоб, потом опять судорожно принимался останавливать благородную кровь, которая все текла. Вдруг под его дрожащие пальцы попался золотой медальон, первая причина их ссоры, их разлуки, раны Эсперанса. — Ах! — вскричал он, вдохновленный лучом божественного света. — Ты меня просишь спасти честь Габриэль? — Да, Понти. — И отмстить этому чудовищу Анриэтте д’Антраг? — О, если бы ты мог! — Я за это ручаюсь, я клянусь. Эсперанс с упоением сложил руки. — В этом медальоне, — продолжал Понти, — есть письмо Анриэтты? — Да. — О свидании, которое она назначала тебе когда-то без числа, без личного указания? — Да, да! — Ну, друг, это письмо написано вчера, тебя призвала в Фонтенебло Анриэтта д’Антраг, ты от нее выходил сейчас, когда я тебя нагнал. Габриэль нечего бояться, наша смертельная неприятельница попалась в свои сети, она обезглавлена! — А, понимаю! — вскричал Эсперанс. — Благодарю, Понти, мой брат, мой друг… Понти, я тебя люблю, Понти, я тебя благословляю! И схватив гвардейца обеими руками, он покрывал его поцелуями и слезами. — Слышишь ли? — сказал Понти, приподнимаясь, чтобы прислушаться. — Да, голоса, шаги… пистолетный выстрел разбудил… Идут… откроем скорее медальон. — Надави пружину. — Мои пальцы не имеют уже силы; как мало нужно времени, чтобы уничтожить человека! Помоги мне прижать… медальон открылся, брось его… Хорошо. Теперь я могу умереть. — Ты не умрешь… Помогите!.. — Ш-ш-ш!.. я чувствую твою пулю слишком близко к моему сердцу. Через пять минут меня уже не будет, но Габриэль спасена, Господь милосерд… Его прервал голос, говоривший из глубины сада: — Здесь стреляли? где вы? Человек с фонарем нерешительно направлялся к тому месту, где происходила эта сцена. — Сюлли! — шепнул Понти на ухо своему другу. — Что делать? — Отвечай ему, — сказал Эсперанс, — потому что я ослабеваю. — Здесь! — отвечал Понти задыхающимся голосом. — Здесь, государь! — сказал Сюлли, освещая темную аллею для человека, который шел позади него. — Король!.. Это хорошо, — прошептал Эсперанс. — Ну, Понти, настала минута, отомсти за нас! — Чтобы никто не входил в сад, — сказал король своему гвардейскому капитану, который провожал его. Король поспешно подошел к группе, держа в руках обнаженную шпагу. Понти стоял бледный, запачканный грязью, кровью; на него страшно было смотреть. — Это ты? — сказал Генрих, смутившись, увидев его. — Ну? — Человек лежит здесь, государь. — Ранен?.. Ты его ранил?.. — Он бежал от меня, а ваше величество приказали мне узнать его. — Кто это? — Это мой друг, мой брат, — пролепетал гвардеец, едва сдерживая рыдания, которые раздирали ему горло. Трепещущий король наклонился к земле. Сюлли освещал бледные черты умирающего. — Эсперанс! — вскричал испуганный Генрих. — Это был он! Но откуда он шел? — От мадемуазельд’Антраг, которая назначила ему свидание, — сказал Понти голосом звучным, как песня лебедя. Эсперанс приподнялся, в глазах его сверкала радость. — Свидание… с нею? — прошептал король. — Прочтите, государь, — отвечал Понти, подавая ему письмо, которое он взял из рук Эсперанса. Сюлли поднял фонарь, король прочел мрачным голосом:«Милый Эсперанс, ты знаешь, где меня найти; ты не забыл ни день, ни час, назначенные твоей Анриэттой, которая тебя любит. Приезжай. Будь благоразумен».
Во время этого чтения оживленный Эсперанс следил за каждым движением короля с жадной радостью. Генрих подал письмо Сюлли, который не мог удержаться от презрительной улыбки. — Это от нее; вы имели право быть у нее, даже в моем доме, Эсперанс, — сказал наконец король, глубоко взволнованный. — Я прошу у вас прощения… Но вам нужна помощь; мы без шума, без огласки перенесем вас… — Это бесполезно, государь, — сказал Эсперанс, — я предпочитаю умереть здесь. Вдруг послышался громкий голос, кричавший при входе в оранжерею: — Я вам говорю, что стреляли в этой стороне. Где король?.. Не в короля ли стреляли? Я хочу пройти, чтобы видеть короля, черт побери! — Крильон!.. Не ходи, это ничего, — сказал Генрих, покраснев от стыда и бросившись навстречу кавалеру. — Это ничего, мой достойный друг. И он старался удалить его. — Слава богу! Вы здравы и невредимы, — с радостью сказал старый воин, несколько удивленный, что король подвигал его назад. — Но, государь, стреляли! Я вижу, что кто-то лежит вон там… кто это? — Это я, я, Эсперанс, — сказал раненый голосом таким трогательным, что король закрыл лицо обеими руками, а Крильон побледнел и, вскрикнув, бросился в ту сторону. — Ты? ранен!.. О, боже мой! бедное дитя!.. так близко к сердцу… Но кто же твой убийца? — Я! — вскричал Понти, упав на колени с порывом отчаяния, силу которого ничто не может изобразить, — я его не узнал, я, повинуясь королю, убил моего брата. — Не верь этому, Крильон, — сказал король с сожалением и стыдом, — я хотел только, чтобы его задержали. Сюлли показал письмо Анриэтты кавалеру; Крильон понял все: таинственное уведомление, прочтенное за столом, ревность короля, благородную преданность Эсперанса. Его великодушное негодование, как горький поток, вырвалось из сердца. — Ах, государь, это вы? — возразил он, медленно приподнимаясь. — Это вы из-за ваших женских ссор приказываете другу убивать друга! — Крильон!.. — Как сделал бы палач Карла Девятого, — продолжал кавалер, который был страшен от горести и гнева. — Крильон, вы меня оскорбляете в ту минуту, когда я оправдываюсь. Но ничто не могло остановить этого бешеного потока. — Разве я столько раз проливал для вас мою кровь, — продолжал кавалер голосом, в котором звучала горесть, — столько раз жертвовал моею жизнью, для того чтобы меня вознаграждали, убивая тех, кого я люблю… — Крильон ли это говорит… Крильон ли жертвует своим королем чужому? — Чужой мой Эсперанс! — Кто же он? — Мой сын! При этих словах, вырванных неизмеримой горестью у кавалера, король зашатался и, прислонившись к плечу Сюлли, не мог удержаться от слез. Понти грянулся оземь, как пораженный громом, а Эсперанс с улыбкой приподнял свои окоченевшие руки и обнял кавалера, который наклонился к нему, задыхаясь от горя. — О, — сказал он ему, — какое несчастье умирать в ту минуту, когда находишь такого отца! Но я еще слишком счастлив, я успею вас обнять. Отец, — сказал он, борясь со смертью, которая уже покрывала его своей мрачной тенью, — отец… этот поцелуй… для вас. Он приложился губами к лицу кавалера, потом, сделав усилие, чтобы приблизиться к его уху, шепнул: — А этот для Габриэль… И он испустил последний вздох; его полуоткрытые губы не докончили этого великого поцелуя. Крильон остался пораженный с минуту, не понимая ничего, но когда почувствовал, что это благородное сердце уже не бьется, что эти кроткие глаза уже сомкнулись навсегда, он встал с хриплым вздохом, как воин, вырывающий из своей груди убийственную сталь. Понти без сил и без голоса лежал у ног своего друга. — Солдат короля, ты повиновался королю, ты не виноват, — сказал ему Крильон. — Я тебе прощаю за Эсперанса и за себя. Помоги мне унести отсюда тело моего сына. Сюлли приблизился, король сделал шаг, Крильон удалил их обоих решительным движением руки. — Довольно Понти и меня, — сказал он. — Крильон, — сказал Генрих задыхающимся голосом, — если б ты знал, что происходит в моем сердце… — Я понимаю, государь, у вас сердце не злое, но беспорядочная жизнь ведет к преступлению. Ваша жизнь, исполненная любовных интриг, беспрерывно уклоняется от прямого пути. Да! Смерть этого молодого человека — преступление неизгладимое; я обязан был отдать вам мой кровь, но не кровь Эсперанса, я простил Понти, но вам не прощу никогда. Все кончено между нами. — Кавалер, — сказал Сюлли, — пощадите нашего короля. — Ваш король уже не мой. Прощайте! Крильон взял на руки безжизненное тело; с обнаженной головой, с седыми волосами, развевающимися от ветра, пошел он твердыми шагами к двери оранжереи. Понти пошел за ним, тихо произнося молитву и целуя светло-русые локоны Эсперанса. — Вот, бедная мать, как я сберег твоего сына! — шептал герой, смотря на небо умоляющими глазами, как бы заклиная грозную тень. — Но теперь он с тобой, твой Эсперанс, а я один… В тишине слышались только продолжительные рыдания и в темноте глубокой ночи не виднелось уже ничего.
Глава 78 ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ
На другой день приметили, что король встал прежде всех. Когда дежурный камердинер вошел к нему, он сидел у окна и меланхолически смотрел на первые лучи рассвета, освещавшие стены оранжереи. Он поспешно обернулся при шуме шагов. Прежде всего он спросил о Габриэль, потом осведомился, все ли в порядке в Фонтенебло. Главный камердинер отвечал с удивлением, что все находится в совершенном порядке. — Я слышал шум, — прибавил король, не показывая своего лица, которое, может быть, обнаружило бы весь интерес, с каким он ждал ответа. — Ваше величество, может быть, слышали стук кареты? — сказал камердинер. — Когда? — Сейчас. Граф д’Антраг уехал в Париж со своими дамами. Король вздрогнул. Совпадение этого внезапного отъезда и ночного происшествия было довольно значительно. — А! они уехали? — сказал он. — Счастливый путь. Читая на лице камердинера, что он ничего не знал о том, что случилось вчера, король несколько оправился и прошел до комнаты с озабоченностью, которая показалась очень подозрительной любопытному слуге. Вдруг король вышел и направился к комнатам, занимаемым герцогиней; он спешил. Он не хотел, чтобы какие-нибудь известия дошли до Габриэль прежде, чем он сам будет там. К его величайшему удивлению, герцогиня уже встала; женщины ее торопливо приготовлялись к отъезду. Генрих сделал знак рукой, чтобы остановить горничных, бежавших предупредить Габриэль, и пошел в ее спальную, где, он знал, найдет ее одну. Габриэль в дорожное платье стояла, опираясь на перила балкона. Свежая и прекрасная, смотря с улыбкой на небо, на лес, на воду, она как будто обнимала взглядом все великолепие природы, наслаждалась мысленно всеми сладостями жизни. Она обернулась, услышав шаги, и когда увидала короля, лицо ее тотчас помрачилось. Этот оттенок не укрылся от Генриха, но он этого ждал. Обманутый насчет ночной катастрофы, которую он успел скрыть от всех, он твердо верил, что Эсперанс приезжал в Фонтенебло для Анриэтты д’Антраг и что записка, положенная под его салфетку, была от Габриэль, и ожидал ее гнева при этой новой неверности. Действительно, если Габриэль предупредила короля насчет Анриэтты, стало быть, она сделала это из ревности, следовательно, она знала о связи Генриха с этой женщиной и, вероятно, она скажет ему упрек — ему, который осмелился ее подозревать. Чувствуя себя виновным в этом подозрении, виновным в трагическом результате этой интриги, король пришел к Габриэль в расположении духа, которое понять легко. Он хотел прежде всего не допустить герцогиню узнать, что Фонтенебло был облит кровью; он хотел постараться уничтожить в ней горесть нового разочарования. Его раздирали угрызения, печаль, усилившаяся любовь. Он принес Габриэль более, чем выражение этой любви — безмолвное вознаграждение. Облако, покрывшее на минуту лицо герцогини, подтвердило мысли Генриха. Она дулась, она страдала. Он подошел к ней с распростертыми объятиями, с умоляющим взором. Но как Габриэль была далека от того, чтобы понять его! Он думал, что должен просить прощения. Она также чувствовала себя виновной и просила прощения в глубине своего сердца. Ее проступок загладил все проступки короля. Генрих был довольно наказан, теряя такое сердце. Какие несчастья ожидали его еще? Он лишался навсегда той, которая, хотя без любви, была, однако, самым верным другом его во всем королевстве. Когда она увидела его, она с раскаянием опустила голову. А между тем ее ожидало столько счастья! Ее свежая молодость должна была снова зацвести на солнце горячей страсти; она оставляла за собой измену, угрозы смерти, гибель и отчаяние и должна была найти свободу в любви, то есть самый великолепный, самый неизмеримый горизонт, какой только может обнять душа, пока она не вознесется на небо. Король, напротив, будет брошен, оскорблен, наказан до несправедливости. Он уже в пожилых летах; ни одна женщина не будет любить его без честолюбия, ни одна уже не вспомнит, что и он был молод, что любовь его не всегда была смешна; ни одна, наконец, не сумеет достойно заплатить за драгоценные качества этого великого сердца, помраченного солнца, пламя которого досталось Габриэль и в котором другие увидят только пятна. Вот что сделало печальными ее глаза, вот что заставило затрепетать в ней остаток нежности, и когда король протянул к ней руки, она отвернулась со стыдом, раскаянием, готовая расплакаться, если бы слезы не изменили ее тайне, если бы она не думала, что отныне принадлежит Эсперансу. А об этом обожаемом любовнике, сделавшемся тенью, об этом счастье, которое уже улетело навсегда, она не имела ни малейшего подозрения, ни малейшего беспокойства, ни малейшего предчувствия! Генрих сел возле нее, взял ее за руки и долго смотрел на нее глазами, полными любви. — Вы уже готовы ехать, — сказал он, — моя Габриэль? Моя Габриэль! Это слово в устах того, кому она не принадлежала более, заставило вздрогнуть герцогиню. — Как вы спешите оставить меня! — прибавил король. — А я так давно вас не видал. — В самом деле, — прошептала Габриэль, пораженная мыслью, что целый век прошел в такое небольшое количество часов. Она покраснела и отвернулась, как бы отдавая приказание Грациенне. — Хорошо ли вы спали? Прошло ли ваше нездоровье? — продолжал Генрих. — Я не хотел мешать вам заснуть, но моим первым движением вчера, когда я сел за стол, было навестить вас. Он посмотрел на нее так пристально, что она смутилась еще больше. — Да, Габриэль, с тех пор как я развернул мою салфетку вчера, до нынешнего утра, я не переставал думать о вас. Герцогиня сделала усилие, которое король заметил, но он приписал его ее желанию не выказать своей вчерашней ревности. Он сам не желал вступать в объяснения и молчал. — Я прекрасно спала всю ночь, — поспешила сказать Габриэль, — и готова сделать это маленькое путешествие. Подвигаемся ли мы, Грациенна? — Да, герцогиня, — отвечала Грациенна, которая ходила взад и вперед, чтобы помочь, если понадобится, своей госпоже. — Здравствуй, Грациенна! — закричал король, всегда заботившийся поддерживать дружеские отношения с такой важной помощницей. — Как ты свежа! Тебя не надо спрашивать, хорошо ли ты спала. — Однако, государь, я просыпалась. Разве ночью охотятся в вашем парке? Король вздрогнул. — Кто охотится? — спросила Габриэль без малейшего подозрения. — Не знаю, только стреляли; многие слышали так же, как и я; там… — Это нечаянно выстрелило ружье в гвардейском карауле! — с живостью вскричал король. Он чувствовал, что бледнеет. К счастью, Габриэль не смотрела на него. — Я хотел, — продолжал Генрих, — навестить вас утром, чтобы не лишиться вашего милого присутствия. Знаете ли, Габриэль, что известия из Рима превосходны, что не пройдет и года, как вас будут называть королевой. — В самом деле… — сказала она с принужденной улыбкой, — сколько милостей для меня! — Разве вы их не заслуживаете?.. Есть ли на свете какое-нибудь звание, которое Габриэль не умела бы возвысить своим достоинством? — Государь… — Вы самая прекрасная, самая лучшая и самая чистая из всех женщин на свете. — Государь, ради бога… — перебила она, вставая, с лицом, пылавшим от беспокойства и смущения. — Что с вами? Еще скромна сверх всего. — Я не знаю, государь, почему ваше величество сегодня осыпаете меня такими похвалами. — Это потому, что я лишаюсь вас, Габриэль, и цену того, что имеешь, чувствуешь вполне только в ту минуту, когда расстаешься с ним. Эти естественные и простые слова так согласовались с расположением духа герцогини, что краска на лице ее сменилась страшной бледностью. Потом, видя на лице короля только невинное выражение сожаления о временной разлуке с нею, она сохранила для себя всю тяжесть этого намека. Он поразил ее и она залилась слезами. — Вы плачете, моя милая душа? — сказал Генрих. — Неужели оттого, что расстаетесь со мной?.. неужели я имею это счастье? — Да, государь, я плачу оттого, что расстаюсь с вами, — отвечала она, побежденная горестью, слишком долго сдерживаемой. — Не уезжайте, когда так, — возразил Генрих, столько же взволнованный, как и она. — Невозможно, государь, невозможно. — Это правда. Будьте рассудительнее меня. Ваш вид внушает мне так много любви, что мои обязанности, как католического государя, не могут не пострадать в святые дни этой недели. Поезжайте публично поклоняться Богу в Париже. Покажите народу его королеву. А я буду благодарить Провидение за то, что оно поместило вас возле меня. Габриэль задыхалась от нетерпения и горести при каждом из этих нежных слов, старавшихся ее утешить. — Но, — продолжал Генрих, — мы недолго будем терпеть такую муку, не правда ли? Вы в городе, а я в деревне, за пятнадцать лье друг от друга! Какое расстояние! Я завидую участи Замета, у которого будете вы. Ждите меня в воскресенье. — Да, государь, — пролепетала герцогиня вне себя, потому что она чувствовала, как силы ее оставляют, как сердце ее замирает. — Меня будет утешать за вас, — докончил король, — наш маленький Сезар. Вы мне оставляете его, не правда ли, это милое дитя нашей любви? Это было последним ударом. Габриэль зашаталась. Она хотела отвечать, но из груди ее вырвались рыдания, и если бы не Грациенна, которая схватила ее и пожала ей руку с красноречивыми взглядами, нет никакого сомнения, что она высказала бы свою тайну в этой пытке, которая была свыше сил честной души и материнского сердца. Но Грациенна поспешила доложить, что лошади готовы. Король обнял Габриэль, называя ее самыми сладостными именами и делая ей самые трогательные обещания. Мало-помалу, привлеченные этим трогательным движением, подошли слуги и придворные и смотрели не без волнения на этих двух супругов, обнявшихся со слезами и представлявших совершеннейший образец нежности. Скоро кормилица принесла ребенка. — Сезар… наш сын Сезар… — шептала Габриэль, — государь, благодарю вас, что вы заговорили со мной о нем. Я поручаю его вам. О государь! помните мои слова, я поручаю вам моего сына. Говоря таким образом, она покрывала поцелуями невинное существо, которое улыбалось. — Но зачем, — сказал Генрих с лицом, омоченным слезами, — говорите вы мне все это? — Поклянитесь, что вы будете вспоминать обо мне, любезный государь, без гнева, поклянитесь, что вы будете любить нашего сына, что бы ни случилось… — Габриэль, вы пронзаете мне сердце. — Надо расстаться… Государь, убедите себя, что у вас никогда не было более искреннего друга. — Я этому верю, я это знаю! — Простите меня, если я оскорбила вас. — Это вы должны простить меня, душа моя! — вскричал Генрих, предаваясь всей горечи своих сожалений. — Прощайте, государь… это слово раздирает душу. — Скажите до свидания, Габриэль. — Прощайте! — повторила герцогиня, бросая вокруг взгляд, потускневший от слез, и видя, что все плачут, потому что она для всех была доброй госпожой, она сказала со своей упоительной улыбкой. — Благодарю. Унеси моего сына, Грациенна, а то я не буду иметь сил уехать. Чтобы оторваться от этой сцены, она пошла к лестнице. Карета была готова. Блестящая толпа окружала ее, чтобы проводить до того места, где герцогиня должна была сесть в лодку. Король не оставлял Габриэль, он выбрал своих лучших друзей, чтобы ехать вместе с нею в лодке. Это была обширная, плоская лодка с богатой обивкой. Герцогиня села в лодку вместе с дамами и придворными, которые наперерыв добивались чести проводить ее. Генрих послал с герцогиней гвардейского капитана и приказал, чтобы ей оказывали в Париже королевские почести. Каждый понял, что в этой лодке сидит французская королева, окруженная двором. Габриэль испугалась неволи и искала средства остаться свободной, как она обещала Эсперансу. В ту минуту, когда она прощалась с королем, опять начались слезы, и расставанью не было бы конца, если бы Сюлли не удержал короля, пока лодка медленно удалялась от берега. Начались сигналы, повторяемые прощания. Мало-помалу от Генриха до Габриэль расстояние увеличивалось; помутившиеся глаза короля уже не так ясно различали Габриэль в группе и при первом повороте берега все исчезло. Они звали еще друг друга и слышали свои прощания, повторяемые эхом, но не могли уже видеть друг друга и не должны были видеться никогда. Путешествие совершалось в тихую погоду. Часть придворных вышла в Мелене. Габриэль надавала всем распоряжений или приказаний, которые удерживали их вдали от нее. Осталось немного. Габриэль намеревалась освободиться от них у парижской заставы. Разговор шел обо всем, что может развлечь легкомысленную женщину, польстить гордой душе. Несколько раз, от избытка любезности, некоторые льстецы ласкали слух Габриэль словами «ваше величество». Но становясь более серьезной по мере приближения к цели, даже мрачнее, как будто она уже вступила в смертельную атмосферу ожидавшего ее несчастья, Габриэль рассеянно слушала придворных болтунов или не слушала их вовсе. Она думала, какой страшный шум сделает завтра ее исчезновение. Она дрожала при мысли об огорчении короля. Она отказалась бы от своего намерения, нарушила бы свою клятву, если б не неизреченное утешение всем пожертвовать для Эсперанса. Когда лодка подъехала к Вилльневу, герцогиня захотела предложить закуску дамам, и в веселой суматохе, последовавшей за этим, Габриэль толкнула какая-то странная фигура, нечто вроде нищенствующего монаха под капюшоном, который сунул ей свернутую бумагу, прося милостыни, и ушел так искусно, что она не видела его больше. Габриэль при каждом выезде получала много прошений. Это было для нее не новость. Она развернула бумагу и прочла:«Не ездите к Замету, особенно же не кушайте там ничего, даже персика, если вам предложат».
Во всякую другую минуту это ужасное предуведомление заставило бы ее побледнеть. Но какая ей была нужда до Замета и его отравленных фруктов! Габриэль ехала не к Замету, через два часа она должна была сойтись с Эсперансом. Те, которые наблюдали за нею после этого чтения, видели, что она спокойно улыбнулась и разорвала бумагу на тысячу кусков, которые бросила один за другим в воду. «Этот достойный Замет, — подумала она, — приготовляет мне не братское гостеприимство. Итак, рассчитывают на персик, чтобы сделать действительным брачное обещание, данное Анриэтте д’Антраг. В апреле персики редки, и Замет поиздержался для меня. Как я буду смеяться над этим завтра, когда буду есть вместе с Эсперансом чудные нормандийские яблоки!» Начиная с Шаратона Габриэль стала смотреть на берег. Она думала, что человек нетерпеливый мог побежать вперед, чтобы скорее увидать лодку. С этой минуты она забыла все, что оставила позади себя; видеть Эсперанса, угадывать его в вечерней тени — вот что сделалось единственной целью ее взглядов, ее мыслей, всей ее души. Не примечая его, она подумала, что он столько же осторожен, сколько и нежен. Он обещал находиться в Берси и там только он будет ждать. Еще полчаса. Настала ночь. Габриэль высадила еще несколько особ из своей свиты недалеко от Берси и просила других продолжать ехать в лодке по Сене до Лувра. Она говорила, что хотела избегнуть шума, народного любопытства. Между тем как толпа будет бежать по берегу, надеясь видеть, как она выйдет на Школьной набережной, она поедет в носилках спокойно переночевать у Замета. В чем не может убедить королева придворных? Все были убеждены: Габриэль вышла из лодки в Берси с Грациенной, с неизбежным ла Варенном и Бассомпьерром. Носилки ждали, но Эсперанс так хорошо был спрятан с лошадьми, что она не могла его приметить. Она послала вперед обоих мужчин с приказанием одному уведомить Замета об ее приезде и ждать ее там, а другого поблагодарила за его приятное общество. Оба всадника уехали. Габриэль осталась одна в носилках с Грациенной. Это была решительная минута. Ее лошади ехали по берегу Сены, по темной и решительно пустой набережной. Эсперанса все не видать, но без сомнения, он подстерегает за какой-нибудь стеной. Первые шаги, которые Габриэль сделает одна по дороге, отослав носилки, как они условились. Габриэль приказала Грациенне ехать к Замету и сказать, что ее госпожа заехала к мадам де Сурди и приедет поздно в улицу Ледигьер. Грациенна уехала в носилках, Габриэль осталась одна на месте, назначенном Эсперансом. Около нее не было ни Эсперанса, ни лошадей. Тысячи предположений, раздирающих сердце во время тоски ожидания, зародились в голове Габриэль с головокружительной быстротой горячечного бреда. Проходят десять минут, четверть часа, полчаса, наконец час… О, это целая вечность мучений! Не ошиблась ли она вчера? Не имела ли она видение? Точно ли Эсперанс обещал этот отъезд, — сказал о лошадях, назвал эту пустынную набережную?.. Быть одной, брошенной, в темноте, это королеве, жизнь которой утекает капля за каплей в нескончаемой тоске трех тысяч шестисот секунд… Она не может больше устоять от желания выйти из этого ужасного сомнения. Если Эсперанс ошибся часом, если он опоздал… О, опоздать, когда дело идет о таких интересах! Но все возможно, и Габриэль, по крайней мере, это узнает. Она побежала к Эсперансу; улица Серизе близехонько. Двери открыты, это оттого, что лошади сейчас выедут. Нет. Двор темен, пуст. Ни света, ни души, ни малейшего шума в доме. Габриэль чувствует, как сердце ее бьется от беспокойства. Тем более причины идти вперед. Она идет. На крыльце опять никого. Все двери открыты. А! В глубине обширных коридоров виден свет. Габриэль повинуется только своему великому мужеству. Она идет. Перед нею комната, закрытая портьерами, сквозь которые пробивается луч света; тем лучше, она может видеть, не будучи видимой, что происходит в этой комнате. Там два человека. Что они делают? Один сидит, опустив голову на обе руки, другой стоит на коленях; возле них горят большие восковые свечи. Но что это белое между этими двумя людьми? Габриэль приподнимает портьеру, чтобы лучше видеть. При этом легком шуме сидящий человек поднимает голову; это Крильон; человек, стоящий на коленях, встает; это Понти. Оба вскрикивают, приметив герцогиню. Между ними лежит Эсперанс весь в белом, Эсперанс, прекрасный как ангел смерти; разве он спит, такой бледный? Растревоженная лань лежит у его ног и смотрит на него. Габриэль позвала из глубины своего сердца: — Эсперанс! Он не отвечает на этот голос. Он мертв… Она подняла руки и упала без чувств на тело своего любовника. Но она пришла в себя, чаша еще не была опорожнена до конца. Она выслушала рассказ об этой горестной истории. Крильон, держа ее на руках, благодарил ее за то, что она так благородно пришла проститься с тем, кто ее так страстно любил. — Его последним словом, — прибавил кавалер, — было ваше имя, поцелуй, который он вам посылал, остался на его губах. Габриэль с живостью встала. Она подошла к Эсперансу, такая же бледная, такая же холодная, как он, и приложилась своими трепещущими губами к его нечувствительным устам. Точно будто она старалась придать ему жизнь или взять от него смерть. Крильон испугался, чтобы она не умерла, оставив в этом доме роковую честь, которую Эсперанс спас ценой своей крови. — Пойдемте, дочь моя, — сказал он кротко, — подумайте о вас, подумайте о короле, подумайте о вашем сыне. Вы не можете оставаться здесь, Эсперанс этого не хочет… Куда вас отвести? Габриэль долго смотрела на своего любовника и не отвечала ничего. В своем высоком безумии она все думала, что он приподнимется и улыбнется. Она позвала его еще раз и наконец сказала спокойным голосом: — Эсперанс умер; ведите меня к Замету.
Глава 79 МРАК
У капиталиста была толпа. Все друзья короля — это был весь Париж — стеклись в отеле Ледигьер ухаживать за будущей королевой, чтобы угодить Генриху. Прекрасное весеннее солнце сияло на зелень в богатом саду Замета; тридцать человек гостей ходили по аллеям, окаймленным буквицами и фиалками, и все беспрестанно спрашивали о герцогине, окна которой еще были заперты. Замет, принужденный, растревоженный, — отвечал посторонним, что герцогиня, устав от вчерашнего путешествия, еще отдыхает; коротким он признавался, что сон герцогини казался ему несколько продолжителен, потому что скоро пробьет двенадцать часов, а со вчерашнего вечера Габриэль, которая сейчас легла по приезде, еще не выходила, даже никого не звала. Только курьер, отправленный утром Грациенной, повез письмо герцогини в Безон к женевьевцам. Когда спрашивали Грациенну, она отвечала все одно: — Герцогиня спит, — и не выходила из передней своей госпожи. Замет время от времени переглядывался с Элеонорой; та ходила по саду с любопытными или волокитами, которые просили у нее одни предсказаний, другие — обещаний. — Точно ли герцогиня не больна? — робко спросил ла Варенн у Замета и у Бассомпьерра. Ла Варенн, не будучи орлом, умел часто летать в облаках, и с тех пор, как верил близкому царствованию Габриэль, весь превратился в зрение и слух для ее пользы. — Нездорова! — вскричал Замет с волнением. — По какой это причине, месье де ла Варенн? Почему ей сделаться больной, позвольте вас спросить? Сделайте мне удовольствие, объясните причину этого предположения. — Э, Замет! Как ты расхорохорился! — сказал Бассомпьерр. В самом деле, флорентиец весь был красный. — Я понимаю, что месье Замет заботится о том, что я говорю, — прибавил ла Варенн, — дело идет об его гостье… а это немалая ответственность! Если герцогиня сделается нездорова, я тотчас напишу королю. Мне приказано все писать его величеству о герцогине. — Но имеет ли она здесь всевозможные условия для здоровья? — перебил Замет. — Притом, мы ее еще не видали. Судите сами, месье де Бассомпьерр, герцогиня приехала вчера вечером одна под вуалью; она не хотела, чтобы я встречал ее у лодки. Приехав сюда, она совсем почти не говорила и ушла к себе так скоро, что я не знаю, поклонилась ли она мне. — Она устала, — сказал Бассомпьерр, — она не хотела видеть тебя у лодки, чтобы не привлечь толпу. Меня самого она послала спать. — Она простилась со мной, — возразил ла Варенн, — но под вуалью она показалась мне очень бледна. — Уверяю вас, что она вчера благоухала как роза, — сказал Бассомпьерр. — Смею надеяться, — продолжал Замет, — что герцогиня сегодня утром такова, какова была вчера, и будет завтра такова, как сегодня. Притом Грациенна ничего не сказала в опровержение этого; герцогиня спит — вот и все, и мы будем ее ждать. — Но наш обед пострадает! — вскричал Бассомпьерр. — Знаешь ли, Замет, что уже первый час, и из твоей кухни идет такой запах, как будто уж пора садиться за стол. Хороший будет у нас обед? — Если у вас такой вкус, как у герцогини, — отвечал Замет, — вы найдете кушанья превосходными. Признаюсь, я составил этот обед из всего, что нравится нашей будущей королеве. — Это была твоя обязанность. — И король будет вам благодарен, — сказал ла Варенн. — Притом можно любить то, что любит герцогиня, у нее такой прекрасный вкус! — Если б я умел писать стихи, — вскричал Бассомпьерр, — я сейчас бы их написал и бросил в комнату герцогини гравированными на золотом яйце; яйцо разбило бы стекло, спящая проснулась бы, и мы имели бы возможность пообедать. Эти слова были услышаны, схвачены на лету многими желудками, которые начинали находить продолжительным сон герцогини. — Я предлагаю, — говорил один, — устроить концерт из прекрасных голосов и веселых инструментов, пропеть любовные куплеты под балконом. — В Великий четверг любовные куплеты!.. — возразил Замет, все более и более смущаясь от промедления своей гостьи. По совету Элеоноры он хотел послать нового посла в молчаливые комнаты, когда явилась Грациенна, объявившая, что госпожа ее идет. — Пора. Я хотел уже писать королю, — сказал ла Варенн, махаясь шляпой. Лоб флорентийца прояснился. Элеонора сделалась менее рассеянна; все присутствующие, мужчины и женщины, столпились, чтобы занять лучшие места внизу лестницы. Лучшие места были те, которые позволяли получить первый поклон и первую улыбку герцогини. Женщины приготовлялись хорошенько рассмотреть наряд той, которая уже царствовала во Франции по своему тонкому вкусу, по своему великолепию, всегда изящному, и по своему воображению, которое придавало характер поэзии и искусства каждому из ее нарядов. Мужчины, хотя не все любили герцогиню, может быть, потому что она не всем позволяла это, однако охотно становились на ее дороге, чтобы восхищаться самой совершенной красотой, какой только Создатель наделил человеческое существо. Габриэль показалась на верху лестницы; она была в черном. Гагатовая вышивка сверкала на темной шелковой матери и возвышала прозрачную белизну ее рук и шеи. Она сходила медленно, как восковая статуя, оживленная тайным механизмом. Все в ней дышало величием, до того поразительным, красота ее была так строга, что шелест ее платья по ковру нагнал дрожь на тех, кто желал насладиться ее присутствием. Это была не женщина, вставшая с постели, а воскресшая королева, вышедшая из могилы. Лицо ее было розовое, глаза блестящие; но достаточно было одного взгляда для каждого, чтобы приметить лихорадочный блеск в ее странных взглядах и румяна, которыми Габриэль первый раз в жизни покрыла себе щеки. Обыкновенно свежесть крови и молодости бросала на эту бархатистую кожу довольно яркий румянец. К чему могли служить эти румяна? Была ли это прихоть? Никто не предполагал, чтобы они прикрывали смертельную бледность. Зачем она будет бледна, эта счастливейшая женщина, которая скоро вступит на трон! Замет подбежал и поцеловал у нее руку, между тем как она кланялась собранию. — О! герцогиня, — сказал он, — здесь уже начинали беспокоиться о вас, но я надеюсь, что вы здоровы. — Совершенно, — сказала Габриэль серьезным голосом. — Ведь я вам говорил, — вскричал Бассомпьерр, — герцогиня никогда не была так прекрасна! — Я никогда не видал более ослепительной красоты в ее вел… — Кончайте, кончайте, — сказал Замет с грубым смехом, стараясь казаться искренним, — то, что вы не смеете сказать сегодня, все скажут завтра. И все более или менее раболепно аплодировали комплиментам хозяина. — Угодно вам сесть? Точно будто вы устали, герцогиня, — прибавил Замет. Габриэль действительно шаталась. — Нет, будем ходить, — отвечала она, — ходить скоро. — Но… обед подан… — А! — сказала Габриэль, вдруг остановившись. — Обед? — Ждали только вас. — Зачем ждали меня? Сегодня день постный, я говею и не буду есть ничего, Замет. Эти слова, произнесенные таким образом, сделали на присутствующих неописуемое впечатление. Все посмотрели на герцогиню; черная одежда так шла к ее суровым словам. Но больше всех изумился флорентиец. Слова «я говею и не буду есть» поразили его. Он забылся до такой степени, что стал искать глазами Элеонору, которая, стоя на одной из ступеней, прислонившись к столбу лестницы, наблюдала с интересом или, лучше сказать, с пылким любопытством за всей этой сценой. — Что же удивительного, если постишься в такой день, как сегодня? — сказала Габриэль. — Король желает, чтобы я набожно исполняла обряды, предписываемые церковью всем католикам. Я повинуюсь королю. — О! я напишу об этой доброй мысли его величеству, — сказал ла Варенн. — Разве и мы также будем поститься? — пробормотал Бассомпьерр. — Зачем меня не предупредили об этом сегодня утром? Король должен был сказать мне об этом, посылая меня к герцогине. — Разумеется, — отвечала Габриэль, делая усилие над собой, — что я не навязываю своего примера никому. Я скажу более: если вы считаете себя обязанными подражать мне, вы сделаете мне большое неудовольствие. Прошу вас обедать, Замет, с вашими гостями. — Герцогиня, — пролепетал флорентиец, — без вас что же будет за праздник? — О! Сегодня не может быть праздника, Замет, по крайней мере, для меня. Я дала обещание, и если уж все вам говорит, чтобы извиниться перед этими дамами, которые на меня будут сердиться, что заставляю их голодать, я обещала папе поститься сегодня. — Взамен приятных известий, которые он прислал вам из Рима? — вскричал Бассомпьерр. — Именно; так как все вы не имеете никаких дел с папой, обедайте, обедайте хорошенько, я прошу об этом, я требую этого. И Габриэль докончила это приказание геройской улыбкой: Замет почувствовал, что Элеонора сзади дотронулась до него локтем. Не оборачиваясь, он отвечал ей пожатием, которое свидетельствовало об их взаимном беспокойстве. Габриэль не хотела обратить внимания на эти проделки. Она угадывала их. Ее душа парила слишком высоко, чтобы анализировать эту гнусную игру жалких страстей. — Ну! — сказала она тоном королевы. — Будут ли обедать? Или я должна уйти, если всех стесняю? Замет поклонился. Присутствующие, утешившись, наговорили приветствий и направились к столовой. — Но, герцогиня, — сказал Замет, в отчаянии от такого обстоятельства, которое разрушило все его планы, — если бы вы сделали нам честь, только сели за стол. — Если вы этого непременно хотите, я готова. А то я погуляю в саду, пока вы будете обедать с гостями. Приходите туда… я буду вас ждать. Замет знал толк в оттенках голоса; он видел, что это согласие было решительным отказом. — Все пропало, нам изменили, — шепнул он Элеоноре. — Нет еще, — отвечала итальянка. — Нужны вам мои услуги? — смиренно спросил ла Варенн герцогиню. — Нет, ла Варенн, обедайте вместе с другими. — Вы кажется печальны; угодно, чтобы я написал королю? — Королю! зачем? — вскричала герцогиня. — Обрадовать сердце его величества тем, что его королева скучает без него. — А! очень хорошо, напишите это королю, если хотите, друг мой. Говоря таким образом, Габриэль шла по саду и села, или, лучше сказать, упала на дерновую скамью возле оранжереи, повернув глаза к дому Эсперанса, кровля которого виднелась сквозь листья, еще довольно редкие. Оставшись одна, она сказала Грациенне голосом прерывистым: — Есть ответ из Безона? — Нет еще. — Посмотри, не приехал ли курьер. — Сейчас. — Как он заставляет меня ждать, как он заставляет меня страдать!.. — прошептала герцогиня. — Ах, брат Робер! я думала, что вы более мне преданы… сжальтесь над бедной женщиной, брат Робер. А ты, мой добрый друг, мой Эсперанс, — сказала она, смотря на его дом с горестным выражением. — Прости, что я так медлю. Если я еще не явилась на свидание, это не потому; что я боюсь, это не потому, чтобы моя душа не стремилась горячо к твоей. Ты этому веришь, не правда ли? Ты это видишь с неба, где ты меня ждешь с доверием. Но если б я согласилась обедать у Замета, может быть, я уже умерла бы, а теперь еще слишком рано. Прежде чем я отправлюсь в этот путь, я должна просить кое о чем брата Робера, который первый, может быть, угадал нашу любовь. Ты знаешь, чего я от него хочу, не правда ли, Эсперанс? На небе известно все. Будь терпелив. Как только я получу ответ от доброго брата, оранжереи Замета недалеко, я медлить не стану, будь спокоен. Грациенна подошла во время этих печальных слов. Габриэль не слыхала ее шагов и в порыве горести и нетерпения вскричала: — О, брат Робер, сократите мою агонию! — Что это? — спросила Грациенна, которую этот монолог испугал. — О какой агонии вы говорите? — Разве я произнесла это слово, Грациенна? — Но ради бога, милая госпожа моя, поплачьте немножко, ваши сухие глаза пугают меня. — Молчи… идут. Это был Замет, который, усадив своих гостей, прибежал показать герцогине, что он не пренебрегает ею. — Герцогиня, — сказал он, — постятся только до полудня, а теперь уже половина второго; берегитесь, чтобы не повредить вашему здоровью, король будет упрекать в этом вас и меня. — Вы думаете? — Я ручаюсь за это, — вскричал Замет с живостью, думая, что Габриэль поколебалась. — Согласитесь! — Пока нет, Замет, после… О! я попрошу у вас обедать, не беспокойтесь. Приготовления, которые вы сделали для меня, не будут напрасны. Он вздрогнул и побледнел. — Покажите мне ваши оранжереи, — сказала Габриэль, — говорят, они великолепны в нынешний год… особенно фрукты. — Винограду нет. — А персиков много? Замет помертвел. Габриэль вошла в оранжерею, он за ней. Она прямо подошла к персикам. — Что это, я вижу на дереве только один; разве вы уже сорвали все другие? — Нынешний год был только один, — пролепетал флорентиец. — Зато какой великолепный! Я никогда не видала такого персика… и если б не постилась, я могла бы съесть этот чудный персик! Пот выступил на лбу Замета. — Я уверена, что вы не отказали бы подарить его мне, — продолжала герцогиня, все улыбаясь, между тем как Замет вне себя начинал теряться. — Курьер! — вскричала Грациенна, которая побежала навстречу курьеру и взяла у него из рук ответ из Безона, зная, что ее госпожа с нетерпением его ждет. Габриэль с живостью взяла письмо и прочла. Ее очаровательные глаза сверкнули, устремившись на небо, в них блеснул свет освобождения. — Приятное известие? — спросил Замет, который оправился, видя, что Элеонора подсматривает в окно из-под широкого кактуса. — Превосходное. Это и приятное и благочестивое дело. Один друг назначил мне свидание в церкви Св. Антуана в вечерню. — Стало быть, через час? — Почти. — Свидание печальное. — Говорят, музыка чудесная. — Правда, что она несравненна. Весь Париж стремится туда, вы не найдете места. — Грациенна, пошли взять для меня одну из боковых капелл и вели подавать носилки. Замет смотрел на Габриэль и слушал ее с изумлением. Все ее поступки и слова после приезда были для него непонятны. Оба они были в оранжерее на зорких глазах невидимой Элеоноры. — Позвольте мне, герцогиня, — сказал он, — высказать вам, что я нахожу странным расположение вашего духа. — Даже капризным. Я сейчас не хотела ничего есть, не так ли? — А теперь вы соглашаетесь? — Да. — Я отдам приказания, чтобы вам подали обедать. Она остановила его. — Нет… здесь есть то, что мне нужно. Она протянула руку к персику. — Этот персик… — пролепетал Замет. — Он единственный. Во всей Франции не найдется подобного. Наверняка вы назначали его мне. Для чего, если вы ждали меня обедать, не сорвали вы его к столу? — Герцогиня, фрукты вам лучше нравятся на дереве. Габриэль сорвала персик, привязанный ниткой к ветке. Несколько минут она смотрела на него безмолвно. — Вы хорошо меня знаете, — сказала она, — вы знали, что я не устою от удовольствия сорвать его. Замет, это хитрость. Бьюсь об заклад, что если б я не подумала его сорвать, вы сами принесли бы его мне. — Почему вы говорите мне это, герцогиня? — спросил флорентиец, с которым сделалась дрожь. Габриэль разломила персик и холодно, не торопясь, не дрожа, съела половину. Молния промелькнула сквозь стекло, это был луч из глаз Элеоноры. — Хотите другую половину, Замет? — сказала герцогиня с ледяной иронией. — Право, герцогиня! — вскричал Замет, которого возмутившаяся совесть превратила в привидение. — Можно бы сказать, слушая вас… — Что можно бы сказать, Замет? — гордо перебила герцогиня. — Что этот персик был приготовлен для меня, что он отравлен?.. Что вы хотите, чтобы другая была французской королевой, и что Габриэль умрет?.. Что за беда, если Габриэль, вместо того чтобы жаловаться, прощает вам и благодарит вас! Посмотрите, никто не пошел за мной, я отдалила всех свидетелей, даже Грациенну! Я не хотела сесть за ваш стол; не бойтесь, вас подозревать не станут, и я не хочу погубить ни вас, ни ваших сообщников. Он зашатался и чуть не упал. — Я прошу у вас только одной услуги, последней, скажите мне только, долго ли я буду страдать? — прибавила Габриэль. — Герцогиня, герцогиня… пощадите несчастного… — Отвечайте — да или нет, я тороплюсь! Отвечайте, говорю я вам, имейте, по крайней мере, это мужество. Долго ли я буду страдать на этой земле? Он сложил руки, упал на колени и губы его, коснувшись платья этого ангела, прошептали: «Нет!» — Ты слышишь, мой Эсперанс! Замет, я вас благодарю и прощаю вам. Сказав эти слова, она вышла, оставив этого человека, раздираемого угрызениями, который кричал среди своих рыданий: — Это не я, это не я!.. Итальянка убежала, преследуемая голосом Бога. Габриэль прошла к своим носилкам. Хохот и веселые разговоры собеседников напрасно касались ее слуха, она слышала только один голос, снисходивший с неба. Все остальное принадлежит истории. Герцогиня слушала в отдельной капелле вечерню в церкви Святого Антоана. Там собралось много знати. Анриэтта д’Антраг приехала туда следить за действием яда на лице своей соперницы. Народ, видевший, как бледная Габриэль стояла на коленях и набожно молилась, благословлял ее и, без сомнения, молился также и за нее, кроткуюлюбовницу, которая никогда не делала зла и имела врагами только врагов короля. Заметили возле герцогини в темном углу церкви женевьевца, который долго говорил с нею и не раз во время этого разговора бил себя в грудь и клал земные поклоны в мрачном отчаянии. Без сомнения, она признавалась ему, как захотела умереть, несмотря на столько предуведомлений, которые спасли бы ее жизнь. Без сомнения, она признавалась ему в своих проступках и умоляла о прощении, в котором Господь никогда не отказывает умирающим. Что касается просьбы, которую она хотела ему сделать, она была очень трогательна и очень достойна великодушной души, расстававшейся с этим совершеннейшим телом. Когда монах слушал ее, суровое его лицо не раз было омочено слезами. Между тем как мрачная музыка раздавалась под сводами, между тем как серьезные голоса певцов разглашали в воздухе печальную музыку, Габриэль говорила монаху, стоящему на коленях возле нее: — Брат, может быть Господь не любит меня, может быть, моей смерти недостаточно, чтобы искупить мою жизнь, хотя я старалась, умирая, не делать ни шума, ни огласки. Может быть, я не попаду на небо, где уже находится мой Эсперанс, и где я не увижу его никогда. О, моя единственная надежда! Не позволяйте, чтобы я рассталась навсегда с ним, кого я буду любить и за могилой. Когда король меня забудет, когда все забудут дорогу к моей могиле, и даже мой сын не прочтет мое имя под густой травой, я останусь совсем одна. О, заклинаю вас, брат Робер, соедините меня с Эсперансом… смешайте пепел наших двух сердец… Она не кончила, с нею сделалась дрожь, ее унесли без чувств на носилках, к мадам де Сурди. «Я буду королевой», — подумала Анриэтта, видя, как Габриэль унесли почти мертвую. Замет не солгал: на другой день она уже не страдала. Ла Варенн уведомил короля в письме, что она больна и умерла. Надо отдать Генриху справедливость, король очень плакал.Глава 80 ЭПИЛОГ
Прошел год. Двор французский расцвел во всей своей красе. Никогда не видали такого великолепия, никогда придворные так не веселились. Этими замечательными улучшениями Франция была обязана Анриэтте д’Антраг, царице празднеств, любви, царице сердца Генриха Четвертого. Король, как пожилые любовники, которые думают помолодеть оттого, что сызнова стараются начать жизнь, порхая, словно мотылек, от наслаждения к наслаждению. Он громко хохотал и веселился, это было в моде при дворе с тех пор, как фавориткой его сделалась Анриэтта д’Антраг. Анриэтта была самая остроумная женщина во Франции. Ссорились, мирились, время скромности, таинственности, сердечного целомудрия прошли. Все эти люди, очевидно, старались закружить голову кому-нибудь или закружиться сами. В начале апреля 1600 года большая карета в сопровождении гвардейцев спокойно ехала в Париж из замка Сен-Жермен. В этой карете сидели король, Анриэтта д’Антраг, Мария Туше и Бассомпьерр. Бассомпьерр, молодой, не очень совестливый, совался везде, только бы посмеяться и попользоваться чем-нибудь. Мария Туше, нарумяненная, разряженная, сидела так прямо, что ее лоб касался верха кареты. Она любила воображать, что все прохожие принимали ее за ее дочь, и это очень ее радовало. Король не то веселый, не то принужденный, говорил ей любезности. Очевидно, он старался возбудить один разговор, чтобы отвлечь другой. В позе Анриэтты ошибиться было нельзя: она дулась. С некоторого времени Анриэтта заняла прежнее место. По милости ее хитрости и по слабости короля, дело завязалось опять, как будто и не развязывалось. Никогда Анриэтта не намекала на событие, жертвой которого сделалась ее соперница; правда, король, который, однако, мог бы многое сказать, о многом расспросить, ничего не говорил, не расспрашивал Анриэтту о свидании, назначенном в Фонтенебло, и в несчастье, последовавшем за тем. Из этой взаимной сдержанности вышло то, что Анриэтта и не предполагала возможности, чтобы король не смотрел на нее как на олицетворенную невинность. Из этого выходило то, что король принимал роль обыкновенного любовника, со всеми ее выгодами, то есть так выглядело с внешней стороны, но мысли и свое сердце он сохранил совершенно свободными. Антраги были убеждены, что никогда Генрих не был теснее опутан. Весь двор думал так, как они, и смеялся. Но Франция не смеялась. Когда видели, как Анриэтта д’Антраг насмехалась, дразнила, даже сердила этого короля, уважаемого всей Европой, все с ужасом говорили себе, что старик, подпавший под подобное иго, никогда не будет иметь сил сбросить его. Часто даже все Антраги, гордясь своим вступлением в королевскую домашнюю жизнь, лукаво спрашивали себя: как он нас прогонит, даже если бы хотел? Однако царствовать таким образом было недостаточно. Звание королевы значит все для честолюбивой женщины. Анриэтта думала об обещании, подписанном королем. Иногда Антраги даже удивлялись своей деликатности. Прошел год, а от короля не требовали исполнения подписанного обещания. Год! Самые строгие приличия удовольствовались бы тремя месяцами траура. В своих частых совещаниях отец, брат, мать и дочь подстрекали друг друга потребовать долг от должника. Анриэтта употребляла всю свою ловкость, чтобы разведать намерения короля. Ловкость не удалась. Она попробовала прямо приступить к делу. Однажды она рассказала королю, что в Европе ходили слухи о каком-то королевском браке. Король перебил ее. — Пусть ходят слухи, — сказал он и уехал на охоту. В другой раз Анриэтта жаловалась, что ее оскорбили какие-то бродяги, назвавшие ее любовницей короля. Она плакала от стыда. — Напрасно плачете, душа моя, — возразил Генрих и уехал в совет. Анриэтта тоже держала совет и сказала королю в одну из его добрых минут: — Я думаю, любезный государь, что у нас есть одно дельце, которое нужно устроить. Хотите, я пришлю к вам моего отца? Генрих согласился, очень смеялся над этим предложением, назвал Антрага любезным тестем и уехал делать смотр. Антраг сочинил речь и ждал аудиенции, но у Генриха никогда не находилось времени. Напрасно Анриэтта освежала его неблагодарную память, он никогда не вспоминал об этом дельце. Анриэтта сердилась, дулась. Генрих сначала этого не примечал, потом, так как эти ужимки мешали ему обедать с удовольствием, ему предложили ультиматум. Он сделался слеп и глух. Стали дуться больше прежнего. Тут-то и встречаемся мы с ними после целого года. Генрих, скучая, возвращался в Париж. Анриэтту и ее мать призывал туда важный интерес. Д’Антраг хотел принудить короля к объяснению, если не лично, то через третье лицо, и потребовал аудиенции у Сюлли, и чтобы лучше объяснить министру, в чем дело, должен был взять Анриэтту в Арсенал. Анриэтта, хотя дулась, однако старалась возбудить ревность в Генрихе. Она кокетничала с Бассомпьерром. Бедный король страдал, но был слишком умен, чтобы обнаружить это. Однако он боялся мстительной фаворитки, так что это путешествие в карете было нестерпимо для четырех путешественников. В Нельи король нашел ждавших его лошадей; он вышел из кареты и увел с собой Бассомпьерра, не объяснив причины, что довело гнев Анриэтты до крайней степени. Эта гроза тотчас разразилась, как обе дамы остались одни в карете. Мария Туше сравнила это странное поведение короля с самыми дурными днями Карла Девятого. — По крайней мере, — сказала она, — мой король имел преимущество, он входил в ярость. Это огромный ресурс для бедных женщин; с вашим королем, дочь моя, сладить нельзя, он никогда не сердится, а все смеется, это ужасно. — Ужасно! — повторила Анриэтта. — С ним никогда невозможно иметь объяснения. — Если мы не имеем объяснения с ним, мы будем иметь объяснение с Сюлли; как удивится министр! он будет готов провалиться сквозь землю при виде обязательства, связывающего его короля. Я бьюсь об заклад, что король имел трусость не признаться никому. Надо положить конец насмешкам и таинственностям его хитрейшего величества. — Я надеюсь, — сказала Мария Туше, — вы вспомните, с какой настойчивостью я потребовала этого обещания от короля. Оно спасает нас теперь, я это предвидела. — Вы настоящая Минерва, — сказала Анриэтта. Приехали к д’Антрагу. Там повторили урок. Сюлли согласился на требуемую аудиенцию. Отец вынул из самого крепкого сундука королевское обещание. Его прочли несколько раз, разбирали смысл и убедились в сотый раз, что права были непобедимы. Мария Туше села в ванну, а будущая королева с отцом поехала в Арсенал. Сюлли работал в своем большом кабинете, окна которого выходили на реку против острова Антрагов. В этот день яркое солнце освещало бумаги министра. Эти радостные лучи согрели ему мысли; он ворчал и напевал, делая отметки, так как это была его привычка, когда он был в хорошем расположении духа. Он, верно, предупредил лакеев о знаменитом посещении, которого он ждал, потому что д’Антрага и его дочь тотчас ввели по приезде их. Никто не пользовался этим преимуществом у Сюлли; ни один государственный человек не умел до такой степени заставить уважать власть. Увидев Анриэтту, он почти с любезным видом подал ей стул. Антраг сел возле дочери. Сюлли остался на ногах. — Какой счастливый случай привел вас? — сказал он. — Причина очень серьезная, отец мой объяснит вам, — отвечала Анриэтта тоном королевы. — Я слушаю, — бесстрастно сказал Сюлли, — но будьте так добры, позвольте мне запечатать это письмо, которое король приказал мне написать Крильону в Прованс. — Сделайте одолжение, — сказал д’Антраг. Сюлли стал запечатывать письмо, не смотря ни на кого. — Это по случаю печальной годовщины, — сказал он, — смерти очаровательного молодого человека… Не знали ли вы его?.. Его все знали… Эсперанс… Совершенное создание. Такие нас и оставляют. Говоря таким образом, министр запечатал письмо и не мог видеть выражения мрачного недоверия, которое промелькнуло, как зловещая туча, по лицу Анриэтты. — Как! Неужели уже год? — вскричал д’Антраг. — Стало быть, уже год как умерла герцогиня де Бофорри. Как проходит время! — Теперь я к вашим услугам, — сказал Сюлли, отправив письмо. Он сел напротив своих гостей. — Мы приехали к вам, в олицетворенной прямоте и твердости, чтобы сообщить вам о трудном положении, в которое король поставил наше семейство. — Как это? — спросил Сюлли. — Король сделал мадемуазель д’Антраг очень большую честь, потому что он удостоил ее выбрать в подруги своей жизни; но эта честь подвергается опасности в эту минуту. — Я не совсем понимаю, — сказал Сюлли, придвигая свой стул. — Предмет щекотлив, и я боюсь объясниться слишком ясно. — Напрасно, батюшка, — перебила Анриэтта с нетерпением. — Полуобъяснение не годится в нашем положении, и чтобы выбраться из них, мы требуем сильной руки. Король обращается со мной, как с любовницей, а я не любовница его. — Вы? — вскричал Сюлли с чистосердечием, которое легко доставило бы репутацию комического актера. — Как! Вы не любовница короля? Ну, если бы вы не сказали, я не поверил бы! — Я его жена! — О! о! — сказал министр, добродушие которого не могло удержать его не улыбнуться. — Это удивляет меня еще более. — Вот брачное обещание, составленное и подписанное королем. Я нахожу его в настоящей форме, а вы? Антраги рассчитывали на эффект этого громового удара. Но Сюлли перенес его лучше, чем они думали. — Брачное обещание? — отвечал он. — Это удивительно! — Вы не предполагаете, — с презрительной надменностью сказала Анриэтта, — что я приняла бы без этого обещания звание любовницы короля? — Как! Король подписал обещание на вас жениться? — повторил опять Сюлли, устремив глаза на драгоценную бумагу, которую Антраг протягивал ему, не выпуская ее из рук, — да, это похоже на подпись короля. — Как похоже? — вскричал отец. — Разве вы сомневаетесь в подлинности? — Нет, нет… нет… — Вы показали удивление более чем странное, — перебила Анриэтта, — и я нехорошо понимаю подобное удивление. Неужели вы считаете меня до такой степени недостойной? — Ах! Вы дурно понимаете меня. Вы соединяете в себе все достоинства, все совершенства, но… — Но? — Но я удивляюсь, что король подписал это обещание, это дурно. — Что хотите вы сказать? Сюлли начал колебаться; он с наслаждением играл с добычей. — Король не должен был этого делать, — сказал он, — король должен был подумать, король поступил вероломно. — С кем? — спросила Анриэтта. — С вами. Как! У вас в руках подобное обязательство, король это знает, а между тем… — Между тем?.. — Вы мне не поверите, если я вам скажу, не представив доказательств. А! — вскричал Сюлли, ударив себя по лбу. — Я забыл, что у меня здесь есть свидетель, лучший, главный. Сюлли позвонил. — Позовите даму, которая ждет, — сказал он лакею. Анриэтта и д’Антраг переглянулись, не понимая колебаний человека, такого прямого по своему характеру. Они услыхали шелест платья, итальянка Элеонора гордо явилась в блестящем наряде. Элеонора у Сюлли! Элеонора — знатная дама! Анриэтта вскрикнула от удивления, и с нею сделалась дрожь. Итальянка посмотрела холодно и, как будто не узнала ее той, которая в прошлом году покровительствовала ей, платила и прогоняла по своей прихоти. — Чего желает месье де Сюлли? — сказала она по-французски с тосканским акцентом. — Синьора Галигай, будьте так добры, скажите нам, когда вы отправили во Флоренцию контракт? — В тот день, когда он был подписан, третьего дня, синьор, — отвечала Элеонора, устремив глаза на Анриэтту, которую этот дерзкий взгляд заставил побледнеть. — Какой это контракт? — спросил Антраг. — Брачный. — Чей? — вскричала Анриэтта с замирающим сердцем. — Короля, — твердым голосом отвечала Элеонора, — с моей госпожой, с принцессой Марией Медичи, дочерью великого герцога Тосканского. — Король женится? — вскричал Антраг. — Именно, — отвечал Сюлли, — великое дело для Франции! Анриэтта упала на руки отца, но бешенство скоро возвратило ей силы, она приподнялась, дрожащая и свирепая. Отец, напротив, опустился на кресло, подавленный горой своих химер. — Это низкая измена, — прошептала Анриэтта, — я потребую удовлетворения от короля перед целым светом. — Удовлетворения? — сказал Сюлли со странной улыбкой. — Хотите, я вам дам? Он отпер маленьким ключом ящик в своем столе и вынул бумагу, запачканную несколькими каплями крови. Это было письмо Анриэтты к Эсперансу, письмо, отданное королю в Фонтенебло и которое Сюлли спрятал для крайнего случая. Несчастная Анриэтта чуть не умерла от стыда и ужаса, узнав его. — Находите вы удовлетворение достаточным? — спросил министр, не принимавший уже труда скрывать иронию. Анриэтта прислонилась к мраморному камину. — Послушайте, — сказал Сюлли вполголоса, — я сделаю вам предложение. Женитьба короля уничтожает обещание, данное вам. Эта бумага уже не годится ни на что, однако я покупаю ее у вас. Она подняла голову. — Я плачу за нее вашей запиской. Согласны? Анриэтта думала с минуту. Страшная неопределенность исказила ее черты, она походила на глиняную статую. Но пробужденная торжествующей улыбкой Элеоноры, омраченная видом крови, напоминавшей ей столько ужасных бесполезных преступлений, она сказала: — Я согласна! Сюлли взял обещание и отдал ей записку. Он сжег бумагу, а она разорвала записку на тысячу кусков с горячностью, походившей на неистовство. — О! — говорила она, скрежеща зубами. — Я дорого плачу за тебя, адское письмо, но ты будешь уничтожено! Что же касается мщения… ну, мы после увидим! Она взяла под руку отца, который смотрел и ничего не видел помутившимися глазами. Она стащила его с кресла и ушла, не смея взглянуть на Элеонору, которая тихо смеялась, и на Сюлли, который низко раскланивался. Через несколько времени королева Мария Медичи въехала в Париж из Лиона, куда нетерпеливый король поехал посмотреть на нее и жениться на ней. Все народонаселение большого города толпилось на дороге, по которой должна была ехать новая королева. Как только брак короля был обнародован, Крильон, удалившийся в свое прованское поместье, получил от женевьевца письмо такого содержания:«Милостивый государь, последнею волей герцогини было покоиться в нашей безонской церкви. Но вам известно, что она выразила еще другое желание, которое должно было исполниться в тот день, когда она будет забыта светом. Я думаю, что этот день настал; никто уже не произносит ее имя, она забыта. Но я не забываю ничего и напоминаю вам обещание, данное этой знаменитой даме, и я жду вас в Париж, чтобы помочь мне осуществить его. Я предупредил кавалера де Понти, который взял отпуск по этому случаю и ждет ваших приказаний. Брат Робер».
Крильон не заставил себя ждать. Он нашел Понти на назначенном свидании на улице Серизе, на том самом месте, где в прошлом году возвышался дом Эсперанса. Здание исчезло. Не осталось ни одного камня, ничто не напоминало о нем. Неизвестный человек, выстроивший этот дворец для Эсперанса, приехал его срыть после его смерти. Сад, густой и великолепный в своей дикой свободе, сделался местом убежища для тысячи птиц, которые одни наслаждалась цветами и вили гнезда в розовых кустах, густо разросшихся. При первом взгляде, который женевьевец бросил на этих двух человек, он приметил, что и они также были не из тех, которые забывают. У Понти, постаревшего десятью годами, глаза потускнели, лицо страшно исхудало. Крильон, которого до тех пор щадили усталость, раны, слава, сгорбился, как старик. Когда несчастный гвардеец подошел к генералу и преклонил перед ним колено с почтительной горестью, Крильон поднял его, пожал ему руку, но брат Робер приметил, что он не обнял его. Смотря на этот сад, исполненный благоухания и тени, Крильон сказал: — Наш Эсперанс должен лишиться всех этих цветов. — У него будут еще лучше, — отвечал брат Робер, — я целый год развожу их в ожидании его. Под соснами возле фонтана покоилось тело Эсперанса. Брат Робер, Крильон и Понти вырыли его ночью в ожидании носилок, которые должны были отвезти его на другой день в Безон. Так как надо было починить сломавшееся колесо, носилки могли уехать из Парижа только к двум часам. Они ехали по Сент-Антуанской площади в ту минуту, когда туда въезжала при восклицаниях народа, упоенного радостью, золотая карета короля и королевы. В свите граф Овернский кривлялся от энтузиазма, Элеонора и Кончино, оба великолепно разряженные, сияли гордостью. Триумфальная колесница должна была остановиться на минуту, чтобы пропустить погребальную. Радость жизни встретилась с радостью смерти. Генрих вез свою жену в Лувр. Эсперанс ехал в Безон покоиться возле своей невесты.
Генрих Майер Дочь оружейника
Часть первая
I. Вывеска «Золотого шлема»
Город Амерсфорт, основание которого относится к первой половине десятого столетия, в 1480 году мог сравниться со столицей утрехтского епископства. Он стоял на холме, в четырех милях от Утрехта, и река Эмс, бывшая прежде рукавом великого Рейна, разделяла его на две части. Благодаря близости этой реки, город Амерсфорт процветал и увеличивался, и в 1480 году состоял из двух отдельных городов: старого и нового. Новый город походил скорее на деревню, потому что в нем, за исключением некоторых пивоварен, было очень мало домов; зато он был окружен стогами сена, житницами и сараями, в которых помещались стада на ночь, потому что за городом были превосходные поля и на них изредка виднелись лачужки. В эти годы междоусобных войн даже бедные поселяне боялись жить вне городов; там происходили беспрестанные грабежи и вечно бродили вооруженные шайки негодяев. Зато новый город был отлично укреплен самими жителями. Они окружили его двойными рвами и высокими стенами с грозными башнями. В ворота, рано запираемые и защищаемые бастионами и бойницами, можно было попасть только через подъемный мост, который поднимался из города и держался над рвами на крепких железных цепях. Старый город был отстроен довольно правильно, и там, недалеко от городских ворот, на большой улице, жил мастер Вальтер, главный оружейник епархии. Он занимал один из лучших домов Амерсфорта. Дом его был выстроен из красного кирпича; по бокам подъезда было два готических окна с тяжелыми дубовыми ставнями, которые могли выдержать даже ночное нападение разбойников. По архитектурному вкусу того времени второй этаж выдавался вперед, третий тоже выдвинулся на улицу и над подъездом красовалась богатая вывеска со словами:Но так как в то время немногие умели читать, то хозяин дома, для объяснения своей вывески, повесил вместо украшения над одним окном первого этажа гирлянду, сделанную из железных цветов. Это было образцовое произведение его мастерства, и над гирляндой красовался золоченый шлем с забралом и перьями. На правой стороне дома открытая аллея вела во двор, где находилась мастерская и магазин оружия, тогда как возле подъезда устроена была выставка мелких вещей, как то: шпор, уздечек, ножниц, кинжалов и проч. Крепкая железная решетка охраняла этот товар от любителей, готовых попользоваться чужой собственностью. Кроме этого наружного магазина, внутри дома был другой, обширный, где собраны были вещи удивительной работы: цепи и стальные перчатки, вороненые клинки, панцири, секиры и другие части вооружения, отлично отделанные и украшенные золотой и серебряной насечкой. В этот-то богатом магазине, за прилавком, сидела обыкновенно Мария, хорошенькая дочь оружейника. Ее было только шестнадцать лет и она считалась первой красавицей в городе. Хотя черты ее лица не были безукоризненно правильны, но в них было столько прелести, столько невинности и ангельской доброты, что все невольно восхищались ею, не разбирая, в чем именно состоит ее красота. Каждый день перед окнами оружейного мастера собиралась толпа под предлогом рассматривания вещей, но в действительности все смотрели больше на хорошенькую Марию, чем на шпоры и ножницы. Однако молодая девушка была скромна, робка, и краснела при каждом смелом взгляде. Она пряталась за мать и за старую Маргариту, и если в магазин входил покупатель знатный или военный, и выбирая какое-нибудь оружие, обращался прямо к ней, Мария спешила удалиться, как будто для того, чтобы позвать отца или первого работника, без которых не смела продать вещи. Однажды утром в магазин вошел человек странной наружности, и так как он будет иметь большое влияние на события нашей истории, мы познакомим с ним ближе читателей.«Золотой шлем»
Мастер Вальтер, слесарь-оружейник
II. Гостиница «Красного льва»
14 августа 1480 года, накануне праздника св. Девы Марии, как тогда называли день успения Богородицы, в дверь гостиницы «Красного льва» постучал путешественник. На нем было широкое верхнее платье из грубой материи, шляпа надвинута на глаза, нижнее платье и штиблеты из козлиной шерсти доказывали, что это должен быть поселянин из окрестностей, но при внимательном рассмотрении можно было заметить, что приемы его довольно ловки, лицо выразительное, взгляд живой и что он нисколько не похож на неповоротливого и терпеливого голландского поселянина, на которого он походил только одеждой. Он был утомлен, как будто пришел издалека и, отирая пот с лица, спросил у толстой служанки, отворившей ему дверь, не остановился ли в гостинице иностранец, с виду здоровый, с молодым пажом. – Если ты говоришь о незнакомце, у которого смешной выговор, – отвечала Шарлотта, – он точно остановился у нас, и если не боишься его побеспокоить, можешь пойти к нему. Только он, кажется, сердитый; я не пойду тебя провожать Пойди сам по коридору и в конце его увидишь большую комнату, номер первый. Там ты найдешь иностранца. Новоприбывший быстро вбежал по лестнице и бросился в коридор, где тотчас нашел дверь с № 1; но он не успел еще постучать, как она отворилась; перед ним стоял тот, кого он искал. Это был человек лет сорока, немного выше среднего роста, с широкой грудью, жилистыми руками и толстой шеей. Во всей его физиономии заметен был странный контраст: наружность его выражала то доброту, то гнев, то гордость, то низость; улыбка была по временам невыразимо увлекательна, но скоро превращалась в горький смех, приводивший в ужас. Все эти перемены происходили быстро, так что трудно было следить за ними. Одежда его была проста, хотя принадлежала дворянскому сословию этой эпохи. Верхнее платье из светлого голубого сукна застегивалось на груди золотыми пуговицами, узкий воротник рубашки был отложен у шеи, вышитый кушак стягивался большой золотой пряжкой и придерживал шелковые панталоны, на половину красные и голубые; башмаки из черного сукна были с длинными носками. Единственное украшение этого простого наряда состояло в тяжелой золотой цепи, на которой висела медаль, полученная, как он говорил, от самого короля французского Людовика XI, и на красной шапочке блестел большой алмаз, подаренный, по словам его, графом Вильгельмом Ван-дер-Марком, прозванным Арденнским Кабаном. Незнакомец носил черные перчатки из тонкой кожи, которые были очень длинны. Самым странным было то, что он редко снимал перчатку с левой руки, а с правой никогда, даже во время обеда, хотя бы за столом были самые почетные гости. Ко всему этому надобно еще прибавить черную бороду, короткую, но густую, придававшую еще больше выразительности лицу незнакомца. Когда мнимый крестьянин постучал у дверей гостиницы, иностранец, ждавший его с нетерпением, вскочил со своего места и бросился к двери, которую отворил в ту минуту, когда посланный стоял на пороге. – Что так поздно? – спросил он. – Синьор капитан, раньше было невозможно; лошадь моя расковалась на половине дороги, и я должен был идти пешком. – Фрокар, говори ясно и коротко: видел ли ты графа Монфорта? – Видел, синьор. – Получил приказ? – Вот он. Фрокар вынул из кармана пергамент и подал капитану. Вид пергамента немного успокоил атлета, который насмешливо улыбнулся и сел за стол, где приготовлен был завтрак, состоявший из яиц, ветчины, масла и яблок. – Садись, Фрокар, и покуда я завтракаю, прочитай мне, что пишет почтенный монфортский бурграф. Фрокар молча сел к столу, и, развернув пергамент, прочитал следующее:«Мы Иоанн, бурграф Монфортский, губернатор утрехтской епархии, повелеваем мастеру Вальтеру, оружейнику нашего города Амерсфорта, приготовить столько оружия и лат, сколько закажет ему мессир Перолио, капитан и начальник воинов, прозванных Черной Шайкой, которому по сему случаю позволено свободно жить в Амерсфорте. Мастеру Вальтеру строго воспрещается однако выдать заказное оружие кому-нибудь другому, кроме нас самих.– Он сомневается во мне! – закричал Перолио, потому что это был сам начальник Черной Шайки. – Вероятно бурграф не хочет довериться вашей милости, – заметил Фрокар. Перолио выхватил пергамент из рук Фрокара и положил его в бархатный мешочек, висевший сбоку. Собеседник, чтобы смягчить гнев страшного капитана, проговорил вкрадчивым голосом: – А что делает дочка оружейного мастера? При этих словах лицо Перолио вдруг прояснилось, и он вопросительно посмотрел на Фрокара. – Как она хороша! – продолжал мессир Фрокар. – Прелестна, восхитительна! – вскричал с восторгом капитан. – Я видел ее только раз, и то несколько секунд, но сегодня найду средство поговорить с ней. – Сегодня? Сомневаюсь. – Отчего это? – Оттого, мой знаменитый капитан, что ни одна девушка не будет заниматься посторонними делами в тот день, когда ждет своего жениха. – А! У нее есть жених! И ты его знаешь? – сказал Перолио, лицо которого приняло опять мрачное выражение. – Да, и вы тоже знаете его, синьор! За это вы и ненавидите его, хотя служите с ним у его светлости Давида Бургундского и он командует, как вы, отрядом превосходных всадников… – Это ван Шафлер!.. Говори, это он? – Да, он любит дочь оружейника и хочет жениться на ней. – Что за вздор! Разве можно дворянину жениться на дочери слесаря? – Отчего нельзя? Особенно если у дворянина нет ничего, кроме развалившегося замка, а слесарь – самый богатый и уважаемый житель города. – Мне суждено встречать, везде этого человека, которому я скоро отплачу за все. Но тебя обманули, Фрокар, сказав, что он сегодня придет к оружейному мастеру; он не смеет показаться в городе, принадлежащем бурграфу, потому что носит бургундский крест и служит у его светлости. – А разве вы не служите тому же господину? – Но я не вассал бургундца, и могу служить, кому хочу. Притом ты мне принес охранный лист. – И Шафлер достал себе такой же. – Кто тебе сказал? – Его оруженосец, с которым мы вышли от бурграфа в одно время. Мы и ехали с ним вместе, и от него я узнал, что Шафлер приедет сегодня сюда, на свидание с невестой. Я было не поверил ему, но он показал мне бумагу, по которой его господин может оставаться в городе до четырех часов пополудни. – Так позволение прекращается с четырех часов, ты уверен в этом? – Я сам читал. – В таком случае, он не выйдет из города. И встав из-за стола, капитан сказал своему пажу: – Ризо, шляпу, меч и плащ! Покуда ему подали все, что он требовал, он задумался и обратясь к Фрокару, спросил: – Нет ли между городскими стражами воинов бурграфа? – Есть, синьор, да и начальник их ваш друг и соотечественник. – Хорошо, пойдем к оружейному мастеру. И они быстро сбежали с лестницы и вышли из гостиницы «Красного Льва».В замке Монфорт. Подписал: Иоанн Бурграф».
III. Заказ
Через час начальник Черной Шайки вошел в магазин оружейника. Первый работник мастера Вальтера прилаживал на манекене полное вооружение из чистой стали, так что, казалось, стоит настоящий рыцарь. Хорошенькая Мария стояла возле него и восхищалась блестящими латами. – И это ты сделал сам, Франк? – говорила молодая девушка с непритворным удивлением. – Знаешь, это превосходная работа. Я горжусь, Франк, что товарищ моего детства сделался таким искусным мастером. – Полноте хвалить меня, Мария, – проговорил молодой человек, вздыхая. – Я говорю правду, потому что знаю толк в работе. Разве можно сделать шлем лучше и красивее этого? А эти латы с золотым узором, разве это не образцовое произведение? Я уверена, что итальянцы, которые так хвастают своим искусством в резьбе, не могут сделать ничего подобного. – Вы правы, моя красавица, – сказал Перолио, который вошел, незамеченный молодыми людьми. – Это вооружение превосходно во всех отношениях и можно сказать, что его сработал не мастер, а артист. Я был в Италии, которую почитают колыбелью искусства, и признаюсь, нигде не встречал такой изящной отделки, такого вкуса в украшениях. С первых слов Перолио Мария покраснела от стыда и досады, что чужой подслушал ее детские речи; она посмотрела на посетителя и покраснела еще больше, потому что узнала незнакомца, который два дня тому назад приходил заказывать ее отцу большое количество оружия. Уже тогда она испугалась его, хотя он был очень учтив и любезен; ее пугал и звук его голоса и пронзительный взгляд, и она хотела по обыкновению скорее уйти. Поклонившись капитану, она попросила его сесть и прибавила, что позовет отца, но Перолио удержал ее за руку, посадил возле себя и сказал: – Останьтесь со мной, моя красавица, я совсем не тороплюсь. Кроме того, вот этот молодец может потрудиться позвать мастера Вальтера. И он указал на Франка, который осмотрев быстрым взглядом посетителя, спокойно принялся за работу и ждал ответа Марии. Но молодая девушка, не желая остаться одна с капитаном, сказала: – Нет, мессир, Франк не должен выходить из магазина. – Отчего это? Уж не боитесь ли вы меня, моя милая? – Совсем не боюсь, – отвечала девушка, стараясь выказать больше уверенности, нежели у нее было. – В таком случае пусть Франк отправиться за вашим отцом. Слышишь, любезный, ступай. Однако молодой работник не двигался с места, продолжая вытирать тонкой кожей сталь, которая ярко блестела. – Разве ты оглох, негодяй? – продолжал Перолио, горячась. Франк посмотрел на него, не переставая работать. – Будешь ты меня слушать? – Я слушаюсь мастера Вальтера и его дочь, – отвечал Франк хладнокровно, – и не намерен повиноваться всякому встречному. – Как ты смеешь так отвечать? – вскричал капитан, вскакивая со своего места и хватаясь за кинжал. Увидев это, Мария воскликнула: – Прошу вас, мессир, не сердитесь на Франка, я уверена, что он не хотел вас оскорбить. Несмотря на угрозу итальянца, Франк не переставал спокойно вытирать латы. – Не бойтесь, Мария! Этот кинжал – просто игрушка, и прежде чем разбойник дотронется до меня, я размозжу ему голову этим молотом. И он указал на огромный молот, лежавший возле него. Перолио с усилием улыбнулся, и сказал: – В самом деле, стоит ли сердиться из-за пустяков. Дворянин не должен унижаться до слесаря. Когда подобный негодяй осмелится оскорбить такого человека как я, я тотчас пошлю жалобу монфортскому бурграфу и он прикажет судить этого грубияна. – Я не боюсь ни бурграфа, ни вас, – отвечал Франк спокойно, – потому что знаю мои права. Я свободный человек и сумею защитить себя. – Франк прав, мессир, – сказала Мария решительным голосом, потому что привязанность к другу детства заглушила в ней робость. – Всякий гражданин города Амерсфорта свободен и, никто не смеет обижать его. Мой отец – один из первых граждан, и Франк принадлежит нашему семейству, потому что был у нас воспитан. Франк честный человек и лучший работник. Стало быть, вы не будете преследовать вашим гневом молодого человека. Говоря это, добрая девушка оживилась, глаза ее наполнились слезами, голос дрожал от волнения. Она была поразительно прекрасна. Итальянец воскликнул: – Вы слишком жарко заступаетесь за этого молодчика. Может быть, друг вашего детства в то же время и друг вашего сердца? Дерзкие слова итальянца произвели сильное действие на Марию. Она покраснела, потом волнение ее усилилось и она рыдая упала на стул. – Не стыдно ли вам, мессир? – спросила она. – За что вы оскорбляете меня? Франк, стоявший перед манекеном, едва расслышал обидные слова итальянца, потому что повторял про себя выражение девушки: «Он принадлежит к нашему семейству». Однако ответ Марии и ее слезы дали ему понять, что Перолио сказал дерзость и, не думая долго, молодой работник поднял тяжелый молот, бросился на капитана, сбил его с ног и подняв над ним свое оружие, закричал: – Так погибнет всякий, кто осмелится оскорбить Марию! Все это произошло в одну секунду, и жизнь Перолио висела на волоске, как вдруг рука Франка была остановлена и раздался громкий голос: – Несчастный! Ты хочешь быть убийцей, да еще в моем доме? Это был мастер Вальтер, услышавший шум в магазине и прибежавший вовремя, чтобы спасти жизнь капитану Перолио. Итальянец был опрокинут не силой, но быстротой своего противника. Он проворно встал, оправил на себе платье и встал перед Франком, как бы вызывая его на бой. Франк готов был принять вызов, но тут был Вальтер, его учитель, отец Марии, и потому он остался неподвижен. – Что тут случилось? – спросил Вальтер с досадой. – Хозяин, – ответил Франк тихо, – этот человек оскорбил вашу дочь. И он указал на Марию, которая не могла удержать слез. – Хорошо, – сказал Вальтер, – ступай в мастерскую. Франк вышел, бросив на Перолио взгляд, который говорил: «Между нами еще не все кончено». – А ты, дочка, ступай встречай мать, она вернулась и спрашивает тебя. И пока Мария шла к двери, мастер Вальтер обошел магазин, потом остановился перед капитаном, сказав: – Что вам угодно? – Прежде всего, мастер, я должен вас уверить, что не имел никакого намерения оскорбить вашу прекрасную дочь. Я хотел только пошутить, а ваш неуч работник погорячился некстати. Я мог бы наказать его примерно, но не хочу. Бездельник подождет, но будет мной доволен. Повторяю еще раз, что репутация вашей дочери совершенно чиста. – Я вам верю, мессир, – сказал оружейник. – Вы дворянин и не унизитесь до того, чтобы оклеветать молодую девушку, которую видите в первый раз. Но если бы вы и были способны на это, предупреждаю вас, что никто вам не поверит. Весь город знает дочь оружейного мастера и все уважают ее за чистоту и невинность. Все наши соседи готовы защищать ее, как Франк, и не позволят обидеть ее ни эрцгерцогу, ни бурграфу… Однако извините, мессир, я забыл, что вы пришли сюда по важному делу. Что вам угодно? – Вот что, мастер Вальтер. Два дня тому назад я вам сделал значительный заказ. Теперь я пришел сказать, что мне нужно еще сто мечей, сто копий и сто щитов – я увеличиваю мой отряд сотней людей. – Хорошо, мессир. Как оружейник я должен изготавливать оружие и продавать его, но я гражданин города, признавшего своим правителем бурграфа монфортского, а вы, мессир, служите у бывшего епископа Давида, которого мы низложили. – Ну, так что? – А то, мессир, что я не желаю доставлять оружие, которым будут нас убивать. Не думаю даже, чтобы мне было это позволено. Вы скажете мне на это, что купите оружие у другого и что нам должно быть все равно, чем бы нас ни били – если только мы будем слабее. На это я вам отвечу, что другой сделает вам, может быть, плохое оружие и мне будет не так обидно, если меня ранят копьем, которое не я делал. Итак, мессир, я не могу исполнить вашего заказа без приказа бурграфа. – Вот вам и приказ, – сказал Перолио, подавая ему пергамент. Удивленный мастер прочитал несколько раз приказ, осмотрел его со всех сторон, долго рассматривал подпись, печать и сказал: – Если так, мессир, то я к вашим услугам. Работа пойдет живо. Капитан вынул из мешка деньги и, подавая их мастеру, прибавил: – Вот двадцать золотых каролюсов в задаток. Только не забудьте, мастер, что весь заказ должен быть готов прежде окончания перемирия, то есть, к середине будущего месяца. – Это скоро, но мы поторопимся. А что, мессир, – прибавил оружейник, – вы перешли в службу бурграфа? – Совсем нет… Я служу Давиду Бургундскому. Вальтер посмотрел с удивлением на капитана, потом пробормотал: – Хорошо… Во всяком случае этот приказ для меня достаточен. И он спрятал деньги в ящик. В эту минуту послышался на улице топот подъезжавшей лошади. Перолио выглянул в окно и сказал оружейнику: – К вам едет гость. Вальтер поднял голову и увидел молодого, красивого всадника, который в сопровождении конюшего въехал в аллею, ведущую во двор. – Клянусь св. Мартином, – вскричал оружейник, – я не ожидал такого гостя! Неужели это мессир ван Шафлер! Как он осмелился явиться в город и еще белым днем! Какая неосторожность! – Ему ничего бояться, – отвечал Перолио, – у него, наверное, есть пропуск. Прощайте, мастер. Принимайте гостя, который приехал очень кстати, чтобы осушить слезы вашей прекрасной Марии. И начальник Черной Шайки вышел в одну дверь, в то время, как молодой ван Шафлер входил в другую.IV. Жених
Оставим оружейника встречать нового гостя и скажем, что значили в ту эпоху начальники вооруженных шаек и какой род войны вели Голландия или, скорее, утрехтская епархия. Увы! Это не была честная и благородная война против чужеземцев, для защиты независимости или чести отечества, это была даже не жертва во имя прав или спасения общества; нет, это была самая худшая из войн, – война партий, без знамени, война безжалостная, кровопролитная, где убийство смешивалось с грабежом, где приступы бывали отчаянные, битвы жестокие, и все это продолжалось беспрерывно до тех пор, пока одна партия исчезла совершенно, оставляя победителю не славу, но угрызения совести. Во всех странах были подобные войны, но нигде эти ссоры и соперничества партий не были поддерживаемы с большим упрямством, как во Фландрии и Голландии. Война, о которой мы будем говорить, оставила после себя смешное название. Она названа войной «удочки и трески» и началась в 1350 году, вот по какому случаю: Вильгельм IV, граф Геннегау, Зеландии и Голландии, умер в 1345 году, не оставив детей. Ему наследовала старшая сестра Маргарита, супруга императора Людвига Баварского. Через пять лет после смерти мужа она передала наследство брата второму своему сыну Вильгельму, который обещал выдавать ей ежегодную пенсию. Это обещание не было исполнено, потому что через несколько месяцев сын отказался от выдачи пенсии. Маргарита прибыла в Голландию, чтобы снова принять управление, от которого отказалась, но оказалось, что если легко передать корону, то очень трудно взять ее назад. Вильгельм не только не возвратил того, что получил, но решился еще вести войну с матерью. На его стороне были могущественные дворяне и главные города Голландии. Эта партия приняла название «трески», желая доказать, что она уничтожит своих противников, как эта прожорливая рыба проглатывает маленьких рыбок, попадающих ей. Партия Маргариты, хотя малочисленная, храбро приготовилась к борьбе и назвалась «удочками», как бы говоря: ловкостью и хитростью мы будем ловить наших врагов, как на удочку ловят рыб. Мы не будем следить за всеми событиями этой печальной войны, начавшейся тем, что сын восстал против матери. Скажем только, что она продолжалась еще сто сорок лет, после смерти Маргариты и Вильгельма, поддерживаемая теми же городами, из поколения в поколение, теми же семействами. В 1455 году, то есть почти через сто лет после начала войны, утрехтская епархия, принадлежавшая партии «удочек», лишилась своего епископа. Собрался капитул семидесяти каноников и избрал единогласно Жильбера Бредероде. Этот выбор не понравился Филиппу Бургундскому, поддерживавшему партию «трески». Он давно назначил Утрехт своему побочному сыну Давиду, который уже был епископом фероанским, и покуда капитул выбирал Жильбера, бургундский герцог выпросил у папы инвеституру Давиду. Итак, незаконный сын герцога управлял утрехтской епархией до 1478 года, но после смерти Карла Смелого партия «удочек» усилилась и заставила Давида бежать изгорода. Потом победители избрали монфортского бурграфа своим правителем и он поспешил набирать войска, пешие и конные, и составил отряды для усиления городской стражи. Епископ Давид, со своей стороны, удалился в замок Дурстед, близ города, называвшегося прежде Батаводурум, на правом берегу Лека, и оттуда начал созывать всех своих приверженцев, вооружил их и, сверх того, нанял множество вольных солдат, которые под начальством капитана разбойничали и грабили везде, где ни появлялись. Епископ Давид, изгнанный из своей епархии, которой завладел бурграф Монфорт с помощью партии «удочек», просил помощи у императора Максимилиана, который позже принял его сторону и возвратил ему утрехтское епископство. Вернемся к мастеру Вальтеру. Затворив дверь на улицу после ухода Перолио, Вальтер вышел из магазина и, пройдя коридор, вошел в комнату, где обыкновенно собиралось все семейство. Это была большая квадратная комната, служившая залой, столовой и даже спальней, потому что в глубине стояла кровать Вальтера и его жены, с зелеными занавесками. Вся меблировка была проста, но чрезвычайно опрятна. Большой камин помещался против двери, и его железные украшения блестели, как сталь. Хотя было лето, но в камине сложены были дрова, которые можно было тотчас зажечь. Занавески окна, выходящего во двор, были безукоризненной белизны. Дубовый шкаф для платья был удивительной резной работы; стол, тоже дубовый, несколько стульев и одно кресло, вот все, что было в этой комнате, не считая маленького столика, за которым работали мать и дочь. Когда мастер вошел, Мария сидела у ног матери, старавшейся успокоить ее. – Жена, дочь! – закричал Вальтер весело. – Готовьте скорее обед, к нам приехал гость. – Кто это? – спросила Марта. – Кто? Наш лучший друг, жених Марии, храбрый рыцарь, мессир ван Шафлер. – Боже! Как же это так неожиданно? – вскричала Марта, вставая. Мария побледнела. В эту минуту ворота отворились перед мессиром Жаном ван Шафлером. Это был человек лет тридцати пяти, высокий и хорошо сложенный. Густые темные усы придавали ему несколько суровый вид, но добрый взгляд смягчал эту строгость. На нем было простое платье из темного сукна, стянутое кушаком, панталоны того же цвета, длинные сапоги, кожаный нагрудник, шляпа с широкими полями и серебряным галуном. Что касается оружия, у него был только длинный меч с железной рукояткой и широкий кинжал. Войдя в комнату, он протянул руку оружейному мастеру, который дружески пожал ее. – Здравствуйте, мессир Жан, милости просим, дорогой гость. Здоровы ли вы? – Благодарю, мастер. Вы тоже не изменились, а что ваша добрая Марта, моя милая Мария, все ли здоровы? – Все, слава Богу, – отвечала Марта. – Я очень рад, – продолжал Шафлер приятным голосом, протягивая руки матери и дочери и поцеловав и ту, и другую, что было принято в то время, в особенности в звании жениха. – Кажется, один я немного болен, – сказал Вальтер смеясь, – и то потому, что уже двенадцать часов, а мы еще не обедаем. Жена, ступай на кухню, а ты, дочка, помоги старой Маргарите накрывать на стол. После ухода Марты и Марии Вальтер придвинул к столу стул для своего гостя, а сам сел в кресло, в которое не садился никто, кроме хозяина дома. – Клянусь св. Мартином, – вскричал Вальтер, – я никак не ожидал такого счастья, что мессир Жан будет со мной обедать! – Отчего же? – спросил Шафлер. – Оттого, что вам не безопасно днем показываться в городе. Ведь вы один из главных начальников «трески», и самая верная опора бывшего епископа Давида Бургундского. Что, если бы вас узнала? – Не беспокойтесь, любезный Вальтер, я воспользовался месячным перемирием, которое подписано, но еще не объявлено, и получил от бурграфа позволение войти в город. – У вас есть пропуск? – Да, вот он. – Прекрасно! Так вы останетесь у нас на несколько дней? – Нет, это невозможно, я не могу даже переночевать здесь, потому что мне дано позволение только до четырех часов. – Понимаю, мессир, вас влекло сюда не столько желание говорить со мной, сколько свеженькое личико моей Марии. – Я не видал ее целый год, любезный Вальтер. – И вы в это время не переменили вашего намерения жениться на ней? – За кого вы меня принимаете, мастер? – Все возможно, мессир. – Вальтер! Вы меня обижаете. – Не сердитесь, мой милый гость. В прошлом году вы просили руки моей дочери и я отвечал вам: мессир Ван Шафлер, ваше предложение очень лестно для моего отцовского самолюбия, но я не могу принять этой чести. Вы храбрый дворянин, носите достойное имя ваших предков, а Мария – дочь мещанина, работника. По добродетели и честности она вам равна, но в остальном она ниже вас, и я боюсь, что вы повинуетесь скорее вашему сердцу, а не рассудку. Следовательно, я обязан отказать вам. – Все это так, но что я отвечал на вашу речь? – Вы не хотели согласиться со мной. – Я вам сказал, что прося руки Марии, действую по внушению сердца и рассудка и, кроме того, исполняю последнюю волю моего отца, которого вы, с опасностью своей жизни, спасли во время наших междоусобий. Он обязан был вам более чем жизнью – честью, потому что враги оклеветали его и вы помогли ему оправдаться. Он не забыл ваших благодеяний, и умирая, просил меня быть защитником Марии, ее мужем. «Женись на ней, сын мой, – сказал он, – я крестил Марию, привык звать ее дочерью, ты сам любишь ее». – Я не забыл этих благородных речей, мессир Шафлер. Я был тронут и принужден уступить. Тогда я позвал Марию и сообщил ей ваше предложение. Вы помните, как бедная девушка покраснела и едва могла проговорить: «Я всегда любила мессира Жана, и с удовольствием соглашаюсь исполнить желание моего отца». Я был совершенно счастлив, только по нашему обычаю отложил окончательное решение на год, чтобы вы оба могли хорошенько обдумать и проверить ваши чувства. Год прошел, и вот почему я вас спросил, мессир: все ли еще вы хотите жениться на Марии? Шафлер хотел отвечать, но оружейник остановил его, потому что вошла служанка с чистой скатертью, накрыла стол, поставила четыре серебряных бокала и каменный кувшин с дорогим рейнским вином. Когда служанка ушла, Вальтер налил два бокала и, подавая один Шафлеру, поднял свой. – В честь вашего посещения, мессир! – сказал он. – Нет, Вальтер, погодите, – возразил Шафлер, – я провозглашу другой тост. И подняв свой бокал, он прибавил торжественно: – Клянусь именем всемогущего Бога, который читает в моем сердце, я люблю Марию, хочу, чтобы она была моей женой, и пью за ее будущее счастье. – Аминь! – сказал оружейник и осушил бокал. В эту минуту вошла Марта с дочерью; за ними Маргарита несла большое блюдо с дымящимся мясом. Все сели за стол. Обед состоял из бараньего мяса, селедок, гороха и моркови. Пиво пили из оловянных стаканов; только один хозяин пил вино, чтобы составить компанию гостю. Маргарита села за стол вместе с господами, потому что по тогдашнему обычаю почетные слуги и лучшие работники обедали вместе с хозяевами. Одно место оставалось пустым, и Вальтер заметил это: – Что же не идет Франк, разве он сегодня не хочет обедать? – Я его звала два раза, – отвечала Маргарита, – только он так расстроен, что кажется, не слышал. Не знаю, что с ним сегодня случилось. – Вот и он, – заметила Марта. Франк вошел бледный; почтительно поклонился мессиру Шафлеру и сел на свое место возле Маргариты, против Марии. Все умолкли, Вальтер встал и громко прочитал молитву, потом налил себе вина и выпил, желая всем хорошего аппетита. – Что с тобой, Франк? – сказал он, подавая мясо Шафлеру. – Верно ты не голоден, что забыл час обеда. Обыкновенно ты не заставляешь себя дожидаться. – Извините, мастер, – отвечал молодой человек со смущением, – я был занят… я не слыхал, что меня звали. – Понимаю! – сказал оружейник. – Ты сердишься, что я помешал тебе отправить на тот свет человека. – Франк – убийца? – спросил удивленный Шафлер. – Да, поверите ли, мессир, что если бы я пришел в магазин двумя минутами позже, этот молодчик убил бы дворянина, как быка, молотком в голову. Да знаешь ли, любезный, что ты за эту шутку не отделался бы даже деньгами? Дворяне отплачивают за убийство золотом; это их привилегия, а ты, бедный Франк, несмотря на все твое искусство в оружейном мастерстве, попал бы прямо на виселицу. – Что мне за дело! – вскричал Франк. – По крайней мере, он бы в другой раз не оскорбил нашей Ма… Шафлер понял в чем дело и сказал: – Стало быть, дело важнее, нежели я думал; оскорблена женщина, и эта женщина Мария! Вальтер сказал: – Оскорбления никакого не было. Франк истолковал в дурную сторону шутку, какую часто позволяют себе дворяне. Стоит ли обращать на это внимание? – Однако кто этот дворянин, как зовут шутника? – : настаивал жених. – Вы должны его знать, – проговорил мастер. – Ведь он служит вместе с вами у Давида Бургундского. Он называет себя графом Перолио. – Перолио! – вскричал Шафлер, покраснев от негодования и вскочив с места. – Перолио начальник черных разбойников. И он смел коснуться Марии! Он заплатит жизнью за это оскорбление. Все начали успокаивать Шафлера, но тот продолжал: – Зачем приходил сюда этот бездельник? Что ему надобно? – Он заказал мне копья, щиты, шлемы, панцири; кажется, он набирает солдат в свою шайку. – Зачем же он обратился именно к вам? – Он не нашел оружейника лучше меня. – Однако вы принадлежите другой партии. – Правда; зато я повинуюсь приказу монфортского бурграфа. – Что это значит? Объяснитесь. – Вот приказ бурграфа, прочитайте его и вы увидите, что мне не в чем упрекнуть себя. И он подал Шафлеру пергамент, полученный от Перолио. Как бы не веря своим глазам, Шафлер прочитал два раза пергамент и проговорил: – Да, это подпись бурграфа, его рука. – Это вас удивляет, мессир Жан? Признаюсь, и я удивился и не могу понять, зачем бурграфу угодно, чтобы враги его были хорошо вооружены? – Однако, – сказал дворянин, прочитав приказ в третий раз, – вы должны передать оружие самому бурграфу и в его собственном замке. – Да, в собственные руки. – Когда же? – Через месяц. – Значит перед окончанием перемирия. Стало быть, этот Перолио изменник. – Неужели монсиньор Давид доверяет такому человеку? – Кто он! – вскричал дворянин. – Он называет себя дворянином, и это, может быть, справедливо, потому что теперь много дворян, недостойных своего имени, которые набирают шайки, по примеру знаменитых кондотьеров Фортебраччио, Бонконсильо и других, и продают свою храбрость тому, кто им больше заплатит. Перолио храбр и имеет воинские способности, но возбуждает ужас и отвращение своими зверскими поступками. Его шайка набрана из двух тысяч самых отчаянных негодяев, хорошо вооруженных и на отличных лошадях; все они привыкли к войне, готовы на все и страшны для тех, против кого идут и для тех, кому служат, потому что первое их правило – убийство и грабеж. Они боятся только своего начальника и повинуются ему только потому, что он дает им пример в жестокости и разбоях. Для него проливать кровь не только удовольствие, но необходимость, и он нападает сегодня на того, кому служил вчера. Это тигр, которому нужна жертва, который дерется не с целью, не за партию, а для одной добычи, чтобы вести роскошную и развратную жизнь. – Такой человек Перолио. Он ненавидит меня и поклялся мне отмстить. – За что? – Два месяца тому назад я делал рекогносцировку близ Дурстеда, как вдруг услышал стоны в бедной лачужке. Я вбежал туда и увидел трех солдат из Черной Шайки, которые били старуху, недавно поселившуюся в епархии, и называемую то сумасшедшей, то колдуньей. Эта старуха знает целебные свойства многих трав и вылечивает больных; она также предсказывает будущее. К ней вошли солдаты Перолио, ища добычи, но она начала проклинать их, называя разбойниками и убийцами. За это они хотели убить несчастную, но я приказал им тотчас же выйти. Один из них смел замахнуться на меня, и пал мертвый, другие убежали, грозя мне гневом капитана. Действительно, Перолио пожаловался на меня епископу Давиду и требовал, чтобы я заплатил огромную сумму за убийство одного из героев Черной Шайки. Я отвечал, что ничего не заплачу, потому что наказал злодея и готов поддерживать мечом справедливость моего поступка. Перолио хотел отвечать вызовом, но епископ приказал нам помириться. Я тотчас же протянул руку моему врагу и Перолио сделал то же; только вы знаете его привычку не снимать перчатки, особенно с правой руки, а протянутая рука была в черной перчатке. «Снимите перчатку, сеньор граф», – сказал я и опустил свою руку. Но Перолио вспыхнул и выбежал из комнаты, даже не поклонившись епископу. Любопытство слушателей было возбуждено в высшей степени. Мастер спросил: – Скажите, отчего монсиньор Давид, служитель церкви, берет на службу подобного разбойника? – Это делается по необходимости, – отвечал Шафлер. – Многие города северной Голландии, хотя и приверженные к партии «трески», отказываются выставлять солдат, а герцог Максимилиан очень занят своими делами, чтобы помогать монсиньору. Вот почему последний принужден был нанять Перолио. – И вы думаете, мессир, что злодей готовит какую-нибудь измену? Вы хорошо бы сделали, если бы предупредили епископа. – Я обязан это сделать, как честный дворянин. – А теперь, мессир Жан, не пора ли отложить важные дела и продолжать обед? – Охотно, Вальтер. Когда подали простой десерт, состоявший из бисквитов, масла, трех сортов сыра, орехов и пирожков, Маргарита встала, по обыкновению, и хотела уйти, но хозяин остановил ее словами: – Маргарита, принеси нам еще кувшин рейнвейна и дай всем серебряные бокалы. Старуха повиновалась. Когда все бокалы были наполнены, Вальтер обратился к Марии: – Дочь моя, надеюеь, что ты не забыла, какое предложение сделано было тебе год тому назад? – Помню… – прошептала Мария. – И с тех пор, – продолжал Вальтер, – я надеюсь, мысли твои не изменились? – Нет… – В таком случае, – сказал отец вставая, – выпьем за здоровье жениха с невестой и за будущий их союз. Все встали, кроме Франка; старая Маргарита напрасно толкала его, наконец взяла и приподняла. – Господи Боже, – говорила Марта, – что с тобой, мой бедный Франк? – Клянусь св. Мартином, – вскричал Вальтер, – он не мог переварить выходки Перолио, и она так сильно взволновала ему кровь, что довела почти до удара. Успокойся, мой друг. Стоит ли такой негодяй, чтобы хворать из-за него! Выпей стакан вина, это поправит тебя. – Благодарю, хозяин, – отвечал Франк, стараясь оправиться. – Мне совестно, что я опечалил ваш праздник. Я не виноват, позвольте мне уйти. – Ступай, любезный, может быть, на воздухе тебе будет легче. Франк вышел. Мария успела скрыть волнение, которое, впрочем, можно было приписать внезапной болезни первого работника, а Вальтер продолжал веселым тоном: – Теперь, друзья мои, остается только назначить день свадьбы и, с Божьей помощью, день этот наступит скоро. Мария бросила умоляющий взгляд на мать, и добрая Марта сказала мужу: – Что ты, Вальтер! Разве благоразумно назначать свадьбу, когда война может быть объявлена со дня на день? Обвенчанная дочь не будет уже жить с нами, потому что ее супруг не имеет права входить в город; мессир ван Шафлер не захочет, чтобы жена его жила с ним в лагере или была одна в его замке, подвергаясь оскорблениям разбойников. Нет, я уверена, мессир согласиться со мной, что надобно ждать окончания войны, а потом затевать свадьбу. – Да, ты права, жена, – проговорил мастер. – Моя Марта дает иногда хорошие советы. Но что вы скажете на это, мессир Жан? Шафлер задумался на минуту, потом покачал грустно головой. – Да, любезный Вальтер, жестокая война снова разгорится. Вчера еще я думал, что мир будет подписан прежде окончания перемирия, но увидев приказ бурграфа, уверился в противном. Правитель епархии вооружается, и мы готовы отвечать ему, если только герцог Максимилиан не остановит всего своим скорым приездом. До тех пор надобно следовать совету доброй Марты, и хотя мне тяжело отсрочить мое счастье, но я клялся защищать права епископа Давида и должен сдержать клятву. – Ваше решение благородно, любезный мой зять, потому что теперь я могу называть вас зятем; хоть я не дворянин, а просто работник, но честный человек никогда не откажется от своего слова. Шафлер встал и, подойдя к Марии, сказал нежно: – Теперь позвольте мне, моя прекрасная невеста, в память этой минуты, связывающей нас на всю жизнь, вручить вам вещь, которую носила моя святая мать и на которой я клянусь любить вас и уважать, как графы ван Шафлер всегда любили и уважали своих супруг. Он вынул из мешочка прекрасную золотую цепь с алмазным крестом и надел на шею Марии. С тех пор, как Франк вышел из комнаты, молодая девушка впала в такую задумчивость, что не слыхала почти ничего, что вокруг нее говорили. Она опомнилась, когда Шафлер, стоя перед ней, надел ей цепь с драгоценным крестом. Волнение ее стало так сильно, что она не могла сказать ни слова. Когда же отец стал подсмеиваться над ее смущением и говорить, что такой подарок стоит поцелуя, она молча повернула свою хорошенькую голову к Шафлеру и тот поцеловал ее первым страстным поцелуем влюбленного жениха. – Хорошо, дочка! – вскричал обрадованный мастер. – Это для жениха самый лучший подарок, которого он долго не забудет. Но этого мало. Надобно было приготовить ему что-нибудь – ты, верно, не подумала об этом? И, не дав отвечать дочери, он продолжал: – Я знаю, что ты ничего не приготовила, зато твой отец подумал за тебя. Я заплачу твой долг, и для этого прошу мессира проводить меня в магазин. Шафлер пошел за Вальтером в магазин, где Франк сидел за прилавком на месте Марии, погруженный в тяжкие думы. Услышав шаги, он быстро встал, бледный и с красными глазами. – Лучше ли тебе, друг? – спросил его Вальтер. – Лучше, благодарю вас, – отвечал молодой человек слабым голосом. – Берегись же, мой милый, и впредь не горячись из-за пустяков. Потом, показав Шафлеру превосходное вооружение, выделанное Франком, мастер сказал: – Вот подарок Марии, мессир. Вы можете им гордиться, потому что это образцовое произведение – и вот кто сработал его! Вальтер указал на Франка. Шафлер, как знаток оружия, не мог не удивиться отличной отделке лат. Он подошел к Франку и сказал: – Франк, я вас полюбил, как друга и достойного ученика почтенного человека, к семейству которого я буду скоро принадлежать; теперь же я уважаю вас как редкого художника, как благородного, храброго молодого человека, который не допускает, чтобы при нем оскорбили слабое существо. Франк был тронут этими словами. – Эти латы, – продолжал Шафлер, – будут мне вдвойне драгоценны, потому что это ваша работа и с ними будет связано воспоминание о том, что вы защитили от оскорбления мою невесту. Вот моя рука, Франк, дайте мне пожать вашу, как руку брата и друга, и помните, что вы всегда можете располагать мной. Я ваш друг на жизнь и на смерть. Молодой работник не мог удержать слез и, сжав крепко руку Шафлера, вскричал: – И я клянусь быть самым верным, самым преданным другом жениха Марии! Если я изменю моей клятве, пусть Бог накажет меня. – Аминь! – проговорил Вальтер. – Я уверен, что никто из вас не изменит клятвы. Теперь пойдемте в комнату.V. Западня
Когда все трое вошли в комнату, там находилось новое лицо странной, смешной наружности. Это был человек не выше трех футов, с огромной головой, почти квадратный, на коротеньких ножках. Нельзя было смотреть без смеха на эту живую карикатуру, но лицо карлика выражало столько доброты, что под безобразием заметна была душа, смелость и преданность. Еще мальчиком бедный Генрих много терпел насмешек и дурного обращения, особенно от хозяина своего, трактирщика, у которого служил на конюшне. Шафлер, увидев однажды, как мучили бедного уродца, сжалился над ним и взял его к себе. Генрих начал упрашивать его, чтобы он дал ему место конюшего. – Я знаю, мессир, – говорил он, – что такому красивому дворянину, как вы, не очень приятно взять в службу урода, но ваша красота выиграет еще более от моего безобразия, и притом вы знаете, что если оболочка моя дурна, то сердце доброе, готовое жертвовать вам всем, даже жизнью. Вы не раскаетесь в вашем добром поступке. Я буду следовать за вами везде, как собака, дома буду служить вам, на войне не отойду от вас и буду счастлив, если приму удар, назначенный для моего господина. Шафлер исполнил желание карлика и, как докажет эта история, доброе дело принесло ему пользу. При виде конюшего графа, оружейник не мог удержаться, чтобы не захохотать; но Генрих, привыкший производить такое впечатление, не обратил на это внимания и, кланяясь почтительно своему господину, сказал: – Простите, мессир, что я осмелился придти сюда без вашего позволения… но случилось важное дело… И конюший осмотрелся кругом и заглянул даже в дверь, как бы боясь, не подслушивают ли его. – Что такое, Генрих, – спросил Шафлер, смеясь, – кто тебя потревожил? – Я не знаю, должен ли я говорить, мессир. – Здесь все мои друзья, говори. Генрих низко поклонился всем присутствующим и продолжал: – Итак, мессир, эти собаки «удочки», – извините мессир оружейник, я говорю не про вас, потому что и между разбойниками бывают порядочные люди, – эти злодеи «удочки» хотят поймать вас в западню и поужинать сегодня «треской». Вальтер не смеялся более, но с беспокойством смотрел на молодого дворянина, который, не придавая большого значения словам своего конюшего, спросил: – Как же ты узнал об этой западне, Генрих? – А вот послушайте, мой добрый господин. Я отвел наших лошадей в гостиницу «Белого коня», потому что она принадлежит прежнему моему хозяину, и я очень рад, что теперь могу приказывать ему и он обязан мне служить. Я сам смотрел, как этот негодяй задал овса нашим лошадям и, надобно признаться, что он угостил их на славу; верно боялся меня, мошенник. Когда я вышел из конюшни, то заметил, что мой прежний мучитель стоит у ворот и с жаром разговаривает с поселянином, которого назвал Фрокаром. Увидев меня, оба замолчали и начали смеяться над моей красотой. Настоящие разбойники! – Ты бы поменьше употреблял эпитетов, – заметил молодой граф, – тогда рассказ твой был бы яснее и короче. – Повинуюсь, и буду даже говорить учтиво об этом висельнике. Я не обратил внимания на смех бездельников и спокойно пошел прогуливаться к городским воротам. Там есть группа кустарников, в тени которых я расположился отдохнуть, как вдруг увидел, что к тому же месту подходят оба разбойника… извините, мессир, но я не могу назвать учтивее людей, которые составили против вас заговор. – Заговор! – вскричал Вальтер. – Говори скорее, в чем дело? – Я вам все расскажу по порядку… Они говорили: «Он не должен выйти из города;. мы получим два золотых, если поймаем „треску“. Это сделать не трудно, и право будет на нашей стороне, если мы его удержим до четырех часов». Машинально все глаза обратились к часам, которые показывали только три. Генрих продолжал: – Это говорил крестьянин, а злодей трактирщик отвечал: «Да как же нам удержать его? Он не будет так глуп, чтобы просрочить время». – Разумеется, нет! – вскричал Вальтер. – А крестьянин возразил: «Прежде всего ты не допустишь эту обезьяну конюшего… это он про меня говорил, разбойник… вывести лошадей из конюшни; потом мы уж уговорились с капитаном, охраняющим ворота, что число солдат его будет удвоено, решетка опущена и запрещено будет поднимать ее без позволения, а капитан придет только, когда пробьет четыре часа. Тогда треска попадется на удочку, а в наши карманы попадут деньги». – Недурно придумано, – сказал Шафлер. – Еще крестьянин прибавил, что надобно привлечь на их сторону начальника городской стражи, чтобы он не помешал этой измене. Тогда разбойники удалились, а я со всех ног побежал в гостиницу, оседлал наших лошадей, бросил деньги в ясли и пришел сюда, предупредить вас о заговоре. Оружейник уже не находил карлика смешным и с чувством пожал ему руку. – Ты славный малый, – сказал он, – и может быть спасешь жизнь твоего господина. Ясно, мессир Жан, что против вас составлен заговор и вас хотят захватить. – И, вероятно, эту западню устроил ваш враг Перолио, – заметил Франк. – Больше некому, – отвечал граф. – Он один способен придумать такую неблагородную шутку. Но он может ошибиться. Чтобы поймать треску, надобно крепкую удочку, и не одну. – Однако, мессир, надо обдумать дело хорошенько, – сказал Вальтер спокойно, но решительно. – Во всяком случае, вы можете надеяться на меня и на Франка. Не правда ли, сын мой? – Да, хозяин, я обещал мессиру Шафлеру безграничную преданность. – Отправимся же, дети мои, – сказал Вальтер, – потому что время уходит. Ты, Франк, выбери четырех самых сильных работников и следуй за нами в ста шагах. – Хорошо, мастер. – Не вели им снимать рабочих передников, чтобы подумали, что они идут с работы. – Не взять ли им оружие? – Нет, довольно с них и палок со свинцовыми концами, да пусть под передниками спрячут ножи. – Все будет исполнено. – Скажи также, чтобы Маргарита дала каждому по кружке пива и по стакану вина. Франк вышел, а Шафлер, надевший, с помощью Генриха, свой нагрудник, взял меч. Но Вальтер, находя, что будущий его зять недостаточно вооружен, подал ему секиру с костяной ручкой, которую вынул из шкафа, а сам взял короткий, но широкий меч. На лицах Марии и ее матери выражалось сильное волнение. Бедная Марта хотела успокоить дочь, но когда увидела, что муж вооружается, произнесла: – Вальтер, ради Бога, что ты делаешь? – Успокойся. Ты знаешь, что я не забияка, но нельзя же не защищать себя. Правда, бывают минуты, когда кровь кипит во мне, как у молодого человека, но это ненадолго, и я опять делаюсь флегматиком. Будь уверена, что все устроится к лучшему. Я имею влияние на добрых граждан нашего города и надеюсь, что они меня послушаются. Но пора, любезный зять, отправимся в путь. – Прощайте, матушка, прощайте, Мария, – сказал Шафлер, обнимая их, – даст Бог, скоро увидимся. Вальтер и граф поспешно вышли. Генрих подвел своему господину лошадь, но он хотел дойти пешком до городских ворот, которые были недалеко, и потому велел вести лошадей. Подойдя к ним, Вальтер, осмотрев все, сказал: – Генрих не обманул нас. Решетка опущена, стража бурграфа удвоена, но и городская наша гвардия тут же. Прошу вас, мессир, позвольте мне поговорить с ними и не вмешивайтесь до времени. Все зависит от хладнокровия. Входя под своды ворот, Вальтер оглянулся, заметил приближение Франка с товарищами и Генриха с лошадьми и проговорил: – Хорошо, все на своих местах, начнем атаку. – Ворота заперты, – закричал солдат бурграфа, стоявший на часах, – сегодня никого не выпускают из города. – Это что за новость? – отвечал оружейный мастер. – Обыкновенно решетку опускают в пять часов. – Может быть! – В таком случае, любезный, потрудись поднять решетку, потому что мне надобно идти за город. – Нельзя, – проговорил солдат грубо. – Разве ты командуешь этим постом? – спросил Вальтер строго. – Нет не я, но мне приказано никого не выпускать. – Где ваш начальник? – Капитан ушел. – Да мне и не надобно капитана. Охранение города поручено гражданам, и я хочу видеть начальника городском стражи, а не иностранца, наемника бурграфа. Вальтер намеренно возвысил голос, потому что городские стражи вышли из караульни и с удовольствием слушали слова мастера, льстившие их самолюбию. Так как начальник их был тут же, то он выступил вперед и сказал: – Вы правы, мастер Вальтер. Здесь должен командовать начальник алебардщиков. Скажите, что вам угодно? – Вот это начальник, так начальник, – сказал мастер весело. – Это начальство я готов всегда признать. Здравствуйте, мастер ван Шток, здоровы ли ваши домашние? Как идет пивоварня? Наверное, хорошо. Очень рад. И он дружески пожал руку товарищу. – Что это значит, любезный ван Шток, – продолжал он, – что сегодня решетка опущена так рано? – Право не знаю, это капитан воинов приказал ее опустить. – Разве боятся нападения монсиньора Давида? – Что вы, какое нападение! – сказал другой алебардщик, ведь у нас перемирие. – А! Это вы, ван Брук, – сказал оружейник, обращаясь к подошедшему гражданину. – Сегодня ваша очередь стеречь ворота. Вы редкий гражданин, потому что при вашем слабом здоровье могли бы и отказаться от должности. Ван Брук был высокий, толстый мужчина, у которого была страсть жаловаться на воображаемые болезни. Он только улыбнулся на слова Вальтера и тяжело вздохнул. – Что ж, товарищи, – продолжал хитрый оружейник, – прикажите поднять решетку; я хочу прогуляться за городом с моим гостем. Алебардщики посмотрели в смущении друг на друга, не зная что делать, но часовой отвечал за них. – Для вас можно поднять решетку, потому что вас все знают, но ваш гость должен ждать возвращения капитана. – Позволь тебе заметить, любезный, – возразил Вальтер, – что ты напрасно отвечаешь, когда тебя не спрашивают. Я привык говорить с хозяевами, а не с их слугами. Вот почему я обращаюсь к гражданам Амерсфорта, которые одни имеют право здесь командовать. Неужели мы позволим распоряжаться у нас наемным солдатам бурграфа? ван Шток, ван Брук, неужели вы повинуетесь наемникам? – Нет, нет, мы здесь начальники! – вскричали граждане. – Никто не смеет командовать нами. – Я тоже думаю, что наши права должны быть уважаемы. Прикажите же выпустить нас, потому что нам надобно торопиться. – Да, – сказал ван Шток, – я прикажу поднять решетку. – И прекрасно! – кивнул Вальтер. – Да здравствует городская стража! – Только подождите немного, мастер, я пошлю за капитаном; он сейчас придет. – Зачем вам капитан? – Да ведь он запретил… – Так стало быть, он здесь старший? Так бы и сказали. Теперь я буду знать, что ваши алебарды ничего не значат и что город стерегут наемные солдаты. Граждане свободного города Амерсфорта не смеют выйти за город без позволения иностранного капитана! Клянусь св. Мартином, я и не подозревал, что у нас такие обширные права. Скажите, ван Брук, не надобно ли просить позволения капитана, если мы захотим обедать часом раньше. Ведь он назначает же часы наших прогулок? Эти иронические слова произвели действие. – Он смеется над нами, – ворчали алебардщики. – Оружейник много себе позволяет! – Ну, да, смеюсь, – сказал Вальтер, к которому подошли его работники и его несколько молодцов. – Я говорю, что вам стыдно повиноваться солдатам бурграфа, подло унижаться перед иностранцами. – Оружейник прав! – вскричали многие голоса, подстрекаемые Франком и его товарищами. – Мы не хотим унижаться, не хотим слушаться наемников. – Так кто же смеет не выпускать нас из города? – произнес Вальтер. – Вы видите, что права наши нарушены. – Да вас никто и не задерживает, – заговорили солдаты, выстроившиеся перед решеткой, – вы можете идти за город, только мы не выпустим дворянина, который с вами. – По какому праву? – спросил Шафлер, которому надоело молчать. – Не наше дело, нам приказано. – Но вы служите бурграфу, вы должны ему повиноваться? – Без сомнения. – Так вот приказ бурграфа выпустить меня из города. Поднимите решетку. И Шафлер показал офицеру свой пропуск, но то отвечал: – Я не умею читать. Вальтер взял бумагу, и показав ее ван Штоку сказал: – Ну, так этот умеет читать! Разве это не подпись бурграфа? – Не мое дело, – возразил офицер. – Я знаю своего капитана. Подождите немного; он скоро придет и велит пропустить. – В самом деле, отчего вам не подождать? – проговорил начальник милиции. – Ведь вам говорят, что капитан придет через несколько минут. – Собаки, а не граждане! – проворчал оружейник сквозь зубы. – Ни рыба, ни мясо! Разве вы не видите, что эти бездельники составили заговор против храброго дворянина и дожидаются, чтобы прошел час, назначенный в пропуске, чтобы арестовать его? – Неужели? – сказал ван Шток так же хладнокровно. – Ведь это не совсем честно. Прочие алебардщики сняли свои шапки перед графом, но ни один ни трогался с места. Между тем Франк, сговорившись со своими товарищами, подошел к Шафлеру и сказал ему: – Мессир, надобно решиться на отчаянный поступок, или все будет потеряно. Сейчас бьет четыре часа, и с первым звонком колокола явится капитан с другими солдатами, чтобы арестовать вас. Мастер Вальтер потерял много времени с разговорами; наемники не уступят, а граждане очень слабы. Садитесь на лошадь и обнажите меч, а мы ворвемся силой в караульню и, добравшись до цепи, поднимем решетку. – Хорошо, Франк, мое терпение уж истощилось. Вперед! Подозвав Генриха знаком, он ловко вскочил на лошадь и, подъехав к самым воротам, закричал: – В последний раз, солдаты бурграфа! Хотите ли повиноваться вашему господину и пропустить меня? Поднимите решетку! Удивившись этим приказаниям, солдаты не знали, что отвечать, но не двигались с места, никак не воображая, чтобы один человек осмелился напасть на двадцать четыре солдата. Но граф бросился в середину их, размахивая мечом на обе стороны, а за ним пробирался карлик на своей черной лошадке, размахивая секирой, данной Вальтером. Произошла суматоха. Франк с товарищами и другими работниками бросился на солдата, крича: «Смерть наемникам!» Палки и ножи пошли в дело. Солдаты, со своей стороны, защищались отчаянно. Но так как они не ждали нападения и пищали их не были заряжены, притом же и гражданская стража, вероятно одумавшись, направила против них свои длинные алебарды, то солдаты хотели уже отступить, как вдруг офицер закричал им: – Ребята, держитесь еще одну минуту. Сейчас бьет четыре часа и капитан подходит. Прижмитесь к стене и не допускайте до цепи решетки. Свалка возобновилась с большим ожесточением. Угрозы, проклятия слышались со всех сторон; одни порывались к цепи, прикрепленной машиной, другие оттесняли нападающих. Вдруг раздался первый удар колокола. – Четыре часа! – закричали солдаты бурграфа. – Победа! Победа! – Нет еще, – вскричал Франк, который сделал последнее усилие, оттолкнул двух солдат, закрывавших собой машину, бросился на офицера, который держал ручку машины и ударил его так сильно палкой по голове, что тот упал. В эту минуту раздался третий удар колокола. – Он погиб! – вскричал Вальтер с отчаянием. – Нет, он спасен! – раздался голос Франка. – В галоп, мессир, в галоп, решетка поднята! Действительно, проезд был свободен благодаря храбрости работника, и Шафлер, пришпорив лошадь, взмахнул еще раз мечом и с последним ударом колокола был за воротами. В эту самую минуту у входа в караульную показался капитан с новым отрядом солдат. – Поздно! – вскричал переодетый крестьянин, которого называли Фрокаром, который смотрел из-за угла на битву, не принимая в ней участия.VI. Ночь после битвы
Прошло несколько часов после отъезда ван Шафлера, и волнение, причиной которого он невольно был, скоро успокоилось. Пробило десять часов, улицы опустели, и если бы не пронзительный голос и трещотка ночного сторожа, можно было бы слышать шорох мыши. Семейство оружейника собралось, по обыкновению, к ужину, но на этот раз ужин был невеселый; все молчали и, казалось, были погружены в тяжкие думы. Даже Вальтер, всегда разговорчивый и беззаботный, не проронил ни одного слова и не дотронулся до второй кружки пива. Это была важная примета, потому что он привык каждый вечер выпивать по три кружки. Вдруг раздался стук в дверь, ведущую в аллею. – Я вам говорил, что это должно быть! – вскричал Вальтер. – Я хорошо знаю наши законы. – Да ты ничего не сказал нам, – отвечала испуганная Марта. – Не сказал, так думал, – возразил мастер. В двери застучали сильнее. – Ну что ж, надобно отворить. Нельзя сопротивляться закону, – сказал Вальтер. Оттолкнув Франка и Маргариту, которые встали, он взял лампу и пошел сам к наружной двери. – Кто там? – спросил он. – Я, Ван-дер-Эльс, судья. Отворите поскорее, мастер Вальтер, и не шумите. Оружейник отпер дубовую дверь и удивился, что судья был один, а не в сопровождении солдат. – Вы один, судья? – проговорил он. – Я теперь не судья, а ваш друг Ван-дер-Эльс. Запирайте поскорее дверь, чтобы не узнали, что я был у вас, и ведите меня к вашему ученику Франку, если он дома. – Он ужинал с нами, – сказал оружейник и ввел его в общую комнату. Судья поклонился Марте и Марии и, сев на кресло, обратился к Франку: – Молодой человек, я знаю, что происходило сегодня у городских ворот, и знаю несчастную причину драки; к вам я пришел за тем, чтобы спросить: можете ли вы оправдаться в том, в чем вас обвиняют? – В чем нас обвиняют? – спросил Франк. – Вы ударили офицера, который защищал цепь решетки? – Это правда, мессир. – Несчастный! А знаете ли вы, что офицер этот умер? – Боже мой! Офицер бурграфа убит! – вскричала Марта с ужасом, а Мария побледнела. – Это еще опаснее, нежели я думал, – сказал Вальтер. – Да, – сказал судья. – Вы, может быть, не знаете закона, что всякий гражданин или простолюдин, который осмелится ударить военного, выдается начальнику отряда и тот имеет право тотчас казнить его. Вот участь, которая ожидает вас, молодой человек. – Сжальтесь над ним, спасите! – вскричали мать и дочь, бросаясь к ногам судьи. .– Что вы просите, друзья мои! Что я могу сделать? Я знаю, что Франк честный и храбрый малый, и что он хотел спасти из западни вашего друга, но капитан наемников знает свои права и воспользуется ими завтра утром. Франк будет взят и повешен, и я пришел предупредить вас об этом. – Бедный Франк, – говорила рыдая Марта, не замечая, что ее дочь лишилась чувств. – Какое несчастье! – сказал Вальтер. – Верно Франку суждено было стать убийцей. – Это правда, мастер, – отвечал молодой работник, – и лучше бы я убил Перолио. Бедный офицер не сделал мне никакого зла. – Друг мой, Ван-дер-Эльс, – продолжал Вальтер, сжимая руку судьи, – нет ли средства спасти его? – Никакого. Капитан уже был у меня с приказом бурграфа, чтобы я выдал ему виновного. Я хотел отговориться тем, что не знаю убийцы, но он сам назвал мне Франка, первого работника у оружейника «Золотого шлема». Что мне было делать, друг Вальтер! Разве я мог ослушаться приказания бурграфа, закона? Однако я отвечал, что город наш имеет свои привилегии и, что после звона ночных сторожей я не имею права войти в дом первого синдика оружейного цеха, где живет обвиненный. – О, если бы наши привилегии помогли нам спасти этого несчастного! – произнес Вальтер. – Если бы завтра, когда придет судья, Франк был в безопасном месте… Надобно воспользоваться несколькими часами ночи и спасти его. – Да, Франк, – проговорила Марта, – беги сейчас же в Гарлем, к нашему родственнику Гюйсману… он тоже оружейный мастер. – Там он, конечно, был бы в безопасности, – проговорил Вальтер, – только как выйти из города? Теперь ворота заперты и солдаты стерегут их. Нельзя ли, чтобы он переоделся и вышел из города? – Нет, это очень опасно, – отвечал судья, – потому что солдаты будут строго всех осматривать. Здесь его тоже невозможно спрятать, потому что, по закону, укрыватели преступников наказываются смертной казнью. – Я не хочу, чтобы за меня страдали другие! – произнес Франк. В это время Вальтер, ходивший по комнате, остановился, говоря сам с собой: – Какая мысль… попробуем. Не плачьте, дети, я нашел средство! – Слава Богу! – воскликнула Марта. – Отец спасет бедного Франка. – Что же это такое, друг Вальтер? – спросил с любопытством судья. – Вот что. Вы знаете, что почти возле городских ворот у меня есть сарай, в котором стоит телега для перевозки тяжестей. Сосед мой, пивовар ван Шток, просил у меня эту телегу на завтрашнее утро перевезти в ней десять бочек пива в монастырь св. Агаты. Я дал ему ключ от сарая, и так как он отправляет пиво рано утром, то вероятно бочки уже положены на телегу. – Что же потом, мастер? – Послушайте, мессир Ван-дер-Эльс, утопающий хватается за соломинку, отчего нам не схватиться за бочку? – Как это? – А вот как. У меня есть другой ключ от сарая, и если бочки сложены на телегу, то Франк спасен. – Каким образом? – Мы выбьем дно одной бочки, выльем куда-нибудь пиво (я заплачу за него ван Штоку). Франк влезет туда и просверлит несколько дырочек, чтобы проходил воздух, я вставлю опять дно, только не так крепко, чтобы его можно было выбить ударом кулака. Судья покачал головой, как бы сомневаясь в успехе этого предприятия. – Не отнимайте у нас надежды, Ван-дер-Эльс. Другого средства нет, отчего не попробовать это? – Делайте, как хотите, и Бог поможет вам. Только не говорите, что я был у вас. И судья простился с хозяевами, а Вальтер проводил его, посмотрев сперва, нет ли кого на улице. Войдя опять в комнату, оружейник увидел, что Франк печально сидит в углу. – Что же ты, друг? Надобно торопиться, пойдем. О чем ты задумался? – Я думаю, мастер, не лучше ли мне остаться здесь и ждать заслуженного наказания. Я могу погубить и вас, спасая свою жизнь, которая мне самому в тягость. – Что это значит, Франк? Ты боишься, что я попаду в беду, но разве ты не принадлежишь к моему семейству? Разве ты не защищал того, который тоже будет принадлежать к моему семейству? Кому ж хлопотать о тебе, как не мне? Ты говоришь, что жизнь тебе в тягость… в двадцать два года! Это что-то странно… Верно ты был у нас очень несчастлив? Верно, Марта и я притесняли тебя и обижали? Стало быть, я дурно сделал десять лет тому назад, что взял бедного сироту и воспитал его как сына? – О мастер! Не говорите этого, прошу вас, – умолял Франк, плача как ребенок. – Ты не жалеешь своей жизни, неблагодарный! Но вспомнил ли ты о тех, кого оставляешь? О Марте, которая любит тебя так же, как свою дочь, о Марии, твоей сестре, которая не может осушить своих слез, наконец подумал ли ты обо мне? Я воспитал тебя, научилсвоему ремеслу и горжусь тобой, как моим сыном. Неужели ты думаешь, что и мне не жаль потерять тебя? Клянусь св. Мартином, я буду бороться до конца жизни, чтобы только спасти тебя. Вместо ответа Франк бросился в объятия Вальтера. – Будь смелее! – продолжал оружейник. – Бог не захочет, чтобы такой славный малый погиб на виселице. Ну, прощайся же с матерью и с сестрой, – пора. Молодой работник стал на колени перед Мартой, нежно поцеловал ее руки и сказал: – Матушка, исполните мою последнюю просьбу. – Говори, дитя мое, что тебе надо? – Благословите меня, как бы меня благословила родная мать. – С охотой, сын мой. Благословляю тебя, благодарю за все радости, которые ты мне доставил и молю Бога, чтобы Он дозволил нам свидеться когда-нибудь. – Когда-нибудь! – вскричал Вальтер, отирая слезы и стараясь рассмеяться. – Надеюсь, вы увидитесь скоро. Только бы ему до утра выбраться из города, а потом я выпрошу ему у бурграфа прощение. Марта, обняв Франка, подвела его к Марии. – Простись с сестрой, – сказала она. И видя, что молодая девушка смешалась, продолжала: – Поцелуй же его, дочка, а то он подумает, что ты его не любишь. Мария упала на грудь Франка, который крепко прижал ее к сердцу и дотронулся губами до ее раскрасневшейся щечки. – Мария, сестра моя! – проговорил он едва слышным голосом. – Завтра день Успения Богородицы, твой праздник; я приготовил тебе стальную цепочку с резным крестом моей работы, но ты получила сегодня такой великолепный подарок, что на мой нельзя и посмотреть… Все-таки возьми его и сохрани, милая Мария. – Я не расстанусь с ним никогда, обещаю тебе, милый брат. Я буду вечно носить твой подарок. – Благодарю, и когда будешь молиться, не забудь меня в своих молитвах. Молодая девушка не могла говорить от волнения. – Скорее, Франк, идем! – проговорил Вальтер и увлек за собой молодого человека. Отворив тихонько двери сарая, он сказал шепотом: – Браво! Бочки на телеге, и все готово, чтобы рано утром пуститься в дорогу. Он начал осматривать воз и считать бочки, которые лежали в два ряда: шесть внизу и пять наверху. – Одиннадцать бочек! – проговорил оружейник. – Кажется я слышал, что сосед посылает в монастырь только десять, но что за беда! Главное дело в том, чтобы успеть все обделать так тихо, чтобы не услышали ночные сторожа. Мы возьмем крайнюю бочку в нижнем ряду, потому что из нее удобнее будет вылезти. За работу же, живее! Найдя ведро, они выцедили все пиво и вылили его в ближайшую канавку, почти не пролив на землю. Потом Вальтер обтер внутренность бочки, просверлив в ней несколько дырочек, так что можно было дышать и видеть, и когда Франк влез туда, оружейник вставил опять дно и сказал, приложив губы к отверстию: – Прощай, сын мой, надейся и терпи. Бог спасет тебя. И Вальтер, боясь возбудить подозрения, так же тихо вышел из сарая, запер дверь и осторожно пошел к дому, где все плакали и молились о спасении молодого человека.VII. Как Франк вошел в город Амерсфорт
В первых числах апреля 1460 года в бедную избушку близ города Турнгута вошел человек, завернутый в широкий плащ из бараньих кож. Незнакомцу не было еще пятидесяти лет, но он уже походил на старика. Он был высокого роста, черты лица красивы и правильны; но он был совершенно плешив, бледен и худ, как будто был опасно болен или страдал душевно. В избушке жила женщина лет сорока пяти, тоже печальная и бледная, одетая в черное. Она сидела в самом темном углу и только подняла голову, когда незнакомец показался у дверей. – Здесь живет вдова Клавдия? – спросил пришедший. – Это я, что вам угодно? – Я сейчас объясню вам, – отвечал незнакомец, одетый пастухом. Заперев дверь, взял скамейку и сел против женщины. – Ваш муж был садовником в монастыре Благовещения в городе Турнгуте? – Да. – Два месяца тому назад он умер и оставил вас в бедности. – Я бы не могла похоронить его, если бы мне не помогли добрые люди. – И у вас нет детей? – Был сын, но Бог взял его. – Вы любили вашего ребенка? – Разве об этом спрашивают у матери? – Не возьмете ли вы на воспитание маленького мальчика? – Такого, как мой сын! О, дайте! Какое счастье, я не буду одна, я буду опять кому-нибудь полезна, буду любить маленькое создание… и он, может быть, полюбит меня. Только… я не хочу, чтобы ребенок был несчастлив… я бедна, так бедна, что с трудом могу заработать себе на хлеб. – Не бойтесь, вы не будете ни в чем нуждаться, только возьмите мальчика. – А его родители соглашаются отдать его? – У него нет ни отца, ни матери, я один родственник сироты и мои обязанности не позволяют мне самому воспитывать его. Я служу пастухом у богатого вельможи на том берегу Мааса и далеко гоняю его стада. Как же мне смотреть за ребенком? – А где же он? – спросила женщина с нетерпением. – Здесь, вот он. И пастух вынул из-под плаща хорошенького двухлетнего мальчика, крепко спавшего. – Какой ангелочек! – вскричала Клавдия, и, взяв осторожно ребенка, начала качать его тихо, чтобы он не проснулся. – Я вижу, что моему сиротке будет здесь хорошо, – заметил пастух. – Он заменит мне моего сына… А как его имя? – Франк. – Как зовут его отца? Пастух на минуту задумался, потом отвечал. – Тоже Франк. – Хорошо… Вы не сказали мне вашего имени. – Меня зовут Ральф, я пастух, – проговорил он глухим голосом. – Вы в самом деле пастух? – продолжала расспрашивать Клавдия. – Правда, одежда ваша, как у пастухов, только вы говорите не так, как простолюдины. Незнакомец, казалось, не слыхал этого замечания или не хотел отвечать на него; он вынул кожаный мешок и выложил на стол деньги, в то время как Клавдия отыскала колыбель и укладывала в нее своего воспитанника. – Итак, – сказал Ральф, – дело это решено. Вы берете ребенка. Вот деньги на первые расходы. Я буду посещать вас всякий раз, как буду поблизости. Прощайте, да хранит вас Бог. И он скрылся так скоро, что вдова не успела ни поблагодарить его, ни расспросить больше. С тех пор пастух часто навещал бедную хижину и наблюдал за ребенком. Но, заботясь о его нуждах и прихотях, он ни разу не приласкал сироту, как будто исполнял только обязанность, а сам не любил ребенка. Когда Клавдия занималась хозяйством, а ребенок, играя, подбегал к пастуху, и собирался влезть ему на колени, Ральф, как бы повинуясь невольному влечению, брал ребенка на руки и нежно целовал его, но вдруг, словно одумавшись, ставил маленького Франка на пол, отталкивал его и быстро уходил, не сказав ни слова. Между тем мальчик вырастал, ум его развивался, и Ральф все чаще приходил в хижину. Казалось, старик смягчился и стал ласковее к сироте. Он не избегал его ласк и, играя с ним, старался понемногу образовать его ум и сердце. Разумеется, он не мог сделать из него ученого, потому что в то время и вельможи мало знали, но Ральф, много живший и испытавший, давал ребенку полезные уроки, учил его быть твердым и честным. Так проходили годы, в тишине и покое, как вдруг посещения Ральфа прекратились. Правда, прибегал маленький пастух и говорил, что старый Ральф прислал его успокоить Клавдию и Франка и сказать им, что дела задержали его за рекой, но что он скоро вернется и даже назначил час свидания и место, куда Франк должен был придти встречать его. Однако напрасно мальчик бегал несколько раз на встречу со своим другом, дни проходили, а Ральфа все не было. Клавдия плакала и не смела сказать ребенку своих предположений. – Что ты плачешь, мама? – спросил ее мальчик. – Что случилось с нашим другом, не болен ли он? – Если бы он захворал, то дал бы нам знать. Нет, он наверно умер. – Умер! – повторил Франк, бледнея. – Не может быть. Бог милостив. Он не отнимет у нас единственного друга, нашего благодетеля! И ребенок еще целый месяц каждый день ходил на место, назначенное Ральфом, но наконец и он принужден был сознаться, что если Ральф не приходит, значит его нет в живых. Между тем больная вдова приходила в отчаяние. Деньги, оставленные пастухом, все вышли и наступила крайняя бедность. Франк, которому было только одиннадцать лет, старался утешить свою воспитательницу, обещал работать и заботиться о ней, как она заботилась о его детстве, но старушка не могла перенести этого последнего удара. Она слегла и через сутки ее не стало. Франк остался сиротой во второй раз. На другой день этого печального дня, а именно 12-го декабря 1469 года, по дороге между Турнгутом и Буа-ле-дюк ехала телега, запряженная лошадью, которой правил амерсфортский оружейник Вальтер. Он отвозил графу фландрскому заказное оружие и потом заехал в Буа-ле-дюк, закупить кожу, необходимую для делания нагрудников, перчаток, кушаков и прочего. Желая доехать скорее, он свернул с большой дороги на проселочную; но разыгралась метель и пошел сильный снег. Он заблудился и отыскивал какое-нибудь жилище, чтобы узнать, в какую сторону ехать. Через час езды он заметил, наконец, жалкую избушку и, остановившись перед ней, начал громком звать хозяина, но так как никто не выходил, он сошел с телеги, подошел к двери, и видя, что она не заперта, вошел в избушку. Однако остановился на пороге; перед ним была страшная картина. В глубине темной комнаты лежало на постели тело женщины, освещенное желтой восковой свечой, прилепленной к изголовью; возле постели возвышался крест, сделанный из дерева, а на полу у ног умершей сидел ребенок и старался из старых досок сколотить гроб. Он был так занят этой работой, что не заметил, как вошел оружейник. Вальтер снял шляпу и сказал: – Твоя работа очень печальна, мой милый. Франк поднял голову, с удивлением посмотрел на пришедшего и опять продолжал сколачивать доски. – Что же делать? – проговорил он. – Это твоя мать? – спросил оружейник. – По крайней мере, она любила меня, как родная мать. – И у тебя нет ни родных, ни друзей? – Никого… Когда матушка слегла, я понял, что не могу помочь ей и побежал в турнгутский монастырь, потому что друг наш Ральф говорил мне, что там есть ученые монахи, которые вылечивают болезни. Но мне сказали, что монах-лекарь едет в замок лечить герцога и что ему нельзя идти со мной. – Это всегда так бывает, – проговорил мастер. – Я прибежал опять домой, – продолжал ребенок со слезами, – но бедная мама уже не страдала… она была неподвижна, как теперь, и не отвечала на мои ласки. Я долго плакал, потом долго молился, чтобы Бог дал мне силы, и пошел к священнику, просил похоронить мою мать. Священника не было дома, а ризничий и могильщик спросили меня, могу ли я заплатить за гроб и могилу? Я отдал им кошелек, в котором было все, что у нас осталось, но ризничий засмеялся, сказав: «Тут мало и на свечи, которые горят у покойника». Я умолял их идти за мной и похоронить мать, но могильщик отвечал, что это невозможно, что мы живем очень далеко и даром никто не пойдет за телом покойницы. Что мне было делать? Я опять заплакал, только от досады, и наконец сказал: «Бедная мама, никто не хочет нам помочь… Я сам сделаю тебе гроб, сам похороню тебя. Бог даст мне силы на это!» На мои деньги я купил восковую свечку и гвоздей, сломал молотком часть забора и выбрал лучшие доски. Все это было мне не легко и я не скоро сладил с досками, но вы видите, что Бог помог мне, гроб почти готов… Завтра я вырою яму в нашем садике и зарою мою маму. Вальтер слушал ребенка с волнением, смешанным с удивлением. Он долго смотрел на умную, красивую физиономию мальчика, и наконец сказал: – А что ты будешь делать, когда похоронишь мать? – Не знаю, – отвечал Франк. – До сих пор я думал только о маме, а не о себе. Я не боюсь будущности. Добрый мой друг Ральф говорил мне: «С твердостью и надеждой на Бога, с честностью и хорошим поведением, человек никогда не пропадет». – Клянусь святым Мартином, твой друг не ошибался. Я тоже уверен, что ты не пропадешь… Но прежде будущего надобно позаботиться о настоящем. Постой, я помогу тебе. И оружейник, принявшись за работу, скоро окончил гроб, положил в него тело Клавдии, и Франк еще раз стал на колени перед той, которая была ему вместо матери, и в последний раз покрыл поцелуями ее холодное лицо. Потом, когда закрыта была крышка гроба, он взял заступ и хотел вырыть могилу, но Вальтер остановил его: – Твоя мать будет похоронена в сельской церкви и мы свезем ее вместе. Тебе же я предлагаю ехать со мной в Амерсфорт. Я оружейный мастер и выучу тебя этому ремеслу. Согласен ли ты на это? – Согласен, благодарю вас: я пойду с вами куда хотите и буду прилежно работать. – Собирай же твое имущество и укладывай его на телегу. Франк повиновался, и когда, с помощью Вальтера, гроб был поставлен на телегу, мальчик снял свою шапку и, несмотря на ветер и снег, провожал пешком тело Клавдии до самой церкви. Погребение и отпевание произошло прилично благодаря деньгам Вальтера, и старушка похоронена была в церкви, как это делалось в то время, когда не были отведены места для кладбищ. Впрочем, обычай этот сохранился и теперь в Голландии. После печальной церемонии, Франк согласился сесть в телегу и Вальтер направился к Буа-ле-дюк. Разумеется, оба они молчали, но мастер, желая рассеять ребенка, начал расспрашивать о его жизни и занятиях. Франк не отвечал ни слова. Вальтер оглянулся с беспокойством и увидел, что бедный сирота лишился чувств. К счастью у оружейника была с собой фляжка с можжевеловой водкой. Он влил в рот мальчику несколько капель, начал растирать ему руки и ноги, и закутал его в самые теплые кожи, потому что обморок происходил столько же от холода, сколько от горя и волнения. Скоро бедняжка пришел в себя и заснул так крепко, что не слыхал даже, как телега въехала в Амерсфорт и остановилась перед домом с вывеской «Золотой шлем».VIII. Как Франк вышел из города
Мы видели, как Франк въехал в Амерсфорт, как его встретило семейство Вальтера и полюбило сироту. Теперь посмотрим, имела ли успех выдумка Вальтера и удалось ли молодому работнику выйти из города, чтобы спастись от казни. Надобно признаться, что ему было не очень ловко в бочке и он ждал с нетерпением минуты своего освобождения. Жизнь не обещала ему ничего хорошего, если бы даже ему и удалось спастись. Он должен был жить вдали от тех, кого любил, и это казалось ему ужасным наказанием, так что если бы он не боялся огорчить доброе семейство, то вышел бы из бочки и сам отдался в руки врагам. Только Вальтер вышел из сарая, как вслед за ним Франк услышал, что двери опять отворились и ввели лошадей, которых начали запрягать. День едва начинался, когда телега, нагруженная бочками, подъехала к городским воротам. Решетка была еще опущена, под сводами ворот было темно, но солдаты и городская стража были на своих местах и прохаживались перед караульной. Городская стража разделялась на два отряда, из которых один назывался алебардщиками, а другой привратниками. В первом находились люди почетные, семейные, которые никогда не выходили из города и были вооружены алебардами и ножами. Привратники, набранные из молодых людей, обязаны были сражаться с неприятелем и вне города, поэтому у них были пищали, секиры и мечи. Кроме того они носили железные шлемы без забрала, тогда как алебардщики были в суконных шапках. Телега въехала под свод и часовой окликнул: – Кто вы и куда так рано? – В монастырь святой Анны. Мой хозяин ван Шток предупреждал вас вчера, что посылает десять бочек пива. – Сейчас поднимут решетку, – сказал часовой, и телега двинулась вперед. – Что же ты обманываешь, друг, – вскричал один алебардщик, который от нечего делать пересчитал бочки. – Здесь не десять, а одиннадцать бочек. Уж не вздумал ли великодушный ван Шток угостить нас? Не для нас ли назначена одиннадцатая бочка? – Точно так, – отвечал извозчик. – Хозяин приказал одну бочку оставить в караульне. – Право, – вскричал алебардщик, – какой я отгадчик. Мессир ван Брук, пожалуйте сюда! – Знаю, – проговорил ван Брук. – Вчера после сражения добрый наш начальник хотел помирить нас с наемниками и обещал прислать пива. Он сдержал свое слово. Да здравствует ван Шток! – Да здравствует! – закричали солдаты и городская стража, и бросились помогать работнику, который, отделив первую бочку в нижнем ряду, вкатил ее в караульню, не подозревая, что там человек, а не пиво, и благополучно выехал из города. – Мы попробуем за завтраком этого пива, – говорили солдаты, с удовольствием посматривая на бочку. Стало быть, бедный Франк не только не освободился от врагов, но, как говорится, попал прямо в пасть волка. Однако он решил терпеть и не выходить из бочки до последней крайности. С помощью дырочек он видел и слышал все, что происходило в караульной, и разговоры солдат не могли быть ему приятны, потому что относились к вчерашней битве и сопровождались угрозами тому, кто убил их офицера. Городская стража, разумеется, не вмешивалась в этот щекотливый разговор. – А что, – сказал один из солдат, – разговорами сыт не будешь. Не худо бы попробовать пивца перед казнью убийцы. – Не худо бы, – повторили многие голоса. – Погодите, друзья! – закричал ван Брук. – Что за охота пить натощак пиво. Надобно прежде закусить. Я сейчас пошлю в мою лавочку за колбасами и соленьем. Почтенный алебардщик был колбасником. – Да здравствует ван Брук! – загремело в караульне. Через несколько минут барабанщик принес большую корзину, из которой достали окорок, колбасы, сыр и хлеб. Восторг солдат увеличился; барабанщик начал накрывать на стол и поставил на него припасы ван Брука. Все сели на места, а барабанщик взял два больших кувшина и, сев на бочку верхом, принялся буравчиком сверлить дно, ожидая, что скоро польется драгоценный напиток. Все смотрели на него с нетерпением, как вдруг раздался голос часового: – Посланный от бурграфа. Ступайте все навстречу! Это было спасением для Франка. Еще несколько секунд и все узнали бы, что в бочке не пиво, а человек, которого ждала смертная казнь. Все вышли из караульни, и Франк понял, что если он останется в своем заключении, то его откроют позже; надобно было воспользоваться случаем и выйти. Он это и сделал. Подышав вволю воздухом, которого не доставало в бочке, он начал придумывать, как ему выйти из караульной. Это было очень трудно. Посмотрев тихонько в дверь, он заметил, что все солдаты и алебардщики выстроились под сводом и ждут приказаний. Другого выхода не было. Франк осмотрелся и увидел, что в углу спит крепким сном один из воинов, сняв с себя оружие и верхнюю одежду. В одну секунду Франк одел шлем и плащ, схватил пищаль и пошел к двери, но барабанщик, отворив ее, сказал: – Скорей, тебя спрашивают. № 6 всегда спит. Франк не отвечая, стал в ряды воинов. Вот что было причиной тревоги. Мы сказали уже, что между враждующими партиями «трески» и «удочки» было перемирие, но в нем было следующее условие: «Города, замки и селения епархии останутся на время перемирия во власти того, кто успел поставить в них сильный гарнизон». Тотчас после подписания перемирия бурграф узнал, что один из главных военачальников епископа Давида, Жерар ван Нивельд, поссорился с епископом и приказал своему отряду оставить замок Одик и присоединиться к нему. Бурграф не мог не воспользоваться этим случаем и решился овладеть замком, оставленным без гарнизона и составлявшим важный военный пункт. Правда, что перемирие было известно всем, и нельзя было сделать явное нападение, но отдельные условия не были еще объявлены; притом, в ту эпоху не много заботились о справедливости, и военное искусство состояло большей частью в западнях, расставляемых неприятелю, а не в благородном бою. Сила всегда распоряжалась по-своему и успех извинял все. Итак, бурграф, желая кончить это дело без шума, прислал приказание, или скорее, просьбу городским стражам Амерсфорта, чтоб они заняли покинутый замок Одик. Мещане были не очень расположены к этому подвигу и объявили, что обязаны только защищать город, а не завоевывать новые земли. Посланный объяснил им, что они не встретят никакого сопротивления, что в замке нет гарнизона, а вместо него большой запас провизии и вина, которыми войско может распоряжаться. Этот пункт расшевелил немного старшин города, и так как им обещали новые права, то они, согласившись на желание бурграфа, отправились к городским воротам, и созвали весь караул, собиравшийся завтракать. Когда все были на своих местах, старшина сообщил городской страже повеление бурграфа, которое, разумеется, принято было громким ропотом. Несмотря на это старшина приказал привратникам отделиться от алебардщиков и отправиться немедленно в путь. Так как № 6 принадлежал к отряду привратников и был молодой человек, то никто не подозревал, что место его занял Франк, тем более, что он надвинул шлем на глаза и поднял воротник плаща. По звуку барабана отряд привратников двинулся вперед и барабанщик, заметив поспешность Франка, сказал смеясь: – Никак № 6 совсем проснулся. Верно, он предпочитает вино епископа пиву ван Штока. Решетка была поднята, отряд развернул знамя, и с ним благополучно вышел из города ученик оружейного мастера.IX. Замок Одик и счастливая встреча
Хотя Франк был вне города, но нельзя сказать, чтобы опасность прошла, потому что он был окружен людьми, преданными бурграфу, которые не осмелились бы спасти человека, осужденного на казнь. Пока он шел с ними к замку Одик, надеясь найти удобный случай к бегству. Замок Одик принадлежал к старинным феодальным постройкам и был так крепок, что его мудрено было взять приступом. Амерсфортские воины подошли к нему уже вечером, нашли, что мосты подняты и во всем замке мертвая тишина, как будто в нем жил сказочный волшебник. Несколько раз воины кричали, чтобы спустили мосты и отворили двери, но никто не отвечал им, и они пришли в замешательство, не зная, что делать. Им сказали, что они возьмут замок без труда, потому что в нем никого нет, кроме владетеля и прислуги, но все-таки, если мосты будут спущены, попасть в замок невозможно, потому что граждане Амерсфорта не намерены были перелезать через рвы и стены. Они спокойно собрались в обратный путь, как вдруг в одной из башен показался огонь, окно открылось и в нем появились две человеческие фигуры. – Да отворяйте скорее, – закричал начальник отряда, – мы вам ничего не сделаем, мы ваши друзья, храбрая треска! Владетель замка поверил этим словам, потому что в темноте не мог рассмотреть знамени и вообразил, что епископ Давид прислал новый гарнизон. Не подозревая измены, он приказал опустить мост, и амерсфортцы вступили в замок с криками победы, как будто в самом деле выиграли сражение. Трудно было узнать мирных граждан в этой буйной шайке, которая принялась грабить погреба и припасы и готовить себе пир. – Я ошибся! – проговорил старик, владетель замка. – Проклятые удочки поймали меня. В то время как воины рассыпались по замку, заперев предварительно ворота и подняв мосты, Франк, вошедший с ними, был опять заперт и вышел в сад, надеясь найти какой-нибудь выход, где не поставлены часовые. Подойдя к стене, омываемой рекой, он заметил башню вдали от замка, и по железной двери и решеткам на окнах принял ее за тюрьму. Другая дверь башни выходила на реку Лек, так что в случае осады замка можно было с этом стороны получать припасы и подкрепления, или бежать незаметно. Рассматривая башню, Франк увидел, что и тут нельзя выйти, как вдруг услышал шаги и говор двух человек, пробиравшихся тс башне. Он спрятался в кусты и увидел владельца замка и его слугу, который нес фонарь. – Хорошо Клаус, – говорил владелец, отворивший так неосторожно двери врагам, – поставь фонарь и вернись скорее к проклятым удочкам, чтобы они не заметили моего ухода. Дай мне только ключи от этих дверей. Ступай же скорее. Может быть, мне удастся спасти и тебя. Служитель удалился, а владелец замка, взяв фонарь, пошел к двери башни. Франк понял, что он хочет уйти, и радовался уже, что может, вслед за ним, выбраться из западни, но старик остановился на минуту и начал бормотать: – А мой пленник! Что мне с ним делать? Может быть, я и не вернусь сюда… А моя клятва? Надобно убить его… Это тяжело, потому что я полюбил его… Но клятва священна, и я не хочу погубить мою душу. И Франк, прислушивавшийся к его шепоту и наблюдавший за всеми его движениями, понял, что в башне заключен человек, жизнь которого в опасности и которого он может спасти. Разумеется, что молодому человеку ничего не стоило отнять ключи у старика и самому идти в башню, но может быть в ней, как и во всех тюрьмах того времени, были потайные ходы, западни, замки с секретами, так что постороннему было трудно найти входы и выходы, и потому он тихонько пробрался вслед за владельцем замка, стараясь ступать как можно тише. В голове молодого человека была одна мысль, что Провидение назначило его для спасения несчастного, обреченного на смерть. Он забыл о собственном своем положении и следовал за дрожащим светом фонаря, по узкой витой лестнице, прерываемой коридорами, в которых всякий заблудился бы, кроме хозяина замка. Наконец, когда они были наверху, старик остановился перед дверью, ведущей, вероятно, в комнату пленника, и вошел туда, оставив дверь полуоткрытой, потому что сам торопился и не мог подозревать, что по следам его идет свидетель, который также незаметно прошел в темницу, желая знать, что будет делать старик. Комната, куда они вошли, не была похожа на тюрьму, хотя в ней было одно узкое окно, высоко от пола и с толстыми решетками. В ней была удобная мебель, ковры, камин, картины и в глубине стояла кровать резного дерева, на которой лежал пленник. Франк не мог разглядеть его, потому что старик поставил фонарь на стол и комната оставалась почти в темноте. – Он спит, – проговорил старик, – тем лучше… бедняжка и не проснется в этой жизни… надобно кончить скорее. И, вынув из-за пояса длинный нож, он подошел к самой постели, а Франк приготовился броситься на убийцу, чтобы выбить у него из рук оружие. – Нет, – пробормотал старик, – он не покаялся… я не хочу, чтобы душа его пошла в ад… надобно разбудить его. Он подвинул стул к кровати и сел. От этого шума пленник проснулся. – А, это вы, мессир, – проговорил он. – Вы навестили меня в необыкновенное время, но я все-таки рад вам. Владелец замка немного смешался и отвечал с волнением: – Я пришел к вам не по своей воле, а для исполнения страшного долга. Вообразите, что толпа удочек завладела замком хитростью и теперь грабит его. Я имею средство уйти из замка и обязан предупредить моего властителя о том, что здесь случилось. – Так и должно; но где живет ваш властитель? – Этого я не могу вам сказать, почтенный мой друг, потому что мне запрещено называть вам его. – Так вы пришли проститься со мной? – Да, – проговорил тот глухим голосом. – На долго ли? – Послушайте… мне тяжело объяснить вам… но я связан клятвой… я не могу оставить вас здесь без себя. – Так я должен следовать за вами? – вскричал пленник радостно. – Я в минуту буду готов, пойдемте… – Вы не понимаете, мой друг, я бы желал взять вас с собой… но это невозможно… – Стало быть, вы не можете ни оставить меня здесь, ни взять с собой… объясните, что же вы хотите делать со мной? – Я должен вас убить. Пленник посмотрел с недоумением на старика, принимая, может быть, все случившееся за сон. – Что вы говорите, мессир? Вы хотите сделаться убийцей, преступником?.. – Я не хочу быть клятвопреступником. – Вы поклялись убить меня? – Да, и сдержу клятву. Вы сами поймете необходимость этого, когда я вам расскажу все обстоятельства. Помните ли, как десять лет тому назад вас привели сюда с завязанными глазами, в эту самую комнату, где я вас ждал. Мой господин предупредил меня, чтобы я приготовил помещение для пленника, который не совершил никакого преступления, но осужден на вечное заключение. «Будь с ним ласков и предупредителен, – прибавил мой могущественный властитель, – только пленник не должен знать ни где он, ни у кого». А главное… слушайте, мой друг… – Слушаю, мессир. Франк тоже придвинулся, чтобы лучше слышать. – Главное, – продолжал старик, – мой благородный господин прибавил, чтобы я поклялся над реликвиями, что если замок будет взять приступом или хитростью, если в нем сделается пожар, то уходя отсюда, я должен убить пленника и тело его бросить в реку… Я поклялся. Крик ужаса вырвался из груди пленника, Франк удержался, чтобы не вскрикнуть тоже. – Я поклялся моим вечным спасением, – повторил владетель замка, – что исполню приказание и сохраню тайну. Вы видите, что я не могу поступить иначе… я ухожу из замка… и вы не должны оставаться в нем. – Но убивают только преступников, мессир, а вы сами знаете, что я не виновен. – Это меня не касается. Мой властитель будет отвечать перед Богом за вашу смерть, как я отвечу, если не исполню клятву. – И вы думаете, что я позволю зарезать себя, что я не буду защищаться? – Ваше сопротивление напрасно. Правда, вы по летам еще сильны, но вы безоружны. Я мог убить вас, когда вы спали, но не хотел, чтобы вы умерли без покаяния… молитесь Богу и готовьтесь умереть. Пленник хотел вскочить с постели и броситься на своего противника, но тот предупредил его, одной рукой отбросил на кровать, а другой поднял нож… Франк, следивший за всеми его движениями, одним прыжком был уже возле него, выхватил нож и, взяв за ворот, отбросил в угол комнаты. Все это случилось так быстро, что пленник не понимал, отчего он еще жив и приподнялся в ту минуту, как Франк бросился к нему. Оба они, посмотрев друг на друга, остановились в недоумении, как бы припоминая что-то. – Нет, я не ошибаюсь, – вскричал Франк. – Недаром голос этот напомнил мне мое детство… Теперь я узнаю и черты моего друга, моего отца! Вы ли это, добрый Ральф? – Молодой человек, – прошептал пленник дрожа от волнения, – вы… вы Франк! – Да, я Франк, ваш сын… И он упал на грудь Ральфа. В это время владелец замка, очнувшись от неожиданного удара, приподнялся, ворча сквозь зубы: «Проклятый, чуть не задушил меня!» Видя что отец и сын забыли о нем, он сказал тихо: – Мой пленник все-таки умрет… только голодом. Мне жаль его, но делать нечего… и этот молодец погибнет с ним. Пробравшись ползком к двери, он быстро вышел и запер ее на замок. Этот шум заставил Франка опомниться. Он бросился к двери, но было поздно, новый скрип и стук доказал ему, что и нижнюю дверь запирают. Он понял, что положение их отчаянно. Не было никакой возможности выйти из башни, и они могли умереть, прежде чем отыщут эту тюрьму и догадаются, что в ней есть заключенные. Франк проклинал себя, что не отнял ключей у старика, не помешал ему уйти. Он просил прощения у Ральфа и старался выломать дверь, но все усилия были напрасны: у него не было с собой никакого инструмента, кроме ножа, который он сломал, стараясь всунуть его в замок. Отчаяние его доходило до безумия, и он в слезах бросился опять на грудь Ральфа. Тот оставался спокоен, уговорил Франка не отчаиваться, а положиться на волю Бога и смириться перед ней. Молодой человек устыдился своего гнева и по-прежнему повиновался своему воспитателю. Чтобы рассеять немного грустные мысли, Ральф начал расспрашивать молодого человека о его жизни и занятиях с того времени, как он оставил его в хижине Клавдии. Франк рассказал все как было, надеясь, что и Ральф, в свою очередь, откроет ему, кто он, потому что нельзя было предполагать, чтобы он был в самом деле пастухом. Однако старик не говорил ничего о себе, приписывая свое заключение ошибке, и молодой человек не смел настаивать. Старый Ральф спросил еще, как зовут замок, в котором он содержался столько лет, и что случилось в этой стране в это время. Когда Франк отвечал, что замок называется Одик, принадлежит епископу Давиду, который изгнан из епархии и живет в Дурстеде, Ральф вскричал: – А, гордый бургундец теперь в унижении! Рука Бога поразила и его. Это – справедливо! Пусть и он испытает в свою очередь несчастья и раскается в своих преступлениях. Удивленный словами Ральфа, Франк спросил, знает ли он епископа. Старик ответил: – Я не знаю епископа лично, но слышал о его гордости и жестокости, как все здешние жители, которые проклинают его. Между тем начало рассветать и первые лучи солнца ответили темницу, пробудили Франка к деятельности. Он не страшился смерти, даже такой ужасной, которая ему предстояла, потому что не ждал ничего от жизни. Его счастье и будущность погибли с той минуты, когда Мария сделалась невестой графа Шафлера, но его мучила мысль, что он мог возвратить жизнь и свободу своему первому благодетелю – и не сделал того. Надежда не была потеряна, потому что днем, может быть, стражи Амерсфорта, гуляя по саду, подойдут к башне и можно будет позвать их на помощь и выломать дверь. Для этого надобно подать какой-нибудь знак. Но окно было очень высоко. Франк хотел придвинуть стол, но ножки его были привинчены к полу. Надо было много усилий, чтобы расшатать его и освободить ножки, и за этой работой молодой человек переломил свой нож. Потом он придвинул стол под окно, поставил на него стул, но этого было недостаточно; руки его доходили до окна, но голова была гораздо ниже, так что он даже не мог видеть парка. Сойдя со своих подмостков, он сорвал со стены один ковер, надрезал его в виде лестницы и прикрепил к верху окна. Так он смог добраться до окна, из которого увидел весь парк. К несчастью, ни вдали, ни вблизи, не было никого, и Франк напрасно провел целый день у окна. При наступлении ночи он слез и сказал Ральфу: – Завтра мы будем счастливее. А между тем он старался всеми силами скрыть, как страдал от голода и утомления. Он ничего не ел в продолжение тридцати шести часов, и двое суток не спал. Глаза его невольно закрылись и, упав на постель Ральфа, он уснул. Было светло, когда Франк проснулся и поспешил влезть на окно, надеясь увидеть кого-нибудь в саду. Утро было превосходное, птицы весело пели, солнце сияло так радостно, что даже бедные затворники ободрились, но прошел и второй день и Франк, почти вися на железной решетке, напрасно смотрел во все стороны, напрасно кричал: никто не показался до самой ночи. Прошел третий день в напрасном ожидании, и Франк упал без чувств возле Ральфа, проговорив: – Все кончено… Я умираю. – Сын мой, – говорил старик, – не ропщи… все мы во власти Бога… Он испытывает нас страданиями… – О, – шептал Франк в бреду, – я мог спасти вас, и теперь умираю с вами! Зачем я не взял ключа! – Не думай об этом, дитя мое, – продолжал старик. – Вспомни, что ты доставил мне лучшие минуты в жизни… ты со мной… в моих объятиях… как же мне не благодарить Бога… Отбрось мысль о земном и посвяти последние силы молитве. Старик замолчал и сложил руки, Франк тоже хотел молиться, но мысли его путались, он шептал имя Марии, признавался ей в любви, и, чувствуя приближение смерти, закрыл глаза. Можно было подумать, что он спит, но он был только в забытьи и ему чудилось, как и всякому в муках голода, что перед ним накрыт великолепный стол, уставленный вкусными кушаньями; он слышал запах разных блюд; вдруг раздались звуки небесной музыки и сама белокурая Мария явилась перед ним с ангельской улыбкой и, подавая руку, говорила: «Ступай в жилище Бога, мой милый, мы скоро там увидимся… Я твоя невеста, я последую за тобой!» За этой восторженной галлюцинацией последовал тяжелый сон. Когда Франк с усилием открыл глаза, был уже вечер третьего дня. Ральф сидел возле молодого человека и держал его руку, прислушиваясь к слабому биению пульса. Этот старик, кажется, не чувствовал страданий голода и спокойно ждал неминуемой смерти. Вдруг послышался вдали шум отпирающихся ворот. Франк вздрогнул и сжал руки Ральфа… Оба начали с жадностью прислушиваться. Шум возобновился… как будто люди идут, гремя оружием; шаги все ближе… ближе… Франк собирает остаток сил, ползет к окну… скольких трудов это ему стоит; вот он ухватился за решетку… видит, что у башни стоят воины, только не амерсфортская стража, а воины, носящие герб епископа Давида… но все равно; бедный молодой человек хочет кричать, позвать их, но у него нет голоса, нет сил; нескольких хриплых звуков вылетают из горла, голова кружится, в глазах темнеет; руки отрываются от окна и он падает на стол, а со стола к ногам Ральфа. Спасение так близко, но нет никакого средства дать знать, что они в башне. Старик взял рукоятку сломанного ножа и бросил ее в окно, надеясь привлечь воинов шумом. Стекло разбилось, но звон был так слаб, что никто внизу не расслышал его. Тогда Ральф, найдя клинок ножа, собрал последние силы и бросил его так удачно, что он пролетел между полосами железа и упал посреди отряда воинов. На этот раз послышались крики и проклятия и Франк, приподняв голову, дополз до дверей, говоря чуть слышно: – Наконец-то… они вошли… идут по лестнице… Отец мой… мы спасены! В самом деле, послышались шаги по лестнице, в коридорах, дверь отворилась и первым вошел старый владелец замка с несколькими наемниками епископа Давида. Между ними пробрался, бранясь напропалую, маленький человечек смешной наружности. – Где эти проклятые удочки, – кричал он, – которые смеют бросать в нас стеклами и ножами! Кто смеет оскорблять войско епископа Давида… Вот мы разделаемся с бездельниками. Но узнав Франка, который так недавно спас господина его, графа Шафлера, Генрих остановился с удивлением и вскричал уже другим голосом: – Это вы, молодой оружейник! Как вы попали сюда? Что же нам врал этот старик, что тут заперты удочки? – Я говорил правду… Этот молодец пришел сюда с разбойниками удочками… – Полноте, – прервал Генрих, – я знаю этого молодого человека. Он друг графа Шафлера, и я советую вам уважать его… Но что с вами, Франк, вы не можете приподняться… Вы так слабы… бледны? – Я думаю, можно ослабеть, – заметил хозяин замка. – Я даже удивляюсь, как они живы, не евши три дня… – Боже мой! – вскричал маленький оруженосец, – и вы не стыдитесь говорить это? Бедняжки! Скорее принесите им обед, вина… Ступайте сами и вернитесь как можно скорее. – Сейчас, – бормотал старик, которого Генрих почти вытолкал, – мне самому жаль моего старого друга… я мигом накормлю его… Между тем оруженосец достал фляжку с вином и дал выпить Франку и старику, которые как будто ожили. Молодой человек спросил тотчас о Шафлере. – Его еще здесь нет, – отвечал Генрих, – но он скоро будет. И он рассказал, как господин его, узнав, что удочки, несмотря на перемирие, завладели замком Одик, просил у епископа Давида позволения выгнать неприятеля, но бургундец отказал, потому что не любил употреблять благородных людей, действующих великодушно даже с неприятелем. Граф Шафлер настаивал, обещал взять замок без сражения, так что перемирие не будет нарушено, и епископ наконец позволил эту экспедицию, с условием, чтобы Шафлер не оставался в замке со своими воинами, а вернулся скорее в Дурстед. Для этого-то, прибавил Генрих, граф взял отряд наемников мессира ван Вильпена и с небольшим числом своих всадников идет сюда, а меня послал вперед, с тридцатью воинами и старым хозяином замка, который перевез нас через реку и вступил в сад через потайную дверь. Мы ждем, чтобы ночь сделалась потемнее, впустим наших товарищей и выгоним удочек из замка епископа. В эту минуту хозяин замка принес корзину с припасами и известие о подвигах амерсфортской стражи. – Они не выходят из столовой, – сказал старик, – и не перестают есть, пить и кричать, отдыхая по временам на тюфяках, разбросанных по полу. Спор происходит у них только оттого, что все отказываются стеречь подъемный мост и ворота. – Тем лучше, – заметил оруженосец графа, – нам будет легче с ними сладить. Скоро раздался сигнал, дающий знать о приближении отряда Шафлера; Генрих пробрался тихонько к воротам и подъемному мосту, и, найдя часовых пьяными или спящими, спокойно впустил своего господина, не потревожив удочек. Весь отряд выстроился на дворе перед замком, а оба начальника, Шафлер и ван Вильпен, вошли в залу, где пировали и спали амерсфортские граждане. Увидев двух вооруженных рыцарей, пьяницы пришли немного в себя и хотели взяться за оружие, но граф остановил их. – Не храбритесь, мои старые знакомцы, – сказал он. – Хоть я имею причину жаловаться на вас, но не хочу вам мстить за то, что вы не отворили мне ворот вашего города. Вы завладели этим замком во время перемирия, – это не честно. Предлагаю вам тотчас же выйти из замка, даже с развернутым знаменем, и обещаю, что никто вас не тронет. Если вздумаете сопротивляться, вам же будет хуже. Посмотрите в окно и увидите, что целый отряд «трески» ждет вас внизу и готов встретить и проводить незванных гостей. Решайтесь же скорее. В выборе нельзя было сомневаться. Храбрецы в минуту согласились уйти, и были очень довольны, что так дешево отделались. Они жалели только об одном: что не успели опорожнить всего погреба замка, но и тут нашлись догадливые лица, положившие себе в карманы по несколько бутылок. Сойдя вниз они очутились перед отрядом наемников ван Вильпена, роптавших на распоряжения начальников. – Не стыдно ли выпускать удочек, когда они попали в наши руки? – говорили воины. – Это измена. Мы не допустим этого. И солдаты начали угрожать гражданам и всячески издеваться над ними. Бедные амерсфортцы прятались за Шафлера, прося его защиты, и граф закричал, чтобы пленников не смели трогать и выпустили их из замка. – Мы не обязаны повиноваться ван Шафлеру, – отвечали наемники. – Мы не его солдаты: у нас есть свой начальник. – Но у вас одно знамя, знамя епископа, и я приказываю вам его именем, – закричал Шафлер. В то время дисциплина была очень ненадежна, особенно у наемников, переходивших от одной партии к другой, и не всегда слушавшихся даже своих собственных начальников. Поэтому, не слушая даже ван Вильпена, который старался успокоить их, они начали напирать на граждан Амерсфорта, крича: – Смерть удочкам! Смерть разбойникам! Жалкие горожане начали бегать по двору, проклиная свою экспедицию и ожидая верной смерти, как вдруг граф вскочил на лошадь и закричал: – Всадники ван Шафлера, сюда! Вы обязаны повиноваться мне. Приказываю вам защищать пленных и проводить их из замка. Если кто осмелится их тронуть, убейте бунтовщика. Приэтих словах всадники выстроились тесным строем и составили железную стену. Бороться с ними было опасно, и наемники, поворчав, разошлись в разные стороны, оставив пленных под защитой отряда ван Шафлера. Удочки обрадовались своему спасению и гордо промаршировали за ворота, но, отойдя несколько шагов от замка, бросились бежать, не переводя духа, и опомнились только в Амерсфорте, где начали рассказывать чудеса о своей храбрости. Молодой граф хотел тоже последовать за ними и возвратиться в Дурстед, но Генрих остановил его, сказав, что Франк в замке. – Как он попал сюда? – вскричал тот. – Поскорее веди меня к нему. И он пошел с Генрихом в башню, где оба заключенных почти оправились от долгого поста. Свидание молодых людей было самое дружеское, и когда Франк рассказал свои приключения, Шафлер с волнением сжал ему руку: – Бедняжка, – проговорил он с чувством, – все эти страдания перенесены из-за меня! Добрый Франк, я уже сказал, что буду твоим другом, братом… Скажи мне теперь, что ты хочешь делать? Тебе нельзя вернуться в Амерсфорт. – Я хотел идти в Гарлем, к брату мастера Вальтера; он тоже оружейник. – И ты примешься за прежнюю работу? – Я не знаю другого ремесла. Ван Шафлер покачал головой и сказал, подумав: – С твоим умом, храбростью и твердостью можно выбрать лучшее занятие, чем стучать по наковальне. Вместо того, чтобы делать латы, ты можешь сам носить их и защищать права твоего государя. Слушай, Франк! Я назвал тебя братом и предлагаю тебе разделить по-братски мою жизнь, с ее опасностями и славой. Хочешь служить монсиньору Давиду? Поедем в Дурстед. Я предлагаю тебе место в моем войске, ты будешь первым после меня. Отвечай, согласен ли ты? Тронутый этим неожиданным предложением, Франк протянул рыцарю руку и молча посмотрел на Ральфа, как бы прося его совета. Старик понял его и поспешил ответить: – Нечего раздумывать мой милый сын. Прими с благодарностью предложение графа ван Шафлера. Я тоже думаю, что ты рожден быть воином, а не работником. Бери только с него пример: будь добр в сражении, добр после победы, будь неумолим к злым, и милостив к слабым… Оставайся верен Давиду Бургундскому и помни мои слова, что сражаясь против него, ты сделаешься преступником. – Но что будет с вами, батюшка? – спросил с заботливостью Франк, не смея расспрашивать о таинственном смысле слов старика. – Не беспокойся обо мне, дитя мое. Я еще не знаю, выйду ли из этого замка. – Кто может вас удержать? – спросил Шафлер. – Увы! – отвечал хозяин замка, подойдя почтительно к рыцарю. – Мне поручено не выпускать пленника… – Я беру все на себя, – прервал Шафлер, – не смейте задерживать его. – Очень рад, великодушный рыцарь… Я сам полюбил доброго Ральфа и плакал о его участи… но выберете ответственность на себя… Слава Богу! Поздравляю вас, друг мой, вы свободны. Граф поручил защиту замка наемникам ван Вильпена, а сам со своим отрядом направился к Дурстеду. Франк упрашивал Ральфа идти с ними, но старик отказался, сказав, что прежде всего ему надобно исполнить одно важное дело. – А чем вы будете жить, батюшка? – говорил Франк. – Вы десять лет не виделись ни с кем. – Я не забыл моего прежнего ремесла. Пастухи везде нужны, и я найду старых друзей. Дойдя до места, где дорога раздваивалась, Ральф остановился. – Здесь мы простимся, сын мой… Прощай, Франк! – Зачем это слово: прощай? – вскричал взволнованный молодой человек. – Отчего не до свидания? – Ты прав, мой сын, Бог не допустил нам погибнуть вместе, он позволит нам опять свидеться. До свидания же, дитя мое. – А когда и где мы увидимся? – Везде, где я могу быть тебе полезным; старый пастух будет следить за тобой, как следил в детстве. Ступай же, нам пора расстаться. Франк со слезами бросился на грудь старика и крепко обнял его. – Благодарю, сын мой, за твои слезы. Они для меня драгоценнее всех сокровищ Бургундии… Ты добр, благороден, честен, храбр… Ты не похож на порочных твоих родственников… – На кого, отец мой? – Нет, ты не похож на них, слава Богу… И обняв еще раз с жаром молодого человека, старый пастух, не объяснив своих загадочных слов, благословил Франка и быстро отошел от него. Франк остановился и долго смотрел вслед Ральфу.X. Лагерь Перолио
С 1478 года, то есть с тех пор, как епископ Давид был изгнан из Утрехта партией «удочек», он жил постоянно в замке Дурстед с небольшим числом придворных. Город, давший свое название замку, принадлежал к немногим городам, оставшимся верными бургундцу не из привязанности к нему, но потому, что надеялся получить от него много выгод и привилегий. Епископ внушал мало симпатии, потому что был иностранец и незаконный сын герцога Филиппа Бургундского, которого история назвала «Добрым», но которого голландцы имели право назвать жестоким, потому что он присвоил себе силой управление Голландией, отняв его у родственницы, графини Жозефины. Он наводнил страну кровью, поддерживая партию «трески» и, в довершение всего, назначил незаконного своего сына епископом Утрехтским, не уважая выбора граждан. Высокомерный герцог оскорблял народ, лишая его привилегий и обременяя налогами. Партия «трески» переносила дерзкое обращение Филиппа и сына его Карла Смелого только потому, что знала, что партия «удочек» страдает еще более от тирании бургундского дома. И когда в 1477 году погиб Карл Смелый, удочки вздохнули свободнее, соединились и прогнали из утрехтской епархии Давида. Напрасно он сзывал приверженцев трески из Голландии и Зеландии: эти провинции не хотели начинать неприязненных действий без приказа нового своего государя, герцога Максимилиана Австрийского, супруга Марии Бургундской, дочери Карла Смелого и, следовательно, племянницы Давида. Епископ послал просить помощи племянника, и Максимилиан обещал усмирить бунтовщиков, но восстание во Фландрии удерживало его, так что в минуту нашего рассказа монсиньор напрасно ждал помощи и должен был держаться собственными средствами, которые почти истощились, потому что он не умел привязать к себе самых преданных защитников. Надобно прибавить, что Давид соединял в себе пороки отца и брата и не имел ни одного из хороших качеств бургундцев. Он был горд, дерзок и жесток до крайности. Впрочем, в то время, когда жизнь человеческая ничего не стоила, жестокость была обыкновенной принадлежностью властителей, по крайней мере герцоги Филипп и Карл отличались необыкновенной храбростью, и когда гнев не затмевал их рассудка, они поступали справедливо и великодушно; но Давид был всегда несправедлив и бесчестен по расчету. Вместо храбрости он употреблял хитрость, льстил своим врагам, чтобы привлечь их на свою сторону, и обращался дурно со своими приверженцами, зная, что они не смеют ему изменить. Слабые люди всегда прибегали к такой неблагородной политике. Мы уже говорили, что Давид принял к себе на службу итальянца Перолио с его шайкой и не запрещал наемникам грабить своих и чужих. Епископ обращался с начальником их гораздо ласковее, чем с храбрыми и преданными дворянами. Кроме того, у него было другое наемное войско, под начальством гасконца Салазара, сына знаменитого воина, отличавшегося при Карле VII. Маленькая же армия епископа находилась под начальством трех рыцарей: ван Нивельда, ван Вильпена и ван Шафлера, и, по своему обыкновению, монсиньор Давид не думал награждать их за преданность, даже не извлекал из них никакой пользы. Сколько раз эти храбрецы упрашивали епископа, чтобы он позволил им взять приступом Утрехт, но он все откладывал решительное сражение, надеясь на скорую помощь Максимилиана, а между тем отнимал почти последнее у поселян, чтобы содержать иностранных бандитов, которые ничего не делали. Ван Вильпен и Шафлер огорчались такими нелогичными распоряжениями, но преданность их к бургундскому дому была искренняя, и они не роптали на епископа; зато ван Нивельд, человек честный, но пылкий и раздражительный, не мог хладнокровно переносить оскорблений и давно объявил, что при первой обиде перейдет к удочкам. Это было тем вероятнее, что старший брат рыцаря был лучшим другом бурграфа монфортского. Епископ Давид знал о намерении ван Нивельда, но вместо того, чтобы объясниться с ним и привязать его доверчивостью, обращался с ним еще с большим пренебрежением, и боясь, чтобы он не передал врагам замка Одик, вызвал его оттуда и приказал стать с войском в деревне Котен. ван Нивельд не перенес этого оскорбления и поклялся отомстить. Однако он исполнил приказание, только не появлялся больше при дворе Давида. В то же время ван Шафлер предупредил его об измене Перолио, и епископ, боясь потерять половину своего войска, решился разузнать намерения двух начальников. Он призвал графа Шафлера, принял его чрезвычайно ласково и посадил возле себя, чего никогда никому не позволял. – Любезный сын, – сказал он рыцарю вкрадчивым голосом, – я вас призвал для того, чтобы поблагодарить за ваши заслуги, за преданность. Я горжусь вами, граф, и надеюсь, что в будущем могу рассчитывать на ваше расположение. – Я принадлежу вам, монсиньор, располагайте мной, – отвечал Шафлер почтительно. – Так вы не откажетесь, сын мой, оказать мне маленькую услугу? – Приказывайте монсиньор, я готов. Епископ протянул руку к графу и продолжал еще мягче: – Завтра кончается перемирие, а я очень беспокоюсь насчет намерений мессира ван Нивельда и мессира Перолио. Прошли слухи, что они хотят изменить, но я еще сомневаюсь… – Разве сомнение возможно? – прервал Шафлер. – Измена ясна. Давид нахмурился и через минуту возразил довольно сухо: – Если вы, граф, уверены в этой измене, то я хочу иметь ясные доказательства. Вот почему мы решили осведомиться об этом… осторожно, не показывая недоверчивости. Это, может быть, приведет их опять на путь долга. Вот два письма, мессир, одно к ван Нивельду, другое к Перолио. Я желаю, чтобы они получили их как можно скорее. – Я тотчас пошлю всадников, и через несколько часов письма будут в их руках… – Я не имею надобности в ваших всадниках, мессир, и желаю, чтобы вы сами отвезли письма. Шафлер вскочил со своего места: – Что вы сказали, монсиньор? Я – начальник ваших войск, дворянин! – Оттого-то я, мой сын, и прошу вас, чтобы вы приняли это на себя. Мне надобен ответ как можно скорее, а вашему оруженосцу или всаднику не захотят, может быть, отвечать, тогда как вам не откажут в этом. Да и кто лучше вас может узнать с первого взгляда расположение начальников и войска? – Хорошо, монсиньор, – сказал Шафлер, – я исполню ваше поручение… Через час я буду с моим отрядом на дороге в Котен. Епископ улыбнулся и возразил: – Что вы, граф! Если вы отправитесь с войском, это будет не дружеское посещение, а угроза или вызов… Вы должны ехать один и без оружия. – Без оружия! – вскричал с гневом граф, но одумавшись, продолжал. – Вы знаете, что я вам предан, и потому поеду один с моим оруженосцем, чтобы доказать, что Шафлер не боится изменников и презирает их; но придти к Перолио без оружия невозможно. Мое оружие доказывает, что я дворянин, а дворянин не должен быть безоружен, даже в разбойничьем притоне. Твердый тон, которым были проговорены эти слова, доказал епископу, что настаивать напрасно, и потому он сказал: – Я не буду спорить с вами, мой сын; но так как жизнь ваша драгоценна для нас, то мы просим вас и даже приказываем, как государь и духовный отец, не отвечать на вызовы и употребить оружие только в случае законной защиты. И благословив молодого человека, он отпустил его… Через час храбрый рыцарь ехал по дороге в Котен в сопровождении конюшего Генриха. На нем были великолепные латы работы Франка, подаренные мастером Вальтером, шлем с пятью белыми перьями, тяжелый меч и богатый кинжал. Сверх лат наброшен был плащ с вышитым гербом епископа Давида; к левому плечу прикреплен щит с гербом Шафлера. Лошадь его, рослая и сильная, была тоже покрыта железом. Генрих ехал на почтительной дистанции от своего господина, тоже в латах и в шлеме, только без забрала. Подъезжая к Котену, они увидели солдат ван Нивельда, занятых чисткой оружия и военными приготовлениями. Некоторые из них узнали ван Шафлера и поклонились ему почтительно, однако смотрели на него с удивлением, не понимая, зачем он приехал. Граф остановился перед домом ван Нивельда и с грустью заметил, что над зданием не развивалось знамя епископа. В одно из окон смотрел помощник начальника и, увидев приближающегося всадника, сошел вниз и встретил его. – Это вы, мессир граф? Мы не ждали вашего посещения. – Здравствуйте, храбрый ван Йост, – отвечал Шафлер, – мессир ван Нивельд так давно не был в Дурстеде, что надобно было приехать сюда, чтобы повидаться с ним. Старый воин смешался. – Очень рад, мессир, – проговорил он, – только моего начальника нет дома. – Где же он? – Не знаю. – Не обманывайте меня, ван Йост, а скажите лучше прямо, что он в Утрехте, у бурграфа монфортского. Кто мог ожидать этого! Старик вздохнул вместо ответа. – И вы последуете за ним в новый лагерь? – спросил Шафлер. – Я предан лично ему, а не партии, которую он защищает. – А что думают ваши товарищи? – Они согласны со мной. В наше время трудно разобрать, кто прав, кто виноват, и потому мы привязываемся к человеку, предоставляя ему отвечать за наши поступки. – Да, вы правы, вы остались верны вашему начальнику… виноват один ван Нивельд. Вот письмо к нему от епископа. Желаю, чтобы он, прочитав его, одумался и не заслужил названия изменника. – На все воля Божья, – проговорил старик. – Прощайте, мессир, вы едете опять в Дурстед? – Нет, мне надобно побывать в лагере мессира Перолио. – Уж не везете ли вы письмо епископа к начальнику Черной Шайки? – спросил старик с беспокойством. – Да, ван Йост, разве и Перолио в Утрехте? – Не знаю, мессир, только мне жаль, что такой благородный, добрый рыцарь отправляется один в лагерь итальянца. – Благодарю за сочувствие, но Шафлер ничего не боится и смело идет, куда велит долг. Прощайте. – Да хранит вас Бог, мессир граф! – проговорил с чувством ван Йост, следя глазами за удалявшимся рыцарем. Через несколько минут Шафлер доехал до лагеря Перолио, расположенного в долине между рекой Лек и дорогой, которая вела из Дурстеда в Утрехт. Черная Шайка построила бараки и конюшни, и тут, точно так же как в лагере ван Нивельда, всадники и прислуга их чистили оружие и латы, готовились к скорому походу. Все это происходило тихо и в порядке, что означало близость начальника. Странно, что эти разбойники, для которых не было ничего святого, дрожали как дети перед капитаном. Никто не смел сказать ему ни слова, и приказания его исполнялись беспрекословно. Малейшая неосторожность или непослушание наказывались жестоко. Даже во время оргий, стоило только показаться Перолио, в минуту буря умолкала, хмель вылетал из головы и все готовы были умереть по его знаку. В Черной Шайке было до двух тысяч человек и все всадники и солдаты высокого роста. Все вооружение их было черное, лошади тоже черные, так что один вид этого войска внушал ужас. Палатка Перолио стояла посреди лагеря, но сам он лежал на подушках под деревом, защищавшим его от солнечных лучей. Богатый костюм его выказывал атлетическое его сложение; левая рука была без перчатки, а правая, по обыкновению, в черной шелковой перчатке. Возле него стоял паж и по временам наливал ему в кубок французского вина. Перолио, увидел приближающегося офицера, англичанина Вальсона, и проговорил как бы в полусне: – Ризо, зачем идет сюда Вальсон, кого он ведет с собой? – Двух всадников, мессир, только я их не знаю… Это рыцарь на службе епископа, потому что я вижу бургундский герб. – Бургундцы! – проговорил зевая итальянец. – Хорошо, налей мне еще вина. Вальсон, остановив Шафлера поодаль, подошел один и думая, что Перолио спит, сказал пажу: – Ризо, граф Шафлер желает говорить с капитаном. – Шафлер! – вскричал Перолио радостно. – Веди его, Вальсон, веди скорее. И, привстав на подушках, он вежливо поклонился посетителю. – Простите, мессир, что я встречаю вас не совсем учтиво… но меня извиняет жара. Ризо, помоги графу сойти с лошади. – Я здесь на несколько минут и не сойду с лошади, – отвечал Шафлер. – Очень жаль, мессир. В таком случае вы не откажетесь выпить бокал французского вина. Ризо, налей. – Не беспокойтесь, я не буду пить, – возразил граф. – Вы не похожи на ваших соотечественников, у которых всегда жажда и которые чаще держат в руках бутылку, чем меч. И, не дав времени ответить Шафлеру, Перолио продолжал еще любезнее: – Так я выпью, чтобы поблагодарить вас за ваше посещение. – Напрасно благодарите, мессир, я здесь не по доброй воле, а по приказанию монсиньора. – А! Достойный епископ беспокоится о моем здоровье! Меня очень трогает его внимание. – Если бы монсиньор желал осведомиться о вашем здоровье, то прислал бы своего врача… а я взялся доставить вам его приказание. – Его приказание? – вскричал Перолио, с бешенством вскочив с ковра. – Да, его приказание, – повторил граф хладнокровно. – Разве мы оба не служим Давиду Бургундскому? Начальник Черной Шайки в минуту успокоился и опустившись на подушки, проговорил: – Любопытно знать, что мне приказывает монсиньор Давид. – Вы это узнаете из его письма. Ван Шафлер подал бумагу Генриху, который хотел вручить ее Перолио, но Ризо успел выхватить ее из рук оруженосца и, став на одно колено, протянул письмо своему господину. Итальянец посмотрел на печать епископа и, не развертывая пергамента, отвечал с дерзкой иронией: – Можете поблагодарить вашего епископа и сказать ему, что я рассмотрю в другое время его послание и отвечу на него. И бросив письмо с презрением на пол, он опять лег. Шафлер дрожал от досады, но старался удержать свой гнев. – Я требую, именем монсиньора Давида, чтобы вы прочитали его послание и дали мне тотчас ответ. – Это невозможно, мессир… здесь нет никого, кто бы умел читать… Мы не занимаемся науками. – Я умею читать, – возразил Шафлер. – Дайте мне письмо. – Я не могу сделать этого; если бы ваш епископ хотел доверить вам то, что заключается в этом послании, он не написал бы письма. – Приказываю вам, именем епископа, прочитать письмо и отвечать на него, – вскричал рыцарь. – Вы слишком смелы, мессир, – сказал Перолио, приподнимаясь на подушках. – Неужели вы думаете, что у меня есть время и охота заниматься разбором писания вашего незаконного епископа… Поговорим лучше о другом. Ризо, вина! Я хочу выпить в честь красоты и верности той, которую любит граф Шафлер. Здорова ли дочь оружейника, хорошенькая Мария? Знаете ли, что такую красавицу редко можно встретить. Я видел ее в Амерсфорте… в тот самый день, как вы там были, и чуть не влюбился в нее… Право, белокурая Мария мне очень понравилась, но я узнал, что сердце ее уже занято и, может быть, двумя… – Мессир, опомнитесь! – проговорил Шафлер бледнея. – Я не люблю идти по следам других, – продолжал бандит, злобно смотря на молодого человека. – Мне сказали, что вы хотите на ней жениться… я не поверил этой сказке. Можно позабавиться с хорошенькой мещаночкой, но дворяне не женятся на подобной дряни. Это бесчестье! – Дворянин не может себя обесчестить тем, что дает свое имя честной девушке, – сказал с усилием Шафлер, терпение которого приходило к концу. – Вы судите совершенно справедливо, мессир, но я не такой мудрец, как вы, и лучше выпью еще за белокурую красавицу. Неужели вы не выпьете со мной? Шафлер молча оттолкнул бокал, поданный пажом. Перолио засмеялся. – Как вы хладнокровны, мессир, – продолжал он. – Ничто не может вас тронуть… Можно в ваших глазах оскорбить предмет вашей любви – и шпага ваша останется в ножнах. – Я здесь не жених девушки, достойной уважения, – вскричал Шафлер громовым голосом, – а посланный епископа. Если же вы осмелитесь в другое время произнести ее имя, я заставлю вас замолчать. – А отчего же не теперь? – спросил Перолио. – Мне надоело лежать, вынимайте ваш меч, храбрый рыцарь, потому что я не раз оскорбил вашу красавицу. Шафлер хотел бросить свою перчатку в лицо бандита, но вспомнив обещание, данное епископу, остановился. – Ты можешь оскорблять меня безнаказанно, – проговорил он глухо. – Ты отгадал, что епископ запретил мне отвечать на вызовы. – И вы сдержите это обещание? – Надеюсь, что Бог даст мне на это силы. – Ваше счастье, что мне лень и что так жарко, а то я бы нашел средство заставить вас драться. – Ваши старания были бы напрасны. – А если бы я оскорбил вас, назвал трусом, подлецом? – Я презираю ваши оскорбления и не хочу отвечать на них. – Но будете ли вы молчать, когда я плесну вам в лицо бокал с вином, потому что рука моя не достанет до вашей щеки? И Перолио, смеясь, поднял бокал. – Если вы посмеете это сделать, я в ту же минуту убью вас, как собаку. – А! Так вот храбрость здешних дворян. Вы не хотите сразиться честно, а любите убивать безоружных. Вальсон! – вскричал он, обращаясь к своему офицеру. – Позови сюда товарищей, пусть они посмотрят на этого рыцаря, закованного в железо, которому епископ приказал быть подлецом. Можно оскорблять его и его красавицу, можно плевать на него и он будет молчать. Его латы и оружие защищают его только от мух. Перенести более не достало бы человеческих сил, и Шафлер не удержал гнева. Он так сильно ударил по щиту, что звон раздался по всему лагерю, и закричал: – Бездельник! Бери оружие и садись на лошадь; я омою в твоей крови все обиды, нанесенные тобой. – Наконец-то! Видаль, оседлай Гектора и подай мои латы, а ты, Ризо, поднеси еще бокал храброму рыцарю; вино придает больше смелости. – Мы находим храбрость не в вине, – сказал Шафлер, – только итальянские фанфароны стараются возбудить себя крепкими винами. – Вам необходим монах, чтобы перед смертью выслушать вашу исповедь. Вальсон, позови Фрокара. Он врач и палач в моем войске, но был прежде монахом, и верно не забыл своего ремесла. – Не богохульствуй, несчастный! – вскричал Шафлер. – Может быть, твоей душе скоро понадобятся молитвы. Перолио, надевавший латы с помощью оруженосца Видаля, посмотрел угрюмо на графа и, подумав с минуту, остановился. Страшная улыбка мелькнула на его бледном лице. – Что же вы медлите? – спросил Шафлер. – Не вы ли вызвали меня на бой? – Меня останавливает одна мысль. Я принудил вас ослушаться приказания епископа, который, пожалуй, отлучит меня от церкви. Это очень важно для рыцаря, и я не хочу страдать за это целую вечность у ворот рая. – Полно смеяться, Перолио, – возразил Шафлер, – бери меч: я жду тебя. – Я не хочу сегодня драться… Я успею убить тебя в другой раз. – Не ты ли вызвал меня твоими оскорблениями! Я знал, что в тебе нет чести, но верил, по крайней мере, в твою храбрость. Я и в этом ошибся: ты просто низкий бандит. – Я не забочусь о твоем мнении, – отвечал спокойно начальник Черной Шайки. – Спроси у этих людей, которые двадцать лет следуют за мной по разным странам. Они скажут тебе, трус ли я. Что же касается моего происхождения, то и у меня были герб и пергаменты, но я сам уничтожил все это и составил себе новый герб. Посмотри на него. И он указал на свое знамя, состоявшее из большого четырехугольника черной шелковой материи, обшитой золотой бахромой; посреди его вышит был серебром обнаженный меч с девизом: «Держу его высоко!» – Я хочу рассказать вам, по какому случаю я принял этот девиз. – Мне некогда вас слушать, – отвечал Шафлер, – и если вы отказываетесь от поединка, то мне нечего здесь делать, и я уйду. – Постойте, мессир граф, в лагерь Перолио можно войти всякому, но выйти из него не легко. – Вы осмелитесь меня задержать? – Отчего же нет? Ведь я разбойник, начальник Черной Шайки. Разве есть кто-нибудь и что-нибудь на свете, кому бы я повиновался? Я один делаю, что хочу, не отдавая никому отчета в моих поступках, и вы уедете из лагеря, когда я вам позволю. – Увидим, – заметил Шафлер и, повернув коня, хотел броситься в галоп, но по знаку Перолио вся шайка двинулась рядами и окружила графа железной стеной. – Не старайтесь разорвать этих рядов, вы разобьетесь об эту живую стену, несмотря на вашу храбрость. Останьтесь на месте и выслушайте меня. Я даю слово бандита, что отпущу вас из лагеря. Шафлер кусал губы с досады, но чувствуя себя во власти бездельника, остановил лошадь. – Вот это лучше, – заметил Перолио, выпив еще кубок вина. – И вы не раскаетесь, что выслушаете мой рассказ. Он довольно забавен. Это было давно, лет двадцать тому назад; я был на юге Франции. Вы не знаете, граф, прекрасного Прованса, который нисколько не похож на вашу холодную, туманную страну. Я был еще очень молод, но командовал отрядом храбрецов и служил у доброго короля Людовика XI, который и теперь царствует. На берегу Дюрансы возвышался великолепный замок, почитаемый неприступным. В замке жил богатый, могущественный граф, вассалами которого были двенадцать первых дворян провинции, и тридцать селений повиновались ему. У графа был сын, надежда всего семейства, и дочь, молодая и прекрасная, которую я полюбил до безумия, как вы любите дочь оружейника. Мне было двадцать два года, и так как в эти лета простительно делать глупости, то я явился к графу и просил руки его дочери. Отец улыбнулся презрительно и, показав мне длинный ряд портретов своих предков и великолепный герб, спросил, кто я такой, чтобы осмелиться вступить с ними в союз? Я мог также назвать несколько знаменитых имен в моем роде и показать ему дворянский герб, но гордый вельможа нашел бы это слишком недостаточным и потому я показал ему только мой меч, сказав, что это самый лучший герб. Граф прогневался на мою смелость и чуть было не приказал лакеям выгнать меня. Но я успел выйти сам. Прошло два года. Этого очень мало для человеческой жизни, но в это время король Людовик начал подозревать графа в измене в сообществе с герцогом Бретанским. Говорят, что король не верит никому, но в этом случае он поверил клевете и не требовал даже доказательств. Он приказал начальнику Черной Шайки овладеть замком, и начальник поспешил повиноваться. Замок был взят, разграблен и разрушен и граф перевезен в тюрьму, в Пуатье. Сын его осмелился упрекнуть меня в несчастьях отца… он был не так хладнокровен как вы, мессир, и через час графиня плакала над телом последнего в роду, лишенного графского погребения. Она не могла перенести удара и умерла в припадке безумия. Оставалась дочь. Красавица вспомнила, что я любил ее, и пришла в мой лагерь, просить об отце. Она знала, что король исполнит мою просьбу, и предложила сама свою благородную руку бандиту. Но было уже поздно. Бандит не хотел быть ее мужем, и она согласилась сделаться его любовницей… чтобы только спасти отца. Несмотря на все усилия казаться покойным, Шафлер вздрогнул. Перолио продолжал: – К несчастью жертва красавицы была напрасна, потому что я опоздал явиться к королю с просьбой. Граф был уже осужден и мне поручено было исполнить казнь. Я не смел ослушаться и пошел прямо в тюрьму. Старик посмотрел на меня гордо, но когда я рассказал ему о всех несчастьях, постигших его семейство, он задрожал, как вы задрожали, мессир, и преклонил свою голову. Гордость оставила его на эшафоте, когда разбивали его древний герб и тогда же я показал ему мое новое знамя, с мечом и девизом: «Я держу его высоко!» Ризо, еще вина. У меня засохло горло от рассказа! Ну, теперь скажите, мессир Шафлер, как вы находите мой герб? Он доказывает, что я умею мстить. Старый граф испытал это на себе. Шафлер помолчал немного, чтобы скрыть ужасное впечатление, произведенное рассказом, и сказал, смотря в глаза разбойника: – Вы хорошо сделали, что выбрали черный цвет для вашего знамени. – Отчего же это, мессир? – Оттого, что на нем не заметно пятен. – Прекрасно! – вскричал Перолио смеясь. – Впрочем, я нахожу, что в вашем гербе есть недостаток. – Какой же? – Этот меч должна держать красная рука убийцы, рука с таким страшным, неизгладимым пятном, что ее надобно закрывать от всех. Не после ли этого благородного поступка вас прозвали Перолио – Кровавая Рука? Эти слова произвели страшное действие на бандита. Он вскочил, как ужаленный змеей, и злоба исказила до того черты его лица, что он сделался безобразным. – Дьявол, – закричал он в исступлении и выхватил меч из рук оруженосца; но в ту же минуту уронил его на землю и, бросив на Шафлера взгляд ненависти, проговорил несколько спокойнее: – Нет, не хочу убивать тебя сегодня. Начальник бандитов дал слово, что выпустит тебя живым – и сдержит его… Да и что за месть проколоть тебе горло, как собаке и видеть, как ты умрешь в две секунды. Нет, это было бы глупо. Я умею мстить лучше. Я увезу твою красавицу, обесчещу ее и выгоню из лагеря, а потом, мессир, вы почувствуете на себе всю тяжесть этой Красной Руки. Между тем, я хочу, чтобы и на тебе было клеймо, которое нельзя ничем смыть. Ты оскорбил начальника Черной Шайки, и будешь наказан… Воины! – закричал он на весь лагерь. – Возьмите этого рыцаря, снимите с него одежду и латы, привяжите к дереву и бейте ремнями до тех пор, пока тело его не будет так же красно, как моя рука! Сто флоринов за работу. – Ура! – заревела толпа разбойников. Шафлер не верил своим ушам… Он не мог собраться с духом, как бандиты окружили его сплошной стеной и готовились кинуться на него. Тогда граф бросил уздечку на шею коню, схватил меч обеими руками и размахивая им на обе стороны, смело бросился вперед, крича: – Прочь с дороги, разбойники! Однако несмотря на храбрость и силу рыцаря, он не мог бы сладить с толпой солдат и не избегнул бы унизительного наказания, если бы небо не послало ему неожиданную помощь. Мессир ван Нивельд, возвратясь в свой лагерь, узнал о посещении Шафлера, о том, что он отправился к Перолио и, предчувствуя недоброе, поспешил вслед за молодым графом. Он подъехал в ту минуту, как Шафлер защищался от сотни бандитов, которые остановились, ожидая новых приказаний. – Что это значит? – проговорил, подъезжая ван Нивельд. – Вся Черная Шайка нападает на одного человека и начальник ее смотрит на этот постыдный бой? Перолио силился улыбнуться и скрыть неудовольствие при виде нового гостя. – Не беспокойтесь, ван Нивельд, – сказал он. – Рыцарь будет жить, только я хочу наказать его. – За что? – Пожалуй, я вам объясню, в чем дело, хотя не признаю за вами права меня допрашивать. Этот человек оскорбил меня и я проучу его немного. – Этот разбойник, – закричал Шафлер в негодовании, – отказался от честного боя и приказал своим бандитам высечь меня. – г Это невозможно, Перолио, вы не могли отдать такого приказания, – говорил ван Нивельд. – Отчего же нет? Кто может мне помешать делать, что я хочу? – Надеюсь, что я помешаю. – Вы тоже грозите мне? – Нет, но я вам советую, как друг. Отпустите тотчас ван Шафлера; вы не должны удерживать его, не смейте поступать жестоко с прежним вашим товарищем. – С теперешним неприятелем. – Тем более надобно его уважать, особенно когда он один и доверился вашей чести. Он ваш гость, Перолио, так же как я. Мы с вами, хотя по разным причинам, перешли на сторону бурграфа монфортского, но неужели вы думаете, что новый наш начальник одобрит ваше поведение? Нет, не только он, но и все здешние дворяне, удочки и трески, придут к вам требовать удовлетворения за обиду, нанесенную самому благородному из рыцарей. – Пусть придут, я не боюсь никого. – Но вы не сладите с ними… вы погибнете. Откажитесь от мести и отпустите ван Шафлера. Скоро, может быть завтра, вы встретитесь с ним в сражении и можете отомстить честно. – Вы так убедительно просите за вашего соотечественника, мессир, что я не могу отказать вам. Я согласен отложить мою месть до более удобного случая, но требую, чтобы он заплатил моим воинам сто золотых флоринов, обещанных мной. – Ван Шафлер не богат… я заплачу за него, – сказал Ван Нивельд. – Хорошо… но граф должен сойти с лошади и на коленях благодарить меня за милость. – Это безумное требование, Перолио. – Может быть; только это единственное условие, если Шафлер хочет быть освобожден. Я клянусь в этом. В эту минуту к ван Нивельду подскакал лейтенант ван Йост и сказал что-то тихо, после чего первый сошел с лошади и стал на одно колено перед начальником Черной Шайки. – Что вы делаете, ван Нивельд? – вскричал Перолио. – Я преклоняюсь перед вами, вместо Шафлера. Я такой же дворянин как он. Ношу золотые шпоры и за него благодарю вас за милость. – Хорошо, я согласен! – проговорил Перолио с досадой. – Пусть едет. – Прощайте, граф, – сказал ван Нивельд, вставая и протягивая руку Шафлеру, – мы встретимся, может быть, скоро с оружием в руках, но и тогда вы найдете во мне благодарного противника. – Я никогда не сомневался в вас, – отвечал молодой человек. – И никогда не забуду вашего великодушия. Сожалею только, что должен благодарить врага моего государя. – Сам епископ виноват в том, что я его оставил. Еще раз прощайте, граф. Шафлер дал знак Генриху, которого все время стерегли бандиты, и оба они выехали из лагеря. – Странно, – заметил Перолио. – Я никак не думал, чтобы здешние дворяне согласились так унижаться перед иностранцем, и еще не для своего спасения. – Это вас – удивляет, Перолио? – отвечал ван Нивельд. – Потрудитесь посмотреть на дорогу, ведущую к вашему лагерю. – Вы приехали не один, мессир? – Не совсем… со мной три тысячи солдат. Понимаете ли вы теперь, зачем я унизился перед вами? Я хотел избежать сражения, и вы поступили очень благоразумно, капитан, что согласились на мою просьбу, поддерживаемую войском, которое гораздо лучше и больше вашего. Перолио закусил с досады губы и замолчал.XI. Военная хитрость
Перемирие закончилось, и обе партии ждали с нетерпением военных действий. Бурграф Монфорт и удочки, усиленные присоединением ван Нивельда и Перолио, желали решительного сражения, а епископ Давид, чувствуя свою слабость, запретил своим войскам нападение. Он позволил им беспокоить и грабить неприятеля, и эти экспедиции очень нравились солдатам, которым не выплачивали жалованья. Подобная война не могла нравиться благородному Шафлеру, и он строго запретил своим солдатам пускаться в мародерство. Другие же начальники партии «трески» сами участвовали в этих набегах. Капитан Салазар, самый предприимчивый из них, вздумал одним разом завладеть всеми стадами, пасущимися на обширных амерсфортских полях. Для этого он приказал полсотне солдат переодеться крестьянами и послал их порознь к стенам города, откуда они должны были отгонять стада до назначенного пункта, где был скрыт сильный отряд. Этот план, прекрасно задуманный, удался совершенно. Сильный туман позволил переодетым солдатам дойти незаметно до стада и отогнать его довольно далеко, прежде чем часовые смогли его заметить со стен башен Амерсфорта. Однако туман скоро рассеялся и в городе поднялась суматоха. Ударили в набат. Граждане и крестьяне схватили первое попавшееся оружие и бросились бежать, кто за своей коровой, кто за бараном, кто за теленком. Граждане того времени, точно также как и нашего, не любили шутить, когда дело касалось их собственности. Они превращались в львов для защиты своего имущества, но не трогались с места, если неприятель вторгался в их землю, или один правитель сменял другого. Итак, амерсфортцы пришли в азарт, узнав о похищении своих стад, и побежали догонять похитителей. К несчастью, они думали иметь дело с сотней людей и не подозревали, что почти все войско Салазара скрыто за холмами. Граждане почти догнали стада и уже раздавались крики радости, как вдруг вышел из засады большой отряд и преградил им путь. Амерсфортцы остановились на минуту и тоже выстроились рядами, ожидая нападения, но Салазар приказал своим отступить, и удочки, думая, что их боятся, начали с жаром преследовать бегущих. У второго пригорка новый отряд присоединился к первому, и так как все были уже довольно далеко от города, то капитан трески приказал бегущим остановиться, а сам обошел сзади удочек, которые очутились посреди неприятелей. Увидев опасность своего положения, граждане смешались, хотели бежать, но это было невозможно. Они были окружены с трех сторон, с четвертой была река. Воодушевленные отчаянием, они дрались храбро и дорого продавали свою жизнь, но не могли долго держаться против опытных солдат Салазара. Принужденные или бросаться в реку или пробиваться сквозь неприятельские ряды, они падали, пораженные стрелами и мечами, и только небольшое число их успело спастись и принести в Амерсфорт печальную весть. Не было ни одного семейства, в котором бы не оплакивали потерь. Везде искали, кто отца, кто мужа, кто брата. Со времени осады и взятия города Филиппом Бургундским, не было в Амерсфорте стольких слез и отчаяния. В доме оружейника, под вывеской «Золотого шлема», было большое горе. У Вальтера не было своих стад, но, узнав о краже, он с некоторыми из работников побежал за ворами и не возвращался назад. Напрасно Марта с дочерью стояли у дверей и останавливали всех проходящих; им отвечали, что никто не видал мастера. Наконец Маргарита, стоявшая в конце улицы, прибежала запыхавшись, с известием, что идет старший работник, Вильгельм, с двумя товарищами. Трое работников были в самом жалком виде. Один был весь мокрый, другие покрыты пылью и кровью. – Вильгельм, ради Бога, говори! – вскричала Марта. – Где Вальтер? – Не знаю! – Он умер! – сказали обе женщины, побледнев еще более. – Не знаю, – повторил работник. – Может быть он жив. Бог не допустит, чтобы такой хороший человек погиб, как собака. – И вы бросили его одного? – закричала с гневом Маргарита. – Нас оттеснили в разные стороны; в такой свалке трудно было оставаться на одном месте. – Все-таки вы не должны были отставать от хозяина, – ворчала старая служанка. – Молчи, Маргарита! Не тебе рассуждать о том, чего не понимаешь, – возразил сердито работник. – Если бы я была мужчиной, я бы не вернулась одна… – Даже, если бы видела, как хозяин упал? – Боже, так это правда! Вальтер умер? – Успокойтесь, хозяйка, – сказал работник, стараясь скрыть свое собственное волнение. – Говори правду, Вильгельм, – прервала Мария, заливаясь слезами. – Зачем подавать нам напрасную надежду? – Я говорю правду, мамзель Мария… выслушайте меня, я расскажу все, как было. Поутру, когда ударили в набат, хозяин побежал с нами к воротам и, узнав в чем дело, посоветовал как действовать, чтобы не попасть в засаду. Однако его не послушали, и начальник наемников отказался идти с нами, сказав, что он не пастух, чтобы собирать стада. Потом, когда нас окружили воины, многие закричали: «Спасайтесь!» А мастер Вальтер собрал вокруг себя тех, кто посмелее и хотел пробиться сквозь ряды. Он дрался как лев, но скоро был окружен неприятелем, и один из воинов Салазара нанес ему сильный удар по голове. Хозяин упал. Я хотел с товарищами броситься к нему, но меня оттеснили к реке, спихнули в воду и там на нас посыпались стрелы. Только трое успели спастись, все израненные. Что ни говори Маргарита, мы исполнили свой долг, и если бы было возможно, спасли бы жизнь хозяина. Окончив свой рассказ, работник отер слезы и замолчал. – Ты слышала, Мария, – проговорила Марта сквозь слезы. – Нет никакой надежды… Вальтер умер. – Нет, – перебила старая Маргарита, слушавшая со вниманием рассказ Вильгельма. – Я не согласна с вами, хозяйка. Работники видели как упал мастер, но они не подходили к нему, и не знают, убит он, или только ранен. – Я тоже так думаю, – вскричал Вильгельм. – Разумеется, удар был силен, если повалил такого человека, как хозяин, но он мог только оглушить его. – Как удостовериться в этом? – сказала Марта, начиная надеяться. – Чего же лучше, – добавила Маргарита. – Вильгельм знает место, где упал хозяин, он пойдет туда и отыщет. – Да, я пойду, – подтвердил работник. – Так если батюшка жив, он останется без помощи! – вскричала Мария с отчаянием. – Я не допущу этого. Я пойду сама к начальнику неприятельского отряда, буду на коленях умолять его, чтобы он позволил мне подать помощь раненому отцу или похоронить его. – Нет, Мария, – сказала мать. – Твое сердце вовлечет тебя в опасность. Тебе нельзя идти к разбойникам, а то мне придется, кроме мужа, оплакивать и тебя. Моя обязанность отыскать тело Вальтера. Я клялась быть ему верной и преданной, а Бог знает, что я свято исполнила мою клятву. Теперь я пойду отдать ему последний долг. – Вы не пойдете, ни та, ни другая, – сказал Вильгельм с твердостью. – Простите, хозяйка, что я не вдруг решился, но слушая вас и вашу дочь, я стыжусь, что женщины выказали больше смелости и великодушия, и тотчас же иду на после сражения. Часа через два я ворочусь, или разбойники убьют меня на трупе мастера Вальтера. Пожав руку Марты, он выбежал из дома. Мать и дочь остались в страхе, уговаривая друг друга и плача. Через три часа Вильгельм вернулся. Он был бледен и шел тихо. Обе женщины бросились к нему, не говоря ни слова; работник показал им топор и меч мастера Вальтера, сказав задыхающимся голосом: – Вот все, что я нашел после хозяина. Разбойники, ограбив мертвых, бросили все тела в реку. Раздался крик ужаса, и мать упала, рыдая, в объятия дочери.XII. Вестник
В доме оружейника была такая тишина, как будто в нем все вымерли. Маргарита подала работникам ужин и те поели молча, боясь потревожить печаль Марты и Марии, которые усердно молились в своей комнате. Вдруг посреди общей тишины послышался стук в дверь, выходящую на улицу. Маргарита пошла отворить и потом, войдя в комнату Марты, сказала ей тихо: – Хозяйка, извините, что я вас побеспокоила, пришел какой-то крестьянин и хочет поговорить с вами. – Так поздно и в такое время… Что это за человек? – Не знаю… Он в большой шляпе, которая закрывает все лицо, и говорит тихо… Я испугалась и не хотела его впускать; но он настаивает и говорит, что ему очень нужно видеть вас сегодня вечером. – Матушка, – вскричала Мария, – не принес ли он вести о батюшке? – Дай-то Бог, –проговорила Марта и приказала привести крестьянина, который, войдя в комнату, осторожно запер дверь. Маргарита была права, испугавшись наружности незнакомца, который при свете лампы был еще страшнее, потому что лицо его было совершенно черно и простая одежда покрыта пылью и грязью. – Что вам надобно? – спросила Марта, раскаиваясь, что впустила незнакомца. – Я принес вам известие о мастере Вальтере, – проговорил тихо крестьянин. – Он жив! – вскричали в одно время мать и дочь. – Жив. – Правда ли это? – Я его видел. Марта и Мария упали на колени и благодарили Бога, что он так внезапно превратил их горе в радость. Потом мать встала и обратилась к посланному: – Благодарю вас, кто бы вы ни были… Мой муж жив… Но где он, отчего он не пришел? Сведите нас к нему. – Это невозможно, – отвечал крестьянин так же тихо, стараясь скрыть свой голос. – Отчего же? – спрашивали женщины с беспокойством. – Он в плену у «трески». – У разбойников! Может быть, он ранен? – Ранен, только не опасно. Удар в голову был так силен, что мастер лишился чувств и его приняли за мертвого. Когда начали раздевать трупы, то увидели, что Вальтер дышит, и хотели убить, но воины ван Шафлера спасли его. – Как, – вскричала Марта, – воины Шафлера тоже грабили мертвых? – Нет, начальник послал их спасти раненых. – Я узнаю благородного графа Жана, – сказала его невеста, – и верно он сам привел отряд? Крестьянин на минуту задумался, потом отвечал еще тише: – Да, мессир Шафлер был с отрядом. – И я обязана ему спасением отца?! – Да, ему. – Вы слышите, матушка, – продолжала Мария с чувством, – как он добр, великодушен! Я буду вечно ему благодарна. – Но отчего же ван Шафлер не отпустил Вальтера? – спросила Марта. – Он мог быть уже здесь. – Это было невозможно, – отвечал крестьянин, – он мог спасти жизнь вашему мужу, но освободить его не смел без приказа епископа Давида. – Ван Шафлер выхлопочет этот приказ, – перебила молодая девушка. – Разве епископ может отказать в чем-нибудь своему лучшему капитану? – Вы правы, епископ не откажет в просьбе графа, а между тем мастер Вальтер перевезен в Вик, где оставлен под надзором графа. – Как я рада! – сказала Марта. – Как я благодарна за ваше известие, чем мне отплатить вам… – Не благодарите меня, – проговорил крестьянин с волнением. – Я хотел успокоить вас насчет мастера Вальтера и успел в этом… Теперь прощайте. Мария удержала его вопросом: – Скоро вы увидите ван Шафлера? – Завтра, – отвечал незнакомец. – Так скажите ему, как он осчастливил нас, как обрадовал… Скажите, что я посвящу всю жизнь тому, кто спас моего отца и буду каждый день молиться, чтобы страшная война эта окончилась, чтобы он свободно пришел в дом отца моего, где его ждет с нетерпением невеста. – Я передам ему эти слова, – проговорил с заметным усилием незнакомец и пошел шатаясь к двери, но вдруг силы его оставили, колени подогнулись и он упал бы на пол, если бы не удержался за стол, стоявший у дверей. – Боже мой! Что с вами? – вскричала Марта с беспокойством. – Вы больны? – Нет, я устал… Шел очень скоро. Теперь ничего, я пойду… – Нет, я вас не пущу! – проговорила добрая женщина. – Отдохните и поужинайте. Мария, принеси вина и подай вестнику. Мария поспешила исполнить приказание матери и, налив стакан, сама поднесла его незнакомцу, но вдруг отступила от него, вскричав: – Матушка, это он, наш друг Франк! – Франк! – повторила Марта с недоверием, но всмотревшись в черты лица, покрытые углем, тоже вскричала. – Да, это Франк, мой сын! Действительно, это был воспитанник мастера Вальтера, который хотел, не узнанный никем, принести известие о спасении оружейника; но последние слова Марии о женихе произвели на него такое тягостное впечатление, что он не мог его скрыть, тем более, что Франк из скромности сказал неправду. Шафлер отлучился дня на два и поручил Франку начальство над войском; стало быть, сам он не мог быть на поле сражения, а вместо него Франк, узнав о случившемся, поспешил с несколькими всадниками и спас своего воспитателя, подвергая опасности собственную жизнь. Когда его узнали, он не мог уже отказаться от угощения и ночлега. Мать и дочь осыпали его вопросами. Была уже давно ночь, а Франк все рассказывал свои необыкновенные приключения. На другое утро он хотел уйти незаметно, чтобы не видаться еще раз с Марией, но проходя по общей комнате, встретил Марту, которая остановила его, сказав, что не пустит прежде завтрака. – Да и Мария забранит меня, – прибавила она, – если узнает, что я позволила тебе уйти, не простившись с ней. Надобно было повиноваться. Франк последовал за Мартой в комнату молодой девушки, которая казалась грустной. Она не спала всю ночь, так ее расстроил рассказ Франка о страданиях его в башне, где он чуть не умер от голода. Однако увидев своего друга она повеселела немного и, взяв Франка за руку, привела его на террасу и показала несколько распустившихся цветов. – Помнишь ли ты эти розы, Франк? – спросила она. – Ты подарил мне их в мои именины, два года тому назад. Как я берегу их, как ухаживаю за ними! Посмотри, теперь на кусте только два бутона, и я назвала их Франк и Мария, брат и сестра. Франка я оставляю себе, а Марию… И она, оторвав бутон, подала его молодому человеку, прибавив: – Марию я дарю… отгадай – кому? – Не трудно отгадать, – вмешалась Марта, – ты даришь розу своему жениху, спасителю отца. Мария покраснела и замолчала; она думала не о женихе, а Франк, приписывая ее молчание и смущение любви к Шафлеру, сказал: – Завтра я отдам эту розу графу. – Нельзя же тебе всю дорогу держать цветок в руках, – заметила Марта, смеясь, – вот коробочка, положи туда розу… она будет целее. Франк взял коробочку и поспешил уйти, протянув руки обеим женщинам, но Марта сказала: – Какой ты стал гордый с тех пор, как сделался воином епископа, не хочешь и поцеловать мать и сестру. И добрая женщина обняла с нежностью молодого человека, который потом едва прикоснулся губами к бледной щеке Марии и выбежал из дома. Оставшись одна, молодая девушка закрыла лицо руками и заплакала, сама не зная о чем.XIII. Постоялец «Золотого Шлема»
Через несколько часов после ухода Франка по городу громко читали объявление амерсфортского бургомистра о том, что бурграф, желая спасти жителей от нового нападения неприятеля, усилил гарнизон города и что отряд новых войск будет помещен в частных домах. Жена оружейника тотчас же получила уведомление, что у нее остановится начальник отряда со своей свитой. Это известие опечалило женщину, и она тотчас же пошла к судье, чтобы объяснить ему, что в ее положении, когда хозяина нет в доме, она не может поместить у себя воинов; но судья не мог помочь ей ничем. Он сказал, что все квартиры уже распределены, и начальник отряда сам назначил себе дом оружейника под вывеской «Золотого Шлема», стало быть нечего и хлопотать о перемене. И Марта, придя домой, приказала приготовить две комнаты, выходящие на улицу, для незваных гостей. Маргарита поворчала по обыкновению и начала прибирать в доме, как вдруг в магазин вошел молодой человек, богато одетый, которого служанка приняла за вельможу и который спросил хозяйку дома. Маргарита привела его в общую комнату, где работали мать и дочь, и незнакомец, поклонившись им, объявил, что так как квартира его начальника назначена в доме оружейника, то он в это же утро намерен переехать, если только это не обеспокоит хозяек. – В таком случае, – прибавил молодой человек, – мессир граф Перолио отложит свой приезд дня на два. Это имя поразило женщин. Они боялись грозного бандита, когда он был вдали, и вдруг он будет жить под одной кровлей с ними! Бедная Марта начала говорить молодому оруженосцу, что дом их неудобен для начальника Черной Шайки, что стук работников будет беспокоить его и свиту, но Видаль отвечал, что господин его неприхотлив и что вся свита его состоит из пажа и оруженосца. Видя, однако, испуг и расстройство хозяйки, Видаль сказал с участием: – Советую вам, добрая хозяйка, принять вашего постояльца ласково; мессир Перолио не любит печальных и испуганных лиц… Извините, что я, может быть, увеличиваю ваше беспокойство, но это для вашего добра… Вы еще не знаете моего господина. И молодой человек грустно посмотрел на Марию, которая побледнела, проговорив: – Боже! Зачем Франк оставил нас! Между тем Марта показала Видалю комнаты, назначенные для его начальника, которыми он остался доволен и ушел, предупредив хозяйку, что скоро принесут вещи мессира Перолио. Часа через два начальник Черной Шайки был уже в доме оружейника. Он сидел у пылающего камина в большом кресле, а близ него, перед маленьким столиком, Фрокар, секретарь, палач, лекарь и исповедник бандитов, чинил усердно перо и приготавливался, на этот раз, исполнять должность секретаря. В глубине комнаты Видаль и Ризо разбирали чемоданы и развешивали платье в большом шкафу. – Готов ли ты, Фрокар? – вскричал Перолио, рассерженный известием, что отец Марии не убит, как он надеялся, а только в плену у епископа Давида. – Я жду ваших приказаний, синьор капитан, – отвечал Фрокар с важностью, приличной ученому. – Что мне писать? – Напиши прежде письмо к епископу Давиду и проси от моего имени свободу оружейнику Вальтеру, за которого я даю триста флоринов выкупа. – Триста флоринов! – вскричал Фрокар, уронив перо от удивления. – Триста флоринов! – повторили паж и оруженосец. – Ну да, триста золотых флоринов, – сказал Перолио, – разве этого мало? – Вы шутите, капитан, – ответил бывший монах. – Старая кожа слесаря не стоит и ста флоринов. – Может ли ван Шафлер предложить такую сумму? – спросил Перолио. – У него нет столько денег… Разве продаст старый свой замок! Но извините мой вопрос, синьор. Зачем вы хотите выкупить старого оружейника? Кажется, без него вам гораздо удобнее… Перолио взглядом приказал Видалю и Ризо выйти и отвечал Фрокару: – Я не прошу твоих рассуждений, негодяй; делай что велят, только постарайся, чтобы письмо к епископу было надменно и дерзко. – Позвольте заметить, синьор, что это дурное средство получить то, чего вы желаете. – Почем ты знаешь, чего я желаю? – Но… – Молчи и пиши. Фрокар понял, что нечего рассуждать, и перо его забегало по бумаге. Через несколько минут он радостно вскричал: – Готово! И он громко прочитал странную просьбу, которая была похожа на приказ. – Хорошо, – сказал Перолио, – ты действуешь пером также хорошо, как ланцетом и топором. Теперь пиши другое письмо, к главному викарию епископа. Проси его учтиво помешать освобождению оружейника Вальтера, скажи, что бурграф в отчаянии от его плана, потому что он необходим для делания оружия, которого нам недостает. Постарайся изменить почерк, чтобы подумали, что это предостережение жаркого приверженца епископа. – А, теперь понимаю! – вскричал Фрокар. – Папенька нашей блондиночки не скоро вернется… Экий я болван, синьор! Когда второе письмо было окончено, Перолио взял обе бумаги и начал их рассматривать. Фрокар, видя это, улыбнулся иронически, потому что очень хорошо знал литературные способности своего начальника, который только сличил оба почерка и, взяв из рук своего секретаря, поставил в конце письма к епископу крест и приложил к нему свою печать. – Хорошо, я доволен тобой, – сказал капитан и, вынув кошелек, туго набитый золотом, бросил его на стол, сказав: – Возьми два флорина за работу и пошел прочь. Фрокар схватил с жадностью кошелек и будто стараясь распутать шнурок, отошел к окну, где было светлее, но подальше от глаз бандита. Перолио не выпускал его из виду и сказал, смеясь: – Подай, я сам развяжу кошелек, ты можешь ошибиться в счете. – Не беспокойтесь, синьор, я достану сам. – Говорят тебе подай! И вырвав кошелек из рук Фрокара, начальник Черной Шайки подал ему две золотые монеты, которые тот принял, согнувшись в дугу, но внутри недовольный такой ничтожной платой. Когда он был уже на пороге комнаты, Перолио вернул его и, подавая еще две монеты, сказал: – А вот задаток новой работы, за которую я заплачу щедро. Я знаю, что ты искусный слесарь. – Правда, капитан, я знаю понемногу все ремесла; только если вам нужна слесарная работа, стоит сказать слово – и здешние работники сделают вам все отлично. – Если я говорю тебе, болван, то хочу, чтобы сделал ты, а не другой. – Не знаю, синьор, буду ли я в состоянии… – Сделать фальшивый ключ? Разве это будет в первый раз? – Клянусь святым патроном, что я никогда не решался на подобные дела. – Молчи, бездельник! Разве ты забыл, каким ключом отворил сундук фламандского графа, который дал тебе гостеприимство, приняв за пилигрима? А кто сделал ключи к кассе твоего монастыря, откуда ты исчез в одну ночь вместе со многими драгоценными вещами? Забыл ты также… – Синьор капитан, – прервал Фрокар, – к которому замку прикажете сделать ключ? – Я покажу тебе после… Ты сейчас упомянул о замке ван Шафлера… Знаешь ли ты, где он? – Знаю, синьор. – Далеко отсюда? – Мили четыре. Не хотите ли вы отправиться туда? – Может быть. – Ну, уж это будет напрасно. Замок так стар, что не стоит нашего посещения. Там нечем будет даже накормить ваших солдат. – Скажи Вальсону, чтобы он выбрал пятьдесят лучших всадников и вышел с ними из города, как будто для прогулки. Пусть они остановятся в маленьком лесу близ Сент-Йоста, я скоро приеду к ним. Фрокар ушел. Перолио позвал Ризо и Видаля, чтобы они помогли ему одеться. Он выбрал простой, но красивый наряд, надушился, приказал Видалю приготовить лошадь и оружие и ждать его за городом, сошел в нижнюю залу и приказал доложить о себе хозяйке, которая по обыкновению работала вместе с Марией. – Я пришел поблагодарить вас за комнаты, которые вы мне назначили, – сказал он, раскланиваясь очень вежливо. – Извините, мессир, если что не по вашему вкусу, – проговорила Марта, вставая, – мы люди простые, а вы привыкли к роскоши. – Напротив, любезная хозяйка, мы, люди военные, привыкли ко всем лишениям. – Все же я желала бы доставить вам лучшее помещение… – То есть, вы желали бы избавиться от несносного постояльца? – О нет, мессир, – вмешалась Мария, – матушка не то хотела сказать… Она не думала вас обидеть. – Я и не обижаюсь, милые мои хозяйки. Очень естественно, что вам неприятно иметь в доме военных, особенно, когда мужа вашего здесь нет. Я слышал о несчастье, случившемся с храбрым оружейником и хотел, чтобы вас избавили от постоя; но это было невозможно; надобно было дать место или начальнику или солдатам, и для вашей же пользы я согласился быть вашим постояльцем, потому что мои воины могли бы принести вам много беспокойства. – В таком случае, мессир, я должна благодарить вас за внимание. – Я приму вашу благодарность, когда выхлопочу свободу мастеру Вальтеру. – Вы знаете, что он в плену? – вскричала Марта. – Знаю, и тотчас же позаботился о его освобождении. – Вы? – проговорила с недоумением молодая девушка. – Да, я. Вы не верите мне, прекрасная Мария? Прочитайте же это письмо. Мария прочитала громко и Марта заплакала от радости. – Вы видите, – продолжал Перолио, – что я не так зол, как говорят; я хочу доказать, напротив, что желаю добра прекрасной Марии и ее семейству. – Я и не считала вас нашим врагом, – отвечала Мария наивно. – Мы вам не сделали никакого зала, за что же вам угнетать нас? – Но признайтесь, Мария, вы сердитесь на меня за первый мой визит. Я был тогда очень встревожен и погорячился не кстати… Эта печальная сцена произвела на вас дурное впечатление. – Если это и правда, мессир, – проговорила Мария, – ваше письмо изгладило все другие воспоминания. – Может ли это быть? – вскричал Перолио с притворным волнением и смотря нежно на молодую девушку. – Так вы забыли и простили? Дайте же мне вашу ручку в знак примирения. Мария взглянула на мать, которая кивнула головой в знак согласия и протянула свою руку тому, кто поклялся ее погубить. Перолио поцеловал эту ручку, но не страстно, что испугало бы скромную девушку, а нежно и почтительно, как рыцарь целует руку своей повелительницы. – Я самый счастливый из смертных, – прибавил он. – Забываю мое прежнее безумие и объявляю себя рыцарем и защитником прекрасной Марии. Мария сделала невольное движение. – Не бойтесь, прелестная Мария, – продолжал Перолио еще почтительнее. – Я не потребую за это от вас ничего, кроме дружбы. Я знаю, что вы невеста одного из благороднейших и храбрейших дворян и сожалею, что служу с ним не под одним знаменем. – Извините, мессир, – возразила Мария, – я не понимаю военных и политических дел, но слышала, что вы без всякой причины… – Довольно, дитя мое. Вы хотите сказать, что я без всякой причины изменил епископу? Нет, у меня были важные причины, и я объясню их вам, когда мастер Вальтер будет дома и позволит мне провести вечер в кругу вашего семейства. До тех пор, верьте мне, я скорее друг, нежели враг графа ван Шафлера. – Видишь ли, дочь моя, – заметила Марта, – мы ошиблись насчет мессира Перолио, Франк был не прав, когда уверял… – Матушка, оставим это, – прервала молодая девушка, боясь, что мать скажет что-нибудь лишнее. Но Перолио, по-видимому, не слыхал этих слов и сказал с улыбкой: – Я боюсь беспокоить вас дольше моим визитом; прощайте, добрая хозяйка; до свидания, прелестная Мария. И поклонившись вежливо, он вышел из дома оружейника, говоря сам себе: «Для первого визита довольно… Как легко обмануть этих женщин! Они скоро будут в моей власти». А в это самое время Марта говорила дочери: – Начальник Черной Шайки совсем не так страшен, как про него рассказывали. Он, кажется, не обидит нас, – заключила старуха. – Дай-то Бог, – отвечала Мария, вздыхая.XIV. Старый замок Шафлер
Выйдя из Амерсфорта, Франк шел часа два по большой утрехтской дороге, потом повернул на проселочную, ведущую прямо к замку Шафлер, где граф жил несколько дней во время жатвы и уборки сена. Было уже поздно, когда он дошел до возвышенности, на которой стоял замок. Он остановился на минуту, глядя, как солнце спускается на башни и зубцы, и вскричал невольно: – Вот где живет будущий муж Марии, где она сама будет жить! Боже, зачем молодой граф так счастлив, за что небо наделило его всем, а меня так жестоко обидело! Но вскоре ему стало стыдно этой зависти, и он продолжал спокойнее: – Зачем обвинять небо? Судьбы нельзя переменить! Мария любит меня как брата, а его как жениха. Она сама сказала мне это. Не подозревая, как терзали меня ее слова, она поручила мне передать ему эту розу, названную Марией, за которую я готов отдать жизнь. И вынув коробочку, он открыл ее и невольно прижал к губам. – Тебя зовут Марией, – шептал он в восторге, любуясь цветком, – и ты похожа на ту, чье имя дано тебе. Я не расстанусь с тобой никогда. Ты принадлежишь мне. Мария подарила тебя спасителю своего отца. – Нет, она подарила розу своему жениху! – отвечал строгий голос близ Франка. Молодой человек быстро обернулся и при последних лучах солнца заметил старика, прислонившегося к дереву. – Это вы, Ральф, отец мой! – вскричал Франк. – Мое стадо пасется в окрестностях Шафлера. Увидев тебя, я подошел ближе и невольно услышал твои последние слова. Ты часто говоришь сам с собой и вслух. Я уже прежде подслушал исповедь твоего сердца и знаю, что ты любишь невесту другого. – Что вы говорите, Ральф! – Ты забыл ту ужасную ночь, когда мы оба готовились умереть с голоду? В бреду ты высказал свою тайну, и я молчал потом, думая, что ты раскаялся и забыл безумную любовь, которая могла оскорбить благородного человека, назвавшего тебя братом. Но ты опять повторяешь свои жалобы и надежды. Давно ли ты клялся быть братом и другом графа Шафлера? А теперь готов изменить священной клятве. – О нет, отец мой, я не изменю Шафлеру! – Но ты хочешь похитить его счастье… сердце его невесты. Ты хочешь завладеть цветком, посланным жениху. Не ожидал я этого от моего сына. – Не судите обо мне так строго, добрый мой Ральф. Бог свидетель, что я люблю и уважаю Шафлера, и никогда не изменю ему. – Зачем же ты опять виделся с его невестой? – Это было необходимо. И Франк рассказал о своем путешествии в Амерсфорт и не скрыл, что приписал спасение Вальтера своему сопернику. При этих словах лицо пастуха прояснилось и он протянул руку своему воспитаннику. – Ты поступил прекрасно, сын мой, – проговорил он с чувством. – Но ты не оставишь неоконченным начатого дела… ты отдашь жениху подарок его невесты. – Да, батюшка, – сказал Франк, вздыхая и закрывая коробочку. – Но этого мало, дитя мое, – продолжал старик, – надо забыть эту молодую девушку. – Вы требуете невозможного, отец мой… возьмите лучше мою жизнь. – Обещай мне, по крайней мере, не стараться видеться с ней и, если случай сведет вас, не открывай ей твоей любви. – Это я могу вам обещать. – Я верю твоему слову, теперь прощай. – Вы оставляете меня? – Да, тебя ждет Шафлер. – Когда же мы увидимся? – Может быть скорее, нежели ты думаешь. И пастух пошел к своему стаду, а Франк медленно взобрался на возвышенность, где стоял замок Шафлер. Старое родовое наследство графа Жана состояло из замка и двух флигелей, где помещались фермы. Здание было ветхо, но могло простоять еще долго, потому что построено было прочно. Оно было окружено рвом, всегда наполненным водой; перед главным входом был подъемный мост. Вокруг рва тянулись тенистые аллеи высоких деревьев, отделявшие замок от других пристроек, где помещались фермы со всеми своими принадлежностями. Кроме того весь замок был еще окружен стеной, обвалившейся в некоторых местах, и другим рвом, так что подступы к старому замку были довольно трудны. Подъемный мост был опущен и Франк был встречен во дворе графом Шафлером, который принял его ласково и, узнав о последней экспедиции капитана Салазара, где чуть было не погиб оружейник, рассердился, что епископ позволяет подобные разбойничества. Он поблагодарил также Франка за спасение Вальтера и за то, что успокоил Марию и ее мать. Когда же молодой человек подал ему розу, присланную невестой, граф в восторге схватил цветок и прижал его к губам. Бедный Франк отвернулся, чтобы скрыть волнение. – Не смейся надо мной, мой друг, – сказал рыцарь с чувством, не понимая настоящей причины волнения Франка. – Тебя удивляет мое ребячество, моя радость при виде цветка, но ты не знаешь, как сильно я люблю Марию. Если ты когда-нибудь полюбишь, то поймешь меня. Франк употребил нечеловеческое усилие, чтобы улыбнуться и проговорил мысленно: «Боже, дай мне силы перенести все мучения!» – Теперь пойдем со мной, – продолжал граф. – Я хочу пожать руку пленнику, а потом выпрошу у епископа свободу отцу Марии. Но ты еще не был в моем замке… Пойдем, я покажу тебе, как я украсил его для моей жены… Ты скажешь мне, отгадал ли я ее вкус. И Шафлер повел Франка по комнатам, отделанным заново, довольно роскошно. – Вот комната покойной матушки, – сказал граф с благоговением, – это будет комната моей милой Марии; возле устроил я помещение для себя… Скажи, Франк, как ты находишь, вот эту комнату? – Она очень красива и удобна. – Это твоя комната, потому что я хочу, чтобы брат мой жил со мной. Франк покачал головой. – Я этого хочу, – настаивал Шафлер, – и уверен, что Мария будет просить тебя о том же. Ведь она твоя сестра, ты должен жить с нами, и я уверен, что глядя на наше счастье, ты сам захочешь жениться. Не возражай мне, я все устроил, мы будем составлять одно семейство. Граф не подозревал, что слова его терзали бедного молодого человека и, принимая его молчание за согласие, вышел из замка и сел на лошадь. С ним было двадцать всадников, сопровождавших его в разъездах, и он хотел оставить их для защиты замка, но старый управитель замка сказал, что у него тридцать человек работников и служителей, которых более чем достаточно для защиты замка, тем более что никто не намерен на него нападать. Граф не настаивал и отправился в путь с Франком и своим отрядом. Между тем небо покрылось тучами, так что не видно было ни звездочки, и посреди мрака, когда все спали в замке, близ него остановился отряд всадников, покрытых длинными плащами. Это была шайка Перолио. Впереди ехал Фрокар с крестьянином, которого взяли вместо проводника. – Скоро ли мы приедем? – спросил Перолио. – Шафлер перед вами, – ответил проводник, – вот подъемный мост. – Зажгите факелы, – продолжал капитан. – Фрокар и Рокардо, обойдите вокруг этой развалины. Приказание его было исполнено и через несколько минут посланные вернулись, объявив, что в замке только один вход. – Ты уверен, что граф ван Шафлер в замке? – спросил Перолио у проводника. – Он уже несколько дней живет здесь, – отвечал крестьянин. – Сегодня утром я заходил сюда за милостыней, и сам граф подал ее мне. – Много ли с ним воинов? – Человек двадцать. – Кто, кроме них, охраняет замок? – Никто. Старый управитель Конрад с работниками составляет весь гарнизон Шафлера. – Хорошо. Рокардо, труби в рог и проси, чтобы опустили мост. Рокардо трубил долго, но никто не отвечал ему. Он возобновлял несколько раз свой мотив, но в замке никто не откликался. Наконец чей-то голос закричал из-за стены: – Кто тут гуляет по ночам? Кого вам надо? – Мы друзья ван Шафлера, – отвечал Фрокар нежным голосом. – Опустите мост, мы приехали к нему в гости. – Опоздали, любезные! Мессир граф теперь далеко. – Ты лжешь, – вскричал Перолио, – он был здесь утром! – Ого! Какой повелительный тон у друзей моего барина, – заметил старый Конрад, который проснулся и пришел к воротам. – Повторяю вам, что графа нет в замке, он уехал вечером… – Все-таки впусти нас, любезный, – продолжал Фрокар, – теперь темно и холодно, дай гостеприимство лучшему другу твоего господина. – А как зовут этого лучшего друга? – спросил Конрад. – Граф Перолио! – Начальник Черной Шайки! – вскричал с ужасом старик. – Ступайте дальше искать гостеприимства. – Опускай мост, бездельник! – вскричал Перолио. – Или всем вам будет худо. Конрад не отвечал. – Капитан, – заметил Рокардо, – в одном месте стена совсем обвалилась, можно воспользоваться этой брешью. – Только прежде надобно перейти ров, – возразил Фрокар, не любивший опасных экспедиций. – Ну что же, и перейдем! – отвечал Рокардо. – Мы не боимся промочить ног. – Не теряйте же времени, – сказал Перолио. – Рокардо, возьми двадцать человек и в том числе Фрокара, захватите веревочные лестницы и топоры и перелезьте через стену. Только не забавляйтесь там долго с крестьянами и скорее впустите нас в замок. Разбойники бросились исполнять приказание, которое, однако, оказалось не совсем легким. Во рву было много воды и воины принуждены были переплыть его, что не очень нравилось Фрокару. Однако они достигли другого берега, прикрепили лестницы к стене и перебрались на другую сторону. Перолио думал, что мост тотчас же опустится, но прошло довольно много времени, прежде чем начальник Черной Шайки мог вступить на двор замка Шафлера. – Что вы собирались так долго? – вскричал он в гневе. – Уж не встретили ли вы сопротивления? – Немного, капитан, – отвечал Рокардо. – Работники проснулись и хотели звонить в большой колокол, но мы подоспели вовремя и закололи некоторых на месте, другие скрылись внутри замка. – Хорошо, – сказал Перолио, смеясь, – мы навестим их в замке. Фрокар, еще факелов! Надобно рассмотреть хорошенько владения мессира ван Шафлера. – Не зажечь ли, синьор, по дороге эти сараи? – спросил Фрокар. – Будет светлее, да и мы посушим наши мокрые платья. – Не торопись, любезный, всему свое время, – отвечал капитан, и сам обошел вокруг замка. – Эта лачужка не стоит того, чтобы ею заняться, – заметил он. – Все это старо… бедно. – Мессир граф отделал недавно внутренние комнаты, – вмешался проводник. – Могу ли я уйти теперь и получить обещанную награду? – Возьми, – сказал Перолио, бросив ему несколько монет. Крестьянин бросился подбирать деньги, но в эту минуту из окон замка пущено было несколько стрел, которые скользнули по латам Перолио, но смертельно поразили проводника. – Боже, умираю! – проговорил крестьянин, сжимая в руке цену измены. – Что это значит? – вскричал начальник бандитов. – Это работники обстреливают нас, капитан, – отвечал Рокардо. – С ними и старый Конрад. – Ступайте сейчас же туда и сбросьте вниз всех бездельников. Этот ров не шире первого. Воины спешились, привязали своих лошадей к деревьям, защищавшим их от стрел, и приготовились к новой ванне, в то время, как Фрокар нагнулся над убитым проводником и собирал деньги, все еще стиснутые в руке убитого. – Капитан, – сказал Рокардо. – Этот ров опаснее первого; он окружен палисадами и вода в нем грязная, он полон тины; невозможно переплыть его. – Разве есть что-нибудь невозможное для Черной Шайки? Десять флоринов тому, кто переплывет ров и опустит второй мост. Два или три человека вышли вперед и несмотря на холод, сбросили верхнюю одежду; потом, привязав к поясу веревку, сошли осторожно в воду, но тина и палисады не позволили плыть и они, видя верную смерть, вернулись назад. Рокардо и другой бандит, прозванный Прыгуном, придумали лучшее средство. Они нашли две большие лестницы, связали их вместе и перекинули этот воздушный мост через ров. Прыгун первый перешел на другую сторону, под градом стрел; за ним последовали другие смельчаки, из которых некоторые упали, по неосторожности или избегая стрел, и завязли в тине. Напрасно просили они товарищей вытащить их, те торопились исполнить приказания начальника и только смеялись над неловкими. Добравшись до моста, бандиты разрубили цепь, придерживающую его. В это время осажденные бросали в них, кроме стрел, огромные камни. Однако мост опустился, и Черная Шайка бросилась к замку. Но массивная дверь была так крепка, что ее трудно было сломать. Отчаянное сопротивление еще больше бесило Перолио. – Надобно покончить с этим проклятым гнездом! – вскричал он. – Я не намерен отступить перед горстью работников. Рокардо! Принесите сюда всю солому, сено и сухое дерево из сараев и ферм, обложите кругом эту развалину и зажгите. – Ура! – заревела толпа бандитов, и приказание начальника было тотчас исполнено: груды соломы запылали со всех сторон, обхватив замок и огонь поднимался все выше и выше. Внутри раздались крики ужаса: кроме работников, в замке скрылись их семейства… Женщины и дети просили пощады, но разбойники отвечали им хохотом и усиливали огонь. В замке не было воды, и служители Шафлера должны были погибнуть страшной смертью. Победители, между тем, чтобы не вернуться домой без добычи, собрали хлеб и припасы, найденные в фермах, и подожгли остальные здания и пристройки, так что все владение Шафлера, еще поутру мирное и цветущее, превратилось в огромный костер, который окружали бандиты в черных латах, освещенные пламенем. Зрелище было страшное. Наконец, когда затихли стоны жертв и замок превратился в груду развалин, Перолио злобно захохотал и, подав знак к отступлению, поехал в обратный путь, оставив смерть и разрушение.XV. Купцы
Письма Перолио произвели ожидаемое им действие. Когда Шафлер явился во дворец епископа, викарий принял его очень ласково, сказал, что монсиньор не здоров и не может его видеть, и объявил, что просьбу его нельзя исполнить по политическим причинам. Граф удалился рассерженным. Через несколько дней ван Шафлера позвали к епископу, и на этот раз монсиньор Давид принял его сам, и так ласково, что можно было тотчас догадаться, что граф ему нужен. Хитрый прелат успел найти себе приверженцев в Утрехте, где были не совсем довольны монфортским бурграфом, который обещал (также, как епископ) покровительство Максимилиана, окончание войны прежде зимы, уменьшение налогов; но о Максимилиане не было никаких слухов, налоги сделались тяжелее, и в городе был большой недостаток во всем, потому что неприятель прервал все сообщения его с другими голландскими городами. При таком положении дел дали знать Давиду, что партия его хочет действовать в его пользу, но желает прежде, чтобы он объяснил свои условия. Епископ был озабочен. Он не хотел давать письменного документа, не зная имен и числа своих приверженцев, и потому надобно было, чтобы человек значительный, умеющий внушить доверие, прошел тайно в Утрехт и переговорил с начальниками партии. Давид вспомнил о графе Шафлере. Однако при первых же словах епископа граф, не расположенный исполнять прихоти своего начальника, возразил, что подобное поручение не соответствует его званию и что он обязан служить своим мечом, а не хитростью. Тогда Давид обещал возвратить свободу Вальтеру, и молодой человек должен был согласиться на это условие. Он решил спасти отца Марии, даже рискуя собственной жизнью, потому что поручение было опасно. Сопровождаемые Франком и Генрихом и переодетые фламандскими купцами, они въехали в Утрехт на маленькой тележке, наполненной кусками сукна и фланели, и оставили свой товар в гостинице, где наняли две комнаты в первом этаже. Покуда Шафлер исполнял свое тайное поручение и объяснялся с приверженцами епископа, Франк и Генрих оставались в гостинице и ждали покупателей, которые не являлись. Однажды Франк, оставшись один, сидел у окна. Мысли его блуждали далеко, как вдруг кто-то постучался в дверь. Молодой человек отворил, и в комнату вошла молодая красивая женщина, чрезвычайно смуглая. Она осторожно осмотрелась, заперла дверь и села у стола, на котором был разложен товар. Франк, думая, что она хочет покупать, смутился, потому что без Генриха не знал, какую цену спросить за товар и как ему мерить. Однако он сказал развязно, как настоящий приказчик: – Посмотрите, сударыня, все образчики и выбирайте, я не возьму с вас дорого. Но молодая женщина посмотрела на него и сказала, улыбаясь: – Вы играете очень хорошо вашу роль; кто вас не знает, может принять за настоящего купца. – Разве я… – проговорил Франк, смущаясь. – Вы не купец, точно также, как я не покупатель, – окончила незнакомка. Молодой человек посмотрел на нее с беспокойством, боясь более за ван Шафлера, нежели за себя. – Не бойтесь меня, – продолжала она, – я не желаю вам зла. – У меня нет привычки пугаться без причины. – Еще доказательство, мессир, что вы не купец. Я уже испытала вашу храбрость. Три дня тому назад я шла домой поздно вечером и ко мне пристали два пьяных солдата… – Это были вы?.. – Да, вы избавили меня от опасности и даже не посмотрели, молода я или стара, хороша или дурна. Вы видели, что оскорбляют женщину, и спасли ее. – Всякий порядочный человек сделал бы то же самое… Но зачем вы пришли сюда? – Заплатить мой долг… Я пришла спасти вам жизнь. – Никто, кажется, не угрожает мне, – отвечал Франк. – Если вы тотчас же не выйдете из города, то через час будет уже поздно: вы будете во власти ваших врагов. – Какие могут быть у меня враги? Я недавно в городе, и то для торговли. – Вы не доверяете мне, а между тем время дорого. Слушайте меня. Мое звание не блестящее. Я пою песни и баллады то перед знатными, которые платят мне золотом, то на площадях, перед народом, который бросает мне медные деньги. Но все меня уважают, потому что находят во мне что-то сверхъестественное, и голос мой производит на всех впечатление. Моя мать, почитаемая колдуньей, научила меня петь. Я живу в маленьком домике, против ваших окон, и целые три дня наблюдаю за вами. Вы часто смотрите в окно, но верно не заметили меня. Франк молчал. Певица продолжала, вздохнув: – Вчера была ссора между жителями города и наемными солдатами бурграфа. Чтобы помирить их, бургомистр вздумал позвать на обед и тех и других, и послал за мной, чтобы мои песни смягчили грубых солдат. Скоро с помощью хорошего вина вчерашние враги сделались друзьями, и один из главных жителей Утрехта, желая угодить наемникам, открыл им, что в городе есть эмиссары монсиньора Давида, что ему предлагали перейти на сторону бургундца и что эти эмиссары остановились в этой гостинице. Я нечаянно слышала весь разговор. – Нам изменили! – вскричал Франк. – Да, мессир Шафлер в большой опасности и вы тоже, Франк… Вы видите, что я знаю ваше имя. Спасайтесь, или скоро сюда придет лейтенант Вальсон с солдатами Черной Шайки. Бегите скорее. – Один, без Шафлера? Разве это возможно? – Но он, может быть, промедлит, а Вальсон придет прежде него, тогда вы погибнете оба. – Можно предупредить его… – Как? Где он? – Он у настоятеля бенедиктинского монастыря, у городских ворот. – Ступайте же туда… и чтобы не возбудить подозрения, возьмите кусок сукна… Подумают, что вы несете его покупателю. – Благодарю вас за вашу доброту. Скажите мне ваше имя, чтобы я и мои друзья знали, как зовут нашу спасительницу. – Зачем вам мое имя? – сказала она грустно. – Имя не нужно для того, кто помнит. Я могла и на знать вашего имени, а никогда вас не забуду. Впрочем, если хотите, я скажу вам: меня зовут Жуанита. Помолитесь и за меня, когда молитесь о вашей матери, сестре… невесте. – У меня нет ни матери, ни сестры, ни невесты. – Разве никто вас не любит? – спросила Жуанита, не скрывая своей радости. – Никто! – отвечал Франк глухо. – Но время дорого… Прощайте, Жуанита! – Прощайте, Франк. И она вышла из комнаты. Франк взял кусок сукна и отправился в общую залу, где по счастью никого не было; только за прилавком стоял слуга. Франк сказал ему: – Я несу товар к одной даме, и может быть вернусь не скоро. Если придет мой приказчик Генрих, скажи ему, чтобы он позаботился о лошадях и отправился в гостиницу «Красного Льва» за новым товаром. Франк рассчитывал на догадливость Генриха, который должен был понять, что в Утрехте оставаться опасно. Впрочем, иначе нельзя было его предупредить: писать было напрасно, потому что Генрих не умел читать. Через час после ухода Франка вернулся Генрих, но слуга, которому было поручено предупредить его, ушел куда-то, и оруженосец Шафлера очень удивился, не найдя никого в комнате. Он начал перебирать куски материи и, прельстясь красным сукном, взял его и начал примерять на себе перед зеркалом. Он был так занят этим, что не заметил, как кто-то вошел в комнату, подошел к нему сзади и сказал смеясь: – Как тебе идет этот цвет, мой красавец, советую тебе сшить из этого сукна камзол. Генрих отбросил сукно и покраснел. – Продолжай кокетничать, мой друг, – говорил незнакомец, – я тебе не мешаю… Скажи только, где твой хозяин, главный купец? – Его нет дома, – отвечал Генрих, принимая посетителя за покупателя, – если вам надобно сукна, я вам покажу, я знаю цены товара. – Нет, мне хотелось бы видеть самого хозяина. Где я могу его найти? – Право, не знаю. Он понес товар в город и верно скоро вернется. В эту минуту в общей зале послышался необыкновенный шум, и Генрих, подойдя к окну, увидел слугу, который делал ему какие-то знаки. Поняв, что происходит что-то необыкновенное, Генрих хотел сойти вниз, но покупатель загородил ему дверь и спросил: – Куда же ты бежишь, мой красавец? – Я, кажется, слышу голос хозяина и иду встречать его. – Лжешь, маленькое чудовище! – закричал Фрокар, потому что это был палач Черной Шайки. – Я не слышу голоса ван Шафлера. – Как, что вы говорите? – прошептал Генрих, бледнея. – А! Ты думал, что я не узнал тебя, чучело? Ты здесь с ван Шафлером, и если хочешь сохранить свою красоту, говори, где он? Генрих вспомнил, что он видел Фрокара в лагере Перолио, но, не показывая страха, ощупал под верхней одеждой нож и сказал твердым голосом: – Если тебе надобен граф, так ищи его, разбойник! – А, ты кажется вздумал храбриться, мой миленький! – перебил Фрокар. – Погоди, мы заставим тебя петь в другом тоне. В ту же минуту вошли еще шестеро разбойников, и бедный карлик задрожал невольно. С одним он мог еще справиться, но семеро разбойников пугали его. – Разве лейтенант Вальсон не пришел сюда со своим отрядом? – спросил Фрокар. – Нет еще. – Впрочем, нас покуда довольно; возьмите-ка этого уродца – мы заставим его говорить. Прежде обыщите его, нет ли у него оружия. У карлика отняли нож, раздели его до рубашки и, связав руки и ноги, положили на стол. В это время Фрокар вынул нож и рассматривал его: – Хорошо ли отточен твой нож? – спросил он. Бедняга дрожал, как в лихорадке. – Будь умницей, – продолжал палач, – отвечай на все вопросы папы Фрокара. – Что вам сказать, я ничего не знаю! – говорил Генрих, готовый умереть, но не изменить своему господину. – Ты хочешь обмануть доброго папу Фрокара? – сказал палач. И взяв руку бедного карлика, он приложил к ней нож и сделал на теле надрез. Кровь брызнула… Генрих вскрикнул. – Это за то, что ты солгал… говори правду, если не хочешь, чтобы я повторил операцию. И он поднес нож к руке. Бедняк побледнел, но стиснул зубы, новая рана не заставила его вскрикнуть. – Остановитесь! – закричал он наконец. – Остановитесь, я скажу все, что знаю. Палач приподнял нож и сказал: – Говори, милашка, мы слушаем тебя. – Это правда, что я служу у ван Шафлера и приехал сюда с ним. – Это мы знаем без тебя; говори, где он теперь? Или я опять попробую, остер ли твой нож. – А если я открою вам его убежище, вы обещаете отпустить меня? – Обещаю, честное слово Фрокара. – Он ушел сегодня утром, но потом вернулся вместе со своим товарищем. – Стало быть он здесь? – Да. – Где же? Говори скорее! – В верхнем этаже, в конце коридора есть комната, где господин мой любит отдыхать. Он теперь там. – Лжешь, урод! Меня не обманешь. – Развяжите меня и я вас сведу наверх… Вы увидите, что я не лгу. – Нет, ты останешься здесь с Паоло, а мы пойдем туда, и если только ты солгал, то я отрежу твой язык и брошу его собакам. – Хорошо, –отвечал Генрих, – идите, только тише, а то если разбудите графа и его товарища, вам будет трудно схватить его. – Разве они вооружены? – спросил с беспокойством Фрокар, который уже отворил дверь. – Не совсем, – отвечал карлик. – У них нет лат и щита, но только мечи, кинжалы и топоры. – Черт! – пробормотал палач, запирая опять дверь. – Этого слишком довольно. И он посмотрел на своих товарищей, которые, кажется, принадлежали не к самым храбрым и не собирались пренебрегать опасностью. – Что ж этот Вальсон не идет? – закричал Фрокар. – Куда он провалился? – Я могу научить вас, как пройти к ним, – заметил Генрих, – только обещайте, что кроме свободы, вы мне дадите еще награду, чтобы я мог забыть угрызения совести. – Согласен, – сказал Фрокар, находя это требование очень естественным. – Так пустите меня наверх… Я тихонько отворю дверь и заберу у них оружие. – А если они проснутся? – Я скажу, что беру оружие чистить. – Все это хорошо, но ты похож на мошенника и можешь остаться там, наверху. – Так ступайте сами. Мне хоть и не совсем ловко лежать на столе, но я согласен лучше остаться здесь. Фрокар задумался. Он не совсем доверял карлику, но сам нисколько не был расположен идти наверх. – Хорошо, мой миленький, – сказал он наконец, – я готов тебе верить. Развяжите его. Генрих поспешил унять кровь, текущую из руки, обвязал ее платком и хотел одеться, но Фрокар помешал ему. – Успеешь одеться после, – сказал он, – нам некогда. Генрих заметно смешался. Он надеялся найти наверху средство к спасению, но как бежать без одежды? Однако раздумывать было нельзя, и он бросился к лестнице, но Паоло остановил его, по жесту палача. – Не торопись, любезный, надобно принять предосторожности, чтобы ты не убежал. Папа Фрокар не так глуп, как ты воображаешь: он будет держать тебя на веревочке, как любимую собачку. И он накинул на шею бедняка петлю толстой длинной веревки, конец которой держал крепко. – Теперь, – продолжал он, – ты можешь идти наверх, но помни, что у меня слух хороший, и если я услышу что-нибудь подозрительное, то дерну веревку и задушу тебя разом. Карлик вздрогнул, но молча пошел наверх, думая, что все-таки лучше умереть от веревки, чем переносить продолжительную пытку. Он тихо помолился и осторожно начал взбираться по лестнице, как будто боясь разбудить Шафлера. Бандиты столпились на конце лестницы, вынули оружие и приготовились встретить неприятеля. Фрокар, держа веревку, отпускал ее понемногу. Генрих, успевший осмотреть весь дом, знал, что в конце коридора есть лестница на крышу и мысль его была бежать оттуда. Но его останавливал его легкий костюм и веревка, стягивающая шею. Покуда он был в виду разбойников, то не дотрагивался до петли, но дойдя до второго этажа и повернув в сторону, остановился и начал притягивать к себе веревку, как будто продолжал идти. Потом он попробовал освободиться от петли, но Фрокар был мастер своего дела и прикрепил ее несколькими узлами, которые не легко было распутать. Разумеется, было лучшее средство: разрезать веревку, но у Генриха не было ни ножа, ни острого инструмента. Оглядываясь во все стороны, он заметил железный крюк, вбитый в стену для того, чтобы вешать на него лестницу и, добравшись до него, начал тереть веревку, помогая зубами и ногтями, так что в несколько минут успел разорвать ее. Потом, освободив шею и привязав конец веревки к тому же крюку, он быстро полез на чердак, перетащил за собой лестницу, закрыл люк всем, что мог найти и как кошка полез на крышу. Фрокар с товарищами напрасно прислушивались к малейшему шуму. Веревка оставалась все в одном положении; это означало, что он стоит на месте. Разбойники терпеливо ждали. – Что он там делает? – прошептал Фрокар, выходя из терпения. – Уж не смеется ли он над нами?.. Я проучу его. И он изо всех сил дернул веревку, но она держалась крепко. – Что это значит? – ворчал он. – Мошенник надул нас! Веревка привязана не к его шее, потому что ничья голова не выдержала бы… Надо посмотреть, что там. Паоло, ступай наверх. – Отчего ты сам не пойдешь вперед? – спросил Паоло. – Оттого, что за отсутствием капитана, я ваш начальник и ты должен слушаться меня. – Скажи лучше, что ты боишься, – сказал Паоло и пошел вместе с другими солдатами на лестницу. Дойдя до поворота они засмеялись, увидев, что веревка прикреплена к крюку и что Фрокар продолжает ее дергать. Успокоенный этим смехом, тот вбежал тоже наверх, но вместо смеха начал бранить и проклинать карлика; потом осмотрел весь коридор, комнаты, но Генриха нигде не было. Бандиты сошли в общую залу, где уже был посланный Вальсона, который сказал им, что лейтенант со своим отрядом пошел прямо к городским воротам, чтобы задержать там ван Шафлера и Франка. Фрокар и его товарищи перестали искать карлика, зато бросились на товары мнимых купцов и разделили их между собой. Что же делал в это время Генрих? Устроив баррикады над трапом, он принялся искать На чердаке какую-нибудь одежду, но нашел только сапоги, а этого было недостаточно для путешествия по городу в ноябре. Однако нельзя было долго раздумывать, потому что разбойники могли найти дорогу на чердак, и притом добрый-малый хотел, во что бы то ни стало, предупредить своего господина. Поэтому, несмотря на свой легкий костюм, он полез, как кошка, по крышам. Увидев одно слуховое окно открытым, он спустился в него и попал на чердак, наполненный старым оружием, латами и шлемами. Не останавливаясь тут, Генрих спустился по лестнице и очутился в комнате, где расположено было множество башмаков и разных шапок. Всего этого было недостаточно для бедного оруженосца, но он понял, что находится у продавца платья и что дальше должны быть камзолы и другие принадлежности одежды. Действительно, сойдя в нижний этаж, он нашел большой выбор разного платья и, взяв самое скромное, оделся проворно, завернулся в плащ и, надвинув шляпу на глаза, пошел к двери. Вдруг оглянувшись, он чуть не вскрикнул от страха. У окна стоял человек и смотрел на улицу, не замечая неожиданного гостя. Боясь быть принятым за вора, Генрих бросился к этому человеку: – Простите меня, мессир! Я, право, не вор, но меня преследуют солдаты, и я спасся в одной рубашке. Поверьте, что я заплачу вам за вещи, которые взял, заплачу в четверо… только не выдавайте меня. На эту тираду незнакомец не отвечал ни слова и даже не пошевельнулся. Удивленный таким хладнокровием, Генрих схватил его руку и тут только заметил, что это был не человек, а манекен, служивший вместо вывески магазина. Смеясь над своей ошибкой, Генрих пробрался в самый магазин, и увидев дверь, выходившую на улицу, мог счесть себя спасенным, но в дверях стоял на этот раз настоящий человек, вероятно, хозяин магазина. Надобно было непременно пройти мимо него. Генрих смело пошел навстречу опасности. Услышав шаги, купец оглянулся и спросил: – Откуда вы? – Разве вы не знаете, что сверху? – отвечал карлик смело. – Так это вы пошли выбирать шелковый камзол? – Разумеется, я. – Странно, вы показались мне выше. – Вы ошиблись. – Так вы не нашли камзола по вашему вкусу? – Нет, я приду завтра, а сегодня мне некогда. Прощайте, любезный купец. Оттолкнув хозяина не совсем учтиво, Генрих бросился на улицу и увидел, что перед гостиницей собралась толпа и смотрит на отряд Черной Шайки. Чтобы не подать подозрения, он пошел сначала тихо, но повернув в другую улицу, побежал прямо к монастырю бенедиктинцев, где узнал, что Шафлер, предупрежденный Франком, вышел из города прежде прибытия Черной Шайки к воротам и что они ждут его в Дурстеде. Добрый карлик хотел тотчас же бежать к своему господину, но настоятель советовал ему переждать немного, сам перевязал ему раны и отпустил только на другой день в костюме монаха.XVI. Клеймо
Пора вернуться в магазин «Золотого Шлема», где жена и дочь оружейника остались в опасном обществе. Для добрых, честных и слабых людей недоверчивость невозможна, потому что тогда надобно бороться и ненавидеть, что несвойственно их натурам. При первом появлении своего страшного жильца Марта пришла в ужас и молилась всем святым, но Перолио оказался таким ласковым, учтивым, выдавал себя за покровителя Вальтера, хлопотал о его освобождении, и добрая женщина уже упрекала себя, что смела подумать дурно о защитнике, которого им послала судьба. К тому же обе женщины не знали, что начальник Черной Шайки ненавидит ван Шафлера и сжег его родовой замок. Если бы Марта могла прочитать в сердце того, кого называла посланным от Бога, она ужаснулась бы; но Перолио действовал так умно и ловко, что и опытный человек не отгадал бы его тайных замыслов. Двум простым женщинам было немудрено довериться ему, тем более, что он не сказал ни одного слова, которое могло бы заставить покраснеть девушку или возбудить подозрение матери. Первый работник, заступивший на место Франка, не мог быть опасным для Перолио, но он боялся другой особы, которая часто является в семействе оружейника. Это был почтенный приходский священник, духовник Марии, патер ван Эмс. Он приходил каждый день утешать двух женщин, что очень не нравилось Перолио, и он решил склонить священника на свою сторону. Это было не трудно для хитрого итальянца, который мог разыгрывать самые различные роли. Он начал смиренно слушать поучения матери, каялся в своих грехах, оплакивал нравственность века и сожалел, что обязанности рыцаря заставляют его проливать кровь невинных и не дают времени раскаяться и смыть свои невольные преступления. Сверх того Перолио, заметив, что добрый ван Эмс чрезвычайно уважает все реликвии, показал ему много будто бы священных вещей, полученных от самого папы и подарил ему две древние камеи, выдавая их за изображения святых. Добрый старик тоже доверился бандиту и начал хвалить его набожность и великодушие. Зная, что Перолио хлопотал о выкупе мастера Вальтера, ван Эмс тоже послал со своей стороны просьбу к викарию монсиньора Давида и скоро получил на нее ответ. Но этот ответ еще более опечалил семейство оружейника. Викарий писал, что епископ, зная искусство пленника, не отпустить его ни за какой выкуп, потому что он будет изготовлять оружие для неприятеля. Мать и дочь пришли в отчаяние, и Перолио, бывший причиной такого ответа, казался тоже печальным. Потом он вскочил с места в сильном негодовании и, взяв руки плачущих женщин, вскричал: – Не отчаивайтесь, друзья мои, надежда еще не потеряна. Клянусь моим, мечом, что мастер Вальтер будет свободен. Я предложу в замен его двенадцать воинов епископа, взятых мной в плен. А если он и тогда откажет… Я нападу со всей Черной Шайкой на замок Дурстед, и хоть он почитается неприступным, но я, может быть, возьму его и кончу войну, избавив Фландрию от беспокойного бургундца. – Что вы, сын мой! – вскричал патер ван Эмс, крестясь. – Разве можно дерзнуть поднять руку на епископа! – Отец мой, – проговорил смиренно бандит, – все средства извинительны для достижения благой цели. Знаменитое правило иезуитов было, кажется, известно и в пятнадцатом веке. И поклонившись почтительно священнику и пожав с чувством руки женщин, Перолио тихо вышел из комнаты. Придя к себе, он бросился в кресло мастера Вальтера, поставленное тут доброй Мартой, и засмеялся, думая о том, что ловко обманул всех. Но отсутствие отца было недостаточно для замыслов бандита. Ему надобно было удалить и духовника, который мешал ему своими нравоучениями и влиянием на молодую девушку. Без него нетрудно погубить Марию. Пока он приискивал средства осуществить свои планы, в комнату тихо вошли Вальсон и Фрокар. Перолио послал их с поручением к бурграфу в Утрехт и они, исполнив его, явились к своему начальнику и рассказали, что чуть было не взяли в плен важную птицу. – В городе моего союзника бурграфа не могло быть важной добычи, – проговорил Перолио. – Вы ошиблись. – Нет, капитан, – сказал Фрокар, – мы почти поймали птицу, у которой сожгли клетку. – Ван Шафлер был в Утрехте! – вскричал итальянец. – Зачем? – С ним был лейтенант и карлик, они были переодеты купцами. Я думаю, что они были присланы к главным гражданам с предложениями от епископа. – Поручение было опасно, и если такой человек, как ван Шафлер, принял его… – Стало быть ему хорошо заплатили, – окончил Фрокар, ценивший деньги выше всего на свете. – Ему обещали свободу оружейника, – подумал Перолио, и отгадал. Потом, посмотрев строго на Вальсона, он прибавил: – И ты прозевал такую славную добычу? – В этом виноват проклятый монах, – отвечал флегматичный англичанин. – Он выпустил из рук карлика, который надул его. – Что ж вы не поскакали за ним в погоню? – Их нельзя было догнать, капитан. У нас не были готовы лошади, и мы не знали, по какой дороге они поехали. – Вы ничего не умеете сделать. Если граф исполнил свое поручение в Утрехте, то выпросит свободу тому, кто не должен быть здесь. – Отцу красавицы Марии, – сказал Фрокар. – А разве у вас не все кончено с ней? – спросил Вальсон. – Еще и не начиналось, – угрюмо проговорил Перолио. – Это удивительно. Вы, капитан, всегда действовали быстро. – Здесь надобно быть осторожным. – Не понимаю… – промычал англичанин, знавший многие похождения своего начальника. – Я хотел раз двадцать покончить все это, – продолжал Перолио. – Фрокар подделал мне ключ к ее спальне, но и это понапрасну. Комната Марии пуста, потому что она спит теперь у матери. Что же мне делать? Поднять шум на весь город? – Немного больше шума или меньше… не все ли равно? – заметил хладнокровный лейтенант. – Не советую тебе шуметь здесь, – сказал Фрокар, – если не хочешь, чтобы стража города проглотила тебя живого. – Тебя можно проглотить, – отвечал Вальсон, – а мной подавятся. – Нет, они готовы будут съесть всю Черную Шайку, вместе с нашим знаменитым капитаном, – возразил монах. – Ты иностранец, Вальсон, и не знаешь здешних обычаев. Мещане кажутся смирными, добрыми и не вмешиваются в ссоры вельмож, в драки солдат, но чуть кто дотронется до их привилегий, до их семейств, они явятся разъяренными львами, так что ты их и не узнаешь. Они не очень жалуют начальника Черной Шайки, но если узнают, что он оскорбил дочь уважаемого гражданина, то удочки и трески забудут свою вражду, соединятся вместе и будут травить нас, как диких зверей. – Черная Шайка проучит их, – сказал Вальсон, – с ней не легко сладить. – Ты забыл здешние каналы и болота; нас загонят в какую-нибудь трущобу и утопят. – Он прав, – заметил Перолио. – Здесь не любят иностранцев, а меня ненавидят вельможи и друзья бурграфа. Я знаю, что при первом случае все восстанут на меня, и хоть я дорого продам свою жизнь, и мои храбрецы тоже, но все-таки надо быть безумным, чтобы дразнить этих фламандских медведей, которые, пожалуй, выгонят нас из своих болот, прежде чем мы обберем их хорошенько. – Именно, капитан! – вскричал Фрокар. – Притом, – прибавил англичанин, – здесь нет недостатка в веселых женщинах, и я удивляюсь, что вы привязались к этой белокурой плаксе. Стоит ли она южных красавиц! Вот каких женщин я люблю! – Ты любишь женщин, которые не сопротивляются, и совершенно прав; но я и в любви как на войне, люблю препятствия, которые усиливают мои страсти. Этот белокурый ребенок возбудил во мне совершенно новое чувство, какого я еще не испытывал, и за обладание ею я готов отдать тело и душу. Она будет моей, Вальсон, волей или неволей, силой или хитростью. Но прежде надобно употребить хитрость и терпение… потом прибегнем к силе. – Я вам предлагал еще одно средство, – сказал Фрокар, – помните, я говорил о таинственном напитке? – Если надо кого отравить, – заметил англичанин, – стоит обратиться к Фрокару. – Совсем не отравить, – отвечал монах, – а сделать девочку нежной и страстной. На это есть средства. Притом этот эликсир совсем не моей работы; его делает одна колдунья. – А где эта дочь сатаны, искусство которой ты мне хвалил? – Она исчезла, капитан. – Не свернул ли ей шею ее родитель? – Это было бы большое несчастье для вас, потому что она одна может помочь вам. – Но куда она девалась? – вскричал бандит с нетерпением, – где ты сам видел ее? – Извольте, я вам расскажу о свидании с колдуньей. Послушайте… Вальсон, предвидя длинный рассказ, сел в кресло и стал слушать. – Мы были еще на службе бургундца, – начал Фрокар, – и стояли близ замка Одик. Дела было у нас мало, и я предложил Рокардо и Скакуну маленькую экспедицию к соседним крестьянам. Мы пошли прямо в одну хижину, где жил старый земледелец с женой. Оба лежали больные и жаловались нам, что накануне их ограбили удочки, не оставив ни куска хлеба. Товарищи мои поверили этой сказке и даже пожалели стариков, но меня мудрено разжалобить и надуть, и я, подойдя к старику, начал его легонько щекотать ножом. Хитрец тотчас выздоровел и признался, что удочки не все у него унесли, и что на чердаке осталось еще немного провизии нам на ужин. Мы пошли туда и под разным хламом нашли окорока, сало и много теплой одежды, что очень полезно в этой земле болот и лягушек. Покуда мы хозяйничали, старик скрылся неизвестно куда, а старуха продолжала стонать на своей постели. Я заметил у нее на шее черную ленту, на которой висело что-то блестящее, что она крепко сжимала в руке. «Верно какая-нибудь драгоценная вещь», – подумал я, а я очень люблю эти предметы, особенно если они из благородного металла. Я приблизился к постели и хотел пощупать у старухи пульс, но она все не разжимала руки, несмотря на все мои убеждения. Надобно признаться, что в подобных случаях женщины всегда настойчивее мужчин и что с ними надобно употреблять крайние средства. Увидев на огне котелок с кипятком, я взял его и опустил туда руку старухи. – Ты просто изверг! – вскричал англичанин. – Продолжай, Фрокар, – сказал спокойно Перолио, – меня занимает твой рассказ. – Старуха разжала кулак, – продолжал палач, – и оттуда выпал удивительный золотой крест. Когда мы вышли из хижины с добычей, было уже так темно, что мы сбились с пути и чуть не увязли в болоте. Притом начала разыгрываться буря, и мы проклинали нашу экспедицию, как вдруг увидели огонек и пришли к другой хижине, еще меньше и беднее первой. Обрадовавшись и этому убежищу от грозы, мы постучались, но так как нам не отворили, то мы выбили дверь и вошли. – Что вам надобно от цыганки, которая знает прошедшее, будущее и настоящее? – закричал визгливый голос из глубины комнаты. – Мы просим позволения укрыться от непогоды и отдохнуть, – отвечал я самым нежным голосом. – Кто вы? – спросил голос еще резче, так что покрывал шум бури. – Мы честные люди, сбились с дороги. – Честные люди! – повторила колдунья со страшным хохотом. – Хороши честные люди! Вы думаете обмануть меня… мне хозяин уже сказал, что вы принадлежите к Черной Шайке. Вы разбойники, грабители, а не честные люди. Я знаю, откуда вы пришли, слышу запах сала и ветчины… хозяин знает все ваши подвиги. – Признаюсь, капитан, я и товарищи немного струсили. В хижине было темно, как у сатаны; мы не видели колдуньи и, стало быть, она не могла нас разглядеть… Кто же, кроме дьявола, мог сказать ей, кто мы и откуда пришли? – А старик, которого вы ограбили и который ушел прежде вас! – сказал Перолио, смеясь. – Да, это возможно, синьор, – ответил Фрокар задумавшись, – это еще можно объяснить, но как объяснить дело с крестом?.. – Что такое? – А вот послушайте. Колдунья зажгла старую лампу у очага и развела огонь. Когда хижина осветилась, Рокардо и Скакун уверяют, что когда запылал огонь, в одном углу увидели на минуту страшную форму с рогами, которая тотчас исчезла: я же заметил только два огненных глаза, которые пристально смотрели на меня. – Трус! – проговорил Перолио. – Наверно в хижине было зеркало, – заметил Вальсон, – и мессир Фрокар принял свою собственную фигуру за дьявола. – Смейся, – сказал Фрокар, – а если бы ты был на моем месте, и твои рыжие волосы стали бы дыбом от страха. – Кончай свою сказку, – перебил начальник с нетерпением. – А что, эта колдунья была молода или стара? – Кто ее знает, капитан. Эта дочь сатаны ни стара, ни молода, и лицо ее почти совсем закрыто космами седых волос. Рокардо, однако, узнал ее и говорит, что два месяца тому назад она была причиной смерти одного из наших солдат, убитого всадником Шафлера. Он уверяет также, что она совсем не стара и не отвратительна, но я боялся рассматривать ее. Колдунья придвинула к огню лавку и мы сели, потом вылила в котелок вина, согрела его и подала нам. Разумеется, мы не решались выпить эту подозрительную жидкость, несмотря на ее приятный запах, но колдунья опять засмеялась и сказала: – Вы думаете, что я хочу вас отравить… не бойтесь, ваш час еще не пришел, вам осталось еще совершить несколько злодеяний, и тогда сам хозяин придет за вашими душами. А теперь пейте и грейтесь… – Так как я не трус и чувствовал сильную жажду, то решился прежде всех попробовать дьявольского напитка. Мне показалось, что это хорошее вино, вскипяченное с разными пряностями, и я уверен, что оно понравилось бы и лейтенанту Вальсону. Товарищи последовали моему примеру. Скоро мы почувствовали приятную теплоту во всех членах и нас начала одолевать дремота. Колдунья взяла опять какую-то склянку и плеснула ею на огонь… В хижине разлился сильный, одуряющий запах. Голова у меня закружилась, и я хотел выйти на чистый воздух, но ноги не повиновались мне, предметы начали мешаться в глазах, я хотел закричать, позвать товарищей, но голос не выходил из горла. Глаза мои закрылись и я не помню, что потом было со мной… Я не спал, потому что это положение нельзя назвать сном, я был мертв и мои товарищи тоже. – Вы были просто пьяны, – заметил капитан. – Нет, синьор граф, действие вина никогда не бывает похоже на то, что мы чувствовали. Спросите у Вальсона, он знает, что значит быть пьяным. Англичанин промычал какую-то угрозу и выпил залпом стакан вина. – Тем и кончились твои приключения с колдуньей? – спросил Перолио. – Нет еще, дьявол начертил свое клеймо на моей правой руке, воспользовавшись моим летаргическим сном. Перолио вскочил с места, как будто невидимая сила приподняла его. Он покраснел и глаза его невольно устремились на собственную руку, покрытую черной перчаткой; но заметив, что Вальсон и Фрокар смотрят на него с удивлением, сел опять. – Твоя история похожа на легенду, – сказал он, – все эти глупости сердят меня и притом ты рассказываешь очень долго. Кончай скорее. – Извольте, синьор… Когда мы проснулись, был светлый день и колдунья исчезла со всей нашей добычей. Я стал шарить в карманах, надеясь найти крест, но не тут-то было. Крест исчез, но вы не поверите, капитан, изображение его осталось у нас на правой руке, и мы до смерти будем ходить с этим клеймом. И приподняв немного рукав, Фрокар показал свою руку, на которой отпечатан был крест с буквой Ф. Татуировка синего цвета была сделана превосходно. – Вот вам и доказательство моей встречи с дьяволом или его дочерью. Колдунья позаботилась даже поставить начальную букву моего имени. – Это очень умно с ее стороны, – проговорил флегматичный Вальсон. – Когда ее папенька придет за тобой, то не сможет никак ошибиться. Между тем, Перолио, хотя и неподвижный, был в волнении. Глаза его не отрывались от руки Фрокара. Наконец, не в состоянии пересилить себя, начал быстро ходить по комнате, кусая губы до крови. Фрокар подозрительно следил за всеми движениями своего начальника, а Вальсон спокойно продолжал пить вино. Вдруг Перолио остановился перед монахом. – Ты встречался еще с этой колдуньей? – спросил он. – Нет, капитан. Мы искали ее, ждали три дня, что она вернется в свою лачужку, но она не показывалась, и мы сожгли ее жилище. – Так вы не знаете, что с ней случилось, где она может быть? – Не знаем. Окрестные жители очень жалеют о ней, потому что она предсказывала им хорошую погоду и урожай, лечила их и умела делать напитки, способные возбудить любовь в самых бесчувственных людях. Говорят, что она погубила одну молодую девушку и за это превращена в сову, другие говорят, что она скрылась в окрестностях Никерка и живет в развалинах старого Падерборнского аббатства вместе с легионом дьяволов, которые служат ей. – Через пять дней ты должен узнать, где эта колдунья, – сказал Перолио мрачно. – Я хочу видеть ее. – Пять дней мало, синьор. – Три золотых флорина, если узнаешь, – продолжал капитан, – а в противном случае, в первом же сражении я поставлю тебя впереди Черной Шайки. – И я буду возле тебя, – прибавил Вальсон. – Благодарю, – отвечал Фрокар, – я постараюсь сохранить мое прежнее место – позади всех. И бросив насмешливый взгляд лейтенанту, палач вышел из комнаты. Через три дня после этой сцены Перолио сидел в общей комнате, где собиралось семейство оружейника. Мария работала возле матери, а итальянец пел романс, аккомпанируя себе на мандолине. У Перолио был хороший голос и молодая девушка слушала его с заметным волнением. Бандит радовался этому, воображая, что красавица поняла его любовь, но она думала о другом, слушая страстную историю молодого пастуха, который любит невесту своего друга. Мария думала о Франке… думала о том, что она невеста ван Шафлера, а Франк готов для нее жертвовать жизнью, свободой. В этот вечер патер ван Эмс почему-то не пришел, что очень беспокоило Марту. Перолио радовался этому случаю и ждал, когда мать выйдет из комнаты и оставит его одного с Марией. Вдруг дверь отворилась и почтенный священник вошел с веселым лицом. – Дети мои! – вскричал он. – Господь смиловался над нами, молитвы ваши услышаны… ваш муж, Марта, ваш отец, Мария… – Что такое? Говорите, батюшка! – Он свободен, он скоро будет с вами. Обе женщины бросились со слезами к старику, повторяя счастливую весть и не смея ей верить. Перолио нахмурился. – Да, дети мои, – продолжал патер, – известие это верно. Вчера я пошел в монастырь св. Бригитты, где моя сестра настоятельницей; там я встретил секретаря викария – епископа, и он мне сказал, что сам викарий получил приказание отправиться в Дурстед, в тюрьму оружейника Вальтера и объявить ему, что он свободен без выкупа, и может возвратиться в Амерсфорт. Секретарь прибавил, что викарий уже исполнил это приказание и что дня через два мастер будет дома. Как описать радость бедной женщины и ее дочери? Они плакали и смеялись, целовали руки священника и, упав на колени, благодарили Бога, что он смягчил сердце епископа. – Дети мои, – сказал почтенный духовник, – поблагодарите и того, кому вы, после Бога, обязаны избавлением Вальтера. И он указал на Перолио, который напрасно старался скрыть смущение при известии, разрушавшем все его планы. Он не мог сомневаться в справедливости слов духовника и, подойдя к нему, крепко сжал ему руку. – Отец мой! – проговорил он. – Мы все исполнили наш долг. Поверьте мне, я счастлив, что монсиньор принял такое благое намерение, и думаю, что он исполнил небесное внушение, а не мою просьбу. – Разумеется, сын мой, – отвечал старик, – ничего не делается без Божьей помощи, но вы, синьор Перолио, тоже употребили все ваши усилия, все влияние на епископа. – Да! – вскричали мать и дочь. – Вы наш спаситель, мы должны благодарить вас. И обе женщины с жаром схватили бандита за руки. – Что вы делаете, добрая Марта, милая Мария? – говорил он с заметным волнением. – Мне, право, совестно… и если я помог освобождению мастера, то слишком награжден за то вашими ласками, вашей дружбой. И он обнял Марту с нежностью сына, потом, обратись к Марии, сказал тихо: – Позволите ли вы мне поцеловать вас, как сестру? Молодая девушка покраснела; она не совсем доверяла этим братским ласкам. – Что ж ты, Мария, – вскричала мать. – Разве ты не хочешь поблагодарить графа за спасение отца? Мария, молча и краснея, повернула свою прекрасную головку к Перолио и тот сорвал поцелуй с ее губ. Молодая девушка побледнела и задрожала при этом жгучем прикосновении. Перолио, взволнованный, думал в это время: «Эта красавица будет моей, и никакая сила не вырвет ее из моих объятий». И скрывая свои преступные мысли под веселой наружностью, он вежливо поклонился хозяйкам и патеру, прибавив: – Я надеюсь, друзья мои, что завтра мы будем праздновать возвращение мастера Вальтера. Но, выйдя из общей комнаты, Перолио в минуту изменился. Давно скрываемая злость исказила его черты, глаза заблестели; он вбежал к себе и, увидев Ризо, закричал ему: – Приведи ко мне Фрокара, торопись… – Где мне искать его, мессир граф? – спросил паж, дрожа от страха, потому что в гневе господин его бывал ужасен. – Ищи где-нибудь в кабаке, а если встретишь Видаля, Рокардо или Прыгуна, позови их, только скорее. Ризо бросился к двери, но на самом пороге наткнулся на человека, который входил. – Тише, мальчуган, куда торопишься? – говорил, смеясь, Фрокар. – Тебя спрашивает капитан, – отвечал паж. – А, это ты! – сказал Перолио. – Мне надобно поговорить с тобой. Ризо, уйди. – Синьор капитан, – возгласил палач, потирая от удовольствия руки, – я к вам с хорошими вестями: нашел, где скрывается колдунья, где она приготовляет свои проклятые зелья. – Убирайся к черту с твоей колдуньей! Теперь не до нее, – закричал начальник. – Как не до нее? – возразил Фрокар, – а три флорина, которые вы мне обещали? Ведь пяти дней еще не прошло. Я заслужил награду. – Я не отказываюсь от обещанного и, вместо трех, дам тебе пять, восемь, десять флоринов, если ты поможешь выпутаться… – Говорите, капитан, я на все готов… за десять флоринов. – Оружейник освобожден. – Папенька нашей красотки!.. Худо! – Он может быть в дороге и скоро будет здесь. – Черт! – Надобно найти средство задержать его в дороге. Фрокар нахмурился, задумался на минуту и отвечал: – Это нелегко, но возможно. – Возможно! – повторил Перолио радостно. – Я знаю, что ты способен на все. Двенадцать флоринов, если ты обработаешь это дело. – Эти деньги мои, капитан, я вас хорошо понял… Вы хотите, чтобы мастер Вальтер не вернулся сюда. Надобно задержать его… всеми средствами? Последние слова он проговорил значительно, смотря прямо в глаза начальнику. – Всеми средствами, – повторил Перолио решительно. – Хорошо… Будет исполнено. – Не забудь только, что бурграф очень привязан к этому оружейнику или к его искусству, стало быть делай так, чтобы не было никакого подозрения на Черную Шайку, а то за малейшую неловкость я велю тебя повесить или колесовать, в пример всем дуракам, которые не умеют обделывать дела так, чтобы не попадаться. – Не беспокойтесь, капитан; если с бедным оружейником случится какое-нибудь несчастье, в этом виновата будет судьба или солдаты епископа. – Хорошо. А сколько тебе надобно людей… играть роль судьбы? – Человек восемь… Ведь оружейник – здоровый малый. – Выбери их сам и скажи, чтобы они по одиночке вышли из города и переоделись. – Я все устрою, капитан. – Ступай же, не теряй времени. Фрокар дошел до двери, но остановился и сказал: – А разве вы не хотите ничего знать о колдунье? Ведь я все разузнал и заработал обещанную награду. – Ах да, я и забыл! Где она живет? – В развалинах Падерборнского аббатства. – Где это аббатство? – На берегу реки Лек, между Никерком и Пультеном, недалеко от Абденгофского монастыря, знаменитого по лекарствам от всех болезней, которые там приготовляют. Говорят, что лекарства эти приготовляет сама колдунья, а монахи только пользуются ее искусством. – Когда можно видеть колдунью? – Только в полночь, когда она готовит свои зелья и призывает демонов. – Кто меня проводит в развалины? – Прыгун знает дорогу. – Ступай же. – Иду, капитан, – сказал Фрокар, не трогаясь с места и смотря на карман Перолио. Бандит заметил это, вынул три монеты и бросив их своему сообщнику, прибавил: – Вот тебе, старайся заслужить остальное. – Приготовьте деньги, синьор, – сказал палач, поднимая золото. – Я скоро вернусь назад.XVII. Ловушка
Целые месяцы оружейник был заперт в башне замка Дурстеда. Он занимал ту же комнату, в которой прежде сидел бывший утрехтский епископ, Жильбер Бредероде, изгнанный из епархии монсиньором Давидом. Если оружейник не был скован, как прежний пленник, и с ним обходились человеколюбивее, то потому, что ему покровительствовал граф Шафлер. Епископ Давид был зол и жесток, но понимал, что опасно раздражать самого верного из своих приверженцев, тем более, что он знал, какая связь существует между дворянином и амерсфортским мещанином. Поэтому, отказав в первый раз в просьбе графа, он приказал обращаться с пленником кротко, зная, что в противном случае и Шафлер может оставить его, как другие рыцари. Исполняя свое поручение в Утрехте, Шафлер и Франк поспешили навестить Вальтера. Они узнали от него, что Перолио жил в доме оружейника, и письма патера ван Эмса были наполнены похвалами доброму постояльцу. При этом известии молодые люди не могли скрыть своих опасений, но Вальтер, обманутый письмами, начал успокаивать их и сказал, что он свободой своей обязан великодушному Перолио. Ван Шафлер и Франк поняли тотчас, что цель всей этой комедии – Мария, но не хотели сообщать своих подозрений отцу, не старались даже разуверить его насчет Черной Шайки, и так как прежде всего надобно было освободить оружейника, то поспешили к епископу. Не легко было добраться до бургундца. Викарий, предупрежденный письмом Перолио, не хотел выпускать пленника и не допускал Шафлера до епископа. Последний тоже хотел отказаться от своего обещания и объявил графу, что оружейник останется пленником до окончания войны. Напрасно Шафлер говорил ему, что невеста его в опасности, под одной кровлей с разбойником. Епископ успокаивал его, говоря, что невинность молодой девушки устоит против всех обольщений и что присутствие отца совсем не необходимо. – Словом, освобождение пленника невозможно, – прибавил епископ, вставая и давая этим знать, что аудиенция кончилась. – Невозможно, – повторил Шафлер почтительно, но твердо, – но Вальтер будет свободен! Епископ посмотрел на него с удивлением. – Вы забываете, мессир граф, – сказал он, – что я один имею право здесь приказывать. Разве я не государь ваш? Разве замок Шафлер не на моей земле? – Нет, монсиньор, замка Шафлер не существует, и я больше не ваш вассал. Жилище моих отцов в развалинах. Это мой выкуп за мою верность вам. У меня нет больше государя. Решительный тон графа поразил епископа, который понял, что может лишиться лучшей своей опоры и потому сказал: – Сын мой, вы не поняли меня… я не хочу огорчать вас. Если этот пленник так дорог вам, что вы не хотите слушать никаких убеждений, то… я думаю… Я постараюсь удовлетворить вас… через несколько дней. – Монсиньор, – возразил молодой человек, – вы забыли уже раз ваше обещание… Вы дали мне поручение, несообразное с моим достоинством, и я пробрался, переодетый и без оружия, в неприятельский город. Это ремесло шпиона, и я согласился принять его на себя потому только, что вы обещали мне свободу оружейника. Я исполнил данное вами поручение с опасностью для жизни, и требую исполнения вашего обещания. – А если я вам откажу? – спросил епископ. – Тогда я принужден буду оставить вас, монсиньор, и пойду в Амерсфорт с моим войском, защищать честь моей невесты. – Вы хотите мне изменить, мессир? – проговорил Давид бледнея. – Не вы ли называли Перолио изменником? Шафлер был в сильном волнении. – Монсиньор! – вскричал он. – Умоляю вас, возвратите свободу пленнику, и я буду защищать ваше дело до последней капли крови. – Хорошо, приходите завтра, нет, лучше послезавтра, мы поговорим об этом. – Завтра будем поздно, монсиньор. Через час я буду на дороге в Амерсфорт. Граф поклонился и хотел уйти. – Вы не выйдете ни из города, ни из замка, – вскричал Давид, не удерживая более своего гнева. – Я прикажу арестовать вас. – Приказывайте, монсиньор, только предупреждаю вас, что ваши наемники и дурстедская стража не в состоянии одолеть войско ван Шафлера. Мне стоит сказать одно слово – и мои солдаты не только отворят мне ворота замка, но разрушат башню и освободят пленника. Гнев епископа усилился. Он видел, что сила, которую он всегда побеждал, теперь победила его, и потому, заставив молчать свою гордость, сказал: – Но если я исполню ваше желание, вы можете утверждать, что я испугался угрозы. – Нет, вы покоритесь не угрозе, а просьбе самого преданного из ваших подданных, – отвечал молодой человек. И, поняв желание гордого прелата, он преклонил перед ним колено в ту минуту, как в комнату входил викарий со свитой. – Сын мой, – сказал довольный епископ, – за ваши заслуги я исполняю вашу просьбу. Оружейник Вальтер будет свободен сегодня же вечером благодаря нашей привязанности к благородному рыцарю, который будет скоро его сыном. И Давид протянул Шафлеру руку, которую тот почтительно поцеловал и потом пошел с викарием прямо в дурстедскую башню. Вот как был освобожден оружейник. Через два часа Вальтер, Шафлер и Франк выехали вместе из города. Шафлер предлагал оружейнику лошадь, но тот, будучи плохим всадником, предпочел идти пешком. Теперь оба друга сообщили ему свои подозрения насчет намерений Перолио, но Вальтер, успокоенный письмами духовника, думал, что молодые люди преувеличивают опасность из ненависти к начальнику Черной Шайки. Однако он согласился на их просьбу и обещал не медлить в дороге, чтобы поспеть как можно скорее в Амерсфорт. Друзья расстались у селения, охраняемого воинами бурграфа; Франк хотел провожать дальше отца Марии, но Вальтер не пустил его. – Не беспокойся, друг, – сказал он, – я теперь в безопасности и не нуждаюсь в защите, все солдаты бурграфа знают амерсфортского оружейника под вывеской «Золотого Шлема». – Притом, нам надобно вернуться в Дурстед до ночи, – заметил граф. – Прощайте же, мастер, будьте осторожны в дороге и приезжайте скорее к вашей жене и дочери. Поцелуйте их за меня и скажите, чтобы они не забывали меня в молитвах. – До свидания, мессир! – проговорил оружейник, сжимая руку зятя. – Скоро кончится эта печальная война! Ах, дети мои! Как я буду счастлив, когда все мы соберемся вокруг стола в «Золотом Шлеме» и будем пить мед за здоровье молодых супругов. – Скоро это будет! – сказал Шафлер задумчиво. – Прощайте, мастер, вам пора, – проговорил Франк в волнении, – скажите матушке Марте, что я никогда ее не забуду. – А что сказать твоей сестре? – Что я молю Бога о ее счастье. И он быстро отвернулся, чтобы Шафлер и Вальтер не отгадали того, что происходило в его сердце. Шафлер и Франк вернулись в Дурстед, а оружейник продолжал свой путь к Амерсфорту. Хотя он желал быть скорее дома, но путешествовать ночью было опасно, и потому Вальтер торопился к месту перевоза на реке, чтобы поспеть до ночи в абденгофское аббатство, где не откажут ему в гостеприимстве, потому что настоятель был родственник патера ван Эмса. Он не мог подозревать, что сообщники Перолио ожидают его на дороге. Фрокар с товарищами ловко придумал западню для оружейника. Он был со своими товарищами в селении, возле перевоза и ждал свою добычу. Дело, задуманное Фрокаром, было не легко. Притом ни он, ни его помощники не знали Вальтера и могли ошибиться. Когда Черная Шайка вступила в Амерсфорт, оружейника там не было, стало быть никто не знал его в лицо. Однако бандит рассчитывал на свой инстинкт, редко его обманывавший, и надеялся честно заработать деньги. Так как он спешил выехать из Амерсфорта, то был уверен, что прибыл первый к перевозу. Оставив лошадей на другом берегу, разбойники переоделись рыбаками и поселянами и приняли на себя разные роли. Рокардо с товарищами сели на траву у парома, а Фрокар с остальными пошел в кабак, где перевозчик грелся, ожидая, чтобы его позвали. День был праздничный и путешественников мало, зато много гуляющих, и кабак был полон посетителями. Фрокар понял, что между этими людьми трудно найти помощников, и потому тотчас составил план. Надобно было помешать, чтобы оружейник не переехал реку днем, и задержать его ночью в кабаке, где можно было покончить с ним. Разбойник начал с того, что заговорил с перевозчиком, поподчивал его пивом, и, видя, что имеет дело с отъявленным пьяницей, начал надеяться на успех. Два раза приходили поселяне, желавшие переправиться на другой берег, но по совету Фрокара перевозчик отвечал им, что в праздники хороший христианин не должен работать и губить свою душу за мелкую монету. Поселяне, которых Фрокар тоже пригласил выпить, легко согласились с этим и остались в кабаке. Вечер наступил давно, когда на берегу показался Вальтер. Увидев его, Рокардо сказал своему товарищу: – Следи за этим молодцом, Вильгельм: он не похож на крестьянина, не наша ли это добыча? – Не вы ли лодочники, друзья мои? – спросил оружейник. – Перевезите меня скорее на ту сторону, я тороплюсь. И он вскочил в лодку. – Мы не лодочники, – отвечал Рокардо, осматривая путешественника. – Перевозчик должен быть в кабаке, пойдите туда. Вальтер поблагодарил бандита и, войдя в кабак, закричал: – Кто из вас перевозчик? – А что тебе надобно? – спросил грубым голосом высокий, здоровый детина, порядочно уже пьяный. – Чтобы он перевез меня на другую сторону реки. – Сегодня ты не переедешь реку, мой милый, а можешь ее переплыть, если хочешь. – Ты, я вижу, намерен шутить, – возразил Вальтер строго, – но мне некогда слушать тебя. – Что же делать, – заметил перевозчик насмешливо, – если у меня веселый характер; признаюсь, я люблю посмеяться. Все присутствующие захохотали. Между тем Фрокар старательно осматривал новоприбывшего. Надобно было удостовериться, тот ли это человек, которого они ждали. – Ого, друзья мои, – сказал Вальтер добродушно. – Я вижу, что вы здесь очень веселы. Что же, это не запрещено, особенно по воскресеньям. Я сам готов остаться здесь отдохнуть и выпить, но мне надобноторопиться. Скажите же мне, где лодочник? – Да ведь я сказал тебе, что сегодня лодочник не работает; в праздник надобно молиться. И он залпом выпил свой стакан, наполненный услужливым Фрокаром. – Ты поступаешь дурно, мой друг, – сказал Вальтер. – Ты пьянствуешь и смеешься над священными предметами. Но это дело твоей совести, и меня не касается. Я требую только, чтобы ты исполнил свою обязанность и перевез меня на другой берег. При этих словах оружейника перевозчик заметно смешался и не нашелся, что ответить. В то время простой народ был груб до варварства, но был религиозен, верил в Бога, боялся ада. Пьяница приподнялся с места. Но Фрокар задержал его за рукав и, притворяясь тоже пьяным, хотя пил очень мало, чтобы сохранить все хладнокровие, сказал: – Куда ты, мой милый? Разве ты не знаешь, что обязанность христианина состоит в том, чтобы не работать по праздникам? Ведь ты честный христианин; а в писании сказано: работай шесть дней, и седьмой отдыхай. – Это правда, – вскричал обрадованный перевозчик, садясь опять на место. – Да, ты прав, – прибавил Фрокар, наливая ему водки. – И следовательно, – продолжал пьяница, обращаясь к Вальтеру, – согласен ты или нет, дружище, а сегодня я не сойду с места… с моего праздничного места. И он крепко обхватил стол обеими руками и лег на него головой. – Даже если я дам тебе серебряную крону вместо обыкновенной платы за перевозы? – спросил Вальтер, вынимая из кармана монету. Пьяница опять приподнялся, глядя на деньги, но Фрокар показал ему тихонько две кроны и шепнул: – Останься с нами и ты получишь две. – Не надо мне твоих денег, – сказал гордо перевозчик, отталкивая руку Вальтера и пряча в карман две кроны Фрокара. Тогда последний спросил оружейника: – Верно, вам очень нужно быть сегодня в абденгофском монастыре? – А вам что за дело до этого? – ответил оружейник, раздосадованный упрямством лодочника. – Пейте вашу водку и оставьте меня в покое. – Все это кажется мне очень подозрительным, – заметил Фрокар. – Что ты хочешь сказать? – вскричал Вальтер с возрастающим гневом. – А то, что вас послали верно с важным поручением в монастырь, – продолжал выведывать хитрец. – Кто тебе сказал, что у меня есть поручение? – Это не трудно отгадать. Вы торопитесь не без причины, а эти причины должны быть очень важны. Все знают, что абденгофский монастырь не на хорошем счету у монсиньора бурграфа, потому что монахи имеют сношения с епископом Давидом и проклятой треской… Храбрые удочки наблюдают за ними, и если поймают какого-нибудь эмиссара-бургундца, то зарежут его и кинут в воду. – Что ты поешь мне спьяна и за кого принимаешь меня? – вскричал Вальтер, горячась все более. – Да, кажется, я не ошибусь, если приму тебя за посланного от епископа Давида и если скажу утвердительно, что ты идешь из Дурстеда. – Ну, так что же, что из Дурстеда? – Он признается, друзья мои! – вскричал Фрокар обращаясь к присутствующим. – Это треска! – Правда, правда! – заревели пьяницы. – Да, это должен быть шпион, – заметил лодочник хриплым голосом, – я как увидел его, тотчас подумал: это шпион, непременно шпион. И товарищи Фрокара прибавили: – Это треска, убить его и в воду! И все гуляки, повторяя эти слова, хотели броситься на оружейника, но с ним нелегко было сладить. Отступая перед толпой, он вынул единственное оружие, которое взял с собой из Дурстеда – огромный нож с деревянной ручкой, и размахивая им, вскричал: – Подойдите, пьяницы, попробуйте тронуть меня. Я вижу, что с вами не может быть другого объяснения, как на ножах. Я вам докажу, что хорошо действую этой игрушкой. – А! Ты угрожаешь нам, разбойник? – заревел перевозчик. – Погоди, я разобью тебе рыло, так что тебя не узнает сам дьявол. И он тоже схватил со стены два ножа. В те варварские времена простой народ в городах и селениях находил дикое удовольствие в драке на ножах, и в Голландии это вошло в такое обыкновение, что еще в прошлом столетии не могли истребить его в некоторых провинциях. Правительство не только позволяло эти кровавые поединки, но часто члены его сами присутствовали при этих драках. В кабаках и гостиницах висели по стенам ножи. Кто отказывался драться, должен был угостить противника кружкой водки. Впрочем, эти поединки не были смертельны. Противники старались только ранить друг друга в лицо, и особенное искусство состояло в том, чтобы оцарапать щеку и нарисовать на ней ножом крест или полумесяц. Только неловкие новички отрезали друг другу носы или губы. В некоторых селениях не было ни одного человека без рубца на лице. Перевозчик пользовался репутацией искусного бойца на ножах, и, желая разрисовать лицо Вальтера, позвал его с собой, вышел из кабака и пригласил присутствующих полюбоваться, как он разделается с треской. Мастер Вальтер не был забиякой, однако не хотел отступить перед пьяными поселянами, между которыми замечал несколько подозрительных лиц. Он был уверен, что если откажется от вызова, все бросятся на него и ему трудно будет сладить со всеми. Из двух зол надобно было выбрать меньшее, то есть бороться с одним человеком; притом на чистом воздухе соберутся посторонние зрители и не позволят отступлений от правил поединка. Действительно, любопытные собрались со всех сторон и составили круг, посреди которого стояли Вальтер и лодочник. Последний подал мастеру один из двух ножей равной величины, потому что нож оружейника был других размеров и не годился для поединка. Вальтер прикрепил нож к руке платком, чтобы защитить пальцы, противник его сделал тоже и они стали в восьми шагах друг от друга. Если лодочник был ловок на ножах, то оружейник был тоже опасный противник, потому что владел почти всем оружием, какое делал. Он спокойно ждал нападения, следя за всеми движениями перевозчика, и тот, видя, что противник его не становится в правильную позицию, вообразил, что имеет дело с новичком и начал подходить к нему. Вальтер даже не поднял руки при его приближении, но когда лодочник почти дотронулся до него, он быстро схватил его за руку левой рукой, а правой в одну секунду начертил правильный крест на его щеке. Потом сильно толкнул его назад и пьяница, потеряв равновесие, упал при громком хохоте тех, которые заранее предсказывали ему победу. Побежденный вскочил на ноги в сильном гневе и, хотя кровь струилась по его лицу, хотел возобновить борьбу. – Разве тебе мало одной отметки? – спросил Вальтер. – Ты обманул меня, проклятый, но теперь я не поддамся; становись на место. – Верно, тебе хочется, чтобы и другая твоя щека была разрисована? – Попробуй дотронуться до нее, и я признаю тебя не только моим победителем, но поставлю тебе две кружки двойной водки. – Хорошо, я вижу, надобно исполнить твое желание. Оба встали на свои места, но в этот раз оружейник не ждал, когда противник подойдет к нему; он сам одним скачком очутился возле него, опять сжал его вооруженную руку и быстро начертил на другой щеке полумесяц, так что эмблемы христианства и магометанства соединились на его лице, разделенные только красным носом. Громкое «Ура!» встретило этот подвиг, и толпа выхваляла храбрость и искусство Вальтера, но Фрокар начал сожалеть о бедном лодочнике, называл его противника треской, шпионом, и эти слова охладили восторг зрителей, которые стали недружелюбно посматривать на победителя, в то время как товарищи Фрокара старались окружить его. К счастью, Вальтер увидел в толпе несколько солдат бурграфа и закричал им: – Не слушайте этих пьяниц, я не шпион и не треска. Сам граф Монфорт знает меня лично и все воины его слышали об оружейнике «Золотого Шлема». – Как не слыхать о мастере Вальтере! – закричал один солдат. – Ну, так я Вальтер амерсфортский. – Неправда, – перебил обрадованный Фрокар, – амерсфортский оружейник в плену в Дурстеде. – Епископ дал мне свободу, – возразил Вальтер, – и если вы сомневаетесь, вот мой пропуск. Кто умеет читать, тот может удостовериться. Никто, кроме Фрокара, не знал грамоты, но все столпились вокруг Вальтера, взглянули на бумагу и закричали: – Да, правда, это оружейник. – Я не ошибся, – шепнул Фрокар на ухо Рокардо. – И я тоже, но как его задержать теперь? – Погоди, я все обделаю. И обратись к Вальтеру, он прибавил: – Извините за ошибку, мастер, я не имел намерения оскорбить вас. Лодочник, которому подвязали обе щеки, злобно посмотрел на монаха, бывшего причиной поединка, но Фрокар продолжал ласково: – Докажите, мастер, что вы не сердитесь на меня; выпьем вместе кружку вина. – Благодарю, – отвечал сухо оружейник, которому не нравилась фигура монаха, – я уже сказал, что мне некогда, и надеюсь, что найдутся добрые люди, которые согласятся перевезти меня на ту сторону. Все присутствующие переглянулись. Они готовы были исполнить желание оружейника, который, разумеется, и заплатит хорошо, но на реке были мели и камни, знакомые только перевозчику Питеру Нолю, которого Вальтер разрисовал так искусно, и его помощнику, который ушел на свадьбу к сестре и не мог вернуться раньше следующего утра. Стало быть, отец Марии должен был поневоле ждать другого дня. Он спросил, нет ли в деревне гостиницы, но кроме кабака негде было остановиться на ночь, и войдя туда с некоторыми из солдат бурграфа, он поговорил с ними о делах, потом просил приготовить ему комнату. Когда оружейник ушел в верхний этаж, Фрокар и бандиты начали угощать присутствующих пивом и водкой. Начались песни, пляски, и когда все были мертвецки пьяны, палач Черной Шайки вышел осторожно в соседнюю комнату и позвал туда своих сообщников. – Что нам делать, – спросил Рокардо, – чтобы оружейник не вернулся в Амерсфорт? – Разве есть на это два средства, болван? – возразил Фрокар. – Знаю, что самое верное – только одно, но когда употребить его? Завтра, чуть свет, он переедет через реку. – Нет, он будет еще сегодня в реке. – Он ловок и силен… закричит, поплывет. – Мы зажмем ему рот и он поплывет по течению. Вот галстук, который я ему приготовил. И он вынул из кармана веревку с петлей. – Я отказываюсь употреблять веревку, – сказал Рокардо, – я не палач. – Я тебя и не прошу. Ступайте за мной и помогайте мне, чтобы этот проклятый оружейник не ускользнул из наших рук. Зная, что в кабаке никто не в состоянии шевельнуться и что кроме оружейника нет другого постояльца, Фрокар, сопровождаемый бандитами, шел осторожно к комнате, занимаемой Вальтером. Дверь была не заперта изнутри и разбойники вошли в нее. Луна, освещавшая комнату, позволяла разглядеть все предметы. Вальтер лежал на постели не раздетый, чтобы быть готовым в путь, крепко спал. На столике возле кровати лежали его нож и пояс. Фрокар ловко схватил эти вещи и приготовился накинуть петлю на голову спящего, как вдруг нога его поскользнулась и он упал на свою жертву. Вальтер проснулся, оттолкнул Фрокара на другой угол комнаты, и протянул руку к столу, но Рокардо бросился на него и поразил ножом в грудь и руку. В то же время три других бандита подбежали к постели, связали оружейника, завязали ему рот и Фрокар, удостоверившись, что он неподвижен, сказал: – Скорее приподнимите его с постели, чтобы не было следов крови, откройте окно и бросьте его в реку. Внизу все так пьяны, что не заметят ничего. Бандиты раскачали Вальтера и бросили в воду, но этого зловещего плеска никто не слыхал, и через минуту река, освещаемая луной, продолжала тихо течь. Убийцы убрали все в комнате, разделили между собой вещи и деньги оружейника, и когда на другой день проснулся хозяин кабака, то нашел одного Фрокара, который сказал, что путешественники, его друзья, уже ушли вместе с мастером Вальтером и что он остался для того, чтобы заплатить все издержки. Получив хорошую плату, хозяин не расспрашивал ни о чем, и бандит, довольный успехом своего предприятия, отправился отдавать отчет своему начальнику.XVIII. Развалины Падерборна
Странно, что люди порочные, но смелые и пламенные, бывают иногда суеверны и слабы до крайности, хотя не верят ни в какие чудеса. Перолио, этот храбрец, не веровавший ни во что, полагавшийся только на свою силу, боялся колдовства и дьявола, хотя ни за что на свете не сознался бы в этом. Впрочем, в то время жгли колдунов, стало быть боялись их и верили в них. С той минуты, как Фрокар рассказал историю об украденном кресте и показал клеймо на руке, капитан Черной Шайки хотел непременно увидеть колдунью и испытать ее знание. Если она в самом деле умеет приготовлять любовное зелье, Перолио добудет его, и обладание Марией будут легче! Для этого необходимо было одно условие: надобно было достать локон волос девушки, без чего все заклинания не подействуют, но как достигнуть этого? Перолио продумал всю ночь, и все напрасно. Поутру, сойдя в общую комнату к завтраку, он был удивлен, найдя там одну Марту, и спросил, где Мария. – Она нездорова, – отвечала мать, – у нее сильно болит голова, и я не знаю, чем лечить ее. – Я думаю, что могу помочь вам, – сказал Перолио. – У меня есть медальон, освященный папой; дайте мне локон Марии, я положу его туда на девять дней и уверен, что больная поправится. – Дай Бог! – проговорила Марта и поспешила в комнату дочери, чтобы отрезать прядь ее белокурых волос. Перолио тоже пошел за своим амулетом и вернувшись в общую комнату, встретил Маргариту, которая подала ему прядь седых волос, говоря при этом, что и она также сильно страдает мигренью и желает вылечиться. Капитан хотел бросить эти волосы в камин, но удержался, тем более, что в эту минуту вошла Марта с шелковым локоном золотистого цвета. Перолио открыл благоговейно медальон и положил туда волосы, внутренне смеясь над доверчивостью женщин, которые не подозревали, какое ужасное употребление сделано будет из этих волос. Потом он простился с Мартой, сказал, что уедет из Амерсфорта для на два, и прибавил, что надеется при возвращении познакомиться с мастером Вальтером. Действительно, через час Перолио уже ехал по дороге в Никерк, сопровождаемый Видалем и двенадцатью всадниками. Прыгун служил им проводником, и к ночи они были в Никерке. Погода, бывшая с утра ясной, вдруг переменилась, тучи увеличили темноту вечера, подул сильный ветер, наконец раздались удары грома и полил дождь. Несмотря на грозу, Перолио не хотел останавливаться ни на минуту, сказав, что он отдохнет в Путтене; но дорога туда шла через лес, потом надобно было пробираться мимо болот, из которых добывали торф. Прыгун объявил тихо Видалю, что он не берется ночью отыскивать дорогу и советует взять другого проводника в первой попавшейся деревушке. Они подъезжали в это время к селению и, увидев вывеску кабака, остановились перед ним. Перолио закричал, чтобы ему отворили, но так как никто не являлся, он сошел с лошади и ударил в дверь так сильно, что она соскочила с петель. – Кто там? – спросил хозяин кабака, сидевший за прилавком. – Как ты смеешь не отвечать, когда тебя зовут? – вскричал Перолио. – Я тебя проучу, собака. При виде грозного гостя, хозяин вскочил, дрожа всем телом, снял колпак и пробормотал: – Извините, мессир, здесь так шумят, что я не слыхал вашего голоса. И он показал на четырех посетителей, которые действительно были в азарте. – Хорошо, сказал Перолио, снимая свой плащ и развешивая его перед огнем. – Есть ли у тебя конюшня? – Конюшня? – повторил крестьянин, оробев еще более, потому что узнал начальника Черной Шайки. – Наши лошади неприхотливы, – сказал Видаль, смеясь, – поставь их под навес и дай им овса. – Овса! – вскричал хозяин. – У меня нет его ни горсти. – Достань! – возразил Перолио. – И подай хлеба, сала и водки для моих всадников. – Господи! Откуда я возьму все это! – заплакал хозяин. – Это твое дело, – отвечал Перолио, садясь перед огнем. – Если ты найдешь чего требуют, то получишь деньги, а если не найдешь, тебя повесят перед кабаком вместо вывески. Выбирай и решайся в десять минут, нам некогда ждать. Хозяин сделал выбор еще скорее и через пять минут лошади и люди были почти сыты. Перолио между тем грелся и спросил у хозяина, немного оправившегося от страха: – Далеко отсюда Путтен? – А по какой дороге вы поедете туда? – Разве их много? – Только две, мессир. – Какая ближе? – По берегу Лека; только не думаю, чтобы вы, мессир, выбрали ее, и еще ночью. – Отчего мне не ехать по берегу? – спросил Перолио с любопытством. Хозяин перекрестился и отвечал тихо: – Потому что ночью там гуляет Барбелан. – Кто это? – Это первый слуга дьявола; он каждую ночь скачет по берегу верхом на помеле и отгоняет всех, чтобы не помешали колдунье готовить зелье. – А! – вскричал Перолио радостно. – Там близко колдунья, ее-то я и хочу видеть. Все присутствующие вскрикнули от ужаса и повторили: – Он хочет видеть колдунью… Барбелана… – Ну да, Барбелана, сатану и его дочь; я хочу видеть весь ад, – сказал Перолио. – Сохрани вас Бог! – проговорил хозяин, крестясь. – И вы и товарищи ваши будете превращены в летучих мышей. – Не бойся за нас, у нас есть против колдовства особенные четки, которые прогонят в ад Барбелана и всю его шайку; эти четки наши мечи; только так как я не знаю дороги к развалинам, надобно, чтобы кто-нибудь проводил меня. – Я не берусь за это! – вскричал хозяин кабака. – И я, и я! – повторили крестьяне. – А если я предложу две двойных кроны? – продолжал капитан, глядя на присутствующих. – Если вы дадите десять, двадцать, даже сто крон, – возразил хозяин, – я не сдвинусь с места. – Даже, если я обещаю тебя повесить за отказ? – Я соглашусь лучше быть повешенным по-христиански, чем превратиться в летучую мышь. – Это и мое мнение, – сказал один из поселян, – а то, когда я буду летучей мышью, мой сын может поймать меня и приколотить к двери, я не буду в состоянии сказать ему ни слова. Перолио видел ясно, что ни угрозы, ни обещания не подействуют на этих людей, которые сильно боялись дьявола, и потому переменил тон. – Я вижу, что вы честные люди и хорошие христиане. Я пошутил с вами. Какая мне охота связываться с мессиром Барбеланом и его проклятой шайкой; я не пойду в Падерборн, а остановлюсь в Путтене. – И хорошо сделаете, – подтвердил хозяин. – Но так как я тороплюсь, то мне надобен проводник, который довел бы нас до ближайшей дороги. – Да вот Гаспар проводит вас, – сказал хозяин, показывая на молодого крестьянина, – он знает лес, как свой карман. – Идем же, Гаспар! – вскричал Перолио. – Позвольте, мессир, – отвечал крестьянин, почесывая за ухом, – ночь так темна… гроза страшная… я сам боюсь… – Ты боишься, что я тебе не заплачу? – перебил капитан. – Вот тебе три кроны вперед. – Я готов, мессир! – вскричал Гаспар, пряча деньги. – Пойдемте. И когда Перолио отошел от камина, чтобы рассчитаться с хозяином, хитрый крестьянин шепнул своему соседу: – Я славно поддел этого барина; я бы и даром пошел в Путтен, потому что послан туда. Когда отряд Черной Шайки двинулся в путь, гром все еще гремел и дождь лил ливнем. Гаспар хотел идти пешком, но Перолио приказал ему сесть на лошадь позади всадника, и ехать вперед. Было одиннадцать часов вечера, когда они приехали к селению. – Вот и Путтен! – сказал Гаспар, промокший до костей и слез с лошади. – Теперь я проведу вас в трактир «Белого Кролика», единственную и самую лучшую гостиницу. – Стой! – вскричал Перолио, схватив Гаспара за горло. – Веди нас в развалины Падерборна. – Господи! – прохрипел крестьянин. – Зачем вам… я не могу… разве завтра, днем… – Нет, веди сию минуту. – Сжальтесь, мессир, над моей душой… лучше возьмите назад ваши деньги. – Садись на лошадь, болван, и показывай дорогу, не то я велю повесить тебя. И Перолио приподнял его на воздух и посадил сзади Скакуна, который привязал к себе Гаспара крепким ремнем. Бедняку нечего было делать и он, по-видимому, покорился судьбе, но ворчал про себя: – Проклятые разбойники! Я ни за что на свете не пойду с вами до развалин, не хочу губить мою душу. И въехав в чащу леса, где лошади продвигались с трудом и взяли в глубокий грязи, он сказал Скакуну: – Я сбился с дороги; если мы поедем наугад, то можем попасть в болото. – Еще этого недоставало! – вскричал Перолио, услышав эти слова. – Я не виноват, мессир, – говорил жалобно Гаспар, – ночь так темна… Погодите, я отъеду вперед и осмотрюсь… Перолио приказал отряду остановиться, а Скакун поехал по указанию крестьянина. Когда они были довольно далеко от отряда, Гаспар освободил незаметно свою руку, вынул нож и, перерезав ремень, соскочил на землю. – Измена, капитан! – закричал Скакун. – Проводник убежал. Скорее в погоню! – Diavolo! – заревел Перолио в ярости: сойдите с лошадей, отыщите бездельника и убейте его, как собаку. Но Скакун и другой всадник бросились уже по следам беглеца. При свете молнии они видели, что он, выбежав на поляну, повернул направо. Всадники поскакали туда, но вдруг почувствовали, что лошади погружаются в болото. Напрасно люди и лошади делали невероятные усилия, чтобы выбраться из болота. При каждом движении они уходили все глубже и скоро лошади завязли по седла. Поняв опасность, Скакун вскочил на седло с ловкостью наездника цирка и закричал своему товарищу: – Делай тоже что и я, Джиакомо, или ты погиб! И собравшись с духом, он сделал отчаянный скачок почти на двенадцать шагов от лошади, от которой видна была уже одна голова. К счастью, он попал на довольно твердое место и был спасен. Но товарищ его был не так ловок и не мог выпутать своих ног из стремени. Он хотел заставить лошадь двинуться, но при каждом движении она уходила все глубже, билась передними ногами, фыркала и ржала, наконец исчезла и ее голова; потом послышался страшный, отчаянный крик всадника, молния осветила только верхушку его шлема и все исчезло посреди грязи и темноты. Эта ужасная сцена расстроила самых храбрых бандитов; никто не трогался с места, и Гаспар мог в это время уйти далеко. Сам Перолио был поражен этим случаем. Один из лучших его всадников погиб в этой грязной могиле, крестьянин смел обмануть его, он потерял двух лошадей, и все из-за чего? Из-за глупой страсти к девочке. Он готов был отказаться от своего предприятия и ехать назад, но без проводника это было невозможно, и потому он двинулся вперед, приказав Скакуну отыскивать дорогу. Наконец небо прояснилось, дождь и ветер притихли и показались звезды. Теперь можно было уже разглядеть дорогу, которая разделилась на две ветви. Одна вела к болоту, где погиб бы весь отряд, если бы пустился туда, другая шла к берегу, где при свете луны, вышедшей из облаков, показался на горе абденгофский монастырь. Перолио с радостью остановился бы в нем, чтобы поужинать за счет монахов, но к монастырю вела одна узенькая тропинка, по которой невозможно было взбираться ни лошадям, ни вооруженным людям. Однако по тропинке шли два человека: один, высокий старик, одетый в бархат, с палкой в руке; в другом не трудно было узнать крестьянина Гаспара, который завел отряд в болото. Перолио пришпорил лошадь, думая настигнуть пешеходов, но не мог удержаться на песчаном холме и скатился с него. В это время Гаспар, бывший уже над его головой, бросил ему в лицо горсть песку и, засмеявшись громко, скрылся за стеной. – Если ты попадешься в мои руки, – закричал начальник Черной Шайки, – то дорого заплатишь за свою дерзость! Немного спустя после этой встречи, оруженосец Видаль увидел недалеко от берега темную массу полуразрушенных стен, принадлежащих древнему замку или аббатству. – Это должны быть развалины Падерборна! – вскричал Перолио радостно. – Здесь живет колдунья. – Надобно узнать, дома ли она и принимает ли, – заметил Видаль. – Мы найдем ее, – проговорил Перолио, – если даже она спрячется под землей. Он приказал отряду остановиться, оставить лошадей внизу, под присмотром четырех человек, а сам с Видалем и остальными людьми пошел пешком к развалинам. Они начали обходить стены, чтобы найти какой-нибудь вход, но везде лежали груды камней и только в одном месте была брешь, в которую можно было войти. Перолио вошел туда с Видалем, приказав остальным воинам стоять у бреши и войти только, когда их позовут. Перед входом Перолио снял свой шлем и плащ и надел простой шлем оружейника, потом смело пошел вперед. Прежде всего он увидел большой двор, обсаженный деревьями, под которыми лежали камни, покрытые мхом. Все строения представляли только груды обломков, и в них не могла жить даже колдунья. Оставались целы только погреба и подземелья, и Перолио, найдя лестницу, ведущую вниз, пошел по ней, почти ощупью. Видаль следовал за ним не совсем храбро. Войдя под свод, они заметили вдали бледный свет и услышали шум волн, доказывающий, что подземелье доходит до реки. Они шли вперед, руководствуемые светом, как вдруг раздалось карканье ворона и хриплый голос закричал: – Молчи, Барбелан, я хочу спать. При этом имени Видаль задрожал и Перолио сказал ему тихо: – Колдунья недалеко, только как дойти до нее? Свет исчез и кругом стены. – Здесь должна быть дверь, – проговорил оруженосец, – я поищу… Вот щель, сквозь которую опять виден красноватый свет. Я чувствую запах серы… не в аду ли мы? – Нет, мы у двери, – сказал Перолио и сильно постучал рукояткой кинжала. – Кто беспокоит дочь хозяина? – проговорил тот же голос. – Тот, кто хочет прибегнуть к твоей науке, – отвечал Видаль, которому Перолио приказал выдавать себя за начальника Черной Шайки. – Подождите, я сейчас отворю. Однако прошло довольно много времени в невозмутимой тишине, и Перолио, начинавший терять терпение, хотел опять ударить кулаком в дверь, но она отворилась сама собой; Видаль прошел первый и колдунья очутилась перед ним. – Что вам надобно от моей науки? – спросила она мрачно, осматривая гостей. Видаль отступил при виде этой женщины, похожей на приведение: это была желтая, сморщенная старуха, с блестящими глазами, которые, казалось, смотрели прямо в душу. Она была покрыта лохмотьями разных цветов и закутана сверху в черное покрывало. На голове ее был капюшон, закрывавший половину лица, из-под него торчали в беспорядке седые волосы. Немудрено, что при виде этого страшилища Видаль не мог отвечать от страха, и она повторила свой вопрос. Подземелье, в котором они находились, было обширно, со сводами и освещено только одной лампой, стоявшей на большом камне. На земле и по углам было много бутылок и склянок разных форм, вероятно с лекарствами. К стенам были прикреплены сушеные рыбы, жабы и между ними лоснилось тело живой змеи. Воздух в подземелье был тяжел и удушлив. Место мебели занимало несколько камней разной величины; деревянная лавка, покрытая соломой и лохмотьями, служила постелью для хозяйки; старый ковер в конце подземелья закрывал, вероятно, выход на берег. Вообще тут было так темно, что колдунья не заметила Перолио, стоявшего позади Видаля, и когда последний не отвечал на ее вопросы, она улыбнулась, подошла к лампе, чтобы поправить ее и сказала: – Ты боишься дочери хозяина, мой красавец? Полно трусить, мои взгляды и слова не убивают. Подойди ко мне. Перолио толкнул Видаля, который сел на камень возле колдуньи, а начальник Черной Шайки стал прямо перед цыганкой. Но только она взглянула на него, как задрожала, глаза ее сделались пламенными, зубы застучали. Она вскочила, чтобы броситься на Перолио, хотела сказать что-то, но голос остановился у нее в горле, пена забилась у рта, она дико вскрикнула и упала на пол в сильных судорогах. При этом крике ворон, сидевший где-то в углу, закаркал, прилетел на камень возле лампы и смотрел на страдания своей госпожи, ворочая глазами, а змея опустила свою отвратительную голову и начала свистеть, качаясь на хвосте и задевая скелеты. Видаль побледнел и читал про себя молитвы, но Перолио оставался хладнокровным, зная, что цыганки и колдуньи часто прибегают к разным штукам и припадкам, чтобы произвести сильное впечатление на малодушных. Он даже захохотал при виде конвульсий старухи, которая, однако, скоро успокоилась, приподнялась шатаясь, поправила на себе капюшон, так, что он еще более закрыл ее лицо и наконец вскричала насмешливым голосом: – А! Он пришел ко мне… к дочери сатаны… он в моих руках, ха, ха, ха! – Послушай, цыганка, – сказал Перолио, – ты принимаешь моего господина и меня за неучей, которых можно испугать кривляньями. Отвечай же, ясно и просто, на вопросы моего барина, скажи… – Я скажу сначала, кто ты, – прервала старуха. – Это напрасно, моя милая, мой господин знает меня хорошо. – Тебя знает хорошо только мой повелитель и никто больше. – Отвечай мне, цыганка, – перебил Видаль, по знаку Перолио. – Я не хочу говорить со слугой, – отвечала колдунья и, сорвав с оруженосца шлем и плащ, продолжала иронически. – Отдай кесарево кесарю. Видаль онемел от удивления, Перолио тоже смешался и смотрел с недоверчивостью на странную женщину, которая засмеялась: – Перолио вздумал переодеваться… Он хотел обмануть хозяина… обмануть меня… ха, ха! – Перестань смеяться, проклятая, – возразил бандит, оправившись от минутного смущения. – Ничего нет мудреного, что ты знаешь мое имя; я здесь давно, и ты могла меня встретить. Дело не в моем имени, а в твоей науке. Докажи мне твое искусство… – Хорошо. Хочешь Перолио, я предскажу тебе, как и когда ты умрешь? – Я не верю в твои предсказания. – Тебя задушит одна из твоих жертв. – И для этого она верно придет с того света? – перебил капитан, смеясь. – Может быть, и когда она будет тихо стягивать веревку вокруг твоей шеи, когда она плюнет тебе в лицо, и когда в тебе останется капля жизни, знаешь ли, какое слово она тебе скажет? Перолио побледнел и не отвечал. – Она скажет тебе, – продолжала колдунья с адским смехом, – то слово, которое приводит тебя в бешенство, которое мой повелитель начертал на твоей… – Молчи, проклятая! – заревел Перолио в сильном гневе и, бросаясь на старуху, обхватил ее одной рукой, а другой приставил кинжал к ее горлу; но старуха не сделала ни одного движения, чтобы спастись и продолжала спокойно и насмешливо: – Убей меня, знаменитый начальник Черной Шайки, если думаешь, что вместе со мной убьешь и свою тайну… Но ты ошибаешься. Если я замолчу, Барбелан (и она указала на ворона) прокричит твоему слуге, отчего ты не снимаешь перчатки с правой руки. При последних словах колдуньи, ярость Перолио превратилась в страх; он начал верить, что перед ним дочь сатаны, и рука его опустилась. – Успокойся, Перолио, – говорила между тем цыганка, – спрячь свой кинжал. Он недостаточно остер, чтобы проткнуть мою кожу, и если ты не хочешь слышать о прошлых подвигах, то поговорим о настоящих… Что тебе надобно, зачем ты пришел ко мне? И цыганка села на свое место, а бандит, вспомнив, зачем хотел видеть колдунью, старался успокоиться и казаться хладнокровным. – Что ж, я слушаю, – продолжала старуха. – Говорят, что ты умеешь готовить напитки, которые возбуждают любовь в женщине, если даже она любит другого. – А! Ты хочешь волшебным напитком возбудить любовь. Вот что! Красавец Перолио, непобедимый Перолио нуждается в колдовстве, чтобы быть любимым. :– Не твое дело рассуждать, ты получишь три флорина, если дашь мне то, чего я требую. – Отчего не дать… – Только слушай, я хочу не яда, который отнимает все силы и потом убивает… – Знаю, – прервала цыганка. – Если бы тебе понадобился яд, ты бы обратился к Фрокару, а не ко мне. Тебе надобно зелье, которое воспламенило бы душу невинной молодой девушки, расположило бы ее к любви, и она, вместо того, чтобы избегать тебя, искала бы тебя и отвечала ласками на твои ласки. – Да, я хочу любви. – Я сейчас приготовлю тебе волшебный эликсир, от которого растает белокурая Мария. – Ты знаешь ее имя? – Барбелан говорит мне все. Перолио невольно вздрогнул и посмотрел со страхом на зловещую птицу, которая ласкалась к своей хозяйке. Заметив его смущение, колдунья продолжала, обращаясь к ворону: – Не правда ли, Барбелан, что план задуман превосходно: девушка одна, без защиты; жених ее далеко… а отец?.. знаешь ли, Барбелан, где оружейник Золотого Шлема?.. он… – Где он? – вскричал Перолио. – На дне Лека. Бедняжка попался в западню, которую ему устроили твои сообщники – и твое желание исполнилось, Перолио… – Давай скорее напиток! – вскричал Перолио дрожащим голосом, чувствуя, что страх и волнение лишают его твердости. – Сейчас… Только прежде ты должен мне сказать: сомневаешься ли ты еще в моем знании? И колдунья выпрямилась и пристально смотрела на начальника Черной Шайки. Перолио невольно склонил голову перед странной женщиной. Видаль упал на колени. – Да, я верю в твое искусство, – отвечал бандит, – ты достойная дочь сатаны. – Хорошо, теперь садись возле Барбелана, молчи и не шевелись, если хочешь, чтобы напиток подействовал. И она раздула огонь, бросила туда какой-то порошок, отчего разлился под сводами удушливый запах; ворон и змея пришли в беспокойство, подземелье осветилось адским огнем и Видаль закрыл глаза, чтобы не видеть появления сатаны. Колдунья поставила на огонь котелок с водой и начала бросать туда травы и вливать какую-то жидкость; потом взяла волосы, принесенные капитаном, бросила их в воду и, взяв зажженную ветку, начала кривляться и припевать диким голосом таинственные слова. В это время Барбелан каркал и махал крыльями, и эта странная сцена продолжалась до тех пор, пока сгорела вся ветка. – Готово, – проговорила старуха. Она составила с огня котелок, процедила зелье и налила его в хрустальный флакон, который подала Перолио. Тот схватил драгоценный напиток, бросил колдунье три флорина и, не сказав ни слова, выбежал из подземелья. Видаль следовал за ним как тень. Молча дошли они до лошадей и, так как погода улучшилась и было уже светло, скоро доехали до Путтена, потом до Никерка и, наконец, утром были в Амерсфорте.XIX. Действие напитка
После этой экспедиции Перолио отдыхал, лежа в постели, закутанный в бархатную мантию на меху. Он невольно думал о колдунье и не мог не ужаснуться, вспоминая ее слова. Давно ли он смеялся над легковерием Фрокара, а теперь сам не мог не верить чудной старухе. «Да, – говорил он сам себе с сильным волнением. – Она должно быть дочь сатаны. Кто другой мог открыть ей тайну, которую я скрываю от всех? Кто сказал ей слово, которое жжет мне руку под перчаткой?.. А имя Марии… Поручение, данное Фрокару… Сам ад в этой женщине. А когда я хотел убить ее, чтобы посмотреть, какое это существо, один ее взгляд остановил меня. Да, я, Перолио, испугался этого взгляда… не смел поднять руки… а она смотрела на меня спокойно и насмешливо. Я не могу забыть выражения ее лица в эту минуту. Оно все предо мной, и мне кажется, что черты ее мне знакомы…» И капитан погрузился в такую задумчивость, что не слышал, как вошел Ризо, доложивший о приходе Фрокара, не поднял головы, когда пред ним встал монах и посмотрел на него насмешливо. Только голос его пробудил Перолио из задумчивости. – Здравствуйте, синьор капитан! – сказал Фрокар. – А, это ты! Какие вести? – Моя экспедиция удалась. – Где оружейник? – Далеко, он теперь не помешает вам. – Где он?.. Говори. – На дне Лека. – Ты его убил? – А разве было другое средство задержать его? Я славно придумал план и исполнил его. Могу сказать, что я вполне заслужил обещанную награду. И Фрокар, рассказав все происшествие, прибавил: – Теперь, синьор, пожалуйте пятнадцать флоринов. – Во-первых, любезный, я обещал тебе только двенадцать… – Может быть, у меня плоха память. – А во-вторых, я обещал тебя повесить, если кто узнает, что я участвовал в заговоре против мастера Вальтера. – О! Будьте покойны, капитан; мы действовали так ловко, что никто не может и подозревать нас. – И однако об этом знают… – Невозможно, синьор. – Сегодня ночью мне рассказали о твоем плане и смерти оружейника. – Вы шутите, капитан? Кто мог сказать это? – Колдунья падерборнских развалин. Фрокар побледнел и перекрестился. – Вы… вы… были у нее? – проговорил он, заикаясь. – Да, я видел ее, и она… – Знает все? – Да. Зубы монаха застучали, но он оправился и сказал: – Теперь, синьор, вы сами удостоверились, что эта колдунья – дочь сатаны. Кроме ее папеньки, никто не мог узнать наших тайн… А вы не хотели мне верить. – Погоди… Уверен ли ты, что ключ, сделанный тобой… – Мой ключ – просто талисман… Я тоже колдун, капитан, и отвечаю за мою работу… Счастливой ночи, синьор… И монах ушел, гордясь своими гнусными поступками. В восемь часов вечера приготовлен был ужин к возвращению мастера Вальтера, и Перолио был, разумеется, приглашен. Он пришел с пажом и застал своих хозяек в сильном беспокойстве. Патер ван Эмс истощал все свое красноречие, чтобы успокоить их. – Как хотите, мой отец, – говорила Марта, – а Вальтер бы должен быть здесь. Наш работник часто ходит в Дурстед и обратно в Амерсфорт, и уверяет, что в это время можно быть давно здесь. – Да разве он знает, в который день и в котором часу Вальтер вышел из замка? – отвечал патер. – Во всяком случае, – прибавила Мария, – батюшка верно бы поторопился увидеться с нами. – Полно, дочь моя, – говорил старик, – будем надеяться на Бога. Да и как мы можем знать, что делается в Дурстеде? Может быть, граф Шафлер удержал Вальтера у себя. Мария покраснела при имени своего жениха, а Перолио поспешил прибавить: – Мало ли какие препятствия могут встретиться на дороге. – Препятствия! – вскричали мать и дочь с испугом. – Ну да, – подхватил ван Эмс. – Мессир Перолио прав. Вальтер мог опоздать к перевозу и принужден ждать целую ночь. Это случается каждый день; стало быть нечего беспокоиться, а лучше помолимся сегодня усерднее. – Помолимся, – повторил бандит, – и может быть сегодня же вечером Вальтер будет с нами. Женщины немного успокоились; скоро подали ужинать. Хотя у мещан не было обыкновением пить вино в отсутствии хозяина дома, но для патера ван Эмса и для постояльца подан был кувшин рейнского вина. Перолио был очень весел и любезен, занимал все общество рассказами о путешествиях и о разных приключениях. Все были очарованы ловким итальянцем и даже старая Маргарита повторяла по временам Марии: – Какой милый наш постоялец, просто прелесть мужчина. Однако он не мог исполнить своего намерения, то есть бросить в стакан девушки волшебного зелья, потому что она пила только воду. За десертом Маргарита хотела, по обыкновению, уйти, но Перолио остановил ее словами: – Останьтесь еще на минуту, добрая Маргарита, вы должны выпить вместе с нами за здоровье и возвращение мастера Вальтера. – Аминь, – проговорил патер, – от этого тоста никто не откажется. – Ваша правда, – сказала Марта. – Только такое драгоценное здоровье не пьют ни пивом, ни водой. Мария, подай вина. – Нет, добрая хозяйка, – перебил Перолио, едва скрывая свою радость, – ваше вино очень крепко для женщины, и особенно для молодой девушки. Позвольте мне угостить вас сегодня редким вином. И не дожидаясь ответа, он быстро вышел из комнаты, позвав с собой Ризо. Скоро они вернулись; паж нес ящик черного дерева с инкрустациями, который поставил на стол, а Перолио держал в руке небольшую фляжку, тщательно закупоренную. – Ого! – вскричал патер. – Это верно испанское вино. – Нет, неаполитанское. Перолио вынул из ящика пять золотых стаканчиков отличной отделки. Потом он отошел к шкафу, служившему вместо буфета, приказал пажу держать стаканы и сам откупорив бутылку, начал осторожно наливать. Первый бокал был подан патеру ван Эмсу, и когда Ризо понес другой Марте, Перолио успел влить в бокал Марии напиток колдуньи. Потом, налив себе и Маргарите, он занял свое прежнее место и, глядя на молодую девушку, вскричал: – За здоровье мастера Вальтера и за счастливое его возвращение! И он выпил разом, тогда как ван Эмс наслаждался маленькими глотками, приговаривая: – Чудо, какое вино! Оно десятью годами старше того, которое я пил у монсиньора Давида. – Кажется дамы не разделяют вашего мнения, – проговорил бандит с досадой, заметив, что Мария едва дотронулась до вина. – Я выпила все, – ответила Марта, – и нахожу вино превосходным. – И я не оставила ни капельки, – сказала Маргарита, опрокидывая свой бокал. – Но отчего же Мария не хочет выпить? – заметил бандит. – Это нехорошо, дитя мое, – сказала служанка, – дно бокала – дно сердца. Когда пьешь за чье-нибудь здоровье, надо осушать до дна, чтобы не было несчастья с тем, за кого пьют. – Несчастья! – повторила молодая девушка. – Да, – сказал Перолио, – таково поверье, и притом такой отказ оскорбителен для меня; он означает ваше презрение ко мне. – О, не думайте этого, мессир! – вскричала Мария, с ангельской улыбкой. – Я не презираю никого. И взяв бокал, она выпила его, но не могла удержаться от гримасы. – Не горько ли вино, дочь моя? – спросил патер, смеясь. – Да, горько, – отвечала Мария. Все вскричали, что это невозможно, а Перолио поспешил предложить новый опыт. Ризо налил новые бокалы и Мария, попробовав из вновь налитого стакана, созналась, что вино сладко и не понятно, отчего первый бокал казался ей горьким. После ужина Перолио простился ласково со всеми и предложил патеру в проводники своего пажа, потому что было уже поздно и улицы не совсем безопасны. Добрый ван Эмс очень был рад этому и все начали прощаться, но в это время план бандита готов был провалиться. Читатели знают, что во время отсутствия оружейника Мария спала в комнате матери, и ключ, сделанный Фрокаром, не мог быть полезен для Перолио; но в последние два дня, когда ждали возвращения Вальтера, Мария перешла опять в свою комнату, о чем Перолио успел узнать; как вдруг Маргарита, убирая со стола, сказала Марии: – Послушай, дитя мое, хозяин уже не вернется ночью, так не лучше ли тебе остаться с маменькой, вамбудет вместе не так скучно. – Я очень рада, – отвечала молодая девушка, обнимая мать, – только все мои вещи уже перенесены в мою комнату. – А разве трудно перейти через коридор и устроить тебе постельку? – возразила старая служанка. Если бы взгляды могли убивать, адский взгляд Перолио убил бы старуху, которая уже пошла к дверям. – А если батюшка вернется? – вдруг вскричала Мария. – Ведь еще не поздно; он, может быть, в дороге. – Нет, сегодня его нечего ждать, – сказал патер. – Отчего же нет? – перебил Перолио. – Напротив, очень вероятно, что мастер, и без того запоздавший, будет торопиться, чтобы успокоить свою семью. – Положим, что так, – отвечал ван Эмс, – но все же городские ворота заперты и не отпираются ночью без особенного приказания бурграфа. – Я достал это приказание, любезный ван Эмс, на случай позднего возвращения Вальтера, и ворота будут ему отворены во всякое время. Хитрый итальянец не лгал: чтобы отклонить от себя подозрение, он хлопотал о позволении бурграфа отворить ворота оружейнику, и стражи действительно ждали его возвращения. – Вы думаете, мессир, что батюшка может вернуться сегодня? – спросил Мария. – Я почти уверен в этом. – Так не трогай ничего, Маргарита, – продолжала молодая девушка. – Я пойду в мою комнату. Через два часа все в доме спали, и крепче всех Марта и Маргарита, не привыкшие пить вино. Не спали только Перолио и Мария. Бандит с беспокойством считал минуты, прислушивался и, рассчитывая, что благодаря вину и волшебному напитку, Мария должна уже спать, тихо вышел из своей комнаты. В старых голландских домах жили не тесно, и комната Марии, в первом этаже и окнами в сад, была отделена от комнаты Марты длинным коридором. Спальня молодой девушки была очень просторна, убрана просто, и в ней, кроме кровати, вделанной в стену, был дубовый шкаф, столик, и несколько стульев. В одном углу было изображение Святой Девы, распятие и аналой, в другом овальное зеркало. В этом состояло все убранство комнаты у богатых мещан пятнадцатого столетия. Однако Мария не спала, хотя обольститель рассчитывал на это. Молодая девушка чувствовала странное волнение, как будто приняла возбудительное лекарство против сна; она сознавала в себе новые силы, и гораздо более смелости, чем в обыкновенное время. Она потеряла робость, сделалась решительной и храброй. Это было следствием волшебного напитка колдуньи. Сев к своему столику, Мария распустила длинные волосы, расстегнула корсаж и начала думать о начальнике Черной Шайки, о его вежливости и предупредительности. Может быть, в первый раз девушке пришло на ум, что этот человек обманывает всех и носит маску, которую скоро снимет. Он ненавидит ван Шафлера; он говорят, сжег его замок, стало быть, он замышляет что-нибудь и против его невесты… «Невесты!» – прошептала девушка краснея, и вместо жениха, мысль ее перенеслась на Франка, который тоже чуть было не погиб от руки того же Перолио. В эту минуту бандит стоял у двери спальни и тихонько вкладывал ключ в замок. Молодая девушка не слыхала легкого шума, но ее маленькая собачка, Том, выскочила из-под кровати и начала громко лаять. Мария нисколько не испугалась и не удивилась, думая, что собака услышала шаги Вальтера и, обрадованная этой мыслью, хотела броситься ему навстречу, но дверь быстро отворилась: перед ней стоял Перолио. Мария вскрикнула и побледнела, а Том перестал лаять, потому что узнал постояльца, который часто угощал его лакомствами. – Мария, – сказал он, – чего вы испугались? Разве вы не узнали самого преданного друга вашего семейства, вашего друга… Мария! И он подошел к ней, но она отскочила и схватив черную мантилью, закуталась в нее. – Послушайте меня, – продолжал итальянец. – Не подходите ко мне, мессир! – закричала Мария. – Или я стану звать на помощь. «Проклятая колдунья! – подумал Перолио. – Я думал, что найду полусонную, нежную красавицу, а вместо того передо мной героиня». И он продолжал еще вкрадчивее. – Зачем вам звать, прекрасная Мария? Разве вы полагаете, что я способен оскорбить вас, я, ваш друг, ваш гость?.. – Зачем же вы здесь, мессир? – спросила молодая девушка, немного оправясь от страха. – Как вы вошли в такое время? – Увы, я пришел сказать вам, что с вашим батюшкой случилось несчастье. – Несчастье!.. С батюшкой! – вскричала Мария. – Да, мой оружейник Видаль был сейчас у городских ворот и там пришло известие, что мастер Вальтер взят на дороге солдатами капитана Салазара и отведен в нарденскую тюрьму. – Это невероятно, мессир. Капитан Салазар служит у епископа и должен знать, что монсиньор Давид освободил моего отца. – Разумеется, только, может быть, епископ раскаялся в своем поступке и приказал тайно опять схватить пленника. – Неправда, мессир; епископ не сделает этого; или вы меня обманываете, или вас обманули. – Клянусь Мадонной… – Не клянитесь. Бог наказывает клятвопреступников. Перолио не мог придти в себя от удивления. Та ли это робкая, стыдливая девушка, которая боялась поднять на него глаза? Неужели волшебный напиток придал ей столько твердости и смелости? – Во всяком случае, мессир, – продолжала она, – если Богу угодно продолжить наше испытание, мы не будем роптать, а покоримся его воле. Теперь же, мессир, прошу вас уйти. И она повелительно указала ему на дверь. Итальянец не двигался с места и с восторгом смотрел на красавицу. – Вы приказываете мне уйти… я повинуюсь… позвольте только сказать вам… что я люблю вас как безумный, что вы прекрасны, как ангел. – Молчите, мессир! – вскричала Мария, краснея. – Ваша любовь оскорбляет меня. Вы знаете, что я невеста графа ван Шафлера. – Знаю… но любите ли вы его, Мария? – Что за вопрос, мессир?.. Уйдите, – проговорила девушка, смущаясь. – Любите ли вы его? Нет, вы не можете любить этого холодного человека, который ничего не чувствует, всегда спокоен и хладнокровен. Разве он может оценить вашу красоту, разве может любить вас этот человек, который предпочитает службу Давиду Бургундскому своей невесте? В его жилах не течет такая пламенная кровь, как у меня. Нет, Мария, только Перолио умеет любить страстно, нежно, Перолио отдаст свое отечество, жизнь, душу за один поцелуй. И бросившись к своей жертве, злодей обвил рукой ее талию и прижал ее к груди. – Оставьте меня, мессир! – кричала девушка, стараясь вырваться из железных рук. – Умоляю вас всем, что для вас дорого. – Ты одна на свете дорога мне, – сказал Перолио и, выпустив ее, хотел попробовать действовать убеждениями, прежде чем прибегнуть к силе. – Вы видите, что я вам повинуюсь, – начал он почтительно, садясь. – Послушайте же и вы меня, Мария. Зачем пугаться моей любви, зачем сердиться? Я не виноват, что ваша красота поразила меня, и не одна красота, а ваше сердце, скромность, невинность. Увидев вас, я начал верить в Бога; полюбите меня, и я, может быть, исправлюсь, сделаюсь добрым, как вы. Ангелы должны заботиться о том, чтобы спасти заблудшие души. Спасите же меня, Мария, спасите вашей любовью, дайте мне ваше сердце взамен моего, и клянусь, вы будете самая любимая, самая счастливая женщина на свете. Мария слушала с удивлением и страхом эти новые для нее речи. Перолио был хороший актер и мог обмануть не такую невинную девушку. Голос его дрожал, волнение было так заметно, что бедная девушка почувствовала невольную жалость; гнев ее прошел и она отвечала тихо: – Я жалею, мессир, что невольно возбудила вашу любовь… но что же мне делать? Вы не знаете наших обычаев и думаете, что можно забыть священное обещание. Меня не принуждали, я свободно отдала свою руку благородному ван Шафлеру, только смерть может разорвать нашу связь. Если же я забуду обещания, люди будут презирать меня, а Бог накажет. – Я не хочу, чтобы вас презирали, прекрасная Мария! Выходите замуж за ван Шафлера, если этого нельзя переменить… но полюбите Перолио. – Я вас не понимаю, – проговорила молодая девушка, для которой не могло быть смысла в этих словах. – Вы отдадите мужу вашу руку, а мне сердце, – продолжал злодей, смотря страстно в глаза Марии. – Вы будете носить его имя, но ваши ласки, ваша любовь будут принадлежать мне. – Молчите! – вскричала она, поняв, наконец, итальянца. И оттолкнув его, она бросилась к двери, но Перолио был не такой человек, чтобы выпустить из рук добычу; он был у двери вместе с Марией и загородил ей выход. – Вон отсюда, – закричала Мария, – или я разбужу весь дом! – Напрасно, будете беспокоиться, моя красавица, все спят так крепко, что никто вас не услышит. Бандит переменил тон; он понял, что колдунья обманула его и вместо любовного зелья, дала напиток, который подкрепляет силы. Это неожиданное сопротивление бесило его и еще более раздражало. Надеясь остаться победителем слабого создания, он продолжал: – Если вы даже разбудите вашу мать и служанку, это не поможет вам нисколько. Здесь одна дверь и только я могу отворить ее. И он повернул два раза ключ и положил его в карман. – Матушка! Сюда, спасите меня! – кричала девушка, но голос ее уже ослабевал. – Полноте, успокойтесь, – говорил Перолио, глядя на нее пламенными глазами. – Сжальтесь, мессир, умоляю вас! – проговорила Мария, падая перед ним на колени. – Не бойся, меня, angelo mio, – сказал он, поднимая ее, – я тебя люблю… перестань плакать… хоть ты прекрасна и в слезах. Твои родные, жених, не будут ничего подозревать… Клянусь тебе, что никто не узнает о моем счастье. – И вы не боитесь Бога, который все знает и видит? Итальянец захохотал. – Боже, спаси меня! – вскричала Мария и вырвавшись из рук бандита, подбежала к аналою и крепко обхватила его. Мантилья ее осталась в руках Перолио, который, несмотря на мольбы и рыдания девушки, бросился к ней, чтобы оттащить ее от последнего убежища. Эта ужасная борьба была слишком неравна, чтобы продолжаться. Мария теряла силы и чувства, голос ее замирал… Только чудо могло спасти бедного ребенка. – Наконец-то, – проговорил злодей, чувствуя, что Мария лишилась сил. Но в эту самую минуту раздался сильный удар в дверь и громкий голос закричал: – Отпирай, или я выломаю дверь. Перолио выпрямился над бесчувственной девушкой и окаменел от удивления; но в ту же минуту раздался другой удар и, после третьего дверь сорвалась с петель и с грохотом упала. В комнату вбежал Вальтер, бледный, с подвязанной рукой. Перолио вскричал с ужасом: – Вальтер жив! – Да, палач, я жив! – кричал оружейник. – И это тебя удивляет, потому что ты поставил убийц на моем пути, но Бог спас меня, чтобы я мог спасти дочь или отомстить за нее… Где она? Говори, разбойник! Вальтер не мог видеть дочери, потому что при первом ударе в дверь, Перолио схватил Марию на руки и, бросив на кровать, задернул занавес. Видя, что отец бросается на него с топором, бандит вынул кинжал и отдернув занавес, приставил его к груди Марии. – Вот твоя дочь… она без чувств, но если ты сделаешь еще шаг – я убью ее. Брось свой топор и дай мне уйти. – Подлец! – проговорил оружейник. В эту минуту вошли Марта и служанка, и, видя жест Перолио, упали на колени. – Брось топор! – повторил бандит, совершенно оправившийся от удивления. – Теперь борьба между нами не равна, но мы еще увидимся с тобой. – Вальтер! Умоляю тебя! – шептала Марта. Оружейник бросил топор, Перолио спрятал кинжал и пошел к двери. В эту минуту Мария открыла глаза, увидела мать и, забыв Перолио, с жаром обняла ее… Отец боялся взглянуть на дочь. – Обними свою дочь, – сказала Марта, – и благодари Бога, что она осталась чиста и невинна. С криком радости отец бросился к Марии. Перолио, бывший у двери, обернулся посмотреть на эту счастливую группу и проговорил злобно: – Радуйтесь сегодня, потому что вам не долго радоваться. Клянусь, что рано или поздно, а дочь ваша будет моей. И он скрылся, как злой дух. Теперь надобно объяснить, как спасся оружейник и как мог поспеть домой вовремя. Вальтер был поражен двумя ударами кинжала и брошен в воду Фрокаром и другими бандитами, но в темноте злодеи не могли поразить верно и второпях не заметили, что жертва их дышала. Один удар попал в руку и, к счастью, не перерезал артерии, другой направлен был в грудь, но попал вскользь, не задев ни одного важного органа. Однако потеря крови лишила его чувства, и только в воде он очнулся, освободился от веревки и, так как плавал отлично, то, несмотря на слабость, мог держаться на воде и плыл по течению. Выйдя на берег далеко от того места, где стоял кабак, Вальтер побежал по берегу, чтобы согреться и скоро нашел дорогу в абденгофское аббатство. Тут же на камне сидела женщина, разбирая какие-то травы, и Вальтер спросил ее: – Это дорога в абденгофское аббатство? – Есть и другая, – отвечала женщина, не глядя на оружейника, – только та дальше. Вам надобно в монастырь? – Да, я тороплюсь. – Напрасно… монахи спят и не отворят вам, – ответила она, разглядывая Вальтера при лунном свете. – Отчего не отворят? Я не бродяга. – Не знаю, только вы не похожи на порядочного человека, вы покрыты кровью. – Эта кровь моя; разбойники схватили меня ночью с постели, ранили и бросили в Лек. – Где это было? – спросила женщина с живостью. – На той стороне реки, в кабаке, возле перевоза. – И вы знаете этих бандитов? – Нет. – Так я знаю их и знаю вас… Вы амерсфортский оружейник, под вывеской «Золотого Шлема». – Кто вам сказал это? – Разбойники Черной Шайки, которым начальник приказал убить вас. – Перолио! Возможно ли? – Вчера я собирала травы в лесу и остановилась у перевоза отдохнуть. Несколько человек ждали в лесу и разговаривали на языке, которого никто не понимал, кроме меня. Я узнала в них разбойников Черной Шайки и услышала, что они сговариваются убить оружейника, чтобы он не вернулся домой. – Но что за причина этого умысла? Перолио служит теперь моему господину, бурграфу. – Кто может знать мысли этого человека? – проговорила женщина и хотела спросить Вальтера, нет ли у него красавицы жены или дочери, но обернувшись к нему, увидела, что он, бледный, прислонился к дереву и готов был упасть от слабости. – Дайте мне руку, – сказала она, – и пойдемте ко мне. Я живу здесь близко и перевяжу ваши раны не хуже монастырского лекаря. Читатель понял уже, что это была колдунья, которая на следующую ночь удивила Перолио и Видаля своими открытиями. Она заботливо поддерживала раненого, провожая его в свое подземелье, и по дороге расспрашивала его о семействе. Узнав, что дочь Вальтера невеста ван Шафлера, она вскричала: – Ваша дочь будет счастлива с этим добрым, благородным человеком. – Разве вы знаете и его? – спросил удивленный мастер. – Да, он защитил меня от разбойников Черной Шайки и даже убил одного из них. Жаль, что не самого Перолио. – Я помню это происшествие; Шафлер рассказывал мне, что избавил от смерти цыганку. – Да, меня зовут здесь и цыганкой и колдуньей; говорят также, что я дочь сатаны, – прибавила она. – Надеюсь, что это неправда, и что вы не имеете сношений с адом? – спросил Вальтер, который, как и все его современники, верили в колдовство. – Сохрани меня Боже! – проговорила она, крестясь. – Очень рад, – сказал оружейник, – но кто вы и откуда? Она вздохнула, задумалась и потом отвечала взволнованным голосом: – Я родилась далеко отсюда и преследую цель, которой, может быть, никогда не достигну… Но надежда поддерживает меня и помогает переносить все страдания. – Чем же вы живете? – спросил Вальтер с участием. – Моей наукой, – отвечала она. – То есть, шарлатанством и обманами? – А разве без шарлатанства мне бы поверили? Люди так созданы, что верят только в обманы. – Стало быть, ваши лекарства не действительны? – А вы не согласились бы выпить моего зелья? – Ни за что на свете. – Однако вы принимаете лекарства лекаря-монаха, а кто их приготовляет? – я. Я начала сама лечить крестьян, но монахи восстали на меня, распускали слухи, что дьявол помогает мне приготовлять снадобья и что тот, кого я вылечу, непременно пойдет в ад. Меня преследовали, обижали, сожгли мою хижину, назвали дочерью сатаны. Я скрывалась в падерборнских развалинах, сошлась с монахом-лекарем, которому приготовляю лекарство, и теперь меня не трогают, потому что боятся. Монахи даже уважают меня… Но вот мое убежище, войдемте, мой гость. И она ввела Вальтера в подземелье, зажгла лампу, обмыла раны оружейника, которые были не опасны и, приложив к ним компрессы, перевязала, но потеря крови до того ослабила раненого, что он не мог держаться. Оставаться у колдуньи не было возможности, а до монастыря было добрых полмили. Услышав, что мимо развалин проезжает телега, колдунья выбежала, остановила крестьянина, который вез сено в монастырь, и приказала ему взять раненого с собой. Крестьянин тихонько перекрестился, помог Вальтеру расположиться на сене и не смел взглянуть на колдунью, которая, подав раненому склянку с лекарством, приказала ему беречься и не говорить никому, что она помогла ему. Потом она приказала крестьянину ехать, а сама оставалась на возвышении перед развалинами, и ее фантастическая фигура вырисовывалась, освещенная луной. Крестьянин гнал лошадь, чтобы избавиться от страшного видения, и через несколько минут был у монастыря. В это время звонили к заутрени, и монахи крепко спали. Вальтер долго стучал, наконец ему отворили, и то только при имени ван Эмса, родственника настоятеля, которому пошли о нем докладывать. Через полчаса Вальтер был введен к настоятелю монастыря, тучному, красному монаху, который, зевая, сидел в кресле. – Что вам надобно, сын мой? Вы присланы патером ван Эмсом? – спросил он, ласково. Надобно знать, что добрый амерсфортский священник часто присылал своему родственнику дичь и другие лакомства, и только поэтому настоятель решился оставить свою постель, воображая, что получит вкусный подарок; но узнав, что Вальтер не принес ни каплуна, ни варенья и что его преследует начальник Черной Шайки, монах рассердился и, боясь преследований грозного Перолио, вскричал с досадой: – Стоило будить меня для такой глупости! – Что вы говорите, отец мой? – спросил удивленный оружейник. – Я говорю, что дело ваше очень неприятно и нисколько до меня не касается. Я обязан прежде всего заботиться о своем монастыре, а не мешаться в политические ссоры. Я треска в душе, но не могу быть врагом и епископа Давида, а с начальником Черной Шайки не намерен ссориться из-за вас. – Я вас прошу, – возразил Вальтер, – только о гостеприимстве на сутки, чтобы я мог отдохнуть и поправиться от моих ран. Я не в состоянии идти дальше. Но толстый настоятель не соглашался принять опасного гостя, и Вальтер со вздохом хотел уже выйти, как на пороге показался высокий старик в одежде пастуха, который, казалось, слышал конец разговора настоятеля с оружейником и сказал тихо, но с достоинством: – Останьтесь, мастер Вальтер. Я уверен, что почтенный приор даст вам комнату и позволит вам отдохнуть. Услышав этот голос, настоятель вскочил так скоро, как этого нельзя было ожидать от его громадной фигуры и, поклонившись старику, хотел ему сказать что-то, вероятно в свое извинение, но пастух дал ему знак замолчать, а сам продолжал, обращаясь к Вальтеру: – Я не знал, что вы получили свободу, мастер, что вас выпустили из Дурстеда. Но почему же на вас напали солдаты Черной Шайки, когда начальник их в союзе с монфортским бурграфом? Вальтер не знал, можно ли доверить свою тайну незнакомцу, но тот, поняв его нерешительность, сказал: – Я спрашиваю вас из участия, а не из пустого любопытства. Притом, вы верно слышали обо мне: я пастух Ральф. – О котором так часто говорил мне Франк? – Да, ребенок был поручен мне, но вы сделали из него искусного работника, честного человека. – Он не только простой работник, но и мастер своего дела. Подобного ему оружейника трудно найти; но он принужден был оставить это ремесло и причиной этого был все тот же разбойник Перолио. И Вальтер рассказал все, что с ним случилось и все свои опасения. В это время настоятель опять поместился в своем кресле, начал читать молитвы, но потом задремал и уснул. Скоро храпенье его раздалось по всей комнате, и Ральф, будто не нарочно, уронил на пол свою палку. Этот стук разбудил приора. – Извините, отец мой, – сказал пастух, – что я прервал ваши молитвы, но раненому нужен покой; прикажите дать ему комнату и позаботьтесь о его удобстве. – Слушаю, – проговорил настоятель, кланяясь. – Мы так обязаны вам… ваши благодеяния… Ральф прервал приора, и тот поспешно вышел. Благодаря лекарству колдуньи и крепкому сну, силы Вальтера вернулись, и он потребовал пищи, а Ральф, успокоенный на счет его здоровья, вышел из монастыря и в Путтене встретил своего служителя Гаспара, который рассказал ему о приключении с начальником Черной Шайки. Боясь, чтобы Перолио не заехал в монастырь и не встретил там Вальтера, Ральф поспешил вернуться туда, чтобы предупредить несчастье, а потом прошел другой дорогой к падерборнским развалинам и, стоя за занавесью, был свидетелем сцены между Перолио и колдуньей. Когда разбойник скрылся со своим пажом, старик вышел и, схватив колдунью за руку, вскричал: – Несчастная, какого яда ты дала Перолио? – Не бойтесь ничего, Ральф, – отвечала она. – Мое зелье произведет совсем не то действие, какого ожидает Перолио. Бедная девушка почувствует больше силы и смелости, чтобы противиться бандиту… Только вы предупредите отца, чтобы он не терял времени, если хочет спасти дочь. Ральф побежал обратно в монастырь и, разбудив Вальтера, сказал ему: – Скорее в дорогу… ты теперь здоров… беги домой… Перолио хотел убить тебя, чтобы обесчестить твою дочь. – Мою дочь! – вскричал отец с отчаянием. И он бросился как безумный, забыв свои раны, свою слабость. Однако дорога была длинна, Вальтер был в лихорадке и только к ночи увидел стены Амерсфорта. Он знал, что в такое время нельзя попасть в город и заплакал от отчаяния, но, к удивлению его, солдаты, дежурившие у ворот, сами окликнули его и пропустили, потому что Перолио, уверенный в смерти отца Марии, дал приказание отворить для него ворота во всякое время. Вальтер побежал домой, схватил топор и успел спасти свою дочь.XX. Бегство
На другое утро после ужасной ночи Вальтер пошел к патеру ван Эмсу, посоветоваться с ним, что делать с Марией и как спасти ее. Он хотел было, как синдик своей корпорации, созвать товарищей и пойти с ними к бургомистру, требовать его покровительства и мщения за гнусный поступок Перолио, но потом отказался от этого намерения. – К чему это приведет? – говорил он жене. – Я знаю наших правителей города. Это люди добрые и честные, но лишенные всякой энергии. Они не захотят для моей защиты сделать неприятность бурграфу, который теперь в Утрехте, а вместо него здесь распоряжается тот же разбойник Перолио. Наш бургомистр, главный судья и старшины дрожат перед итальянцем, и чтобы заставить их вступиться за меня, надобно взбунтовать народ и работников. Этого я не хочу, пока будет хоть какое-нибудь другое средство спасти Марию. Выйдя из дома, оружейник приказал своим работникам не выходить из магазина и никого не впускать в общую комнату, где сидели мать с дочерью. Почтенный священник был поражен, услышав, что духовная дочь его, скромная Мария, чуть не погибла. Этот добрый человек никак не мог понять, что Перолио разыгрывал комедию и обманывал его притворной набожностью и почтительностью. – Господи! – вскричал он с негодованием. – Как же после этого отличить лицемера от хорошего христианина! Ведь и я виноват в вашем несчастье, добрый мой Вальтер. Этот хитрец так очаровал меня, что я не переставал хвалить его вашей жене и дочери. Он подкупил меня своими раскаяньем и амулетами, и я чуть не предал ему невинность моей дочери. Бог свидетель, что я не подозревал его преступных намерений… я сам жестоко обманывался… Вот все вещи, которые он выдавал мне за святыню… я отошлю их ему. Я не могу смотреть на них. И добрый старик заплакал, как ребенок. – Успокойтесь, – говорил оружейник, – дело теперь не в амулетах бандита. Надобно придумать, как скрыть Марию так, чтобы разбойник не нашел ее. – Да, мой друг, это нужнее всего… Отчего вы не обратитесь к бурграфу? Он может наказать Перолио. – Нет, отец мой! Волки не грызут друг друга. – Правда, но бурграф честный и достойный государь, он не захочет помогать замыслам такого бездельника. – Я не говорю, что граф Монфортский будет помогать Перолио, но он не удержит его, потому что нуждается в помощи Черной Шайки и не будет ссориться с начальником из-за безделицы… потому что убийство мещанина, честь его дочери, считаются безделицами у великих политиков. Нет, на строгость бурграфа нельзя рассчитывать, точно также как на энергию нашего бургомистра. – Так к кому же обратиться, добрый мой друг? – Я раскаиваюсь, что не послушал ван Шафлера, который хотел, чтобы свадьбу сыграли до окончания перемирия. Мы боялись тогда для Марии опасности военного времени, но в родительском доме она может погибнуть скорее, чем в лагере мужа. Кто знает, на что решится этот ужасный человек. Покуда я жив, буду беречь мою дочь, но меня уже почти убили раз, и я не всегда буду так счастлив, что вырвусь из когтей убийц. Марии нельзя оставаться в Амерсфорте, нельзя жить в моем доме, потому что бандит сожжет весь город, чтобы овладеть своей жертвой. Разве он не сжег замок Шафлера? – Так вы хотите, чтобы Мария уехала отсюда? – Непременно, и как можно скорее. – Я с вами согласен… только куда? Да, ведь у вас есть родственники в Зеландии, – чего же лучше? – Я уже думал об этом, только в это время года свирепствуют лихорадки, и я боюсь за здоровье Марии. – Да, она слаба здоровьем, ее опасно везти туда. – И однако, если выбирать из двух зол, я готов отослать ее в Зеландию, где она будет в безопасности от покушений разбойника. Наша жизнь в руках Бога; только прежде надобно дать знать об этом жениху. Может быть, он захочет обвенчаться тотчас же, и епископ даст ему в Дурстеде приличное помещение, потому что замок его разрушен. В таком случае я свезу Марию к ван Шафлеру и епископ благословит их брак. – Мне кажется, Вальтер, что вы придумали самое лучшее, и вероятно, граф Шафлер согласится на это с радостью. – Но как дать ему знать? – За это я берусь. Напишите письмо, и я пошлю его с монахом из монастыря св. Лазаря, который отправляется в Дурстед. Через десять дней вы получите ответ. – А что может случиться с Марией за это время? Я не хочу, чтобы она пробыла хоть один день под одной кровлей с мерзавцем. – Да, этот злой человек не оставит ее в покое, надобно удалить ее… но куда? И старик задумался, отыскивая в голове какую-нибудь мысль, а Вальтер ходил по комнате. – Нашел! – вскричал наконец ван Эмс радостно. – Мы отвезем Марию в монастырь св. Бригитты в Зест. Там настоятельница – моя сестра. – Но Зест недалеко от Амерсфорта, и будет ли там моя дочь безопасна? – Это самый безопасный монастырь, потому что находится под покровительством бурграфа и монсиньора Давида. Никто не смеет тронуть его, и сам Перолио не отважится идти туда. – А согласится ли настоятельница принять Марию и беречь ее? – В этом нет никакого сомнения. Не надобно и предупреждать ее. Мы сами отвезем Марию и объясним ей все. Когда вы хотите ехать? – Сегодня же, поскорее. – Хорошо. Напишите прежде письмо ван Шафлеру, вот бумага и перья. И ван Эмс указал ему на стол, но оружейник, почесав за ухом, оставался в нерешимости и наконец сказал откровенно: – Напишите лучше вы сами, отец мой, я хорошо действую молотком, а перо для меня незнакомый инструмент. Дома все писание отправляет Мария, только в этом случае я не хочу прибегать к ней самой… вы понимаете, отчего? – Да, молодой девушке нельзя писать об этой страшной ночи, и еще своему жениху… я напишу и отошлю послание. – А я пойду приготовлять все к отъезду. Вы скоро придете, отец мой? – Через два часа, никак не позже. И оружейник поспешил домой сообщить жене и дочери о предстоящей разлуке. Марта соглашалась, что Марию необходимо удалить, но бедная мать не подозревала, что у нее так скоро отнимут ту, с которой она никогда не расставалась даже на день. Напрасно ее уговаривали и утешали, Мария не могла видеть слезы матери и ушла в свою комнату, поплакать на свободе. – Полно, Марта, – говорил Вальтер, – зачем отчаиваться? Это грех. Ты сама понимаешь, что нам нельзя оставить здесь Марию. – Знаю, Вальтер, – отвечала бедная женщина, удерживая слезы, – но я не ожидала, что надобно расстаться с ней так скоро… сейчас. Это ужасно! – Что делать, Марта? Мне самому грустно. – Я не переживу этого, – продолжала Марта рыдая. – Разве я могу привыкнуть жить без нее, когда не оставляла ее с той минуты, как она родилась? Она была всегда возле меня, и поднимая глаза, я была уверена, что увижу мое дитя. Я беспокоилась, когда она долго оставалась в своей комнате и посылала за ней Маргариту, а теперь будут проходить дни, недели и я не увижу ее, не услышу голоса. Нет, это невозможно, Вальтер, я не перенесу этого. – Ты думаешь, что я страдаю меньше тебя? – сказал взволнованный оружейник. – Мое сердце сжимается при мысли о разлуке с нашей дочерью, но я покоряюсь необходимости. Пойми, что эта разлука не так еще ужасна, как бы могла быть; монастырь св. Бригитты не так далеко отсюда, и ты можешь каждую неделю навещать Марию и оставаться с ней целый день. Притом я не хотел говорить при дочери о моем плане, который может быть, еще не состоится. Патер ван Эмс пишет в эту минуту письмо ван Шафлеру, в котором мы предлагаем ему тотчас же обвенчаться с Марией, и если он согласится на это, мы свезем ее в Дурстед, и ты останешься у молодых до окончания войны. Эта надежда успокоила немного Марту, которая перестала плакать и занялась приготовлениями к отъезду. Зато когда пришел ван Эмс, горе матери возросло до высшей степени, и она почти без чувств сжала дочь в своих объятиях. Вальтер, несмотря на твердость характера, был растроган до слез и не мог проговорить не слова, а добрый священник сказал несколько простых, но глубоко религиозных слов, придавших немного сил бедной матери. Она проговорила, наконец, обливаясь слезами: – Я знаю, батюшка, что грех роптать на волю Божию, но что делать?.. Разве не Бог посылает предчувствия? А я чувствую, что разлука с моей дочерью вечная, что я в последний раз прижимаю ее к своему сердцу. – Полноте, – уговаривал ван Эмс. – Что у вас за странные мысли. Вы скоро увидитесь с Марией. – Нет, моя дочь – это моя душа… без души нельзя жить… я умру. – Полно, Марта, – проговорил Вальтер с поддельной строгостью, – ты расстраиваешь всех нас… простись с Марией, нам пора ехать. – Погоди, Вальтер… еще минуточку, – вскрикнула мать, – дай мне в последний раз наглядеться на нее. – Не говори этого, матушка, – прошептала молодая девушка, – или я потеряю последние силы. – Хорошо… дитя мое… я замолчу… Бог милостив, я не хочу плакать… мы увидимся… В тот самый час, как оружейник с патером ван Эмсом и Марией выходили из Амерсфорта на дорогу, ведущую в Зест, Перолио с половиной Черной Шайки выезжал из других ворот на нарденскую дорогу. Что же было причиной такого скорого отъезда? Город Нарден был уже и в те времена сильной крепостью и принадлежал к утрехтской епархии. Нарден остался верен епископу Давиду, который, однако, содержал там небольшой гарнизон, несмотря на просьбы горожан, просивших усиления войск на случай нападения неприятеля. Бургундец, всегда нерешительный, долго обдумывал просьбу Нардена и наконец приказал капитану Салазару послать туда отряд наемников. Бурграф Монфортский узнал об этом и зная, что отряд придет не скоро, вздумал овладеть крепостью. Эта опасная экспедиция была поручена начальнику Черной Шайки, известному своей храбростью и ловкостью, и вот почему, после неудачной ночи, когда Вальтер пошел к патеру ван Эмсу, Перолио, получив приказ бурграфа, отправился к Нардену с частью своих войск. Он был доволен, что оставляет на время дом оружейника, где все ненавидели его. Притом эта экспедиция обещала богатую добычу, чему радовалось войско, которому надоела бездейственность гарнизона. Получив приказ, Перолио собрал войско и выехал из города с одной половиной, а другая должна была догнать его на другой день. Стало быть, если бы Вальтер замедлил немного отъезд дочери в монастырь, то мог бы оставить ее у себя еще на несколько дней и отдалить время разлуки. На другой день Перолио расположил свой лагерь в деревне близ Нардена, откуда мог наблюдать за окрестностями. Вся шайка уже соединилась с ним. В арьергарде с обозом был и Фрокар, который не успел еще переговорить с начальником и не знал о чудесном явлении Вальтера и ночных похождениях Перолио. Он ждал минуты, когда капитан позовет его и отдаст обещанные двенадцать флоринов. Наконец Перолио, увидев его близ своей палатки, кликнул его, и монах очень довольный, вошел потирая руки и спросил: – Довольны ли вы, синьор, любовным зельем колдуньи? Но Перолио смотрел на него так грозно, что он замолчал. – Где крестьянин, пойманный с письмом епископа к коменданту Нардена? – спросил капитан. – Он связан, синьор, – отвечал Фрокар, – и так как, вероятно, вы прикажете вздернуть его на дереве, то я приготовил новую веревку и выбрал дуб, с которого вида нарденская колокольня. – Ризо, – сказал Перолио пажу, – позови Скакуна, Рокардо и еще двоих. Паж поклонился и вышел. – Ты ждешь награды за твою экспедицию? – спросил бандит Фрокара. – Как же, сеньор. Впрочем, я могу и подождать, за вами не пропадет. – Тем более, я должен аккуратно платить мои долги. В это время вошел Ризо с лейтенантом Вальсоном, Скакуном и Рокардо. Вальсон пришел спросить, что делать с пойманным крестьянином. – Не беспокойтесь, лейтенант, мы уже приготовили ему веревку, – сказал Фрокар. И он вынул из кармана крепкую петлю. – Хороша ли твоя веревка? – спросил Перолио. – Совсем новая, капитан, и сдержит хоть Вальсона, несмотря на то, что он успел уже нагрузить себя водкой. Перолио взял веревку и, передавая ее Скакуну, сказал: – Накинь веревку на шею Фрокара и повесь его на том самом дереве, которое он выбрал. – Я посмотрю на это! – вскричал англичанин, заливаясь громким смехом. Фрокар принял это за шутку и сам рассмеялся, но видя, что капитан совершенно серьезен, а подчиненные его готовы исполнить приказание и накинули петлю на его шею, побледнел, задрожал и не мог проговорить ни слова. Видя его гримасы, Вальсон хохотал еще громче, говоря: – Ах ты трус, испугался веревки! – Я не спорю, что я трус, точно также как ты пьяница, – проговорил с трудом Фрокар, зубы которого стучали. – Я знал также, что умру на виселице, только не ждал, что это будет так скоро. В это время воины потащили его, но он вскричал: – Погодите, дьяволы! Успеете еще! – и обратясь к Перолио, продолжал: – Капитан, благородный сеньор, все великие люди отличались великодушием, прикажите этим разбойникам повременить немного. Что я сделал? В чем провинился? Верно вина моя велика, что вы решаетесь лишиться услуг такого нужного человека, как Фрокар. Право, я не знаю, чем заслужил ваш гнев. Верно зелье колдуньи не подействовало, так в этом виновата она, а не я, надобно ее привести. – Дело не в колдунье, – вскричал Перолио, топнув ногой, – а в оружейнике! Что ты с ним сделал? – Что я с ним сделал? – повторил Фрокар, глядя с удивлением на тех, которые помогали ему в кабаке у перевоза. – Ты мне сказал, проклятый плут, что он никогда не вернется домой. – Сказал, синьор, потому что разве может вернуться человек со дна реки, с двумя ударами кинжала. – И, однако, он пришел домой, и я его видел. – Так вы видели его привидение… он просил молитв за свою душу! – вскричал суеверный монах, забыв о своем положении. – Я видел не привидение, а живого оружейника. – Да, – проворчал Вальсон, – я сам видел его перед нашим отъездом. Он ехал с дочерью и старым священником. – Как! – вскричал Фрокар. – Этот железный оружейник очнулся и выплыл, и за это вы хотите отправить меня на тот свет? – Разве я тебе не обещал этого? – Так надобно повесить не одного меня, но и тех, которые помогали мне. Надобно быть справедливым, капитан, да и мне будет приятнее висеть в компании. Они виноваты больше меня, если проклятый оружейник не умер. Дурак Рокардо не хотел употребить в дело веревку, которую я приготовил; а ручаюсь, что из моей петли не выскочил бы самый живучий человек. – Я не палач, – возразил Рокардо, – и не умею владеть веревкой. – А теперь ты берешься за дело палача? – спросил Фрокар, решаясь защищать свою жизнь. – Тебя всякий из нас повесит с удовольствием, – сказал Скакун. – Я не сомневаюсь в твоем расположении, проклятый англичанин, но капитан, не может желать моей смерти… Мы с ним соотечественники, итальянцы, мы понимаем великодушие… и я со своей стороны прошу вас, синьор, простить этим глупцам, которые не умели разделаться с оружейником… Верно душа его была так крепко привинчена к телу, что он всплыл как пробка. – Я поручил все тебе, – сказал Перолио, – и ты должен отвечать! – Я невинен, как ягненок, синьор, и чтобы доказать вам мою готовность, берусь в три дня отправить оружейника на тот свет и ручаюсь, что на этот раз он не воскреснет. – Что мне за дело до оружейника, мне нужна его дочь. – Я вам достану ее, и приведу в вашу палатку, клянусь жаровней св. Лаврентия. Перолио замолчал и задумался, потом дал знак воинам, чтобы они ушли и оставил только Вальсона. Фрокар вздохнул свободно и, не опасаясь более за свою жизнь, старался улыбнуться, но сделал отвратительную гримасу. – Я знаю, – сказал Перолио, – что ты не скуп на клятвы. Ты готов теперь принести мне башню Пизы, если я этого потребую. – Я уверен, что синьор не потребует невозможного, синьор справедлив. – Если бы я был справедлив, ты давно бы танцевал в воздухе. Я сделаю доброе дело, если избавлю свет от такого изверга, как ты. – Oh, yes! – проговорил Вальсон. – Это будет забавно. – Не доставляйте этой забавы пьяному англичанину, – возразил Фрокар жалобно. – Право, капитан, я могу еще пригодиться. От мертвого вам не будет никакой выгоды, а живой достанет вам белокурую дочь оружейника. – Ты хочешь увезти ее? Как ты сделаешь это? – Ничего еще не знаю, но она будет в моих руках, или я не Фрокар. – Поверьте, капитан, что он обманет вас и мы его больше не увидим, – заметил Вальсон. – Я не лишу себя удовольствия любоваться твоей красной рожей. – Молчать! – вскричал Перолио. – Во сколько времени ты намерен совершить похищение? – В две недели капитан! – Даю тебе месяц. – И если я успею в моем предприятии? – Ты получишь прощение. – Только? – И того много, – вскричал англичанин. – Вы обещали мне, синьор, двенадцать золотых флоринов. – Разве ты их заслужил? Впрочем, я хочу расплатиться с тобой заранее, чтобы ты был усерднее. – Как вы добры, – проговорил Фрокар и протянул руку к Перолио, который взялся за кошелек. – Я удвою награду, если ты окончишь успешно, что обещал. Говори, сколько ты успел наворовать в это время? – Вы хотите сказать, синьор, сколько у меня экономии? Право, немного. – Тем хуже, потому что я хочу дать тебе вдвое. – Вдвое! О тогда… И он уже разинул рот, чтобы проговорить цифру своего капитала, но прежде посмотрел на своего начальника, чтобы прочитать на его лице, правду ли он говорил. Лицо бандита было серьезно и неподвижно. – Ну что? – проговорил Перолио, гремя деньгами. – Богат ли ты? – Сейчас, сеньор, я вам принесу мою казну. И он хотел ускользнуть из палатки, но капитан схватил его за руку. – Ты вздумал обмануть меня, любезный? – вскричал он. – Я знаю, где ты прячешь деньги. Вальсон! Раздень его и осмотри. – Oh, Yes! – проворчал англичанин, протягивая руки к монаху. – Не беспокойтесь, – сказал Фрокар, расстегивая камзол. – Я не нуждаюсь в лакеях. И он снял кушак, надетый под рубашкой, и, вздыхая, выложил из него пятьдесят золотых флоринов. – Когда ты успел наворовать у меня столько денег? – вскричал Перолио, смеясь. – О, синьор! Эта моя трудовая копейка, – отвечал Фрокар. – Да, ты много трудился, чтобы добыть эту сумму. Нечего делать – я должен сдержать свое обещание. И он вынул из своего кошелька пятьдесят флоринов и положил их на стол. При виде такого богатства, глаза монаха засверкали и он вскрикнул от радости, когда Перолио сказал ему, указывая на груду золота: – Это все твое. Фрокар протянул дрожащую руку к деньгам, но капитан, ударив его рукояткой кинжала, продолжал: – Не торопись, любезный! Эта сумма твоя, но ты получишь ее не прежде, как приведешь ко мне дочь оружейника. А до тех пор Вальсон спрячет эти деньги и не даст тебе ни флорина. – Будьте покойны, капитан! – И если ты не исполнишь твоего обещания, – сказал Перолио, – если через месяц не придешь сюда, сто флоринов будут принадлежать тому, кто поймает тебя и повесит на первом дереве. Англичанин забрал все сокровище и Фрокар, превратясь в статую, смотрел на него с недоумением. – Через месяц – деньги или веревка! – сказал Перолио. – Последнее лучше, – прибавил Вальсон. – Чтобы черт побрал этого англичанина, – ворчал Фрокар, одевая свой камзол. – Я отплачу тебе когда-нибудь, пьяная рожа. Через месяц белокурая красавица выручит мои денежки. До свидания! И он выбежал из палатки.XXI. Монастырь св. Бригитты
Монастырь св. Бригитты славился милосердием монахинь и удивительным их искусством приготовлять разные лекарства и снадобья, которые продавались богачам. Деньги, выручаемые за это, шли на помощь бедным, и эта благодетельная промышленность существовала еще недавно во многих монастырях Бельгии. Настоятельница была достойной сестрой патера ван Эмса. Она была добра, проста, жила для того, чтобы делать добро, молиться, стряпать и вязать чулки длябедных. Другие монахини походили на настоятельницу, и Мария была бы почти счастлива в этом мирном убежище, если бы не была разлучена с матерью. Она разделяла занятия монахинь и с нетерпением ждала дня, когда ее навестят родные; но прошла уже неделя, а из Амерсфорта не было никакого известия. Наконец пришел патер ван Эмс. Он сказал Марии, что Марта здорова, хотя грустна и молчалива, но Вальтер слег, потому что от волнения и печали раны его раскрылись и он принужден был снова начать лечение. Однако ему уже лучше и на днях он хотел приехать с Мартой в монастырь, повидаться с дочерью. Эти слова успокоили Марию, потому что она верила во всем доброму священнику, не способному сказать ложь, даже когда правда могла сильно огорчить. Монахини принялись угощать патера, и когда он собрался опять в Амерсфорт, привратница пришла сказать настоятельнице, что ее спрашивают два крестьянина от имени патера ван Эмса. – Вот это хорошо! – вскричал старик. – Я сам здесь и еще явились от меня посланные. – Верно, какие-нибудь несчастные, – сказала Мария, – которые знают, что вы брат нашей настоятельницы. – Пойду посмотрю, кто там, – проговорила настоятельница и вышла. Через несколько минут она вернулась, ведя за собой двух крестьян. Как описать удивление Марии и патера, когда они узнали ван Шафлера и Франка. – Вот это настоящий сюрприз! – вскричал ван Эмс, протягивая руки пришедшим. – Теперь я не отрекаюсь, что эти крестьяне имели полное право употребить мое имя, чтобы войти сюда. Поступайте и впредь так же, дети мои! – Я получил ваше письмо, – сказал граф, – и поспешил принести вам ответ. Мария обрадовалась, увидев своего жениха и названного брата и, краснея, подошла к первому, который поцеловал ее, потом подбежала к Франку и, взяв его за руку, склонила перед ним свою чудную головку. Молодой человек слегка дотронулся губами до ее лба и оба задрожали от этого прикосновения. Шафлер сказал своей невесте о намерении Вальтера поспешить с браком, что было и его пламенным желанием; но прежде всего он хотел увидеться с Марией, чтобы спросить ее: согласна ли она на решение отца и охотно идет замуж? Для этого он пробрался переодетый в неприятельский город, не сказав ничего епископу. Молодая девушка была смущена и не знала, что ответить. Наконец она проговорила дрожащим голосом: – Вы знаете, мессир, что воля родителей для меня священна и что я повинуюсь им во всем. – Знаю, Мария, – отвечал Шафлер с чувством, – но в том случае недостаточно только вашего повиновения. – Разве вы не жених мой, мессир? Я без принуждения согласилась принадлежать вам, и вы можете требовать… – Я не требую ничего, Мария, кроме откровенности. Я вас люблю так сильно, как не любил никого. Вы моя первая и последняя любовь. Отказаться от вас, значит отказаться от счастья на земле; но если вы думаете, что я не могу сделать вас счастливой, если в сердце вашем скрыта какая-нибудь тайная надежда, скажите одно слово, Мария – и я готов пожертвовать собой, готов умереть, лишь бы вы были довольны. Эти благородные слова тронули сердце молодой девушки и она проговорила твердо, протягивая руку жениху: – Жена ван Шафлера не может быть несчастна. – Благодарю, Мария! – сказал граф. – Франк не ошибся, предсказывая ваш ответ. Он хорошо знает подругу своего детства. Поди же сюда, Франк, и раздели нашу радость. Мария знает, что я люблю тебя, как брата. И он обнял Франка, который старался скрыть свои слезы, а Мария боялась поднять на него глаза. – Теперь нам пора расстаться, друзья мои, – сказал ван Шафлер. – Нам надобно до ночи быть у наших форпостов. Завтра, милая Мария, я сообщу епископу Давиду о нашем браке и надеюсь, что он благословит нас в капелле замка. Я дам знать об этом мастеру Вальтеру. – Не беспокойтесь о Вальтере, – заметил ван Эмс, – я отправляюсь теперь в Амерсфорт и скажу ему о вашем посещении. Через несколько дней Вальтер и Марта привезут свою дочь в Дурстед, потому что вам опасно являться здесь. – Нет, отец мой, я не хочу, чтобы Мария выехала отсюда только под защитой отца. Бездельник Перолио может воспользоваться этим случаем. При этом имени Мария побледнела и задрожала, но Шафлер, взяв ее за руку, продолжал: – Простите меня, что я напоминаю вам гнусное преступление, которое еще не отмщено. Но ваш жених не забудет этого оскорбления и накажет разбойника. – О! Не говорите этого, мессир! Ваша жизнь и так в опасности, и я не хочу, чтобы вы жертвовали ею для меня. Бог спас меня, я благодарила его и, как христианка, простила преступника… Простите и вы его. И она была так прекрасна, упрашивая за врага, что казалась ангелом, умоляющим за грешников, но Шафлер отвечал ей с твердостью: – Вы должны так говорить, особенно здесь: но я воин, дворянин, и не могу оставлять обиды ненаказанными. Обещаю вам одно: что я не буду легкомысленно бросаться на опасность. Что касается вашего отъезда, я попрошу у бурграфа позволения провожать вас с моим отрядом до Дурстеда. Если же он откажет мне, мы с Франком найдем другое средство охранить вас во время пути. Стало быть, когда все будет устроено, я дам вам знать. А теперь прощайте. И поцеловав невесту, граф пожал руку ван Эмсу и вышел с настоятельницей, которая проводила его до ворот монастыря. Мария оглянулась, чтобы проститься с Франком, но его уже не было в комнате. – Он не захотел проститься со мной! – проговорила молодая девушка, вздыхая. В то время, как почтенный ван Эмс был в монастыре св. Бригитты, служанка его, старая Сусанна, приняла у себя странного гостя. В дом амерсфортского священника пришел человек в одежде пилигрима, усталый и загорелый, и спросил ван Эмса. – Его нет дома, – отвечала Сусанна. – Так я подожду его, – сказал пилигрим, садясь без приглашения. – Он верно скоро вернется? – Нет, он будет не раньше вечера. – Верно он пошел навестить больного? – Он отправился в монастырь. – В монастырь? Недалеко отсюда? – Нет, довольно далеко. – А, знаю! Он пошел в монастырь… как бишь его… – Св. Бригитты, в Зесте. – Да, я это и хотел сказать. Добрый патер понес милостыню монахиням. – Монахини св. Бригитты не нуждаются в милостыне. Они продают столько лекарств, что сами помогают бедным. – Я не знал об искусстве монахинь. – Верно вы не здешний? – спросила Сусанна, которая была любопытна и болтлива, как все старые служанки. – Я монах ордена св. Иеронима и пришел прямо из Иерусалима. – О! – закричала старуха, всплеснув руками. – Вы долго шли, отец мой, отдохните здесь… Но зачем вам патер ван Эмс? – В Иерусалиме я встретил старинного его друга, монаха ордена св. Лазаря, и он поручил мне передать патеру много святых вещей. – О, какое счастье! Как будет доволен мой господин! Покажите мне эти вещи. Пилигрим высыпал из кожаного мешка несколько четок и амулетов, и старуха начала их рассматривать. – Я хотел также вручить патеру небольшую сумму, чтобы он помолился об успехе одного предприятия, начатого По приказанию нашего кап… нашего настоятеля. И он подал Сусанне несколько монет, которые та спрятала в карман. – Будьте покойны, – сказала она. – Патер помолится за вас и ваше предприятие удастся; мой господин так добр и милосерден, что его почитают святым. – Да, мне говорили о нем даже в Иерусалиме. Как жаль, что я его не увижу. Завтра утром мне надобно идти дальше. – Отчего же вы не подождете патера? Он вечером будет дома, а вы покуда отдохните и подкрепите ваши силы; я дам вам закуску. – Пожалуй, сегодня не постный день, и, я могу закусить. И старуха засуетилась, начала угощать пилигрима, который не переставал расспрашивать ее обо всем и наконец спросил, зачем ван Эмс пошел в монастырь св. Бригитты. Сусанна знала, что присутствие Марии в монастыре должно быть тайной и хотела промолчать, но старик, пришедший из Иерусалима, внушил ей столько уважения, что она не посмела солгать и сказала тихонько: – Он пошел навестить Дочь своего друга, оружейника. – А зачем дочь оружейника в монастыре? – Она там ненадолго. Она невеста одного храброго рыцаря, который служит у епископа и которому писали, что надо поторопиться со свадьбой. Все это еще тайна, и если я открываю ее вам, то уверена в вашей скромности. Притом, вы, как монах, верно приверженец монсиньора Давида. – Разумеется! – Так прежде всего надобно вам сказать, что в здешнем городе жил одно время иностранец, такой злой, что все его боялись, хотя он красивый мужчина. Он стоял у оружейника, и в одну ночь это чудовище сделало такое преступление, о котором патер ван Эмс боится и вспомнить. После этого оружейник отвез дочку в монастырь, где она безопасна от всех извергов, и как только получат письмо от жениха, ее тотчас же свезут в Дурстед. – Corpo di bacco! – вскричал пилигрим, ударяя кулаком по столу. – Тогда все потеряно! Сусанна посмотрела на него с удивлением: пилигрим нарочно закашлялся, чтобы скрыть свой промах. – Что с вами, отец мой? – спросила она. – Я… дочь моя… я рассержен на злого незнакомца и рад, что ему не удалось погубить девушку. – Да, слава Богу, бедняжка спасена. – Стало быть, жених отвечал ей? – Не знаю; патер пошел за этим в монастырь. Он узнает все. Пилигрим, в котором читатель вероятно узнал бандита Фрокара, перестал расспрашивать старуху, выведав все, что хотел. Целые пять дней бродил он, в разных костюмах, вокруг дома оружейника, но не смел войти в него, боясь быть узнанным и ожидая, что мастер Вальтер или его работники поколотят его за проказы его начальника. Однако он успел зазвать в кабак некоторых из работников, не знавших кто он, и от них проведал, что Мария уехала из Амерсфорта в тот самый день, как начальник Черной Шайки отправился в экспедицию. Но никто не мог сказать, куда именно ее увезли. Вальтер с женой не говорили о том никому, а старая Маргарита отвечала любопытным, что молодую девушку увезли в Зеландию, к дяде. Разбойник, узнав об этом, пришел в ярость. Жертва ускользнула от него, и вместе с ней улетели и сто золотых флоринов. Зато он мог надеяться, что при первой встрече Перолио повесит его. – Потерять плоды стольких трудов! – вскричал он в отчаянии. – Нет, лучше умереть. О! Я поймаю эту девчонку… Я получу опять мои деньги… Пойду в Зеландию, на край света, пущусь в море хоть на ореховой скорлупе. Однако прежде морского путешествия он хотел узнать что-нибудь повернее об участи Марии и, переодевшись пилигримом, явился в дом патера ван Эмса, зная что не застанет его. Найдя его служанку, он ловко выспросил у болтуньи все, что касалось Марии. Известие, что молодая девушка не в Зеландии, а в нескольких милях от Амерсфорта, обрадовало его, но он боялся скорой свадьбы с графом ван Шафлером. Тогда уже похищение будет невозможно, и он должен будет проститься с деньгами и с жизнью. Надобно было торопиться действовать, но Фрокар не уходил, желая узнать, какие известия принесет патер. Ожидая его, он продолжал расспрашивать болтливую старуху обо всем, что касалось монастыря св. Бригитты и привычек монахинь. В сумерки кто-то постучался в дверь. – А вот и почтенный патер, – сказал Фрокар. – Не думаю, – заметила Сусанна, – он не стучит так громко. И она побежала отворять дверь, в то время, как фальшивый пилигрим приготовлял сказку, которую собирался рассказать патеру. – Я угадала, что это не патер, – сказала старуха, ведя за собой гостя. – Это мастер оружейник. Фрокар почувствовал дрожь при виде того, кого чуть было не отправил на тот свет, и съежился весь, как бы желая спрятаться под свою большую шляпу. Вальтер, хотя еще слабый, пришел сам узнать о дочери, но Сусанна продолжала трещать: – А патер-то еще не воротился, только теперь он будет скоро, потому что поздно. Вот почтенный пилигрим ждет его уже несколько часов. Вальтер взглянул на Фрокара, но тот нагнулся так, что кроме шляпы нельзя было ничего разглядеть. – Это святой отец, – продолжала старуха. – Он пришел прямо из Иерусалима и принес моему господину много священных подарков. Я зажгу лампу, вы рассмотрите хорошенько эти драгоценности. Фрокару становилось очень неловко, и он проклиная мысленно старуху и ее лампу, начал понемногу отодвигаться от стола в темный угол, но все-таки свет озарил его лицо на минуту и оружейник успел разглядеть его. Положение бандита было самое критическое. Между тем Вальтер, озадаченный смущением пилигрима, стал против него, припоминая, где он видел эту хитрую физиономию. Фрокар, желая избавиться от дальнейшего осмотра, встал с места и сказал тихим голосом: – Мне пора… теперь час молитвы… я не могу оставаться. – Куда же вы, святой отец? – вскричала Сусанна. – Останьтесь, патер скоро вернется и будет меня бранить, что я отпустила вас. А если вы хотите молиться, войдите в его молельню… она здесь, подле. И она отворила дверь в соседнюю комнату, куда Фрокар вбежал проворно и вздохнул свободнее, избавясь от взглядов опасного соседа. Из молельни ему было удобно слышать все, что будут говорить ван Эмс с оружейником, и он мог выждать ухода последнего, чтобы явиться к патеру. В эту минуту снова постучались у дверей, и Сусанна, оставив мешочек с драгоценностями, принесенными Фрокаром, бросилась отворять. На этот раз это было почтенный хозяин, который протянул Вальтеру руку и сказал строго: – Зачем вы так неосторожны, мастер? Вы еще слабы, а теперь так сыро, холодно… – Моя бедная Марта так беспокоится, что мне жаль ее, и я не мог дождаться утра. Скажите, здорова ли моя дочь? Что она делает? Скучает? Не больна ли она? Говорите скорее. – Да вы не даете мне выговорить ни слова. Успокойтесь. Дитя ваше здорово, весело. Наша Мария свежа, как розанчик и совершенно счастлива. – Слава Богу! – вскричал отец. – Да, вы должны благодарить Бога, потому что он исполнил все ваши желания. И патер рассказал про свидание Шафлера с невестой и про все, что было условленно для скорейшего брака. Вальтер, разумеется, ждал подобного ответа от рыцаря, но все-таки благородный поступок его тронул оружейника и он сказал: – Благородный молодой человек! Он мне напоминает его отца, которого ставили в пример всем дворянам. Его девиз был: храбрость и верность! Как я рад и как обрадую мою жену! Она тотчас начнет собираться в Дурстед, потому что не может дождаться минуты, когда увидит опять свою дочку. Признаюсь, я был не совсем спокоен. Этот разбойник Перолио мог узнать… – Разве Черная Шайка вернулась в Амерсфорт? – Нет, но я узнал, что один из бандитов бродит по городу и расспрашивает о моей дочери. – Вы видели его? – Если б я встретил бездельника, он не забыл бы этой встречи. Но один из моих работников, страшный пьяница, которого я хотел прогнать, извинялся тем, что его два дня сряду угощает в кабаке какой-то незнакомец и все расспрашивает, куда девалась моя дочь. Я догадался, что это должен быть посланный от Перолио, и вероятно тот самый, который часто был при нем, когда он жил в моем доме. – Так вы думаете, мой друг, что Перолио осмелится преследовать Марию? – Я не сомневаюсь в этом; к счастью, мой пьяница ничего не знал и не мог проболтаться. Кроме нас одна Сусанна знает, где находится Мария, но я уверен, что она не будет рассказывать никому такой важной тайны. – О! – вскричала старуха. – На меня можете надеяться. – Но если Перолио и догадается, где ваша дочь, – возразил патер, – разве он не знает, что монастыри охраняются законами и кто смеет оскорбить святость их, тот наказывается смертью. – Все это известно и мне, и Перолио, но все-таки я буду совершенно спокоен только тогда, когда Мария будет в Дурстеде, под защитой своего мужа. До тех пор все будут мне казаться подозрительными, как этот пилигрим, который ждал вас и лицо которого показалось мне знакомо. – О ком вы говорите, мой друг? – спросил ван Эмс. – О том, кто вам принес эти вещи, – отвечал оружейник, рассыпая из мешочка кресты и четки. – Будьте осторожнее и почтительнее со святыми предметами, – вскричала Сусанна. – Да кто здесь был? – спросил опять патер. – Он и не уходил, – отвечала старуха. – Он молится там. – Скажешь ты, наконец, кто он такой? – Ваш друг, или нет… друг вашего старого товарища, который живет в Иерусалиме. Этот святой отец пришел прямо оттуда и принес вам много святых вещей, которые заменят отосланные вами разбойнику Перолио. Я знаю, что вы сожалели о них. Пилигрим принес еще деньги на молебен и просит, чтобы вы помолились об успехе предприятия, которое он начинает. – Что ты тут за чепуху городишь? – вскричал ван Эмс. – Ты никак не можешь говорить коротко и ясно. – Разве я говорю не ясно? – возразила старуха с удивлением. – Посмотрите сами на эти драгоценности: вот крест из камня, вот разные четки из черного дерева… – Которые сделаны не в Иерусалиме, – перебил оружейник, – потому что там не умеют так отлично работать. – Вы не верите ничему, мессир! – заметила с досадой Сусанна. – Нет, моя милая, я хороший христианин, и мой друг ван Эмс подтвердит это, но я видел столько подлогов и обманов, что не слишком доверяю всем рассказам. И взяв в руки мешочек, где лежали вещи, принесенные Фрокаром, он ощупал на дне его что-то крепкое и вынул маленький кинжал отличной отделки. Фрокар украл его у Перолио и забыл припрятать подальше. – А это что еще за святыня? – вскричал Вальтер. – Уж не моя ли это работа! Нет, этот кинжал сделан итальянцами… я узнаю работу. Как же эта вещь попала пилигриму, идущему из Иерусалима? И вынув клинок из ножен, он начал пристально рассматривать его. Вдруг он побледнел, задрожал и вскричал, показывая кинжал патеру: – Посмотрите, мой друг… не ошибаюсь ли я, какое имя вырезано на клинке? – Имя Перолио! – проговорил патер с ужасом. – О! Так этот пилигрим обманщик! Я предчувствовал это… я начал узнавать его – это посланный разбойника, злодей, который хотел убить меня в кабаке у перевоза. – Вы ошибаетесь, друг мой, это невероятно, – говорил патер, успокаивая оружейника. – Нет, теперь я уверен. Я помню его черты… я отплачу ему… И Вальтер бросился в молельню, но ван Эмс и Сусанна удержали его. – Остановитесь, Вальтер, – сказал старик торжественно. – Вы забываете, что мой дом принадлежит церкви и хотите осквернить его убийством. – Вы правы, – отвечал мастер, бросая кинжал. – Я не убийца, но докажу вам, что он обманщик и отведу его в суд. И он быстро вошел в молельню, а патер и Сусанна твердили ему в след: – Будьте покойнее, мессир, не горячитесь! – Да его здесь нет! – вскричал оружейник. – Куда он девался? Он ушел через окно, окно отворено! Действительно, Фрокар, прислушивавшийся к разговору, почел необходимым выпрыгнуть в окно и бежать без оглядки. – Разве я не прав? – сказал Вальтер. – Разве я не отгадал, что это за человек? – Действительно, нельзя подумать ничего хорошего о человеке, который выходит не в дверь, а в окно, – заметил патер. – Но все-таки я не понимаю, зачем он пришел ко мне и в такой одежде. – Понять не трудно. Он хотел этими игрушками возбудить вашу доверие и заставил бы проговориться или вас или Сусанну! – Что ж стало быть он приходил понапрасну, потому что даже не видал меня! – А Сусанна! – Господи Боже! – вскричала старуха. – Я вам уже сказала, что умею молчать и что от меня трудно добиться слова. Вальтер, немного успокоился. Притом в монастырь было трудно попасть, и через несколько дней Шафлер должен был приехать за своей невестой.Часть вторая
I. Похищение
Фрокар, узнав все, что ему было нужно, поспешил выйти из Амерсфорта и скоро был в лагере Перолио у Нардена. Ему надобно было предупредить его, что Шафлер будет просить пропуск у бурграфа Монфортского, которого надобно было уговорить, чтобы он отказал в этом графу. С первых слов бандита Перолио пришел в бешенство от одной мысли, что соперник его овладеет Марией и, чтобы помешать этому, он готов был на все. Он тотчас же продиктовал письмо к бурграфу, извещая, что несколько неприятельских офицеров хотят просить пропуск под предлогом свидания одного из них с невестой, но что они намерены проникнуть до приверженцев епископа и с их помощью овладеть городом. Стало быть, опасно и безрассудно давать пропуск в такое время. Когда письмо было запечатано, Видаль получил приказание доставить его, как можно скорее, самому бурграфу Монфортскому. Стало быть, Шафлеру было мало надежды на согласие бурграфа. Успокоенный на этот счет, Фрокар взял четырех воинов, получивших приказание повиноваться ему беспрекословно; кроме того, капитан пожаловал своему наперснику несколько золотых монет на мелкие издержки. Отпуская его, Перолио прибавил, чтобы он не смел употреблять силы, не делал никакого шума в монастыре и не заставил его поссориться с бургомистром. Бандит обещал, что все пойдет хорошо, зная однако, что если ему одному удастся похитить молодую девушку, даже и с шумом, то Перолио защитит его от бурграфа или скроет так, что никто не найдет виноватого. Впрочем, он успел придумать план и надеялся на успех. Сам он пошел прямо в Зест, а помощников своих послал в Утрехт, чтобы они там переоделись и купили удобные, прочные носилки, в которых переносят больных или хрупкие вещи. Он назначил им день и место, где они должны сойтись. Все это было исполнено. Фрокар был в Зесте через три дня после свидания Шафлера с Марией. Он явился в монастырь в ливрее служителей герцога Монфортского и, назвавшись посланным от управляющего бурграфа, заказал большое количество пирожков и разных печений, требуя, чтобы все было готово в три дня, к большому празднеству, которое будет в Утрехте. Настоятельницы и монахини были рады случаю показать свое искусство и, чтобы угодить высокому покровителю, принялись за работу. В эти три дня Фрокар изучал местность монастыря и часто бывал на монастырской кухне, в саду, и узнал очень хорошо все привычки монахинь. По вечерам он приходил в трактир, где назначил место свидания своим товарищам и размышлял о том, как бы ему вызвать Марию подальше из монастыря, чтобы не делать шума и потом увезти. Во второй день он сидел угрюмый в трактире, не зная на что решиться, когда в комнату вошел крестьянин и спросил трактирщика: – Далеко ли монастырь св. Бригитты? – Полчаса ходьбы, не больше. – Тем лучше, я успею еще сегодня побывать там. – А что у тебя за дело в монастыре? – спросил любопытный хозяин. – Дела никакого, только надо отдать письмо. – Так сегодня не ходи понапрасну. Теперь все спят в монастыре и для тебя не отворят ворота. Отложи письмо до завтра. – Нельзя, хозяин, завтра я должен быть в Амерсфорте. – Так надобно было придти сюда раньше. – Я и торопился, но дороги так дурны, что удивляюсь еще, как я не остался в болоте. – Ты издалека, любезный? – спросил вдруг Фрокар, прислушивавшийся к разговору. – Из Дурстеда. – Из Дурстеда! – повторил бандит радостно. – Стало быть, ты идешь от наших врагов, от трески? – Ну что? – возразил крестьянин. – Треска водится везде, где есть вода. – Да, зато везде есть и удочки. – Мне это все равно. Я не принадлежу никакой партии, а работаю на тех, кто мне платит. – Но если солдаты бурграфа встретят тебя с письмом от одного из начальников епископских войск… потому что, вероятно, ты послан каким-нибудь дворянином… признавайся! – Да, – проговорил озадаченный крестьянин. – И ты знаешь имя этого дворянина? – Имени не знаю, только он заплатил мне щедро за услугу. – А ведь если найдут у тебя письмо, то примут за шпиона и, не разговаривая долго, повесят на первом дереве. – Неужели? – вскричал крестьянин с ужасом. – Я этого не хочу. – Верю, любезный, только обязанность каждого служителя бурграфа взять тебя за шиворот и представить утрехтскому судье. И Фрокар указал на герб бурграфа, украшавший его кафтан; посланный Шафлера побледнел и задрожал как в лихорадке. – Но… что я сделал? Что может быть преступного в письме к монахине… – Ты не понимаешь политики, болван, – прервал Фрокар. – Враги наши употребляют все средства сделать нам зло… Я вижу, что ты по глупости попал в это дело и прощаю тебя с тем, чтобы ты отдал мне письмо. Сам же убирайся поскорее, потому что если завтра я встречу тебя здесь, то тебе не избежать пенькового галстука. – Благодарствуйте, мессир, – сказал крестьянин, подавая письмо. – Впредь я буду осторожнее; прощайте! И он выбежал, как будто за ним гнались по пятам, а Фрокар, смеясь над глупостью крестьянина, заперся в своей комнате с письмом Шафлера, потому что нельзя было сомневаться, чтобы письмо было от него. Адрес был на имя настоятельницы, но она, вероятно, должна была передать его Марии. Бандит распечатал пакет. Шафлер уведомлял Марию, что бурграф отказал в пропуске и что он уведомил мастера Вальтера, чтобы тот сам ехал в монастырь и взял бы Марию, и что воины его, переодетые крестьянами, будут охранять ее всю дорогу, до аванпостов Дурстеда, где сам он с Франком будут ждать молодую девушку. – Хорошо придумано, – сказал бандит, – только и я догадлив, что овладел этим письмом. Вот средство вызвать Марию из ее комнаты… А если оружейник приедет прежде?.. Не может быть!.. Верно этот же крестьянин несет и ему письмо… Он упоминал об Амерсфорте. А я, дурак, отпустил его… притом я один. Завтра придут товарищи и завтра же, в то время, как папенька будет собираться в дорогу, дочка будет уже в моих руках… А если нет?.. Это невозможно, сатана поможет мне. Красавица будет в объятиях капитана, а я прижму к сердцу сто золотых флоринов. И запечатав письмо так искусно, что трудно было заметить, что его уже читали, Фрокар бросился на кровать отдохнуть, и поутру, чем свет, отправился на утрехтскую дорогу, ждать своих товарищей. Те показались не скоро, с носилками, в ливреях бурграфа, с большими корзинами для печенья. Бандит назначил им всем роли, и в сумерки все они пробрались к монастырю св. Бригитты. Настоятельница сказала Фрокару, чтобы он прислал за печеньями людей со стороны сада, откуда был вход прямо в кухню, и Фрокар исполнил это, придя с корзинами к калитке сада, в то время как двое из его помощников посильнее должны были похитить Марию. В то время как Фрокар, со стороны сада, принимал разные печенья и укладывал их в корзины, расположенные на ручной тележке, два бандита принесли носилки к главному входу в монастырь, и дюжий немец Готфрид позвонил у ворот. На вопрос привратницы, сделанный из-за дверей, он отвечал, что приехал из Дурстеда, с письмом от графа Шафлера к настоятельнице. – Дайте я снесу письмо, – сказала монахиня. – Вам нельзя теперь видеть нашу начальницу. – Вам нечего и беспокоить ее, – заметил Готфрид, – я знаю, что письмо не к настоятельнице, а к невесте моего капитана. – К Марии? – Да, и сверх того я желал бы ее видеть, чтобы передать ей некоторые поручения от моего начальника насчет нашего путешествия. – Хорошо, подайте мне письмо и подождите ответа. Готфрид подал письмо в маленькое окошечко и ворчал про себя, что если ему не отворят дверей, то он отказывается пролезть в это отверстие и не берется похитить красавицу. В это время настоятельница хлопотала на кухне, отпуская печенья, а Фрокар говорил ей о брате ее, патере ван Эмсе, называя его своим другом и благодетелем. Когда привратница принесла письмо и сказала, что оно от ван Шафлера, настоятельница послала ее к Марии. Молодая девушка, узнав, что посланный графа желает ее видеть, пошла в приемную комнату, а привратница побежала отворять двери. «Хорошо, – сказал про себя Фрокар, услышав издали скрип огромной двери, – мой волк попал в овчарню и овечка пошла ему на встречу. Надобно теперь занять этих монахинь и привлечь сюда привратницу; кажется, она лучший советчик в монастыре». Он не ошибался. В то время образование доставалось не многим, а между женщинами было редкостью, и потому не удивительно, что вся письменная и счетная часть лежала на одной из монахинь, которая в то же время исполняла должность привратницы. Фрокар нарочно завел спор, что счет составлен неверно, и только монахиня-настоятельница могла убедить его, что все сделано, как он заказывал. После этого заплатив деньги, он попросил привратницу написать расписку и сам продиктовал ее, как можно длиннее. Все это продолжалось довольно долго. Что же происходило в это время в приемной комнате? Готфрид вошел первый в приемную, осмотрелся и стал за дверью, в которую должна была войти Мария. Только она переступила порог, держа в руках письмо Шафлера, как бандит быстро захлопнув дверь, накинул плащ на голову Марии, и, прежде чем она успела закричать, схватил ее, как ребенка и побежал к выходной двери. Но дверь была заперта, и надобно было найти ключ, который висел всегда в комнате привратницы. Немец боялся, не зная, что ему делать и куда девать Марию. Наконец он опустил ее на пол и, закутав плащом так, что крики ее были не слышны, связал ей руки и побежал в келью, где впотьмах не скоро нашел ключ… Дверь отворилась. Другой бандит, ждавший немца, помог ему перенести бесчувственную девушку в носилки и они быстро удалились, как приказал им Фрокар. Последний, рассчитав наконец, что похищение совершилось, отправился тоже со своими припасами и скоро догнал носилки. Так как было уже поздно и темно, Фрокар приказал остановиться и, открыв носилки, развязал и распутал бедную девушку. – Не бойтесь ничего, – сказал он сладким голосом. – Вас никто не тронет. Граф Шафлер приказал нам беречь и защищать его невесту. – Это ложь! – вскричала Мария. – Граф Шафлер не способен на такой низкий поступок. – Вы угадали, он и не знает о вашем похищении, но оно было необходимо. Соперник его, Перолио, хотел похитить вас на дороге в Дурстед, и надобно было действовать тайно и быстро, чтобы спасти вас. – Если это правда, зачем вы не предупредили настоятельницу, не сказали ничего мне? – Вы бы не поверили мне и я потерял бы много времени в объяснениях. – Но завтра мои родители приедут за мной; что они скажут, узнав, что меня нет? – Мессир ван Шафлер наверно предупредит их. – Так вы приведете меня к ван Шафлеру в Дурстед? – Да, к аванпостам. Мария не знала, что подумать. Простая и откровенная, она не могла подозревать обмана, хотя догадалась бы об измене, если бы увидела лицо Фрокара. – Заклинаю вас всем священным для вас, – говорила она умоляющим голосом. – Скажите мне правду… вы ведете меня к Шафлеру? – Клянусь всеми ангелами рая, – отвечал бандит, которому ничего не стоили клятвы, – только вы понимаете, синьорина, что должны молчать всю дорогу, если хотите добраться целой до… аванпостов. Мария обещала, хотя не была совершенно спокойна, а Фрокар был очень доволен, что уговорил девушку, потому что к Нордену надобно было проходить через Амерсфорт, или близ него, а там могли встретиться какие-нибудь препятствия. Во время разговора бандита с его жертвой, четыре помощника были тоже очень заняты. Они начали пробовать печенье монахинь св. Бригитты и истребив почти все сласти, почувствовали необходимость выпить. Напрасно Фрокар приказывал и даже просил продолжать путь и нести поскорее носилки – разбойники не слушали его и направились к ближайшему кабаку. Напившись вдоволь, они пошли дальше нехотя, и когда поравнялись еще с одной гостиницей, то объявили, что остановятся здесь и отдохнут ночь. Это была половина дороги между Зестом и Амерсфортом, и хорошо придуманный и исполненный план Фрокара мог нечаянно разрушиться и лишить его ста флоринов. Но делать было нечего, он подошел к носилкам и сказал Марии: – Мы остановимся здесь, синьорина. Погода ужасная, и мы боимся за ваше драгоценное здоровье. Потрудитесь войти в гостиницу и отдохните, а мы будет охранять сон невесты графа ван Шафлера. Прошу вас еще раз, если не хотите попасть в руки Перолио, не говорите ни с кем, не открывайте кто вы. – Хорошо. – Не призывайте также никого на помощь. Клянитесь мне жизнью ваших родителей не отвечать ни на чьи вопросы. – Я клянусь молчать до тех пор, пока вы будете обращаться со мной прилично. – О! Вам нечего бояться нас, – проговорил бандит. – Пойдемте же. Он побежал вперед посмотреть, нет ли кого в гостинице и вернулся со служанкой, которая отвела Марию в собственную комнату и предложила ей свои услуги. Но молодая девушка выслала ее и, не раздеваясь и не собираясь спать, начала усердно молиться. Молитва немного успокоила ее и, сев на стул у изголовья постели, она заснула. Служанка разбудила ее, сказав, что пора отправляться. Фрокар долго не мог разбудить своих сообщников, которые с вечера напились, а Мария, подойдя к окну, вскрикнула от радости и удивления. Она увидела, что к гостинице подходят ее отец и мать. Мария бросилась к двери, чтобы бежать им навстречу, но Фрокар был уже на пороге. Он быстро оттолкнул ее назад и, войдя в ее комнату, запер дверь на ключ. – Извините, синьорина, мой невежливый поступок, – сказал он. – Но я увидел вблизи гостиницы разбойников Черной Шайки и боюсь за вас. – Вы лжете! – вскричала Мария. – Вы увидели моих родителей и хотите спрятать меня от них. Вы сами сообщник злодея Перолио, я вас узнала. Вы приходили в монастырь, чтобы приготовить преступление, но Бог сжалился надо мной. Батюшка и матушка, спасите меня! И она хотела подбежать к окну, но разбойник схватил ее. – Выпустите меня отсюда! Я буду кричать, отец услышит мой голос и сломает дверь. – Вы забыли вашу клятву, синьора? Вы клялись молчать. – Вы обманом вынудили у меня эту клятву. – Все-таки клятвопреступление будет наказано. Скажите слово, вскрикните – и ваши родители будут убиты. Молодая девушка побледнела и замолчала. В эту минуту Готфрид вошел тихо и сказал Фрокару: – Они вошли в комнату возле этой и спросили завтрак. – А где товарищи? – Здесь у дверей. – Ваши кинжалы с вами? – Всегда, – отвечал немец и вынул острый, блестящий кинжал. – Хорошо. Приготовьтесь по первому знаку моему вбежать в соседнюю комнату и убейте оружейника и его жену. – Сжальтесь! – прошептала Мария, падая к ногам бандита. – Молчите же, если хотите спасти их. – Я буду молчать, – твердила девушка рыдая, – убейте меня, только пощадите их. – Я вам сказал, что нечего бояться ни вам, ни им; пусть только они уйдут отсюда. – И я не увижу их, и не прощусь с ними в последний раз? – Нет. – О, как вы жестоки! – шептала девушка, стараясь заглушить свои рыдания, чтобы их не услышали те, которые и не подозревали, что любимая их дочь так близко, и что она находится во власти злодеев. Она не могла уже сомневаться: ее похитили для человека, который уже раз покушался на ее честь. Тогда спас ее отец, и теперь он мог бы спасти ее. Он так близко, что стоит закричать и он прибежит, если убийцы пустят его. И ее мать тут же, и она не смеет назвать ее, не смеет взглянуть, чтобы не быть причиной смерти своих родителей. Эта невыносимая пытка продолжалась почти час. Готфрид опять отворил дверь, чтобы сказать, что оружейник с женой уходят. Мария сделала движение, чтобы броситься к двери, но Фрокар загородил ей дорогу и принудил опять сесть. В это время послышались шаги оружейника, который проходил мимо двери и говорил Марте: – Торопись, жена, скоро обнимешь дочку! Мария не могла больше выдержать; она громко зарыдала, но Фрокар зажал ей рот рукой, а его товарищи начали громко говорить и смеяться, чтобы заглушить рыдания их жертвы. Наконец Вальтер с женой вышли из гостиницы и скрылись вдали. – Ушли! – закричал бандит, карауливший у окна. – И мы сделаем тоже самое, дети мои, – сказал палач. – Только будьте осторожны… принесите носилки к маленькой калитке, поближе к черной лестнице; мы не пойдем через общую залу, чтобы нас не заметили. Два разбойника вышли. – Посмотри-ка! – вскричал Готфрид. – Девочка кажется умерла. Действительно, Мария не могла перенести такого сильного волнения и лишилась чувств. – Она в обмороке, – отвечал Фрокар, – тем лучше! По крайней мере, не будет стонать и плакать. Она очнется на воздухе, снесем ее скорее в носилки. И бандиты скрылись со своей жертвой. Оставим на время Марию и ее похитителей и обратимся к мастеру Вальтеру и его жене, которые так веселы и счастливы, потому что надеются скоро увидеться с любимой дочерью. Выехав из Амерсфорта рано утром, они остановились в гостинице, где Мария провела ночь, и через час, пустились опять в путь, так что в три часа пополудни были в монастыре св. Бригитты. Каково же было их удивление, когда они узнали, что накануне приходил посланный от Шафлера, с которым молодая девушка ушла, не предупредив никого. Настоятельница и монахини не понимали, как это случилось и, не подозревая похищения, были уверены, что Мария повиновалась приказаниям своего жениха. Притом не было никаких следов насилия, никто не слыхал ни крика, ни шума, так можно ли было предполагать, что в их монастыре случилось такое преступление? Однако напрасно монахини хотели передать свою уверенность Вальтеру и особенно Марте; сердца родителей чувствовали недоброе и не могли успокоиться. Действительно, они получили накануне письмо от Шафлера, который назначил им свидание. Стало быть, этот побег был для них тайной, а может быть и несчастьем. Оружейник хотел тотчас же идти в Дурстед, узнать, что случилось, но было уже поздно, и Марте надобно было отдохнуть от дороги и волнения. Она осталась на ночь в монастыре, а Вальтер ночевал в трактире, в Зесте. На другой день, когда оружейник и его жена прощались с настоятельницей, в монастырь явился Франк, переодетый крестьянином, с двенадцатью товарищами, чтобы проводить Марию до Дурстеда и защищать ее на дороге. Можно себе вообразить отчаяние матери и гнев отца, когда они узнали, что Мария похищена и что в похитителе не трудно было узнать Перолио, потому что, после рассказов настоятельницы о заказе печенья, в то время как с другой стороны явился посланный с письмом Шафлера, нельзя было сомневаться в адском заговоре против Марии. Но где найти виноватого? Как спасти Марию? Вальтер рвал на себе волосы, Марта упала на стул, как пораженная громом, но при виде отчаяния мужа и слез Франка не проронила ни одной слезы, не вымолвила ни одного слова. Вдруг она встала, машинально подошла к мужу и, взяв его за руку, сказала тихим, но раздирающим голосом: – Бедный Вальтер! Мне жаль тебя. Ты будешь страдать долго… дольше меня… Я чувствовала, что не увижу ее больше… Я тебе говорила это, а ты не верил… В ночь после отъезда Марии я видела сон: ко мне явился ангел и сказал: «Ты увидишь Марию на небе». – О, Марта! – вскричал Вальтер, рыдая. – Не отнимай у меня последней надежды, не терзай мне сердце! – Мария! – твердил Франк, почти в помешательстве. – Она во власти этого злодея, и я не могу спасти ее, не могу бежать за похитителем, потому что не знаю, где он. Но если я не могу спасти ее… мою сестру… то клянусь отомстить за нее… Да, батюшка, даю тебе слово, что настигну Перолио, если он будет окружен всей своей шайкой, и поражу его, как убийцу. И взяв руки своих воспитателей, он прибавил: – Прощайте, бедные родители… здесь я не могу ни помочь вам, ни утешить вас; иду к Шафлеру, расскажу этому благородному человеку, какое несчастье его постигло и потом, позволит ли он или нет, но я отправлюсь мстить за Марию. И он выбежал из монастыря, как помешанный. Вальтер тоже торопился. Он хотел ехать прямо в Утрехт, принести жалобу бурграфу, но Марта не хотела оставаться в монастыре, и просила вернуться в Амерсфорт. – Я не хочу умирать здесь, – говорила она, – я умру в той комнате, где родилась Мария, где я видела ее и обняла в последний раз. – Ты обнимешь ее еще, моя бедная Марта, – говорил Вальтер, прижимая жену к сердцу. – Бог сжалится над нами… бурграф не откажет нам в правосудии, нам отдадут дочь. Марта молча покачала головой. Без слез и жалоб она доехала до Амерсфорта и войдя в дом, начала ходить по комнатам, останавливалась в местах, где Мария обыкновенно сидела, и шепча про себя молитвы. Вальтер зашел домой только для того, чтобы взять документы, что он синдик своей корпорации и, поручив Марту Маргарите, побежал в резиденцию бурграфа.II. Пир вельмож в пятнадцатом столетии
Когда оружейник прибыл в Утрехт, весь город готовился к празднеству. Читатели помнят, что Перолио обещал взять Нарден. Накануне приступа он узнал, что капитан Салазар идет со всем своим войском на помощь городу. Не желая попасть между двух огней, начальник Черной Шайки поспешил снять осаду и решил напасть на какое-нибудь другое укрепленное место, не ожидавшее неприятеля. Между Утрехтом и Амстердамом был укрепленный блокгауз, считавшийся важнейшим стратегическим пунктом всей епархии, потому что мог прервать сообщение между Амстердамом и Утрехтом. Притом блокгауз служил передовой защитой Утрехта, и в продолжении целого столетия жители Амстердама старались несколько раз завладеть им, чтобы разрушить до основания, но это им не удавалось. В эту минуту, хотя епископ Давид принужден был оставить Утрехт, блокгауз остался в его власти, что было очень неприятно для бурграфа, который должен был всегда быть готовым отражать нападение, и если бы Давид послушался Шафлера и других начальников своих войск, Утрехт был бы давно взят. Но робость и нерешительность епископа не позволяли ему сделать это, и он только назначил в блокгауз сильный гарнизон под начальством капитана Салазара. Вызвать войско из этой крепости было высшим неблагоразумием, но епископ сделал это, чтобы спасти Нарден, а в блокгауз послал отряд голландцев, недостаточный для защиты крепости. Салазар, как благоразумный человек, не вышел бы из блокгауза прежде прихода голландцев, но зная также, что Перолио осаждает Нарден, который не в силах выдержать приступа, пустился в путь, оставив в крепости не больше ста человек. Перолио, которому шпионы донесли о случившемся, тотчас же составил смелый план и, пройдя проселочными дорогами, чтобы не встретиться с Салазаром, быстро подошел к блокгаузу и ночью был у его стен. Густой туман закрывал окрестности, так что Черная Шайка дошла до самыхвалов и часовые ее не заметили. Только звук оружия и ржание коней дало знать о приближении войск. Их окликнули. – Мы друзья, голландцы! – отвечали бандиты. – Мы ждали вас! – вскричал офицер, командовавший гарнизоном. – Милости просим. В ту же минуту опустился подъемный мост, поднялись железные решетки и Черная Шатка бросилась в крепость с криками: – Да здравствует треска! Только при свете факелов офицер Салазара заметил свою ошибку и попробовал защищаться, но бандиты окружили маленький гарнизон и перерезали всех до последнего. Не теряя времени, Перолио приказал снять одежду с убитых и надеть ее на его подчиненных. На рассвете часовые увидели приближающихся голландцев. Последние шли быстро, не ожидая и не предвидя опасности. На башнях развевались знамена епископа Давида, на одежде воинов были его гербы, и когда голландцы закричали: «Да здравствует епископ!», бандиты отвечали дружно: «Да здравствует голландская треска!» Опять мост опустился, как ночью, и новоприбывшие вступили в крепость. На большом дворе их ждал необыкновенный прием. Вся Черная Шайка стояла в полном вооружении и с криками: «Да здравствует Перолио! Смерть треске!», бросилась на бедных голландцев, не ожидавших нападения. Они побежали назад, но часть бандитов уже обошла их, и тут началась ужасная свалка, страшная резня, от которой из полутора тысяч спаслись только немногие, бросаясь со стены в реку и переплыв на другой берег. После этой блистательной победы Перолио послал Видаля в Утрехт с донесением, что вместо Нардена, он взял блокгауз, что гораздо важнее для бурграфа, потому что избавляет жителей Утрехта от вечного страха. Эту-то важную победу праздновали в Утрехте, когда Вальтер приехал искать правосудия. Все колокола собора звонили с утра. Городская стража и мещане ходили по улицам, трубя в трубы и барабаны; в церквях служили благодарственные молебны, а вечером у бурграфа назначен был пир для благородных воинов и правительственных лиц. Пир должен был происходить в епископском дворце, великолепном здании времен римлян, в котором жили императоры, начальники варваров, потом ряд епископов до Давида Бургундского и, наконец, бурграф Монфортский. Туда же отправился мастер Вальтер и потребовал, чтобы о нем доложили бурграфу. Хотя все знали, что он синдик, но его не пускали во дворец и приказали придти в другое время, потому бурграф занят приготовлениями к празднику и не может никого принять. – Мне необходимо видеть бурграфа, – настаивал оружейник, – я не выйду отсюда. – Вы прождете понапрасну, – отвечал ему один из служителей, вытиравший золотые кубки, – сегодня бурграф принимает только вельмож и главных воинов или городских правителей. – Оттого-то я и пришел сюда. – Уж не приглашены ли вы? – спросил насмешливо служитель. – Разумеется, приглашен, разве иначе я пришел бы? – Извините, мессир, я этого не знал… потрудитесь сказать мне ваше имя, я посмотрю в списке приглашенных. – Не беспокойся, любезный, меня здесь знают, скажи только, в какую залу идти. – Пожалуйста сюда, – сказал суетливо слуга, воображая, что перед ним важная особа. И он ввел его в большую залу, где уже собралось много гостей. Это были большей частью жители Утрехта, знавшие лично оружейника; они встретили его ласково, подумав, что и он приглашен на пир. Но честный Вальтер поспешил разуверить их и решился открыть им причину своего прихода. Он не мог найти лучших поверенных своей тайны. Все гости, собравшиеся раньше, были фламандцы, ненавидевшие Перолио и всех иностранцев, которые отбивали у них славу победы и милости бурграфа. Государственные люди тоже роптали, что их созвали на пир в честь итальянца, и когда оружейник рассказал им, что Перолио покушался на его жизнь, на честь дочери и, наконец, увез ее из монастыря, все присутствующие вскрикнули от негодования против фаворита бурграфа. Больше всех восставал на него молодой граф Баренберг, принадлежавший к древней фамилии. Он был храбр, благороден, честен, но чрезвычайно вспыльчив и нетерпелив. Притом не очень умный и образованный, он шел прямо, если цель была справедлива и не размышлял о препятствиях. Он был, кроме того, чрезвычайно набожен и не мог простить Перолио его измены епископу; похищение же молодой девушки из монастыря показалось ему ужасным святотатством и, протянув руку оружейнику, он сказал: – Мастер Вальтер, предлагаю вам мою руку и мой меч для отмщения вашей обиды. – Благодарю, мессир граф, – отвечал оружейник, – только позвольте мне надеяться прежде на правосудие бурграфа. – Бурграф не примет вас сегодня. – Что же мне делать, посоветуйте, мессир! Мне нельзя ждать. – Вы не будете долго ждать, добрый Вальтер. Ваше обвинение должно быть публично, и бурграф будет отвечать вам при свидетелях. Я устрою все… Я вызову вас в удобную минуту. И тайные недоброжелатели Перолио начали сговариваться, как устроить это дело. В зале было пять больших окон с превосходно расписанными стеклами; потолок и двери из резного дуба, по стенам нарисованы гербы всех епископов, начиная от Виллеброде до изгнанного Давида Бургундского. Под каждым гербом нарисованы были митры; более пятидесяти гербов и митр украшали стены, но оставалось еще много места для гербов будущих епископов. Против окон стояли два огромных камина, в которые бросали целые стволы деревьев. Над главной дверью нарисовано было изображение св. Мартина, раздирающего свой плащ, чтобы покрыть им нищего. Зала освещена была сальными свечами, что тогда почиталось роскошью, но на столе, в золотых подсвечниках, горели свечи из желтого воска. Стол был накрыт посреди залы, а возле окон три небольших стола из черного дерева, на которых стояли золотые и серебряные чаши с рейнским и французским вином, дорогие кубки, огромные стаканы и серебряная посуда, потому что тогда фарфор не выделывался так хорошо, как теперь. Пажи и лакеи суетились вокруг стола, как вдруг все утихло и все почтительно поклонились вошедшему: это был сам бурграф. Высокий ростом и довольно тучный, он был еще не стар, но политика и война провели много морщин на его лице. Он обошел вокруг стола, уставленного кушаньями, осмотрел все, похвалил управляющего за порядок и сказал служителям: – Будьте проворны и расторопны и главное – трезвы. Помните, что непослушные будут строго наказаны. Успеете напиться и после. Все гости в богатых костюмах были введены в залу, и управляющий Жильбер развернул, по знаку бурграфа, пергамент и начал громко читать имена приглашенных, назначая места каждому. Почетное место было предоставлено Перолио, что возбудило неудовольствие многих фламандских вельмож и особенно молодого графа Баренберга, который принужден был сесть на другой стороне стола. Когда все сели, Жильбер впустил пажей и оруженосцев; из них каждый встал за стулом своего господина. Что сказать о кушаньях того времени? Они были просты и грубы, как нравы, и удовольствия обеда состояли в том, чтобы есть много, без разбору и напиваться допьяна. Великодушие стола заключалось в большом числе блюд. Огромные куски мяса соленого, копченого, окорока, кабанья голова с позолоченными клыками, жареные зайцы, утки, гуси и разная дичь, все это было поставлено на стол без всякого порядка. Приправы состояли из пряностей. Хотя во Фландрии не было недостатка в рыбе, но она редко подавалась на больших обедах. Что касается десерта, он состоял из разного сыра, яблок, груш и знаменитого печенья монастыря св. Бригитты. Посреди стола возвышался огромный пирог, представляющий блокгауз, на зубчатых стенах которого расставлены были сахарные воины в костюмах воинов Перолио. Двойное амерсфортское пиво употреблялось в начале стола, но за десертом подавались иностранные вина, которые вливались в огромные кубки и выпивались проворно. В это время музыканты играли на лютнях, не заглушая разговоров. Бурграф встал, музыка затихла и, подняв свой бокал, он сказал: – Преданные друзья! Предлагаю вам выпить за здоровье нашего храброго союзника, начальника Черной Шайки, графа Перолио, который в один день одержал двойную победу над врагами. Желаю, чтобы он еще долго служил под нашими знаменами и защищал наше святое дело. Итак, за здоровье храброго Перолио! Гости встали и с громкими криками осушили свои бокалы. Только небольшое число фламандских дворян не встало и не дотронулось до кубков, и в этом числе был граф Баренберг. Переждав, чтобы волнение утихло, молодой граф встал, держа стакан в руках, и сказал, обращаясь к бурграфу: – Вы пили за храбрость этого благородного итальянца, а я предлагаю тост за его добродетель, за великодушие, честь, возвышенность души. Громкие возгласы огласили залу, и хотя большая часть гостей не понимала иронического смысла этих слов, но поспешила схватить кубки. – Достойные рыцари и честные граждане! – продолжал граф. – Я очень рад, что вы уверены во всех качествах знаменитого Перолио и не обращаете внимания на некоторые слухи, обвиняющие его в бесчестных поступках. Я сам уверен, что итальянский граф легко оправдается во всем и желает только, чтобы для этого представился случай. Перолио не совсем доверял льстивым словам фламандца, но принужден был поблагодарить его за похвалы. – Я имею доказательства, что граф Перолио одарен всеми добродетелями, и если монсиньор бурграф позволит, я представлю их тотчас же, и правда восторжествует. Шепот любопытства пробежал по залу, и хотя многие не понимали, в чем дело, но ждали занимательного эпизода. Бурграф согласился и граф Баренберг пошел сам к двери и ввел мастера Вальтера. Перолио на минуту смутился и побледнел, но выпив залпом кубок вина, оправился и приготовился выдержать нападение. Оружейник, несмотря на удивленных гостей, подошел к бурграфу и, встав на одно колено, сказал: – Простите меня, монсиньор, и вы, знаменитые рыцари и почетные граждане, что я нарушаю ваше празднество; но мне дороги минуты, и я уверен, что вы не откажете мне в правосудии. – В правосудии! – заговорили на разных концах стола. – Это мастер Вальтер… честный оружейник… синдик корпорации. Что ему надобно? Пусть говорит! – Я не ошибаюсь, – сказал бурграф, глядя на отца Марии. – Вы самый искусный оружейный мастер всей епархии и честный гражданин. Что вам надобно, мастер Вальтер? – Правосудия, монсиньор! В зале, за минуту до того шумном, вдруг сделалось так тихо, как будто она опустела. – Вы дурно выбрали место и время, – сказал бурграф. – Не он, а мы выбрали их, – вскричал граф Баренберг. – Да, да, этого мы хотели, – поддержали его некоторые фламандцы. – Если вашу жалобу поддерживают мои гости, – сказал Монфорт, – я обязан вас слушать, говорите. Послышался ропот удовольствия; фламандцы придвинулись ближе к Вальтеру, друзья Перолио нахмурились, остальные гости продолжали есть и пить. – Монсиньор, – начал оружейник, – я пришел жаловаться на похищение, на преступное, святотатственное дело, и прошу, чтобы мне возвратили мою дочь. – Дочь! Прекрасную Марию! – повторили друзья Баренберга. – У вас похитили дочь? – спросил бурграф. – Да, монсиньор. Ее похитили из священного убежища, которое находится под вашим покровительством, из монастыря св. Бригитты. – И вы знаете похитителя? – Вот он, – сказал Вальтер, указывая на Перолио. Сделался шум. Одни негодовали, другие не верили. Перолио, узнавший только перед пиром, что приказание его исполнено и Мария в его власти, остался хладнокровным. Бурграф дал знать, чтобы все замолкли и потом вскричал: – Граф Перолио – наш почетный гость, и вы обвиняете его, мастер! Вы ошиблись, это невозможно. – К несчастью, я уверен в том, что говорю, – ответил несчастный отец. – Кто смеет утверждать эту клевету? – спросил Перолио, вставая и оглядывая грозно всех присутствующих. – Я! Мы! – закричали Баренберг и его друзья. Бурграф находился в неприятном положении. Он не мог не поддерживать своих друзей, соотечественников, избравших его правителем, но в то же время боялся оскорбить человека, оказавшего ему важную услугу, в честь которого давался этот праздник. Однако нельзя было так же и не решить такого дела. Монфорт проклинал в душе несносного оружейника, помешавшего общему веселью, но, как государь, был обязан оказать правосудие своему подданному. – Благородный Перолио, – сказал он, обращаясь к начальнику. Черной Шайки. – Я уверен, что вы оправдаетесь в преступлении, которое возводит на вас оружейник… если только он не откажется от своих слов. – Нет! – вскричал Вальтер. – Я утверждаю и готов поклясться, что Перолио злодей и разбойник, что он украл мою дочь. – Говорите учтивее, – заметил бурграф строго. – Помните, где вы. – Я не обижаюсь этим грубым выходкам, синьор, – отвечал Перолио грустным тоном. – Бедный отец так поражен, что не понимает, что говорит. Скажите мне, где и когда произошло это похищение? – Четыре дня тому назад, в Зесте, – отвечал граф Баренберг. – Это, кажется, далеко от Нардена, – сказал Перолио очень спокойно. – Совсем в другой стороне, – подтвердил бурграф. – Как же я мог находиться четыре дня тому назад в Зесте, когда я в то время отошел от Нардена и взял блокгауз, откуда приехал только вчера? – Да, это справедливо, – подтвердил бурграф. – Что вы скажете на это, мастер? – Что начальник Черной Шайки не сам похитил мою дочь, а приказал сделать это своим сообщникам. Его бандиты действовали по его приказанию. Между тем все гости встали, чтобы ближе присутствовать при странных прениях. Бурграф занял высокое место, в углу залы; вокруг него стеснились фламандцы, Перолио стоял напротив Монфорта, пажи и служители отошли к противоположной двери, где нельзя было ничего слышать. Перолио был так покоен, что трудно было принять его за виноватого. – Мастер, – сказал он оружейнику, – если вы осмелились обвинять меня, у вас должны быть самые ясные доказательства. – Да, – подтвердил бурграф строго, – где доказательства, что виновник похищения – мессир Перолио? – Монсиньор! – вскричал Вальтер с негодованием. – Разве надобно еще другое доказательство после преступной попытки его против чести моей дочери в моем доме, и против моей жизни? – Потише, мастер, – прервали Перолио. – Предположения не могут быть приняты как доказательства. Как можете вы уверять, что я хотел умертвить вас? – Я узнал в числе разбойников вашего сообщника. – Это еще не доказательство. Вы могли ошибиться, и притом разве я могу отвечать за нравственность всех воинов Черной Шайки? У каждого из них могут быть свои страсти, за которые начальник не отвечает. Во всяком случае я ручаюсь, что никто из моих людей не покушался на жизнь амерсфортского оружейника… Что же касается чести вашей дочери… Все присутствующие удвоили внимание, и итальянец понял, что он должен быть очень осторожен, отзываясь о девушке, которую все уважали. – Ваша дочь, – продолжал бандит, – хорошенькая и скромная девушка. Она поразила меня своей красотой, и я хотел понравиться ей, хотел искать ее любви, как граф ван Шафлер. Надеюсь, что это естественно и позволительно. Не скажу, чтобы я был совершенно счастлив, но ваша настойчивость, мастер Вальтер, заставляет меня признаться, что прекрасная Мария не ненавидела меня и вручила мне даже ключ от своей комнаты. Страшный крик вырвался из груди Вальтера, бросившегося на Перолио, но фламандские рыцари удержали оружейника и крепко сжали его руки. – Напрасно вы горячитесь, – продолжал злодей также хладнокровно и с саркастической улыбкой, – ваша дочь невинна… только вы слишком строги к ней… немудрено, что она упала в обморок при вашем появлении. Вальтер не мог выговорить слова от гнева и волнения и старался только вырваться из рук державших его, чтобы заставить замолчать клеветника, но граф Баренберг и друзья его хотели выслушать до конца оправдание итальянца. – Я поступил очень благоразумно, – продолжал тот, – оставив на другой же день не только дом мастера, но и сам город. Бурграф дал мне поручение взять Нарден и признаюсь, что серьезные дела помешали мне с тех пор думать о белокурой красавице. Дворянину можно думать о любви, когда ему больше нечего делать, но если ему дают важное поручение, которое может прославить имя его властителя, надобно отогнать все мечты о любви. Бурграф и некоторые из гостей видимо согласились с этим правилом. – Во всяком случае, – говорил Перолио, – от небольшой интриги до похищения и святотатства еще очень далеко, и если мне понравилась дочь оружейника, из этого не следует еще, чтобы я решился похитить ее. Ведь и ван Шафлер любит ее, отчего же вы не подозреваете его? – Вы забываете, мессир, что Мария – невеста графа Шафлера, – отвечал молодой Баренберг вместо Вальтера, который не мог еще придти в себя. – Да, я слышал это, но признаюсь, никогда не верил, чтобы дворянин мог запятнать свой герб союзом с мещанином. Вы сами, граф Баренберг, не решаетесь на это. – Ошибаетесь, – отвечал молодой человек, бросив презрительный взгляд на Перолио. – Граф Шафлер благородный, честный и храбрый дворянин, не способный ни на какую подлость. Он служит нашему врагу, но мы все уважаем его и уверены, что он женился бы на Марии. Вы не знаете наших обычаев, синьор. У нас, если дворянин дает слово жениться на девушке самого низкого происхождения, он исполняет обещание или считается подлецом. Ропот одобрения послышался между присутствующими, и даже бурграф наклонил голову в знак согласия. – Это очень поучительно, но я не здешний житель, и мне простительно ошибаться. Пусть граф Шафлер любит по своему – это меня не касается, но я не обязан отвечать за все, что происходит в вашей стране. Всем известно, что дней десять тому назад Шафлер приходил в Зест, переодетый крестьянином. – Это правда, – заметил бурграф, – потом он прислал просить пропуска для него и нескольких товарищей, чтобы встретить свою невесту. – И вы отказали ему, монсиньор? – спросил Перолио. – Отказал. – После этого, вероятно, что кроме Шафлера некому было похитить Марию. Он не мог приехать за ней явно, так увез ее тихонько. – Ложь и клевета! – вскричал Вальтер. – Вы не верите мне, потому что Шафлер сказал, что Мария не у него. У него есть свои причины скрывать свое счастье, а я утверждаю, что он настоящий похититель. – А я, – вскричал Баренберг запальчиво, – утверждаю, что только человек без сердца и чести может клеветать на невинную девушку и оскорблять отсутствующего врага. – Граф Баренберг! – перебил бурграф. – Прошу вас умерить ваши выражения. – Не останавливайте любезностей графа, – сказал Перолио, не теряя хладнокровия. – Его грубости не могут обидеть меня. – Обижайтесь или нет, это мне все равно, – возразил пылкий молодой человек, – но я имею привычку говорить громко то, что думаю, и вы выслушаете меня. – Еще раз прошу вас, перестаньте, – сказал бурграф. – Все вы мои гости, мои товарищи. Я ваш герцог и повелитель, я созвал вас праздновать победу, а вы хотите испортить мою радость вашими ссорами. Надеюсь, что не услышу больше ни одного невежливого выражения. Начальник Черной Шайки и все гости преклонили головы, в знак согласия, только один граф Баренберг сохранил гордое положение и, подойдя к Вальтеру, сказал ему так, чтобы слышал Перолио: – Потерпите немного, мастер, праздник скоро кончится. – Да, очень скоро, – повторил Перолио, улыбаясь. – Мастер Вальтер, – сказал Монфорт, обращаясь к оружейнику, стоявшему неподвижно, – вы поторопились обвинить мессира Перолио в похищении вашей дочери. Я не говорю, что в этом виноват граф Шафлер, но утверждаю, что начальник Черной Шайки не мог этого сделать. Ищите же верных доказательств; откройте виновных, и я клянусь моей короной, что они будут строго наказаны. И он дал знак, чтобы Вальтер вышел. – Благодарю за правосудие, – сказал с отчаянием оружейник, – благодарю за совет, бурграф Монфортский. Теперь я знаю, как вы решаете дела и расскажу обо всем гражданам Амерсфорта. Пусть они узнают, что иностранные разбойники распоряжаются у вас, как дома, и могут безнаказанно бесчестить наших жен и дочерей. Увидим, захотят ли они после этого быть баранами и поддерживать тех, от кого нельзя ждать защиты… А ты, начальник бандитов, – прибавил он в исступлении, грозя Перолио, – ты скоро разочтешься со мной. И он выбежал из дворца. Присутствующие боялись, что бурграф прикажет тотчас арестовать безумца, наговорившего ему дерзостей, и это случилось бы непременно, если бы Монфорт был уверен в невинности Перолио. Но тайное чувство говорило ему, что несмотря на отсутствие доказательств, итальянец участвовал в этом похищении. Принужденный политикой защищать виновного, он не хотел быть строгим и к жертве его и не сказал ни слова после ухода Вальтера. После драматического эпизода с Вальтером многие из гостей начали собираться домой. Бурграф сам провожал начальников города и войск и разговаривал с ними весело, чтобы заставить их забыть неприятное впечатление. В зале банкета остались молодые дворяне и воины, для которых только начался праздник, то есть оргия. Со стола сняли скатерть и постелили зеленое сукно, на котором явились карты и кости. С криком «ура!» молодые люди бросились к столу и выложили деньги, а пажи, между тем, устанавливали на столе кружки с вином и медом, потому что дворяне любили пить и играть. Молодой Баренберг, как горячий игрок, сел у стола один из первых, но когда Перолио сел напротив него, фламандец хотел встать. – Зачем вы уходите, граф Баренберг? – сказал Перолио. – Уж не боитесь ли вы меня? – Бояться? – закричал Баренберг на всю залу и громко захохотал. – Если я отказываюсь играть с вами, то оттого, что имею привычку играть только с моими друзьями, а начальника Черной Шайки я хочу победить… только не на зеленом столе. – Одно не мешает другому, – возразил Перолио. – Храбрый рыцарь не отказывается ни от битвы, ни от игры. – Я и не отказываюсь, – отвечал Баренберг. – Друзья мои, – прибавил он, обращаясь к окружающим, – будьте нашими свидетелями. Он подозвал своего оруженосца, который принес ящик, наполненный золотом и, высыпав деньги на стол, вскричал с лихорадочным волнением, возбужденным крепкими напитками: – Вот моя ставка! Этот иностранец осмелился сказать, что я боюсь его. Пусть он держит такую сумму, и весь выигрыш достанется тому, кто успеет доказать трусость другого. Громкое «ура!» было ответом на этот странный вызов. – Я ставлю втрое больше, – сказал Перолио, бросая золото горстями и прибавил, скрестив руки. – Очень любопытно будет видеть, чем вы испугаете меня, мессир! Игроки встали со своих мест и окружили противников. – Прежде всего, – возразил молодой граф, пристально глядя на Перолио, – дайте мне вашу руку, в знак того, что вы принимаете мой вызов. Перолио протянул левую руку. – Надобно подать правую, – сказал Баренберг. – Все честные условия скрепляются правой рукой. Перолио не отвечал ни слова и, сев к столу, выпил полную чашу крепленого меда. – А, вы отказываетесь? – продолжал граф насмешливо. – Друзья мои, вы будете охранять мою ставку, а между тем я предложу вам загадку. – Загадку? – вскричали со всех сторон. – И кто отгадает ее, – прибавил Баренберг, – тому я подарю мою золотую цепь. – Говорите, говорите! – Вот в чем дело. Мессир Перолио имеет привычку прятать свою правую руку в перчатке черного или белого цвета, которую никогда не снимает. Что за причина этой странности? Одни говорят, что это каприз, другие, что у него на руке отвратительная болезнь. Уверяют также, что на ней положено странное клеймо, подобное тому, каким заклеймен был Каин, или у мессира Перолио острые когти как у сатаны. При первых словах молодого человека, итальянец вскочил, как ужаленный змеей, и грозный взгляд его остановил смех и возражения присутствующих, которые хотя были разгорячены вином и ненавидели пришельца, но боялись оскорблять любимца бурграфа. – Твоя загадка просто шутка, – сказал наконец один из друзей Баренберга. – Да если кто и отгадает, – заметил другой, – то как удостоверить истину? Ты сам, Баренберг, не знаешь наверное, что скрывает перчатка. – Только сеньор Перолио может открыть эту тайну, – возразил пожилой игрок, ван Рюис, который, не обращая внимания на грозный вид бандита, продолжал пить из разных кружек. Перолио, сделав над собой нечеловеческое усилие, кусал от злости губы, чтобы скрыть волнение, и видя, что противник следит за каждым его движением, сел опять на свое место и сказал спокойным голосом: – Очень сожалею, господа, что не могу помочь вам выиграть золотую цепь. Я дал клятву, может быть странную и смешную: никогда не снимать перчатки с правой руки. Впрочем, вы можете удостовериться, что она у меня не высохла и не поражена никакой болезнью. Многие из вас видели, как я действую мечом и секирой, и теперь вы можете осмотреть ее и даже ощупать сквозь перчатку. Итальянец протянул свою руку на стол и все могли удостовериться, что рука, обтянутая узкой перчаткой, была здорова, красива и сильна. Некоторые из недоверчивых трогали руку, ощупывали пальцы, но все-таки не нашли ни когтей, ни признаков проказы или другой болезни. Во время этого унизительного экзамена, Перолио стоял молча, а потом сказал злобно: – Теперь, граф Баренберг, вы можете без боязни пожать мою руку. Только предупреждаю вас, что это рука вашего врага. – Я иначе и не желаю, – отвечал молодой человек и протянул свою руку Перолио. Тот сжал руку фламандца с такой силой, что Баренберг невольно вскрикнул от боли и левой рукой выхватил кинжал. – Извините граф, – проговорил бандит, смеясь. – Я должен был доказать вам, что рука моя здорова и сильна. Только я не предполагал, что вы так нежны… – Я тебе докажу, что и моя рука сильна, – закричал молодой человек. – Я заставляю тебя показать то, что ты скрываешь. И с быстротой молнии он бросился через стол на правую руку Перолио и хотел сдернуть с нее перчатку, прикрепленную под рукавом. Бандит делал возможные усилия, чтобы освободить свою руку, которую зажал в кулаке, но Баренберг почти лег на стол и крепко держал руку в перчатке; другие гости помогали ему сорвать ее. Бешенство Перолио не знало границ. Он был обезоружен, потому что в борьбе уронил кинжал. Баренберг расстегивал уже браслет, к которому прикреплена была перчатка. Тогда итальянец нагнулся сам над столом и схватил левой рукой за волосы того из молодых фламандцев, который был к нему ближе. Тот вскрикнул от неожиданной боли. Баренберг, удивленный, поднял голову и этой секунды было достаточно, чтобы Перолио мог освободить свою руку. И так как в другой его руке остался порядочный клок волос фламандца, то он бросил их в лицо графа, сказав с затаенной злобой: – Все против одного! Хороши здесь дворяне. И он сел на свое место, оправляя на себе одежду, которая пострадала во время борьбы. – Мы не правы, – сказал ван Рюис, – и я нисколько не одобряю поведения моего племянника. Старик посмотрел строго на графа Баренберга, но молодой человек не хотел отступиться от своей мысли, так он был разгорячен, и потому, не слушая дяди, закричал: – Дайте место! Я не беру назад моего вызова. Перолио, бери твой меч. – Нет, нет! – закричали гости. – Мы не допустим поединка во дворце бурграфа. – Так пусть он покажет нам свою руку, – отвечал граф, горячась еще более. – Я не хочу проливать крови, но все мы требуем, чтобы он снял перчатку. – Да, это справедливо! – закричали фламандцы. – Что за упрямство! Мы зашли слишком далеко, чтобы отказаться от нашего желания. Это было бы низко. – Перолио, показывай руку, – загремел граф, – или мы употребим силу. И сдвинувшись теснее, фламандцы опять подступили к начальнику Черной Шайки с намерением броситься на него. Итальянец обвел глазами своих противников, и увидел, что борьба будет невозможна. С одним Баренбергом он готов был драться на смерть, но сопротивляться всем было бы безумием. Вдруг в голове его промелькнула отчаянная мысль. – Благородные рыцари! – вскричал он иронически. – Вы так пьяны, что с вами невозможно рассуждать. Притом сила на вашей стороне и я не могу противиться целой толпе. Предлагаю вам единственное средство удовлетворить ваше любопытство. – Наконец-то мы узнаем, – закричали молодые люди. – Я поклялся, – продолжал Перолио, – что никто не увидит моей руки, пока я жив, или пока эта рука будет принадлежать моему телу. Стало быть, вы должны или убить меня, или отрубить мне руку, чтобы снять с нее перчатку. И подозвав Ризо, который стоял у окна и со страхом смотрел эту сцену, Перолио приказал ему принести два острых топора. Толпа молодых людей остановилась в недоумении, не зная, что предпринять, а Перолио осушил еще бокал, и когда Ризо принес топоры, он отвернул рукав с правой руки до локтя, дал знак Видалю, чтобы тот поставил перед ним табурет, на который положил руку как на плаху, и подав один топор Баренбергу, взял другой в левую руку и вскричал: – Руби! Все невольно вздрогнули, и ван Рюис сказал с негодованием: – Разве мы мясники или палачи, чтобы резать и рубить? – Ты верно принимаешь нас за Фрокаров, – заметил другой. – Все вы трусы и подлецы, – вскричал Перолио, – и боитесь этой безоружной руки! – Ах ты хвастун! – возразил Баренберг. – Стоит только кому-нибудь из нас замахнуться топором и ты, наверно, отдернешь свою руку. – Попробуй, – отвечал итальянец, глядя на него презрительно, чтобы возбудить еще более его гнев. – Твое фанфаронство не пугает меня, и я берусь доказать, что сам ты – подлый трус. И граф размахнулся топором, как вдруг сзади него раздался грозный знакомый голос: – Прочь топоры! Что это за странные игры на празднике. Вы забываете, господа, где вы! И бурграф сам выхватил топор из рук Баренберга и отбросил его. Ван Рюис объяснил бурграфу, что происходит, а Перолио вскричал: – Вы все свидетели, что я не испугался, когда на мою руку занесли топор… стало быть, я выиграл пари, – деньги мои. И он хотел уже придвинуть к себе груду золота, но Баренберг остановил его словами: – А я, Перолио, разве я струсил? Я видел, что ты держал топор в левой руке и готов был поразить меня в голову в то время, как я дотронулся бы до твоей руки. И, несмотря на это, я отрубил бы твою проклятую руку. Стало быть никто из нас не выиграл. Пусть монсиньор хранит эти деньги до тех пор, пока один из нас заставит задрожать другого. – Согласен! – отвечал Перолио. – Наше пари откладывается до завтрашнего дня. Я придумаю новое испытание, и клянусь, что останусь победителем. Итальянец улыбнулся, потому что новая, дьявольская мысль пришла ему в голову. – Будем лучше пить, – вскричал он. – Утопим в вине все ссоры. Бурграф тоже взял бокал и сказал, поднимая его: – Мессиры! Пью за ваше примирение. Перолио, как искусный актер, умел скрывать свои чувства и быстро перенял тон, и потому как будто забыв недавние оскорбления, обратился очень любезно к окружающим: – Мессиры! Мы должны отвечать на благородное желание нашего государя. Граф Баренберг, я пью за наше искреннее примирение. Все гости выпили свои кубки, кроме Баренберга, который не мог так скоро успокоиться и не умел притворяться. – Извините меня, герцог Монфор, – сказал он бурграфу почтительно, но твердо. – Между мной и начальником Черной Шайки примирение невозможно. Я презираю его, потому что считаю похитителем невесты Шафлера, и хочу отомстить за бедного оружейника. Обещаю вам только удерживаться от новой ссоры и не прибегать к оружию, покуда мы у вас в гостях. Бурграф поклонился в знак согласия и распрощался со своими гостями, предоставив им продолжать оргию. Часть гостей разошлась после него, остальные продолжали пить. Перолио сел напротив Баренберга, чтобы вызвать его на новую борьбу. Ризо налил кубок своего господина и хотел налить и графу, но тот отказался и встал, чтобы уйти домой. – Corpo di bacco! – вскричал Перолио, смеясь. – Вы хорошо делаете, граф, что уходите спать, потому что еле держитесь на ногах, а если останетесь еще на четверть часа, то упадете как ребенок. Вы и в питье не можете бороться со мной. Вино не победит меня никогда! Это хвастовство опять взбесило молодого человека, который не хотел уступить и в этом бандиту. – Я принимаю вызов: будем пить! – вскричал он и сел на свое место. – Я начинаю, – проговорил Перолио, выпив свой кубок до дна. Баренберг молча осушил свой бокал. Присутствующие придвинулись к ним ближе и, вместо того, чтобы остановить эту скотскую борьбу, подстрекали противников и аплодировали тому, кто выпивал скорее поминутно наполняемые кубки. Перолио пил и продолжал шутить с молодыми людьми, которые, однако, понемногу начали расходиться или засыпать на своих местах. Баренберг пил молча и делал невероятные усилия, чтобы сохранить сознание. Он чувствовал, что голова его отяжелела, в глазах сделалось темно и он с трудом может поднять руку, но, не желая признать себя побежденным, продолжал пить, говоря изредка своему противнику: – Пей, фанфарон… пей, а не болтай. Перолио смеялся над странным произношением своего противника и не чувствовал на себе действия вина, потому что был крепче фламандца и притом за обедом пил очень мало. Он с радостью смотрел на положение бедного графа, ожидая с нетерпением минуты, когда тот упадет мертвецки пьяный. – Ризо! – кричал он своему пажу. – Налей еще благородному графу, чтобы размочить его красноречие и по дороге наполни и мой кубок. Ризо повиновался и Перолио вскричал: – В честь нашей дружбы, граф, пейте же! Баренберг пробормотал: – За мою ненависть, проклятый иностранец! – и схватил кубок, но руки его так дрожали, что он пролил половину на стол и на свое платье. – Это не в счет, – заметил Перолио. – Ризо, долей кубок. На этот раз граф делал напрасные усилия, чтобы поднять бокал. Он встал, оперся на стол и хотел разом осушить кубок, но вино расплескалось и залило даже Перолио. – Bestaccia! – закричал тот и выплеснул свой бокал прямо в лицо фламандца. Баренберг подался вперед, как бы желая броситься на противника, но потеряв опору, зашатался и упал на пол. – Настоящая фламандская свинья! – проговорил злобно бандит. Свечи уже гасли и едва освещали отвратительную сцену оргии. Изредка, кто-нибудь из пажей снимал нагар свечей, и тогда можно было рассмотреть спящих пьяниц, кружки, разбросанные по полу, разлитое вино. Один только Перолио стоял над этими развалинами и радостно смотрел на бесчувственное и почти безжизненное тело своего врага. Скоро оруженосцы и служители бурграфа вывели и вынесли всех гостей, и в зале пира остался только итальянец со своей жертвой. Он толкнул ногой тело графа и проговорил: – Теперь я могу делать с ним, что хочу… Ризо! Кто здесь из наших? – Скакун и Рокардо, синьор, ждут ваших приказаний в соседней зале. – Позови их. Паж вышел и вошел опять с оруженосцем и двумя бандитами. – Нет ли вестей о Фрокаре? – спросил Перолио. – Нет, мессир, никаких! – отвечал Видаль. – Когда будут, тотчас доложить, а теперь поднимите этого человека и положите его на стол. Вы видите, что он мертвецки пьян, и я хочу, чтобы его приняли за мертвого; принесите гроб и положите туда графа Баренберга. – Гроб? – проговорил Рокардо с удивлением. – Это трудно найти ночью. – Совсем нет, – подхватил Скакун. – Я знаком с гробовщиком, который живет у кладбища. У него всегда много готовых гробов. – Поди же к нему и принеси поскорее. – Жаль, что нет Фрокара, – заметил Рокардо. – Он бы отпел покойника. – Найдем и без него, – сказал Перолио. – Ты ступай в монастырь Иерусалимского братства и попроси настоятеля, чтобы он прислал сюда несколько монахов. Разбуди также некоторых из наших и приведи с собой. Бандиты удалились, а Перолио сел, в ожидании их, наслаждаясь заранее своим мщением. Скоро черный гроб был принесен и молодой фламандец положен туда. – Смотрите, чтобы он не проснулся, – заметил Перолио. – Не проснется, капитан, – отвечал Рокардо. – Кто закатил в себя столько вина, тот не пошевелится целые двадцать часов. Действительно, Баренберг спал мертвым сном. Лицо его опухло и страшно побледнело, у рта показалась пена и дыхание вылетало из груди с хрипением, как у умирающего. – Ложись, любезный, в этот ящичек, – приговаривал Скакун, – тебе будет удобно, как в постели. – Да и как хорошо пришелся гроб по его росту, – прибавил Рокардо. – Точно снимали мерку. – А где монахи? – спросил Перолио. – В соседней зале, с четырьмя нашими товарищами. – Введите их. Вошли шестеро монахов и поклонились Перолио. – Отцы мои, – сказал он. – Здесь случилось большое несчастье. Молодой граф Баренберг пал в честном бою и передал мне свое последнее желание. Он хочет, чтобы монахи Иерусалимского ордена перенесли его тело в церковь св. Иоанна и молились над ним целую ночь. Завтра соберутся его родные на погребение, а сегодня я вам заплачу за ваши труды. И раздав монахам несколько золотых монет, он вышел из дворца, довольный тем, что придумал страшную мистификацию, чтобы испугать своего врага. Монахи с помощью бандитов перенесли гроб в церковь, окружили его погребальными свечами и начали петь молитвы. Между тем граф Баренберг начал понемногу приходить в себя и открыл глаза. Увидев горящие свечи и черную драпировку, он подумал, что видит сон, и снова закрыл глаза. Слух его был поражен погребальным пением; не понимая, где он, что с ним, он протянул руки, но встретил стенки гроба. Ужас овладел им… он хотел кричать, но голос замер в груди, хотел привстать – члены окаменели и не слушались его. Мысли его мешались; он не мог ничего вспомнить, вообразил, что начинается страшный суд и впал в сильный обморок. Монахи пели в это время за упокой. Между тем на другое утро Перолио созвал к себе всех гостей бурграфа, которые тоже обещали приехать к завтраку. Великолепный стол был приготовлен в большой зале гостиницы под вывеской «Радуги», где остановился Перолио. В одиннадцать часов собрались все гости; недоставало только одного графа Баренберга, прибор которого поставлен был против хозяина. Перолио извинился перед всеми за неприличные сцены, бывшие накануне, и когда граф ван Рюис осведомился, что случилось с его племянником и кто выиграл пари, бандит приготовился рассказать о своем подвиге и стал у камина. Вдруг дверь отворилась и вошел граф Баренберг. Все взоры обратились на него. Он был страшно бледен, но черты его были покойны и не выражали ни гнева, ни волнения. Он был весь в черном и вооружен длинным боевым мечом и широким кинжалом. Он остановился на минуту на пороге, сложив руки на груди, потом пошел тихо к Перолио, глядя на него пристально. Перед ним все расступились, думая, что он хочет поговорить с хозяином, но Перолио, не доверявший этому непонятному спокойствию, поспешил объявить о своей победе. – Мессиры! – сказал он. – Вы сейчас спрашивали меня, кто выиграл вчерашнее пари, то есть, кто из нас, граф Баренберг или я, нашли средство испугать друг друга? Победитель – я и для удовлетворения стоит только посмотреть на графа. Перолио приподнял шляпу молодого человека, которую он не снял при входе, и все вскрикнули от ужаса. Баренберг поседел в одну ночь. Он оставался все еще неподвижен и спокоен, потом тем же ровным шагом подошел еще ближе к бандиту и сказал тихим, но звучным голосом: – Начальник Черной Шайки! Ты оскорбил живого, а мертвец возвращает тебе обиду. И в ту же минуту он ударил Перолио по лицу так сильно, что у того хлынула кровь из носа и рта. Удар был так скор и неожиданен, что итальянец не успел защититься, зато он так же быстро выхватил свой кинжал и как тигр бросился к графу, который стоял спокойно, скрестив руки. Если бы бурграф не заслонил его собой, убийство было бы совершено. – Остановитесь, Перолио! – сказал Монфор. – Что вы хотите делать? – Хочу отомстить, – вскричал итальянец в бешенстве. – Разве в вашей стране пощечины не считаются обидой? – За них мстят не убийством, – возразил бурграф строго, – а честным поединком. – Я требую поединка с начальником Черной Шайки! – сказал граф Баренберг с таким непоколебимым хладнокровием, которое удивило всех, кто знал вспыльчивого молодого человека. – Я готов! – вскричал Перолио. Выбрали место возле гостиницы; бурграф согласился быть свидетелем, судьи вымеряли мечи и кинжалы, и потом спросили противников: подумали ли они о своих душах? Перолио отвечал, что у него есть индульгенции от папы, а граф Баренберг сказал, что исповедался час тому назад и приготовился к смерти. Силы противников были почти равны. Друзья Баренберга могли бояться только за его горячность; но на этот раз молодой человек был так хладнокровен, как будто не принадлежал к живым. После первых ударов Перолио понял, что надобно разгорячить своего противника, И потому начал отступать от него. Графу польстило то, что перед ним отступает прославленный начальник Черной Шайки, и он начал нападать, с жаром крича: – Вот твоя храбрость, проклятый изверг, ты храбр с бессильными. И, желая покончить скорее, он нанес итальянцу удар, которым поразил бы его прямо в грудь, но Перолио парировал его кинжалом и в ту же минуту пронзил сердце своего врага. Тот упал безжизненный, не выпуская меча из стиснутой руки, а Перолио, скрыв свою радость, преклонился перед бурграфом и судьями и сказал почтительно: – Надеюсь, мессиры, что бой наш был честен и что никто не может упрекнуть меня. Монфор был поражен горем, потеряв одного из лучших своих защитников, но не мог показать этого и отвечал Перолио наклонением головы; другие рыцари, хотя и любили графа, но должны были отдать справедливость Перолио. Они не смели обидеть его, отказавшись от завтрака, тем более, что и бурграф оставался. Зато, несмотря на всю любезность Перолио и на роскошь стола, завтрак был печален, как будто тень Баренберга присутствовала между гостями. За десертом хозяин предложил выпить за здоровье бурграфа и за победы удочек, и гости прокричалиура, но на эти крики отвечало печальное эхо. Монахи Иерусалимского ордена пришли за телом покойника и во второй раз понесли его в церковь св. Иоанна, где не суждено было проснуться вторично молодому человеку.III. Мещане
Мы уже сказали, в каком отчаянии был отец Марии, выйдя из дворца бурграфа. Он понимал все свое бессилие, знал, что не добьется правосудия за похищение своей дочери, и его отчаяние дошло почти до безумия. Он схватил железную полосу и притаился за углом дворца, чтобы убить Перолио, когда тот выйдет. Однако успокоившись немного, честный Вальтер размыслил, что это будет не мщение, а убийство. Если он убьет злодея, то положение Марии будет еще печальней, коли она находится во власти Черной Шайки. Бандиты отомстят ей за смерть своего капитана, и эта мысль так поразила бедного отца, что он упал почти без чувство на ступени дворца епископа. В эту минуту Вальтер был слаб, как ребенок, и не заметил бы, если бы перед ним остановился Перолио. Он забыл о мщении и помнил только о спасении Марии. Где она была в это время, с кем? Где найти доказательства, требуемые бурграфом, у кого спросить их? Покуда бедный отец мучился этими мыслями, он не заметил, что из дворца вышел человек, и остановился, глядя с участием на оружейника. Он, кажется, дожидался, чтобы Вальтер заговорил с ним, и оружейник, заметив его, наконец узнал в нем одного из приближенных Перолио. Заметив участие во взоре молодого человека, который не походил на диких и грубых солдат Черной Шайки, Вальтер встал и, с жаром схватив руку Видаля, сказал: – Вы знаете кто я, вы можете мне помочь! – Да, я видел вас в Амерсфорте. – И я вас помню, вы… его оруженосец. Про вас все говорят, что вы не похожи на других разбойников Черной Шайки, что вы не участвуете в их преступлениях. – Я солдат и обязан повиноваться, – отвечал Видаль. – И в нашей шайке есть честные люди… но чего вы хотите от меня, мастер? – Скажите мне, где моя дочь? – проговорил Вальтер раздирающим голосом и рыдая. Молодой человек был тронут, но на просьбу отца он только покачал головой и сказал печально: – Не знаю. – Вы не знаете! Вы, оруженосец Перолио? – Не знаю. – Умоляю вас, – продолжал Вальтер со слезами. – Вспомните тех, которые вам дороги, вашу мать… вы верно ее любите… Кто же не любит свою мать! Если она жива, я заклинаю вас ее священным именем, если умерла, то ее памятью… сжальтесь над другой матерью, которая оплакивает свое дитя, над отцам, который готов потерять рассудок. Скажите, где моя дочь? Видаль был в сильном волнении. Он отвел Вальтера от дворца и сказал ему: – Послушайте, мастер. Если бы я знал, где ваша дочь, и если бы капитан запретил мне говорить о том, я бы умер, но не сказал вам ничего, хотя мне жаль вас и вы возбудили во мне добрые чувства… Я принадлежу мессиру Перолио и обязан повиноваться ему. – Этому злодею! – вскричал оружейник с негодованием. – Он враг Бога и людей, а вы, Видаль, честный и добрый человек, вы не можете иметь к нему привязанности. – Пусть все проклинают его… я один должен его благословлять… Да, благословлять, потому что я ему обязан более чем жизнью. Он спас ту, про которую вы сейчас упоминали, Вальтер. Мы жили в селенье на берегу Адриатического моря. Однажды алжирские пираты пристали к берегу, зажгли деревню и взяли с собой мою мать и сестру. Перолио не только выкупил их, но и обеспечил до конца жизни. Скажите, разве после этого я не обязан слепо повиноваться Перолио? – Слепо? А если он потребует от вас преступления? – Оно останется на его душе. Итак, если бы он дал мне какое-нибудь приказание насчет вашей дочери, я бы не остановился перед вами, не отвечал бы на ваши вопросы, но он мне ничего не говорил, и я уверен, что капитан даже не знает, где она, как сегодня утром не знал о ее похищении. – Возможно ли это? – Он от вас только узнал о нем. Не знаю также поручил ли капитан Фрокару похитить вашу дочь, но клянусь честью, что вот уже две недели, как Фрокар пропал из лагеря под Нарденом, и никто не знает, где он. Сегодня утром один из наших всадников послан был в блокгауз с приказом к лейтенанту Вальсону, чтобы он сдал крепость наемникам ван Рюиса. Тому же всаднику приказано разведать о Фрокаре и привести известия в прежний наш лагерь… Да вот, кажется, и наш посланный, – прибавил оруженосец, указывая на приближающегося всадника, покрытого грязью и пылью. – Рокардо! – закричал молодой человек. – Какие вести? Всадник остановился и Вальтер со страхом ждал его ответа: – Лейтенант выйдет завтра из блокгауза, – отвечал Рокардо. – А Фрокара нашел? Оружейник затаил дыхание, чтобы лучше расслышать ответ. – Он пропал совсем; я разослал людей во все стороны, но никто не мог найти его следов. Я думаю, что его похитила дочь сатаны, старуха падерборнских развалин. При имени колдуньи, Видаль перекрестился, потом, обернувшись к Вальтеру, сказал: – Вы слышали? – Да, только может быть Фрокар привез мою дочь тихонько в Утрехт? – Он бы явился к капитану, потому что нельзя не знать, что он здесь. – А если он придет в эту ночь или завтра? – Он не застанет здесь мессира Перолио, который торопится в свой лагерь. Прощайте же, мастер. Желаю, чтобы Бог сохранил вас и вашу дочь. И боясь проговориться, он поспешил во дворец епископа, оставив Вальтера, погруженного в размышления. Оружейник немного успокоился, и, зная, что невозможно получить других сведений о Марии, отправился обратно в Амерсфорт. Там его ждало новое несчастье. Старая Маргарита, встретившая его, объявила ему, что госпожа ее находится в самом печальном положении. Она ничего не понимает, не видит и молча бродит по комнате, в каком-то забытьи. Накануне с ней был сильный припадок лихорадки, и патер ван Эмс послал в монастырь за лекарем, который не велел ей вставать с постели и, уходя, покачал головой. Вальтер выслушал этот рассказ со стесненным сердцем и побежал в комнату. Марты. Увидев ее, он остановился, пораженный переменой, происшедшей в такое короткое время. Нельзя было узнать в этой бледной, худой страдалице здоровой, красивой хозяйки и матери, на которую все любовались. Она постарела вдруг на двадцать лет, волосы поседели, щеки ввалились, лицо покрылось морщинами. Вальтер с трудом удержал свои слезы, подходя к постели и тихонько пожал руку жены. При этом прикосновении, больная как будто ожила и сказала слабым голосом: – Это ты, Вальтер? Потом, обведя глазами комнату, как будто отыскивая кого-то, она прибавила печально: – Ты один? – Да, милая Марта, – отвечал оружейник, стараясь придать больше твердости своему голосу. – Я принес тебе хорошие вести… наша Мария не во власти этого… Перолио… мы можем еще надеяться. – Надеяться! – повторила мать глядя на небо. – Да, мы, может быть, завтра же увидим нашу дочь. Бог поможет мне… я уже придумал план… подожди до завтра, добрая Марта. – Хорошо! До завтра… – проговорила чуть слышно больная. – И постараюсь дожить… Бог даст мне сил до завтра… И она упала без чувств на подушку. План Вальтера состоял в том, чтобы собрать синдиков всех корпораций города и просить их содействия для отыскания его дочери. На следующий день старшины собрались, и Вальтер рассказал им о похищении Марии и о бесплодной попытке добиться правосудия бурграфа. Они пришли в негодование и вскричали хором: – Это низко! Что за своеволие, что за несправедливость! – Герцог Монфортский употребляет во зло свою власть! – закричал синдик сапожников, – он забыл, что у нас свои привилегии, что мы не хотим отказаться от наших прав… Синьор бурграф забывает… – Что мы избрали его на место епископа Давида, – подхватил старшина цеха шляпников. – Много мы выиграли от этой перемены! – Да, Монфор хочет тоже угнетать нас, – горячился портной. – А между тем он обязан своим избранием мещанам Амерсфорта и именно корпорации портных. – Отчего же портных, а не перчаточников? – спросил синдик этого цеха. – Оттого, что портных больше в городе. Значит у них больше голосов. – Да и у пивоваров немало голосов, – заметил гордо наш старый знакомый, капитан национальной гвардии ван Шток. – А колбасники разве немые в городе? – закричал громовым голосом шеф колбасников. – Бурграф обязан всем корпорациям, – заметил Вальтер, – но он забыл это и не дорожит нами. – Он может в этом раскаяться, – проворчал портной. – Да, мы не позволим обижать себя. – Мы докажем, что амерсфортские мещане не бараны! – Напишем просьбу к бурграфу, – сказал ван Шток, горячась, – передадим ее нашему бургомистру, он созовет нас всех, выслушает наши жалобы и потребует удовлетворения. – Да, это прекрасно, – закричали мещане, всегда любившие торжественные собрания, где много рассуждают, но ничего не делают. – Все это очень долго! – вскричал Вальтер с нетерпением. – Надобно решиться на что-нибудь скорее, опасность близка… – Разве можно устраивать дела так скоро? – возразил шляпник. – Надобно дождаться ответа от бурграфа. – Какого ответа? – На просьбу, которую мы представим бургомистру. – Бургомистр не будет вам отвечать, или скажет то же самое, что и мне. – Чего ж вы хотите от нас, мастер Вальтер? – сказал пивовар. – Объяснитесь: мы готовы помогать вам, чем можем. – Только не требуйте от нас, – прибавил портной, – чтобы мы пошли осаждать Утрехт или лагерь Перолио. – Я не требую от вас невозможного, а прошу вас, добрые мои товарищи, чтобы вы назначили из городской стражи нескольких молодых людей, которые, вместе с моими работниками, отправятся на поиски по всем дорогам, от Зеста до Утрехта и до лагеря Перолио. Может быть они будут так счастливы, что откроют, где скрыта моя несчастная дочь. Ван Шток, вы капитан стражи, вы можете приказать вашим подчиненным.. – О, это очень важное решение, – отвечал пивовар нахмурясь. – Тут можно попасться и в руки Черной Шайки, – заметил портной, – а это очень неприятно. – Да, опасное предприятие! – добавил колбасник. – Но что скажете капитан? – Я скажу, – проговорил ван Шток торжественно, – что надобно хорошенько обдумать это дело. – Именно, я думаю так же, – подхватил шляпник, – и хотя все мы уважаем мастера Вальтера и принимаем участие в его горе, но… – Вы не сомневаетесь, конечно, в нашей привязанности к вам, мастер, – перебил пивовар, – но подумайте сами, можем ли мы жертвовать спокойствием целого города для ваших семейных дел? Мы можем лишиться наших прав. – Напротив, – вскричал Вальтер, – защищая меня, вы защищаете ваши права. Сегодня похитили безнаказанно мою дочь, завтра украдут вашу. – У меня нет дочери, – сказал колбасник. – Так вашу жену, – возразил оружейник. – Жену! – вскричал, смеясь, колбасник. – Ну, вряд ли найдется такой храбрец! Моя жена урод. – Тогда жену вашего соседа. – Мою-то? – заметил ван Шток. – Да она сладит с десятком разбойников. Вы видите, добрый Вальтер, что ваше горе не касается нас, и мы только из дружбы к вам беремся хлопотать. Я не боюсь опасности для себя, и готов тотчас же взять меч и идти с вами, но на начальнике городской стражи лежит большая ответственность. Если я разошлю солдат по дорогам, кто будет стеречь городские ворота? И разве можно это сделать без позволения бурграфа? – Ведь вы не спрашивали позволения вывести из города солдат, – возразил Вальтер, – когда капитан Салазар угнал ваших быков и баранов? – Это другое дело! – закричал ван Шток. – Тут дело шло о нашей собственности. – Действительно, – отвечал Вальтер иронически. – Как можно сравнивать собственность с честью девушки! Потеря быков и баранов гораздо важнее похищения из монастыря. – Неужели вы требуете, – вскричал с досадой ван Шток, – чтобы мы бросили наши дела и жертвовали жизнью для того, чтобы бежать за вашей дочерью? – А разве я не жертвовал жизнью, не потерял свободы из-за вашей скотины? – Потише, мастер, – заметил пивовар, – мы обсудим ваше дело. Друзья мои, извольте объявлять ваши мнения. Все на минуту замолкли и синдик портных, выступив вперед, начал: – Что касается меня и моей корпорации, признаюсь, что наше положение исключительно. Бурграф обыкновенно делает много заказов портным Амерсфорта… – Скажите прямо, что вам, – заметил Вальтер. – Да хоть и мне. Отчего мне не шить на бурграфа? Ведь вы продаете ему оружие. Все мы торговцы и должны заботиться о покупателях. Стало быть, если мы решаемся для вас подать просьбу бурграфу, этого, по моему мнению, достаточно. Я объявляю, что не намерен восставать и бунтовать против моего государя. – Да никто и не просит вас бунтовать, – закричал Вальтер, теряя терпение. – А разве начальник Черной Шайки не любимец бурграфа? Разве не все равно: тронуть мессира Перолио или самого бурграфа? – Да, – подтвердил перчаточник. – Хоть я порицаю безнравственность этого иностранца, но не соглашусь идти против него. Он берет у меня перчатки для всей своей шайки, и платит хорошо. Было бы неблагодарностью с моей стороны… – И шляпникам амерсфортским тоже нельзя восставать против бурграфа. Придворные бурграфа берут у меня шляпы, и Перолио сделал мне большой заказ. – Пивовары независимы, – сказал важно капитан ван Шток, – и не подчиняются никому; все они люди умные и серьезные и не хотят бунтовать из-за дела, которое очень печально, но которого можно было избежать. – Что вы хотите этим сказать? – спросил оружейник. – Что вы напрасно удалили вашу дочь из Амерсфорта. Здесь вы бы сохранили ее лучше, чем в Зесте, где нет никакой стражи. Здесь вся Черная Шайка не могла бы дотронуться до Марии, потому что все мы защитили бы ее. Но вы не доверили нашей честности и храбрости; вы обидели этим меня и моих солдат, и я не знаю, согласятся ли они теперь сражаться за вас. – Я обойдусь и без них! – закричал взбешенный оружейник. – Ваши храбрые воины бросят свои алебарды и побегут, как от солдат Салазара. – Ого! – вскричали мещане. – Вы оскорбляете нас, мастер? – Да, – продолжал Вальтер, горячась, – ступайте, кланяйтесь начальнику Черной Шайки. Если у вас нет дочери или жены, которых можно похитить, синьор Перолио все-таки найдет чем отблагодарить вас за ваши низости. Он не будет церемониться с такими людьми, он ограбит ваши лавки и перебьет вас на развалинах ваших домов… Прощайте, достойные мещане Амерсфорта. И Вальтер выбежал на улицу. – Каков! – заметил капитан пивоваров после ухода оружейника. – Как раскричался! А между тем, он заслужил то, что с ним случилось. Гордость погубила его. Он захотел выдать дочь за дворянина. Вот главная причина его несчастий. – Правда! Зачем выходить из своего класса? Он этим заставил обратить на нее особенное внимание. А нам что за охота ссориться из-за него с бурграфом? Каждый за себя. И мещане разошлись, очень довольные собой. Придя домой, Вальтер нашел свою жену еще слабее прежнего: она была в сильной лихорадке, и врач, приведенный патером ван Эмсом, не скрыл от оружейника, что жене его остается жить только несколько часов. Однако все они заботились о больной и подавали ей надежду. – Не говорите мне этого, – прошептала Марта, – у меня одна надежда – поскорее увидеться с Марией. Я молила Бога, чтобы он соединил меня с дочерью, и он исполнит мою просьбу. – Но ваша Мария не умерла, – отвечал патер, – мы уверены, что она скоро возвратиться к вам. – Это невозможно! – возразила умирающая глухим голосом. – Она умерла… должна умереть… Этот человек хотел ее обесчестить в родительском доме… Как же она избавиться от него, как не смертью… она умерла! – Я тебе уже сказал, Марта, – перебил Вальтер, – что этот злодей еще не видел нашей дочери. Она не в его власти. –: Он или другой… все равно. Всякий похититель злодей. Вальтер содрогнулся при этих словах. Ему не приходило на мысль, что другой разбойник может исполнить преступление, задуманное начальником Черной Шайки. Он опустился на кровать к ногам жены и закрыв лицо руками, вскричал с отчаянием: – Боже! Сжалься надо мной, не отнимай от меня последней надежды! Не лишай меня вдруг жены и дочери! Это слишком! Мой слабый рассудок не сможет перенести всех несчастий… Рыдания мужа разбудили Марту от предсмертного сна. Она посмотрела на него, и первая слеза со времени разлуки с дочерью показалась в ее потухших глазах. Она с трудом протянула руку Вальтеру, и сказала едва слышно: – Прости, мой друг… я огорчаю тебя… я не виновата. Двадцать лет мы жили вместе, и ты не мог упрекнуть меня ни в чем… я была самой счастливой женой… я люблю тебя, но я мать, и наша дочь еще теснее привязала нас друг к другу… Теперь чувство матери взяло верх, потому что наше дитя погибло… Вы оба дороги мне… я не пережила бы и тебя, Вальтер… Но Мария там, она зовет меня, прощай… – Да, мы были счастливы, – проговорил, рыдая, оружейник. – И вдруг злодей погубил троих разом. Где после этого правосудие? – Сын мой! – перебил ван Эмс, взяв Вальтера за руку. – Счастье посылается Богом, и мы должны быть ему благодарны и не роптать, когда несчастья постигают нас. Вспомните, что эта жизнь только испытание, только тернистый путь к вечному блаженству. Вальтер преклонил голову перед старым духовником; Марта впала в лихорадочный сон, а врач, держа ее руку, наблюдал биение пульса. Старая Маргарита стояла на коленях у кровати умирающей и молилась, удерживая рыдания. Тягостное молчание продолжалось целый час. Вдруг больная открыла глаза, черты ее оживились и, протянув руку Вальтеру, она проговорила, едва шевеля губами: – Вальтер! Вот она… Ты сказал правду, что я увижу ее сегодня… – Кого ты увидишь, Марта? – спросил оружейник, приподнимая ее немного. – Ее! Нашу Марию… Разве ты ее не видишь?.. она на облаках… манит меня… не удерживай меня, Вальтер… я хочу к ней… – Ты хочешь оставить меня одного? – проговорил муж, плача. – Что я буду без вас! – Так надо… она зовет меня… Вот я, мой ангел… прощай, друг… мы увидимся… И она упала на подушку без дыхания. – Умерла! – вскричал Вальтер. – Боже! Ты отнял у меня половину жизни, дай мне силы, чтобы я мог отыскать мою дочь или отомстить за нее. И упав на колени перед кроватью, он схватил руку жены и покрывал ее слезами и поцелуями в то время, как Маргарита громко рыдала, а патер читал молитвы. Жители Амерсфорта были опечалены смертью Марты, которую все любили. Те же самые мещане, которые поутру казались эгоистами и бесчувственными, пришли утешать бедного Вальтера и плакать с ним. Они предлагали созвать все корпорации, чтобы проводить покойницу на кладбище, но Вальтер отказался. – Я больше не синдик и не гражданин Амерсфорта, – сказал он. – Я отказываюсь от моих прав и привилегий. Я один с моими домашними провожу Марту и благодарю вас за ваши предложения. Действительно, работники оружейника несли гроб бедной матери, за которым шел Вальтер и Маргарита. Все жители улиц, по которым тянулось шествие, вышли из домов и плакали искренно о несчастьях семейства, которому еще недавно все могли завидовать. Окончив печальную церемонию, Вальтер поспешил привести в исполнение свой план. Он хотел навсегда оставить Амерсфорт и отправиться в Дурстед, к Шафлеру и Франку, чтобы вместе с ними уговориться, как спасти Марию, или отомстить за нее. Он позвал своего первого работника. – Вильгельм, – сказал он, – ты честный, умный и трудолюбивый малый. Все двенадцать лет я ни разу не замечал за тобой ничего дурного, и в последнее время ты доказал мне свою преданность. Я выбираю тебя моим приемником. Ты будешь хозяином «Золотого Шлема». Вильгельм хотел что-то сказать, но Вальтер продолжал: – Завтра ты поступишь в цех мастеров и я заплачу за тебя, что следует. – Мастер, у меня есть немного сбереженных денег, – проговорил работник. – Знаю, что ты бережлив, но твои деньги еще пригодятся тебе. Я передаю тебе все мое заведение и магазин, наполненный оружием; отдаю тебе также мой дом, только прошу оставить старую Маргариту в ее комнате и кормить ее до самой смерти. Она уже стара, и ей надобно немного. Обещаешь ли ты заботиться о старухе? – Я буду уважать ее, как свою мать. – Теперь остается оценить все мое имущество и собраться в дорогу. Вальтер передал все Вильгельму, устроил свои дела, зашил порядочную сумму в кожаный кушак, отдал остальные деньги на сохранение ван Эмсу, потом обошел все комнаты дома, построенного его отцом, где он был так счастлив, обнял старую Маргариту, простился с работниками и выбежал на улицу. Тут он остановился и в последний раз посмотрел на вывеску «Золотого Шлема», как бы прощаясь со всем, что привязывало его к жизни.IV. Спасение
Но что же случилось с дочерью оружейника? Куда отвел ее Фрокар? Вернемся к той минуте, когда ван Шафлер поручил Франку проводить Марию из монастыря в Дурстед. Сам Шафлер хотел дождаться ее в небольшом селении по дороге в Дурстед, но когда собрался ехать, за ним прислал епископ Давид и ослушаться не было никакой возможности. Епископ был в большом волнении. Он только что узнал о взятии блокгауза, и это его сильно опечалило, тем более, что на последнем военном совете Шафлер предсказал, что форт этот будет взять, и предлагал предупредить это нападением на Утрехт, но, по всегдашней своей нерешительности, Давид отложил эту меру, и теперь раскаивался искренно, что не послушался самого верного из своих приверженцев. Гордый бургундец принял Шафлера очень ласково и просил его тотчас же отправиться в селение Гильверсум, и оттуда действовать по своему усмотрению, не допуская удочек занимать другие места. Грустно было Шафлеру оставлять Дурстед в такую минуту, когда он ждал свою невесту, но обязанность воина не позволяла ему думать о своих чувства. Он собрал войско и готов был пуститься в путь, когда явился Франк с ужасной вестью. Граф побледнел и зашатался, так поразил его неожиданный удар, однако перед войском надобно было скрыть свои чувства. Видя все приготовления к отъезду, Франк думал, что Шафлер пойдет освобождать Марию или отомстит за ее честь, но как ни сильно было отчаяние жениха, долг рыцаря был выше, и он отвечал Франку: – Мне невозможно идти, куда меня зовет сердце. Если бы я был свободен, то поскакал бы прямо в блокгауз и вырвал бы Марию из рук злодея. Но я начальник этих солдат; мой государь дал мне важное поручение, и если я не оправдаю его доверие, то лишусь чести. Я готов жертвовать жизнью для спасения Марии, но не имею права вести моих воинов на верную гибель. Франк понимал, что граф справедлив и не может поступать иначе, но он был еще слишком молод, пылок и не привык к военной дисциплине, чтобы остаться довольным этим решением воина, жертвующего долгу своими лучшими чувствами. Названный брат Марии повиновался только движениям своего сердца и хотел возражать Шафлеру, как вдруг пришел приказ от епископа двинуться в путь. Граф ван Шафлер молча выехал из Дурстеда со своими всадниками, приказав Франку прибыть на другой же день в Гильверсум со стрелками и обозами. Действительно, на другой день Франк был на своем посту, но тут они узнали, что Перолио оставил блокгауз со своей шайкой и стоит лагерем у селения Эмн, которое лежит на выгодной местности. – Слава Богу! – вскричал Шафлер. – Теперь я могу отомстить, не изменяя присяге солдата. Я могу напасть на Перолио и его лагерь, и овладеть селением, которое очень важно для нашего государя. Похититель и поджигатель будет, наконец, наказан. Но так как, вероятно, лагерь Перолио был укреплен и хорошо охраняем, надобно было послать кого-нибудь для его осмотра. Ремесло шпиона было всегда опасно, но за деньги всегда найдутся люди, готовые жертвовать своей жизнью, и потому тотчас же явился человек, который вызвался проникнуть к Перолио и разузнать все. Мысль – проникнуть к Перолио – поразила Франка. Он решился сопровождать шпиона и, несмотря на все предостережения Шафлера, настаивал на том, что сам узнает вернее об участи Марии. Притом шпион был крестьянином из Эмна и не мог возбудить подозрения. Шафлер не хотел удерживать молодого человека и, обняв его, сказал: – Ступай с Богом, брат, и будь благоразумен. Через несколько часов после ухода Франка с крестьянином, в палатку Шафлера вошел пастух Ральф, желавший видеться со своим приемником. Граф рассказал ему происшествия последних дней и сказал, что Франк отправился в лагерь Перолио. – Напрасно вы его отпустили! – вскричал старик с необыкновенной живостью. – Он пошел на верную смерть. Бедный Франк! – И прежде чем граф мог ему отвечать, Ральф выбежал из палатки, и скрылся вдали. Через четыре дня оружейник прибыл в лагерь и сообщил Шафлеру о смерти Марты и о том, что неизвестно, где находится Мария. – Сколько дней прошло с тех пор, как вы говорили с оруженосцем бандита? – спросил граф. – Шесть, – отвечал Вальтер, – потому что я прошел еще понапрасну в Дурстед. – И вы полагаете, что в эти шесть дней, разбойники, похитившие Марию, не нашли средства провести ее к начальнику Черной Шайки? Этого нельзя думать. Несчастная или во власти злодея, или умерла. И молодой человек в сильном волнении закрыл лицо руками; отец оставался неподвижным и безмолвным, но на лице его выражалось страшное отчаяние. Оба эти человека мрачно посмотрели друг на друга. Оба они желали скорее смерти девушки, чем ее бесчестья. Наконец, Шафлер вскричал громовым голосом: – Если мы не можем спасти ее, то можем, по крайней мере, отомстить. Епископ позволил мне распоряжаться военными действиями, и я, вместе с храбрым капитаном Салазаром и губернатором Голландии, хочу напасть на главные силы бурграфа. Надобно дождаться только возвращения Франка и крестьянина, чтобы иметь верные сведения о силе неприятеля. Однако Франк не возвращался, и на это было достаточные причины. Выйдя из Гильверсума с крестьянином, который вел теленка и свинью, как будто на продажу, они на другой день прибыли в Эмн. Это довольно большое селение с одной улицей, при начале и при конце которой возвышались церкви, окруженные кладбищами. Улицу пересекал широкий канал, проведенный из реки Эмс, и через него вел дощатый мост без перил. Окрестности Эмна были болотисты. При входе в селение, со стороны Утрехта, стоял отряд наемников ван Нивельда, и с этой-то стороны Франк и крестьянин решили пройти. Их пропустили беспрепятственно, но посреди селения два солдата остановили их и начали допрашивать. Солдаты удивлялись, отчего они не могли продать теленка и свинью, и когда крестьянин отвечал, что ему давали очень дешево, один из солдат вскричал смеясь: – А кажется, теленок-то вкусный, я бы охотно попробовал его! – Что же, купите, я возьму с вас недорого, – сказал крестьянин. – Не дорого… да сам-то ты кто? Ты мне кажешься подозрительным; не правда ли, товарищи, что он похож на неприятельского шпиона? – Да, похож, – подхватили подошедшие солдаты. Крестьянин побледнел и не знал, что сказать, но Франк дал ему знак оправиться, и он отвечал: – Какой я шпион? Меня здесь знают. Вы подержите моего теленка, а я позову сюда моих знакомых, которые докажут, что я здешний житель и честный человек. Только уж вы поберегите моего теленочка. – Хорошо, только поторопись, приятель, если хочешь увидеться с ним, – заметил солдат, смеясь. – Я уверен, что вы не захотите обидеть бедных людей, – проговорил крестьянин и, в душе прощаясь с теленком, оставил его в руках солдат, а сам с Франком и поросенком пошел далее. Франк с вниманием осматривал укрепления, частью оконченные, частью строящиеся. Он заметил, что в канаве вбиты колья, чтобы сделать атаку с этой стороны невозможной. Перед мостом были укрепления на обеих сторонах, для остановки неприятеля. За мостом селение стерегли воины Перолио, ставившие везде палисады, втаскивавшие маленькие пушки на стены кладбища, куда вход был завален огромными бревнами, из-за которых стрелки могли безнаказанно пускать стрелы. Однако наблюдая за работами, Франк не забывал главной цели, приведшей его в Эмн. Надобно было открыть, где Мария и, если она здесь, то пробраться к Перолио и спасти ее или убить ее похитителя. Это был смелый, безумный план, но Франк решился исполнять его, или умереть. Прежде всего надобно было расспросить или заставить разговориться кого-нибудь из солдат-итальянцев. Для этого он вошел в кабак, где сидело несколько бандитов, смело сел возле них и приказал подать себе пива, а крестьянин сказал, что отведет свинью домой и будет ждать товарища у церкви, в конце селения. Солдаты, видевшие, что оба эти человека прошли свободно по мосту, были уверены, что они здешние, и не думали подозревать их. Они продолжали между собой разговор, не обращая внимания на Франка, прислушивавшегося к их словам. – Ты говоришь, что этот проклятый Фрокар вернулся? – спросил один бандит. – Говорю, потому что видел, как он вошел к капитану. Я стоял на часах, – отвечал другой. – Стало быть треска не утопила его, как прошли слухи? – К несчастью нет. Он умрет не от воды, так же как и мы. Выпьем еще. – Дьявол спас его для нашего горя. Без него не было в лагере ни одной казни; теперь не пройдет и двух дней, чтобы кто-нибудь не был повешен. – Что ты пророчишь беду. Смотри, не накличь на себя петлю. – Ведь надобно же как-нибудь кончить. Не все равно, в воздухе или на земле, только я ненавижу Фрокара. – А привез он с собой девочку? – Разве ты знаешь, зачем он ездил? – Как же! За дочерью оружейника, из-за которого нам чуть было не досталось! – вскричал Рокардо. – Ну так я понимаю теперь, отчего капитан был так доволен. – Стало быть, Фрокар, привел красавицу с собой? – Нет, он оставил ее где-то близко. Я ходил перед дверью на часах и слышал отрывки разговора. Фрокар все рассказывал свои похождения, а капитан смеялся и потирал руки от удовольствия. Франк слушал с замиранием сердца, хотя по-видимому, был занят своим пивом. – Проклятый монах! – вскричал Рокардо. – Ему опять достанется порядочная сумма. – А нам ничего. – Да, капитан заплатит ему дорого, – продолжал часовой, – потому что он наказывал ему быть как можно осторожнее. А когда Фрокар спросил, привести ли эту особу сюда, капитан отвечал: «Нет. Пусть она останется там, там ей хорошо». – А где она? Франк весь обратился во внимание. – Он не говорит о том, или я недослышал, только капитан прибавил: «Завтра я поеду в Амерсфорт, к бурграфу, и оттуда заеду к ней». – И больше ты ничего не слыхал? – Ничего. – И Фрокар ушел? – Да, только капитан приказал ему, чтобы завтра он был здесь, потому что он будет нужен. – Ведь я говорил, что этот мошенник опять войдет в милость. Берегитесь, он доберется и до нас. В эту минуту в кабак вошел еще один солдат и позвал Рокардо и его товарищей помогать переносить бревна. Все вышли тотчас же, и Франк остался один. Хоть он не узнал, где скрыта молодая девушка, но не мог не радоваться и тому, что Мария еще не видела Перолио. Однако, опасность была близка, нельзя было терять времени. Перолио на другой же день хотел увидеться с ней. Но где? Это знали только Перолио и Фрокар. – Остается одно средство, – проговорил тихо Франк. – Надобно задержать Перолио здесь… во что бы то ни стало… надобно убить его. Для этого необходимо было узнать, где живет начальник Черной Шайки. Молодой человек обратился к хозяину кабака. Уплачивая за пиво, он спросил, в самом ли селении живет итальянский капитан. – Не совсем в селении, – проворчал хозяин. – Здесь живет его лейтенант, а сам он стоит вон в той ферме, в конце дороги. И он показал Франку уединенный сельский домик. Молодой человек вышел из кабака и направился к тому месту, где его ждал крестьянин в сопровождении своей свиньи. Оба они отправились прямо к ферме, и Франк учил дорогой, что должен делать крестьянин. Без сомнения, Перолио был не один. При нем были, вероятно, воины, и надобно было найти предлог вызвать их из дома и пробраться туда незаметно. Перед фермой Франк отошел от своего товарища, и тот начал петь и кричать, как пьяный и принялся колотить свою свинью, которая не нашла нужным молча переносить побои и потому составился такой дикий дуэт, что стражи Перолио вышли из дома, узнать причину шума и подошли к интересной группе на дороге. – Ах ты разбойник! Ах ты подлец! – кричал крестьянин, пошатываясь как пьяный и колотя животное без милосердия. – Я тебя проучу надувать меня… Разве так ведут себя порядочные свиньи? Проси прощения, бесстыдница… или я тебя убью. Солдаты громко захохотали, видя борьбу пьяницы со свиньей. – Эй ты! – закричал один из них. – За что ты обижаешь подобного себе? – Как за что? Эта бестия ведет себя так дурно, что никто не хотел купить ее на рынке. Я должен вести ее домой и опять кормить. Нет, голубушка, ты не дождешься этого… Я тебя так отколочу, что ты околеешь, не дойдя до дома. Солдаты, числом до десяти, продолжали смеяться. – Да перестань же, – сказал один. – Мы не позволим обижать невинность. – Что! Вы хотите защищать эту толстую дуру? – вскричал крестьянин запальчиво. – Да, хотим! И теперь ты должен стать на колени перед свиньей и просить у нее прощения, а не то мы поколотим тебя. – Как же! Так я и позволю вам. Нет, я позову моего работника и велю ему зарезать свинью, вот и будет ей прощение. И хитрый крестьянин бросил свинью под ноги солдат и побежал от них, в полной уверенности, что за ним не погонятся. Действительно, стражи Перолио старались только поймать животное, чтобы полакомиться им. Покуда происходила эта сцена и солдаты толпились вокруг крестьянина и свиньи, Франк, пользуясь сумерками, пробрался незаметно внутрь дома. Он очутился в темной комнатке, которую запер за собой. Тут он прождал немного, желая, чтобы крестьянин ушел подальше и, если его схватят, то не подозревали бы больше никого. Наконец он услышал, что воины, смеясь, тащили свинью в сарай, потом некоторые подошли к дому и заперли двери. Вероятно, все они отправились готовить себе ужин. Франк подождал еще немного, потом вышел тихо из комнаты. Несмотря на темноту, он не мог заблудиться, потому что знал расположение всех сельских жилищ, в которых были обыкновенно всего три комнаты в нижнем этаже, и самая большая назначалась для хозяина. Вероятно, в ней помещался Перолио. Молодой человек нашел ощупью дверь, отворил ее и при слабом свете лампы увидел похитителя Марии, лежавшего на постели и крепко спавшего. Никогда не мог представиться случай удобнее. Бандит был обезоружен, один, грудь его была открыта… Один шаг, одно движение и кинжал пронзил бы злодея. Но Франк не решался, он стоял неподвижно перед своим смертельным врагом, потому что этот враг спал и был беззащитен. Франк чувствовал, что убить спящего не благородно, что храбрый, великодушный Шафлер не одобрит своего друга, и даже Мария будет краснеть за своего названного брата. При этой мысли он побледнел и рука с кинжалом опустилась. – Нет, я не убью его сонного! – проговорил он громко топнув ногой. – Пусть он проснется и защищается, я хочу победить его в честном бою. Эти слова и шум разбудили Перолио. Увидев перед своей постелью человека с кинжалом и сверкающими глазами, он подумал, что это продолжение сна, но через секунду понял, что перед ним убийца. Не выказывая ни малейшего страха, он привстал и спросил Франка, принимая его за простолюдина: – Что тебе надобно? – Разве ты не понимаешь, зачем я здесь? – отвечал Франк, показывая кинжал. – Ты хочешь меня убить? – Если бы я был убийцей, то не разбудил бы тебя, и поразил, покуда ты спал. Защищайся теперь, бери оружие. – Мне драться с тобой? Это смешно! Подобных тебе я вешаю на первом дереве, а не дерусь с ними. Ты очень глуп, что не воспользовался случаем и не убил меня, когда мог. Ты будешь строго наказан за свою неловкость. И говоря это, Перолио, не переменяя положения, дотронулся до звонка, который зазвучал громко и в комнату вбежал Видаль с некоторыми воинами. – Хорошо вы стережете меня! – вскричал капитан грозно. – Этот крестьянин пробрался ко мне во время моего сна, и если бы не струсил, ваш начальник был бы убит. Воины с ужасом и недоумением смотрели на Франка. – Завтра, – продолжал Перолио, – я разберусь, кто виноват в этом и накажу виновных так, что они долго не забудут. Теперь возьмите этого бездельника, дайте ему сотню палочных ударов и повесьте на первом дереве. – Разбойник! – вскричал Франк, раскаиваясь в своем великодушии. – Ты прав: я был глуп, что не убил тебя, как собаку, но меня удержала не трусость, я не хотел быть таким же подлецом, как ты. Ты предпочитаешь убить меня, когда должен был драться со мной. Ты уже не в первый раз в моих руках, и я мог бы раскроить тебе голову молотком, когда ты в первый раз вздумал оскорбить невинную молодую девушку. Если бы меня не удержали, твои злодейства не довели бы до отчаяния целое семейство. Перолио вгляделся в молодого человека. – Узнаешь ли ты его, Видаль? Это работник оружейника, который смел угрожать мне и убил одного офицера бурграфа. Он убежал от виселицы и Шафлер взял его к себе. Теперь я понимаю, зачем он хотел убить меня. Надобно отложить казнь и судить его публично, как шпиона и убийцу. Пусть Шафлер порадуется. Видаль, заприте пленника и стерегите его до прихода Фрокара. Берегитесь, если он убежит. Франк посмотрел с презрением на бандита и не сопротивлялся солдатам, которые притащили его в конюшню, связали руки и ноги, и потом привязали к яслям так, что он не мог сделать ни малейшего движения. Два солдата остались в конюшне, с приказанием не спускать с него глаз. Франк понимал всю безнадежность своего положения, и так как одно мщение привело его в лагерь неприятеля, он должен был отбросить совесть и убить злодея. Теперь все было потеряно, и его смерть не могла принести пользы Марии. Целый час прошел в молчании и в горьких размышлениях, как вдруг часовые почувствовали запах жареной свинины. Товарищи их угощались в соседнем сарае и солдаты тоже захотели попробовать лакомого кушанья. Пленник привязан крепко, дверь можно запереть и побежать на минутку в соседний сарай. Переговорив между собой, часовые тихо вышли из конюшни и заперли дверь. В эту же минуту на крыше сарая открылся трап, оттуда опустилась веревка и по ней спустился человек. Франк поднял голову – перед ним стоял Ральф. Читатель помнит, что после ухода молодого человека старый пастух пришел в лагерь Шафлера и побежал в Эмн, чтобы спасти своего воспитанника от опасности. Он был задержан в пути прорванной плотиной, но все-таки шел по следам Франка и был у фермы в ту минуту, когда солдаты с проклятиями вели пленника в конюшню и грозили ему страшной казнью на покушение на их начальника. Старик, спрятавшись за углом, выжидал удобного момента, чтобы спасти Франка. Он видел, как солдаты приготовили себе на ужин свинину и, пробираясь осторожно между строениями, нашел лестницу, влез на крышу конюшни, нашел трап в сеновале, зажег фонарь и когда увидел, что часовые вышли, спустился быстро по веревке. Как описать радость молодого человека, когда он узнал своего старого друга?! – Тише, – прошептал старик, развязывая веревки и освобождая Франка. – Ни слова, ни одного лишнего движения, если не хочешь погибнуть. Бери веревку и полезай вверх, я следую за тобой. Молодой человек молча обнял пастуха и в несколько секунд был на сеновале; старик также скоро и ловко взобрался наверх, осторожно закрыл трап, потом оба они вылезли на крышу в слуховое окно, спустились на землю по лестнице и, пробираясь через огород, побежали от фермы. Но это было еще не все. Надобно было пройти весь Эмн, наполненный солдатами, а в такую позднюю пору никто не выходил из домов. Чтобы обойти часовых, беглецы спустились к самой плотине и пошли по болотам, пересекаемым ямами. Если бы Ральф не знал хорошо местности, они, вероятно, утонули бы или завязли в болоте. Старик шел впереди, ощупывая землю своим посохом, Франк следовал за ним молча, боясь не за свою жизнь, а за своего благодетеля. Через несколько минут они услышали за собой наверху плотины конский топот и голоса людей. – Это меня ищут! – сказал Франк. – Может быть, – отвечал пастух, – только тебя еще не нашли. И свернув с дороги, он углубился дальше в болото, где погоня была невозможна. Так они дошли до того места, где река разделяла селение на две части. Пройти по мосту, охраняемому с одной стороны Черной Шайкой, а с другой солдатами ван Нивельда, было бы безумием, и потому Ральф, попробовав глубину реки, сказал тихо: – Брод не опасен. Вода будет мне по пояс. Садись мне на спину; я перенесу тебя. – Как батюшка, ты хочешь… – Не отговаривайся, я так хочу, – сказал старик решительным тоном и, вбросив себе на плечи молодого человека, вынес его на противоположный берег. Но здесь берег был плоский и нельзя было пройти незаметно. Ральф остановился и сказал Франку: – Выбирать не из чего, сын мой, надобно пройти через селение. Иди за мной и, когда часовые окликнут нас, ты остановись, пока я пойду к ним. Когда же я ударю палкой по палисадам моста, ты беги вперед, не оглядываясь и не останавливаясь до конца селения. – Но что будет с вами? – За меня не бойся! Мне не угрожает никакая опасность, но тебя, сын мой, я прошу и даже приказываю тебе властью, данной мне твоими родителями: ступай прямо в лагерь Шафлера и откажись от роли убийцы. – Я не убийца, батюшка, я не убил его, хотя и мог это сделать. – Однако мысль о мщении и убийстве привела тебя сюда, Франк! Твоя безумная, преступная любовь внушила тебе это мщение, и если бы я не спас тебя, ты бы погиб завтра смертью убийцы. Разве честные люди умирают на виселице? – Простите меня, отец мой, я увлекся, не подумал… – Старый Ральф прощает тебя охотно… только обещай мне быть человеком и забыть свою любовь. – Клянусь, что Мария будет мне сестрой и что даже мыслью я не оскорблю невесты графа Шафлера. – Хорошо. Теперь дай мне руку. Мы, может быть, долго не увидимся… Не забудь сигнала. Пойдем к мосту. Ральф направился к мосту, и часовой, услышав шаги, закричал: – Кто идет? Франк остановился. – Друг и удочка, – отвечал пастух. – Откуда ты, приятель? – спросил часовой. – С тойстороны. – Да ты верно переплыл реку – ты весь мокрый. – Будешь мокрый: моя лодка опрокинулась, задев за ваши проклятые колья. – А что ты ночью делал на реке? – Известно что: ловил рыбу, а теперь, когда выкупался, поневоле иду домой. – Мы не можем тебя пропустить, – сказал другой солдат. – Отчего же? – Оттого, что какой-то молодой бездельник хотел убить капитана Черной Шайки и убежал. – Разве я похож на молодого? – Это не наше дело. Нам приказано брать всех, кто захочет выйти из селения. – Меня все знают здесь. Спросите, кого хотите, все назовут вам пастуха Ральфа. – Тем лучше для тебя. Полно разговаривать и пойдем на ту сторону моста. Мы передадим тебя солдатам Перолио. Старик начал сопротивляться, воины бросились на него; в это время он ударил посохом по палисадам. Пользуясь суматохой и темнотой Франк пробежал мимо них и через несколько минут был в конце селения. Там он остановился, прислушиваясь, и хотел вернуться, чтобы узнать, не случилось ли что с Ральфом, но не смел ослушаться строгого приказа старика и пошел дальше. Оставалось пройти одно кладбище, где тоже стояли часовые. Франк осторожно пробирался, прижимаясь к стене, как вдруг луна вышла из-за облаков и осветила всю фигуру беглеца. Часовой окликнул его но, не получив ответа, пустил стрелу, которая попала в ногу Франка, и он упал. Рана была не опасна, но он не мог бы бежать, но подоспели другие солдаты и отвели его прямо в дом, занимаемый мессиром ван Нивельдом и графом Рюисом. Хотя было уже заполночь, но благородные фламандцы еще не спали и пировали, вот по какому случаю: В то время наемные войска получали жалование очень неаккуратно, потому что у начальников партий сундуки были часто пусты. Во избежание восстаний капитаны войск часто продавали и закладывали свои вещи, чтобы выплачивать им часть жалования. В это время в Утрехте жил богатый ростовщик Соломон Берлоти, который охотно снабжал деньгами всех нуждающихся, только под верные залоги. Он не разбирал партий, только бы ему давали большие проценты. Перолио был знаком ему давно, еще в Италии и во Франции и, по его совету тот переселился в Нидерланды, где во время междоусобий всего выгоднее было торговать. Ростовщик давал в долг епископу Давиду и бурграфу Монфортскому, и губернатору Голландии, и Перолио, и Салазару, и удочкам и треске, словом всем, кто мог обеспечить долг хоть будущим грабежом. Ван Нивельду тоже понадобились деньги, и он обратился к Берлоти. После многих переговоров дело было сделано и сам ростовщик принес деньги капитану. Вот по какой причине ван Нивельд праздновал и угощал Берлоти. Все начальники удочек были приглашены на пир, кроме Перолио, которого ван Рюис не хотел видеть после смерти бедного своего родственника Баренберга. Праздник был блистательный. Французские вина лились в изобилии. Из Утрехта привезены были цыганки и комедианты, забавлявшие гостей песнями, плясками и представлениями. В то время подобные увеселения были необходимостью каждого пира. Между цыганками одна молодая девушка отличалась необыкновенной красотой. Она была в коротеньком голубом платье, усеянном золотыми звездочками, не скрывавшем ее прелестных форм. Густые, черные волосы лежали локонами на ее античной шейке и на них надет был венок из васильков. Талия ее была стянута золотым кушаком, богатые браслеты и кольца украшали руки, но ярче камней блистали черные, страстные глаза красавицы Жуаниты. Когда она пела свои фривольные песни или танцевала, гости не могли удержаться от восторга и громко ей апплодировали. Особенно старый ростовщик не мог налюбоваться на хорошенькую плясунью, и когда она подошла к столу с подносом, чтобы собрать дань в пользу артистов, он забыл свою обычную скупость и бросил две серебряные монеты. Ван Рюис смеялся от души над влюбленным и шепнул Жуаните, когда она была возле него: – Твои глаза свели с ума старого богача. – Не зевай, Жуанита, – прибавил ван Нивельд. – Начало сделано, старик готов осыпать тебя золотом. – Благодарю мессиры, – отвечала девушка, – мне не нужно подарков. – Напрасно гордишься, красотка, – возразил ван Нивельд. – Берлоти может купить всю Голландию и подарить ее тебе, если ты только захочешь. – Не захочу, – отвечала девушка и пошла подальше. Старик ростовщик не спускал с нее глаз и когда увидел, что все дворяне кладут на поднос золотые монеты, вынул, вздохнув, золотой флорин и подозвал Жуаниту. Однако он долго не выпускал монету из дрожащих рук, глядя на красавицу и, взяв ее за талию, шепнул ей, касаясь губами ее атласного плеча: – Ты прекрасна, дитя мое. Приходи в Утрехт к Берлоти и ты увидишь много сокровищ, браслетов, кушаков, великолепных венецианских материй… Но молодая цыганка вырвалась из рук старика, не дослушав его обещаний, и подошла к товарищам. Гости начали смеяться над неудачей Соломона, но ван Нивельд вскричал: – Напрасно вы думаете, что почтенный наш банкир отвык от волокитства. Еще вчера я видел у него хорошенькую девушку, которая показалась мне очень испуганной. – Вы ошибаетесь, мессир, – отвечал ростовщик, довольный замечанием капитана. – Я не хочу присваивать себе чужих побед. Эта девушка… родственница моего друга. – Не обманывайте нас, не верим! – вскричал ван Нивельд. – Клянусь, я только оказал гостеприимство этой красавице. – Гостеприимство не дается даром, да еще хорошеньким женщинам. – Нет, мессиры, – продолжал старик еще веселее, – я не намерен ссориться с моим могущественным другом и покровителем. – Назовите этого таинственного друга. – Это мой соотечественник, знаменитый Перолио. Его служитель Фрокар привел мне эту девушку с просьбой дать ей убежище на несколько дней, и я сам не знаю кто она и откуда. Вероятно, вино и красота Жуаниты развязали язык осторожного Берлоти, потому что он обещал Фрокару не говорить никому ни слова о пленнице. В эту минуту вошел офицер и доложил ван Нивельду, что на кладбище поймали молодого человека, который хотел бежать из селения и не отвечает на вопросы. – Вероятно, это тот самый, который покушался убить начальника Черной Шайки, – прибавил офицер. – Свяжите его покрепче и завтра по утру сведите к Перолио. Пусть он сам повесит его. Говоря это, ван Нивельд сожалел в душе, что убийца был неловок и не успел зарезать итальянца, которого все ненавидели. Через несколько минут Жуанита с ее товарищами простились с гостями, и старик опять приглашал цыганку навестить его в Утрехте. Проходя по нижней зале, где стояла стража, Жуанита увидела в углу связанного Франка, бледного и окровавленного. Она узнала того, кто спас ее от грубых солдат и кого она потом спасла от Фрокара. Черты молодого человека врезались в память плясуньи, но Франк почти забыл о цыганке. Припомнив слова ван Нивельда, Жуанита поняла, какая участь ожидает Франка, и в голове ее мелькнула мысль спасти его еще раз. Она развязно подбежала к офицеру и сказала ему твердым голосом: – За что это, мессир, вы обижаете этого бедняка? Он привез нас сюда на телеге. – Этот разбойник приехал с вами, моя красавица? – спросил лейтенант Йост, любуясь цыганкой. – Он совсем не разбойник, а честный малый, – возразила девушка еще смелее. – Он всегда нас провожает из Утрехта; неправда ли, друзья мои? – прибавила она, обращаясь к товарищам. – Правда! Правда! – закричали цыгане, понимая в чем дело, и соглашаясь со своей любимицей. – Да вы его ранили! – вскричала Жуанита жалобно, увидев кровь на одежде Франка. – Какие вы злые. Франк не знал, что подумать о девушке, принимавшей его за другого, но офицер возразил недоверчиво: – А зачем он старался убежать из селения, зачем не отвечал, когда его спрашивали? – По очень простой причине. Он глух и пошел за нашей телегой, которую мы оставили за кладбищем. Погодите, я поговорю с ним. И нагнувшись к Франку, она прокричала ему на ухо: – Зачем ты не подождал нас, Тоби, и куда ты хотел идти? – Я хотел посмотреть нашу лошадь, – отвечал Франк, поняв, что хорошенькая цыганка хочет его спасти. – Снимите же с него веревку, мессир, – хлопотала девушка. – Нам пора ехать. – Погоди, моя красоточка, – сказал Йост. – Мне приказано доставить этого молодца начальнику Черной Шайки. – Да ведь он не преступник, вы теперь уверены в этом… – И все-таки я не смею… – Ну, так вы сейчас получите приказание, – сказала Жуанита и смело вернулась в залу пира. Лейтенант последовал за ней. – Мессиры, – проговорила она ласковым голосом, обращаясь к ван Нивельду и ван Рюису. – Ваши храбрые воины ошиблись. Они взяли и ранили бедного крестьянина, который привез нас сюда в своей телеге. Прикажите, чтобы его отпустили, и чтобы он довез нас до Утрехта. – Спрашивай об этом не у нас, а у оруженосца мессира Перолио, – сказал ван Нивельд, показывая на Видаля, который был прислан с известием, что начальник Черной Шайки отправляется поутру в Утрехт и сдает начальство ван Нивельду. Жуанита задрожала, Франк должен был погибнуть. – Что такое? – спросил Видаль Йоста. – Вы поймали кого-то? – Да, какого-то дурака, и думали, что он убийца. – Наш Тоби убийца! – вскричала цыганка, заливаясь веселым смехом, хотя сердце ее сжималось от ужаса. – Да он такой трус, что не убьет и цыпленка. Мессир оруженосец, – прибавила она, обращаясь к Видалю. – Помните, три дня тому назад, вы встретили всю нашу труппу на дороге в Утрехт? Я не забыла этого… и, кажется, вы тоже удостоили меня вашим вниманием. Наш Тоби правил тогда лошадью. Видалю было очень лестно, что такая красавица заметила его, однако он отвечал: – За что же арестовали Тоби? Верно подозревали его… – Он не отвечал на оклик часового, – сказал Йост. – Разве глухой может отвечать вам? – вскричала девушка, смеясь. – Разве глухота преступление? – Нет, красотка, – возразил ван Рюис, – и если ты отвечаешь за нравственность своего кучера… – Отвечаю головой! – вскричала цыганка, обводя огненными взглядами все собрание. – Ого! Это такой драгоценный залог, – заметил ван Нивельд. – Я тоже верю тебе, цыганочка, – сказал Видаль, – только подожди немного. Я передам мои поручения мессиру начальнику, а потом пойду с тобой и посмотрю на Тоби. – Что на него смотреть! – вскричала девушка, бледнея. – Ведь вы его видели третьего дня, вы даже улыбнулись, посмотрев на его доброе лицо. – Ты хочешь сказать – глупое. – Действительно, – заметил Йост, – молодец должен быть глуп. Никто не добился от него ни слова. – Как же он может сделать какое-нибудь зло? – продолжала Жуанита. – Нам пора в Утрехт, мессиры, мы не умеем править лошадью, отпустите Тоби. – Пусть он идет, – сказал Видаль любезно. – Благодарю, – проговорила цыганка, глядя на него нежно, и хотела уйти. – Погоди, красавица, – вскричал ван Нивельд. – За твоего неоценимого кучера надобно заплатить выкуп, а то мы его не выпустим. – Выкуп? – повторила девушка и открыла своей мешочек с деньгами. – Ты должна перецеловать всех нас. – Это очень дорого, – сказала Жуанита, краснея, – но что делать… я заплачу. И она с легкостью танцорки обежала вокруг стола и дотронулась губками до щек всех гостей. На другое утро, чтобы не пропадала веревка, приготовленная для Франка, Перолио приказал повесить двух солдат, стоявших на часах в конюшне и вышедших полакомиться свиньей. Фрокар, для примера, повесил их на колокольне, и вместе с ними поместил и голову свиньи, которую накануне они не успели доесть.V. Крепость скупого
В сказке, придуманной Жуанитой для спасения Франка, была часть правды. Действительно, телега с лошадью ждала их за селением и возничий по имени Гоби, глупый на вид, дожидался их. Это было очень кстати для Франка, Потому что рана его, хотя и легкая, мешала идти пешком. Молодой человек расположился очень удобно на подушках, принесенных Тоби неизвестно откуда, и Жуанита села возле него, чтобы поддерживать его голову и защищать от толчков. – Так вы меня не узнали? – спросила она Франка, когда они отъехали немного от Эмна. Франк признался, что не помнит, где встречался с ней. – Значит у меня больше памяти, чем у вас, потому что я не забыла услуги, оказанной мне одним купцом, которого звали Франк. – Теперь я помню! – вскричал молодой человек. – Простите меня, Жуанита, что я забыл ваши черты, но ваше доброе дело хранится в моем сердце! – А я узнаю вас и через десять лет и готова поручиться, что вас обвиняют напрасно, что вы не убийца. – Благодарю, милая Жуанита, за ваше мнение обо мне. – Я уверена, – продолжала девушка с жаром, – что вы не способны убить даже вашего смертельного врага. Я женщина, но понимаю убийство только в случае сильного гнева или ревности. Только подлые люди убивают безоружных… За что вы ненавидите начальника Черной Шайки? Что он вам сделал? – Он похитил молодую девушку. – Молодую девушку… которую вы любите? – перебила цыганка дрожащим голосом. – Да, я люблю ее… как сестру. Мария – невеста моего лучшего друга. – Благородного ван Шафлера, который был с вами в Утрехте? – Да. И Франк рассказал молодой девушке все подробности о похищении девушки и прибавил, что слышал о возвращении Фрокара, только не знает, где скрыта Мария. – Я, кажется, знаю это, – сказала девушка, довольная тем, что может Оказать еще услугу Франку. – Вы, Жуанита! – вскричал молодой человек с удивлением. – Вы знаете где Мария? – Кажется, Франк… Бандит Фрокар прибыл в Утрехт два дня тому назад с молодой девушкой и остановился у старого ростовщика. – Вы уверены, что это Мария? – Да. – Ведь мы едем теперь в Утрехт, Жуанита, – сказал Франк. – Скажите, знаете ли вы ростовщика… его жилище? – Он мне сам сказал все сегодня… и с какой целью! Проклятый старикашка! Его зовут Берлоти, и дом богача должен быть известен в городе; стоит только спросить. При этом открытии Франк не подумал возвращаться в Гильверсум, как ему приказал Ральф, потому что представлялась надежда на спасение Марии из рук Перолио, который должен был скоро сам приехать в Утрехт. Надобно было торопиться, и Франк просил Тоби погонять лошадей, но хорошенькая цыганка желала, напротив, продлить приятное свидание с человеком, произведшим на нее сильное впечатление. Она с любовью поддерживала раненого, прикрывала его своим плащом и тихо приказала возничему не торопиться. У ворот Утрехта даже не остановили телегу, потому что знали труппу комедиантов, а Франка никто и не заметил. Жуанита привезла раненого к себе, перевязала его рану, и хотя он хотел тотчас же бежать отыскивать Марию, цыганка уложила его в свою постель и приказала не вставать, если не хочет остаться хромым. Измученный дорогой, ослабев от потери крови, раненый скоро заснул, а Жуанита побежала отыскивать дом банкира. Когда она вернулась, Франк уже проснулся и услышал ее слова: – Я знаю где живет старый грешник. – Как ты добра, Жуанита, что хлопочешь для меня, – сказал молодой человек, сжимая руки цыганки. – Нечего говорить об этом, – отвечала она, улыбаясь. – Теперь надо удостовериться, точно ли у него скрыта та, кого вы ищите. – Но как это сделать? – Я берусь за все… я пойду к старику. – Вместе со мной, Жуанита. – Нет, вы можете все испортить вашей запальчивостью. Притом я одна разузнаю все скорее… я решаюсь на все… для вас, Франк… только для вас… за это дайте мне слово, что вы целый день не выйдете из этой комнаты. – Это невозможно, Жуанита. – Нет, вы еще слабы и можете разбередить рану. – Но вспомни, что Перолио может быть уже в городе, что он увидит Марию. – Перолио отправился к бурграфу в Амерсфорт, и только на обратном пути заедет сюда… Вы это знаете, стало быть до завтра нечего опасаться; послушайтесь меня, поберегите ваше здоровье. Надобно было повиноваться, и Франк замолчал. Прежде чем описывать свидание Берлоти с Жуанитой, скажем, где оно происходило. Дом ростовщика не был открыт для каждого и походил на крепость, какие строили в то время вельможи и богачи даже в городах. Феодальные владельцы не любили сходиться близко с мещанами и простым народом, но синдики мещанских сословий заставили бургомистров издать запрещение строить укрепленные замки, и вельможи, бунтовавшие против своих государей, не смели ослушаться приказа городских властей и были довольны тем, что не разрушили тех замков, которые были уже построены. Берлоти жил в одном из таких старинных зданий, принадлежащих рыцарю, который остался верен епископу Давиду и уступил свой замок за долги. Здание это выходило на канал, прорезающий город. Оно было окружено толстыми стенами с бойницами, ворота были железные, за ними решетка, потом каменный свод и, наконец, лестница, ведущая в комнаты. Но и тут была железная дверь с молотком и круглым окошечком. Правда был другой вход в эту крепость со стороны конюшен, но он вел в пустой переулок. Отсюда привозили товары и припасы и почти круглый год в переулке была непроходимая грязь. Старый ростовщик занимал одно обширное здание, и вся прислуга его состояла из старой служанки и приказчика, принимавшего и отпускавшего товары и хранившего разные залоги, которыми был наполнен весь дом. Берлоти был не обыкновенный скупец. Это был особенный тип, не злой, не сердитый, не строгий для себя и других, не умирающий над своими сокровищами. Нет, он был почти всегда весел и любезен, любил все удовольствия, хотя и старался, чтобы, они обходились ему дешевле. Он любил, когда его приглашали на обеду и присылали на дом редкие вина. Когда он обедал дома, то ходил сам на рынок и покупал самые лакомые куски; потом присматривал за служанкой, чтобы она, стряпая, не украла чего, и редко обедал один. Он любил женщин и всегда находил красивых собеседниц. Хорошенькая женщина всегда принималась ласково ростовщиком, но Жуанита, чтобы иметь предлог придти к нему, набрала браслетов и цепочек и явилась в его крепость, будто за деньгами. Слыша удары молотком в дверь, он пошел сам посмотреть в окошечко, как делал обыкновенно, узнал молоденькую цыганочку и, бросившись ей отворять, привел ее в свою комнату. Ростовщик был не в богатом костюме из бархата и шелка, в котором Жуанита видела его на пиру. Он был в старом халате, подпоясанном ремнем, на котором висела огромная связка ключей. На его лысой голове была надета черная шелковая шапочка и сверху старая шляпа. В этом виде старый волокита не был привлекателен, но очень любезно поблагодарил Жуаниту за посещение. – Я пришла продать вам эти вещи, – сказала девушка, показывая то, что принесла. – А зачем ты продаешь свои наряды? – спросил он нежно. – Мне нужны деньги. – А если твой друг откажет в твоей просьбе? – Я пойду к другому. – Не торопись, душечка, – говорил Берлоти, смеясь. – Соломон не отказывает тебе решительно, только не хочет взять твоего залога. – У меня нет ничего Другого. – Полно, моя красавица, пойми, чего я хочу, и ты будешь сама очень богата. – Благодарю, – проговорила Жуанита с досадой. – Я не хочу вас слушать, потому что вы говорите одно и тоже всем женщинам. – Правда, моя милочка, что я иногда говорил это, но уверяю, что сегодня я не лгу, потому что никогда еще не чувствовал того, что испытываю теперь. – Не верю, вы обманываете меня, как других. – Приходи сегодня ужинать со мной, и ты удостоверишься, что я действительно люблю тебя. – Нет, я не хочу, чтобы мне выцарапали глаза. – Кто осмелится дотронуться до твоих хорошеньких глазок? –; Да та красавица, которую вы прячете от всех. – Кто тебе сказал это? – Вы сами, на пиру у ван Нивельда – разве вы забыли? – Diavolo! – проговорил богач, почесывая затылок. – Я проболтался. Это дурно! Помолчав немного, он взял руку Жуаниты и сказал нежно: – Но ведь ты слышала также, что это родственница моего друга Перолио. – Это не мешает вам любить ее. – Ты не понимаешь меня… я говорю родственница, но я уверен, что она гораздо ближе ему. – А хороша она? – Не так как ты, – отвечал старик, воспламеняясь и теряя осторожность, – она белокурая, как все здешние женщины. – Покажите мне ее. – Не могу. Фрокар просил меня, чтобы никто не подходил к красавице. Она обедает одна, и два солдата Черной Шайки стерегут ее дверь. Если Перолио узнает, что я ослушался его… – Вы очень боитесь его? – спросила Жуанита. – Разумеется, боюсь. – Тем хуже для вас, – сказала цыганка, отдергивая сою руку. – Знайте, синьор Берлоти, что я полюблю только храброго человека. – Да и я не трус, моя красавица, только не хочу, чтобы меня убили, как собаку. Разве ты не знаешь начальника Черной Шайки? – Я никогда его не видала, но если встречусь с ним, то ручаюсь, что не испугаюсь его, не опущу даже перед ним глаз. Соломон был в восторге от красоты и смелости молодой девушки: он опять схватил ее за руку и успел поцеловать ее, вскричав: – Как ты прекрасна! В твоих жилах течет южная кровь! – Оставьте меня! – вскричала Жуанита, отталкивая старика. – Я цыганка, уличная плясунья и певица, но не позволяю целовать себя каждому. Я люблю, кого хочу и предупреждаю вас, что ревнива и не потерплю соперниц. – Разве у тебя могут быть соперницы? – говорил Соломон убедительно, воображая, что в состоянии возбудить любовь молодой девушки. – А ваша спрятанная красавица? Покажите мне ее, дайте поговорить о ней, и я поверю вам. Ростовщик не решался, но цыганка видела, что старик не в силах сопротивляться и потому продолжала с поддельным увлечением: – Вы думаете, синьор Берлоти, что я пришла сюда за тем, чтобы выманить у вас денег? Это был только предлог. – Я был уверен в этом, – отвечал старик, довольный ее словами. – Я пришла, – продолжала она нерешительно и опуская глаза, – потому что ваши черты и ваши слова разбудили во мне воспоминания о моем отечестве. – Ты итальянка? Я был уверен в этом. – Наконец, я пришла потому, что вы меня пригласили.. – И хорошо сделала, моя ненаглядная! – вскричал старик, обезумев от волнения. – Я одену тебя в шелковые, золотые материи, осыплю тебя драгоценными камнями. – Мне ничего не надобно, я не торгую моей любовью. Я отдаю ее тому, кого изберу. Эти слова еще более поразили ростовщика, забывшего свою скупость, свою старость и готового упасть на колени перед уличной комедианткой. – Но вы знаете, – продолжала хитрая цыганка, – что в любви итальянка хочет владеть всем или ничем! – Все твое! – вскричал Соломон с жаром. – Ты будешь моей повелительницей. – Постарайтесь прежде успокоить мою ревность, покажите мне вашу племянницу, если хотите, чтобы я пришла с вами ужинать. – Это твое условие, капризная красавица? О женщины! Когда вы чего захотите, трудно противиться вам. Жуанита смотрела так страстно на старика, что он не мог отказать ей ни в чем и сказал, подумав немного: – Ты увидишь ее, мой хорошенький демон, я исполню твое желание. Только прошу тебя, – продолжал Соломон, – не упоминай перед ней имени Перолио. – Это отчего? Вы сами сказали, что она его… родственница, или еще ближе. – Вот видишь, я не уверен в этом. Фрокар так хитер, что, вероятно, обманул меня. Послушай, ты войдешь к ней с дорогим нарядом, который ей предложишь… разумеется, не от меня. – А от кого же? – Меня просили предложить ей несколько подарков, чтобы она не очень скучала, но хотя за них платит Перолио – его не надобно называть. – Хорошо, я буду осторожна. – Ступай же за мной. Я, как ребенок, повинуюсь тебе. И подав Жуаните богатые материи и наряды, он повел ее в верхний этаж через длинный, темный коридор в галерею, в конце которой была комната пленницы. Когда ростовщик и цыганка вошли к дочери оружейника, сердце Жуаниты сжалось от горести. Бедняжка Мария сидела в углу в такой грустной задумчивости, что даже не слыхала, как к ней вошли. Только когда Соломон начал говорить с ней, она как будто проснулась, подняла на него свои чудные глаза, наполненные слезами, потом обратила их на цыганку. – Я привел к вам молодую девушку, – сказал старик, – с подарками от того, который любит вас нежно и составит ваше счастье. Не плачьтесь и взгляните на эти наряды. – Благодарю вас, мессир! – сказала Мария тихо, но с достоинством. – Мне ничего не нужно. Я вас прошу об одном – отпустите меня домой, к матушке, и я буду молить Бога, чтобы он послал вам покойную старость. Грустные слова девушки тронули Берлоти, хотя ему не понравилось, что она упомянула о старости перед Жуанитой. – Я рад дать вам свободу, мое дитя, – сказал он добродушно, – потому что мне совсем не весело видеть ваши слезы. Я бы сейчас отпустил вас, но не смею. Подождите немного; скоро придет особа, которая принимает в вас участие, и соединит вас с вашими родными. Поверьте, что я буду тогда радоваться не меньше вас. Ростовщик говорил правду. Видя много таинственного в отношениях Перолио и молодой девушки, он боялся попасть в неприятную историю и притом ему хотелось оправдать себя в глазах цыганки, которая его совершенно очаровала. – Зачем вы обманываете меня? – возразила Мария. – Старики должны говорить правду. Соломон поморщился. – Старость должна внушать почтение и доверенность, – продолжала девушка, – зачем же вы принуждаете себя лгать? – Уверяю вас, что я ни в чем не виноват и даже ничего не знаю… – Разве я могу верить вам? Зачем вы скрываете имя моего похитителя и место, где я нахожусь? Отчего вы не назовете мне ту особу, которая, по-вашему, сведет меня к родителям? Потом, подойдя к Жуаните, она продолжала ласково: – Вы также молоды, как я, и должны быть добры. Скажите, ради Бога, кто вас прислал ко мне? Цыганка все это время не сводила глаз с девушки и черты ее лица выражали сильное волнение. Она не могла не пожалеть о положении бедной девушки, но ангельская ее красота поразила Жуаниту, которая не могла поверить, чтобы Франк, живя так долго под одной кровлей с ней, не полюбил ее страстно. – Я пришла к вам от человека, который любит вас и предан всей душой, что он скоро докажет. – Но, как зовут его? – Вы это узнаете скоро. – Я уже знаю это ненавистное имя. Отчего вы прямо не скажете, что это начальник Черной Шайки? – Клянусь, синьора, – вскричала Жуанита, – что не он послал меня. «Славно! – подумал Соломон. – Она хорошая комедиантка». – Верите ли вы в Бога? – спросила Мария строго, – верите ли в святость клятвы? – Я верю в Бога и святую Деву Марию, – отвечала цыганка. – Дева Мария – моя небесная покровительница. – Так вас зовут Марией? – спросила быстро Жуанита, желая вполне удостовериться, что это дочь оружейника. – Да, – отвечала невеста Шафлера. – Клянитесь мне над этим изображением Святой Девы, что вы присланы не от Перолио. – Клянусь, – проговорила Жуанита торжественно и, наклонясь к девушке, чтобы поцеловать образок, который та сняла с шеи, она проговорила тихо: – Доверьтесь мне… меня прислал Франк. Мария невольно вскрикнула: так неожиданны были эти слова. – Извините, сеньора, я нечаянно наступила вам на ногу, – сказала громко Жуанита и прибавила тихо: – Берегитесь… не погубите себя и его. – Ничего, мне не больно, – отвечала Мария, глядя с благодарностью на цыганку. – Теперь я верю вам, вы не обманываете меня. «Какая ловкая и хитрая цыганка», – подумал Соломон. – Что же, прибавил он громко, – вы примете эти награды? Мария молчала в нерешительности, Жуанита отвечала за нее: – Синьора принимает. Старик потирал руки от удовольствия, потому что собирался взять с Перолио порядочную сумму за эти подарки и, чтобы пленница не одумалась, он поспешил выйти, позвав знаком Жуаниту. Но цыганка успела еще подбежать к Марии и шепнуть ей: – Надейтесь, завтра вы увидите Франка и будете спасены. – Все идет хорошо! – сказал старый ростовщик, придя опять в свой кабинет. – Видишь, я не обманул тебя. Теперь ты не ревнуешь ко мне эту плаксу? – Нет, теперь я спокойна, – отвечала Жуанита. – Так ты придешь ко мне ужинать сегодня вечером? – Сегодня не могу. – Отчего же? – Сегодня мне некогда. Я приду завтра. – Sull'onore? – Честное слово, только с одним условием. – Опять условия, carissima? Но говори, я готов на все. – Я не хочу, чтобы меня видели у вас. Вы должны быть одни дома. – Хорошо. Я и так всегда один. Мои приказчики не ночуют здесь, и во всем доме остаюсь я один и моя старая служанка. – Итак, до завтра, синьор Берлоти, – сказала Жуанита, улыбаясь кокетливо. – А сегодня плутовка, разве ты не подаришь мне ни одного поцелуя? – За что подарки? – вскричала, смеясь, цыганка и побежала к двери. – Ты не уйдешь от меня так скоро, моя красавица. Ведь все двери заперты и ключи у меня; стало быть, надобно заплатить, если хочешь выйти отсюда. Действительно, все двери и решетки были заперты, и так как Жуанита хотела знать, какими ключами они отпираются, то позволила старику поцеловать себя и, как птица, полетела из крепости прямо к Франку, который ждал ее с нетерпением. Она рассказала ему обо всем случившемся и молодой человек был в таком восторге, что начал с жаром целовать руку своей хорошенькой благодетельницы. – Спаси ее, Жуанита! – вскричал он радостно. – Я тебе буду более благодарен, нежели за мою жизнь. Мария будет счастлива… будет возвращена ван Шафлеру. Последние слова немного успокоили цыганку. Франк хотел знать все подробности свидания с ростовщиком и начал допрашивать девушку, какими средствами она заставила Соломона повиноваться. Хорошенькая Жуанита покраснела, опустила жгучие глазки и сказал, после короткого молчания: – Франк, вы знаете мое ремесло. Я уличная певица и плясунья, и от меня нельзя требовать такой скромности, как от девушек, воспитанных в честном семействе. Мы с малолетства натерпелись много горя, были окружены такими примерами и соблазнами, что нам трудно и почти невозможно сохранить чистоту души. Притом, если бы мы и действительно были невинны, кто поверит нам? Посмотрев пристально на Франка, она продолжала: – Отвечайте мне искренно, Франк: поверите ли вы мне, если я вам скажу, что несмотря на наружность, на свое свободное обращение и пылкий характер, я осталась также чиста, как ваша сестра Мария… вы не поверите? – Верю Жуанита, если ты говоришь это. – Благодарю! – вскричала она со слезами на глазах и сжимая руку молодого человека. – Ваше уважение необходимо мне, потому что для вас и для вашей сестры я сыграла низкую роль, я обещала противному старику свидание… – Нет, Жуанита, я не допущу этого, я не хочу, чтобы для меня ты решилась на ужасный поступок. – Не беспокойтесь, Франк: старый развратник останется в дураках. Его любезность и ужин пропадут даром. – Но что ты придумала? – Погодите немного и доверьтесь мне. Я давно привыкла казаться веселой и хохотать, когда мне хотелось бы плакать, чтобы облегчить мои страдания. – Ты страдаешь, моя добрая Жуанита? – сказал Франк с чувством, сжимая руку девушки. – Скажи мне, о чем твое горе? – С удовольствием! – вскричала цыганка, довольная участием молодого человека. – Теперь я не должна бы жаловаться на судьбу, потому что в сравнении с прежним житьем я почти счастлива. Я могу понимать все, могу защищаться в случае опасности и не знаю бедности. Наконец, теперь меня все ласкают… даже слишком, и я заслужила ваше уважение. Но мое детство было ужасно. Вы рассказывали мне про ваши первые годы жизни, хотите ли послушать теперь мой рассказ? Она замолчала на минуту и отерла слезы, наполнявшие ее глаза. – Прошу тебя, Жуанита, расскажи мне все, – сказал Франк и, посадив ее возле себя, начал слушать со вниманием.VI. Цыганка Жуанита
– Моя судьба имеет сходство с вашей, – начала молодая девушка. – Я сирота, была отдана чужим после рождения и, как вы, не знаю ни имени, ни положения моих родных. Я знаю только, что моя мать была француженка, хотя я родилась в Италии. Отца моего не было в живых, когда я родилась, или он не жил с моей матерью; только я никогда не слыхала, чтобы о нем упоминали. Моя матушка казалась бедной, но у ней было много драгоценных вещей, которые она давала моей кормилице вместо денег. Последняя говорила мне потом, что моя мать испытала такие ужасные несчастья, что была помешана во все время беременности, и потом с ней часто бывали припадки бешенства, особенно, когда она смотрела на меня. Однажды, когда моя кормилица принесла меня к матери, та схватила меня с диким хохотом и чуть не задушила. В другой раз она бросилась с ножом к колыбели, где я спала и пронзила бы мне грудь, если бы кормилица не оттолкнула ее. Однако я была все-таки ранена в руку; теперь еще на ней виден шрам. И она показала свою левую руку, где действительно, под маленьким пальцем видна была белая полоска. – Напрасно бедная кормилица спасала меня, – продолжала Жуанита грустно. – Если бы она знала, какая будет моя жизнь, то не удержала бы ножа безумной матери. После этой сцены я не виделась более с матерью. Сначала кормилица, боясь повторения припадков, не носила меня к ней, потом матушка скрылась, неизвестно куда: вероятно, поехала во Францию, где у нее были родственники. Что с ней случилось, выздоровела ли она или умерла, этого я не знаю. Добрая кормилица продолжала воспитывать меня и ласкать, как будто я была ее родная дочь. Впрочем, матушка оставила кормилице столько вещей, что можно было воспитать меня прилично; но муж ее был дурной человек, пьяница, игрок, мот, который обобрал ее и продал все, оставив жене самую незначительную сумму. Пьяница ненавидел меня, хотя кутил на мой счет. Но пока у него были деньги, он не трогал меня; когда же он все проиграл и пропил, то с досады начал бить меня каждый день. Этот разбойник мучил семилетнюю девочку и колотил ее от нечего делать. Жуанита засмеялась горько, а Франк отер тихонько слезу и взял руку девушки. – Теперь я могу смеяться над прошедшим, – продолжала она, – потому что оно прошло, но тогда мне было не до смеха, особенно когда мой благодетель приходил домой пьяный и заставал меня одну. Жены он боялся, потому что она была сильна и не позволяла ему бить меня. Однажды, когда она пошла отнести работу, муж ее вернулся из кабака совершенно пьяный. Я спряталась в темный угол, но он увидел меня и закричал: – Поди сюда, если не хочешь быть битой. Я подошла, рыдая. – Полно хныкать, плакса, – сказал он, взяв меня за руку. – Дай мне крест и я не трону тебя. Это крест с тремя драгоценными камнями (Жуанита показала его Франку) был последним воспоминанием о моей матери. Она просила, чтобы кормилица никогда не продавала его и не снимала с моей шеи, а добрая женщина нарочно спрятала его под моим платьем, чтобы муж не увидел. Не знаю, как он узнал об этом, но я смело отвечала ему: – У меня нет никакого креста. – Лжешь, – вскричал пьяный, – крест у тебя! Смотри, если я найду его, то убью тебя. Я знала, что он в состоянии исполнить угрозу, но, несмотря на мои лета, не испугалась, не хотела отдавать ему креста моей матери и отвечала: – Убей меня, но я не отдам тебе креста. – А вот посмотрим, как не отдашь! – заревел изверг. И он бросился на меня, сорвал с меня платье и, увидев крест, дернул его с такой силой, что чуть не задавил меня лентой, на которой он висел. В эту минуту вошла моя кормилица. Увидев меня полунагую, в руках пьяницы, она сильно оттолкнула его от меня и вырвала из его рук крест. Но собрав все силы он, как дикий зверь, бросился к жене и между ними произошла отчаянная борьба. Моя защитница победила своего мужа, но злодей успел схватить нож и ударил им несколько раз бедную женщину, которая упала, обливаясь кровью. – Изверг, – закричала она хриплым голосом. – Ты обокрал сироту и убил жену. Возьми теперь этот крест, обрызганный моей кровью и пусть он будет для тебя проклятием. При начале борьбы я не смела подойти к кормилице и только кричала и звала на помощь, но когда добрая женщина упала под ножом мужа, я бросилась на ее тело и покрывала слезами и поцелуями ее бледное лицо. Убийца стоял над нами несколько минут молча, сжимая в руке мой крест, но видя, что жена его умирает и слыша ее последние слова, он вдруг задрожал, как в лихорадке, бросил на пол крест и выбежал с проклятиями. Удивляюсь, как он не убил меня тогда. Его арестовали в тот же вечер, отвели в тюрьму и ночью он там повесился. Бедная кормилица тоже умерла в ночь и я осталась восьми лет совершенно одна, без пристанища, без куска хлеба. Родные кормилицы и ее мужа забрали всю мебель и вещи покойников, но даже не заметили меня, и когда им напомнили о сироте, они отвечали, что сами бедны и не могут меня содержать, а отошлют в сиротский дом. Я услышала эти слова и очень испугалась. Не знаю почему, я воображала, что там бьют бедных детей. Выбрав время, когда на меня не обращали внимания, я выбежала из дома, пробежала несколько улиц и остановилась на площади. Тут стояла толпа народа, смотревшая на представления цыган. Я пробралась в первый ряд и начала смотреть на этих странных людей, одетых в яркие, пестрые платья. Танцы их понравились мне до того, что я понемногу начала сама приплясывать, подражая жестам цыган. Представление кончилось, любопытные разошлись, а я все стояла на одном месте. Ко мне подошел старший цыган и спросил, что мне нужно. – Я хочу, чтобы вы опять танцевали, – отвечала я. – На сегодня довольно, малютка. Приходи завтра. Разве тебе понравились наши танцы? – Очень. – И ты бы хотела сама танцевать? – О да, научите меня. – Хорошо… скажи только, кто твои родители. – Мая мать умерла, – отвечала я, принимаясь горько плакать. – А отец? – У меня нет отца. – Как же ты попала сюда, на площадь? – Я убежала из дому, потому что меня хотели отвести в сиротский дом. – Так ты бы хотела лучше остаться с нами? – Разумеется… и вы научите меня петь и танцевать? – Непременно. Цыган Джиакомо осмотрел меня внимательно, пощупал руки и ноги и начал говорить тихонько с женой, первой танцовщицей труппы. Она по-видимому не соглашалась с мужем, но потом кивнула головой, и Джиакомо подозвал меня. – Послушай, малютка, – сказал он, – мы возьмем тебя, и если ты будешь умницей, то из тебя выйдет знаменитая танцорка. Я весело побежала за цыганами, которые на другой же день вышли из города. Однако радость моя была непродолжительна, и я скоро узнала, что и в цыганской жизни много неприятностей. Ученье мое шло не очень блистательно. Семейство, принявшее меня, составляло поразительный контраст с первыми воспитателями. Там жена любила меня и защищала, было добра, кротка, а здесь цыганка играла роль тирана и строго наказывала меня, если я не понимала, что она показывала мне в музыке и пенье. Джиакомо, напротив, хоть и любил выпить, но был всегда ласков со мной. Он показывал мне танцы, и с ним я научилась гораздо больше, чем с его женой. Прошло пять лет, и мои таланты развились до того, что Джиакомо поговаривал бросить представления на площадях и являться только в замки и дворцы. Он объявил мне об этом и приказал готовиться, но мечты его не осуществились. Однажды, выпив лишнее, он начал делать эквилибристические штуки, упал и ушибся до смерти. Бедный Джиакомо! Я оплакивала его от души, потому что он был не только хорошим учителем и покровителем, но его советы спасли меня от дурного поведения. Нас было в труппе четыре молодых девушки, и хотя старшей было едва шестнадцать лет, все трое вели самую развратную жизнь. И если я осталась честной посреди таких примеров и обольщений, то обязана этому доброму цыгану, который говорил мне часто: «Не слушай, малютка, советов моей жены и не бери примера с подруг. Все они сделались презренными женщинами; но ты будь умнее их, оставайся честной, и Мадонна спасет тебя от всех бед». После смерти Джиакомо я ожидала, что жена его будет обращаться со мной еще хуже; но, к моему удивлению, она вдруг сделалась ласкова и предупредительна. Не понимая причины такой перемены, я была очень довольна, что наконец меня полюбили, но скоро я догадалась, чего хотела от меня эта женщина. Мне был пятнадцатый год, я была ловка, искусна и многие находили меня хорошенькой. Из нашей труппы бежали трое артисток, недовольные грубым обхождением цыганки, но мы продолжали бродить по Италии, Германии, Франции и давали представления не на площадях, а в замках и перед вельможами, как мечтал бедный Джиакомо. Я отличалась нежностью голоса и легкостью танцев, и меня прозвали везде прекрасной танцоркой. Во Франции мои успехи были огромны, но тут я должна была защищаться от бесчисленных обольщений, к которым жена Джиакомо вела меня почти насильно. Вельможи окружали меня и предлагали мне свою любовь, не веря в добродетель цыганки и, встретив неожиданное сопротивление, еще более мучили меня своими наглыми предложениями. Меж ними был один, настойчивее других, который, как я позже узнала, держал пари с друзьями, что победит мое упрямство, или потеряет лучшую свою лошадь. Однако, видя, что его подарки и любезности не трогают меня, он подкупил цыганку, которая взялась помогать ему, но святая Мадонна и крест матери, спасавшие меня столько раз, не допустили до падения. Не знаю, что было бы со мной в обыкновенной жизни, но кочевая жизнь цыган, дурные примеры и советы только развили и утвердили во мне ум и характер и в семнадцать лет я была сильна и решительна, как могут быть женщины в двадцать пять. Однажды вельможа, преследовавший меня, пригласил нашу труппу к себе в замок. Мы пили и танцевали, и так как было уже довольно поздно, а до города далеко, то нам позволили переночевать в замке. Это случилось не в первый раз, и я не могла ничего подозревать. Однако меня удивило то, что нам отвели хорошие комнаты, тогда как обыкновенно загоняли в сараи, как животных. Кроме того, нам подали вкусный ужин, и жена Джиакомо, напившись порядочно, начала уговаривать нас, чтобы и мы пили. Заметив знаки между ею и управляющим замка, я отказалась пить, но цыганка рассердилась, начала кричать на меня и требовала, чтобы я выпила целый бокал. Однако я не послушалась ее и она опять начала ласкать меня и целовать. После ужина, поговорив тихонько с управляющим, она привела меня в богатую спальню и сказала, что сама будет спать в соседней комнате. Тут я уже не могла сомневаться, что против меня составлен заговор и, не отвечая на ласки цыганки, решила не спать и защищаться отчаянно. Цыганка вышла, ворча на меня и советуя поскорее лечь; я заперла за ней дверь на ключ, помолилась и села в большое кресло, придвинув к себе лампу. Долго было все тихо, и я начала уже думать, что подозрения мои были напрасны; глаза мои начали слипаться, мысли путались, я уснула. Вдруг скрип двери разбудил меня. Я осмотрелась кругом, но дверь в комнату цыганки была заперта, а под обоями что-то зашевелилось и из потайного входа вышел человек, в котором я тотчас узнала хозяина замка. Я бросилась к двери, но не могла отворить ее скоро, и он, догнав меня, обнял и смеялся над моими усилиями вырваться от него. – Перестань капризничать, красотка! – говорил он, удерживая меня за руки. – Ты защищаешься, как древняя Лукреция, но я уверен, что ты благоразумнее ее и что в нашей истории не будем смерти. И он смеялся над смертью, не предчувствуя, что с ним случиться. Я билась и громко звала на помощь, но он опять сказал мне: – Не кричи напрасно: никто тебя не услышит, никто не смеет войти сюда. Оставь упрямство… люби меня, прекрасная цыганка. Он хотел опять схватить меня, но я вырвалась, бросилась к окну, отворила его и выпрыгнула на балкон, готовая броситься вниз, если нет другого спасения. – Берегись, Жуанита! – вскричал молодой человек с испугом. – Балкон в тридцати футах от земли, перила сломаны, ты разобьешься в прах. Я чувствовала, действительно, что перила шатаются, но не трогалась с места. Он сам вышел на балкон и, обойдя меня сзади, хотел поднять и перенести в комнату, но я оттолкнула его так быстро и так сильно, что он потерял равновесие, упал на перила и с ними полетел вниз. Я схватилась судорожно за подоконник, услышала страшный крик и потом глухое падение. Долго я не могла понять, что произошло, так я была поражена и испугана. Скоро я услышала шум и говор под окном, увидела огни и поняла, что была причиной, может быть, смерти владельца замка. Я не могла собрать мыслей, не знала, что мне делать; но опасность была близка, и я инстинктивно бросилась бежать. На лестнице меня встретила толпа слуг, которые кричали: – Вот она, проклятая цыганка! Она убила нашего господина. Я удивляюсь, как они не бросили меня в то же окно. Напрасно я объясняла, что не виновата ни в чем, что защищалась; меня не слушали и послали за судьей. Тот приказал запереть меня в тюрьму, где я оставалась два дня без пищи. На третий день моего заключения меня привели к судье. Это был маленький человечек отвратительной наружности, с красным лицом, маленькими глазами, почти закрытыми густыми бровями. В его чертах можно было ясно прочесть хитрость и злость. Он долго молча осматривал меня с ног до головы, потом отослал того, кто привел меня и, улыбаясь отвратительной улыбкой, сказал: – Знаешь, красавица, что могущественный владелец замка умер после твоей любезной выходки? – Я очень жалею о нем, мессир, – отвечала я, – но Богу известно, что я не виновата ни в чем и не желала его смерти. – Я тоже уверен в этом, но обязан отослать тебя в Пуатье, к главному судье, где тебя будут пытать и потом казнят за преступление. – Но вы сами уверены, что я не преступница, за что же вы хотите меня погубить? – возразила я, плача и дрожа от страха. – Ты, разумеется, не сама выбросила его в окно, это мне сказал и сам умирающий; но его любовь к тебе была слишком сильна… Очень может быть, что ты употребила для этого колдовство. Я посмотрела на него с удивлением, не понимая хорошенько такого обвинения. – Я не утверждаю этого, – продолжал судья, опять улыбаясь, – но ты принадлежишь к проклятому цыганскому племени, которое не знает Бога и занимается колдовством. Мне стоит сказать одно слово, и тебя осудят, как колдунью. – О, вы не сделаете этого, мессир! – закричала я с отчаянием. – Почем знать, моя милая. Я должен исполнять свой долг. Цыганам запрещено приходить во Францию, и мессир Тристан, друг нашего короля, встречая их, приказывает повесить на первом дереве. – Но я не цыганка, хоть и живу с ними: моя мать была француженка и христианка, а я не колдунья. – А где твоя мать? – Не знаю… должно быть умерла. – Суд в Пуатье не поверит тебе и ты будешь сожжена на костре. – Сжальтесь надо мной, мессир! Не посылайте меня туда, – вскричала я, упав перед ним на колени. – Если я буду так добр, – сказал он, поднимая меня, ласково, – ты должна быть мне благодарна… Я могу тотчас же выпустить тебя на волю. – О, мессир, я буду молиться за вас каждый день, отпустите меня! – Мне не нужно твоих молитв, красавица, – возразил он сладким голосом, – поцелуй меня. Я с ужасом отскочила от урода. – Не хочешь ли ты поступить и со мной, как с молодым повесой? – продолжал он смеясь. – Я не так глуп, моя милая. Он хотел употребить силу, а я прошу тебя, будь поласковее, малютка, подойди ко мне… – Мессир! – вскричала я с негодованием. – Я хотела умереть, чтобы избавиться от того, кто погиб так неожиданно. Стало быть и теперь предпочту смерть стыду. Ведите меня в Пуатье, я готова. – Ты очень глупа и упряма, – сказал судья со досадой. – Я уверен, что если ты обдумаешь свое положение, то будешь сговорчивее. Даю тебе двадцать четыре часа на размышление. Если ты согласишься полюбить меня, то скажешь тюремщику, чтобы он привел тебя ко мне; если же нет, солдаты сведут тебя прямо в Пуатье, к главному судье. Я ничего не отвечала и меня опять отвели в темницу. На другой день тюремщик сказал мне, что пришла стража, вести меня в Пуатье. – Я готова, – отвечала я. – Здесь тебе было не хорошо, – заметил тюремщик, – а там будет еще хуже… не хочешь ли повидаться с судьей? – Нет. – Тем хуже для тебя, капризная девчонка! – проворчал он и вышел. Прошел еще целый час, и тогда вошли солдаты, и с ними помощник судьи, который должен был сдать меня в главное судилище. Это был человек лет тридцати пяти, приятный наружности и веселого характера. Он говорил скоро, с выговором южных жителей. Только что мы вышли из тюрьмы, он сказал солдатам, посреди которых я шла: – Развяжите ей руки. Ведь это не мужчина. С женщинами надобно обращаться учтивее, если она даже и колдунья. Я была слаба от голода и едва могла идти; мой провожатый заметил это, остановился перед трактиром и дал мне поесть и отдохнуть. Потом он пошел возле меня, приказав солдатам следовать за нами. Из желания поболтать, или из участия ко мне, он начал меня расспрашивать, и я рассказала ему все, что происходило в замке и у судьи. Во время моего рассказа гасконец вскрикивал, клялся, бранился и смотрел на меня с удивлением. – Так ты не цыганка и не колдунья? – вскричал он, когда я кончила. – То есть, ты все-таки колдунья, потому что твоя красота околдовывает всех. Но все же, по своей ошибке, ты попала в большую беду. Молодая, бедная девушка не должна быть так разборчива. Тебе нужен покровитель, и ты хорошо сделаешь, если выберешь его из судейского звания. Судьи играют важную роль в свете и могут погубить тебя или спасти. В Пуатье будет тебе худо, если ты не найдешь прежде доброго человека, который бы выпутал тебя из всех неприятностей. – Вы добры, мессир, – вскричала я, – спасите меня! – Охотно, моя красавица, хотя я могу получить строгий выговор и лишиться места. Но твоя благодарность утешит меня и я буду счастлив… Я вздохнула печально, поняв, чего он от меня хочет, и не отвечала ему. Он начал уговаривать меня, уверять, что ничего не будет от меня требовать, что будет ждать, чтобы я сама его полюбила, что он не повеса, как вельможа, и не развратник, как судья, но добрый малый, веселый гасконец, который больше ни о чем не заботится в жизни, как только чтобы повеселиться. Напрасно он старался внушить мне доверие, я видела, что мне нет спасения, но твердо решилась противиться и ему. Вечером мы остановились у гостиницы. Гасконец свел меня в маленькую комнатку, заботился о моем удобстве и, уходя, шепнул, что вернется через час поговорить со мной. Оставшись одна, я залилась слезами. – Боже! – вскричала я. – Неужели все люди одинаковы и не могут сделать доброго дела без дурной мысли. За что Бог послал мне такие тяжкие испытания? Решимость моя начала ослабевать. Как все женщины, я была смела и тверда в минуту гнева и негодования, и готова была скорее умереть, чем уступить, но если опасность была еще далека, энергия ослабевала от ожидания и страданий, и я не могла уже отвечать за себя. Я была смела против насилия повесы, отвечала презрением на предложение старика, но как защищаться от человека, который не требует ничего и готов погубить себя, чтобы спасти несчастную цыганку? Я вспомнила о моем талисмане, вынула крест моей матери, и начала молиться. Молитва подкрепила меня и я стала серьезно обдумывать свое положение. Помощник судьи был добрым человеком и хотел дать мне средства бежать. Отчего мне не попробовать это и без него? Он посердится, покричит, но не побежит отыскивать меня. У него такой веселый, беззаботный характер. Но как скрыться незаметно из гостиницы, где без сомнения, меня стерегут солдаты? Притом, уходя, гасконец запер меня в моей комнатке. Вдруг послышались его шаги. Безумная мысль промелькнула в моей голове. Я бросилась к двери и, погасив свечку, тихонько отодвинула задвижку и стала у самой двери, затаив дыхание. Скоро ключ повернулся в замке и гасконец вошел. Удивленный темнотой, он остановился посреди комнаты и сказал тихо: – Это я, моя милая, не бойся ничего. И он вернулся к двери, чтобы запереть ее, но этой минуты было достаточно для меня, чтобы проскользнуть из комнаты, и когда он запирал дверь изнутри, я повернула снаружи два раза ключ, выдернула его и быстро побежала с лестницы. В самом низу сильные руки обхватили меня и кто-то сказал: – Куда ты бежишь, хорошенькая цыганка? – Пустите меня, умоляю вас! – проговорила я со слезами. – Скажи прежде, что ты сделала с гасконцем, который пошел в твою комнату? Я поняла, что это один из провожавших меня солдат, поставленный на часах, и плакала от отчаяния, что мое бегство не удалось. – Не плачь, малютка, – говорил солдат, – я тебя не обижу, только я хочу знать, как ты отделалась от помощника судьи, которого трудно надуть. Не отправила ли ты его на тот свет, как дворянина? Я рассказала ему, что придумала для моего спасения, и он рассмеялся от души. – Это хорошая штука, и я долго ее не забуду! Но теперь дело в том, чтобы тебе поскорее выбраться отсюда. Гасконец подымет скоро такой шум, что всполошит всех. И взяв меня за руки, он повел меня через общую залу, где было тоже темно, к двери, выходящей на дорогу, но вдруг в ту же залу распахнулась широко другая дверь и в нее вбежал мой гасконец. Солдат успел толкнуть меня в угол и, загородив меня собой, притворился спящим. – Тысяча чертей! – бормотал гасконец, отворив дверь на улицу, – проклятая цыганка убежала, надула меня! Что мне делать? Разбудить всех, догнать ее! Нет, надо мной будут смеяться. Лучше пусть подумают, что колдунья вылетела в окно и этот болван часовой прозевал ее… верно уснул… Ну, черт с ними со всеми! Пойду усну. И он, ворча и бранясь, ушел в свою комнату. – Браво! – сказал мой новый покровитель. – Теперь нам нечего бояться. Только как он вышел из комнаты, где ты его заперла? Это я узнаю. Я хотела идти к дверям, но солдат остановил меня словами: – Ты замерзнешь, малютка, если пойдешь в твоем легком костюме. Погоди минуту, я принесу тебе плащ. И он действительно принес мне мужской плащ и шляпу, закутал меня как ребенка и сказал, смеясь: – Это плащ гасконца, он мне должен, и я могу взять эти вещи. Я поблагодарила доброго солдата и была уже у двери, но он сказал мне: – Ты успеешь еще поблагодарить меня, я пойду с тобой. – Как же это? – спросила я с удивлением. – А что скажут ваши товарищи и начальники, когда вы вернетесь к ним? – Я и не намерен возвращаться, – продолжал он, выводя меня из гостиницы. – Мне надоело быть солдатом, я хочу поискать другого ремесла… хоть музыканта или комедианта. – Не думайте, что это веселое ремесло, – сказала я грустно, следуя за моим избавителем. Мы уже были далеко от гостиницы, когда рассвело, и я могла разглядеть моего покровителя. Это был молодой человек лет двадцати трех, простой наружности, добрый и откровенный. Он заботился обо мне как брат и видя, что я устала, нанял телегу, которая ехала в Париж. Через пять дней мы были в столице Франции. Так как на мне оставались серьги и браслеты, которыми меня украсила цыганка, отправляясь в замок, то я отдала эти вещи доброму моему спутнику Фредерику на издержки дороги, но он не хотел брать их, сказав, что у него есть деньги, и что их достанет на некоторое время. Меня трогало такое бескорыстие, и я готова была любить его, как брата. Не желая быть ему в тягость, я хотела чем-нибудь заняться, но умела только петь и танцевать, и потому, поневоле, должна была отыскать какую-нибудь труппу, чтобы снова сделаться комедианткой. Мы жили в гостинице, в отдельных комнатах, и я была совершенно спокойна насчет Фредерика, который обращался со мной как с сестрой, но и в нем я должна была ошибиться. Он тоже замышлял погубить бедную девушку, но, не одаренный ни смелостью повесы, ни хитростью развратника, ни самоуверенностью гасконца, забрался в мою комнату, когда меня не было дома, и спрятался в шкафу. К счастью, мне что-то понадобилось взять оттуда, когда я ложилась спать и, увидев Фредерика, потерявшегося совершенно от смущения, я не испугалась, но чуть не заплакала от досады, что снова могла быть жертвой грубости и насилия. Он хотел было подойти ко мне, но я остановила его и жестом указала на дверь. Бедняжка был действительно жалок и не Трогался с места. Я сказала ему строго: – Ты оскорбил меня, Фредерик. Я тебя любила и уважала как брата, а ты решился на подлость, на злодейство. Неужели ты думал, что Бог, спасший меня столько раз, позволил бы совершиться преступлению? Ты хотел тоже употребить насилие, но я не боюсь тебя, я сумею защититься. И, сложив руки, я смотрела на него смело, чувствуя, что не я, а он в моей власти, потому что он любит меня до безумия, а я хладнокровна. В этих случаях женщины сохраняют всегда преимущество, особенно если мужчина очень молод и любит искренно. Фредерик был в отчаянии, он просил прощения со слезами, говорил, что любовь довела его до безумия; он был уверен, что я скоро оставлю его, если поступлю в какую-нибудь странствующую трупу. – Так ты очень меня любишь? – спросила я с намерением. – Ты не хочешь расставаться со мной? – Я не могу жить без тебя, Жуанита. – В таком случае, добрый мой Фредерик, несмотря на твою глупую попытку, я дам тебе средство не разлучаться со мной. Женись на мне. – Жениться? – вскричал молодой человек с восторгом. – Ты согласишься быть моей женой? – Да. Если я не люблю тебя страстно, то, по крайней мере, чувствую к тебе дружбу, которая, со временем может превратиться в нежную привязанность. Я не хочу, чтобы ты отвечал мне сейчас; теперь ты готов на все. Подумай до завтра и дай мне ответ, а теперь прощай. Я протянула его руку, которую он пожал с чувством и, как сумасшедший, выбежал из моей комнаты. На другое утро он сказал мне, что готов хоть тотчас же обвенчаться со мной. – Благодарю тебя, Фредерик, – отвечал я, – ты не будешь раскаиваться в своем решении. Я буду хорошая, верная жена. Клянусь над крестом моей матери. – И ты откажешься от своего ремесла уличной танцорки? – спросил он нерешительно. – Я бы охотно сделала это, но, к несчастью, не знаю ничего другого. Чем мы будем жить? – У меня есть еще немного денег на первый случай. Притом у меня родители не бедные. Они содержат гостиницу в тридцати милях от Парижа и будут очень рады, если я вернусь к ним. – И прекрасно, ступай к ним и объяви о своей свадьбе со мной. – Но ведь они захотят, чтобы я остался у них и помогал им. – Тем лучше. Ты потом придешь за мной, и я буду тоже работать в вашей гостинице. – Неужели ты согласишься, Жуанита? Как я счастлив! Я сегодня же отправлюсь домой, чтобы поскорее вернуться. Действительно, через час он собрался в дорогу, оставив мне половину своих денег и обещал, что через две недели непременно придет за мной. Но прошло четыре месяца, а Фредерик не возвращался, и я не получала о нем никакого извести. Меня это сильно беспокоило, тем более, что деньги, оставленные им, все вышли, и мне надобно было искать средств к жизни. В это время я случайно встретилась с одной из прежних моих подруг, которая была замужем за цыганом. Они давали представления, гадали и продавали разные лекарства. Узнав о моем положении, цыган предложил мне ехать с ними из Франции, где их очень преследовали за малейшие проступки, а часто и совершенно безвинно. Я согласилась присоединиться к ним, только просила, чтобы они проехали через селение, названное Фредериком, где была гостиница его родителей. Я хотела знать, что с ним случилось, и потому уже приняться за прежнее ремесло. Цыган согласился. Подъехав к селению, я остановила моих спутников и пошла отыскивать гостиницу Фредерика. Встретив старика почтенной наружности, я спросила его, не знает ли он гостиницы, под вывеской коня, и он отвечал мне, что она на другом конце селения. Потом, осмотрев меня, он прибавил с беспокойством: – А что тебе за дело до гостиницы, моя милая? – Мне нужно видеться с одним молодым человеком. Не знаете ли вы сына хозяина, Фредерика, который вернулся сюда месяца четыре тому назад? – Как не знать, – сказал старик. – Фредерик теперь сам управляет гостиницей и скоро женится. – Женится! – вскричала я. – Это невозможно! – Отчего же нет, моя милая? – спросил старик, удивленный моим восклицанием. – Я отец Фредерика. И знаю поэтому, что свадьба его назначена на послезавтра; но кто ты? – прибавил он в сильном волнении. – Ты, верно, цыганка, которая околдовала его до того, что он хотел на тебе жениться? – Да, я Жуанита, – проговорила я грустно. – Боже мой! – вскричал старик, крестясь и дрожа от страха. – Ты пришла погубить моего сына, увести его от нас. Он готов бросить и невесту и родителей; я это знаю, потому что нам тяжело было удержать его здесь и заставить забыть о тебе. Не делай этого, ради Бога, если ты добрая девушка, позволь ему остаться с нами и жениться на честной, трудолюбивой крестьянке. Не расстраивай счастья целого семейства. Сжалься над нами. Если он увидит тебя, то забудет все и погибнет навеки. Бедный отец плакал и молился, и я внутренне благодарила Бога, что не чувствую страстной любви к Фредерику и могу отказаться от него и успокоить старика. – Утрите ваши слезы, – сказала я ему. – Я пришла сюда только узнать, что случилось с Фредериком, но не хочу расстраивать его и вашего счастья. Я уезжаю далеко и, вероятно, не встречусь больше с вашим сыном. Не говорите ему, что вы меня видели, не произносите даже моего имени, и пусть он совершенно забудет обо мне. – Благодарю тебя! – вскричал старик со слезами радости. – Бог наградит тебя за твое доброе дело, и если я могу помочь тебе… хоть я и не богат… – Мне ничего не надобно. Если я оказываю услугу Фредерику и доставлю ему счастье, с меня этого довольно. Он спас меня от большой опасности, и я охотно жертвую собой… Прощайте… помните, что я христианка, и помолитесь за меня. И я побежала к цыганам, не оглядываясь на старика и закричала им: – Теперь я ваша! Едем скорее дальше! – Отчего бы не дать нам представления? – заметил цыган. – Селение, кажется, богатое, мы бы собрали на дорогу. – Нет, здесь я не буду танцевать ни за что на свете, – отвечала я с нетерпением. – Если вы остановитесь здесь, я уйду одна. Цыган не настаивал, и мы отправились. С тех пор прошло два года. Мы кочевали по Германии, Фландрии и остановились, наконец, в этой холодной, туманной стране, где нам тяжело было привыкать к суровому климату, но где, по крайней мере, бедных цыган не преследуют с таким ожесточением, как в других местах. – Бедная Жуанита! – проговорил Франк, с чувством сжимая руку девушки. – Сколько силы и твердости истратила ты в твоей безотрадной жизни! Но неужели ты, до сих пор, не встретила человека, который избавил бы тебя от горького ремесла уличной комедиантки? – Мне делали много предложений, и честных и бесчестных, но я отвечала всем одинаково, что пожертвую моей свободой только тому, кого полюблю. – И ты не встречала такого человека? Жуанита покраснела, опустила глаза и проговорила тихо: – Встретила… одно слово, одна ласка может заставить меня забыть все мои несчастья, но он… полюбит ли он плясунью, цыганку? – Полюбит непременно, когда узнает, как добра, чиста и великодушна эта цыганка. Он будет счастлив, будет гордиться тобой. Жуанита хотела отвечать, но волнение ее было так сильно, что она не могла проговорить ни слова. «После, – думала она, – завтра, когда я спасу Марию, я скажу ему, кого люблю». И оставив Франка в своей комнате, молодая девушка вышла и закутавшись в грубый плащ, легла на лавке отдохнуть от волнений.VII. Поражение
В то время, как Франк и Жуанита готовились похитить Марию, в другом месте происходили в эту же ночь важные происшествия. Мы оставили Шафлера в его лагере, в Гильверсуме, приготовляющегося к экспедиции против Перолио. Он сговорился с капитаном Салазаром действовать заодно и ждать только возвращения шпиона или Франка, чтобы начать действие. Шпион, оставив Франка перед фермой, где жил Перолио, не знал, что с ним случилось потом, но сам побежал в лагерь Шафлера и рассказал ему об укреплениях и положении неприятеля. Неизвестность судьбы товарища не удержала молодого начальника. Он собрал свое войско и ночью двинулся в путь. Шафлер должен был напасть на селение Эмн со стороны, занимаемой Черной Шайкой, а Салазар и отряд голландцев обязались явиться с другой стороны, где стояло войско ван Нивельда и ван Рюиса. Мы говорили уже, что в начале и в конце Эмна были церкви с кладбищами, окруженные стенами и превращенные в настоящие форты. Стены были уставлены маленькими пушками, и палисадами, за которыми скрывались стрелки, не допуская подойти близко к селению. Широкий канал разделял селение на две части, соединенные деревянным мостом. Плотина разделяла лагерь Перолио от лагеря ван Нивельда и ван Рюиса. Салазар, прибыв в назначенное место, тотчас начал атаку, не дожидаясь, чтобы союзник его сделал то же, и эта поспешность могла нанести ему большой вред. Пользуясь туманом, он дошел незаметно до Эмна и взял аванпосты, но близ кладбища на него напали сильные отряды ван Нивельда, и со стены загремели пушки. Войско Салазара сильно страдало, но подвигалось вперед, хотя в самом селении могло быть окружено со всех сторон. Но там не было, по крайней мере, пушек. Между тем отряд голландцев прибыл на барках по каналу, но колья не допустили его высадиться. Тогда нашлись смельчаки, которые доплыли до моста и зажгли его, мешая этим соединиться войскам Перолио и ван Нивельда. Однако, этот подвиг, наносивший вред неприятелю, мог испортить и дело своих, потому что не позволял ван Шафлеру подать помощь расстроенной армии Салазара. Пушечные выстрелы и колокольный звон разбудили Черную Шайку, всегда готовую к сражению. Все были на своих местах, когда ван Шафлер явился у противоположного кладбища. Туман был так силен, что осажденные не видели неприятеля, но, слыша конский топот и звук оружия, начали стрелять. Ван Шафлер дал приказание сдвинуться всем в сторону и соблюдать тишину, и Черная Шайка продолжала стрелять понапрасну. Когда туман начал исчезать, стрелки Шафлера подошли к стенам и стали бросать горящие стрелы. Деревянные палисады загорелись и нападающие, во главе которых был Вальтер, ворвались на кладбище. Это нападение было таким быстрым, что воины Перолио отступили, бросили пушки, и всадники ван Шафлера ворвались в селение. Но за церковью их ожидал грозный сюрприз. Вся Черная Шайка стояла в боевом порядке и с криками: «Да здравствует Перолио, смерть треске!» бросилась на неприятеля. Войско ван Шафлера, не ожидавшее такой сильной атаки, дрогнуло и ряды его начали расстраиваться, но молодой начальник бросился вперед, размахивая мечом и, громко ободряя товарищей. Его пример возбудил храбрость солдат и сражение продолжалось с ожесточением. Вдруг граф увидел начальника Черной Шайки, которого, несмотря на опущенное забрало, можно было узнать по богатому вооружению и красным перьям на шлеме. Он бросился к своему врагу и вскричал: – Защищайся, низкий похититель женщин! Один из нас должен погибнуть! Я давно ищу тебя. Черный рыцарь, не отвечая, направил свою лошадь с такой силой против графа, что тот едва усидел в седле. Но искусный наездник скоро оправился и напал на противника, который только смеялся под своим забралом и отвечал ударами на удары. Бой был отчаянный. Начальник Черной Шайки ударил, наконец, так сильно по голове жениха Марии, что тот лишился бы жизни, если бы не поднял щита, на который пала вся тяжесть удара. Только белые перья упали со шлема графа и он, не дав опомниться врагу, быстро размахнулся мечом, бросив ненужный щит и, в свою очередь, поразил начальника Черной Шайки. Удар пришелся прямо в плечо, где сходились части лат и раненый, застонав, опустил руку. Шафлер ударил его по плечу и черный рыцарь зашатался и упал с лошади. Граф остановился на минуту, пораженный такой скорой победой над врагом. Он хотел сойти с лошади и спросить у умирающего, что он сделал с Марией, но обязанности начальника не позволяли ему останавливаться. Падение капитана произвело беспорядок в рядах Черной Шайки, на которую воины Шафлера бросились с криками радости. Бандиты, не зная, что делать, начали отступать, а граф стал их преследовать с ожесточением. Наконец кто-то вздумал скомандовать, чтобы Черная Шайка соединилась со солдатами ван Нивельда, и всадники поскакали в галоп к мосту. Они не знали, что голландцы уже сожгли его, а туман и темнота были еще так сильны, что в тридцати шагах нельзя было ничего рассмотреть. Масса всадников понеслась во всю прыть сильных лошадей прямо к пропасти, в которую почти все обрушились и погибли в канале, попав на колья и раздавленные лошадьми. Некоторые, видя опасность, хотели вернуться, но это было невозможно: напор был так силен, что не было сил ему противиться. Притом войско Шафлера, следовавшее за бегущими, гнало их вперед копьями, так что, кто не попал в канал, тот погиб от оружия. Крики, стоны и стук оружия были оглушительны. Солдаты Шафлера рубили беспощадно врагов, которые были поражены ужасом и почти не защищались. Из всей шайки Перолио, которой в Эмне стояло тысяча двести человек, спаслось едва сто, и то не самых храбрых, попрятавшихся в церкви и домах. Шафлер не отыскивал их, но довольный смертью Перолио, хотел упрочить свою победу и взять весь Эмн. Для этого надобно было соединиться с капитаном Салазаром, и так как мост не существовал, молодой начальник приказал объехать кругом. Между тем положение Салазара было очень скверно. Он был окружен многочисленными отрядами ван Нивельда и защищался отчаянно, когда увидел приближение союзника, который напал на удочек, не ожидавших нового неприятеля. Всадники ван Шафлера начали теснить врагов, которые, в свою очередь, отступили, потому что голландский губернатор высадил свой отряд и явился неожиданно позади ван Нивельда. И с этой стороны победа была решительная, и раненый ван Нивельд сдался голландскому губернатору. – Мессир губернатор, – сказал ему Шафлер, – кажется, я имею право выбирать себе пленника. – Все пленные принадлежат вам, граф, – отвечал учтиво голландец. – Вы герой, и сегодняшняя победа принадлежит вам. – В таком случае, я беру только ван Нивельда. Возьмите ваш меч, мессир, вы свободны. – Благодарю, граф, я пришлю вам выкуп; назначьте сами сумму. – Вы однажды заплатили за меня выкуп Перолио, теперь мы квиты. – Еще раз благодарю, мессир, вы настоящий рыцарь. – Я только исполняю свой долг, – возразил Шафлер. – Сегодня я окончил мои счеты с Перолио. – Что вы говорите? – спросил ван Нивельд. – Я убил начальника и истребил его шайку. – Вы убили Перолио? Где? Когда? – Сейчас, в Эмне. – Это невозможно. Перолио уехал в Амерсфорт, где стоят остальные люди его шайки и вернется только завтра. – Верно, он приехал раньше? – Не может быть – он тотчас бы дал мне знать. – Однако я узнал его по росту, по фигуре, по его латам и вооружению. Правда, лицо его было закрыто забралом, но он командовал войском. Кто же мог быть это, кроме него? – Вероятно, один из его воинов, нарядившийся в его вооружение, чтобы придать больше храбрости солдатам. Шафлер впал в раздумье. Действительно, он не был уверен, что поразил своего врага и, желая рассеять сомнения, молча пожал руку ван Нивельда, взял несколько солдат и поскакал опять на другой конец селения. Он не нашел тела начальника Черной Шайки на том месте, где они сражались, а Вальтер, оставшийся тут, сказал, что это был лейтенант Перолио, Вальсон. Вот как узнал о том оружейник. Только всадники Шафлера оставили эту сторону селения и отправились на помощь Салазару, как солдаты Черной Шайки, спрятавшиеся во время сражения, вышли из своих убежищ и начали подбирать раненых. Так как, несмотря на смертельную рану, Вальсон еще дышал, то его перенесли в дом Перолио, где был спрятан знакомец наш Фрокар, никогда не участвовавший в битвах. Узнав об истреблении Черной Шайки, он начал собирать вещи Перолио, чтобы бежать с ними. В эту минуту солдаты принесли бесчувственного Вальсона, и, положив его на постель, пошли за другими ранеными. Фрокар остался один с Вальсоном, которого ненавидел. Он вспомнил тотчас о ста флоринах, отданных лейтенанту на хранение и которых еще не получал, хотя и заслужил их, похитив дочь оружейника. Монах начал гадать, куда мог спрятать Вальсон эти деньги. Надобно было расспросить об этом умирающего, чтобы сокровище не досталось кому-нибудь другому. Для этого надобно было привести раненого в чувство, хоть на несколько минут. Фрокар расстегнул ему латы, отер кровь с лица и потер уксусом виски и ноздри. Умирающий открыл глаза и черты его выразили сильное страдание. Он пошевелил губами, но звуки не выходили из его горла. – Что с вами, лейтенант? – спросил монах сладким голосом. Разве можно падать в обморок от царапины? Раненый собрал все свои силы и прохрипел: – Воды… ради Бога… каплю… воды. «А, ты хочешь пить, – подумал Фрокар. – Это предсмертная жажда». И налив бокал воды, палач поднес ее Вальсону, но не дал дотронуться до бокала. – Погоди, – говорил он, наклоняясь к самому уху умирающего. – Я тебе дам пить, только скажи прежде, куда ты спрятал мои сто флоринов? – Не… скажу… – прошептал англичанин. Фрокар поставил воду дальше; раненый застонал так жалобно, что сам демон сжалился бы над ним. Фрокар взял опять бокал и поднес его почти к губам умирающего. – Ну, говори же, мой милый, – дразнил он англичанина, то приближая бокал к его запекшимся губам, то отнимая его. Вальсон страдал в невыносимой пытке, но стиснул зубы и молчал. Палач заметил, что раненый держит свою руку у левого бока, и догадавшись, что деньги должны быть при нем, поставил воду на стол, сорвал одежду несчастного и увидел на теле его кожаный кушак, порядочно набитый деньгами. Радостный крик вырвался из груди разбойника и он ухватился за кушак, но англичанин так сильно держал свою левую руку на месте, где была застежка, что палач никак не мог оторвать ее. – Я заставлю тебя выпустить мои денежки, – проворчал он. И взяв бокал с водой, он поднес его к левой руке умирающего. Англичанин ухватился за сосуд левой рукой, но в ту же минуту правая вцепилась в руку Фрокара и вжала ее с необыкновенной силой для раненого. Взбешенный монах толкнул бокал, уже поднесенный к губам Вальсона; вода пролилась, несчастный застонал отчаянно. – Надобно кончить эту комедию, – проговорил Фрокар, – мне некогда возиться с этим болваном. И он уперся коленом в грудь умирающего, чтобы задушить его, но дверь отворилась и солдаты ввели раненого Видаля, которого вытащили из-под лошади с сильными контузиями. Увидев оруженосца Перолио, англичанин собрал последние силы и проговорил замирающим голосом, прерываемым предсмертным хрипеньем: – Видаль… возьми кушак… это… тебе… Видаль подошел к умирающему товарищу, взял из его рук кушак и видя, что Вальсон шевелит губами, наклонился к нему, чтобы расслышать последние слова, но силы того уже истощились, он бросил грозный взгляд на Фрокара и умер. Палач побледнел от злости; сокровище попало в другие руки, но он решился добыть его во что бы то ни стало. Когда солдаты ушли, и он остался один с Видалем, то предложил свои услуги молодому человеку и хотел помочь ему снять оружие, но оруженосец, ненавидевший Фрокара, грубо оттолкнул его, сказав, что не нуждается в его пособии и сам перевяжет свои раны. Бандит вышел из комнаты, составляя новый план для овладения сокровищем. «Видаль слаб и ранен, – думал он, – я с ним слажу… он не выйдет живой отсюда». Фрокар вошел в соседнюю комнату, отделенную от спальни занавеской и не имевшую другого выхода. Только окно выходило на задний двор, но было довольно высоко от земли. Палач приготовил самострел и кинжал и стал за занавеской, дожидаясь, чтобы Видаль обернулся к нему спиной. Эта минута скоро настала. Оруженосец снял латы и начал перевязывать рану на ноге; Фрокар уже приподнял занавеску, чтобы броситься на свою жертву, как вдруг в комнату вбежали воины графа Шафлера под предводительством Вальтера. При виде отца Марии фальшивый пилигрим поспешил скрыться, но ему нельзя было даже выскочить в окно, потому что весь дом был окружен неприятельскими солдатами. Не найдя другого спасения, он спрятался в большой сундук, приподнимая по временам крышку, чтобы не задохнуться. Счастье было для Видаля, что Вальтер узнал его, воины Шафлера не пощадили бы оруженосца Перолио, но оружейник сказал им: – Оставьте его, друзья, он добрый, честный малый, я отвечаю за него. Только ты должен идти с нами, любезный, – продолжал он, обратясь к молодому человеку, – потому что другие не пощадят тебя. Когда шум утих, Фрокар вылез из сундука и увидев, что нет ни Видаля, ни кушака, вскричал в бешенстве: – Меня обокрали! Я разорен! И в этом виноват проклятый англичанин! И палач бросился к бездыханному трупу лейтенанта Перолио и начал его бить. Видаль рассказал Вальтеру, что Перолио поехал к бурграфу в Амерсфорт и не мог участвовать в сражении. На вопросы отца и жениха о Марии, он сказал, что молодая девушка, задержанная в дороге болезнью, недавно привезена в Утрехт к Берлоти, и что Перолио еще не видел ее, но хотел отправиться туда, возвращаясь от бурграфа. – Если вы хотите ее спасти, то поторопитесь, – прибавил Видаль, – а не то будет поздно: сегодня он будет в Утрехте. Отец и жених были охвачены ужасом. Не было никакой возможности проникнуть в Утрехт, потому что известие о разгроме Черной Шайки дошло уже туда, и город, верно, стали охранять больше обыкновенного. Если бы Шафлер знал два часа тому назад, что его невеста в Утрехте, он попросил бы ван Нивельда, отправлявшегося туда, вывести Марию из дома старика и взять под свое покровительство; тогда он бы мог быть спокоен, но ван Нивельд был уже далеко. Оставалось, может быть, одно средство помешать Перолио приехать в Утрехт, – это взять город, пользуясь расстройством и страхом неприятеля. Но согласятся ли союзники Шафлера принять на себя такую ответственность без позволения епископа? По всей вероятности, нет. Сам он не мог, со своим утомленным войском, взять такой город. Однако он решился попытаться уговорить своих товарищей и отправился на военный совет, созванный голландским губернатором. Вальтер пошел за графом, печальный и молчаливый. Покуда в Эмне думали только об освобождении Марии, в Утрехте было уже все готово для ее спасения.VIII. Побег
В тот самый час, когда оружейник ждал решения военного совета, Франк был уже возле дома Соломона Берлоти и ждал знака Жуаниты, чтобы помочь ей спасти Марию. Хорошенькая плясунья, чтобы заслужить расположение того, кого любила, играла роль падшей женщины. Если бы Франк знал, как тяжело было притворяться бедной девушке, он отказался бы от такой жертвы. В назначенный час она стояла перед дверью Соломона, и сердце ее билось так сильно от волнения, что она принуждена было отдохнуть и не в силах была поднять тяжелый молот; но увидев за углом фигуру Франка, она сделалась смелее и постучала. Сам ростовщик отворил дверь и был в восторге от своей гостьи. Однако проходя по длинной анфиладе комнат, он не забывал запирать за собой двери и решетки. Ужин был приготовлен в кабинете. На столе стояли два прибора, вкусные кушанья и вина; из прислуги не было никого, он удалил даже старую служанку, которая давно легла спать. – Ты видишь, моя красотка, – говорил старик сладким голосом, – что я сдержал свое слово. Мы одни, никто не видел даже, как ты вошла. – Благодарю вас за внимание, – отвечала девушка, – но зачем поставили только два прибора, где же третий? – Это для кого, моя милая? – Для красавицы, которая спрятана у вас. – Опять… ты еще ревнуешь? – Нет, синьор, теперь я знаю, что она не похитит ваше сердце… Но ей, бедняжке, скучно. Отчего не доставить ей удовольствие? Я буду петь, танцевать… пусть и она посмотрит. – Это невозможно… Ты будешь петь и танцевать для меня одного; эта плакса пусть сидит там наверху. Если бы я и хотел привести ее сюда, то часовые не пустят. Я тебе сказал, что Фрокар оставил здесь двух воинов, которые день и ночь стерегут красавицу и не пускают к ней никого, кроме меня. Жуанита не настаивала, боясь возбудить подозрение и придумывала другое средство вывести пленницу из комнаты. Она села за стол против Соломона, шутила, смеялась, так что старик был совершенно очарован и пожирал глазами красавицу. Он попросил ее спеть канцонету, но Жуанита не согласилась, говоря: – Для того, чтобы петь о любви, надобно, чтобы слушатель мог внушить эту любовь. – А разве я не могу внушить любви? – спросил старик. – Я этого не говорю, – отвечала девушка кокетливо, – но вы так дурно одеты, что не похожи на влюбленного. Ах, если бы на вас был тот богатый бархатный костюм, в котором я вас видела в первый раз у мессира ван Нивельда, тогда вы хоть кому могли бы вскружить голову! – Так ты не забыла этого дня, красавица? – вскричал ростовщик, целуя руку Жуаниты. – Как я счастлив! – Тогда вы казались мне лучше и моложе всех этих фламандских медведей. Я вспомнила наше отечество… наших ловких кавалеров и имела глупость влюбиться в вас. – О! – закричал старик, вскочив с места. – Так ты меня любишь? – Если бы не любила, то не пришла бы сюда, – отвечала цыганка, опуская свои чудные глаза. – Ты прелестна! Я умираю от любви! – шептал старик и, схватил руки Жуаниты, старался привлечь ее к себе. Но она вырвалась, сказав: – Оставьте, вы меня пугаете вашим черным платьем. – Я сейчас переоденусь, буду молод, хорош, не буду пугать тебя. И он выбежал из комнаты, а цыганка смотрела, как за ним заперлась дверь; потом, вынув из кармана склянку с какой-то жидкостью, данную ей старым цыганом, вылила ее в бокал Соломона, долила вином и наполнив и свою рюмку, начала ждать возвращения ростовщика. Он явился в блестящем костюме яркого цвета, с золотым шитьем; плешивая его голова была без шапочки и старик был истинно смешон в этом наряде. Но цыганка улыбнулась и вскричала радостно: – Теперь я узнаю моего прекрасного кавалера и пью за его здоровье! Подняв свой бокал, она прибавила: – Чокнитесь со мной, любезный соотечественник. – С удовольствием, – отвечал влюбленный, – пью за нашу любовь. Он выпил разом весь бокал и страстно схватил руку Жуаниты, но она отскочила от него и взяла лютню. – Вы просили меня петь? – сказала она. – Я готова. И она начала петь, следя за движениями Соломона, который должен быть уснуть после сонных капель; но старик был очень крепок, взволнован страстью и казался живее обыкновенного. Он следил за движениями красавицы и, наконец, бросился к ней, чтобы обнять ее, но Жуанита перебежала на другую сторону стола. Берлоти начал ее преследовать, но вдруг колени его подогнулись, он замахал руками, хотел что-то сказать и упал на пол, как мертвый. Цыганка смотрела на него издали, и когда увидела, что он безопасен и не может сделать ни малейшего движения, тихонько подошла к нему, сняла ключи с его пояса и побежала к двери на улицу, быстро отпирая все замки и решетки и боясь, что старая служанка услышала шум. К счастью, погода была страшная. Ветер и дождь заглушали всякий шум, и Жуанита отворила, наконец дверь на улицу. Франк ждал ее давно; она тихонько повела его в комнату Соломона и, достав его старое черное платье, сказала, чтобы Франк надел его. Это было не совсем приятно, но молодой человек послушался и надел кафтан. Жуанита, сказав несколько слов на ухо своему товарищу, повела его в верхний этаж. Надобно было проходить мимо кухни; напрасно молодые люди старались идти как можно тише. Старая служанка спала крепко, а если бы и услыхала шаги, то не беспокоилась бы встать, зная, что барин ее часто принимает ночью гостей. Настоящая опасность была в коридоре, где дверь в комнату Марии стерегли два бандита Черной Шайки. Услышав шум, один из них пошел посмотреть, кто идет, но увидев Франка, принял его за Соломона и узнав цыганку, которая несла лампу так ловко, что свет не падал на него, он не сказал ни слова и отошел от двери Марии. Жуанита постучалась, и бедная пленница, запиравшая всегда дверь от себя, боялась нежданных гостей, спросила тихо: – Кто там? – Соломон Берлоти, – отвечал Франк не своим голосом и видя, что часовые удалились, он проговорил в замочную скважину: – Отвори, Мария, это я, твой брат. Дверь быстро отворилась, и Франк с Жуанитой вошли. Трудно изобразить радость и волнение дочери оружейника привиде друга своего детства. Воображая, что она уже спасена, Мария упала на колени, благодаря Бога, а потом бросилась в объятия Франка и долго не могла от него оторваться. Жуанита мрачно смотрела на чудную группу и сердце ее сжималось от боли. Какая женщина, и еще любящая, не поняла бы, что этот восторг, эти ласки совсем не братские. Подозрения ее оправдались, она побледнела и прислонилась к стене. Наконец Франк пересилил свое волнение и начал рассказывать Марии, что Жуанита сделала для них, чем они обязаны ей. Мария обняла нежно цыганку, сказав: – Простите меня, что я не доверяла вам вчера. Вы знаете, несчастные всегда недоверчивы. – Знаю, – проговорила глухим голосом цыганка, освобождаясь от ласк соперницы и глядя на Франка, следившего за каждым движением Марии. «О! Как он меня обманул!» – думала она. – Благодарю вас, – продолжала дочь оружейника, сжимая руки цыганки. – Мы не можем ничем отплатить за ваше благодеяние, но Бог наградит вас. – Погодите благодарить, – возразила Жуанита холодно, – вы еще не на свободе. И она задумалась. Какие были ее мысли в эту минуту? Она говорила себе, что Франк обманул ее, потому что скрыл свою любовь к пленнице Берлоти и заставил ее спасти соперницу. Неужели она позволит смеяться над собой, не отомстит изменнику? Одно слово, один жест, и они погибнут. Стоит только отворить дверь и позвать часовых. Она машинально пошла к двери, страдая от ревности и досады, но вдруг остановилась и одумалась. – Мстить! – прошептала она. – И кому же? Этой молодой девушке, которая и так много перенесла. Разве она виновата, что он меня не любит! Нет, это низко. И если я погублю ее, разве он простит мне это? Нет, он не обманул меня… Он даже на заметил моей любви… Он любит только ее. О, как я несчастна! Но отогнав от себя грустные мысли, она сказала: – Время дорого, надобно подумать, как выйти отсюда. – Да, – подтвердил Франк, – пойдемте скорее. И он пошел к двери, но Жуанита остановила его, сказав: – Вы забыли, что там два бандита, которые не выпустят Марию даже с Соломоном. Если вы хотите употребить силу, вам трудно будет сладить с двоими. – Что же делать? – спросил Франк. – Найти другой выход. – Здесь только окно, выходящее во двор, – заметила Мария. Франк отворил окно; Жуанита схватила простыни и занавеси, связала все это вместе и прикрепила к балюстраде окна. Когда эта полоса полотна была спущена вниз, нельзя было разглядеть, доходила ли она до земли. Ночь была так темна, что трудно было убедиться, достаточно ли длинна эта веревка, но когда Мария сказала, что окно должно быть в двадцати футах от земли и что двор окружен лавками и закрыт со всех сторон, Франк вскочил на окно, ухватился за простыни и начал скользить вниз. Однако, дойдя до конца полотна, он еще не чувствовал под собой земли и решился соскочить. К счастью земля была в шести футах, но если он мог сделать этот скачок, и за ним Жуанита, привыкшая ко всяким опасностям, для скромной, робкой Марии, это было невозможно. Франк пошел ощупью бродить по двору и наткнулся на лестницу, которую поспешил приставить под окном. Надобно было, чтобы Мария тоже спустилась по полотну до первых ступенек лестницы, что она исполнила довольно смело. Здесь ждал ее Франк и, взяв на руки, перенес на землю. Жуаните помощь была не нужна. Она в минуту была уже внизу, но теперь надобно было найти средство выйти из этого двора, окруженного высокими стенами. Одна только дверь вела во внутренность дома, но и та была заперта изнутри засовом. Франк хотел выломить дверь, но Жуанита остановила его. – Если вы зашумите, мы погибли. Надобно отворить дверь из дома, и я это сделаю, а там мы легко дойдем до улицы, потому что я оставила отворенными все двери и решетки, а часовые наверху, и не услышат ничего. И она подбежала опять к окну, из которого недавно вышла; ловко взобралась наверх, спрятала простыни, заперла окно и, взяв лампу, отворила дверь в коридор. Услышав стук, часовые подошли к двери, но Жуанита захлопнула ее, сказав громко: – Сейчас, мессир, я принесу вам материю, погодите немного. И улыбнувшись бандитам, которые смотрели на нее с дерзкой усмешкой, она быстро сбежала с лестницы и принялась искать дверь, ведущую во двор. Это было нелегко, но наконец дверь была отворена и Жуанита, взяв руки Франка и Марии, сказала им: – Ради Бога тише, и следуйте за мной. Я заперла только дверь на улицу, а все остальные открыты. Франк побежал в кабинет Соломона сбросить его одежду и взять свой плащ, потом Жуанита повела их прямо к дверям. Как описать ее ужас, когда перед последней дверью она увидела двух бандитов, которые направили мечи прямо на нее. Подозревая что-то недоброе в длинном визите старика к пленнице и не доверяя цыганке, часовые после ее ухода заглянули в комнату и не найдя там никого, поняли, что девушку опять похитили, разумеется, уже не для Перолио. Они побежали тотчас в комнату Соломона, нашли его спящим и бросились к двери на улицу, чтобы догнать беглецов, но дверь была заперта и, обернувшись, они сами удивились, увидев перед собой цыганку и двух молодых людей. К счастью, Жуанита скоро опомнилась и отскочила назад, вдруг бросила лампу, добежала до решетки и быстро заперла ее. Потом, схватив руку Франка, который поддерживал Марию, она побежала дальше, и заперла еще несколько дверей и решеток, так что крики и проклятия бандитов были уже не слышны. Жуанита смеялась над бедными солдатами, которые остались за решеткой, как звери, и не могли никуда выйти. Они были теперь также безопасны, как спящий Соломон, но все-таки не было средств выйти из этого проклятого дома. Франк и Мария понимали свое печальное положение, но Жуанита не теряла присутствия духа и сказала: – Не может быть, чтобы со двора не было двери на улицу. Надобно только хорошенько поискать. Нам никто не помешает теперь… одна только служанка… Она, вероятно, должна знать выходы, я спрошу у ней. И она пошла в кухню. Старуха спала так крепко, что Жуанита насилу растолкала ее. – Что тебе надобно? Кто ты? – спросила она, не понимая, для чего ее будят. – Пожар у нас, что ли? Или дьявол унес моего барина? Я всегда говорила, что старому грешнику несдобровать. – Проводите меня до двери, моя милая, – сказала молодая девушка, мне пора домой. – А, это ты пировала здесь ночью со старым дураком? – сказала служанка сердито. – А я должна еще провожать всякую дрянь. Как же! Ведь барин впустил тебя, так может и выпустит. – Он спит очень крепко, я не могу его разбудить. Пожалуйста, выпустите меня. – Уж ты не задушила ли его твоими ласками? Чего доброго! От вас всего можно ожидать. Да поделом ему, старому. Туда же, бегает за молоденькими. – Пойдемте, поскорее. – Сейчас, красавица; только, чтобы выйти, надобно отворить двери, а у меня нет ключей. – Вот вся связка. – Как, он дал тебе все ключи? – вскричала с удивлением старуха. – Стало быть, он совсем сошел с ума. Вот дурак-то! Доверился девчонке, вместо того, чтобы выбрать порядочную женщину. И служанка, ворча, пошла к двери на улицу, но Жуанита остановила ее. – Выпустите меня из другой двери, я не хочу идти туда. Ведь есть другая дверь? – Есть, в переулок, куда подъезжают телеги с товарами, только там такая грязь, что ты завязнешь и не выберешься до утра. – Ничего, я хочу выйти в переулок. – Тут что-то не чисто, красотка! Что эта за фантазия – купаться в грязи. Ты надула старого дурака, меня не надуешь. Впрочем, мне что за дело, пойдем. Жуанита зажгла фонарь и подозвала Франка и Марию. – Ты здесь не одна! – вскричала старуха с ужасом. – Что здесь было? Моего барина убили, обокрали!.. Да это никак девушка, которую старый прячет наверху, – прибавила она, узнав Марию. – Это заговор, и вы думаете, голубчики, что я буду помогать вам? Нет, мессир Фрокар переломает мне все кости вместо двойного флорина, который обещал, если сберегут девушку до приезда синьора Перолио. – Молчи, старуха, – крикнул Франк с досадой, услышав ненавистное имя, – веди нас, или берегись… – Не пугайте ее, – возразила Жуанита, – она не знает, что вы тоже дадите ей два золотых флорина… или удар кинжалом, если она не будет слушаться нас. – Вот деньги, – сказал Франк, показывая монеты. Старуха схватила жадно флорины и проговорила: – Пойдемте… не мое дело! Она вывела их на тот же двор, провела через сарай и, отворив дверь в переулок, пожелала им покойной ночи. Дождь лил как из ведра. Служанка поспешила к себе на кухню и легла опять, ворча: – Что-то будет! Я ничего не видала, не знаю. Не мое дело, если старик рехнулся. Я не видела, как вошла цыганка, и не обязана знать, как она ушла. Старуха сказала правду. Переулок был непроходим, особенно для женщин. Франк был в высоких сапогах и мог перейти это море грязи, но Мария и Жуанита никак бы не выбрались оттуда. – Я вас перенесу одну после другой, – сказал молодой человек. – Возьмите вашу Марию, – сказала Жуанита, – и не беспокойтесь обо мне, я пойду вперед и буду светить вам. И ловкая цыганка начала прыгать по камням, избегая ямы, а Франк шел почти по колено в воде. В конце переулка грязи уже не было и, к счастью, дождь перестал. В это время трудно было выйти из города, запертого со всех сторон. Жуанита предложила дождаться дня в ее комнатке, и это было самое благоразумное решение, потому что днем было гораздо легче выбраться за ворота незамеченными. Они прошли несколько пустых улиц, как вдруг услышали конский топот и из-за угла показались всадники с несколькими факелами. Что было делать несчастным? Бежать было некуда, да и как бежать от всадников? «Если это ван Нивельд или ван Рюис, – подумала Жуанита, – мы спасены». Между тем отряд приближался, и Франк увидел при блеске факелов, что впереди едет его заклятый враг Перолио. Схватив Марию, он прижал ее в угол, образуемый дверью одного дома, и накинул на нее плащ, а сам заслонил собой Жуаниту. Бедная Мария тоже узнала начальника Черной Шайки и почти без чувств опустилась на землю. – Мы погибли, это Перолио! – прошептала она. Жуанита с любопытством смотрела на итальянца, не понимая страха своих товарищей. – Спрячь фонарь, Жуанита, – шепнул ей Франк. Цыганка исполнила это, и беглецы могли ожидать, что отряд проедет, не заметив их, но с ними был еще рыцарь, который остановил свою лошадь прямо перед Франком и сказал Перолио: – Отчего вы не хотите, мессир, переночевать у меня. – Я уже обещал Берлоти и не могу обмануть его. – Полноте, мессир! – возразил первый. – Я угадываю, что привлекает вас к нему. Верно, старый филин прячет у себя красивую голубку. – Может быть вы отгадали, мессир, – отвечал Перолио. – Право? Скажите мне имя красавицы. – Завтра вы все узнаете. – Так до завтра, любезный граф, приятной ночи. И молодой человек повернул со своим оруженосцем в другую улицу. Во время короткой остановки воины из свиты Перолио осветили факелами угол, где прижались беглецы и, увидев хорошенькую Жуаниту, закрывавшую собой мужчину, начали смеяться. – Что там такое? – спросил Перолио веселым тоном, потому что не знал еще о сражении при Эмне. – Парочка влюбленных, – отвечал один из воинов, – они не боятся дождя, а прячутся от света. – Верно, какой-нибудь бедняк со своей красавицей, – заметил Перолио. – Именно с красавицей, – отвечал всадник, – потому что я редко встречал такую хорошенькую. Не хотите ли посмотреть, капитан… – Не надо, не тронь их, – возразил Перолио. – Пусть и они наслаждаются. Мне некогда, я тороплюсь… Он пришпорил коня, и весь отряд принужден был следовать за ним, хотя многим из всадников хотелось посмотреть поближе на черные глаза цыганки, блестевшие в темноте, как звездочки. Во время разговора Перолио с его воинами Франк вынул кинжал и приготовился поразить первого, кто дотронется до Марии. Когда опасность миновала, он сказал ей: – Успокойся, Мария, Бог не оставил нас! Мария не отвечала, потому что была без чувств. Франк развернул плащ; воздух оживил немного девушку, но она была так слаба, что не могла идти дальше. Между тем опасность была еще велика. Скоро Перолио узнает о бегстве Марии, и будет уже невозможно уйти от него. Бедняжка поняла это, но волнение и испуг до того поразили ее, что она не могла двинуться. Если бы даже она дошла до ворот, то как выйти из города? Жуанита опять помогла им. – Есть одно средство выйти из Утрехта, – сказала она, – это переехать реку на лодке. Но для этого надо дойти до реки и найти лодку. А это не близко. Франк молча смотрел на Марию и замечал, что слабость ее увеличивается. Бедная девушка понимала, что она губит себя и своих товарищей, и сказала слабым голосом: – Франк, брат мой, и вы добрая Жуанита, спасайтесь от мщения Перолио. Я останусь здесь, может быть меня не заметят в моем уголке. Я отдохну и пойду к бургомистру… Он знает моего отца и защитит меня. – Он тотчас выдаст тебя Перолио, – отвечал Франк, – разве кто-нибудь смеет противиться ему? – Так я дойду до монастыря. – Но ведь ты была в монастыре, Мария, и разве бандит не нашел средства похитить тебя? Неужели ты думаешь, что я покину тебя одну и буду спасать себя? Что мне в жизни без тебя… и что скажет ван Шафлер, если я брошу его невесту… мою сестру. Нет, Мария, не обижай меня… я буду защищать тебя до последней капли крови. – Пойдем, мой брат, – проговорила дочь оружейника, приподнимаясь, – мне теперь лучше, силы вернулись ко мне. Она сделала несколько шагов и зашаталась. Тогда, несмотря на ее сопротивление, Франк взял ее на руки, как ребенка, и донес до реки. Они нашли и старую лодку, в которой было, однако, опасно переправляться в такую погоду, но размышлять было некогда, и только Франк перенес Марию в лодку, как цыганка прыгнула в нее и оттолкнула от берега. Весла лежали на дне лодки. Жуанита помогала Франку грести и править как настоящий моряк, и без нее беглецы никогда не добрались бы до противоположного берега, потому что Франк не мог действовать один, а Мария только плакала и молилась. – Теперь мы спасены! – вскричал молодой человек, перенося Марию на берег. – Поблагодарим нашу благодетельницу. Отсюда близко до гостиницы, где я оставил мою лошадь; я донесу тебя, и мы отправимся в лагерь Шафлера. – Нет, Франк, – отвечала Мария, – я теперь могу идти сама. Жуанита научила меня твердости. Пойдемте, друзья мои. Тогда цыганка остановила их и сказала взволнованным голосом: – Я исполнила мое обещание, Франк… Мария спасена… прощайте, будьте счастливы. – Разве вы не пойдете с нами, Жуанита? – спросила печально Мария. – Я вам не нужна более… оставьте меня. – Пойдемте с нами, – продолжала дочь оружейника. – Мои родители примут вас и полюбят как дочь, когда узнают, что вы для меня сделали; а я, Жуанита, я люблю вас как сестру. – Как сестру! О если бы это было возможно! – Отчего же невозможно? Пойдемте, и вы увидите, как мы все будем счастливы. – Нет, я не могу идти с вами. – Отчего же? – Оттого, что вы не сестра Франка, он меня обманул. – Я обманул тебя, Жуанита? – спросил Франк с удивлением. – Да, он сказал мне, что любит Марию как сестру, а это неправда. – Жуанита, молчи ради Бога! – Зачем мне молчать… теперь я знаю все. Вы оба любите друг друга… не братской любовью… Вы, может быть, обманываете самих себя, но меня не обманете. Я лишняя между вами… Прощай, Франк, забудь Жуаниту. И прежде чем Франк мог ответить, прежде чем Мария могла опомниться от такого неожиданного открытия, цыганка быстро прыгнула в лодку и отчалили от берега. Через несколько минут она исчезла в тумане, и вдали слышен был только плеск реки.IX. Военный совет
В большой комнате дома, занимаемого прежде ван Нивельдом, где недавно происходил веселый ужин, во время которого Жуаните удалось спасти Франка, собрались начальники и офицеры партии «трески» на военный совет. Несмотря на блистательную победу, недавно одержанную ими, нельзя сказать, чтобы все были веселы. Губернатор голландский был не совсем доволен тем, что играл в сражении незначительную роль, хотя мост, сожженный им, был главной причиной гибели Черной Шайки. Притом он досадовал, что Шафлер отпустил без выкупа такого важного пленника, как ван Нивельд, тогда как добыча, найденная в Эмне, была очень незначительная. Храбрый капитан Салазар печалился о потере своих лучших воинов, погибших по его неосторожности. Видя пасмурные лица начальников, лейтенанты и офицеры не смели радоваться победе. – Что же это граф Шафлер не идет так долго? – заметил, наконец, губернатор Голландии. – Или сегодняшний герой воображает, что имеет право обращаться с нами, как с побежденными? – Он хотел удостовериться в смерти Перолйо, – отвечал Салазар. – Граф давно ищет случая посчитаться с итальянцем. – Я слышал, что между ними личная вражда, и когда Перолйо служил у епископа, монсиньор часто мирил их. Но частные дела только мешают политике, и вряд ли Давид Бургундский будет доволен поведением своего полководца. – Что вы говорите, мессир? – вскричал с жаром Салазар. – Граф Шафлер действовал сегодня как храбрый и опытный воин, и без него мы бы погибли. Если он старался настичь Перолйо и убить его, разве этот поступок не оправдывается тем, что начальник Черной Шайки – наш злейший враг и недавно еще взял у нас блокгауз? Без него бурграф не мог бы так долго бороться с нами – и потому нам должно думать об одном: взять Перолйо, живого или мертвого. – Но шайка его почти уничтожена; один он не страшен. – Воинов можно всегда набрать, особенно в наше время. Стоит вашим солдатам заплатить дороже, и они с охотой пойдут в Черную Шайку. Разве им не все равно, за кого драться: за треску или удочек? Им была бы добыча, а Перолйо всегда умел найти занятие для своих воинов, которые за него готовы в огонь и в воду. Если он жив, то захочет отомстить нам. Надо принять все меры, чтобы нас не застали врасплох… Да вот и сам граф, – прибавил он, увидев входящего Шафлера. – Скажите, что вы узнали об участи Перолйо? – Он жив, – отвечал жених Марии. – Кто же командовал Черной Шайкой? Кого вы убили? – Его лейтенанта Вальсона. – Это большое несчастье, – сказал губернатор, – но его можно поправить. Мы можем еще встретиться с этим человеком, а теперь должны решить: как нам действовать и как обеспечить победу. Вы граф, как герой нынешнего дня, выскажите ваше мнение; мы слушаем вас. – Я полагаю, – начал Шафлер тихим голосом, – что нам надобно воспользоваться страхом и расстройством неприятеля, чтобы сделать еще одно нападение. Мы можем идти прямо на Утрехт… там Перолйо… – Вы думаете, мессир, только о Перолйо, – возразил губернатор насмешливо, – а забываете, что Утрехт не деревня, и что его взять совсем не так легко, как Эмн. Притом, если неприятель в расстройстве, то и нам надобно поправиться. Скажите, капитан Салазар, в состоянии ли вы выступить в поход через час? – Вы знаете, мессир, что у меня много убитых и раненых и что с сотней людей нельзя ничего сделать. – Так, может быть, граф Шафлер надеется взять Утрехт с одними своими всадниками, потому что и я не могу помочь ему. У меня несколько барок повреждены кольями, и их надобно починить, прежде чем пуститься в путь. Я не согласен вести моих людей на верную смерть. – Отчего же на верную?.. – спросил нерешительно Шафлер. – Неприятель не приготовился… не ожидает… – И откроет вам настежь городские ворота? – перебил голландец. – Да если в городе и совсем нет солдат бурграфа, городской стражи достаточно, чтобы разбить нас. Вы знаете, как защищают мещане свои жилища и семейства, как же можно думать, что мы успеем овладеть Утрехтом, где уже вероятно, знают о поражении при Эмне и приняли свои меры? Я не узнаю вас, граф Шафлер. Вероятно, личная месть заставляет вас забывать, что вы жертвуете ей из прихоти жизнью тысячи людей. Шафлер молча опустил голову. Он понимал всю справедливость слов губернатора и чувствовал, что любовь к Марии превозмогла в нем обязанности начальника. При одной мысли о том, что Перолио, может быть, в эту минуту приехал в Утрехт, сердце молодого человека обливалось кровью, и он не мог без ужаса вспомнить о бедном отце, который ждал с нетерпением решения совета. Но что было ему делать одному? Он мог только умереть за Марию, но и смерть его не принесла бы никому пользы. Стало быть, оставалось покориться судьбе и исполнить свой долг. Он скрыл свое волнение и страдание и, протянув руку губернатору, сказал с чувством: – Благодарю, мессир, что вы меня образумили. Единственным моим желанием было поскорее окончить эту безбожную войну между соотечественниками, и я хотел или погибнуть, или окончательно победить бурграфа; но я не имею права жертвовать безумно жизнью воинов, и готов исполнить то, что вы прикажете. – Мы не имеем никакого права вам приказывать, граф, мы можем только советовать, – проговорил губернатор смягченным тоном. – Мне кажется, – сказал Салазар, – что если бы мы были в состоянии и согласились идти на Утрехт, то не должны бы на это решиться. – Почему? – спросило несколько голосов. – Разве вы не знаете монсиньора Давида? – продолжал гасконец. – Он предоставил графу ван Шафлеру свободу брать маленькие селения и деревни вокруг его лагеря, а напасть без его позволения на такой город, как Утрехт – значит рассердить прелата и, может быть, сделать большую неловкость. Вы знаете, что епископ ждет со дня на день прибытия императора Максимилиана и бережет города, которые достанутся ему и без сражения. – Это правда, – отвечал губернатор. – Мы бы давно могли дать сражение, но он нас удерживает. – Так решайте же, что нам делать? – сказал Шафлер, торопясь переговорить с Вальтером. – Вот что я предлагаю, мой нетерпеливый герой, – начал голландец. – Утрехт мы оставим в покое и подождем, чтобы Перолио вышел из него с остатками своей шайки. Капитан Салазар, у которого много раненых, останется здесь, поправит укрепления и будет узнавать через шпионов, что делается в Утрехте и когда будет возможно дать новое сражение. Согласны вы на это, капитан? – Согласен. Я укреплю Эмн и буду извещать обо всем. – А я что должен делать? – спросил ван Шафлер. – Вам, граф, я бы советовал воротиться в ваш лагерь и ждать новых приказаний епископа. Вы можете делать небольшие нападения на деревни, принадлежащие бурграфу Монфортскому, и если моя помощь будет вам нужна, я всегда к вашим услугам. – Я еду через два часа, только соберу моих людей. – Зачем же так торопиться? Нам никто не угрожает, а вашим солдатам надобно отдохнуть. Завтра утром мы отправимся вместе. – А вы куда, мессир? – спросил Салазар. – Я поеду в Дурстед, объявить епископу о нашей… то есть о победе графа Шафлера, и потом вернусь в свой лагерь. Скажите откровенно, господа, если в моем решении есть недостатки и подайте ваше мнение. – Нет, это самое благоразумное решение, – решили присутствующие и начали расходиться. Вальтеру стоило взглянуть на лицо своего будущего зятя, чтобы догадаться, что на него нечего надеяться для спасения дочери, и потому, подойдя к нему, он пожал ему руку, сказав: – Прощайте, мессир Жан. – Куда вы, Вальтер? – проговорил Шафлер машинально, как будто не знал, что бедному отцу нет другой дороги, кроме Утрехта. – Неизвестность убивает меня! – вскричал оружейник с отчаянием. – Я хочу сам удостовериться в моем несчастье; и если моя дочь потеряна для меня навсегда, я не умру, не отомстив злодею. – Успокойтесь, мой добрый Вальтер, и подумайте, что вы можете сделать один? Я обязан ехать обратно в мой лагерь и не могу дать вам даже отряда… но к чем и это послужит? Послушайте меня, друг мой. Вы видите, я сам немного успокоился, и это потому, что я надеюсь… Мария в безопасности. – Разве это возможно? Вы сами слышали от Видаля, что Перолио должен быть сегодня в Утрехте. – Знаю, но очень вероятно, что весть о нашей победе застанет его прежде, нежели он приедет туда, и тогда он, как воин, как любимец бурграфа, должен забыть все и собрать войско. Стало быть, ему будет некогда подумать о Марии. – Полноте утешать меня, мессир, и отпустите скорее; каждая минута дорога. – Но как вы попадете в город, особенно ночью, когда ворота заперты? – У меня есть много знакомых в городской страже и меня пропустят; а там я отыщу дом Берлоти. – Ступайте же с Богом, Вальтер. Только возьмите лошадь и денег. – У меня есть деньги, а лошади не надо. Я плохой ездок и скорее дойду. Скажите мне только, не слыхали ли вы о Франке, где он? – Где Франк? – проговорил чей-то голос, и Шафлер, оглянувшись, увидел старого Ральфа. Но это был не тот бодрый, крепкий старик, который мог поспорить с молодыми. Он едва держался на ногах, придерживаясь за стену и дрожал всем телом; даже голос его стал глух, как у умирающего. – Что с вами, Ральф? – спросили они оба, бросаясь к старику, которого усадили, поддерживая его, чтобы он не упал. Вальтер догадался достать фляжку с вином и поднес ее к сухим губам пастуха. Тот пил с жадностью, ища чего-то глазами. Вальтер подал ему хлеба и мяса, потому что для Шафлера был приготовлен ужин, и Ральф ел с удовольствием. – Откуда вы? – спросил граф, когда старик немного подкрепил себя. – Ведь вы пошли искать Франка и должны знать, где он. – Я приказал ему идти в ваш лагерь, – проговорил Ральф, – несчастный, он верно в Утрехте. – Но зачем вы здесь и в таком виде? – спросил Вальтер с нетерпением. – Я был в плену у Перолио, который подозревал, что я помог Франку уйти. Не знаю, почему он не велел меня тотчас же повесить; верно он хотел узнать от меня, куда скрылся Франк. Меня заперли в чулане и не давали ничего есть. Если бы воины Салазара не выбили дверь чулана и не довели меня до этой комнаты, я бы умер с голоду, как в той башне, где вы избавили меня и Франка от мучительной смерти… Теперь, друзья мои, мне лучше, я пойду его искать. – Что вы, Ральф, вы так слабы, – вскричал Шафлер, – я вас не пущу… Вальтера я не удерживаю, он идет к дочери, которая в опасности, а Франк мужчина… он сумеет сам защищаться. – Франк мне дороже сына, – проговорил старик, – в нем я люблю ту, для которой пожертвовал саном, богатством, именем… он не должен погибнуть… он мое мщение! Непонятные слова старика удивили и испугали Вальтера, принявшего их за бред, но Шафлер видел в них смысл, давно подозревая, что Ральф не простой пастух. Поэтому он сказал ему: – Добрый Ральф, согласитесь отдохнуть немного и успокойтесь. Если Франк в Утрехте, Вальтер увидит его скоро и пришлет к вам. Вы с ним тогда увидитесь. Вы не в состоянии дойти и до половины дороги. – Нет, я могу, – проговорил старик и хотел было встать, но силы ему изменили, и он опять упал в кресло. – Это правда, теперь я не могу… но завтра я буду крепче… завтра я пойду. – Хорошо, – сказал Шафлер и, позвав своего оруженосца, приказал ему отвести старика в комнату и исполнять все его желания, а сам проводил Вальтера до улицы и обнял его на прощание, может быть, последний раз в жизни. Долго еще раздавались песни солдат, пирующих победу, прерываемые стонами раненых и умирающих, которые в то время не могли ожидать облегчения. В войсках были коновалы, заботившиеся о лошадях, но врачей не было, и все болезни лечили монахи или колдуньи. В Эмне не было ни тех, ни других, но нашлись добрые люди из жителей и солдаты, которые перевязали раненых, как умели. Капитан Салазар, вступивший уже в управление взятым селением, заботился о его безопасности, поставил везде часовых, приказал устроить наскоро мост через канал и выбрал себе для жительства лучший дом. Голландский губернатор и Шафлер остались до утра в квартире ван Нивельда. Когда поутру войско было готово к выступлению, Шафлер вышел вместе с Ральфом, которого уговаривал не пускаться в путь, но старик опять был бодр и даже смеялся над своей вчерашней слабостью. – Не бойтесь за меня, – говорил он, – я старый дуб, и меня трудно сломить. Скоро вы увидите меня с Франком или не увидите ни одного из нас. Прощайте, мессир. Граф пожал руку старику, и они расстались.X. Радость и горе
Франк и Мария, оставшись одни, долго не могли опомниться от последних слов цыганки. Франк знал давно, что любит Марию не любовью брата, но бедная девушка в первый раз ясно читала в своем сердце, и ей стало страшно за свою будущность. Она не смела взглянуть на своего спутника, боялась взять его руку и не знала, что сказать. Франк опомнился первый и проговорил тихо: – Пойдем, Мария… скоро будет светло… до гостиницы не близко. Возьми мою руку… тебе будет легче идти. – Не надо, – прошептала девушка и пошла возле Франка. Долго оба молчали, обдумывая свое положение, наконец Мария сказала с необыкновенной твердостью: – Выслушай меня, Франк… Жуанита отгадала, что я люблю тебя больше, чем брата; вижу, что и ты отвечаешь мне тем же. Но разве мы можем быть счастливы? Я – невеста твоего друга, дала слово без принуждения и не могу взять его обратно. Если бы я могла поступить в монастырь, это было бы мне утешением, но тогда надобно будет сказать причину этого отцу, а я никогда не решусь на это. Итак, мой милый Франк, останься моим братом. Скрывай твою любовь, как я буду скрывать свою, и станем жить для других. – Но это ужасно, – вскричал Франк. – За что мне суждено такое несчастье? У всякого есть родные, имя, дом, у меня нет ничего, и я должен сверх того отказаться от твоей любви! Лучше не жить совсем. – Успокойся, Франк, и не ропщи. Разве я тоже не страдаю? Можно найти счастье и в исполнении своих обязанностей. Ты найдешь развлечение в войне, в политике, в перемене места, а я буду покорной женой твоего друга, благодетеля… Теперь никогда, ни слова больше о любви, я этого требую… я прошу тебя, брат мой! – Повинуюсь тебе, сестра моя. Я передам тебя графу, и больше ты не услышишь обо мне. – Отчего же ты не свезешь меня в Амерсфорт к матушке? Как давно я не видала ее. Франк остановился. Он знал о смерти Марты, но боялся поразить дочь страшной вестью, и особенно в то время, когда ей нужны были все ее силы. Притом эта кончина не дозволяла скорой свадьбы Марии, которая могла удалиться на время в монастырь, как желала этого. Эти мысли мучили и радовали молодого человека, но он все-таки не хотел объявить дочери о ее потере. – Что ты молчишь, Франк? – спросила девушка с беспокойством. – Я тебя спрашиваю, зачем ты не отвезешь меня домой? Разве в Амерсфорте все еще стоит Черная Шайка? – Да, – отвечал отрывисто молодой человек, – я свезу тебя в Дурстед, там есть женский монастырь, безопасный от всех нападений, ты там дождешься своего отца. И видя, что Мария хочет его расспрашивать, он прибавил: – Пойдем скорее; перестань говорить. Твой голос расстраивает меня и заставляет забыть, что я должен быть только твоим братом. Не лишай меня твердости. – А скоро мы дойдем до гостиницы, где ты оставил лошадь? – Скоро; разве ты устала? Дай, я понесу тебя. И, не дождавшись ответа, он быстро схватил на руки драгоценную ношу и почти побежал с ней по дороге, зная, что это может быть последние счастливые минуты его жизни. Мария не сопротивлялась, только чудные ее глаза обратились к небу, на котором разлилась заря, и она тихо шептала молитву, чтобы Бог спас ее от собственного сердца. Перед страстным Перолио девушка была смелее и хладнокровнее, и готова была защищаться, но каждое слово Франка трогала ее и лишало всех сил. Она предвидела, что если путешествие их продлится, оба они погибнут, и им нельзя уже будет вернуться к отцу. В эту минуту даже скитальческая жизнь с Франком казалась ей раем, и она готова была для него забыть все. Но мысль о Боге, о матери, строгие правила, внушенные ей патером ван Эмсом, удержали ее на краю бездны; молитва подкрепила ее и она сказала Франку: – Отпусти меня, брат, я могу идти сама… притом уже светло, могут встретиться люди. – Так что же? Нас здесь никто не знает, позволь мне донести тебя до гостиницы. – Нет, Франк, ты забываешь наш уговор, нам навстречу идет какой-то человек; ради Бога, оставь меня. Франк опустил на землю Марию, проклиная в душе раннего путешественника, но в эту минуту она вскрикнула и побежала вперед, как безумная. Хотя путешественник был еще далеко и шел с опущенной головой, но молодая девушка скорее сердцем, чем глазами узнала своего отца и бросилась к нему навстречу. Скоро и Франк узнал Вальтера и подошел к нему в ту минуту, как Мария от радости лишилась чувств. К счастью, трактир был уже в нескольких шагах и ее перенесли туда. Обморок был не продолжителен и, раскрыв глаза, Мария опять бросилась обнимать отца, рассказывая ему несвязно, как ее спасли Франк и Жуанита, и как она счастлива, что опять увидится с доброй матушкой. При этих словах Вальтер и Франк переглянулись, потому что ни один не хотел решиться объявить ей о смерти матери. Заметив печальное выражение отца, Мария вдруг страшно побледнела, прижала руки к сильно бьющемуся сердцу и сказала раздирающим голосом: – Боже! Какое испытание! Батюшка, отчего вы мне ничего не говорите о матушке. Где она? Что с ней? Вальтер зарыдал, закрыв лицо руками, а Франк сказал со слезами: – Матушка молится за нас на небе. Будь тверда, Мария… тебе надобно утешать отца. Но Мария оставалась неподвижна и бледна как статуя. Она не могла плакать, а между тем страдала так сильно, что жаль было смотреть на нее. Вальтер, забыв собственное горе, бросился к ней. – Опомнись, Мария… молись. Марта, умирая, благословила тебя; она приказала тебе жить… – Я буду… жить… для вас… – прошептала бедная девушка, измученная столькими волнениями. Удивительно, как она могла перенести столько горя, привыкшая к тихой домашней жизни, к семейным радостям. Если бы год тому назад, кто-нибудь сказал ей, что она будет героиней стольких приключений, что ее будут несколько раз похищать, что она убежит ночью и будет скитаться по дорогам, – она приняла бы все это за страшный сон. Но смерть любимой матери поразила ее более преступных покушений Перолио. Она не лишилась чувств, не рыдала, но, казалось, в ней замерла жизнь, и она превратилась в автомат. Это положение более всего пугало Вальтера, который вспомнил, что после разлуки с дочерью Марта не плакала и не жаловалась, но угасла молча. Нельзя было и думать о немедленном отъезде, потому что Мария была очень слаба, и потому, поручив ее заботам хозяйки гостиницы, женщины доброй и молчаливой, Вальтер вышел с Франком в соседнюю комнату и сказал: – Радость и горе – вот наша жизнь! Что, если Мария не перенесет этого удара? – Она так молода, батюшка, она поправится, – заметил Франк, садясь подле оружейника. Оба они были измучены дальней ходьбой, и отдохновение было им необходимо, но положение Марии беспокоило их до того, что они не могли уснуть и, приказав подать пива и закуску, продолжала тихо разговаривать. Вальтер расспрашивал о всех подробностях спасения дочери, Жуанита сильно заинтересовала его. – Надобно отыскать и спасти эту девушку от опасностей, – сказал Вальтер. – Она не раз спасала и твою сестру. Ясно, что она тебя любит. – Что вы говорите! – вскричал Франк, догадываясь, что оружейник сказал правду. – Только слепой не заметит этого, – возразил Вальтер, – и ты был бы неблагодарен, если бы не отвечал ей тем же. Разумеется, молодой человек не рассказал своему воспитателю о последней сцене, когда Жуанита, прощаясь с Франком и Марией, сказала, что они любят друг друга, и оружейнику не могло придти в голову, что бывший его работник может страстно любить свою названную сестру, невесту своего друга. Вальтер продолжал: – Жаль, что вы не уговорили ее бежать вместе с вами из Утрехта. Там она может попасть в руки изверга Перолио и никто не заступится, не отомстит за бедную девушку. Она сирота, как ты, Франк, она прекрасна и чиста, и даже не цыганка; право, ты хорошо сделаешь, если женишься на ней. Я уверен, что и мессир Шафлер посоветует тебе тоже. – Вы думаете, батюшка? – спросил Франк рассеянно. – Разумеется. Разве сам он не доказал, как пренебрегает предрассудками. Он дворянин, полководец, любимец епископа и женится на простой мещанке, когда мог выбирать между дочерями вельмож, а ты, хоть и лейтенант его, но можешь, не унижая своего звания, жениться на бедной девушке, которой обязан жизнью и честью своей сестры. – Это правда, – проговорил в смущении молодой человек, – я ей многим обязан… но я не думал о женитьбе. – Да теперь еще рано и думать. Надобно прежде найти средство вызвать Жуаниту к нам. – Но мне хотелось бы прежде довести Марию до безопасного места. – Об этом не беспокойся. Со мной Марии ничего бояться. Я подожду ее выздоровления и отвезу ее к Шафлеру. Пусть он решает, что делать. – Так вы хотите, чтобы я опять шел в Утрехт и искал Жуаниту? – Нет, я тебе ничего не приказываю и даже не могу советовать. Старый Ральф имеет над тобой больше власти, потому что следил за тобой с твоего рождения. Он тоже пошел отыскивать тебя и скоро будет здесь. И оружейник рассказал Франку о последних приключениях бедного старика, который чуть опять не погиб голодной смертью и, несмотря на свою слабость, хотел тотчас же пуститься в путь. Но вероятно Шафлер уговорил его переночевать и отдохнуть. Вальтер справлялся поминутно о дочери, которая наконец уснула. Но сон ее был тревожный; она была в жару, и странный бред ее пугал отца. Она говорила о Перолио, о матери, призывала Франка и умоляла его избавить ее от ненавистного брака; потом просила прощения у Шафлера и твердила, что пойдет в монастырь. К утру она однако успокоилась, спала крепко и, проснувшись, сказала отцу: – Батюшка, мне лучше и я могу ехать. – Как я рад, милая Мария, как обрадуется граф Шафлер. – Батюшка, – сказала девушка с необыкновенной твердостью, – неужели вы потребуете, чтобы я тотчас вышла замуж, забыв о матушке? – Я не требую этого, дочь моя, но я дал слово Шафлеру, ты тоже согласна, и в последнее время мы решили как можно скорее окончить это дело. – А если я вас прошу меня свести в монастырь? – Как! Ты не хочешь выходить за Шафлера? Ты чувствуешь себя недостойной этой чести? – О нет, батюшка, я не отказываюсь, но чувствую, что мне надобно поправиться, помолиться. Разве могут придти мысли о счастье, когда я не могу удержать слез, и будет ли мессир Жан доволен такой печальной невестой? – Это его дело. Я все-таки отвезу тебя к нему. Помни, дочь моя, что у тебя нет другого убежища, кроме дома твоего мужа. Для твоего спасения я бросил все; дом наш в Амерсфорте принадлежит другому, и ты не можешь быть безопасна даже в монастыре, покуда жив Перолио. О, отчего он не погиб вчера от руки Шафлера! Вальтер начал собираться в путь и сказав Франку, чтобы он дожидался Ральфа, посадил Марию на лошадь, закутав ее в широкий плащ, так что нельзя было даже догадаться, что это женщина, и сам хотел вести животное. Но оружейник не умел ни ездить верхом, ни обращаться с лошадьми и потому поневоле должен быть исполнять просьбу Франка, не хотевшего оставаться в гостинице и просившего взять его в проводники Марии, говоря, что если Ральф пойдет по этой дороге, то они встретят его. Они отправились все вместе, щедро наградив трактирщика и взяв с него обещание, что в случае погони Перолио, он не скажет, кто у него останавливался. Франк вел лошадь, а оружейник шел сбоку, поддерживая Марию. Все они молчали и внимательно смотрели на дорогу, чтобы увидеть Ральфа или свернуть в сторону, если покажутся воины, с которыми в то время опасно было встречаться, к какой бы партии они ни принадлежали. Они грабили своих и чужих, потому что жалованье выдавалось им очень неаккуратно, а обидеть девушку считали обыкновенным делом. Вот почему маленький караван подвигался осторожно и встретил Ральфа близ Эмна, потому что старик не мог идти так скоро. Радость его при виде Франка была так велика, что он забыл даже его побранить за непослушание и присоединился к путешественникам, чтобы вместе с ними дойти до лагеря Шафлера. Можно себе вообразить восторг графа, когда он узнал, что невеста его спасена. Он с жаром благодарил Франка, благословлял Жуаниту, про которую ему успели рассказать, и даже не проклинал более Перолио. Он был счастлив и весел, как ребенок, и начал распоряжаться помещением своих гостей. – Мессир Жан, – сказала ему грустная невеста, – мне надобно поговорить с вами. – С охотой, Мария, я вас слушаю, – сказал граф и, взяв ее за руку, повел в другую комнату. – Батюшка, пойдите и вы к нам, – сказала Мария Вальтеру, который был пасмурен во всю дорогу и что-то все обдумывал. – Я знаю, о чем ты хочешь переговорить с графом, – сказал он отрывисто, – и буду ждать его решения. Говори одна, а я с Ральфом и Франком займусь здесь завтраком и подкреплю мои силы. Оставшись с женихом, Мария смешалась и не знала, как объяснить ему свое желание. Притом она так глубоко уважала этого человека, так была уверена в его искренней любви, что ей было жаль огорчить его. Под влиянием Франка она была готова на все, но теперь ей стало стыдно, что она увлеклась, забыла свои обязанности, священные обещания и, протянув руку графу, она проговорила со слезами: – Простите меня, мессир Жан. – Что с вами, Мария? К чему эти слезы, я не понимаю вас… – сказал ван Шафлер, целуя руку Марии. Девушка быстро отерла слезы, подняла голову и, глядя прямо в глаза жениха, сказала с твердостью: – Мои слезы не должны вас удивлять, мессир, я только недавно узнала о смерти моей матушки и не могу забыть моего горя. – Простите, Мария, что я забыл об этом. Смерть доброй Марты поразила и меня, стало быть очень понятно, что вы долго о ней не забудете. – О никогда, никогда! – вскричала девушка. – Но у вас остался отец, и вы не должны предаваться отчаянию. Вы хотите что-то сказать мне. Будьте откровенны, вы знаете, что я ваш лучший друг. – Да, вы добрый, благородный друг, вы поймете, что после всех волнений, испытанных мной и после недавней потери, мне надобно отдохнуть и успокоиться. – Вы хотите отложить нашу свадьбу? – спросил Шафлер бледнея, но спокойным голосом. – Я хочу помолиться и приготовиться к такой важной перемени в жизни. – Значит, вы хотите провести некоторое время в монастыре?.. Не смею удерживать вас. Я буду ждать сколько хотите… – Назначьте сами время, мессир; согласитесь, что теперь дурные времена для свадеб. – Согласен, Мария; только никакие времена не мешали мне вас любить, и разлука с вами усилила мою привязанность к вам, тогда как вы заметно переменились. – Какую же вы находите во мне перемену? – Несчастья развивают и укрепляют нас. Вы тоже, моя тихая, скромная голубка, сделались смелее и тверже, не потеряв нисколько вашей скромности и нежности, но вы не умеете скрывать ваших чувств, и я вижу ясно, что вы боитесь брака со мной. Еще раз прошу вас, будьте откровенны. Я вас люблю больше жизни, но если вы не надеетесь быть со мной счастливы, скажите одно слово – и я откажусь от вас. – О нет, мессир, это невозможно. – Возможно, если вы меня не любите. Мария готова была открыть свою тайну. Она была уверена, что благородный Шафлер сам возьмется устроить ее союз с Франком, но это великодушие должно быть стоить ему дорого, все давно считали ее невестой Шафлера; притом надобно было огорчить отца. Она решилась быть твердой и не уступить в великодушии жениху. – Уверяю вас, мессир, – сказала она, – что чувства мои к вам нисколько не переменились; вы сделаете жену вашу счастливой. Назначьте сами день нашей свадьбы, только позвольте мне ждать этого дня не в вашем лагере. – Благодарю вас, милая Мария, – вскричал граф в восторге. – Ваши слова оживили меня. А то мне пришли в голову страшные мысли. Вы правы, здесь, в деревне, в лагере, вам нельзя оставаться. Я попрошу епископа Давида, чтобы он поместил вас в монастырь св. Берты в Дурстеде. Там настоятельницей женщина, которую он уважает и охраняет от всех опасностей. Туда уже не проберется Перолио и его сообщники, и я сам приду за моей невестой в тот день, когда поведу ее к алтарю. – А это будет… скоро? – спросила Мария, краснея. – Думаю, что скоро, – отвечал граф улыбаясь. – Кажется епископ Давид хочет опять перемирия и бурграф не будет противиться. Из Германии пришли радостные вести. Император оканчивает войну и собирается на помощь к нам. Стало быть, через месяц будет непременно мир или перемирие, и тогда я назову вас моей. И Шафлер обнял дрожащую девушку и поцеловал ее в лоб, как вдруг раздался веселый смех Вальтера, стоящего в дверях. – Вот вы чем занимаетесь здесь, – вскричал он, – хороши переговоры! А я, старый дурак, думал, что вы ссоритесь или собираетесь в монастырь. Ну, что вы решили? Шафлер объяснил оружейнику, что надобно дождаться перемирия, чтобы сыграть свадьбу и как только Мария отдохнет, он даст ей отряд, который проводит ее до Дурстеда, и Франк отвезет письмо к епископу с просьбой о принятии на время невесты Шафлера в монастырь св. Берты. – А куда же вы отправите меня, любезны мой зять? – спросил Вальтер, смеясь. – Нет ли в Дурстеде мужского монастыря, куда бы можно было спрятать и меня от Перолио? – Если, мастер Вальтер, – сказал Ральф, вошедший в открытую дверь. – Там дадут нам убежище, потому что и я иду в Дурстед; мне надобно перед смертью увидеться с Давидом и поручить ему Франка. Все с удивлением посмотрели на старика, который часто говорил загадочно, но никто не смел его расспрашивать, зная, что он не откроет своей тайны. На другое утро отряд был готов, и Мария прощалась с графом, как вдруг прискакал гонец от епископа с приказанием Шафлеру явиться как можно скорее в Дурстед. – Какое счастье! – вскричал граф. – Я еду с вами, Мария! Скорее лошадь, – сказал он оруженосцу. Все засуетились и забегали, но прежде всего надобно было сдать начальство лагерем на время отсутствия Шафлера. Франк, как лейтенант, должен был бы остаться, но он служил еще недавно, мало знал солдат и военное искусство, и потому граф призвал старшего офицера и, дав ему все наставления как действовать, вскочил на лошадь и поехал возле Марии, которая, приняв твердое намерение, была покойна и весела, и печальные взгляды Франка не смущали ее.XI. Гнев Перолио
Можно себе вообразить ярость Перолио, когда выломав дверь с улицы, потому что ее не отпирали, он узнал от солдат, запертых между дверью и решеткой, что пленница убежала. Надобно было ломать все двери, запертые Жуанитой, и от этого страшного шума не проснулись ни Соломон, ни старая служанка, которая бросила ключи в коридор, чтобы не могли ее подозревать в помощи беглецам. Перолио принял сначала Берлоти за мертвого, но когда солдаты его хорошенько потормошили и облили холодной водой, он начал понемногу приходить в себя и припоминать, что с ним случилось. Поняв, наконец, что цыганка опоила его каким-то зельем, он вскочил на ноги и закричал: – Где мои ключи? Меня обокрали! И он не ошибся, потому что под предлогом розысков, часть солдат, провожавших Перолио, разошлась по дому и припрятала в карманы все, что можно было спрятать. – Где девушка, которую ты должен был беречь? – спросил грозно Перолио. – Благодаря твоему разврату цыгане хозяйничают у тебя в доме. Ты мне поплатишься дорого за свою оплошность. – Помилуйте, синьор, – говорил старик, – мог ли я подозревать, что Жуанита хочет спасти вашу пленницу… я думал, что она ревнует. – Что тебя одурачила девчонка, это хорошо, но отнять у меня Марию, когда мне было так трудно добыть ее. О! Я отплачу за это! Тотчас бегите к городским воротам, – сказал он нескольким воинам, – скажите, чтобы не выпускали никого без осмотра, потом обойдите весь город и отыщите мне проклятую цыганку. Она узнает, что значит навлечь на себя гнев Перолио. – Что вы хотите с ней делать? – спросил Соломон, который кажется все еще любил цыганку и боялся, чтобы она не попала в руки бандита. – А тебе что за дело! Не думаешь ли ты, что я буду церемониться с твоей красавицей? Я ее отдам на потеху моим солдатам, а потом велю повесить. – Пощадите, синьор, прошу вас, я выкуплю ее, – умолял старик, воображение которого рисовало чудный образ девушки. – Нет, – проговорил отрывисто Перолио, – это будет уроком и тебе, чтобы ты впредь лучше исполнял мои приказания. – Ваши приказания, синьор! – сказал Соломон с досадой. – Разве вы мой начальник, разве я тюремщик, чтобы охранять ваших любовниц? Впрочем, я напрасно упрашиваю вас. Жуанита не так глупа, чтобы оставаться в Утрехте. Она верно уже далеко отсюда. – Я здесь, – сказала цыганка серебристым голосом и смело вошла в комнату. – Как! – вскричал ростовщик. – Зачем ты вернулась? А, понимаю, ты из ревности выпустила пташку, чтобы остаться одной у меня в доме. О! Что ты наделала, шалунья! И Соломон бросился к девушке, чтобы обнять ее, но она оттолкнула его так сильно, что он едва устоял на ногах, и отвечала презрительно: – Оставь меня, гадкий старикашка, я пришла не к тебе, а к синьору Перолио. Последний с любопытством смотрел на красавицу, удивляясь ее смелости, но гнев еще кипел в нем и он вскричал: – Так это ты смела освободить девушку, которая принадлежала мне! – Она не могла принадлежать вам, синьор, – отвечала Жуанита, – потому что не любит вас. – Как ты смеешь говорить так со мной? Ты знаешь, что я могу тотчас тебя повесить? – Если я пришла к вам сама, когда могла легко уйти из города, значит я не боюсь смерти. Смелость и уверенность девушки удивляли Перолио, который никогда не встречал подобных женщин, но в то же время он ощущал какое-то непонятное чувство. Красота Жуаниты поразила его, как всех, кто видел ее в первый раз, но ни одна красавица не производила на него такого странного впечатления. Его смущал гордый, ясный взгляд цыганки; гнев его прошел, он забыл Марию и не мог насмотреться на черты Жуаниты, напоминавшие ему что-то особенное. Старик Соломон, забыв все обиды, тоже не спускал глаз с девушки и только твердил в восторге: – Какая смелость! Какая красота! Не понимая движений своего сердца, Перолио готов был простить виновную и даже просить у нее прощения за угрозы, как вдруг вбежал Рокардо с несколькими солдатами Черной Шайки. Все они были покрыты кровью и грязью и едва держались на ногах от усталости. Рокардо едва мог проговорить: – Мы разбиты!.. Эмн взят! Это известие поразило Перолио. Он как зверь бросился на Рокардо и начал трясти его за ворот, но бедняк был не в силах проговорить ни одного слова. Другой воин, успевший вздохнуть и выпить вина, которое стояло на столе после вчерашнего ужина, объяснил начальнику, как неприятель напал на их лагерь и как почти вся Черная Шайка погибла в канале. – Мы успели прорваться сквозь ряды всадников Шафлера, – прибавил солдат, – и поскакали, чтобы известить вас о несчастье. – Опять Шафлер! – вскричал Перолио в бешенстве. – Как мне отомстить ему?.. Да, эта девчонка его сообщница, он подослал ее сюда… она заплатит за всех. И обратясь к толпе солдат, собравшихся, чтобы узнать новости от Рокардо, бандит заревел: – Возьмите эту цыганку и потешайтесь ею, а завтра чтобы она была повешена перед дверьми этого дома! С диким криком бросились солдаты к Жуаните, которая, улыбаясь презрительно, отступила к стене, чтобы ее не могли окружить, и прежде чем один из бандитов дотронулся до нее, она достала свой маленький кинжал и поразила себя в грудь. Солдаты отхлынули от нее, а она упала, обливаясь кровью и шептала с ангельской улыбкой: – Прости, Франк. – Что вы сделали! – вскричал Берлоти, плача навзрыд. – Бедняжка! Так молода и так хороша! И забыв свою глупую любовь, старик положил раненую на диван и старался унять кровь. Раненая еще дышала и угасающий взор ее не покидал Перолио, который может быть в первый раз в жизни раскаялся, что погубил бедную девушку. – Посмотрите, синьор, – сказал Соломон, перевязывавший рану, – какой богатый крест на шее у Жуаниты и какой странной формы! Перолио подошел к дивану и, взглянув на крест, страшно побледнел. – Откуда ты взяла его, Жуанита, – проговорил он глухим, задыхающимся голосом, – скажи, умоляю тебя? Но она не могла выговорить ни слова, на губах ее показалась кровавая пена, зубы были стиснуты от боли. Перолио закричал в отчаянии: – Спасите ее, приведите врача, я озолочу того, кто вылечит ее! Может быть, рана не смертельна. – Кажется, надежды мало, – сказал Соломон, понимавший медицину и хлопотавший около раненой вместе со старой служанкой. – Ее детская рука была сильна и если бы удар не ослаблен был немного этим крестом, она умерла бы в минуту; теперь, она, может быть, промучается несколько дней. – Где вам ее вылечить, – вмешалась старая служанка. – Только одна колдунья падерборнских развалин может помочь ей. – Колдунья? – спросил Перолио. – Разве она лечит? – Как же! У соседки Бригитты сын подрался в кабаке и ему раскроили череп. Страшно было смотреть на него, и врач бурграфа объявил, что он умрет Но старуха положила сына в телегу, поехала в Падерборн и предлагала колдунье свою душу, чтобы та починила голову сына. Не знаю, взяла ли она душу, только сын Бригитты через неделю был здоров и опять буянит по кабакам. – Послать за ней, – вскричал Перолио, забывший и погибель своей шайки, и войну, и Шафлера, и думавший только, как спасти непонятную девушку и расспросить ее о странном кресте. – Не трудитесь посылать, – возразила старуха. – Дочь Барбелана не выходит теперь из своих развалин. Верно, хозяин запретил ей. Все больные должны сами отправляться в развалины. – Но Жуанита так слаба… и без чувств. – Я перевязал рану хорошо, – сказал Берлоти, – и обморок ее может быть продолжителен. Я думаю, если ее перенести осторожно в спокойных носилках, ей не будет хуже. Впрочем, вряд ли ей помогут все колдуньи света. – Надобно испытать все. Велите приготовить носилки. – Но вы забыли, что никто не согласиться нести ее в Падерборн. Носильщики бросят ее непременно на половине дороги, лучше оставьте ее здесь умереть спокойно. – Я не хочу, чтобы она умерла, – настаивал Перолио, – я сам отвезу ее к колдунье. Соломон с удивлением смотрел на итальянца и не узнавал его. Грозный, безжалостный начальник Черной Шайки смотрел со слезами на бледную страдалицу, в которой жизнь проявлялась только слабым дыханием и редкими стенаниями. Когда носилки были готовы, он сам перенес в них раненую, уложил ее, покрыл и приказав нести как можно осторожнее, поехал со своим отрядом провожать ее, взяв двух проводников, которым приказал выбрать самый близкий путь к Падерборну. Берлоти, оставшись один, начал приводить в порядок свой дом. К счастью, солдаты не нашли ключей, и сундуки ростовщика были не тронуты. Зато надобно было поправить все выломанные двери и решетки. Но, несмотря на все потери и беспокойства, старик думал только о бедной Жуаните и для спасения ее готов был отдать половину своих сокровищ, хотя уже не мечтал о любви молодой девушки, и сознавался, что не стоит ее. Колдунья сидела в задумчивости на камне в подземелье, когда Барбелан возвестил криком о приближении гостей. Она раздула огонь, отворила дверь, и в коридоре показались люди, несущие осторожно что-то на руках. Перолио, шедший впереди, приказал положить Жуаниту на подушки и ковры, взятые из носилок, и, выслав всех солдат, дрожавших от страха, остался один с колдуньей. – Зачем опять пожаловал? – спросила старуха мрачно. – Верно тебе надоела жизнь, что ты ищешь случаев видеться с дочерью Барбелана? – Вылечи эту девушку, – сказал Перолио, бросил на землю горсть золота, – и ты получишь еще столько же. Только пожалуйста без кривляний, я не верю в них. – Верно тебе очень дорога эта красавица, что ты решился придти ко мне, забыв мое предсказание. – Я тебе говорю, что не верю бабьим сказкам. Осмотри рану больной и скажи, есть ли надежда на выздоровление. Колдунья подошла к Жуаните, слабо стонавшей, с твердым намерением не помочь ей, а ускорить ее смерть, чтобы только досадить Перолио, но при взгляде на молодую красавицу, боровшуюся со смертью, она невольно почувствовала жалость и сказала итальянцу: – Через девять дней приходи за твоей любовницей, она будет здорова. А теперь оставь меня одну с ней. – Так ты отвечаешь мне за ее спасение? – Если Барбелан поможет мне, – отвечала колдунья, смеясь страшным смехом. – Полно, старуха, сжалься над бедной девушкой! – Ха, ха, ха! Перолио учит быть доброй… это новости! Ты переродился. Ступай же скорее, мне надобно варить травы. – И ты не обманешь меня, как обманула в первый раз? – Мое зелье не могло подействовать на белокурую красавицу, потому что она находится под покровительством святой Девы. Теперь, я вижу по платью, что это уличная плясунья, и мои лекарства подействуют на нее. – Через девять дней я вернусь сюда, и если ты меня обманешь, тебя не защитят все жители ада. – Через девять дней, после солнечного заката, я буду тебя ждать. После ухода Перолио колдунья подложила в огонь сухих ветвей, придвинула больную ближе к очагу, поставила котелок, потом принялась раскутывать Жуаниту. – Пить! – прошептала девушка чуть слышно. Старуха дала ей выпить какой-то травы и начала снимать перевязки с раны. Вдруг ей попал под руку крест; она дико взвизгнула и упала на пол в страшных судорогах. Жуанита открыла глаза и, пораженная ужасной картиной, сильно испугалась и впала опять в обморок. К счастью припадки старухи были непродолжительны. Она встала шатаясь, отерла кровавую пену у рта, даже поправила свой жалкий наряд, убрала космы седых волос и, налив в сосуд с водой несколько капель из пузырька, наклонилась к девушке и влила ей немного в рот. Потом, осмотрев рану, она печально покачала головой и, выбрав разных трав, сделала перевязку. Жуанита вздохнула свободнее и проговорила тихо: – Благодарю вас за помощь… это напрасно, я не хочу жить. – Ты хочешь умереть, дитя мое? Перолио любит тебя, он верно из ревности поразил тебя? – Нет… Я сама пришла искать смерти. Франк не любит меня… воды… Колдунья видела, что девушка так слаба, что не может отвечать ей, и потому, дав ей успокоиться, сидела молча над ней, не спуская с нее глаз; сердце ее билось сильно и болезненно. Наконец искусственный сон подкрепил немного молодую девушку, и колдунья, взяв ее за руку, сказала ей нежно: – Дитя мое, скажи мне, кто ты и откуда взяла этот крест? – Меня зовут Жуанита, я живу с цыганами… а крест достался мне от матери. Вся кровь прилила к сердцу старухи, но она сделала над собой нечеловеческое усилие и вместо обычного припадка слезы потекли градом по ее бледным щекам. Долго плакала бедная женщина, но кажется слезы облегчали ее и она не могла наплакаться. Наконец она упала к ногам девушки и, целуя их, говорила: – Дитя мое, дочь моя… прости меня, что я бросила тебя на позор. Жуанита смотрела с удивлением на лекарку, не понимая ее слов и сказала: – Моя мать умерла… она была очень несчастна, больна… но крест ее сохранил меня от всего дурного, я умираю чиста и невинна. – Так ты не любовница Перолио, ты не любишь его! – вскричала колдунья. – Нет, я люблю Франка, но не могу ненавидеть и Перолио, хоть он – причина моей смерти. Он даже был очень добр ко мне, заботился обо мне, как отец… – Как отец! – проговорила лекарка и дико захохотала. «Нет, прошептала она про себя, Жуанита не узнает ничего, если нельзя ее спасти… но если я помогу ей, если она останется жива… я уйду с ней на край света, открою ей мою тайну и никто не отнимет у меня мое сокровище». К несчастью Берлоти был прав, сказав, что рана девушки смертельна. Напрасно колдунья бегала по лесам, собирая травы и коренья, напрасно она истощила всю свою аптеку, молодая девушка страдала меньше, но гасла как лампада. Лекарка беспрестанно наблюдала за больной, исполняла все ее желания, отогнала далеко ворона, спрятала змею, устроила постель из свежей зелени, варила вкусные кушанья. Жуанита благодарила ее, рассказала ей свою жизнь и, видя слезы и отчаяние бедной женщины, утешала ее и говорила, что там ей будет лучше, там она увидится с матерью и узнает отца. – Да, ты скоро с ними увидишься, – проговорила колдунья мрачно, – ты недолго будешь их ждать. Смерть Жуаниты была довольно спокойна благодаря лекарствам цыганки, совершенно измучившейся от страданий. Она призывала и небо и ад, умоляя, чтобы у нее не отнимали дочь, но когда молодая девушка вздохнула в последний раз, прошептав имя Франка, старуха схватила в свои объятия бездыханное тело и с ней сделался такой ужасный припадок, что она несколько часов лежала как мертвая, не выпуская из рук тело Жуаниты. Опомнившись, она сохранила только одно сознание, что Перолио убил ее дочь и что скоро он будет в ее власти. Она деятельно принялась за какие-то приготовления, собирая травы, коренья, варила снадобья, переставляла камни, что-то долго работала у двери, затыкала все отверстия пещеры и страшно улыбалась, ожидая свою жертву.XII. Тайна Ральфа
Приехав в Дурстед и поместив Вальтера с Франком и Марию в гостинице, граф Шафлер отправился во дворец епископа и был им тотчас же принят. – Сын мой, – сказал ему Давид благосклонно, – ваша победа обрадовала меня, и я благодарю вас за нее. Теперь я попрошу вас оказать мне еще услугу. Мне надобно послать верного и достойного человека к бурграфу Монфортскому для мирных переговоров, и я назначил вас. – Благодарю за честь, монсиньор, я готов. – Бумаги будут готовы завтра, и вы поедете в Амерсфорт. Герцог теперь там. Я надеюсь даже, что это перемирие превратится в мир, потому что император Максимилиан скоро прибудет сюда с войском, и бурграф не будет так безумен, чтобы противиться долее. Я предлагаю ему вознаграждение, на которое он, вероятно, согласится. Шафлер представил епископу просьбу о покровительстве своей невесте, и Давид, сказав, что с удовольствием исполнит его желание, вышел с графом в общую залу, где придворные и просители ждали выхода государя. Быстрый взгляд бургундца обежал всех присутствующих и остановился на Франке, может быть потому, что он не так низко склонил голову при входе его. – Кто этот молодой человек? – спросил он сурово. – Мой лейтенант, Франк, – отвечал почтительно Шафлер. – Кто он, откуда? – продолжал Давид, внимательно рассматривая черты Франка. – Он сирота, воспитанник оружейника Вальтера; впрочем, пастух Ральф, вероятно, знает, кто были его родители. – Пастух Ральф? – проговорил епископ с заметным волнением. – Разве вы знаете, где он? – Он здесь и, вероятно, отдыхает с дороги у Вальтера, потому что стал очень слаб. – Граф, прошу вас, – сказал тихо Давид, – пришлите ко мне этого человека, я хочу его видеть. – Да вот он сам, монсиньор, – сказал граф, увидев в дверях Ральфа, которого стражи не пускали в залу. Он пошел к нему навстречу, привел его на середину залы и поставил перед епископом, к удивлению всех присутствующих. Еще более поразило всех то, что Давид, гордый и всегда владеющий собой, был в заметном волнении и не смел поднять глаз на старика в бедной одежде, смело стоявшего перед государем. – Пойдемте ко мне, – проговорил, наконец, бургундец и пошел с пастухом в свой кабинет. Присутствующие переглянулись, не понимая этой сцены, и начали понемногу расходиться. Шафлер сказал Франку, чтобы он ждал Ральфа, а сам пошел объявить Марии, что она принята в монастырь св. Берты, и что свадьба их будет по возвращении его с мирным договором от бурграфа. Что же происходило в это время между епископом Давидом и стариком Ральфом? Бургундец, все еще в замешательстве, сел на свое кресло и сказал, не поднимая глаз на старика: – Садитесь, мессир. Ральф горько улыбнулся и отвечал насмешливо: – Перед вами, монсиньор, бедный пастух, которого вы не Надеялись более встретить в этой жизни, но которого Бог спас и избавил вас от преступления. – Я вас не понимаю, – проговорил епископ, оправившись и стараясь гордо смотреть на бедняка. – Как вы смели говорить со мной дерзко, кто вы? – А, вы хотите знать кто я, – воскликнул Ральф, – вы не узнаете меня… и не мудрено… мы так давно не виделись! И если могущество и роскошь мало вас изменили, то страдания и лишения состарили меня прежде времени, и я чувствую, что мне не долго остается жить. Вы спрашиваете, кто я? Слушайте же рассказ старика, если ваша память не сохранила ничего из прежней вашей жизни. Епископ молча склонил голову, как будто у него не доставало ни сил, ни воли, чтобы заставить молчать Ральфа, или он хотел прослушать рассказ, чтобы узнать из него какую-то тайну. Ральф, подумав немного, начал говорить тихим, ровным голосом: – Лет тридцать тому назад жил в Утрехте молодой человек благородного происхождения, богатый и любимый всеми за доброту и веселый нрав. Он был душой всех пиров и шел на войну так же беззаботно, как на праздник, не заботясь о том, за кого дрался и какую партия защищал. Вся молодежь тогдашнего времени, точно так же, как теперешнего, находила развлечение во междоусобной войне, терзавшей наше отечество, а государи наши не заботились о мире и из тщеславия продолжали безбожную борьбу. – Они защищали свои права, – проговорил епископ тихо. – И разоряли свой народ, которому то льстили, когда имели в нем надобность, то угнетали его безжалостно. Но не в том дело. Молодой дворянин, которого назовем Рудольфом, был товарищем забав молодого родственника государя Фландрии и считал его своим другом. Он открыл принцу, что любит одну молодую девушку, любим ею и надеется, что родные согласятся соединить их. Принц взялся хлопотать за друга, но увидев его невесту, захотел сам овладеть сокровищем и придумал адское средство. – Он полюбил искренно, – возразил бургундец, – а страсть Извиняет все поступки. – Ничего не может извинить измены, хитрости и злодеяния. Принц попробовал заслужить любовь девушки, но она любила Рудольфа и не хотела променять его даже на трон; тогда благородный рыцарь уговорил родных девушки отказать Рудольфу, представив его развратным, а сам, скрывая свои преступные замыслы, предложил другу похитить невесту и тайно обвенчаться с ней. Доверчивый Рудольф, не знавший о происках принца, потому что невеста, боясь огорчить его, не говорила ему о предложениях его друга, согласился на похищение. Действительное похищение совершилось, но принц, взяв на себя все хлопоты, сумел удалить Рудольфа и привез невесту его в свой загородный замок. Когда на другой день Рудольф увидел ее, то испугался ее бледности и, вместо радостной встречи, девушка сказала ему: «Прощай навсегда! Я не достойна быть твоей женой!» Несчастный понял тогда, на какое злодейство решился его бывший друг и поклялся отомстить ему. – Он хотел загладить свой проступок, предлагал ей свою руку, – сказал Давид. – И он не ожидал, что бедная обесчещенная девушка осмелится отказать тому, кто был уже назначен правителем всей страны. Напрасно он употреблял угрозы и просьбы. Увещания родных и разные обольщения, даже уверенность, что она будет матерью, не заставили ее согласиться на ненавистный брак с человеком, который, употребив насилие, разрушил счастье всей ее жизни. Принц долго еще надеялся, думал, что ребенок скрепит этот союз, но невеста Рудольфа, оставив сына своему обольстителю, скрылась в самый строгий монастырь и объявила, что умрет, но не выйдет оттуда. – Поверьте, что и принц страдал не меньше ее и всей душой полюбил ребенка. – Да, самолюбие его страдало, потому что гордый бургундец встретил в первый раз такое отчаянное сопротивление, и его прихоть превратилась в сильную страсть. Однако он не мог и не смел тревожить монахиню и вздумал за свою неудачу мстить Рудольфу. Этот несчастный, пораженный ужасной вестью, чуть не лишился рассудка и долго был болен, но молодость спасла его, и узнав, что прежний друг собирается погубить его, он тайно продал свой замок и земли, сделал богатые вклады в монастыри, чтобы иметь там всегда верное убежище и, оставив себе порядочную сумму на всякий случай, переменил свое имя, звание, оделся в рубище и, не узнанный никем – так изменили его горе и болезнь – начал бродить вокруг дворца, выжидая удобного случая отмщения. Принц был несколько раз в его руках, и он мог одним ударом убить его, но эта мысль показалась ему недостаточной. Он разбил две жизни, уничтожил в сердце Рудольфа все высокие чувства, все надежды – минутная смерть не могла искупить всех этих страданий, и он придумал другое… – Да, он растерзал сердце отца, – перебил Давид, который с этих пор начал слушать еще с большим вниманием. – С злодеем надобно было и поступить по-злодейски. Рудольф нашел случай похитить ребенка, которому отец готовил блестящую будущность, но у него не стало сил умертвить мальчика, который не был виновен в преступлениях отца. – Что же вы сделали с ним, где он? – вскричал бургундец с такой горячностью, что старик остановился на минуту, пристально посмотрел на епископа, как бы читая в его сердце, и потом продолжал: – Я хотел изменить судьбу этого ребенка, хотел из будущего властелина сделать простолюдина, познакомить его с бедностью, со всеми лишениями, хотел, чтобы он на себе испытал гордость, своеволие, тиранство своего отца и властителя, и научился ненавидеть знаменитый род, от которого происходит. – О! Как вы жестоки! – воскликнул епископ почти со слезами. – Мой проступок можно извинить молодостью, увлечением, воспитанием, которое приучило меня исполнять все мои желания, наконец, моим происхождением, а вы не только унизили и погубили молодого человека, но еще восстановили его против отца, сделали, может быть, недостойным его имени. Пастух вскочил со своего места при этом обвинении, молча прошелся по комнате, как бы обдумывая свои слова, но Давид остановил его, вскричав с отчаянием: – Рудольф, отдай мне моего сына!XIII. Смертельный поединок
Выполнив благополучно поручения бурграфа и дождавшись объявления перемирия, Шафлер торопился с отъездом, чтобы поскорее увидеться с Марией, которая без него проводила время в монастыре св. Берты, где плакала о матери и жарко молилась, чтобы Бог дал ей силы забыть Франка и быть достойной женой благородного человека. Напрасно бурграф удерживал посланного епископа и приближенные его, радуясь скорому миру, звали графа на пиршества, – жених Марии отговаривался под разными предлогами и, получив письма к епископу, не хотел даже остаться переночевать в Амерсфорте. Он собрался в путь и взяв только двух воинов из своей свиты, поскакал в галоп, как будто в час мог доехать до Дурстеда. Однако утомленные лошади всадников требовали отдыха, и Шафлер принужден был остановиться хоть не надолго. К ночи воины Шафлера, переглянувшись, начали тихонько говорить о том, что пора бы подумать о ночлеге, и Шафлер, услышав их, сказал: – Скоро мы доедем до Абендсдорфского монастыря, где попросим гостеприимства на несколько часов. Монахи не откажут угостить вестников мира, а завтра, чуть свет, мы отправимся дальше. Нет ли только ближайшей дороги к монастырю? – По берегу ближе проехать, – отвечал один из воинов, – только… – Что такое? Если ближе, так поедем. – Теперь очень поздно, мессир, – возразил солдат в смущении. – Что за беда! Только одиннадцать часов, и месяц скоро осветит нам дорогу. – Я говорю не о том, мессир, но нам надобно будет ехать мимо Падерборнских развалин. – Что ж тут страшного? Падерборн был тоже когда-то монастырем, – возразил граф, – неужели мои воины, как дети, боятся летучих мышей? – Нет, мессир граф, – проговорил солдат, – но в народе ходят слухи о страшной колдунье, которая поселилась в развалинах. – Разве вы не христиане, что боитесь чертей? – Мы боимся за вас, – сказал молодой оруженосец графа, заменивший на время маленького Генриха, оставшегося в лагере. – Говорят, что всегда случается несчастье с теми, кто в полночь бывает близ развалин. – Какое несчастье, мой друг? – спросил граф. – Колдунья заманивает путников к себе и отдает их Барбелану. – То есть дьяволу; ну, нас не заманить, мы проедем скоро мимо ее дворца. Вперед, друзья, нас ждут в Дурстеде. И он пришпорил коня, а между тем слова оружейника произвели странное впечатление на молодого человека. – Что, если в рассказал этих есть частичка правды? – думал он. – Разумеется, я не боюсь колдуньи и не верю, чтобы она могла убивать людей; но какие-нибудь разбойники пользуются, может быть, страхом жителей. Что если на нас нападет толпа злодеев или мы попадем в какую-нибудь западню? Нет, это невозможно. О разбоях было бы слышно, притом монастырь там близко… Это все пустые сказки… я увижусь с Марией… я буду счастлив. Однако напрасно граф утешал себя: какое-то тяжелое предчувствие давило его грудь, стесняло дыхание, и он готов был в первый раз в жизни вернуться и избрать другой путь. Храбрый рыцарь не узнавал себя и стыдился своей слабости. Он старался отогнать дальше мысль о смерти, старался думать о другом, но не мог, и уста его невольно шептали: – Прощай, Мария, прощай навсегда! Было уже совершенно темно, и тишину ночи нарушил только плеск реки, как вдруг провожавшие графа остановили лошадей. Шафлер опомнился, оглянулся и, не видя никакой опасности, даже засмеялся над робостью воинов. Собственные его опасения рассеялись в минуту и он вскричал весело: – Что с вами! Не увидали ли вы Барбелана? – Вот развалины Падерборна, – проговорил оруженосец, дрожа от страха. – О, мессир, лучше бы вы повели нас против Черной Шайки; это не так страшно, как теперь… – Полно ребячиться, – возразил Шафлер смеясь. – Ты видишь, что здесь никого нет, все тихо; верно колдуньи нет дома. Впрочем, если вы хотите, то можете вернуться и проехать к монастырю большой дорогой, а я поеду один мимо страшных развалин. – Нет, мессир, мы не оставим вас, – сказал воин, – мы погибнем вместе с вами. – Благодарю вас, друзья мои… поверьте мне, что завтра все мы будем живы. В эту минуту где-то закричал ворон, так жалобно и протяжно, что граф невольно вздрогнул, а воины начали креститься, бормоча молитвы. – Мессир, – проговорил оруженосец бледнея, – разве вы не слышите странного шума? – Слышу, что в развалинах закаркал ворон, что же тут страшного? – Я говорю не о том, – продолжал молодой солдат, – шум продвигается к нам; в темноте что-то движется. Шафлер напрягал зрение, чтобы рассмотреть, что происходило вдали, и увидел действительно какую-то черную массу; шум тоже делался яснее, наконец нельзя было сомневаться, что это лошадиный топот. – Скроемся, мессир, – вскричал жалобно оруженосец, – весь ад идет на нас. – Молчать, трусы, – закричал Шафлер, потеряв наконец терпение, – разве вы не видите, что навстречу едут такие же путешественники, как мы? А если это бродяги или разбойники, разве мы безоружны и не справимся с толпой злодеев? Вы забыли, как недавно дрались с Черной Шайкой!. – Если это люди, – возразил солдат смело, – мы не убежим от них, будь их даже втрое больше нас, но если… И оруженосец замолчал, поглядывая исподлобья на развалины, мимо которых они проезжали в ту минуту. Всадники, ехавшие навстречу, были уже близко, и можно было рассмотреть, что их четверо и один едет впереди. В эту минуту месяц выглянул из-за туч и осветил фигуру Шафлера. Незнакомец, ехавший в задумчивости, поднял голову и с любопытством посмотрел, кто в такую пору и в таком страшном месте попался ему навстречу. Глаза всадников встретились и лица их выразили злобную радость. Незнакомец страшно захохотал, а Шафлер вскричал: – Это ты, Перолио! Не даром мне говорили, что я встречу здесь Барбелана. Ты искал меня? – Нет, но я рад, что встретил вас, мессир, – проговорил Перолио, чуть не задыхаясь от злобы, – мы можем расквитаться за Эмн. – Где я уничтожил твою Черную Шайку? – Тебе удалось это потому, что меня не было в Эмне, а то бы ты с твоими всадниками выкупался в канале; но все равно, ты ляжешь здесь, и твоя красавица, похищенная несколько раз, не будет плакать о тебе, потому что любит другого. – Молчи, разбойник, – вскричал Шафлер, бросив свою перчатку прямо в лицо итальянца, – вынимай меч! Помни, что поединок наш будет на смерть. – На смерть! – заревел Перолио и поднял уже меч, но потом одумался и прибавил: – Что будут делать наши проводники? По законам рыцарства они не могут быть нашими свидетелями, потому что они простые солдаты; притом моих воинов больше; я не хочу, чтобы нам мешали. – Удалим их, и победитель призовет их, когда будет нужно, – отвечал граф немного удивленный, что Перолио хочет драться без свидетелей; но полагаясь на свое искусство и силу, он не боялся ничего и знал, что по первому его призыву воины его вернуться и отомстят злодею. И потому, приказав им удалиться в ту же сторону, куда отъехали солдаты Перолио, он спросил: – Как мы будем драться? – На лошадях и одними мечами, а то здесь песок так глубок и земля изрыта, что можно попасть в яму. Согласны ли вы? – Согласен, и клянусь, что не пощажу тебя, если победа будет на моей стороне. Надеюсь, что и ты не унизишь себя до измены. – Я убил молодого Баренберга не изменой, а в честном бою на глазах бурграфа и вельмож его двора. Да и какой измены может бояться благородный граф? Оба мы без лат и шлемов, мечи наши равной длины, кони смирны, словом силы наши равны; разве Барбелан возьмется помогать одному из нас. И, вспомнив о Барбелане, Перолио невольно подумал, сдержала ли колдунья свое обещание и жива ли странная девушка, которая внушила ему такое непонятное чувство. Образ Жуаниты, бледной и окровавленной, с таинственным крестом, представился ему в минуту и увлекал его в подземелье, но желание отомстить врагу превозмогло это влечение, и итальянец, отъехав на несколько шагов назад, вскричал, размахивая меном: – Нападайте, мессир! Битва была упорная и продолжительная. Шафлер, полагаясь на свое право, бился молча и хладнокровно, следя за малейшими движениями врага, а Перолио, волнуемый злобой и досадой, не мог удержать своей горячности. Глаза его блестели от гнева, проклятие вырывались из его дрожащих уст. Удары, направленные ловкими бойцами, сыпались часто и будили эхо развалин; месяц, вышедший из-за тучи, освещал эту жестокую борьбу, в которой побежденному нечего было ждать пощады. – Вы ранены, мессир, – вскричал Перолио радостно, заметив, что противник его выпустил из левой руки уздечку и отирал кровь о гриву лошади. – Ничего, это легкая царапина, – отвечал Шафлер очень спокойно и продолжал ловко отражать удары итальянца. Перолио, измученный волнениями последних дней, начинал чувствовать утомление, Притом его бесило непоколебимое хладнокровие противника, смущал спокойный, презрительный взгляд благородного фламандца, и он начал понимать, что поединок не может окончиться в его пользу. Занятый своими мыслями, он не успел отразить одного удара и меч Шафлера вонзился в его плечо. Боль от раны еще более взбесила бандита, который, отчаявшись победить всадника и вопреки законам рыцарства и чести, смертельно поразил лошадь Шафлера. Конь рванулся было вперед, но хрипя, упал на передние ноги и увлек за собой Шафлера. Быстрее молнии Перолио соскочил с коня, подбежал к противнику, придавленному телом лошади, и пронзил ему грудь. Граф успел только повернуть к убийце свое спокойное лицо, ясный взгляд его остановился на Перолио с невыразимым упреком, и слабый, но звучный голос его проговорил только одно слово: – Подлец! Потом кровавая пена показалась у рта умирающего, глаза его неподвижно обратились к небу и бледные губы шептали без звука последнее прощание с жизнью, со счастьем, с Марией. Услышав последнее слово противника, Перолио отскочил, как ужаленный змеей, и сердце его забилось так болезненно, что он сжал грудь рукой. Однако оглянувшись и видя, что нет свидетелей ужасной сцены, он немного успокоился, подошел к мертвецу и ощупал, бьется ли сердце его жертвы. Но удар был верен, и благородное сердце перестало биться; только глаза покойника были открыты и казалось продолжали с упреком смотреть на изменника. В эту минуту раздалось опять зловещее карканье ворона и адский смех. Бесстрашный Перолио вздрогнул и почувствовал, как холод пробежал по всем его жилам. Это было, конечно, не первое убийство итальянца, жизнь которого была полна преступлений; но как бы ни был порочен человек, бывают минуты, когда совесть просыпается в нем, и он готов отдать последние часы своей жизни, чтобы воротить то, чего уже нельзя исправить. Злость Перолио исчезла и, вместо ненависти к мертвому врагу он ощущал только жалость к нему и удивление к его высоким качествам. Притом вся обстановка поединка, случайная встреча, место, все имело влияние на раздраженного, впечатлительного человека, который хотя и смеялся над тогдашними предрассудками, но, испытав верность гаданья колдуньи, не мог не верить в сверхъестественные силы. Последнее оскорбительное слово умирающего сильно поразило начальника Черной Шайки, и он готов был еще раз поразить покойника, но не мог поднять меча и даже бросил его далеко от себя. Неожиданный смех, раздавшийся в этой пустыне, смутил его еще более, и он был уверен, что невидимая сила остановила его руку, ослабевшую также от раны, про которую Перолио забыл. Ужас овладел им, и он был бледнее трупа, над которым склонился и от которого не мог оторваться. К счастью, послышался топот коней, и проводники двух рыцарей окружили странную группу. При виде их бандит опомнился и сказал: – Отнесите тело графа Шафлера в Абендсдорфский монастырь; я сам скоро приеду туда и распоряжусь похоронами. Воины графа со слезами бросились на тело любимого начальника и догадываясь, что он погиб от измены, хотели отомстить за него, но это было невозможно. Перолио был окружен своими солдатами, следившими за всеми движениями противников, и один из них сказал оруженосцу Шафлера: – Полно хныкать, баба, лучше ступай вперед и разбуди монахов, а то они спят так крепко, что тело твоего начальника простоит пожалуй у дверей до утра. – Но я бы хотел нести его, – проговорил молодой солдат. – Донесем и без тебя, нас четверо; да не забудь пугнуть именем бурграфа, чтобы тебе поскорее отворили, а мы сделаем носилки из плащей и понесем покойника, оставив лошадей под горой, потому что монастырь стоит на такой крутой горе, что только пеший может добраться до него. За дело, товарищи, кажется, сбирается гроза! Действительно, черные тучи сбирались со всех сторон, месяц скрылся и вдали слышались раскаты грома. Солдаты освободили труп Шафлера из-под лошади, устроили носилки, и двое понесли тело в направлении к монастырю, а двое других повели лошадей. Перолио приказал взять и своего коня, сказав, что он скоро придет сам в монастырь, и близ развалин все утихло по-прежнему. Бандит, проводив глазами труп своей жертвы, медленно пошел к развалинам и скрылся в подземелье.XIV. Месть колдуньи
Идя по коридору Перолио удивился, что не встретил прежних препятствий, что все двери были открыты и подземелье освещено, как будто все было приготовлено к его приходу. Когда он вошел, колдунья, сидевшая у очага и раздувавшая пламя, над которым висел сосуд с каким-то снадобьем, изливавшим сильный ароматический запах, вскочила со страшным хохотом и, бросившись к открытой двери, захлопнула ее. Перолио не обратил внимания на это и сказал старухе: – Прежде всего, перевяжи мне рану на плече. Она не опасна, но беспокоит меня, потом мы разделаемся с тобой. – Да, пора разделаться, – проговорила колдунья глухо. – Никто больше трех раз не посещал дочь Барбелана. – Опять принялась бредить, – заметил нетерпеливо итальянец, – осмотри мою рану. Он сел на один из камней и, разрезав кинжалом рукав, обнажил свое плечо; колдунья намочила чем-то полотно, перевязала рану и Перолио почувствовал тотчас же облегчение, только в то же время с ним произошло что-то странное. Воздух подземелья, напитанный сильными благоуханиями, был тяжел, и в нем дышалось не свободно, но он производил приятное ощущение и располагал к дремоте. Перевязав рану, колдунья сказала насмешливо: – Верно, баран успел укусить, когда его резали… бедный барашек! – Молчи, – прервал ее Перолио, – и отвечай мне, что ты сделала с девушкой, которую я привез к тебе? – А ты любишь эту… цыганку? – Что тебе за дело? Отвечай мне. – Верно, любишь, потому что убил ее, – продолжала колдунья в каком-то странном волнении. – Верно ты любил и того рыцаря, которого зарезал, как разбойник… – Молчи, несчастная, – вскричалитальянец, хватаясь за кинжал. – А! Ты хочешь убить и меня, благородный рыцарь, – прошипела старуха. – Что же, я готова. Ведь умирая, и я успею прокричать то же слово, которое проговорил бедный Шафлер; потом Барбелан будет повторять его до тех пор, пока в тебе останется искра жизни. Не смотри на меня так грозно, могущественный Перолио. Твои подвиги окончатся сегодня, ты не выйдешь отсюда, ты будешь погребен вместе с твоей первой и последней жертвой. Я предупреждала тебя, что ты погибнешь от руки той, которую сделал несчастной и презренной; оканчивай свое дело, разбойник, и я тебе скажу, кто я. – Я не хочу этого знать, – сказал итальянец, смеясь, – и не боюсь твоих угроз. Если ты думала поймать меня в западню, то ошиблась; я выломаю дверь, сдвину с места камни и все-таки выйду из твоего проклятого логовища. – На это надобно силу, – проговорила колдунья насмешливо, – а скоро ты будешь не в состоянии поднять кинжал. Действительно, Перолио начинал ощущать странную слабость. Голова его отяжелела, предметы делались неясными, даже голос звучал как-то глухо в этой тяжелой, удушливой атмосфере. Ворон колдуньи тоже оказывал какое-то беспокойство и перескакивал с камня на камень, издавая жалобные звуки; змея спустилась на пол и поминутно переползала с места на место. Только колдунья, казалось, ничего не чувствовала и, сидя на камне, насмешливо поглядывала на своего гостя. Перолио понял, что если он останется еще дольше в подземелье, то задохнется, и потому бросился к двери; но напрасно он искал ее, напрасно ударял рукояткой кинжала, на этом месте была массивная каменная стена, в которой, кажется, никогда не было никакого отверстия. – Отвори… выпусти меня, – вскричал Перолио, потерявший терпение. – Зачем так торопиться, – говорила колдунья нежно, – побудь со мной, прекрасный рыцарь. – В последний раз говорю тебе, отвори двери или я заставлю тебя замолчать на веки. – Замолчим оба, мой милый, замолчим скоро. Перолио бросился к старухе, притащил ее к месту, где была дверь, грозил, убеждал, даже упрашивал, но страшная женщина, сложив руки на груди, не отвечала на слова бандита и бормотала вполголоса какие-то заклинания. – Она сумасшедшая, – проговорил Перолио, – или притворяется, чтобы взбесить меня. Выпусти меня отсюда, проклятая, – продолжал он, тряся старуху, – и я дам тебе много золота, ты будешь богата, все будут уважать тебя. – Разве Перолио держит свои обещания?.. Это новость. – Отвори, умоляю тебя всем для тебя священным. – У меня нет ничего священного, кроме моей мести. Ты должен погибнуть, потому что отнял у меня последнее счастье в жизни. – Но я погибну не один, умри же и ты, проклятая, – закричал в бешенстве Перолио и, бросившись с кинжалом на колдунью, опрокинул ее на землю и пронзил ее. Старуха не вскрикнула, не застонала, но откинув назад голову и открыв совершенно свое лицо, всегда завешанное тряпками и волосами, тихо засмеялась, глядя на убийцу и, закрыв рану рукой, сказала: – Благодарю, Перолио, ты меня соединил с Жуанитой. Перолио стоял, как пораженный громом, и с ужасом смотрел на бледное лицо страдалицы, освещенное синеватым огнем очага. Он узнал теперь эти черты, когда-то прекрасные, эти глаза, выражавшие доброту и невинность, и невольная дрожь пробежала по его телу, когда он подумал, до чего дошла эта женщина. – Полюбуйся на меня, Перолио, – говорила слабым голосом раненая. – Узнаешь ты в страшной, жалкой колдунье, молодую графиню Жанну, которую ты любил до безумия, и которую гордый отец не хотел выдать за тебя? В отмщение ты оклеветал старика перед королем, убил мать и брата Жанны, а ее обесчестил и бросил на произвол судьбы… И ты думал, что останешься безнаказанным, что не найдется мстителя за обесчещенное, истребленное семейство… Итальянец не мог выговорить ни слова, так сильно было его волнение. Нагнувшись перед умирающей, он не мог отвести глаз от ее лица, на котором уже исчезали признаки жизни. Кровавая пена показалась у рта несчастной, но она продолжала, пристально смотря на Перолио: – Знаешь ли ты, что бедная Жанна, потерявшая рассудок от страданий и оскорблений, родила дочь… – Возможно ли! Где она? – вскричал Перолио, почти обезумевший от неожиданных открытий и начинавший чувствовать, что мысли его путаются и силы постепенно ослабевают. Умирающая молча указала ему на занавес в углу подземелья и закрыла глаза. Перолио с трудом поднялся на ноги, шатаясь дошел до угла и, одернув занавесь, вскрикнул отчаянно. На ложе из травы и цветов, в свежем венке, лежала мертвая Жуанита; холодные руки ее сжимали дорогой крест с гербом и девизом. Она была так прекрасна в своей неподвижности, что казалось, ее мраморная фигура освещала все подземелье. Перолио понял теперь, какое чувство он ощутил, увидев девушку в первый раз, и сердце его сжалось так болезненно, что он с диким стоном упал на труп Жуаниты. – По этому кресту ты можешь убедиться, что это дочь твоя, – говорила колдунья. – Форма его должна быть тебе знакома. Ты помнишь, как однажды был уже в моей власти, но тогда у тебя еще мало было грехов, и я не хотела убить тебя… Чтобы ты помнил меня и свое преступление, я выжгла только на правой руке твоей форму этого креста, в то время как ты лежал без чувств под действием снотворного напитка… То же самое я сделала потом с некоторыми из твоей шайки, попавшимися ко мне. Как ни старался ты скрывать это клеймо, но его увидят на твоей правой руке – когда ты умрешь – потому что, ожидая тебя, я отравила воздух в пещере, закрыв все отверстия… Раздался страшный, хриплый, последний смех колдуньи, которая собрала остаток сил, чтобы приподняться и посмотреть на мертвую девушку; но от этого движения кровь хлынула из раны, смех замер на бледных губах, и бедная страдалица упала навзничь без дыхания. Лицо ее выражало радость, что она успела отомстить злодею. Этот дикий смех возбудил остаток сил в Перолио, у которого осталась одна мысль, последняя в человеке – мысль о самосохранении. Он хотел бежать из этой страшной пещеры, где уже задыхался, хотел спастись не столько от смерти, сколько от страшных призраков, которые терзали его. Спотыкаясь и шатаясь от слабости, он обошел вокруг подземелья, стуча в стены и призывая на помощь, но нигде в сплошных камнях не было и следа отверстия, где бы мог пройти человек, а голос убийцы был так слаб, что он сам едва его слышал. Да и кто мог придти на его призыв? Его воины понесли в монастырь тело Шафлера, а кто другой мог идти ночью этой страшной дорогой, мимо развалин, о которых рассказывали чудеса. Перолио выбился из сил, перевязка его раны сдвинулась, и из нее пошла обильно кровь, но несчастный даже не заметил этого и продолжал искать выхода, чтобы хоть один раз вздохнуть чистым воздухом. Он чувствовал в голове нестерпимый шум, боль в сердце, глаза его налились кровью; сам он был так же бледен, как две его жертвы, лежавшие без дыхания. Догадавшись, что удушливый воздух происходит от сосуда, стоящего на очаге, где кипело какое-то зелье, которым колдунья отравила воздух, он столкнул сосуд на пол; жидкость разлилась, но от нее поднялся такой сильный смрад, что дыхание остановилось в горле бандита, ноги его подкосились и, не окончив начатого проклятия, он упал возле очага, почти подле трупа колдуньи… Последней его мыслью было не раскаяние, не сожаление о жизни или о своих жертвах, но желание и после смерти скрыть то, что он скрывал всю свою жизнь. Собрав остаток сил, он подполз ближе к огню, прислонился с трудом к небольшому камню и протянул правую руку в перчатке к очагу. Он почти не чувствовал боли вначале, и засунул руку в горячие уголья. Сильная боль заставила его на минуту очнуться; он даже вскрикнул и испугал ворона, сидевшего на груди колдуньи… Но это была минутная вспышка жизни. Холод уже пробегал по жилам Перолио, в то время, как рука его тлела на угольях, и последним его ощущением было то, что змея, не перестававшая искать себе выхода из удушливой атмосферы, скользнула по лицу его, в бессильной злобе обвилась вокруг протянутой руки и, ужалив ее, замерла над дымным очагом. Еще несколько времени ворон кричал жалобно и метался во все стороны, но наконец силы его оставили; распустив крылья, он завертелся в воздухе и упав на огонь, погасил его совсем. Настало страшное мертвое молчание, и подземелье превратилось в настоящую могилу. Монахи абендсдорфского монастыря похоронили Шафлера со всевозможными почестями, и сам бурграф почтил своим присутствием печальную церемонию. Воины Шафлера были отосланы в Дурстед с известием о смерти их начальника, а солдаты Перолио, на которых все смотрели с презрением и грозили убить их, не смели долго ждать в монастыре своего господина. Взяв его лошадь, они долго бродили по берегу, но не решались и днем проникнуть в развалины, а потом, видя, что он не возвращается, ускакали дальше, продали лошадей и помянули начальника Черной Шайки дикой оргией. Через несколько времени монах-лекарь, которого колдунья снабжала травами и лекарствами, пошел в падерборнские развалины, чтобы попросить цыганку набрать какой-то травы, но каково было его удивление, когда он нашел, что дверь в подземелье была заложена огромным камнем. Он позвал других монахов, и только десятки дюжих рук могли сдвинуть с места эту глыбу. Тут же монахи заметили странные работы и рычаг, ручка которого проходила во внутренность подземелья, и который, вероятно, служил для того, чтобы столкнуть камень, стоявший уже на весу, к самой двери. Когда монахи вошли в подземелье с зажженными факелами, прежде всего их поразил удушливый запах, который, однако, понемногу рассеялся, потому что дверь была отворена настежь. Страшное зрелище поразило их и, не смея принять никакого решения при виде двух мертвых женщин и рыцаря с обгорелой рукой, они послали за своим настоятелем. Тот пришел сам, посмотреть на чудо, и, увидев покойника, сказал: – Этот человек был большой преступник и, вероятно, он убил этих двух женщин, точно также, как убил мессира Шафлера. Кто не слыхал о злодействах Перолио! Этот иностранец поступал с нами, как с побежденными и грабил своих и чужих. Не троньте его, он не стоит христианского погребения. – Но что делать с трупами женщин? – спросили монахи. – Одна их них считалась колдуньей и умерла без покаяния, другая, вероятно, такая же цыганка. Оставьте их здесь, потому что до них грех дотронуться и, выйдя отсюда, завалите опять вход камнем. Пусть нечестивые останутся без могилы. Настоятель отправился обратно в абендсдорфский монастырь, но монахи не послушались своего начальника и проводив его, обыскали тело Перолио, обобрали его деньги, оружие, дорогую одежду, в то время, как монах-лекарь отыскивал и собирал склянки с разными лекарствами; потом, собрав на средину весь хлам подземелья, они составили костер, положили на него все три трупа и зажгли его. Огонь быстро обхватил сухие травы и лохмотья колдуньи, и монахи, выбежав из подземелья, завалили его камнем. Монах-лекарь взял с собой трупы змеи и ворона, и чучело бедного Барбелана долго украшало его келью. Итак трое несчастных, погибших друг от друга, соединились в смерти; даже трупы их истлели на одном костре, и прах их смешался. Даже и после смерти колдуньи народ долго боялся падерборнских развалин и никто не осмеливался идти мимо них ночью. Рассказывали, что тень старухи бродит в полночь по берегу и зовет своего милого Барбелана, похищенного лекарем и, что в это время чучело ворона расправляет крылья и хочет лететь, но в священной обители злой дух не имеет никакой силы, и потому не может даже откликнуться на зов своей дочери.XV. Конец Фрокара
Мы совершенно забыли о сообщнике Перолио, злодее Фрокаре, которому не удалось быть насильно наследником Вальсона, и потом не удалось убить Видаля, овладевшего дорогим кушаком. Фрокар решил следовать везде за кушаком, и когда войско Шафлера вышли из Эмна, взяв с собой пленных, он отправился за ним окольными путями, не теряя из виду телегу, на которой ехали раненые. При приезде в лагерь он узнал, что раненого Видаля поместили в комнате оруженосца Шафлера, знакомого нам Генриха, возбуждавшего всеобщий смех своей некрасивой наружностью и который, попав однажды в руки Фрокара, с трудом спасся от мучительной смерти. Добрый карлик полюбил молодого человека, которого Вальтер не велел обижать, и даже, когда Шафлер отправился в Дурстед с отрядом войска, Генрих отпустил вместо себя другого молодого воина, а сам остался в лагере лечить своего нового друга. Видаль не очень страдал от своей раны на ноге, но не мог еще долго ходить и большей частью лежал в постели. Генрих редко оставлял его одного, и если уходил по службе, то посылал вместо себя одного из воинов, который играл с больным в кости или забавлял его рассказами о сражениях. Видаль печалился о том, что ничего не знал о Перолио, к которому был искренно привязан. Он давал за себя выкуп, и Шафлер не удерживал его, но он оставался поневоле, потому что не мог ни сесть на лошадь, ни идти. Он и не подозревал, что за каждым его движением следит зоркий глаз врага, дожидаясь минуты, чтобы поразить его и ограбить. Присутствие Генриха бесило разбойника, который не мог решиться убить двоих посреди лагеря, чтобы не попасть самому в беду. Он прятался уже несколько недель и, наконец, чтобы удалить Генриха, придумал хитрость. Хотя Генрих был далеко не красавец, но Фрокар узнал, что ему очень нравится служанка из трактира, которая, разумеется, только смеялась над бедняком и предпочитала ему рослых солдат. Однако она не смела очень сердить такую важную особу, как оруженосец начальника войска, и потому Генрих не терял надежды, что когда-нибудь деревенская красавица сжалится над его страданиями. Зайдя однажды в трактир, Фрокар отдал служанке свои последние деньги, с тем, чтобы она в эту же ночь назначила свидание Генриху и взял с нее слово, никому не говорить об этом. Красавица обещала, и в тот же вечер послала мальчика, прислуживавшего на кухне, сказать Генриху, что она ждет его. Обрадованный уродец опрометью побежал в трактир, оставив Видаля одного и сказав ему, что скоро вернется. Фрокар только этого и ждал. Он пробрался в темноте к жилищу раненого и начал высматривать в окно. В небольшой комнате, освещенной фонарем, висевшем на толстом крюке, вбитом в потолок, стояли две походные кровати и на одной из них спал раненый. Кроме того, в комнате был стол, два простых стула и сундук. Фрокар, заучив положение всех предметов, начал с искусством вора отворять окно и сделал это так осторожно, что если бы Видаль и не спал, то ничего бы не слышал. Злодей так же осторожно влез через окно, подставил стол под фонарь, снял его и отнес в угол, откуда он освещал только полосу пола. Фрокар действовал неслышно, как тень, и, вынув из кармана веревку, стал у изголовья больного. В другой его руке был нож, так что он еще сам не знал, какое оружие употребит для своей жертвы. На нож он не очень надеялся, потому что он уже раз изменил ему; поэтому он предпочитал веревку, которая оканчивала дело без шума и крови. Он дожидался удобного случая, чтобы накинуть петлю на голову спящего… Видаль повернулся во сне и продолжал, может быть приятный сон, не чувствуя, что вокруг его горла обвилась уже роковая веревка и петля затягивается понемногу. Вдруг послышались шаги обхода и Фрокар присел на корточки за кроватью, удерживая дыхание. Кто-то остановился у двери комнаты и сказал тихо: – Генрих, вставай, пришли вести о нашем капитане. Фрокар, задрожав от страха, выпустил из рук конец веревки и не знал, что ему делать. Бежать было всего благоразумнее, но тогда надобно будет отказаться от сокровища, потому что веревка на шее Видаля может дать знать о близости палача и пожалуй его отыщут. «Нет, лучше окончить дело, – подумал разбойник, – потом с деньгами будет легче бежать, можно будет и откупиться». И рассуждая так, Фрокар нагнулся над спящим оруженосцем и, собрав в руку конец веревки, хотел разом затянуть ее, как вдруг кто-то сильно схватил его сзади за плечи и громкий голос сказал: – Что ты здесь делаешь, приятель? Фрокар онемел от ужаса, а Видаль, проснувшийся от движения веревки на шее, удивился, увидев перед собой знакомое лицо, и, ощупав веревку, понял, что угрожало ему. – Ах ты злодей! – вскричал он, схватывая руки Фрокара. – Ты хотел убить меня, ограбить. Держите его, друзья мои, – прибавил он, обращаясь к солдатам, вошедшим вслед за тем, который подкараулил разбойника, – это палач Черной Шайки! – Право, я вошел нечаянно, – бормотал мошенник, теряя присутствие духа и падая на колени, – простите меня, я могу пригодиться… никто лучше меня не умеет пытать и вешать. – Молчи, бездельник! – закричал солдат, связывая руки Фрокару. – Товарищи, сведем его к офицеру, занимающему место капитана, он допросит этого молодца. Поняв, что участь его скоро решится, Фрокар употреблял все усилия, чтобы вырваться и убежать. Он упрашивал солдат, целовал их руки, но те только смеялись и тащили несчастного, который упирался и кричал во все горло. На этот шум пришел офицер, живший недалеко, и вслед за ним вошел и Генрих, который, встретив неудачу в трактире, побежал домой, проклиная капризы женщин. Сцена в комнате удивила его, но увидев Фрокара, он испугался не на шутку и закричал: – Мы погибли! Черная Шайка напала на нас! Однако жалкий вид палача успокоил его немного и он взялся объяснить офицеру, что это за человек и как он однажды питал его в Утрехте. Последний злой умысел был ясен: Видаль сказал, что он получил небольшое наследство от умершего товарища; веревка была еще у него на шее и Фрокара застали над его жертвой. Стало быть нечего было оправдываться. Фрокар, потерявший всю дерзость и находчивость, не мог ничего придумать и только валялся в ногах, умоляя о жизни и обещании, что Перолио заплатит за него большой выкуп. При этом имени офицер нахмурился еще более и сказал отрывисто: – Повесить бездельника, чтобы он скорее увиделся со своим начальником. Солдаты, оглядевшись, увидели крюк, на котором висел фонарь, попробовали его крепость и, накинув на шею палача его же веревку, снятую с Видаля, втащили его на стол и, затянув петлю, отодвинули последнюю поддержку… Достойный исполнитель всех казней и козней Перолио повис в воздухе, мешая молитвы с проклятиями. Увидев, что Фрокар качается на крюке, офицер пошел к себе, все такой же грустный, солдаты шли за ним, предчувствую недобрую весть. Давно ли все радовались, узнав, что начальник их поехал к бурграфу заключать мир, а теперь, когда уже ожидали его возвращения, из Дурстеда прибыл гонец и офицеры, видевшие его, не могли скрыть своей печали. Весть об этом разнеслась по лагерю, и, несмотря на позднее время, воины окружили офицеров, но не смели их расспрашивать. Генрих, у которого предчувствие сжимало сердце, решился, наконец, спросить лейтенанта: – Не случилось ли чего с графом Шафлером, мессир? Скажите нам правду, вы недаром так печальны. – Друзья мои, – сказал офицер почти со слезами, – добрый наш начальник граф ван Шафлер умер от руки Перолио. – Смерть злодею, отомстим за него! – закричали воины. – Бог уже отомстил за нашего капитана. Перолио пропал без вести. – Мы отыщем его, мы повесим его возле Фрокара. – Выслушайте меня, товарищи, – продолжал офицер. – Епископ Давид, извещая меня об этом, приказал сказать вам, что вы останетесь у него на службе, что он на днях выдаст вам жалование и пришлет нового начальника. – Да здравствует епископ! – закричали солдаты. – А все же жаль нашего доброго начальника. Бедный Генрих плакал как ребенок, услышав роковую весть, и, придя к постели Видаля, рассказал ему о смерти графа Шафлера и проклинал Перолио, которого, по его мнению, черти взяли живого в ад. Видаль понял, что оба соперника умерли насильственной смертью и пожалел также о своем господине, которого любил, несмотря на все его преступления. Но делать было нечего, и оба отставные оруженосца начали рассуждать, кто будет новым начальником.XVI. Заключение
Весть о смерти Шафлера поразила многих в Дурстеде. Епископ Давид громко сожалел о потере такого храброго полководца и утешался только тем, что перемирие объявлено и скоро заключен будет окончательный мир, потому что могущественный его союзник, император Максимилиан, уже шел во Фландрию. Притом у него был под рукой готовый начальник, которому он предложил место умершего графа. Франк хотел было отказаться; ему было как-то неловко быть преемником жениха Марии, но подумав, что военные занятия и обязанности развлекут его, он принял лестное предложение, видя расположение к себе государя, хотя и не подозревал настоящей причины, потому что Давид, помня совет Ральфа, молчал до того времени. Франк признался, что любит Марию и просил своего благодетеля склонить на его сторону девушку и ее отца, когда пройдут первые минуты горя. Смерть благородного друга поразила его, точно также как доброго Вальтера, который долго не мог опомниться от удара и боялся сообщить о том своей дочери, которая сделалась любимицей настоятельницы монастыря. Он решился сообщить последней, чтобы она приготовила девушку постепенно, потому что она была и так слаба от недавних огорчений, и настоятельница, к которой он явился, сказала ему: – Я любила вашу дочь, как родную, и желала бы не расставаться с ней. Согласны ли вы оставить ее у меня? – О, нет, – вскричал оружейник, – она у меня осталась теперь одна на свете; без нее мне не для чего жить. – Но у нее нет матери, а она так молода; мне кажется, что после смерти жениха ей всего приличнее жить в монастыре; она не тотчас произнесет обет, и вы можете видеться с ней. – Нет, я не согласен, чтобы Мария отказалась от всех радостей мира, чтобы она всю жизнь провела в стенах монастыря. Всякое горе забывается со временем, а к жениху она не успела еще привыкнуть до того, чтобы после него не полюбить другого. – Что же вы намерены делать? – спросила настоятельница довольно сухо. – Говорите. – У меня есть родственники в Зеландии. Когда страна наша успокоится и дороги будут безопасны, я хочу ехать к ним с Марией с остатками моего состояния. Там я займусь прежним ремеслом, и дочь моя, забыв о всех своих потерях, со временем изберет себе мужа, а я буду вновь счастлив ее счастьем. – И вы не оставите здесь никого, кто будет сожалеть о вас? – У меня нет никого, кому бы я был необходим. Старый мой друг Ральф удалился в монастырь, а воспитанник наш Франк, которого я любил как сына, нашел сильного покровителя. Епископ Давид осыпает милостями бедного сироту, и мне нечего о нем заботиться. При имени Ральфа настоятельница изменилась в лице и не могла скрыть своего волнения, глаза ее наполнились слезами и она проговорила дрожащим голосом: – Вы говорите, мастер Вальтер, что вы и… Ральф воспитали сироту… кто он? – Я вам скажу это, – произнес третий голос, раздавшийся неожиданно в приемной комнате. Настоятельница и Вальтер с удивлением обернулись и увидели в дверях самого епископа Давида, который, не приказав докладывать о себе, прошел прямо в приемную и слышал последние слова разговора. При виде бургундского герцога, волнение настоятельницы усилилось, и она быстро опустила свое покрывало; епископ казался тоже смущенным, несмотря на искусство владеть собой, а оружейник с изумлением смотрел на обоих и ждал приказаний государя. Несколько минут продолжалось тягостное молчание. Давид оправился первый и сказал, обращаясь к Вальтеру: – Не делайте, мастер, никакого распоряжения на счет вашей дочери. Уверяю вас, что она найдет здесь счастье; оставьте ее под покровительством почтенной настоятельницы, хоть на время траура по матери и жениху. Вальтер молча поклонился, не понимая, с какой стати бургундец занимается судьбой его дочери; но он не боялся уже за Марию и, надеясь скоро переговорить с ней, вышел из приемной монастыря. Настоятельница все еще стояла в одном положении, и только волнение ее покрывала доказывало, что она дышит неровно. Епископ подошел к ней и, взяв ее бледную, холодную руку, сказа с чувством: – Простите меня, Берта, что я смел придти к вам без вашего позволения. Больше двадцати лет я не смел нарушать вашего покоя, и если теперь решился на это, то потому только, что мне нужно сообщить вам о важном деле, которое касается и вас. – Я вас слушаю, монсиньор, – прошептала настоятельница слабым голосом и опустилась в кресло, потому что ноги не поддерживали ее. Давид взял стул, придвинулся ближе к бедной женщине и начал тихо говорить ей. Он говорил долго и с жаром, настоятельница не прерывала его, а только по временам отирала слезы своим покрывалом и сдерживала рыдания. Окончив свой рассказ, епископ прибавил: – Теперь, когда мы почти отжили, Берта, пора нам забыть наши страсти и ненависть. Вы знаете, что я раскаялся в моем невольном преступлении и уважал ваши страдания. Теперь я забочусь о счастье нашего сына и пришел просить вас, чтобы вы помогли мне. Забудьте прошлое, Берта, его не воротишь… Сам Бог прощает грешников. – Я давно простила вас, монсиньор, и молюсь о вас, – отвечала настоятельница, откинув покрывало от своего, все еще прекрасного лица. – Неужели вы думаете, что в сердце бедной монахини сохранилась хоть искра ненависти? Я знаю, что и Рудольф простил вас. Скоро я увижусь с ним на небе, потому что страдания давно ослабили наши силы, но перед смертью позвольте мне видеть… его… моего Франка, которого я давно оплакиваю. – Я пришлю его к вам, чтобы он сам попросил вас уговорить дочь оружейника согласиться на брак с ним. Я бы нашел ему партию лучше, но он любит эту девушку, вместе с которой вырос, и я не хочу противоречить ему. – Благодарю вас. Я приготовлю Марию к этой перемене; а отец ее будет на все согласен. Но Франк еще не знает, кто он, должна ли я сказать ему? – Я предоставлю это вашему усмотрению, только прошу вас об одном: не лишайте меня любви сына, не описывайте меня слишком черными красками. – Будьте покойны, монсиньор, Франк будет уважать вас, и вы можете им гордиться. Прощайте. – Прощайте, Берта. Вы не поверите, как я счастлив, что видел вас и что вы перестали презирать меня. Надеюсь, что сын примирит нас совсем и что вы позволите мне иногда видеться с ним. – Мы уже примирились, монсиньор, – отвечала монахиня, грустно улыбаясь. – Но я чувствую, что мне осталось жить недолго и хочу провести последние дни в уединении и молитве. – Неужели мы больше не увидимся? – Увидимся еще раз на свадьбе Франка и Марии. Я постараюсь дожить до тех пор, потом я прощусь с вами навсегда и благословлю вас. – Прости меня, бедная страдалица, – проговорил почти со слезами епископ, опускаясь на колени перед бледной женщиной, которая действительно была так слаба, что казалась умирающей. Она протянула ему руку, и сказала слабым, но ясным голосом: – Я простила тебя давно, Давид, а теперь благословляю за то, что ты возвращаешь мне сына, которого я бы не должна была оставлять. Но Бог простил и меня… если позволил мне увидеть Франка… Пришли же мне скорее нашего сына. – Тебе надобно успокоиться, Берта, собраться с силами, ты так слаба. – Ожидание измучает меня больше… молитва подкрепит меня… Ступай. Епископ расстался с той, которую некогда любил так страстно, что для нее изменил своему другу. Теперь его занимала одна мысль: счастье сына, которого он видел в мечтах своих уже знатным рыцарем, заслуживавшим известность и славу и управляющим обширной и богатой страной. При свидании Франка с настоятельницей монастыря св. Берты та еще не успела ничего объяснить молодому человеку, но он понял, что эта бледная, прекрасная женщина, смотревшая на него так нежно, не может быть ему чужой, и став перед ней на колени, схватил протянутую ему руку и вскричал из глубины души: – Матушка! Одумавшись немного, он сам испугался своей дерзости и опустил голову, ожидая грозного слова монахини, но она, обхватив голову Франка обеими руками, прижала ее к своей груди и, вместо слов послышалось тихое рыдание. Франк оставался неподвижен от радости и удивления, но в то же время ощущал такое новое, сладостное чувство, что, казалось, сердце его готово было выпрыгнуть из груди. Никогда он не испытывал ничего подобного. Бедная Клавдия любила и ласкала его ребенком, Марта называла его сыном, но никогда он не был так счастлив, как в ту минуту, когда плакал на груди незнакомой женщины, которую видел в первый раз. Ему казалось, что он знает ее, что ее страдальческое лицо часто являлось ему во сне и охраняло его от всего дурного. Подняв голову, он не мог насмотреться на нее. Это сильное, хотя и радостное волнение должно было произвести опасное действие на слабую женщину, но, напротив, счастье, казалось, возвратило ей угасающие силы; лицо ее оживилось, глаза блестели, ангельская улыбка оживила ее бледные губы и, крепко держа Франка за руки, как будто боясь, чтобы его не отняли у нее, она с невыразимой нежностью рассматривала красивую, мужественную его наружность, повторяя с наслаждением: – Мой сын, мой Франк! После первых минут восторга, она сказала, чтобы Франк сел у ног ее и рассказала всю свою жизнь, не пропуская ни малейших подробностей. Он не скрывал ничего перед ней, и она с вниманием и участием следила за простым рассказом и видимо страдала, когда молодой человек описывал, как любовь его боролась с долгом и как он мучался в последнее время. – Теперь Мария свободна, – прибавил он. – Я сердечно жалею о смерти благородного человека, которому она была назначена и никогда, даже в порывах безумной страсти, не желал, чтобы граф Шафлер погиб неожиданно; злодей Перолио уже наказан за свои преступления. Я не могу даже отомстить за моего друга. Если бы я не был уверен, что Мария тоже любит меня, то не тревожил бы ее; но я боюсь, что она захочет навсегда остаться в монастыре. Не допускайте ее до того, матушка, умоляю вас. – Будь покоен, мой милый Франк, я не удержу в клетке хорошенькую птичку, хотя сначала думала сделать это, потому что полюбила от души твою кроткую Марию. Но тебе я отдам ее… только не так скоро; ты понимаешь, что надобно приготовить и ее, и отца. – О, я буду ждать сколько хотите, только бы мне быть уверенным, что Мария будет моей! Я теперь так счастлив, у меня есть мать. И действительно, радость его была так велика, что он в первое свидание с настоятельницей даже не спросил ее об имени отца, но потом он решился упомянуть об этом и монахиня отвечала твердо: – Ты об этом узнаешь после. Покуда уважай твоего государя и повинуйся ему во всем. Когда меня не будет, он откроет тебе тайну твоего рождения. Франк был так счастлив, что не настаивал, и время шло для него незаметно. Марию тоже было не трудно уговорить быть женой того, кого она так любила; только Вальтер удивлялся этому браку и долго не соглашался на него, говоря, что привык считать Франка братом Марии. Однако удостоверившись, что дочь его любит нового любимца епископа не как брата, он, наконец, догадался, что она скрывала от него свои чувства и неохотно шла за Шафлера. Ровно через год после описанных происшествий Фландрия праздновала заключение прочного мира; удочки и трески обнимались и пили за здоровье императора Максимилиана, положившего конец междоусобной войны. Правда горсть недовольных сбиралась опять возобновить борьбу, если не удовлетворят их требований, что случилось действительно, потому что беспорядки продолжались еще несколько лет, но партия удочек была уже так слаба, что нечего было ее опасаться, и она могла вести только разбойничью войну. После истребления Черной Шайки и перехода всех значительных лиц на сторону бургундца, который обещал им всевозможные вознаграждения, у удочек не осталось ни армии, ни начальников, а главное – не было денег. Большие города сдались епископу, а бурграф сам положил оружие и удалился в свой крепкий монфортский замок. Весь Утрехт праздновал возвращение епископа и толпился у собора, где готовилось новое великолепное торжество. Говорили, что любимец государя, пожалованный Максимилианом в графы и получивший от епископа богатые поместья, будет в этот день венчаться с благородной сиротой, воспитывавшейся в монастыре св. Берты. Сам епископ будет совершать брак, и все вельможи приглашены в великолепный дворец, приготовленный для молодых. В этот день настоятельница монастыря в Дурстеде решилась выйти из своего уединения и хотела сама благословить молодую чету. Вальтер был совершенно счастлив и не заметив, что во время обряда старый монах Ральф стоял сзади него и со слезами молился о счастье новобрачных. Когда поезд отъехал от собора при громких кликах народа, в толпе по обыкновению начался шум и говор: – Как хорош молодой граф, – говорила плотная мещанка, – только я удивляюсь, зачем в собор пустили работников амерсфортского оружейника Вильгельма, тогда как нас не пускали. – Я видел в процессии и старого оружейника Вальтера, – подхватил пивовар, – да знаете ли, что молодая графиня похожа на дочь Вальтера, которая давно пропала? – Вот что выдумал! – вскричала торговка. – Точно я не знала бедную Марию. Правда, она была хороша, но молодая просто красавица. И толпы разошлись, толкуя и споря о том, чего не знали, а в это время во дворце происходил роскошный пир, царицей которого была дочь оружейника. В числе служителей был Видаль, первый оруженосец молодого графа, а Генрих занимал должность распорядителя и управлял бесчисленными слугами. Все казались счастливы и довольны, все веселились от души; только один Берлоти, бывший в числе гостей, потому что епископ занимал у него деньги, сидел печальный и мало пил из золотого кубка. Он заметно постарел, совсем сгорбился, не занимался красотой женщин и когда все пили за здоровье новобрачной и восхваляли ее красоту, Соломон поднял глаза на бывшую свою пленницу и проговорил со вздохом: – А все же Жуанита была лучше. Только он один и вспомнил о доброй девушке. О благородном Шафлере не вспоминал никто…Примечания
1
Пер. Ф. Петровского. (обратно)2
Джон Скелтон (ок. 1460–1529), поэт, наставник Генриха VIII, острослов, поначалу пользовавшийся расположением кардинала Вулси, которое со временем утратил из-за критических высказываний в адрес всесильного министра.(обратно)
3
Будучи убежденным католиком, Томас Мор искренне считал сторонников лютеранской веры и реформирования церкви еретиками. Как лорд-канцлер и глава канцлерского суда он карал их в соответствии с духом и буквой законов того времени. Утверждения о пытках в доме Мора не имеют документального подтверждения, однако обвинительные приговоры лорд-канцлер безусловно выносил. (обратно)4
Имеется в виду Екатерина Арагонская. (обратно)5
Генрих женился на Екатерине Арагонской, вдове его старшего брата Артура. (обратно)6
Отсылка к Итальянским войнам (1494–1559), на фоне которых происходили описываемые события. В тот период владениям папы Климента VII, участника антиимперской Коньякской лиги, грозило вторжение армии императора Карла V. (обратно)7
Фердинанд Арагонский (1452–1516) — король Арагона, супруг королевы Изабеллы Кастильской. (обратно)8
князь (ит.). (обратно)9
Чего ты хочешь? (голл.) (обратно)10
Образ архиепископа Кентерберийского Томаса Бекета, убитого по наущению короля Генриха II и причисленного к лику святых, в эпоху Реформации воспринимался как символ сопротивления духовенства воле монарха. Не случайно, став официальным главой церкви Англии, Генрих VIII отдал приказ разрушить гробницу Томаса Бекета. (обратно)11
Имеется в виду личная встреча Генриха VIII и короля Франции Франциска I в июне 1520 г. близ Кале, сопровождавшаяся многодневными пышными празднествами и рыцарскими турнирами. Оба короля стремились превзойти друг друга в роскоши, возводя временные дворцы и не скупясь на богатое убранство. Походные шатры государей и знати были изготовлены из золотой парчи, отсюда и название этого события — встреча на «Поле золотой парчи». (обратно)12
Турне и Теруанн — французские крепости, захваченные англичанами входе военной кампании против Франции в 1513 г. Эти победы были предметом национальной гордости англичан, в особенности короля Генриха, хотя Томас Кромвель отзывался о них скептически, сравнив обе крепости с собачьей конурой. (обратно)13
Король Генрих (лат.). (обратно)14
Здесь изложена авторитетная в глазах англичан того времени теория, согласно которой Британия была заселена выходцами из Трои, покинувшими город после его падения, потомками царевича Брута. Широкой популярности этого этногенетического мифа весьма способствовали труды Гальфрида Монмутского. (обратно)15
Луд, Луг — в кельтской мифологии покровитель ремесел, искусств и торговли. В средние века считался особым покровителем города Лондона. (обратно)16
Батлеры — ирландское аристократическое семейство, носители титула графов Ормондов. (обратно)17
Неважно (фр.). (обратно)18
Близкий друг Генриха Чарльз Брэндон еще при жизни своей первой жены заключил в Париже в 1515 г. тайный брак с сестрой Генриха VIII Марией, вдовой короля Франции Людовика XII (причем, по ее инициативе). С помощью Генриха ему удалось добиться от римской курии подтверждения законности второго брака. (обратно)19
Имеется в виду низкое происхождение кардинала Вулси, родившегося в Ипсвиче, как полагали современники, в семье мясника и торговца скотом. В настоящее время принято считать, что, возможно, эта версия была пущена в ход его политическими противниками с целью дискредитации кардинала. Роберт Вулси, его отец, мог быть достаточно состоятельным торговцем сукном. (обратно)20
Отсылка к трагическому эпизоду Итальянских войн — разграблению Рима взбунтовавшимися наемниками императора Карла V, учинившими там кровавую резню, известную как «Sacco di Roma» (6 мая 1527). В ходе этих событий папа Климент VII, состоявший в антиимперской коалиции, был вынужден бежать, а его резиденция — Латеранский дворец, подверглась разграблению. Позднее папа сдался императору. (обратно)21
Поправляю (фр.). (обратно)22
Влип (фр.). (обратно)23
Имеется в виду договор о вечном мире, заключенный в 1527 г. между старыми противниками — Англией и Францией, сплотившимися ввиду чрезмерного усиления императора Карла после его победы над французами в битве при Павии (1525). Подписание договора расценивается как «дипломатическая революция» в истории взаимоотношений двух стран, достигнутая во многом благодаря усилиям Вулси. (обратно)24
На самом деле восстановить правление семейства Медичи, уже не в первый раз изгнанного из Флоренции, удалось отнюдь не благодаря англичанам, а с помощью императора Карла, осадившего город. После падения Флоренции он передал власть Алессандро Медичи, племяннику Климента VII. (обратно)25
Пер. А. Петровой. (обратно)26
Уильям Тиндейл (Тиндел, Тиндал; ок. 1494–1536) — сторонник Реформации, ученый, переводчик Библии на английский язык, политический писатель. Он задумал осуществить перевод Библии с древнееврейского и греческого текстов, предназначенный для мирян. Не получив поддержки церковных властей в Англии, уехал в Германию, где закончил к 1525 г. перевод Нового Завета, печатные тексты которого нелегально распространялись на континенте и в Англии. Скрываясь в Гамбурге, Тиндейл продолжал работу над текстом Ветхого Завета. Он навлек на себя гнев Генриха VIII, издав труд, в котором утверждал, что развод с Екатериной Арагонской незаконен с точки зрения Писания. Гнев короля был настолько велик, что Генрих обратился к императору Карлу с просьбой задержать Тиндейла и выдать английским властям. Томас Мор вел теологическую полемику с Тиндейлом, которого считал опасным еретиком. В 1535 г. последний был арестован в Антверпене и сожжен на костре неподалеку от Брюсселя в 1536 г., несмотря на попытки Т. Кромвеля ходатайствовать за него. (обратно)27
Поскольку кардинал Вулси обладал статусом папского легата в Англии, как и прибывший сюда кардинал Лоренцо Кампеджо, два прелата могли провести от имени папы слушания по делу о разводе короля. Вулси старался обеспечить благоприятный для короля исход, однако Кампеджо всячески затягивал разбирательство. Неспособность Вулси быстро добиться желаемого навлекла на кардинала гнев короля и опалу. (обратно)28
Слава (фр.). (обратно)29
Охота (фр.). (обратно)30
С необходимыми изменениями (лат.). (обратно)31
Депеши, вечно депеши (фр.). (обратно)32
Вечный жид (фр.). (обратно)33
Здесь: Ну же(фр.). (обратно)34
Итак (фр.). (обратно)35
36
Будучи архиепископом Йоркским, Вулси тем не менее до этого времени не бывал в своей северной епархии. Его появление там должно было сопровождаться интронизацией — торжественной церемонией усаживания на архиепископскую кафедру в Йоркском соборе. (обратно)37
Ричард Эмпсон и Эдмунд Дадли — одиозные министры Генриха VII, выработавшие изощренные методы шантажа и вымогательства денег у представителей аристократических семейств, находившихся под подозрением в нелояльности королю. В начале царствования Генриха VIII были казнены по обвинению в злоупотреблениях и государственной измене (1510). (обратно)38
без головы (фр.). (обратно)39
так тому и быть (фр.). (обратно)40
muddy (англ.) — грязный. (обратно)41
Приведенный выше диалог отсылает к средневековой католической доктрине Чистилища, согласно которой существовала возможность повлиять на дальнейшую судьбу пребывающих там душ. Считалось, что молитвы, заупокойные службы и покупка индульгенций во искупление грехов умершего могли облегчить переход его души в Рай. (обратно)42
Имеется в виду доставка секретной корреспонденции, которую провозили в подкладке одежды, в обуви и т. д. (обратно)43
По словам самого Вулси, некогда гадалка предсказала, что смерть настигнет его в Кингстоне, и он всегда избегал этого места. Поэтому кардинал был так поражен, услышав имя вестника своего несчастья. (обратно)44
Вулси заказал проект своей величественной гробницы итальянскому скульптору Пьетро Торриджано, однако опала помешала воплощению этого замысла. Бронзовые элементы декора, выполненные мастером, были переплавлены в эпоху английской революции по приказу Оливера Кромвеля. Саркофаг черного мрамора, предназначавшийся для кардинала, Генрих VIII намеревался использовать для своего надгробного монумента, однако этого не произошло. Считается, что он был использован при погребении адмирала Нельсона в соборе Святого Павла. (обратно)45
Дворец Хэмптон-корт Вулси построил для себя, декорировав его в соответствии с собственным вкусом, отражавшим увлечение кардинала итальянским ренессансным искусством. Впоследствии он был вынужден «подарить» дворец королю. (обратно)46
Альба — длинная белая туника, элемент облачения священника. (обратно)47
Воистину достойно и праведно, должно и спасительно (лат.). (обратно)48
Джеркин — короткое верхнее мужское платье, как правило, без рукавов. (обратно)49
Джироламо Савонарола (1452–1498) — доминиканский монах, яростный обличитель нравов церкви и папства, а также светских властей, вдохновивший флорентийцев на восстание в 1494 г., в ходе которого они изгнали из города правившее семейство Медичи и восстановили республиканский строй. Савонарола проповедовал труд, аскетизм, отказ от суетных развлечений и удовольствий. В ходе дальнейшей политической борьбы он был отлучен от церкви, схвачен противниками и сожжен в 1498 г. (обратно)50
Выходец из Мюнхена, Николаус Кратцер (род. ок. 1487) был весьма благосклонно принят при английском дворе. Получив статус королевского астронома, он изготовлял для Генриха VIII часы, астролябии и прочие научные инструменты. Кратцер был наставником детей Томаса Мора в астрономии, а также читал лекции в Оксфордском университете по приглашению кардинала Вулси. Известен портрет Кратцера работы его друга Ганса Гольбейна (оригинал хранится в Лувре, копия, выполненная в XVI в., — в Национальной портретной галерее в Лондоне). (обратно)51
Имеется в виду восстание в Корнуолле в 1497 г., когда, протестуя против сбора налога на ведение войны с Шотландией, корнуольцы двинулись через всю страну к Лондону, чтобы высказать свои претензии королевским министрам. Армия Генриха VII разгромила их, обратив в бегство значительную часть участников марша, которые вовсе не намеревались сражаться. (обратно)52
мальчишки (ит.). (обратно)53
Обычай пользоваться индивидуальными вилками в XVI в. был еще в новинку как при французском, так и при английском дворе. (обратно)54
Вопреки утверждению автора практика «разделения» в ходе голосования в парламенте не была необычной, хотя к ней прибегали нечасто. (обратно)55
в таком случае (фр.). (обратно)56
Портрет архиепископа Уорхема (Уорема) — рисунок работы Ганса Гольбейна — хранится в Королевской коллекции в Виндзорском замке. (обратно)57
«Яко сие есть Тело Мое» (лат.). (обратно)58
«с Иоанном, Стефаном, Матфием, Варнавою, Игнатием, Александром, Марцелином, Петром…» (лат.). (обратно)59
«Тебя, Бога, (хвалим)» (лат.). (обратно)60
Авторство этого поэтического текста по традиции приписывают самому Генриху VIII. (обратно)61
Пер. А. Петровой. (обратно)62
Авторство этого поэтического текста по традиции приписывают самому Генриху VIII. (обратно)63
Граи — Энио, Пемфредо и Дино — в греческой мифологии порождение морских божеств, сестры горгон, у которых был один зуб и один глаз на троих. (обратно)64
«Хвала Аллаху» (араб.). (обратно)65
пожалуйста, это срочно (фр.). (обратно)66
Королева Анна (лат.). (обратно)67
Жан Фруассар (1338 — ок. 1400) — французский историк, «Хроники» которого содержали ценные свидетельства по политической истории Англии и Франции в XIV в. (обратно)68
говорят (фр.). (обратно)69
король Генрих, вельможная шлюха (фр.). (обратно)70
я ищу милорда Кремюэля (фр.). (обратно)71
неважно (фр.). (обратно)72
у вас (фр.). (обратно)73
Здесь Кромвель обдумывает текст, который ляжет в основу парламентского «Акта об апелляциях» в Рим (1533), где впервые недвусмысленно провозглашался «имперский» статус Англии, король которой не имел над собой иных владык, кроме Всевышнего. (обратно)74
на время (лат.). (обратно)75
никогда не отчаивайтесь (лат.). (обратно)76
сын, мальчик (ит.). (обратно)77
Идите, месса окончена (лат.). (обратно)78
Имеется в виду работа Ганса Гольбейна над двойным портретом, широко известным под названием «Послы» (1533). На нем изображены французские дипломаты Жан де Дентвиль и Жорж де Селв. Картина насыщена символическими деталями, отсылающими к существу вопроса, который послы обсуждали в Лондоне. Согласно одной из версий, часы, присутствующие среди прочих атрибутов, указывают на 11 апреля 1533 г. — дату, вплоть до которой Генрих VIII был согласен ждать решения папы по поводу своего развода. Она знаменовала трагический водораздел в истории Англии, за которым разрыв с Римом стал неминуем. (обратно)79
снова послы (фр.). (обратно)80
Да будет свет (лат.). (обратно)81
Джупио «Дельминио» Камилло (ок. 1480–1544) — итальянский философ, одержимый идеей создания универсальной системы классификации всего сущего, которую он намеревался облечь в форму «Театра». В 1530 г. он преподнес королю Франциску I рукопись, озаглавленную «Theatro della Sapientia», после чего оставался под его покровительством во Франции до 1537 г. Вернувшись в Италию, он продолжал работать над своим проектом до конца жизни. Текст его трактата «Идея театра» был впервые опубликован в 1550 г. во Флоренции. Его модель «театра» вызвала большой интерес в качестве мнемонической техники, облегчающей запоминание информации. (обратно)82
мягкий, любезный (фр.). (обратно)83
Пожалуйста, принесите свечу (нем.). (обратно)84
Мой дядя… (нем.). (обратно)85
празднующий (фр.). (обратно)86
Он молится (нем.). (обратно)87
суша, твердая земля (лат.). (обратно)88
удар, касание (фр.). (обратно)89
Иннер-Темпл (Внутренний Темпл) — одна из ведущих юридических корпораций Лондона, готовившая специалистов в области английского общего права. (обратно)90
необходимость (ит.). (обратно)91
беременна (фр.). (обратно)92
Лука Бартоломео Пачоли (1445–1517) — выдающийся итальянский математик, автор многочисленных трудов по арифметике, алгебре, геометрии, один из основоположников современной системы бухгалтерии. (обратно)93
Марсилий Падуанский (ок. 1270–1342) — итальянский мыслитель, ректор Парижского университета. Выступал против притязаний папства на верховенство над светскими правителями и светскую власть. В трактате «Защитник мира» (1324) выступал за разделение духовной и светской властей при верховенстве последней. (обратно)94
Кто будет стеречь сторожей? (Ювенал, «Сатиры»). (обратно)95
дорогой хозяин (фр.). (обратно)96
удовлетворительный (фр.). (обратно)97
Оценка церкви (лат.). (обратно)98
милый (фр.). (обратно)99
Имеются в виду события в Мюнстере, где в 1534–1535 гг. власть захватила радикальная секта анабаптистов, которые объявили город «Новым Иерусалимом», осуществили передел собственности, ввели общность имущества, отменили деньги. Общиной «праведников» руководили булочник Ян Матис и портной Иоанн Лейденский. Противники анабаптистов обвиняли их в ереси и прочих чудовищных преступлениях, в частности, в полигамии. (обратно)100
Итальянский историк, приглашенный ко двору Генрихом VII, а затем служивший и его сыну, Полидор Вергилий, изучив английские архивы, не нашел в них подтверждения существования легендарного короля Артура, мифическими завоеваниями которого на континенте англичане гордились в течение многих поколений. После выхода его версии английской истории недоброжелатели утверждали, будто он обнаружил документальные свидетельства об Артуре и намеренно уничтожил их. (обратно)101
Перевод Ю. Корнеева. (обратно)102
Итак (фр.). (обратно)103
Пепельный, серый (ит.). (обратно)104
Застенчивость, стыдливость (фр.). (обратно)105
Излишний, чрезмерный (фр.). (обратно)106
Положение, которое было прежде (лат.). (обратно)107
«Смелее, мой храбрец!» (фр.) (обратно)108
Зал (ит.). (обратно)109
Святое вино (ит.), сорт белого десертного вина. (обратно)110
Приятного аппетита (фр.). (обратно)111
Бескорыстно (лат.). (обратно)112
Зеркало без изъянов (лат.). (обратно)113
Необходимость (лат.). (обратно)114
За день, поденно (лат.). (обратно)115
Rich по-английски – богатый. (обратно)116
У меня (фр.). (обратно)117
И я в Аркадии (лат.). (обратно)118
День гнева (лат.). (обратно)119
Любовная записка (фр.). (обратно)120
Даже в Аркадии (лат.). (обратно)121
Скамеечка для молитвы, часто резная, с налоем для книги. (обратно)122
Великие (ит.). (обратно)123
С начала, с азов (лат.). (обратно)124
В целом (ит.). (обратно)125
О мертвых либо хорошо, либо ничего (лат.). (обратно)126
Любовь побеждает все (лат.). (обратно)127
«Анна без головы» (фр.). (обратно)128
Сорванец, шалопай (фр.). (обратно)129
Благодарим Бога (лат.). (обратно)130
Радуйся, Царица Небесная (лат.). (обратно)131
Венецианская павана, феррарская павана (ит.). (обратно)132
Новые песни в четырех частях (фр.). (обратно)133
Моя вина, моя величайшая вина – первая фраза покаянной молитвы (лат.). (обратно)134
Буду угоден Господу в стране живых (лат.). – Пс. 114: 9. (обратно)135
Храни вас Бог (фр.). (обратно)136
Гром разносится по царствам (лат.). (обратно)137
Так проходит слава мирская (лат.). (обратно)138
Силой (фр.). (обратно)139
Идем (фр.). (обратно)140
Перевод А. Салтыкова. (обратно)141
Крестьяне (лат.). (обратно)142
Ученики (ит.). (обратно)143
Попал, задел (фр.). (обратно)144
Напротив (лат.). (обратно)145
Король Генрих. Королева Анна (лат.). (обратно)146
Вести, о король, ты знаешь, то не радостные вести… (исп.) (обратно)147
Жизнь коротка, искусство вечно (лат.). (обратно)148
У. Чосер. Птичий парламент (перев. С. Александровского). (обратно)149
Сила (фр.). (обратно)150
Как дела, Кристоф? (фр.) (обратно)151
От итальянского названия павлина – pavone, переливчатый темно-лиловый. (обратно)152
Да будет бдительным покупатель (лат.). – Принцип, по которому приобретатель делает покупку на свой страх и риск. (обратно)153
Время придет (фр.). (обратно)154
Слава в вышних (Богу) (лат.). (обратно)155
Тебя, Бога (хвалим) (лат.). (обратно)156
Радуйся, Царица [Небесная] (лат.). (обратно)157
Перевод Игн. Ивановского. (обратно)158
Миролюбивый кардинал (фр.). (обратно)159
Ключи Соломона (лат.), средневековый гримуар. (обратно)160
Фамилия Форрест по-английски означает «лес». (обратно)161
Тело Христово (лат.). (обратно)162
Продажа при свече (фр.). (обратно)163
Последний огонь (фр.). (обратно)164
(Франсуа Вийон. Малое завещание. Перевод Ю. Корнеева).



Последние комментарии
1 час 20 минут назад
2 часов 33 минут назад
3 часов 39 минут назад
4 часов 48 минут назад
16 часов 46 минут назад
17 часов 13 секунд назад