Испытание [Нисон Александрович Ходза] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

Рисунки Н. Кочергина
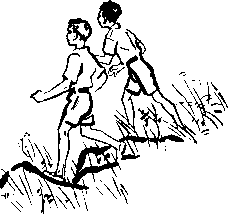
ПИСЬМО
Юрась, как всегда, проснулся позже отца. Он открыл глаза и увидел на стене высвеченный лучами солнца портрет мамы. Утренний ветерок шевелил густую листву деревьев, росших под самым окном, солнечные зайчики то исчезали, то снова скользили по стене. От этой веселой игры лучей лицо мамы на портрете все время меняло выражение. Когда мама уезжала к бабушке в Хабаровск, Юрасю казалось, что он не очень будет скучать. Но прошло две недели, и теперь он частенько вспоминает о ней. Вспоминает даже о том, как мама ворчала на него, — и обидно, и весело: «Зубной порошок не опасен для здоровья», — говорила она перед сном. «Сегодня я разрешу тебе подмести пол. Битте![1]» — улыбалась она, протягивая Юрасю веник. А накануне отъезда сказала: «Лохматая голова тебя украшает. И черные ногти тебе к лицу!» Юрась вздохнул и снова взглянул на портрет. Вчера от мамы пришло первое письмо. Огорчительное. У бабушки воспаление легких, и мама вернется не раньше августа. А сейчас июнь. Значит, Юрась и отец будут два месяца жить вдвоем. Когда отец дома, — Юрасю скучать некогда. Только отец с утра до вечера пропадает в лесу. Потому что он лесник и следит, чтобы в лесу было все в порядке. Юрасю нравится, что они живут в лесу. Раньше они жили в Минске, в большом каменном доме, а год назад приехали сюда: у отца начался туберкулез. А при слабых легких надо как можно больше быть на воздухе. Мама, узнав, что придется уехать, огорчилась, а отец — ничуть. Он сказал: «Лучше в лесу быть живым, чем в городе мертвым!» И вот уже год, как они живут на опушке, в маленьком деревянном доме, — мама, папа и Юрась. Зимой Юрась ходит в школу на лыжах. Потому что школа находится в деревне Зоричи. До нее шесть километров. Мама преподает в школе немецкий язык и хочет, чтобы Юрась говорил «как настоящий немец, с берлинским акцентом». — Спасибо вам, товарищ Кручина, спасибо! — услышал вдруг Юрась голос отца. Он отдернул занавеску и увидел, что отец жмет руку старику почтальону. — То весточка от доброго дружка. Для меня его письмо — великая радость, на многие дни праздник! — Бывайте, товарищ Марченко, — сказал почтальон. Он сел на свой старый велосипед и, тяжело работая ногами, покатил в сторону колхозной пасеки. Юрась догадался сразу, — письмо от Ивана Васильевича Коробова. Юрась никогда не видел дядю Ивана, но столько слышал о нем от отца, что не сомневался: попадись ему навстречу отцовский друг юности, он сразу его узнает. Иван Васильевич писал редко, но никогда не забывал поздравить Тимофея Петровича с днем Красной Армии. Он был командиром артиллерийского полка. — От дяди Ивана! — сказал радостно отец. — Почитаем, сынку, что пишет мне друже… Он прислонился к окну, аккуратно надорвал конверт и вынул исписанный с двух сторон лист бумаги. — Куда я очки задевал? — Тимофей Петрович похлопал себя по карманам. — Никак не привыкну, все забываю… — Давай, батя, я прочту. — Читай, сынок. С очками я потом второй раз прочту. Почерк у Ивана Васильевича был такой размашистый, что на иной строчке умещалось всего четыре-пять слов. — «Дорогой браток! — читал Юрась. — Судьба улыбнулась мне: скоро мы увидимся. Четырнадцатого июня прикачу в ваши края. Буду наблюдать в одной деревушке за испытанием кое-каких артиллерийских приборов. А деревушка сия — в твоем районе. Я решил завернуть к тебе, посмотреть, как вы живете в избушке на курьих ножках, какие чудеса творятся в твоем дремучем царстве, скачут ли по лесным тропам серые волки, сидят ли на ветвях русалки. Заодно разрешу тебе полюбоваться моими усами. Об усах предупреждаю заранее — боюсь, опять вздумаешь придушить меня. Юлия торчит на заводе день и ночь, — завязла в своих химических опытах. Владлен (а попросту — Владька) перешел в пятый класс. Не знаю, что теперь с ним делать. Жаль держать его все лето в душном Ленинграде. Знаешь, о чем моя думка? Подбросить его месяца на полтора к тебе. Настало время моему Владику и твоему Юрасю познакомиться. Если нет возражений, — черкни телеграмму. И тогда четырнадцатого числа сего месяца полковник Красной Армии Иван Коробов в сопровождении своего единственного сына Владлена предстанет пред твоими карими очами. Понял ты меня, чудище лесное Тимофей Петрович? Знаю, что в лес тебя загнал Яшка Спивак. Буду у тебя — повидаюсь и с ним. Вспомянем, как вместе били Черного барона! Поклоны всем вам от меня и хорошо известной тебе Юлии. Не верится даже, что вот-вот обниму тебя после пятнадцати лет разлуки! Иван К.» Юрась кончил читать и взглянул на отца. Тимофей Петрович сиял. — Ах, Юрась, ах, сынку, какой праздник! Я увижу Ивана! Что ж ты стоишь? Дуй на почту! Сейчас же! — закричал он, точно Юрась находился в другом конце леса. — Садись на велосипед и кати в Зоричи. Сейчас напишу телеграмму! Чтобы сегодня же отправили! Тимофей Петрович вбежал в дом. Он торопился, перо царапало бумагу, он зачеркивал какие-то слова, вписывал новые, в конце концов телеграмма получилась таинственная: «Поручику с сыном явиться незамедлительно». Телеграмма озадачила Юрася: — Это дядя Иван поручик? — Он, он! Тащи на почту! — Но ведь поручики были при царе. Разве дядя Иван был царским офицером? — Иван — царским офицером? — Тимофей Петрович засмеялся. — А зачем ты так пишешь? — На это он не обидится, даже наоборот! Боюсь только, на почте придерутся: дескать, откуда у нас поручики появились? Знаешь что? Я сам поеду в Зоричи. Он выбежал из дому и крикнул на ходу: — Вернусь — расскажу! В ожидании отца Юрась занялся самым бессмысленным, по его мнению, делом: стал подметать пол. На это ушло не более пяти минут. Оставив веник, Юрась занялся прополкой клумбы перед окном, потом натаскал в кадушку воды из колодца, наколол дров для плиты, наладил поплавки на удочках, а отец все не возвращался. Юрась уже успел позавтракать, когда явился, наконец, Тимофей Петрович. — Отправил, приняли, — сказал он широко улыбаясь. — Будем теперь дни считать… — Спрашивали на почте, почему поручик? — Не обратили внимания… — А ты обещал рассказать. — Помню. Ладно, садись, слушай. История не короткая. Случилось это в родном моем городе Севастополе. В мае двадцатого года… — Когда белые были в Крыму… — Белые. Изверги! Всякий день на базарной площади висели трупы. На каждом — надпись: «Большевик». В те дни мы с Иваном на заводе слесарили. Оба были коммунистами, в подполье, конечно. И вот, помню, в мае, шел я на тайное совещание, тут меня и схватили на Историческом бульваре. В участке, как полагается, обыскали до ниточки, нашли американский браунинг с глушителем, четыре фальшивых паспорта на разные имена. Я их должен был передать представителю подпольного ревкома. Бросили меня в подвал, а ночью вызвали на допрос. Как меня допрашивали, рассказывать не буду. Скажу только, что с допроса в камеру своими ногами я дойти не мог. Два конвоира приволокли меня, словно барышню, под ручки и швырнули в угол. — Тебя били? Да? — хрипло спросил Юрась. — Коса от отбивки острее становится! Слушай дальше. Таскали меня на допросы каждую ночь. Хотели узнать адреса подпольных явок и кто в ревкоме состоит. На этих допросах мне и… повредили легкие. А как увидели, что от меня ничего не добиться, — испугались. Знаешь, чего испугались? Что я умру раньше, чем меня казнят. И решили повесить меня в первое же воскресенье!.. Побледневший Юрась смотрел на отца большими синими глазами. — О приказе этом подпольщики узнали в субботу утром. У нас в контрразведке у белых свой человек работал — комсомолка Юлька, то есть Юлия Марковна, — теперь она жена дяди Ивана. На машинке там стучала. Она и сообщила ревкому. Да-а… Вот так, значит… А в субботу в полночь к участку привели новых арестованных. Их было человек восемь. Конвой — три солдата и офицер с георгиевским крестом. Подвели арестованных к участку — там, конечно, часовой. Поручик на него с кулаками: «Спишь на часах! — и раз ему по уху! — Завтра же будешь в штрафной роте!» Солдат от испуга понять ничего не может, лепечет что-то. А поручик командует: «Ефрейтор Губин! Взять у негодяя винтовку! Останешься за него на часах. А ты, ворона, становись к арестованным, сейчас сдам тебя караульному начальнику». Ввели арестованных в участок — там, как полагается, сидит дежурный офицер. «Принимайте задержанных!» — командует поручик. Дежурный прямо подскочил: «Опять арестованные! У нас все камеры забиты! Откуда они?» «Задержаны в облавах. Надо проверить личности». Дежурный — свое: «Некуда их сажать. Ведите в другой участок. Там свободнее. Сейчас узнаю по телефону…» Не успел дежурный крутануть телефонную ручку, как увидел нацеленный в лоб наган.
«Руки вверх!» — командует поручик. И все арестованные выхватывают из карманов револьверы. В это самое время входит в дежурку штабс-капитан из контрразведки. Тот самый, что меня допрашивал, зверствовал надо мной. Вошел, шкура, остановился у дверей, понять ничего не может. Еще бы! У штатских в руках револьверы, а дежурный офицер стоит с поднятыми руками. «Эт-то что такое?» — спрашивает штабс-капитан и хватается за кобуру. «Ишь любопытный!» — говорит поручик да как хрястнет его кулаком по скуле, тот и грохнулся, что чугунный столб. Полный нокаут! А дальше было просто. Заперли беляков и начали выпускать арестованных. Я в тот час сидел уже в особой одиночке — для смертников. Спать, конечно, не спал. Какой тут сон — жить осталось до зорьки! Вдруг слышу в коридоре голоса… Ясно, за мной пришли! Потащут, думаю, меня, как телка на живодерню. Решил, — хоть одного гада прикончу перед смертью. Вот ключ в дверях заскрипел, дверь распахнулась, вваливается усатый офицер, в руках наган. Я на него — и за горло! Он даже не пошатнулся: ослабел я в тюрьме, совсем силенок не стало. Оттолкнул меня усатый поручик, сам командует: «Волоки его, ребята!» Схватили меня, потащили из камеры. В коридоре смотрю — тащут меня свои же товарищи-подпольщики. «Шагай быстро! — кричат. — Дел еще по горло». А поручик — раз! — и сорвал с себя усы. Бог ты мой, да это же Ваня Коробов! Дальше — как в кино! Освободили наши подпольщики двадцать большевиков. Ушли мы в горы, и много неприятностей имел потом от нас Черный барон Врангель. А Ваня Коробов получил с тех пор подпольную кличку — Поручик. — Тимофей Петрович глубоко вздохнул. — Давненько не видел я Ваню. Шестнадцатый год пошел, как расстались… — Значит, он спас тебя? От смерти? — Спас… И ты должен всегда об этом помнить. Потому что нет большего греха, чем неблагодарность.
Юрась был убежден, что дядя Иван — высокий, широкоплечий, с густыми черными усами. А Коробов оказался невысоким, светловолосым, быстрым в движениях, а что касается усов, то их у него не было. — Сбрил перед отъездом, — уверял он. — Боялся, что Тимофей набросится! Владлен на отца не походил. Темные густые волосы его вились мелкими завитками, большие черные глаза смотрели внимательно и как будто печально. — Вылитая Юлия! — восклицал Тимофей Петрович. — Твоего — ничего! — Он смотрел на ребят и удивлялся: — Какие хлопчики! Мы с тобой такими же были, когда встретились в школе. Помнишь, Иван? — Эва придумал, — «такими»! Куда нам до них. Они вон театры свои имеют, пионерские дворцы, лагери, газеты, видишь, у них имеются собственные, кружки разные. Мой Владька фехтованьем занимается. Подумай только! — То верно! Мы в их годы даже и не знали про такое. Фехтовали не рапирами, а кулаками больше. Помнишь наши драки?! Юрась и Владик сидели в соседней комнате, они слышали, как отцы их, предаваясь воспоминаниям, то и дело взрывались смехом. Мальчики никак не могли понять, что их так веселит. — Помнишь, — спрашивал Тимофей Петрович, — ты в чужой виноградник ночью залез, а сторож всадил тебе пониже спины заряд крупной соли? Ох и визжал ты! — Конечно, помню! — кричал полковник, и оба заливались смехом. — А помнишь, как ты с лодки нырял? — Это когда же? — Когда о камень головой трахнулся! — Я думал… я думал, — доносится сквозь смех голос Ивана Васильевича, — я думал, что у меня черепушка треснула! А помнишь, как ты схватил кол по русскому? — Это когда же? — Неужели не помнишь? На уроке чтения. Там в конце предложения стояли буквы: «и т. д. и т. п.». Учитель спрашивает: «Скажи, Марченко, что означают эти буквы — „и т. д. и т. п.“? Знаешь ли ты их значение?» Ты нахально отвечаешь: «Знаю. Это сокращенно означает: „И таскать дрова и топить печь!“ Он тебе и вляпал кол! На этот раз засмеялись и ребята… — Веселый у тебя батька! — сказал Юрась. Он еще не знал, о чем говорить с ленинградским гостем, но ему хотелось сказать Владику что-нибудь приятное, и он сказал: — Дядя Иван спас моего отца от смерти… — Знаю, папа рассказывал. Он говорит, что дядя Тима — герой. Белые его пытали, а он ничего не сказал им. Белые говорят: „Выдашь коммунистов — освободим. Не выдашь — повесим“. А он говорит: „Вешайте, только скорее, пока вас самих не повесили!“ — Про это батя мне не рассказывал… — О чем я не рассказывал? — Мальчики не заметили, как появились в комнате их отцы. В глазах Тимофея Петровича еще не угас веселый блеск. — О чем же я тебе не рассказывал? — снова спросил он. — Владик говорит, что ты герой! — выпалил Юрась. Тимофей Петрович рассмеялся. — Какой я герой? Герои, знаешь… Это люди особые… — Особые? — переспросил Иван Васильевич. — Ну, значит, 'ты особый. Тогда, в Крыму, ты вел себя геройски… — Обстоятельства так сложились, Ваня. Случайность… — Какая случайность? — Ты же знаешь, контрразведка схватила. Попал в переделку. При чем тут геройство? — Слушай, друг! — голос Ивана Васильевича звучал недовольно. — Такая скромность никому не нужна. Пусть дети знают, кто их отцы. С кого же им брать пример, как не с отцов? А? Разве я не прав? — Ну уж это ты того… Есть у нас, слава богу, с кого брать пример: Щорс, Чапаев, Фрунзе… — Не Щорс, а мы в ответе за наших детей. Если мой Владька окажется трусом, кто ж в этом будет виноват — Фрунзе? Чапаев? Ерунда! За детей отвечают отцы, в первую очередь отцы! — С этим я не спорю… — Тогда нечего скромничать. — Иван Васильевич посмотрел на Юрася: — Гордись своим батькой, старик! — Ах, Иван. Ну правда же… Тимофей Петрович был смущен и, чтобы скрыть смущение, сердито спросил ребят: — Что вам торчать в хате? Мало в лесу места? — И верно, — поддержал Иван Васильевич. — А ну, кругом марш! — Мы построим в лесу шалаш! — сказал Юрась. — И чтобы спать там!.. — Славная затея! Как ты считаешь, Иван? — Разрешить и одобрить! — Вот и ладно! Топор, лопата, пила — в сарае. Чтобы к вечеру все было готово! Мальчики бросились из дому. Тимофей Петрович посмотрел им вслед: — Обкатали мы им дорогу, хлебнули ради их счастья и горького и соленого! Зато избавили навсегда детей наших от нищеты и горя. — Хорошо, коли навсегда… Только боюсь я, Тима, что это… Ну, да ладно! Может, так и есть, как ты говоришь… И снова они вспоминали дни своей молодости и никак не могли наговориться. В лесу, как заводная, куковала кукушка, чуть слышно шелестели листья, сновали деловито золотые пчелы и воздух дрожал от тепла и света. Далеко за лесом наползали, громоздились высокие сизые тучи и неожиданно раскатился яростный летний гром. — Точно снаряд разорвался! — сказал Тимофей Петрович. На рассвете, когда мальчики спали в шалаше крепким сном, к дому лесника подъехала эмка. Молодой чубатый водитель дал короткий сигнал и вылез из кабины. В дверях появились Коробов и Марченко. — По приказанию секретаря райкома товарища Спивака явился в распоряженье полковника Коробова! — доложил шофер и козырнул. — Спасибо, товарищ, — сказал Иван Васильевич. — Сейчас двинемся. Прощай, Тима. — Езжай спокойно, — грустно проговорил Тимофей Петрович. — За Владиком я присмотрю… — За него не тревожусь. Знаю, пока ты дышишь, — ничего плохого с Владькой не случится… Прощай, дружище!
НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ
— Может, нам поробинзонить, хлопцы? — спросил как-то утром Тимофей Петрович. — Обязательно! — закричал Юрась. — Поедем на Тимуровский! Или нет, на Морозовский! На Морозовском дно лучше! — Ты не забыл, как управлять мотором? — Помню, конечно! Когда же поедем? Сегодня? — горячился Юрась. — Что скажет Владик? — Вы про что? — Хотим поробинзонить пару деньков… — Как это?.. — Ах, да! Ты же не знаешь! Юрась, расскажи. Я тороплюсь на вырубку. — Значит, мы сегодня не поедем? — у Юрася вытянулось лицо. — Почему не поедем? Сейчас начало восьмого. Я долго не задержусь. — Знаю, как не задержишься… Всегда так… — Не хнычь! Начинайте-ка собираться… Едва Тимофей Петрович скрылся за деревьями, как на Юрася посыпались вопросы: — Куда мы поедем? На чем? Дядя Тима говорил о моторе… — Мы с батей любим робинзонить. Садимся в моторную лодку, берем побольше хлеба и едем на необитаемый остров. У нас их четыре. Я им всем дал названия. Запомни: Корчагинский — в честь Павки Корчагина. Читал? — Два раза! — Морозовский — в честь Павлика Морозова. Тимуровский! А еще есть остров… он называется… он называется Юрьевский… — закончил скороговоркой Юрась. — А это в честь кого? В честь Юрия Милославского? Ты читал? — Не читал. Я не в честь назвал… Я просто так… Это случайно вышло, что меня зовут Юрий и остров Юрьевский… А то еще есть Красный остров. Там я не был. На других островах был, а на этом — нет. — А почему? — Он не на реке, он на Гиблом болоте. К Гиблому у нас никто не ходит. Один только почтальон Кручина не боится. Он там во время гражданской войны партизан прятал… — Как же они жили в болоте? — Они жили не в болоте, на Красном острове. В том-то и дело… — И враги не знали, что они там прячутся? — Знали! Только не могли напасть на этот остров. Он же среди болота. Никто, кроме Кручины, не знает к нему тропинки. Никто! — Вот бы нам туда!.. — Я просил батю. Он — ни за что! Говорит, что надо по кочкам прыгать, а оступишься — сразу с головой в болото уйдешь. Не спастись! Робинзонить там все равно нельзя… Ты червей насаживать умеешь? — Не знаю, — замялся Владик. — Как не знаешь? Умеешь или нет? — Дело в том, что я никогда их не насаживал. Но в руки брал… Прошлым летом… в пионерлагере. И ничего. Мне попался червяк… не особенно противный… — У-у-у! Ты и червяка не умеешь насаживать! Вот так Робинзон! Ну, бери лопату! Идем! В тени, у сарая, где буйствовали крапива и лопухи, они принялись копать червей. — Держи лопату наклонно! — командовал Юрась. — Так! Правильно! Вот он! Клади его в банку! Владик храбро схватил длинного извивающегося червяка и, стараясь не смотреть на него, бросил в банку из-под консервов. — На такого можно и щуку поймать, — одобрительно сказал Юрась. Очень скоро в банке, наполненной землей, копошились десятка три червей. — Теперь проверим лески, — распоряжался Юрась. — Ты удочки умеешь забрасывать? Нет? Так я и знал… А вот и батя пришел. Идем скорее! Тимофей Петрович стоял у крыльца и читал какую-то бумажку. — Срывается наше путешествие, хлопчики, — со вздохом сказал он. — Почему? Почему срывается?! — закричали одновременно Юрась и Владик. — Потому что меня вызывают в Гладов, на конференцию. Съедутся лесники со всего района. Вернусь только в среду к вечеру. — Вечно так… — дрожащим голосом сказал Юрась. — То тебе надо в райком, то в сельсовет, то в исполком, то на конференцию… — Что делать, хлопчики? Так уж получилось! Съездим через недельку… — Через недельку… Через недельку может и погода испортиться… — И червей таких, наверно, не будет, — грустно заметил Владик. Тимофей Петрович рассмеялся, потом пристально посмотрел на ребят и неожиданно сказал: — Поезжайте без меня… — Как без тебя? — А так. Что ты — маленький? Зимой четырнадцать годов стукнет! — Гайдар в шестнадцать лет полком командовал, — сказал Владик. — Вот видишь, полком командовал! Значит, под пулями ходил — не трусил! Плавать умеешь? — Умею. Я ходил в бассейн. — Ночью в темноте не испугаешься? — А мы костер разожжем. Огня даже волки боятся. Тимофей Петрович усмехнулся. — На этих островах заяц — самый страшный зверь! Боясь, что отец передумает, Юрась засуетился: — Владик, собирайся! Тащи из кладовки ведро и котелок! Кружки берем жестяные! Сало не забыть! Спички у меня в кармане. Оденешь мои старые сапоги! Рубашку с длинными рукавами! С короткими — гибель! Там комары — звери! Ватник возьмешь!.. — Поедете на Корчагинский. Он ближе. На моторке через полчаса будете, — сказал Тимофей Петрович. — На Юрьевском клюет лучше! — До Юрьевского далеко. Вдруг мотор забарахлит? Тогда вы против теченья из сил выбьетесь! И вообще, если хотите ехать, — поторапливайтесь! А то попадете в самый солнцепек……Через полчаса оба мальчика с набитыми заплечными мешками шли по тропинке к реке. Юрась шагал впереди. За поясом его торчал, поблескивая на солнце, топорик. Высокие резиновые сапоги намокли в росистой траве и сверкали точно лакированные. Лихо сдвинутая на левое ухо кепка была почему-то повернута козырьком назад. — Споем! — обернулся Юрась к Владику и затянул низким голосом:

Хворосту вокруг было много, Владик быстро натаскал его целую кучу. — Рогатины! Вбей рогатины! — покрикивал с берега Юрась. Когда Владик вбил рогатины, Юрась крикнул снова: — Зажигай огонь, Пятница! Подвешивай котелок с водой. — Сейчас! — С котелком в руке Владик спустился к реке. — А спички? — спросил он. — Где у нас спички? — Спички? — Юрась казался удивленным. — А у Робинзона были спички на острове? Спичками всякий разожжет! — А как же без спичек? — Вот! — Юрась вытащил из кармана увеличительное стекло. — Умеешь с этим управляться? Владика вопрос обидел. Ничего не ответив, он взял стекло и вернулся к костру. Вскоре едкий запах дымка пополз к реке. — Есть! — раздался торжествующий возглас Юрася. — Окунище! Громадина! — Покажи! Покажи! — Владик и сам не заметил, как оказался возле Юрася. — Какой большой! Теперь я буду ловить! — Ладно. Попробуй. А я пока этого вычищу. Едва Владик закинул удочку, как поплавок юркнул под воду, сразу же вынырнул наполовину и опять исчез. — Есть! Поймал! — заорал чужим голосом Владик. — Тяну! — Подсекай! — закричал Юрась. — Подсекай! Уйдет! — От меня не уйдет! — Владик дернул удочку на себя, туго натянутая леска вдруг обвисла, а на воде, точно издеваясь, снова заплясал веселый поплавок. — Раззява! — простонал Юрась. — Такой окунище! — Как же так? Как же так? — бормотал Владик дрожащим голосом… — Видно, червяк был неподходящий! — Червяк неподходящий? Рыбак неподходящий! Владик опустил голову. Юрасю стало жаль его. — Со всяким случается, Пятница, — сказал он утешительно. — У меня один раз такая щука сорвалась — килограмма на три! Ну да ладно! Один окунь у нас есть! Пойдем, научу варить уху. …Такой вкусной ухи "с дымком" Владик никогда не едал. Он не сомневался, что может один съесть целый котелок. Мальчиков не смущало, что в ухе плавали березовые листочки, сучок и несколько угольков, что картошка не успела свариться и хрустела на зубах. Они черпали уху из котелка деревянными ложками. — Я теперь всегда буду есть деревянной ложкой, — заявил Владик. — Просто не сравнить, до чего вкусней!.. День прошел незаметно. С первой звездой они забрались в шалаш и уснули, едва успев положить головы на свернутый ватник.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Мальчики проснулись, точно по команде. Они выбежали из шалаша и задрали вверх головы. Небо было затянуто сизым маревом, и лишь на другом берегу, далеко над темной стеной леса, чуть мерцала предутренняя звезда. — Мне приснилось, что самолеты гудят, — сказал Юрась. — И мне тоже! Вот смешно! Едва он умолк, как вдали возник гул самолетов. — Это не приснилось, — догадался Юрась. — Это мы сквозь сон слышали. Молодцы летчики! Вовремя разбудили! Перед восходом клев — только снимай! Они подбросили в тлеющий костер охапку сухого хвороста, раздули огонь и, подвесив чайник с водой, спустились к реке. — Давай — в камыши, — решил Юрась. — Будем ловить с лодки. Предутренний клев оказался отличным. Скоро на дне лодки трепыхались несколько окуней. Каждый раз, когда поплавок уходил под воду, у Владика от волнения замирало сердце. Ни одна рыба больше не сорвалась с его крючка. Он и сам не понимал, как ему удалось перенять от Юрася это быстрое и точное движение, которым подсекается рыба. — Юрдоюрвольюрно! — распорядился Юрась. — Поехали завтракать. — "Юрдоюрвольюрно? А, понимаю! — обрадовался Владик. — На Юрьевском острове надо вставлять слог "юр"! — Владька, ты способный! Сразу четыре языка выучил. А я один немецкий учу восемь лет!.. Они пристали к берегу, солнце прорвало тонкую предрассветную пелену. Туман растаял, на травах засверкала роса, в зеленой листве деревьев загомонили птицы. — Как хорошо! — вырвалось у Владика. Но возглас его заглушил нарастающий, упругий гул самолетов. — Вот разлетались! — сказал Юрась. — Неси воду, я разведу костер. …Они прихлебывали маленькими глотками крепкий, почти черный чай, обжигая пальцы о горячие жестяные кружки. Солнце окончательно разогнало ночные тени. — Поедем вокруг острова, — сказал Юрась. — Помнишь, как Робинзон объезжал свой остров. Только у него ничего не получилось. А у нас получится! По дороге искупаемся! С лодки! Босые, в одних трусах, они прыгнули в лодку, оттолкнулись веслом от берега, а лодка, чуть покачиваясь, поплыла по течению. Юрась потянулся к мотору. — Не надо, — попросил Владик. — У Робинзона же мотора не было. От мотора шум… — Какой нежный! Шума испугался! Ты вот погреби против течения, попробуй! Он решительно дернул за шнур. Мотор взревел, но сразу же стих. Юрась снова дернул. Мотор затарахтел, сделал несколько оборотов и заглох. — Что это с ним? — в голосе Юрася звучала растерянность. — Надо дернуть сильнее… Все попытки запустить мотор кончились неудачей. Мотор стрелял, кашлял, чихал, но работать не хотел. — Вот и у нас ничего не получилось, — сказал Владик. — Робинзон не мог объехать остров, и мы не можем… — Не в этом дело, — сказал упавшим голосом Юрась. — Придется сейчас же возвращаться домой. — Возвращаться? Почему? — А ты знаешь, сколько времени мы теперь пойдем до дому? На одной паре весел против течения? — Сколько? — Больше двух дней, вот сколько! А в среду вернется батя. Если он вернется раньше нас, — знаешь как испугается? — Почему испугается? — Почему, почему?! Мы же обещали вернуться сегодня к вечеру. Так? — Так… — Сегодня воскресенье. А в среду он войдет в дом, а нас нет! И он решит, что мы утонули… — Как же быть? — теперь и у Владика был растерянный вид. — Немедленно ехать! Сейчас же!Вначале мальчики гребли поочередно, но вскоре гребки Владика стали короткими, неровными, лодка все время вихлялась из стороны в сторону. — Давай грести вместе, — предложил Юрась. — Садись на левое весло. Они держались ближе к берегу, где течение было слабее. Но все равно к полудню оба обессилели. Солнце пекло нещадно. — Может, пристанем?.. Отдохнем немного… в тени… Юрась кивнул головой и направил лодку к берегу. Но отдохнуть в прохладной тени им не удалось В жизни своей ребята не видели столько комаров. Они развели костер и, окутанные едким дымом, молча сидели у огня. Слезились глаза, першило в горле, и все же Владик готов был сидеть так еще и еще, только бы не грести против течения! — Поехали! — решительно сказал Юрась. — Залей костер, а я на всякий случай проверю мотор. С ним так бывает: не работает, не работает, а потом вдруг затарахтит, как ни в чем не бывало!.. Но мотор и на этот раз не завелся. — Значит, грести? — тоскливо спросил Владик. — Придется грести Покажи ладони, Пятница! Владик протянул руки ладонями вверх. — Эх, ты! Натер пузыри! Он обмотал ладонь Владика майкой, и они двинулись дальше. Время от времени мальчики приставали к берегу и отдыхали. Есть им не хотелось, но мучила жажда. Юрась зачерпывал воду пригоршнями и с наслаждением пил. Владик не решался пить воду из реки. На привале он кипятил чайник, но чай не утолял жажды. …Ночевали они на берегу, у костра, наскоро поужинав хлебом и куском сала. Хотя у Владика от гребли болело все тело, он сразу заснул. Юрась же, прежде чем уснуть, высчитал, какую часть пути они прошли. Выходило, что они едва-едва одолели треть. Значит, отец окажется дома раньше них… Мальчики поднялись перед самым восходом солнца. На этот раз весла показались Владику еще тяжелее, чем накануне. Кровоточили стертые ладони, болела спина, весло все время срывалось. — Слушай, — сказал Юрась, — попробуем как бурлаки. — И, видя, что Владик не понимает его, пояснил. — Сами пойдем берегом, а лодку потянем на веревке. — Здорово придумал! Давай! Они пристали к берегу и закрепили на носу лодки веревку. — Я буду тянуть за канат, ты подталкивай с кормы, — распорядился Юрась. Теперь стало легче. Каждые полчаса они менялись местами. Иногда, спасаясь от комаров, садились в лодку и шли на веслах… И все-таки к концу дня они так измотались, что у них едва хватило сил развести костер. Юрась снова занялся подсчетами и совсем расстроился: за два дня они прошли немного больше половины пути. Что будет с отцом, когда он не обнаружит их в среду? Он разбудил Владика до рассвета. В небе еще купался в легких облаках литой месяц, плотное покрывало тумана делало реку невидимой. — Надо двигаться, бурлак! — сказал притворно бодрым голосом Юрась. — Пусть хоть туман пройдет… Ничего же не видно… — Не заблудимся!.. Но тянуть в тумане лодку оказалось невозможно. Она натыкалась на торчавшие из воды коряги, застревала на отмелях. Пришлось снова идти на веслах, пока не растаяла на солнце пелена тумана. Этот день ничем не отличался от предыдущего. К вечеру они миновали Тимуровский остров. — Далеко еще! — В голосе Юрася слышалось отчаяние. — Батю мы не опередим! — У меня руки отваливаются! И чего мы зря бьемся? Сам же сказал, что все равно не успеем! У меня больше сил нету!.. — У меня тоже. Только я знаю один секрет… Давай воображать! — Как воображать? — Я воображу, что я Чапаев! А ты вообрази, что ты Павка Корчагин. Павка и Чапай стали бы жаловаться, что у них нет сил? Что они клинка держать не могут? — Никогда! — убежденно сказал Владик. — Тогда слушай мою команду. Пока не стемнеет — будем тянуть. Потом пойдем на веслах. Ночью поспим часа два и снова в путь! Может, тогда и успеем. Из последних сил мальчики продолжали тянуть. Иногда они останавливались, переводили дух, поправляли веревку. Когда стемнело, они сели в лодку. Ночь выдалась ясная, они плыли по лунной дорожке и гребли, пока хватило сил. Наконец Юрась сдался. — Пристанем к берегу… Отдохнем… — заявил он. Владик с радостью согласился. На берегу они бросили под голову ватник и растянулись на траве. — Полежим четверть часика и — полный вперед! — сказал Юрась. …Владик проснулся от приятного ощущения тепла. Солнечный луч бил ему прямо в лицо. Он приоткрыл глаза и сразу же зажмурился. Так не хотелось просыпаться! Но рядом зашевелился Юрась. — Проспали! — закричал Юрась. — Проспали! Смотри, где уже солнце! Ребята бросились к лодке. — Все пропало, все пропало! Теперь не попадем раньше бати! Все из-за этого чертова мотора! — Юрась яростно дернул шнур. И вдруг мотор застучал! Застучал и не заглох. Вспенилась, забурлила у кормы вода, и лодка рванулась к берегу, едва не сбив с ног Владика. — Заработал! Владька! Заработал! Слышишь! Скорее в лодку, пока работает! Владик, точно его кто подбросил, мгновенно оказался в лодке. — Отталкивайся веслом! Сильнее! Так! Ура! Через минуту они были на середине реки. — С нашим мотором уже так бывало! — объяснил возбужденно Юрась. — Шалый какой-то! Знаешь, через сколько мы будем теперь дома? Через сорок минут! Чуешь? А батя придет к вечеру. Ай да я, молодец! Как лягушка! Владик не понял, почему Юрась считает себя молодцом, но ему было неудобно спросить об этом, и он спросил о другом. — Почему как лягушка? — А ты не знаешь этой сказки? Две лягушки попали в кувшин со сметаной. Стали выбираться — ничего не выходит. Лапки по гладким стенкам скользят, срываются, не за что уцепиться. Тогда одна лягушка говорит: "Не выбраться нам отсюда. Нечего и биться зря!" Сложила лапки, пошла на дно и захлебнулась. А вторая лягушка все билась, билась, из последних сил билась… И вдруг видиг, сметана-то превратилась в комочек масла. Тогда эта лягушка вскочила на этот комочек и выпрыгнула, жива-здорова, из кувшина. Теперь понял, почему я лягушка? — спросил хитровато Юрась. Владик ничего не ответил, только виновато улыбнулся.
СТРАННАЯ ЗАПИСКА
Ребята подошли к дому веселые, довольные: в конце концов, все обошлось хорошо. Сбросив синий заплечный мешок, Юрась сунул руку под ступеньку. — Странно, — сказал он. — Нет ключа. Неужели батя унес?.. Никогда такого не бывало! — Ну и что! Поживем в шалаше. Он же скоро придет. — Никогда такого не бывало, — бормотал Юрась, продолжая шарить под ступенькой. — Может, завалился куда?.. Ага! Вот он! — Нашел? — Нашел не на месте! Торопился батя… Они вошли в дом. Юрась распахнул окно и сел на кровать. — Ох, и посплю я… — Он вдруг умолк и уставился на стену: — Куда девалось батино ружье? — И верно, исчезло, — удивился Владик. — А может, дядя Тима взял его с собой?.. — Тут были воры! — испуганно сказал Юрась. — Ясное дело! Вот и окурок валяется. Батя же не курит! Потому и ключ не на месте лежал. А это что? Только сейчас они заметили на столе конверт, на котором крупными буквами было написано: "ЮРАСЮ". — Батин почерк, — успокоенно сказал Юрась и разорвал конверт. "Хлопцы! — писал Тимофей Петрович. — Вы, конечно, все уже знаете. Неизвестно, когда я вернусь домой. Поезжайте с этим человеком к товарищу Спиваку. И во всем его слушайтесь. Не пугайтесь. Все будет хорошо. Посадим бешеных псов на цепь и снова заживем! Надеюсь на скорую встречу. Сегодня же напишу маме и Ивану Васильевичу, чтобы не волновались за вас. Верьте, все будет хорошо! Обнимаю и целую вас обоих. Т. М. 22 нюня 1941 г." — Ничего не понимаю, — растерянно сказал Юрась. — О каких-то собаках… А про ружье не пишет!.. С кем-то нам надо ехать к товарищу Спиваку… И почему-то не знает, когда он вернется… — Какая странная записка… Может быть, дядя Тима шутит?.. — голос Владика звучал неуверенно. — Нет, здесь что-то не так. — Юрась обвел комнату пытливым взглядом. У ножки стола он заметил листок бумаги. Должно быть, его сдуло со стола, когда Юрась открывал окно. На листке незнакомым почерком было выведено то же слово: "Юрасю". "Ждал вас цельный день, — писал неизвестный, — Больше ждать не могу. Приказано вернуться в двадцать ноль-ноль. Письмо от отца оставляю. Ружье взял в соответствии с приказанием. Сидите дома, не отлучайтесь. За вами, видно, еще приедут". Дальше стояла неразборчивая подпись. — Кто это? — спросил Владик. — Не знаю… Только ясно, с батей что-то случилось… Он, наверно, в больнице, и за нами приезжали… — А при чем тут бешеные псы и ружье? Он бы так и написал, что заболел… Юрась и сам понимал нелепость своей догадки, но обе записки были непонятны, тревожны, и найти им объяснения он не мог. — Что же нам делать? — Владик с надеждой смотрел на Юрася. — В записке сказано, чтоб мы ждали. К нам кто-то приедет… — Надо заняться чем-нибудь, чтобы время скорее прошло… Что случилось с батей?! — Если бы знать, кто приезжал за нами! — И что это за "бешеные псы"? Ничего не понять… А может, батя и вернется к вечеру. Сам пишет, что увидимся. Давай займемся приемником. Давно разобрал его, а собрать лень было. За работой время быстрее пройдет. — Давай. Мы во Дворце пионеров изучали разные схемы… Разложив на столе детали, они стали собирать приемник. Оба сейчас не говорили ни о письме Тимофея Петровича, ни о таинственной записке незнакомца. Но каждый думал только об этом. Они заканчивали работу, когда где-то вдали прокатился глухой раскат грома. — Гроза! — удивился Владик. — А когда шли, небо было синее, ни единого облачка. Снова раздался отдаленный раскат грома. Юрась выглянул в окно. — Что за день сегодня! Небо чистое, а гром гремит… — Где-то гроза. Только далеко. Вечерело, когда Юрась сказал: — Все. Наладили. Теперь должен работать… Только слушать не хочется… А батя все не идет… — Давай послушаем для проверки… Чтобы знать, как работает.
Юрась долго крутил рычажок, прежде чем поймал еле слышную, невнятную речь. Он перевел рычажок, и в комнату ворвался грохот медных труб. Где-то, за тридевять земель, музыканты, надувая щеки, дули в медные трубы, и звуки оглушительного марша бились о стены маленького домика, затерянного в лесах Белоруссии. — А Ленинград поймать можно? — спросил Владик. — Сколько угодно. И Ленинград, и Москву… "Ахтунг! Ахтунг!" — послышалось из приемника. — Германия! — сказал Юрась и снова перевел рычажок. — Откуда ты знаешь, что Германия? — Я немецкий хорошо знаю. Мама говорит, что у меня почти берлинский выговор… В эфире раздалось легкое потрескивание, потом чей-то голос на незнакомом языке заговорил так быстро, что все слова сливались в одно бесконечное слово. — Где же Ленинград? — нетерпеливо спросил Владик. — Сейчас… Юрась повернул рычажок: ".. солдат и офицеров", — произнес голос на русском языке и потерялся. Юрась долго настраивался на новую волну, наконец, ему удалось поймать какую-то передачу. Сейчас слова звучали ясно, отчетливо: "…противник стремился развить наступление по всему фронту от Балтики до Черного моря, направляя главные свои усилия на Шауляйском, Каунасском, Гродненско-Волковысском, Кобринском, Владимиро-Волынском, Рава-Русском и Бродском направлениях, но успеха не имел…" Треск и шум в эфире заглушили голос диктора. — Жаль, начала не слышали, — сказал Владик. — Кажется, интересная передача… — Про гражданскую войну, — сказал Юрась. — Я люблю про гражданскую войну, а ты? "…На Белостокском и Брестском направлениях, — продолжал тот же голос, — после ожесточенных боев противнику удалось потеснить наши части прикрытия и занять Ковно, Ломбу и Брест…" — Брест — это недалеко от нас, — заметил Юрась. Голос в приемнике не умолкал: "В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии в течение дня на нашей территории сбит пятьдесят один самолет противника и один самолет нашими истребителями посажен на аэродром в районе Минска…" Разряды в эфире снова заглушили голос диктора. — Сбили пятьдесят один самолет! Не понимаю. Когда же все это было? — сказал Владик. — Я догадался! Это фантастический рассказ. Про будущую войну… Непрерывные разряды в эфире почему-то вызывали у Владика беспокойство. — Слушай, Юрась, — сказал он нерешительно, — а что если… — он не договорил, стараясь разобрать слова в эфире. — Что "если"? — Если началась война… а мы ничего не знаем… — Вот лопух! — Юрась даже рассердился. — Ты что, не слышал, что передавали? Рассказ это! Фантастический! — По-твоему, войны не может быть? — Может! Только тогда будет все наоборот! — Как наоборот? — Ты слышал, что передавали? Противник нас потеснил, враги заняли крепость Брест. Слышал? — Слышал… — Значит, по-твоему, если будет война, то наша Красная Армия отступит? Да? Выходит, что капиталисты сильнее нас? Так, по-твоему? Владик покраснел. И верно, разве может Красная Армия отступить, пустить врага на нашу землю? Конечно, нет! Треск в эфире затих, теперь можно было разобрать слова: "За двадцать второе и двадцать третье июня нами взято в плен около пяти тысяч германских солдат и офицеров". После небольшой паузы диктор сказал: "Мы передавали сводку Главного командования Красной Армии". В приемнике что-то щелкнуло, голос умолк. Мальчики испуганно переглянулись. — Нет, это совсем не рассказ… — шепотом сказал Владик. — Ты слышал: "сводка командования Красной Армии"? — Сейчас поймаю еще раз Москву, — тоже шепотом сказал Юрась. На этот раз он быстро настроился на волну. Голос в приемнике звучал отчетливо и громко. "Передаем статью, напечатанную в газете "Правда", "Великая Отечественная война советского народа". Автор статьи — Емельян Ярославский. "День двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года войдет в историю, как начало Великой Отечественной войны советского народа против фашистской Германии, которая совершила разбойничье нападение на Советский Союз…" — Я говорил… я говорил… — голос Владика сорвался. — Как же так? Мы отступаем… Немцы взяли Брест… — Мой папа уже воюет… Папа уже три дня вою-вою-воюет… — Ты хоть знаешь, что твой отец на фронте, а про моего батю ничего не известно! — Он тоже пошел воевать. Ясно! Поэтому и не вернулся. — В записке он про это не пишет… — Вот увидишь, мы в два счета разобьем фашистов! Красная Армия любого врага разобьет! — Как же мы одни… без бати… в лесу? — Дядя Тима скоро придет. Его отпустят попрощаться с нами. И он скажет, что нам делать. Или пришлет за нами того человека, что оставил записку… который ружье унес. Юрась ничего не ответил, только тяжело вздохнул.
ЮРАСЬ ВИДИТ ОТЦА
Кремлевские куранты пробили полночь, а потрясенные известием о войне мальчики и не собирались ложиться. Они все еще надеялись на возвращение Тимофея Петровича. Несколько раз им чудились шаги. Они подбегали к окну, вглядывались в темноту, но потревоженные ветерком листья переставали шелестеть и наступала прежняя тишина… Так прошла бессонная ночь. Когда рассвело, Юрась сказал: — Пойду искать батю… — Куда? — В райцентр, в Гладов. Пойду к товарищу Спиваку в райком. Он меня знает… Он с батей еще в Крыму воевал… — Я тоже пойду. Туда далеко? — Не очень. Девятнадцать километров. — Человек проходит пять километров в час. Надо идти скорее, а то придется возвращаться ночью. — Надо, так и в темноте пойдем. Я не боюсь… — Я тоже не боюсь… Только днем… виднее… Через несколько минут они уже шагали в Гладов. Тропа вилась лесом. От гомона птиц звенела листва, гудели шмели, блестела на солнце роса. Мальчики прошли уже полпути, так никого и не встретив. Только рыжая лиса, распластавшись, перемахнула через тропу и скрылась в кустарнике. Солнце поднялось высоко над деревьями, в лесу становилось душно. — Пить хочется, — сказал Владик. — Сейчас напьемся. — Где? — Увидишь… Они прошли еще немного, и в привычные лесные шорохи вплелся какой-то новый звук. Это струился между деревьями напористый, прозрачный ручей. Было так приятно окунуть в холодную воду усталые ноги! Набрав пригоршню воды, Владик освежил разгоряченное лицо. Юрась стянул с себя рубаху, окунул ее, выжал и снова надел. "Надо и мне так сделать", — подумал Владик. Он хотел расстегнуть ворот, но вдруг заметил в траве маленькую изумрудную ящерицу. Юрась тоже увидел ее. — Не шевелись… — прошептал Юрась. — Вспугнешь… — Какая красивая!.. Где-то грохнул взрыв, дрогнула под ногами земля. — Что это? — испуганно спросил Владик. — Не знаю. — Голос Юрася дрожал. — Не знаю… Взорвалось что-то! Нарастающий гул заглушил щебет птиц. В синем чистом небе летел самолет. Он летел так низко, что ребятам казалось: сейчас летчик врежется в деревья. Владик не выдержал и закричал: — Выше! Выше! И тут мальчики увидели на хвосте самолета черную свастику. — Фашистский! Немец! Юрась не верил своим глазам. Это было невероятно! Фашист летит над лесом, над его родным лесом, — летит, ничего не боясь. А солнце светит, и так же весело бежит ручей, и жужжание золотистой пчелы сливается с удалявшимся гулом фашистского самолета. Да уж не почудилось ли им все это? И взрыв и свастика на хвосте самолета! — Смотри! Смотри! — испуганно закричал Владик. — Парашютисты! В небе распускались маленькие белые парашюты и застывали в воздухе. Нельзя было понять, откуда появляются эти белые купола. Вдруг они начали расплываться, превращаясь в бесформенные облачка, и вскоре исчезли совсем. — Это не парашютисты. Так рвутся зенитные снаряды. Я в кино смотрел. Идем скорее! Узкая лесная стежка привела их на большак. Скоро они увидели колокольню гладовского собора. — Сейчас будет стадион, потом хлебозавод, а там и город, — объяснял Юрась. — Стадион у нас новый. На пятьсот человек! Они подошли к окраине города. Юрась не сразу узнавал знакомые места. Стадион, где он с отцом смотрел первого мая футбольный матч, был разрушен. В центре поля зияла огромная воронка, трибуны снесло взрывной волной. — Гарью пахнет, — сказал Владик. В воздухе медленно плыли черные хлопья сажи и бесшумно опускались на землю. — Пойдем! Почти сразу за стадионом начинался город. По улицам тянулись люди. У всех за плечами были котомки. Многие женщины несли на руках малышей. Поскрипывали детские коляски, груженные узлами. Все шли молча, торопливо, точно боялись куда-то опоздать. — Куда они идут?.. Узлы тащат какие-то… Ребятам не приходило в голову, что жители Гладова спасаются от немцев. Юрась и Владик не сомневались: фашистов разобьют со дня на день. В центре города Юрася кто-то окликнул. Это был начальник гладовской милиции Гусаров. Он любил охоту и частенько приезжал в лес, к Тимофею Петровичу. Гусаров был неразговорчив, но с лица его никогда не сходила улыбка. Сейчас Гусаров шел такой же хмурый, как все. — Дядя Костя! — бросился к нему Юрась. — Вы папу видели? Гусаров скользнул по Юрасю странным взглядом. Были в том взгляде и жалость, и недоумение, и растерянность. Но он быстро отвел глаза в сторону и, следя за плавающей в воздухе сажей, сказал невпопад: — Смотри, сколько черных мух… документы жгут на всякий случай. И в райкоме жгут… и в райсовете… То, что Гусаров не ответил на его вопрос и сам ничего не спросил об отце, напугало Юрася. — Дядя Костя! — закричал он опять. — Что с папой? Вы знаете! Я вижу! По лицу вижу, знаете! Его бомбой убило, да? Говорите же! — Что ты, что ты! Жив, здоров. Здесь и бомбежки-то настоящей не было. Всего две бомбы швырнул… Чего ему нас бомбить. Мы от всего в стороне… военных объектов нет, железная дорога в стороне… Юрась понял, Гусаров не хочет говорить об отце. Он схватил его за гимнастерку и, дрожа всем телом, повторял: — Вы знаете, что с батей, вы знаете, знаете! — Погоди, успокойся! Сам-то я ничего не видел… Понимаешь, это самое… болтали тут разное… слышал я… — Что вы слышали? — Будто Тимофея Петровича… из партии исключили… Юрасю показалось, что Гусаров шутит. Но он тут же понял: так глупо, да еще в такое время, дядя Костя шутить не станет. — Как исключили? Моего отца нельзя исключить из партии! По пыльному лицу мальчика, оставляя светлые полосы, потекли слезы. — Где отец? Вы знаете, где он… Вы знаете?.. — твердил он тихо. — Откуда мне знать? — сердито сказал Гусаров. — Видишь, что делается… Тут и самого себя потерять можно… Юрась схватил Владика за руку и потащил за собой. — Нечего его слушать! Он все врет! Не могут батю исключить из партии. Идем скорее к товарищу Спиваку! Гусаров посмотрел им вслед и торопливо зашагал дальше… Одноэтажное каменное здание райкома выглядело как обычно, только из печных труб его густо валил дым да возле подъезда стояла не эмка, как всегда, а потрепанный мотоцикл с коляской. Мальчики вошли в коридор. У раскрытой топки голландской печи сидел на корточках чубатый парень и деловито набивал печь какими-то бумагами. На ребят он не обратил внимания. — Нам товарища Спивака, — сказал Юрась. — Не до вас ему, — отмахнулся чубатый, не отрывая взгляда от огня. — Он нам нужен, срочно… — У всех теперь срочно, — сказал парень и впервые взглянул на ребят. — Откуда вы такие срочные? — Мне про отца надо узнать… Он домой не пришел… — Он что, в райкоме работает? Как ему фамилия? — Марченко. Тимофей Петрович… Лесник… Чубатый вскочил на ноги. — Да я же за вами три раза ездил! Ждите здесь! — бросил парень на ходу и скрылся в конце коридора. — Сейчас узнаем, где дядя Тима, — сказал Владик. — Наврал Гусаров! Не могли батю исключить!.. Хлопнула дверь, и в коридоре появился Спивак. Юрась едва узнал его. Всегда румяный, веселоглазый, секретарь райкома был сейчас бледен, небрит, запавшие глаза с красными от бессонницы веками блестели неестественно ярко. Он бросился к Юрасю и крепко обнял его. — Куда ты исчез, микроб два уха?! Я себе места не находил! Думал, беда с вами какая! — Мы на островах робинзонили, а у нас мотор испортился. Яков Максимович, где батя? Вы мне правду скажите!.. — Правду? — Спивак пристально взглянул на Юрася. — А чего мне таить ту правду? Мобилизовали батьку твоего. Для особого задания. Срочно… — Значит, батя в армии? — Ясно! Я обещал ему позаботиться о вас. А это и есть сын Вани Коробова? В кого ты такой чернявый? Был у меня твой отец недавно… — Яков Максимович, а почему Гусаров… — Юрась замялся. — Значит, у бати не было… недоразумений?.. — О чем ты? — Спивак насторожился. — Значит, Гусаров все наврал? Я же говорил, что он врет! — Гусаров? Что он говорил? — Он сказал, что батю из партии исключили… — Вранье! — загрохотал Спивак. — Не верь никакой брехне! Понял, микроб два уха? — Да… — Тогда слушай меня. И ты слушай, — повернулся он к Владику. — Сегодня вы будете отправлены в тыл. Сейчас поедете домой. Захватите всю одежду и, какие есть, продукты. Главное — быстро! На сборы даю два часа. По-военному! Чтобы в полдень были здесь, у меня! Юрась почувствовал, как у него останавливается сердце. — Значит, сюда придут фашисты? Спивак опустил глаза. — Придут или не придут, это другой вопрос. А эвакуироваться вам надо… Потому что… война… Есть приказ — эвакуировать стариков и детей. А немцев мы разобьем… В общем, чтоб в полдень были здесь! — закончил Спивак. — Не успеть, — сказал Владик, — человек проходит в час пять километров… — Отставить разговоры! Гурко! — закричал он так громко, что сидевшая на окне кошка прыгнула со страху на занавеску и повисла на ней. Появился чубатый парень. — Сажай хлопцев на мотоцикл и дуй опять туда. Чтобы в двенадцать ноль-ноль был обратно. С мальчишками! Со всей их поклажей. Опоздаешь, — без головы останешься! Тебе ясны мои указания? — Ясны, товарищ секретарь! — Двигай! — Айда, голуби! — скомандовал Гурко. — Один в коляску, другой на запятки! Они пронеслись по главной улице, пересекли площадь и через несколько минут оказались на восточной окраине города. Впереди виднелось высокое каменное здание, обнесенное стеной. Мальчики разглядели в окнах черные решетки. Вдоль каменной стены вышагивал часовой, придерживая за ремень висевшую за спиной винтовку. — Тюрьма! — догадались ребята. Возле самой тюрьмы мотоциклу преградил дорогу воинский патруль. Не выключая мотора, Гурко протянул документы: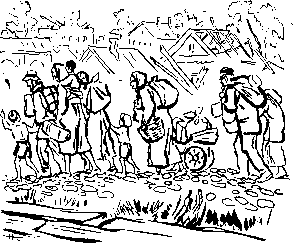
— Не задерживай, братцы! — сказал он нетерпеливо. — Тороплюсь по важному заданию! — Разрешение на мотоцикл имеется? — Будьте любезны! — Гурко стал шарить по карманам. Треск мотора привлек внимание заключенных. Они столпились у окон. — Смотри! — толкнул Владик Юрася. — Арестованные! Юрась рассеянно скользнул взглядом по зарешеченным окнам. Впервые в своей жизни он видел арестованных. Сейчас, разглядывая их лица, он заметил, что все они чем-то похожи друг на друга. И вдруг Юрась почувствовал, как застучала в висках кровь. Он с такой силой сжал плечо Владика, что тот вскрикнул. — Ты что? — Отец! — Юрась не отрывал глаз от окна. — Отец! — Где? Где? — Отец! Батя! Я видел его сейчас! Он в тюрьме!

— Ты обознался! Где он? Покажи! — Он был у окна! Только что! Я видел его, видел!.. Юрась соскочил с седла, сделал несколько шагов, не спуская глаз с окна, где минуту назад мелькнуло лицо отца. — Можете ехать — сказал патрульный. — Садись, поехали! — крикнул Гурко. Юрась не оглянулся. — В чем дело? — подлетел к нему Гурко. — Почему задержка? — Мне надо вернуться в Гладов, к товарищу Спиваку. Сейчас же! Едемте обратно… — Что-о-о? Я тебе покажу "обратно"! У меня приказ! Понял? Приказ: привезти вас с вещами в двенадцать ноль-ноль. А ну садись! — Мне нужно! Поймите! — закричал Юрась. — Нужно немедленно повидать товарища Спивака! — Отставить разговоры! Садись! — Хорошо, — покорился вдруг Юрась. Когда они подъехали к дому лесника, Гурко взглянул на часы. — Сейчас десять часов сорок семь минут. Даю вам, друзья-приятели, на все сборы-переборы тридцать три минуты. Выезд назначаю в одиннадцать часов двадцать минут. Усвоили? Собирайтесь! Я пока что подлечу "старика". Ребята вошли в дом, Гурко начал возиться с мотоциклом: что-то подвинчивать и смазывать. Юрась плотно прикрыл за собой дверь и сказал шепотом: — Ты собирайся, а я не поеду… — Как не поедешь? А приказ? — По-твоему, я оставлю батю в тюрьме, а сам уеду? Так? — А я тебе говорю, ты обознался! Товарищ Спивак лучше знает! — Он обманул меня! Обманул! — горестно воскликнул Юрась. У крыльца начал постреливать мотоцикл. — Поезжай, а я отца не брошу… Прощай! Прыжок — и Юрась оказался за окном. Владик рванулся за ним. Они бежали, удаляясь от дому все дальше и дальше, и, наконец, далеко за шалашом, остановились. — А ты почему убежал? — хмуро спросил Юрась. — Я тоже не поеду! — Тебе-то чего оставаться? Я из-за бати, а ты? — По-твоему, можно оставить человека в беде? Когда меня приняли в пионеры, я сочинил клятву… — Какую клятву? — Слушай. Владик положил правую руку на грудь, закрыл глаза и произнес: — Пусть звезды погаснут в небе и горы сдвинутся с места, если предам я друга, оставлю его в беде!..
В двенадцать ноль-ноль бледный Гурко докладывал секретарю райкома: — Сбежали они, товарищ Спивак! Через окно сбежали! — Как сбежали? Куда? — В лес, больше некуда! Я там поблизости все обшарил. А только в таком лесу разве найдешь?! Я их аукал-аукал! В ответ только листочки посмеиваются. — Посмеиваются? Ты у меня плакать будешь! Сейчас же обратно! Я найду их! На мой голос Юрась откликнется!
ОДНИ В ЛЕСУ
Они слышали, как долго и упорно звал их Спивак. Потом взвыл мотоцикл, и мальчики остались одни. В лесу все было таким обычным, мирным, знакомым, что события этого утра казались наваждением. — Что теперь делать? — начал осторожно Владик. — Не верю я про дядю Тиму. Тебе просто померещилось… издали. Товарищ Спивак врать не будет, — дядя Тима на фронте… — Как же мы станем жить в лесу? Еды у нас нет… денег нет. — Хлеба на несколько дней хватит. Сало есть… — А когда съедим хлеб и сало? Тогда что? — "Что, что"! К тому времени мы фашистов разобьем!.. — Это верно… Опасаясь возвращения Спивака, мальчики отсиживались в шалаше. Голодные, измученные, они перебрались в дом, когда уже стемнело. Пока Юрась разжигал примус, Владик возился с батарейным приемником. — Спорить буду! — сказал Владик. — Сейчас передадут, как наши бьют немцев! Сквозь хрип и свист прорвался знакомый голос московского диктора: "Сообщение Советского Информбюро. В течение двадцать четвертого июня противник продолжал развивать наступление…" Взгляды мальчиков встретились. — Выключи! — выкрикнул вдруг Юрась. — Выключи! Ему казалось, если диктор перестанет говорить о победах немцев, этих побед не будет. Он ненавидел сейчас диктора, ненавидел его тревожно-сдержанный глубокий голос. Красная Армия отступает! Значит, фашисты сильнее Красной Армии? Как же после этого жить? В полном отчаянии они долго не могли уснуть, напряженно прислушивались, вздрагивая при каждом шорохе. На рассвете мальчики проснулись от шума самолетов. Тяжелый гул наполнил все вокруг тревожной дрожью. Дрожали стены дома, дрожали листья деревьев, дрожал туман над травой, и, казалось, дрожит само небо. Они выбежали на крыльцо. — Наши! — неуверенно сказал Владик. Бомбардировщики шли на большей высоте, нельзя было понять, свои это или фашисты. — Наши! — повторил Владик, ожидая от Юрася подтверждения. Юрась промолчал. Они вернулись в дом. На ходиках было полпятого. Они улеглись снова, но уснуть не могли. "Где теперь папа? — думал Владик. — Его полк наверняка дерется с фашистами…" "За что, за что батю посадили в тюрьму? — терзался Юрась. — Почему Спивак обманул меня? Спивак, о котором батя всегда так хорошо говорил, называл его коммунистом-ленинцем! Но разве настоящий коммунист станет врать? — Внезапная догадка заставила Юрася вскочить с постели: — Яков Максимович не знает об аресте баги! Конечно, не знает! Отца по ошибке арестовали, а Спивак не знает!" Юрась схватил рубаху. — Рано еще, — сказал Владик. — Иду к Якову Максимовичу. Я догадался! Он не знает, что батя арестован! Понял? А как узнает, — сразу прикажет освободить. Теперь вскочил и Владик. — Я пойду с тобой! — Нет, оставайся. Вдруг батю выпустили, он придет, а дома никого нет. Он сунул в карман кусок хлеба. — К вечеру буду, жди… нас! Чем меньше оставалось до города, тем быстрее он шел. Скорее, скорее увидеть Якова Максимовича, рассказать ему обо всем Они поедут в тюрьму, освободят батю — и тогда уж пусть сам батя решает, что делать Юрасю: ехать к маме или идти добровольцем. Лесная тропинка становилась все шире и шире.
Скоро и развилка на шоссе, а там до Гладова — рукой подать. И вдруг Юрась услышал… смех. Смех был громкий, гулкий и отдавался в лесу долгим эхом. Мальчик остановился: как можно сейчас смеяться? Кто это? Смех внезапно смолк, и ветер донес до Юрася веселую музыку. Он стоял неподвижно, прислушиваясь и теряясь в догадках: кто эти люди на шоссе, которые могут веселиться в такое время?! Чем ближе подходил он к развилке, тем отчетливее звучала музыка. Вскоре сквозь просветы в кустарнике Юрась увидел отливающее сиреневатым блеском широкое шоссе. Тропинка обогнула заросли лозняка и врезалась в дорогу. Он взглянул вправо и мгновенно отпрянул. На развилке шоссе стоял фашистский танк с белым крестом на броне. Мальчик отполз в сторону и залег в неглубоком овражке. Что теперь делать? Путь в Гладов отрезан фашистским танком. Добраться до города лесом невозможно: кругом топкие непроходимые болота. "Это хорошо, что у нас такие болота, — подумал Юрась. — Через них фашистские танки не пройдут". И вдруг страшная мысль заставила его оцепенеть: если немецкий танк не мог пройти через эти леса, — значит, он попал сюда через Гладов. Значит, город занят немцами? А отец? В фашистском плену? Батя, его батя в плену у немцев! Грохот и лязг заставили Юрася снова выглянуть на шоссе. Со стороны Гладова шли немецкие танки, шли, никого не опасаясь. Он видел, как лениво и нагло ползли по дороге гигантские стальные черепахи, размалеванные крестами и свастикой. Из люков торчали головы фашистских стрелков. Немцы с любопытством рассматривали незнакомые места. Последний танк неожиданно свернул к обочине и двинулся к кустарнику, где затаился Юрась. "Заметили! Сейчас раздавят!" — мальчик в ужасе закрыл глаза, ему показалось, что сердце его бьется где-то в горле. Лязг гусениц оборвался совсем рядом. Он заставил себя приоткрыть глаза и увидел… солдатские сапоги. Они топтались совсем близко от его головы. Юрась хотел рвануться, бежать, но понял: если побежит, — немцы пристрелят его. Сапоги продолжали топтаться на одном месте. Теперь Юрась видел сквозь заросли кустарника оголенные до локтей руки фашиста. Видел, как жадные грубые пальцы рвали землянику, рвали вместе с корнями. Немцы громко чавкали, и пальцы их, измазанные ягодой, стали красными. — Генуг![2] — Это выкрикнул, очевидно, командир танка. Юрась увидел, как сапоги затопали к шоссе. Он слегка раздвинул кусты: два гитлеровца нырнули в люк и исчезли, а третий уселся на броню машины и закурил сигарету. Танк, взвыв, рванулся вперед и, оставляя за собой смрад, скрылся за поворотом. Несколько минут Юрась не шевелился. В наступившей тишине до него опять донеслись звуки музыки. Немцы на развилке загорланили песню. Кончив петь, гитлеровцы долго хохотали. А потом снова зазвучала нежная мелодия. Глупое, непонятное желание возникло вдруг у мальчика: узнать, на чем играет фашист. Ему было страшно, но он заставил себя пробраться сквозь заросли к самому шоссе. Фашистский танк по-прежнему стоял на развилке, рядом на обочине расположились танкисты. Они сидели голые до пояса, не боясь, что кто-то может напасть на них. Один из них, с красным, обгоревшим на солнце лицом, с рыжими усами, водил по губам блестящей пластинкой. Пластинка издавала нежные, жалобные звуки. Два других немца, надвинув на глаза шлемы, лениво подпевали музыканту. "Они не боятся! Они никого не боятся! — эта мысль вытеснила на мгновенье все остальные тревоги Юрася. — Где же наши красноармейцы! Где наши танки?" В лесу закуковала кукушка. Немец перестал играть, прислушался и заорал: — Сколько лет мне осталось жить? Отвечай, кукушка! Кукушка умолкла. — Отвечай же! Кукушка молчала…
Юрась вбежал в дом с таким лицом, что Владик сразу понял: случилась новая беда. — Ну, что ты узнал? Спивака видел? — Фашистов видел! Немецкие танки! Совсем близко! Он в изнеможении опустился на кровать. — Надо отсюда уходить!
В НЕМЕЦКОЙ КОМЕНДАТУРЕ
Дела преступников, выпущенных немцами из гладовской тюрьмы, были неинтересны. Два хулигана подрались на танцевальной площадке городского клуба… Продавец продовольственного магазина обвешивал покупателей… Пьяный ударил милиционера… Немецкий комендант города Гладова со скучающим видом слушал переводчика. Тот листал страницы захваченных следственных дел, просматривал протоколы допросов и кратко излагал суть преступлений. …Приемщик скупочного пункта принимал в продажу краденые вещи… Некий Гармаш осужден за кражу леса… Колхозница Окунь занималась самогоноварением… — Чем занималась? — переспросил комендант. — Самогоноварением, господин капитан. — Самогоно… варение? Что это значит? Переводчик задумался. Русскому языку он учился у матери — опереточной певички, бежавшей в девятнадцатом году от большевиков в Германию. — Самогоноварение… само-гоно-варенье… варенье… — повторял он про себя, стараясь докопаться до смысла слов. — Варенье. Это связано с вареньем, господин комендант, — убежденно сказал переводчик. — Надо полагать, что, в целях экономии сахара, большевики запретили населению варить варенье. А эта колхозница, очевидно, была уличена… — Неинтересно! Читайте дальше. — Дело лесника Марченко, Тимофея Петровича. Сейчас, господин комендант. Айн момент! …Ага! Это, господин комендант, довольно интересно… Это то, что нам нужно. Если вы позволите, я переведу вам первый допрос этого Марченко. — Я слушаю… Только без утомительных подробностей… Русские слишком многословны… — Совершенно верно, господин комендант. Если вы позволите, я постараюсь все изложить своими словами. Допрашивается лесник из деревни Зоричи. Фамилия лесника — Марченко. Он обвиняется в том, что, будучи арестованным в тысяча девятьсот двадцатом году в Крыму властями барона Врангеля, выдал на допросе участников большевистского подпольного ревкома и согласился быть секретным агентом белогвардейской контрразведки. Не подозревая о предательстве Марченко, севастопольские подпольщики-коммунисты напали на участок, где он содержался, освободили его и переправили в горы к партизанам. Вскоре Марченко удалось сообщить властям барона Врангеля о местонахождении штаба партизан, в результате чего были захвачены и расстреляны восемнадцать партизан. Деятельность Марченко в пользу белых продолжалась вплоть до занятия Красной Армией Крыма… — Прекрасно! Это ценный человек! — оживился комендант. — Он представляет для нас интерес. — Безусловно! И знаете, господин комендант, чем дальше я читаю этот протокол, тем он становится интереснее. Разрешите заключительную часть допроса прочесть вам полностью. — Читайте, только быстрее! — Слушаюсь. Допрашивает старший следователь Быховский. — Как фамилия следователя? — Быховский, господин капитан. — Еврей, конечно, — поморщился немец. — Читайте дальше. "Вопрос: Обвиняемый Марченко, в распоряжении следственных органов имеются доказательства, из которых явствует, что вы за последние месяцы вели контрреволюционную пропаганду среди колхозников. Вы утверждали, что наша доблестная Красная Армия, в случае войны, будет разгромлена фашистами в первую же неделю. Вы подтверждаете этот факт? Ответ: Я не говорил, что Красная Армия будет разбита в первую же неделю, а говорил, что она не в состоянии отразить натиск немецких механизированных войск". — Прекрасно! — воскликнул комендант. — Именно такие люди помогут нам ввести в России новый порядок. К чему приговорил его советский суд? — К расстрелу, господин комендант. — Великолепно! Значит, мы спасли его от смерти! Он будет служить нам, как преданная собака! Где он сейчас… этот… как его?.. — Марченко, Тимофей Марченко, господин комендант. Он здесь, в коридоре комендатуры. Там же находятся и все остальные выпущенные нами из тюрьмы. — Введите Марченко. — Слушаюсь! Переводчик распахнул двери и крикнул в коридор: — Марченко! Входи! Тимофей Петрович, комкая в руках измятую кепку, вошел в комнату и робко остановился v порога. — Подойди ближе! — приказал через переводчика комендант. Продолжая мять кепку. Тимофей Петрович подошел к столу. — Два шага назад! — крикнул комендант. — Я не хочу, чтобы его блохи прыгали на меня! Пусть отвечает на вопросы. Предупредите его: я церемониться не люблю. Будет врать — повешу! За что тебя арестовали большевики? Мордастый сын певички перевел вопрос коменданта. — Докопались до прошлого, господин офицер, — мрачно сказал Марченко. — До какого прошлого? — Узнали, что выдавал в гражданскую войну подпольщиков и партизан. — Когда тебя арестовали? — В ночь с двадцать второго на двадцать третье июня. А расстрелять должны были сегодня. Только не допустил господь… — Не господь, а Германия спасла тебя!.. — Так точно, господин офицер, Германия! — Значит, понимаешь, кому обязан жизнью? — Так точно, господин офицер. Германии! — Где ты живешь? — Поблизости. В деревне Зоричи, господин офицер. — Зоричи? — перед гитлеровцем на столе лежала карта района. — Зоричи? Нашел. Это близко. Разрешаю тебе вернуться домой. Будешь следить, чтобы в деревне выполнялись все указания немецких властей. — Можете не сомневаться, господин офицер! В Зоричах не знают, что я был арестован. Там меня считают коммунистом. Я, как вернусь, быстро выведаю, кто за новый порядок, а кто — за большевиков… Слова Марченко пришлись по душе коменданту. — Хорошо. Прежде всего выясни, кто из коммунистов остался в Зоричах. Нет ли там евреев или цыган. Вот тебе пачка сигарет Через час придешь в канцелярию, получишь надлежащие документы… Оставшись наедине с переводчиком, комендант сунул следственное дело Марченки в ящик стола и сказал, поворачивая ключ: — У этого типа есть все основания любить новый порядок. — Безусловно, господин комендант. — Впрочем, нам его любовь не нужна. Все равно он будет служить великой Германии, как собака хозяину! Вы думаете, собака служит хозяину, виляет перед ним хвостом, потому что она его любит? Вздор! Она служит ему, потому что хозяин ее кормит и может в любую минуту пристрелить. Вот и этот русский будет нам так же служить! Потому что я могу повесить его на первом же суку! Но все-таки его надо проверить. Никому нельзя доверять, особенно русским… — Господин комендант абсолютно прав, никому нельзя верить… — Вызовите следующего. Того, кто покупал краденые вещи. — Степана Щура? Слушаюсь! Щур вошел в комнату, широко и беззаботно улыбаясь. У Щура не было оснований бояться фашистов. Наоборот, бояться ему приходилось советскую власть. Он уже не раз сидел в тюрьме за воровские дела и разные жульничества. Щур уставился на немецкого коменданта, спокойно ожидая вопросов. Это спокойствие немец принял за наглость. И он произнес, глядя в упор на Щура: — Жуликов мы вешаем! И я не намерен делать исключение для такой наглой свиньи, как ты! Сегодня же, подобно маятнику, ты будешь раскачиваться на виселице! Услышав переводчика, Щур обомлел от страха, затрясся и завопил визгливо: — Пощадите, господин комендант! Я большевиков сам ненавижу. Я вам всех коммунистов назову, которые в нашем городе! Я всех знаю! Перед господом богом клянусь служить немцам до самой смерти! Уж вы поверьте мне, господин комендант! — Перестань вопить! Повторяю, тебя надо повесить. Но я подожду. Посмотрю, как ты будешь нам служить. Может быть, я и помилую тебя… если ты заслужишь. Садись за стол и пиши фамилии всех известных тебе коммунистов…В ЗОРИЧАХ
На возвращение Тимофея Петровича ребята больше не надеялись. Слушая по радио военные сводки, они приходили в отчаяние. Юрась вырвал из учебника географии карту и отмечал на ней крестиками города, занятые немцами. Получалось, что Зоричи уже несколько дней находятся в немецком тылу. Юрась не мог себе представить, что в деревне, всего в шести километрах от дома, хозяйничают фашисты. Его удивляло, что не было слышно ни выстрелов, ни взрывов. Значит, Зоричи немцы заняли без боя. На десятый день войны перестал работать приемник и кончились продукты. Оставаться дольше в лесу стало невозможно. — Давай собираться, — сказал Юрась. — Стемнеет, пойдем в Зоричи. — Ты же говоришь, там немцы! — Пойдем в темноте. Проберемся задами к тете Сане, у нее все узнаем. Может, в Зоричах и нет немцев. — Кто это — тетя Саня? — Школьная сторожиха. Зимой в пургу я у нее ночевать оставался… Вечером ребята вышли из дому. Как всегда, Юрась хотел положить ключ под ступеньку, но неожиданно вбежал обратно в дом. Он нашел школьную тетрадку, вырвал из нее страницу и поспешно написал: "Батя! Мы ушли в Тизотиритичи, к титетите Тисатине. Ю." Завернув ключ в записку, он спрятал его под крыльцо. — Пошли! — сказал Юрась шепотом, точно кто-то мог их подслушать. — Иди тихо, не разговаривай. Боюсь, чтобы в Зоричах собаки нас не облаяли… Всю дорогу они молчали. Моросил дождь, одежда ребят намокла, чавкала под ногами дорожная грязь. Деревня была словно вымершей — такая царила в ней тишина. Дома стояли слепые — в окнах не было света, казалось, там нет и людей. Они миновали узенькую кривую улочку и остановились возле небольшого дома. Юрась осторожно влез на завалинку и, стоя на коленях, приложил ухо к ставням. — Света нет… никого не слышно, — прошептал он. — Наверно, спит, — также шепотом сказал Владик. — Постучимся… Они поднялись на крыльцо. Юрась неуверенно стукнул в дверь. В доме было по-прежнему тихо. Юрась стукнул еще раз. Теперь ему почудился в сенях шорох. Забыв об осторожности, он ударил в дверь кулаком. Владик зажмурился и от страха втянул голову в плечи. Юрась отчетливо услышал скрип половицы в сенях и ощутил дыхание человека, стоящего по ту сторону двери. — Тетя Саня!.. — позвал он тихонько. — Кто тут? — послышался испуганный шепот. — Это мы, тетя Саня… Я… Юрась… — Господи! — дверь открылась так быстро, точно школьная сторожиха все время держала руку на крюке. — Господи! Откуда ты? Кто это с тобой? Входите скорее! Ребята вошли в сени. Тетя Саня поспешно захлопнула дверь, стало совсем темно. — Запретили нам немцы жечь огонь, — сказала она. — Придется тайком… Тетя Саня чиркнула спичку и сняла с полки медный подсвечник. В неярком, колеблющемся свете Владик увидел пожилую женщину с очень бледным лицом. Мерцающий свет свечи отражался в зрачках ее больших черных глаз, и от этого они казались еще больше. Мальчики вошли в кухню, и тетя Саня поспешно сунула свечу под стол. — Так с улицы не заметят, — объяснила она и вдруг, точно до нее только сейчас дошло, кто к ней пришел, всплеснула руками и тихо запричитала: — Да откуда же ты взялся, Юрась? Отец-то где? Как же это он не отправил тебя отсюда? Что кругом делается! Партийных расстреливают! Председателя сельсовета нашего арестовали. Батька-то твой где? Как же он тебя, дите беззащитное, оставил? — Значит, у вас немцы? — испуганно спросил Юрась. — Самих-то гадов нет! Вчера ушли. Заместо себя оставили старосту да полицая. Юрась не понял: — Староста, полицай? Это кто такие? — Полицай — вроде, значит, как полицейский при царе. А самый главный гад — староста. Сиволоб ему фамилия… Лютует! Все вынюхивает про партийных… А ты мне так и не сказал, где батька-то. — В тюрьме батя, — сказал Юрась, и голос его дрогнул. — В тюрьме? Значит, не удалось ему скрыться? Где же они поймали его, псы фашистские? — Его не фашисты в тюрьму посадили… — А кто же? Горло Юрася сжалось, губы его дрогнули, он не мог заставить себя ответить. Тогда Владик сказал: — Его по ошибке в тюрьму посадили… Еще до немцев. Мы теперь ничего не знаем… совсем не знаем, где дядя Тима… Забыв об осторожности, тетя Саня вдруг закричала: — Какая же змеюка подняла на него руку?! На такого человека! Он жизни своей, здоровья для советской власти не щадил! А его в тюрьму! Свои же! Ну, погоди! Погоди! Было непонятно, кому грозит тетя Саня. Черные глаза ее сверкали таким гневом, что Владик робко пробормотал: — Не надо так кричать… Могут услышать… — Молод меня учить! — вскинулась тетя Саня. — Я тебя и знать не знаю. Кто ты есть? — Это Владик, — сказал Юрась. — Его папа — полковник Красной Армии. — Выходит, и его отец партийный? — Конечно… — Да что же я буду с вами делать? Он же, ехидна, сразу вас схватит. Чтобы видели фашисты, что он им, как пес, служит! Иуда лысая! — Про кого вы, тетя Саня? — спросил Юрась. — Да все про него, про Сиволоба! Уж я-то его хорошо знаю! — Откуда же он взялся, тетя Саня? — Местный он. Его еще в тридцатом году судили. Он, косоротый бес, колхозный амбар с хлебом поджег. Там его и схватил муж мой покойный. Теперь он мне попомнит! — Его расстрелять надо было! — сказал Юрась. — И верно, промашку дали — в живых змею оставили. А теперь он вволю натешится. Как же мне уберечь-то вас? Он ведь, тарантул носатый, так по хатам и рыщет, так и вынюхивает… — А вы его не пускайте, вот и все! — сказал Юрась. — Как ты его не пустишь, коли он староста? Его к нам фашистский офицер на мотоцикле с пулеметом привез. Привез и речь нам сказал: "Вот вам, — говорит, — староста. Приказываю слушаться его. Если убьете этого доброго человека, ваша деревня будет сожжена, а все мужчины расстреляны!" Протявкал и уехал, а Сиволоб-то остался. Остался на горбу нашем. Теперь лютует! И полицай с ним. Партийных всё доискиваются. Да не только что самих коммунистов, а и жен и детей ихних. Объявление вывесили, — дескать, кто будет скрывать коммунистов и евреев, тому — расстрел. — У меня мама еврейка, — тихо сказал Владик. Тетя Саня охнула и всплеснула руками. Ее волнение Юрась понял по-своему. — Мы не знали, — виновато сказал он. — А то бы мы не пришли к вам… Вы не бойтесь, мы никому не скажем, что к вам заходили… Мы сейчас уйдем. Тетя Саня вскочила и, не заботясь о том, что ее могут услышать на улице, закричала: — Вот стукну по маковке, ты и поумнеешь! Забудешь меня учить! Берите по куску хлеба и лезьте на чердак. И чтоб до утра духу вашего не слыхала! А утром придумаю, что с вами делать, как вас сохранить… По шаткой скрипучей лесенке ребята взобрались на чердак. — Там в углу мешки лежат, подстелите, — напутствовала их тетя Саня. — О балку не стукнитесь! Они растянулись на мешках и оба тяжело вздохнули. "Что же делать дальше? Жить до конца войны на чердаке у тети Сани? А вдруг война протянется все лето? Не сидеть же безвылазно на чердаке два-три месяца!" Много тревожных мыслей одолевало мальчиков, но в конце концов они заснули так крепко, что не слыхали ни предутренней голосистой переклички петухов, ни возни тети Сани, которая брякала подойником, направляясь на рассвете доить Краснуху. Спросонья мальчики не сразу поняли, где они находятся. Но вот заскрипела чердачная лесенка — и в проеме показалась голова тети Сани. — Проснулись, сыночки? Слезайте потихоньку. Выпейте молочка парного с хлебушком… Мальчики спустились в кухню. Единственное оконце, выходящее во двор, было плотно завешено. — Покушайте молочка, небось давно не пили! — тетя Саня глядела на ребят, подперев голову широкой загорелой ладонью. Юрась придвинул к себе кружку, но, едва он поднес ее ко рту, стукнула калитка. — Сиволоб, наверно! — сказал испуганно Владик. Тетя Саня слегка приподняла занавеску и тут же отдернула ее целиком. — Вот он! — вскрикнула она, бросившись в сени. — Господи! А вы говорили!.. Юрась и Владик подбежали к окну и увидели торопливо шагавшего по двору… Тимофея Петровича. — Батя! — закричал Юрась и выскочил вслед за тетей Саней. Тетя Саня уже открыла дверь, и Юрась повис на шее отца. — Татусь! Татусь! — повторял он, целуя колючие впалые щеки отца. — А я думал… я думал!.. — Слезы застилали ему глаза. — Ты пришел… я знал, что ты придешь… Исхудавший, постаревший Тимофей Петрович, крепко прижимая к себе Юрася, гладил дрожащей рукой взлохмаченные волосы сына. — Иди, иди, Петрович, в комнату, — сказала тетя Саня. — Неосторожно ты… среди бела дня по деревне… Они вошли в кухню, и тут тетя Саня вдруг заплакала. — До чего же тебя довели… На себя не похож. Тут Юраська глупости разные говорил: будто тебя наши в тюрьму посадили. Как же это ты у немцев оказался? И ходишь среди бела дня, ровно несмышленыш. Ребята и те догадались ночью прийти, а ты… Не знаешь разве, что теперь с партийными делают? Бледное лицо Тимофея Петровича совсем побелело. — В тюрьме я действительно был, — проговорил он с трудом. — Об этом — потом. Не думал я, сынок, что так с тобой встречусь… И Владика не думал здесь увидеть… Как это получилось, что Спивак не эвакуировал вас? Он же мне слово дал… Перебивая друг друга, Юрась и Владик рассказывалиТимофею Петровичу о своих приключениях: как они добирались домой, как узнали о войне, как ходили в Гладов. — А потом, когда нас остановили у тюрьмы, — рассказывал Юрась, — я тебя увидел в окне… за решеткой… — Значит, ты меня тогда видел? — Видел… Кто тебя посадил в тюрьму? За что? — Об этом потом, сынок. Но почему же Спивак не эвакуировал вас? Как он мог забыть свое обещанье?! — Мы от него сбежали! — ребята поведали, что случилось с ними после возвращения из Гладова. Тимофей Петрович слушал, низко опустив голову. Когда он поднял глаза, Юрась увидел, что отец с трудом сдерживает гнев. — Как же ты посмел, — заговорил Тимофей Петрович, — как же ты посмел ослушаться Якова Максимыча? Ты знаешь, что значит ослушаться приказа во время войны? Отвечай! Молчишь? Нечего сказать? — Есть, есть что сказать! Есть… — слезы застилали глаза Юрася. Он никак не мог справиться с волнением. — Мне есть что сказать! Я не мог… не мог оставить тебя… — Грех тебе, Петрович, — вмешалась тетя Саня. — За что попрекаешь? За любовь сыновью?.. — Ну, хорошо, хорошо, — Тимофей Петрович старался говорить спокойно. — Потом разберемся. А тут еще Владик… С ним-то как быть? Ведь он… Стоит на него посмотреть… Немцы сразу догадаются, что он… Тетя Саня, которая все время не отрывала глаз от узкого просвета в оконной занавеске, прервала испуганным шепотом Тимофея Петровича: — Сиволоб! Староста! И полицай с ним! Не иначе, проследили тебя, Петрович! Теперь и мне конец!.. — Владик — на чердак! Живо! Замри там! — приказал Тимофей Петрович. — А ты, Юрась, пойди в горницу, посиди… — А тебя куда? — тетя Саня проворно откинула крышку подпола. — Не надо, Александра Ниловна, — сказал Тимофей Петрович. — Меня не тронут. Да, может, они и не к вам… — Как не тронут? Партийцев всех забирают! Так и есть, сюда повернули! — Ну и ладно. — Он придвинул к себе не допитую Юрасем кружку молока. Тимофей Петрович казался спокойным, но тетя Саня заметила, как дрожит в его длинных сильных пальцах горбушка хлеба. Распахнув дверь, староста без стука вошел в дом и остановился на пороге. За спиной его маячила голова полицая. — Здравствуйте, люди добрые! — приветствовала их Александра Ниловна. — Может, молочка желаете парного? — Здравствуйте и вам! — не глядя на нее, буркнул Сиволоб. — С молочком обожди! — он шагнул к Тимофею Петровичу, который продолжал сидеть, прихлебывая молоко. — Кто таков? Документы! — Без документов знаю, что краснопузый! — злобно сказал полицай. — Марченко это. Лесник! Известный коммунист! — Полицай снял с плеча охотничий карабин. Тимофей Петрович вспомнил: этого парня из соседней деревни он задержал зимой за кражу леса, и вора осудили на два года тюрьмы. — Собирайся! — приказал староста. — Пойдешь снами. И ты, старуха, собирайся. Мы тебе категорично объясним, как скрывать коммунистов! Тимофей Петрович встал и сунул руку в карман пиджака. — Руки вверх! — заорал полицай, наставляя карабин. Тимофей Петрович поднял руки и сказал покорно: — Зря, Панове, испугались. Хотел документы свои показать. Чтобы ясно все было, значит… — Каки таки документы? Где твои документы? — В пиджаке… — Скидывай пиджак и отходи в угол! — приказал староста. Стоя под прицелом полицая в углу, Тимофей Петрович наблюдал, как Сиволоб шарит по карманам его пиджака. — В левом, пан староста, — сказал он, — документы в левом кармане. — Молчать! — угрожающе крикнул полицай и сдвинул на затылок засаленную фуражку. Сиволоб нацепил на тонкий хрящеватый нос очки и положил бумаги на стол. Читал он долго, старательно, и бледные кривые губы его при этом все время шевелились. Наконец он прочел последнюю строчку, обнюхал печати, подписи и уставился на Тимофея Петровича так, точно перед ним был не человек, а призрак.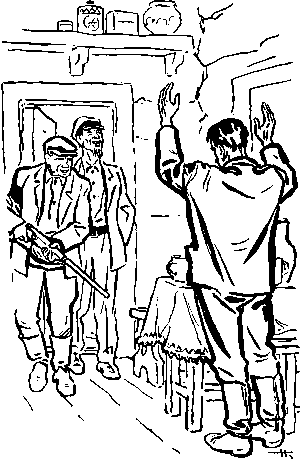
— Отпускай руки, пан Марченко, — выдохнул он наконец. — А ты, Гармаш, убери свою оружию. Не подлежит пан лесник задержанию… — То есть как не подлежит? — возмущенный полицай недоверчиво посмотрел на старосту. — Не подлежит, и все! — сказал Сиволоб. — Есть у него надлежащие документы… Немецкому командованию лучше знать, кого задерживать, кого нет… — Да коммунист же он, знаю, что коммунист! — стоял на своем полицай. Староста ехидно усмехнулся: — Молод ты еще, парень. Коммунисты — они тоже разные бывают. Может, он в партию по специальному заданию пролез! Понял? Не нашего ума это дело. А только господа немцы разрешили ему проживать на старом месте. Полное, значит, доверие оказано ему от новых властей. Теперь и полицай вытаращил глаза на Тимофея Петровича. А Тимофей Петрович подошел к столу, сел на лавку и стал прихлебывать молоко. Если Сиволоб и полицай смотрели сейчас на лесника как на чудо из чудес, то тетя Саня смотрела на него с нескрываемым гневом. Она не верила своим ушам: предатели, которые при слове "коммунист" впадают в бешенство, не трогают почему-то старого большевика Марченко. Ясное дело, Марченко переметнулся к фашистам, отрекся от партии, от советской власти. Значит, не зря наши посадили его в тюрьму! Видно, было за что! Да и кто его знает… Всего год, как появился здесь… — В случае чего, прошу до меня, пан Марченко, — сказал Сиволоб. — Хорошему человеку мы завсегда пойдем навстречу… — Спасибо на добром слове, пан староста, — отвечал Тимофей Петрович. — Может, завтра и загляну к вам — узнать, что к чему… На прощанье Сиволоб и полицай долго трясли руку Тимофею Петровичу. Уходя, староста взглянул на хозяйку и недобро усмехнулся: — На этот раз выскользнула из петли! Ну ничего, за мной не пропадет… — И, толкнув плечом дверь, Сиволоб вышел из дома. Полицай последовал за ним. Александра Ниловна молча убрала со стола кружки, недопитую крынку молока и размашисто вытерла тряпкой стол. Из горницы показался Юрась. Лицо его было бледно, в глазах застыл ужас. — Теперь можно и Владика позвать, — сказал Тимофей Петрович, не глядя на Юрася. — Успеете, пан Марченко! — отрезала тетя Саня. — Успеете… Сначала хочу послушать, как это понимать? — Что понимать? — Дураком не прикидывайся. Дурака от подлеца я завсегда отличу С закрытыми глазами! Ответь мне, что за бумаги у тебя от немцев? За какие заслуги тебе такое доверие? Другим партийцам — петля да пуля, а тебе — почет и уважение. И хочу я знать, за что тебя советская власть в тюрьму посадила? — Много вопросов задаете, Александра Ниловна. А ответ на все ваши вопросы будет короткий… Уж не знаю, понравится ли… — Давай, давай, говори… — Мой ответ таков: жить всякий человек хочет… Умный человек и при немцах уцелеет… фашисты тоже люди… Тимофей Петрович говорил сбивчиво, отводя глаза от горящего взгляда тети Сани. — Так, значит… — на лице ее выступили красные пятна. — Умный человек, говоришь, и при немцах уцелеет? Так вот я тебе при сыне твоем скажу: подлец ты, и нет тебе другого названия! Жаль, не успела тебя советская власть угнать куда следует… И чего ты расселся здесь? Ступай! В гневе Александра Ниловна не слыхала, как кто-то вошел на крылечко и трижды отрывисто постучал в дверь. — Я открою, — поспешно сказал Тимофей Петрович. Он хотел прервать этот тягостный разговор. Александра Ниловна продолжала сидеть, словно у нее не было сил подняться. — Здравствуйте, Катюша, — донесся возглас Тимофея Петровича. "Катенька пришла, — подумала с облегчением тетя Саня. — Сейчас же все ей расскажу, чтобы знала, с кем имеет дело!" — Это вы?! Ой, боже ж мой! Если немцы увидят вас!.. Теперь Юрась тоже узнал голос Катерины Васильевны. Племянница Александры Ниловны работала в сельском клубе. — Немцы знают, что я здесь, не волнуйтесь. — Тимофей Петрович говорил спокойно, точно речь шла о самых обычных вещах. — Я решил остаться у немцев. Вы не скажете мне, какая завтра будет погода? "Ишь подлец, на погоду разговор отводит! — вознегодовала тетя Саня. — Сейчас Катенька покажет ему погоду!" К ее удивлению, Катя, ни о чем не спрашивая больше Тимофея Петровича, с какой-то удивительной степенностью, отчетливо выговаривая каждое слово, ответила: — Вы спрашиваете, какая завтра будет погода? Это как бог даст. Сегодня поживем — завтра увидим. Совсем не такого ответа ожидала Александра Ниловна. — Катерина, иди сюда! — крикнула она сердито. — Иду! Здравствуйте, тетя Саня. — Она вошла стремительно, глаза ее сияли. — Забежала узнать, как вы живете, что нового, и вдруг — товарищ Марченко здесь! — Где ты увидела товарища Марченко? — перебила тетя Саня. — Это пан Марченко! А уж коли товарищ, то не тебе, а немцам! И вот что я вам скажу, пан Марченко: мне в хате сидеть недосуг. У меня свои дела, у тебя — свои… Так что вот тебе бог, а вот — порог! Забирай ребят и ступай. — Она взглянула на Юрася. — Смотри, что с сыном-то делается! Лица на нем нет… — Александра Ниловна, — смиренно заговорил Тимофей Петрович. — Просьба у меня к вам… Мы с Юра-сем сейчас пойдем домой… А вот Владика днем я не могу взять с собой… Нельзя, чтобы о нем узнали… Мать — еврейка, отец — полковник Красной Армии, коммунист. Если новые власти о нем узнают, погибнет мальчишка… — Смотри, какой жалостливый!.. Чего тебе от меня-то надо? — Пусть он до вечера у вас побудет… — До вечера? А потом что? — Вечером я приду за ним, — неожиданно сказала Катя. — Переправлю в надежное место… — Ладно… Тебе, Катерина, верю, тебе отдам мальчонку… Хоть и глупа еще, а никого не продашь, не выдашь! — Тогда мы пойдем. — торопливо сказал Тимофей Петрович. — Пошли, Юрась, о многом нам поговорить надо. Столько дней не виделись… Юрась поднялся с лавки и, сгорбившись, точно на плечи его давила невидимая сила, пошел к двери. Он вышел из дома ни с кем не попрощавшись, ни на кого не взглянув.
Они шли по безлюдной деревне: впереди — Юрась, за ним — Тимофей Петрович. С тоской смотрел он на заросший затылок мальчика, на его безвольно опущенные плечи и с тревогой ждал, когда же Юрась начнет задавать неизбежные вопросы. Они вышли за деревню. Тимофей Петрович ускорил шаг и поравнялся с сыном, надеясь, что тот заговорит первый. Но Юрась смотрел себе под ноги и шел, словно не замечая, что рядом идет отец. Это упорное молчание смущало Тимофея Петровича. Он понимал, что рано или поздно тяжелый разговор состоится. И по своей привычке всегда наступать, не прятаться от опасности, Тимофей Петрович заговорил сам. — Потолкуем, сынок. Мы с тобой не виделись столько дней… таких дней! Юрась молча ускорил шаг. — Конечно, ты хочешь знать, почему меня арестовали, — продолжал Тимофей Петрович, делая вид, что не замечает враждебного молчания сына. — Понятно! А как же иначе? Ты должен это знать… — Речь его была нескладна, и он почему-то старался во что бы то ни стало идти в ногу с Юрасем. И то, что он никак не мог приноровить свой размашистый шаг к коротким шагам сына, еще больше мешало Тимофею Петровичу говорить спокойно и убедительно. — Понимаешь, произошло недоразумение… ошибка… Меня приняли за другого. Посадили в тюрьму… чтобы выяснить. А тут — война… Ну, пришли немцы… всех выпустили… и меня тоже… Ты слушаешь? — Слушаю… — Ну вот… немцы освободили меня… я пришел домой… Нашел твою записку… сразу поспешил к Александре Ниловне… Что же ты молчишь? Тебе что-нибудь не понятно? — Не понятно… — Что же? — Почему тебя немцы не тронули? Они коммунистов не отпускают. Тетя Саня говорит, в Зоричах фашисты всех коммунистов забрали… — Мало ли что она говорит… Сам же видишь, меня отпустили… — А почему староста говорил, что ты… в партию пролез? Что немцы тебе доверяют?.. — А что мне с ним спорить? Пусть болтает! Лишь бы меня не трогал! — Ты сказал, что и с фашистами можно жить… — А ты откуда знаешь, что нельзя? — Откуда? От тебя! Разве не ты мне говорил, что хуже фашистов никого на свете нет! — Поживем — увидим… И прошу тебя ни с кем не говорить обо мне. О том, что я… был коммунистом… Это сейчас ни к чему. Понял? — Голос Тимофея Петровича стал твердым. — Я спрашиваю, ты понял меня? И еще: я запрещаю тебе отлучаться из дому. В Зоричи не ходи!.. Впервые Юрась взглянул отцу в глаза. В этом взгляде были растерянность и недоумение. Тимофей Петрович отвел глаза в сторону. — А почему ты Владика оставил в Зоричах? — сказал мальчик совсем тихо. — Чтобы фашисты его схватили за то, что его отец коммунист?.. — голос Юрася сорвался. Тимофей Петрович положил на плечо сына тяжелую руку. — За Владика не тревожься, вечером он снова будет у нас. Его приведет Катя. Но запомни: никто, ни одна душа не должна знать, что он живет в нашем доме! Иначе ему придется уйти от нас. Запомни это. Ну, вот мы и пришли. Живы и невредимы! Надеюсь, и дальше-все будет хорошо! В тот же вечер Катя привела к ним Владика. — Пока живите в шалаше. Еще раз напоминаю: без моего разрешения Владик не должен появляться в доме, — приказал Тимофей Петрович. Растерянный Владик стоял опустив голову, стараясь не расплакаться. Никогда еще он не чувствовал себя таким одиноким и беззащитным. — Пойдем! — Юрась сердито дернул его за руку. — Пойдем в шалаш. Нечего нам здесь делать!
* * *
Со дня возвращения Тимофея Петровича прошло две недели. За это время Владик ни разу с ним не встретился. Он помнил запрет и в доме не появлялся. Юрась же приходил в дом только за едой. Несколько раз Юрась отправлялся, как он говорил, "в разведку". Пробравшись почти к самому дому, он прятался в кустах. Он видел, как приходил Сиволоб, как полупьяный полицай Гармаш развязно хлопал отца по плечу и чему-то смеялся. И отец тоже хлопал полицая по плечу и тоже смеялся. Несколько раз он видел Екатерину Васильевну. Она всегда приходила с небольшой корзинкой. С такими корзинками местные колхозницы и ребята ходили в лес за грибами. Екатерина Васильевна оставалась в доме всего несколько минут, но вскоре она совсем перестала появляться. Юрася это почему-то огорчило. Однажды, придя в дом за хлебом, он не выдержал и спросил: — Почему не приходит больше Екатерина Васильевна? Тимофей Петрович вздрогнул: — Откуда ты знаешь, что она раньше приходила? — Видел… — неопределенно ответил Юрась. Он не мог обманывать отца, но и сказать правду, признаться, что он тайно следит за ним, тоже не хотел. Чтобы уйти от ответа, он спросил: — А вдруг ее немцы арестовали? — Катя не приходит, потому что переехала в Гладов. Поступила там на работу… Машинисткой в полицейское управление. Юрась всегда считал, что "полицейский" — бранное слово. И вот, оказывается, Екатерина Васильевна служит теперь в полиции, — значит, она заодно с теми, кто убивает коммунистов и комсомольцев. Потому, видно, она и к отцу ходила: все предатели заодно! И вдруг он вспомнил: — Она знает, что Владик у нас! Знает, что он… она его выдаст! — Не выдаст… — Почему? Откуда ты знаешь? — Побоится… Сама же привела его к нам. Если немцы пронюхают об этом, у нее тоже будут неприятности… — Все равно она предательница! Вернутся наши, они ей покажут. Тимофей Петрович понял: угроза относилась и к нему. Он повел широкими плечами и сердито проговорил: — Прошу тебя, нет, не прошу, а приказываю: перестань за мной шпионить! Понял? — И, не дожидаясь ответа, ушел в дом… Юрась не торопился возвращаться в шалаш. Он лежал в кустах и раздумывал: говорить или нет Владику об Екатерине Васильевне? Владик тоже испугается, что она его выдаст. "Надо рассказать", — решил он и вдруг увидел сквозь кусты, что Тимофей Петрович вышел из дому и уселся на высокий дубовый пень. Тимофей Петрович сидел опустив голову, бессильно свесив меж колен большие руки. Он казался сейчас таким одиноким и несчастным, что Юрасю вдруг стало его жаль. Но чувство это мгновенно исчезло: в памяти возникла сцена в доме тети Сани, когда староста Сиволоб тряс отцу руку и отец улыбался изменнику… Посидев немного, Тимофей Петрович поднялся и направился по тропинке, проходившей у самого "наблюдательного пункта". Он остановился так близко, что Юрась заметил, что лицо его внезапно стало настороженным. Послышались чьи-то шаги. Навстречу отцу шел старик нищий. Он опирался на толстую суковатую палку, через плечо его висела сума. Нищий снял замызганный картуз и поклонился. — Здоровья пану Марченко! Тимофей Петрович удивился: — Не припомню, где встречались… — Это не беда, — сказал весело старик. — Может, мы и вовсе не встречались. Скажи лучше, как пройти до деда Кручины. — Не знаю, — отрывисто сказал Тимофей Петрович. Юрась удивился: отец отлично знал, где живет почтальон Кручина. — Не знаешь — и не надо, — сказал нищий так же весело. — Всего человеку знать не можно. — И вдруг ни с того ни с сего спросил: — Вы не скажете мне, какая завтра будет погода? — Вы спрашиваете, какая завтра будет погода? — услышал Юрась ответ отца. — Это — как бог даст. Сегодня поживем — завтра увидим. — Так-то лучше, — непонятно к чему сказал старик. — Я к тебе от Греты. — Пойдем в дом, — приветливо сказал Тимофей Петрович. — Не время, голубь, гостевать мне, — отвечал старик. — Перевяжу обувку да и пойду дальше. Мне еще до Кручины надо. Он отошел в сторону, прислонился к дереву и стал переобуваться. Теперь до Юрася долетали только отдельные слова нищего: — Грета велела предупредить… проверяют… из себя он, значит, такой… Старик переобулся, перекинул за спину суму. По жестам отца Юрась догадался: Тимофей Петрович показывал путь к почтальону Кручине.ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛЕСА
С вечера в небе клубились черной пеной лохматые тучи, и в этой пене тонули раскаленные июльские звезды. Юрась и Владик лежали в шалаше. Юрась все еще не мог поверить в измену отца. Как это могло случиться? Ведь только в сказках бывают злобные оборотни. Нет, оказывается, они и в самом деле существуют на земле. Как же можно жить рядом с оборотнем?! Бежать! Надо бежать! Но куда? С кем поделиться горем? У кого спросить совета? — Надо накопить сухарей, — сказал он вдруг. Владик понял, что задумал Юрась. Они уже не раз обсуждали, как им пробраться к фронту. — Можно и без сухарей, — отозвался Владик. — Будем по дороге просить… Где что дадут… Конечно, просить стыдно… — Лучше просить у чужих, лучше с голоду умереть, чем… — Юрась не договорил, но Владику и без слов было ясно, что он хотел сказать. Грохнул тяжелым разрывом гром и покатился прочь, замерев где-то далеко за деревней. Тяжелые капли ударяли по листьям деревьев редко, раздельно, точно дождь никак не мог решить: пролиться ему здесь или хлынуть где-нибудь в другом месте. Под этот однообразный перестук капель мальчики уснули. Они не слышали, как взрывались громом тучи, не видели огненных стрел в небе, не слышали тревожного шума старого леса…Юрась проснулся среди ночи от наступившей тишины. Гроза кончилась. Он видел из шалаша высвеченные луной стволы деревьев. Осторожный, неясный звук нарушил тишину. Послышался хруст валежника. Это было странно: кто может ходить по лесу ночью? Юрась тихонько толкнул Владика. Тот что-то промычал и повернулся на другой бок. Юрась снова прислушался. Звук затих, потом опять послышался хруст. Юрась с силой дернул Владика за руку. — Проснись! — задышал он ему в ухо. — Проснись! Какой-то зверь ходит!.. Он схватил топорик, выполз из шалаша и, не подымаясь, огляделся. Проснувшийся Владик растянулся рядом. Хруст валежника прекратился. — Ушел обратно… в лес, — прошептал Владик. — Н-е-е… Стоит на месте… принюхивается… Зверь человека издали чует… — Смотри! Смотри! По траве двигалась великанская тень человека. Тень плыла по земле, ломаясь о стволы деревьев. Но шагов не было слышно. — Идет к нашему дому… — прошептал Юрась. — Кто это? — Не знаю… из леса вышел… Тень исчезла. Сжимая топорик, Юрась прополз немного, спрятался за ствол сосны н, поднявшись на ноги, увидел: по тропинке медленно шел человек. Юрась не заметил, как рядом с ним оказался Владик. Легкое облачко затянуло луну, человек стал почти невидимым. — Давай к дому, через луг! Напрямик! Владик полз за Юрасем, уговаривая себя, что ничего страшного нет. Ведь по тропинке шел не зверь, а самый обыкновенный человек. Кто-нибудь заблудился в лесу, вот и все! Чего же бояться? Но все-таки было страшно. Они подкрались к дому раньше неизвестного человека и замерли под окном. Окно было раскрыто, должно быть, Тимофей Петрович распахнул его после грозы. Легкая занавеска чуть шевелилась. Мальчики услышали, как человек поднялся на крыльцо и тихо постучал в дверь. — Кто там? — По тому, как быстро Тимофей Петрович откликнулся на этот едва слышный стук, было ясно — он не спал. — Открой, товарищ… свои… — Товарищем называет! — прошептал Юрась, сжимая руку Владика. — Кто "свои"? — Тимофей Петрович чиркнул спичку и зажег лампу. Теперь мальчики могли не только слышать, но и видеть все, что происходило в комнате: занавеска не доходила до подоконника, и внизу, во всю ширину окна, тянулся узкий просвет. — Открой, товарищ! — голос незнакомца звучал тихо, но настойчиво. — Сейчас… Тимофей Петрович не спеша натянул сапоги, взял стоявшую у кровати дубинку и вышел в сени. Стукнула щеколда, скрипнула дверь, и в комнату вошел незнакомец. Это был рослый, широкоплечий человек. Рваная одежда командира Красной Армии без слов говорила о долгих днях скитаний по лесу. На петлицах выгоревшей гимнастерки были видны следы трех кубиков. Нестриженую голову прикрывала грязная пилотка со звездочкой. — Спасибо за приют, браток… — прерывисто заговорил командир. — Сколько недель пробирался… одни ягоды да грибы сырые… нету сил больше… — Садись, накормлю, — сказал Тимофей Петрович. Ни о чем не спрашивая, он положил на стол караваи хлеба и кусок сала. Командир с жадностью набросился на еду. Тимофей Петрович молча смотрел на него. Продолжая жевать, пришелец говорил: — Повезло, что наткнулся на твой дом, товарищ. Луна вышла, я его и заметил. Вот счастье, что луна вышла, ей-богу! Тимофей Петрович продолжал молчать. — А мне еще идти да идти… — Куда тебе идти? — заговорил наконец Тимофей Петрович. — Как куда? К партизанам, конечно! Я же политрук полка! До последнего вздоха буду драться с проклятыми фашистами! — Владька! Мы с ним уйдем! — Юрась дрожал от волнения. Теперь ясно, что делать. Они ни на шаг не отстанут от этого человека. А политрук, не переставая есть, все говорил: — Я, товарищ, кадровый военный, политработник нашей славной Красной Армии. Видишь этот шрам, товарищ? — он показал на свой подбородок. — Вижу, — голос Тимофея Петровича был вялый, спокойный, точно он вел какой-то давно надоевший ему разговор. — Это под Халхин-Голом! Когда самураев громили! Мне товарищ Буденный лично орден вручал… — Герой! — шепнул Владик. Политрук кончил есть. — Теперь бы закурить, товарищ, — мечтательно сказал он. — Веришь ли, товарищ, последний раз листья курил неделю назад. А потом уж и листья не мог курить — спички кончились… — Кури, — равнодушно проговорил Тимофей Петрович, протягивая пачку немецких сигарет. — Фашистские! — сказал с презрением политрук. — Ничего, не падай духом, скоро свои закурим, "Беломор"! — Он сделал глубокую затяжку и пустил дым сразу через рот и ноздри. Притаившиеся у окна мальчики почувствовали запах табака. — Я, товарищ, сразу понял, что ты настоящий патриот, — продолжал политрук. — Схорони меня на пару дней, передохну малость от всех передряг. Я к тебе с полным доверием. Вот и это, прошу тебя, спрячь… — Он вытащил из кармана орден Красного Знамени и положил его на стол. — Помоги мне, браток, с партизанами связаться… Своих-то потерял. Отбился от части. Думал, что в живых не останусь. Ей-богу! Ну, теперь-то все в порядке! Теперь я свое место в борьбе с ненавистным фашизмом найду. Я ведь в случае чего и партизанский отряд могу возглавить. Как боевой командир! Свяжи меня, товарищ, с кем-нибудь из местных коммунистов… — Обязательно свяжу, — сказал Тимофей Петрович. — Уважу твою просьбу. Юрась готов был закричать от радости! Нет, видно, отец не окончательно потерял совесть. Он поможет командиру Красной Армии, спасет его от фашистов, спасет, рискуя собственной жизнью, ведь за укрытие коммуниста у фашистов одно наказание — виселица. Юрась взглянул на Владика и при свете луны увидел, как засияли глаза друга. — До последнего буду мстить гадам-немцам! — громко сказал политрук. — Скорее бы к партизанам! Когда же ты меня свяжешь, товарищ? — Когда свяжу? А чего откладывать? Такое дело откладывать нельзя. Сейчас и свяжу! А дальше случилось такое, о чем мальчики потом не могли вспомнить без ужаса. Молниеносным ударом Тимофей Петрович свалил политрука на пол. Не давая ему прийти в себя, Тимофей Петрович продолжал его бить. — Получай, шкура! Получай, политрук! Получай, предатель! Никогда еще не видел Юрась своего отца в такой ярости. Он прикусил себе губу, чтобы не закричать. Владик, тихо застонав, закрыл руками лицо. Юрась заставил себя досмотреть все до конца. Он видел, как отец связал политрука, как засунул ему в рот кляп из грязной тряпки. — Вот ты и связан! Сам просил, чтоб я тебя связал. Утром полицаи отвезут тебя в Гладов. Там ты и расскажешь, как тебе Буденный орден вручал… — И, схватив политрука за связанные ноги, он поволок его, словно дохлого пса, в сени.

Мальчики были в отчаянии. Все рушилось! Не уйти им отсюда с боевым командиром Красной Армии. И не было больше сомнений: Тимофей Петрович не просто трус, а подлый предатель, изменник. Свет в окне погас. Юрась ясно представил себе: отец вернулся в комнату, спокойно разделся, задул лампу и, как ни в чем не бывало, улегся спать… Улегся спать! А через несколько часов он выдаст политрука гестаповцам, и смелого командира будут пытать, а потом повесят. — Что делать? — прошептал Владик. Юрась снова приник к окну. В доме было тихо, так тихо, что он услышал ровное, спокойное дыхание отца. Юрась потянул за собой Владика: — Идем! Они обошли дом и неслышно, боясь дышать, вошли в темные сени. Связанный политрук лежал у самого порога. Юрась нащупал веревку, но от волнения у него дрожали руки, и он никак не мог в темноте развязать туго затянутые узлы. "Разрезать!" — решил Юрась. Он потянулся к ножовке, висевшей над кадкой с водой, и с грохотом опрокинул пустое ведро. Мальчишки оцепенели, — такой грохот мог разбудить и мертвого. Дверь из комнаты распахнулась, на пороге, с лампой в руке, появился Тимофей Петрович. — Идите в комнату, — сказал он, не повышая голоса. Мальчики, не глядя на Тимофея Петровича, стараясь не прикасаться к нему, вошли в комнату. Через открытую дверь они видели, как Тимофей Петрович поставил лампу на пол и проверил веревку на руках и ногах политрука. Войдя, он плотно закрыл дверь. — Как вы узнали о нем? — В голосе Тимофея Петровича не было ни раздражения, ни злобы. Мальчики молчали. — Говори ты, Владик, — непривычно мягко сказал Тимофей Петрович. — Мы заметили из шалаша… как он шел… — А потом подкрались к окну и все видели? И все слышали? Так? — Голос Тимофея Петровича был все еще спокоен. — Так, мальчики? Владик кивнул. Юрась стоял неподвижно, не глядя на отца, будто не слыша его вопросов. — Но я запретил тебе подходить к дому без моего разрешения. Ты забыл об этом, Владик? — Нет, не забыл… — И ты посмел не выполнить мое приказанье? — Теперь голос Тимофея Петровича звучал строго. — Ты помнишь, что наказывал тебе отец? Чтобы ты слушался меня, как боец командира! А ты, как ты выполняешь волю отца, волю моего старого боевого друга? Юрась впервые взглянул на отца: — Теперь немцы твои друзья… — Он хотел сказать еще что-то, но вдруг всхлипнул и одним прыжком оказался на подоконнике. Выскочить он не успел. Тимофей Петрович схватил его и усадил рядом с собой на кровать… Юрась заплакал. Тимофей Петрович обнял сына за плечи и прижал к себе. И тогда Юрась заплакал навзрыд. Прижимаясь к отцу, он в отчаянии повторял: — Ты не выдашь его? Не выдашь его? Не выдашь?! Отец не отвечал, прижимая к себе его все крепче и крепче. В этом молчании был ответ. Политрука ждала смерть! Юрась сжал искусанные губы и оттолкнул отца. Тимофей Петрович вздохнул, поднялся и сказал, силясь улыбнуться: — Вижу, на Руси не все караси — есть и ерши! Владик заметил улыбку Тимофея Петровича. Это было чудовищно! Улыбаться, когда рядом, в сенях, лежал командир Красной Армии, обреченный им на смерть! — Вы изменник! — крикнул Владик и горько заплакал.
СИВОЛОБ ПОДОЗРЕВАЕТ…
Допрос политрука Сиволоб начал круто. — А ну, пан Гармаш, — сказал он, — проверь категорично, крепок ли на ноги его благородие, господин большевик. Если тебе не трудно… — Мне не трудно! — заверил Гармаш и, подойдя к арестованному, с силой ударил его по скуле. Политрук растянулся на дощатом полу. Староста сказал с укоризной: — Вижу, некрепок на ноги красное благородие. Помоги ему подняться, пан Гармаш, если тебе не трудно… — Мне не трудно! — сказал полицай и, схватив политрука за шиворот, рванул его вверх. Арестованный, шатаясь, поднялся на ноги. Сиволоб сжал в кулак свою бороденку, подергал ее и гаркнул: — Отвечай правильно и категорично: фамилие, имя, отчество? — В Гладов… Отвезите меня в Гладов, — с трудом выговорил арестованный, прижимая руку к скуле. — Ты кого учишь, красная зараза! — снова заорал Сиволоб. — Сам знаю, куда тебя везти. Я тебя на тот свет свезу! — Господин староста, — сказал арестованный, — есть приказ немецкого командования: задержанных солдат и командиров Красной Армии гражданские власти должны немедленно доставлять в ближайшую немецкую комендатуру. Виновные в невыполнении этого приказа несут строжайшую ответственность по законам военного времени! Сиволоб и полицай переглянулись. — Тебе откуда известны немецкие приказы? — встревоженно спросил староста. — Гражданским давать показания отказываюсь, говорить буду только с офицерами германской армии. — Смотри, какой важный, — зловеще сказал полицай. — Надо еще разок проверить, крепок ли он на ноги! — он поплевал на ладонь и сжал кулак. — Погодь, пан Гармаш, — остановил его староста. — Пан лесник и без нас неплохо отутюжил его. И ты его разок приголубил. Надо и для господ немцев работенку оставить. — Больно хлипкий комиссаришко, — ухмыльнулся Гармаш. — На вид — бугай, а дал связать себя, словно телок… — Втроем они, — сказал арестованный. — Втроем? Откуда у лесника народ ночью взялся? — недоверчиво спросил староста. — Врешь ты! Ночевать по хатам посторонним настрого запрещено. — Это, видать, его сыновья: двое парней! — Ах, вот оно что! Смотри, что страх делает! В глазах задвоилось! Из одного мальчишки двое парней стало. Парень-то у Марченко один, да и тот малый — школьник… — Два там, а не один! — Буде врать-то! Неправдой жить — бога гневить! Уж я ли не знаю, кто под моим началом находится? Один у Марченко мальчишка, и лет ему в аккурат тринадцать… Мне, брат, все известно… — Плохо знаешь, — дерзко возразил арестованный… — Два там мальчишки! Два! Точно заметил! — И добавил: — Вот и не знаешь, кто у лесника хоронится. Он там в лесу может целый полк спрятать… — Цыц болтать! — крикнул Сиволоб. — Больно разговорчив! — Он повернулся к Гармашу: — Прикажи заложить лошадь. Сейчас придет Марченко, мы с ним и отвезем этого пролетариата в Гладов. Послушаем, какие он песни запоет у господина коменданта… Тимофей Петрович и Сиволоб возвращались из Гла-дова. Они ехали на телеге; староста, понукая лошадь, не переставал болтать: — Как он там заерзал, когда ты орден-то выложил и про Буденного сказал. А господин комендант как зыркнет на него, так он аж затрясся! В общем, все! Упокой, господи, душу раба твоего! Болтовня старосты раздражала Тимофея Петровича. Он думал о предстоящей встрече с мальчиками. — И как ты его скрутил? — не унимался Сиволоб. — Такой здоровенный комиссарище! У него от страха аж в глазах задвоилось. Все твердил, что тебе два пацана помогали. Я думал, ты хлипкий… — Силой бог не обидел… — Господь ведает, кому даровать силу… На повороте Тимофей Петрович соскочил с телеги. — Ты что? — удивился староста. — Поехали ко мне. Такое дело обмыть надо. Выпьем за упокой души красного пролетариата. У меня самогон — первач! — Не могу. Всю ночь не спал из-за этого политрука. Пройдусь пешком до дома — и спать! Завтра зайду… — Будь по-твоему! Почтенье! Староста щелкнул кнутом, и лошаденка тяжело поскакала к деревне. Тимофей Петрович шел медленно, стараясь оттянуть разговор с ребятами. Неподалеку от дома он остановился и устало провел ладонью по лицу. Было ясно, что попытка мальчиков освободить политрука — это начало борьбы, борьбы против него. "Чем кончится этот "бунт"? — спрашивал себя в смятенье Тимофей Петрович. — Что они выкинут завтра? Один необдуманный поступок — и они попадутся. А тогда — конец всем! И им, и ему! А тут еще — Владик! Как уберечь мальчика от немцев? Сколько можно прятать его в лесу? Придет осень, наступят холодные ночи…" Так ничего и не придумав, он направился к дому. Мальчики оказались в шалаше. После всех волнений, после бессонной ночи они спали непробудным сном. Тимофей Петрович смотрел на спящих ребят задумчиво и печально. Но это продолжалось недолго. Тронув Владика за плечо, он сказал сердито: — Вставай! Тимофею Петровичу казалось, что ребята крепко спят, но едва он заговорил, как оба разом проснулись. — Мне нужно с вами поговорить, — сказал Тимофей Петрович, стараясь не смотреть на сына. — Ты помнишь, Юрась, наш недавний разговор?.. Помнишь, я предупреждал: если хоть одна душа узнает про Владика, ему придется уйти от нас. Помнишь? — Помню… — Владика видел этот… политрук… Значит, он больше не может у нас оставаться. Ты должен сейчас же отвести его в овраг. Оставишь его в малиннике и немедленно вернешься домой. Тимофей Петрович видел, как побледнел Владик, как Юрась сжал кулаки. — Почему? — Юрась задыхался. — Почему Владик не будет жить с нами? Где же он будет жить? — Делайте то, что я говорю. Сейчас же! Владик, не смей уходить из оврага, жди меня там. Ступайте! — Пойдем, Юрась. — У Владика был вид обреченного. — Я не останусь у вас, раз Тимофей Петрович не хочет… Ни за что не останусь! — Тебе же лучше будет. Через пять минут чтобы вас здесь не было. А ты, Юрась, сразу же возвращайся обратно… Перед уходом Владик обернулся было попрощаться, но Юрась дернул его за рукав. — Пойдем… нечего тебе… с ним… И они ушли. Тимофей Петрович остался один. Лицо его было угрюмо, глубокая морщина, пересекавшая лоб, стала еще глубже…* * *
Слова политрука встревожили Сиволоба. А что, если Марченко и в самом деле прячет у себя какого-нибудь парнишку? Еще недавно немецкий комендант предупреждал старосту: — Ты будешь строго отвечать за вверенную тебе деревню. У нас есть сведения, что крестьяне прячут детей комиссаров Следи хорошо, чтобы этого не было, иначе ты будешь иметь от меня одну большую неприятность!.. Что означали слова "одну большую неприятность", — Сиволоб отлично понимал: скорее всего, виселица. Поразмыслив, Сиволоб решил, не откладывая, нагрянуть внезапно к Марченко. Он сунул в карман маленький бельгийский браунинг и зашагал в сторону леса. Дорога была ему знакома издавна. Когда-то здесь его отцу и деду принадлежали сорок десятин самой лучшей земли. Сейчас на этой земле переливалась бархатистыми волнами колхозная пшеница. Это тоже заботило старосту. Скоро немцы прикажут убирать хлеб. А кто его станет убирать? Мужиков в деревне не осталось, тракторы поломаны! А немцы грозят за каждый неубранный гектар наказанием "по законам военного времени"… Сиволоб тяжело вздохнул, вытащил из серебряного портсигара сигарету, но не успел закурить, как увидел идущего навстречу лесника. — Почтение уважаемому Кузьме Семенычу! — Тимофей Петрович снял кепку. — И тебе почтение, пан Марченко, — снял картуз староста. — Куда путь держишь? — Да так… есть у меня тут в одной ближней деревушке дельце… — уклончиво и многозначительно протянул Тимофей Петрович. — Пошаливать народ начинает… О партизанах что-то болтают. Надо прояснить… — Прошу тебя категорично, пан Марченко: что узнаешь — сообщай мне. Ты мужик мозговитый, да и я стреляный! Вместе мы порядок наведем… — Не сомневайся, Кузьма Семеныч. Что узнаю, — сообщу… Какие хлеба! Какие хлеба! — сокрушенно воскликнул Тимофей Петрович. — Как же нам убрать все это? Главное, чтобы немцы успели вывезти все зерно! Тут уж нам с тобой надо быть начеку день и ночь. А то ведь и красного петуха пустить могут! — Это кто же посмеет? — А хоть бы и партизаны… Сам знаешь, просачиваются из окружения… полигрук-то откуда взялся? Из окружения! Значит, и другие могут объявиться. Тут нам с тобой ухо востро надо держать, Кузьма Семеныч… — Это ты верно… Тут надо быть настороже. А только я и на бога надеюсь. Истинно сказано: коли бог за нас, так никто на нас! И еще имей в виду, если ты там у себя… в лесу, значит… заприметишь кого… неизвестные какие появятся. я уж на тебя надеюсь… — А как же! От меня не уйдут! Политрука-то, как скрутил, — сразу к тебе. Мог бы прямо в Гладов, дескать, смотрите, господа немцы, служу вам верой и правдой, комиссара поймал. А только я порядок уважаю: староста — первый человек на деревне… — За это — спасибо… Закуривай, пан Марченко. Сигареты немецкие, такие духовитые, что и одеколону не требуется. Бери, бери, про запас парочку спрячь, неужели для тебя пожалею… Взяв сигарету, Тимофей Петрович простился и пошел к большаку. Сиволоб подождал, пока он скроется, и степенным шагом направился дальше. Он был доволен, что лесника не будет дома. А уж у мальчишки он без труда выведает правду. Подойдя к дому Марченки, Сиволоб увидел Юрася. До сих пор староста не встречался с ним. Он думал, что Юрась взрослее и выше. "А может, это и не сын, а тот, второй, о котором говорил политрук?" Староста подошел к мальчику. Юрась сразу же узнал Сиволоба, он видел его тогда, сидя в горнице тети Сани… — Здравствуй, голубчик, — сказал ласково староста. — Мне бы повидать сынка Тимофея Петровича. Не знаешь, скоро он придет? — Кто придет? — Сынок Тимофея Петровича. — Это я… — Смотри пожалуйста, — добродушно удивился Сиволоб. — А я, брат, думал, что ты совсем другой. Будем знакомы: я староста из Зоричей — Кузьма Семеныч Сиволоб. Поди, слыхал от папаши? — Слыхал… — А я шел мимо, — думаю, дай зайду напиться, жарища — не приведи господь. Угости кваском с ледника. — Нет у нас кваса, — отрывисто сказал Юрась. — Эка жалость. Кваску бы — в самый раз! Юрась молчал, ожидая, что еще скажет староста. Сиволоба немного смущал неприветливый вид мальчика, его явное нежелание поддерживать разговор. Он подергал острую бороденку и, продолжая улыбаться, участливо спросил: — А что милый, тебе не скучно здесь одному? Все один да один! — Нет, не скучно. — Ну да, конечно, — живо подхватил Сиволоб. — К тебе, верно, дружки приходят… место у вас хорошее, тихое. В таком месте погостить — божья благодать. Только одному и в раю тоска. А вдвоем здесь куда как хорошо! Тебе бы сюда товарища! Верно? — Мне и одному не скучно, — ответил Юрась и, чтобы избавиться от старосты, прибавил: — Марченки дома нет… Придет не скоро… — Знаю, что нет. Только, что же это ты родителя по фамилии зовешь? Большевики вас так учили? Чтобы, значит, никакого уважения к старшим? — Старшие тоже разные бывают… — Вот уж это худые слова… большевистские. Видать, мозги-то у тебя набекрень. Ну да ладно, как, говоришь, зовут того мальчугана? — Какого? — Да который у вас ночевал… Помогал политрука связывать… — Никто у нас не ночевал… — А ты вспомни. — Никто не ночевал… — Значит, ты все один, ровно волк в лесу. И поиграть не с кем… Может, к вам гости ходят, тогда дело другое… — Кто к нам ходить будет? Только вот вы и пришли… — Да… Невесело живешь… Что ж ты делаешь день-деньской? — Читаю… — Это хорошо. Я тоже люблю на сон грядущий. Новый завет читаю. Ты-то читаешь Новый завет? — Новый завет? А кто автор? — Не богохульствуй! Книга сия написана по вдохновению святого духа, она есть непогрешима и свята! Понял? — Не, не понял… — Тебе папаша про Библию толковал? — Не, не толковал… — Ай, нехорошо, не похвально. Категорично! Поговорю, поговорю с родителем твоим, сделаю внушение. — Тут Сиволоб вспомнил, ради чего он затеял разговор о чтении, и сменил негодующий тон на добродушный. — Что же ты читаешь? Поди, все про разбойников да сыщиков?.. Покажи-ка, дружок, свои книжицы. Где они у тебя? Не дожидаясь ответа, Сиволоб быстро поднялся на крыльцо и вошел в дом. Цепким взглядом он обвел комнату, и сразу же заметил на стене темный квадрат обоев. — А тут чей портретик висел? Видать, недавно сняли… — Ленина… Здесь висел портрет Ленина, — выговорил твердо Юрась. — Ленина?! — староста побагровел, глаза его так и застыли на темном пятне. Вдруг Сиволоб досадливо хлопнул себя по лбу: — Тьфу, беспамятный! Забыл, совсем забыл я, что при красных твоему батьке без портрета этого нельзя было… для маскировки, значит… — Снова глаза его воровато забегали по комнате. В углу он увидел сандалии Владика. Они были явно меньше ноги Юрася. Староста засопел. — Добрая обувка, — сказал он. — Вы про книги спрашивали, — начал Юрась, но Сиволоб перебил его: — Твои сандалии? — Мои… Сиволоб взял одну сандалию, перевернул ее вверх подошвой. На гладкой блестящей коже отчетливо виднелся фабричный штамп — "Скороход". — Новенькие. Видать, только что куплены. — Твои, значит? — Мои… И без того кривой рот старосты, перекосился совсем. — А ну надень. Интересно посмотреть, каково на ноге выглядит… — Они мне малы, — нашелся Юрась. — Когда же ты успел из них вырасти, ботиночки совсем новенькие?.. — Они мне сразу были малы… Мама без меня покупала… Ошиблась номером… — Давно твоя мать была в Питере? — В Ленинграде мама не была.
— А гляди: наподметке написано "Скороход". Видишь? А где такая фабрика? В Питере! А мать в Питере, говоришь, не бывала. Значит, их кто другой завез к вам? — Мама их в Минске купила. В Минске до немцев все было: и из Ленинграда, и из Москвы, и из Киева… Сиволоб насупил редкие брови. — Не ври! Не было ничего при красных! Ну, да не об этом речь. Про книги разговор был. Показывай, какие у тебя есть книжицы… Юрась смешался: свои немногие книги — "Как закалялась сталь", "Судьба барабанщика", "Тимур и его команда", "Овод", "Чапаев" и "Приключения Шерлока Холмса" — он держал в шалаше. — Вот тут мои книги, — указал он на полку, где стояли учебники. Сиволоб снял с полки толстую старую книгу и попытался прочесть название: — Это по-каковски написано? Никак по-немецки? — Это немецкий учебник. Книга для переводов. Я с нее перевожу на русский язык. — Скажи пожалуйста! Значит, ты по-немецки можешь? — Могу… — А ну почитай, я послушаю, что написано. — Вы же по-немецки не понимаете? — А ты по-русски читай. По-немецки мне ни к чему, ты мне по-русски давай, что тут написано… — Пожалуйста. Юрась неторопливо стал выбирать упражнение из старинной немецкой книги. Мама называла эту книгу "Хрестоматия для гостей". Составленная каким-то полуграмотным немцем в конце прошлого века, она неизменно вызывала смех, когда мама или Юрась начинали переводить из нее. Остановившись на упражнении, которое называлось "О собаке, змее и родителях", Юрась начал читать: — "Петр Великий основал Петербург на берегу Невы, но мальчик продал собаку того старого графа и этого молодого князя садовнику моего доброго отца. Мой добрый отец и моя добрая мать — суть добры. Мои родители любят собаку старого графа и эту красивую змею молодого князя". — Ерунду читаешь! — сказал недоверчиво Сиволоб, заглядывая в книгу, точно он мог проверить, что там напечатано. — Я перевел все точно. Вот, смотрите, картинки: змея, собака, садовник, Петр Великий… — Не думал я, что немцы такие глупости пишут, — сказал староста, но тут же спохватился: — Это при старом режиме, при кайзере Вильгельме так немцы писали, пока у них фюрера не было… Теперь немцы хорошо пишут, гладко. — Теперь они хорошо пишут, — подтвердил Юрась. — Вчера Марченко привез из Гладова немецкий приказ, я читал. Там все гладко написано: кого повесить, кого расстрелять, кого в лагерь, кого в тюрьму… Староста уставился на Юрася, не понимая, издевается мальчишка или говорит серьезно. На всякий случай он заметил: — Не одобряю, что родителя зовешь по фамилии. Отродясь такого не слыхал. Обязательно скажу ему. Пусть он тебе через одно место ума прибавит! Истинно говорится: сокрушай детям кости смолоду…
КОНЕЦ СИВОЛОБА
Под вечер Владик услышал в овраге осторожные шаги. Выглянув из малинника, он увидел Тимофея Петровича. Рядом с ним шагал высокий тощий старик. — Ну, как ты здесь? — спросил Тимофей Петрович и, не дожидаясь ответа, сказал: — Как стемнеет, пойдешь с дедом к тете Сане. Не бойся, все будет хорошо! А пока что — подкрепись. — Он вытащил из карманов сверток и бутылку молока. — Спасибо, — сказал Владик. — Не нужно. Я наелся малины… Тимофей Петрович поставил бутылку в траву и положил рядом сверток. — Это не от меня, — сказал он глухо. — От Юрася… Можешь есть. И пошел прочь… По пути в Зоричи старик не проронил ни единого слова. Он молча вошел во двор Александры Ниловны, тихо постучал в дверь и, когда дверь открылась, исчез в темноте.С тех пор как Сиволоб доставил в Гладов политрука, минула неделя. Подходила пора уборки хлеба. Присланные из Гладова немецкие механики отремонтировали два трактора, но не успели они уехать, как тракторы оказались опять сломанными. Кто-то перебил трубки питания. Ясно, что в Зоричах орудуют красные. Но кто? Ответить на этот вопрос Сиволоб не мог. А между тем в гладовском гестапо офицер сказал ему очень ясно: — На поиски бандитов даю неделю. Повешу их публично… И теперь Сиволоб ночами шнырял по деревне, заглядывая во все дворы и окна. Он был убежден, что "красные" орудуют по ночам. Вот и сегодня на рассвете староста "прочесывал" деревню, прислушиваясь к малейшему шороху, высматривая, не светятся ли у кого окна. Как назло, Гармаша в деревне не было. Вдвоем не так боязно ходить. Но полицая послали на неделю в карательную экспедицию. Староста остановился у домика Александры Ниловны, бесшумно открыл калитку и вошел во двор. В предутренней тишине было слышно, как тяжело вздыхает в хлеву корова. Посреди двора на веревке было развешено белье. Взгляд Сиволоба остановился на детской рубашке. Он насторожился: откуда у старухи эта рубашка? Внуков у нее нет, живет одна. К тому же, рубашка совсем не похожа на деревенскую — шелковая, с короткими рукавами. Рядом висели маленькие носки. "Неужели старуха прячет у себя какого-то мальчишку? Похоже на то! Но зачем же мальчишке прятаться? — рассуждал Сиволоб, возвращаясь домой. Тут может быть только одно: мальчишка либо еврей, либо сын большого комиссара. В таком разе — времени терять нельзя. Надо одним ударом прикончить двух зайцев. Арест мальчишки отведет от меня наказание за поломку трактора, а заодно — разделаюсь и со старухой…" Однако дома Сиволоба охватили сомнения: а может, никакого мальчишки и нет? Просто, кто-нибудь из больных соседок, у кого есть ребята, попросили Полякову постирать рубаху и носочки… То-то будет срамота: нагрянут они к старухе, а ловить-то и некого! Староста ясно представил себе, как будет ехидничать злоязычная Александра Ниловна, как будет насмехаться над ним вся деревня. Нет, сперва надо окончательно убедиться самому, что старуха кого-то прячет. Вечером Сиволоб снова подошел к дому сторожихи. В доме стояла тишина. Должно быть, хозяйка улеглась спать. Сиволоб уже собирался уходить, когда через неплотно прикрытую форточку до него донесся голос Александры Ниловны. Старуха с кем-то разговаривала. Староста прислушался. Слов разобрать он не мог. Александра Ниловна говорила тихо, но голос ее был сердитый. Она умолкла, и Сиволоб услышал детский голос: — Я научусь, тетя Саня. У меня уже немножко получается. Только она очень неспокойная… Теперь сомнений не было: старуха прячет неизвестного мальчишку. Этого достаточно, чтобы ее арестовать. Давно пора рассчитаться за старое!.. Довольный Сиволоб спал в эту ночь крепким, спокойным сном. Утром к нему неожиданно заявилась Александра Ниловна: — Сестра у меня при смерти в соседней деревне, отпусти, сделай милость, навестить. Сиволоб обрадовался: пока старухи не будет, мальчишка никуда из дома не денется. Надо только проследить, чтобы она его с собой не увела. — Дам тебе на трое суток справку, — важно сказал он. — Когда думаешь отправляться? — Да сегодня бы и пошла. Мои сборы недолги… — Тогда ступай собирайся. А я пока выправлю тебе документ… Прошел целый час. Александра Ниловна за справкой не являлась. Сиволоб забеспокоился: уж не раздумала ли? Надо проверить. Но едва он вышел из дома, как встретил ее. — Где тебя, старую, носит? — Да ведь дела разные, пан староста, соседки зашли, то да сё… — Вот тебе бумага. Через три дня чтоб была на месте и доложилась мне! Поняла? Ну, пойдем, провожу до околицы. — Чего меня провожать, ты не кавалер, я не барышня… — Сам знаю, кого провожать, кого в тюрьму сажать! Сказано, идем, значит, идем! Сиволоб хотел убедиться, что старуха уходит одна. На околице они расстались. Староста посмотрел ей вслед и усмехнулся: — Гуляй, гуляй! Скоро я тебе припомню… как мужик твой руки мне у амбара заламывал… И торопливо направился к дому сторожихи. Безлюдные деревенские улочки настораживали его своей тишиной. "Точно по кладбищу идешь", — подумал он тоскливо, и тут же заметил, как в нескольких окнах дрогнули занавески. "Следят, следят за мной, дьяволы колхозные!" Он нарочно остановился, неторопливо закурил сигарету и степенно зашагал дальше. "Пусть следят! Теперь я никого не боюсь! Теперь меня все боятся! Так-то!" Он вошел во двор сторожихи и сразу же приметил на дверях хлева большой висячий замок. Сиволоб подошел ближе, прислушался. Из хлева доносилось равномерное тяжелое дыхание Краснухи. Староста подергал замок, бросил взгляд на закрытые ставнями окна и удалился с довольным видом… Прошло уже два дня, как Александра Ниловна ушла к больной сестре. Все это время Сиволоб вертелся вокруг ее дома. И наконец решил: дальше тянуть нечего. Надо идти к Марченко. Вдвоем они с этим делом справятся. Но идти ему не пришлось. Лесник навестил старосту сам. — Вот спасибо! Не забыл, значит, меня! — засуетился Сиволоб. — Садись, дорогой гость! Уж так я тебе рад, что и сказать не могу! Помощь мне твоя нужна. Для общего дела… — Для общего дела я готов. Говори, Кузьма Семеныч. Какая тебе помощь нужна? — Сейчас все обсудим. — Сиволоб вытащил из буфета четвертную бутыль самогона. — Хороша посудина! — одобрил лесник. — С такой не соскучишься. — Тут дело политическое, — начал староста, ставя на стол чугунок с холодным картофелем, миску квашеной капусты и тарелку, на которой лежал толстый кусок сала. — Тут у нас с тобой большие могут быть неприятности от немцев через одну старушку. — Он наполнил самогоном две большие кружки и перекрестился. — Господи благослови, поехали! Тимофей Петрович придвинул к себе кружку, но пить не торопился. — Что ты, Кузьма Семеныч? Какие нам от немцев неприятности? Сам знаешь, от кого нам беды ждать… Вот если, не дай бог… красные вернутся… — Про то и думать не моги! — отмахнулся староста. — Ну давай, за успех будущего дела! Они чокнулись. Сиволоб запрокинул голову и выпил все до дна. — Какое же дело у тебя? — спросил Тимофей Петрович. — Полякову старуху не забыл? — Злющая баба! — Истинно! Так вот, она прячет у себя мальчишку. Какого, спрашивается? Понимаешь, чем пахнет?! Тимофей Петрович недоверчиво покачал головой. — Неужели прячет?! Не ошибаешься? — Он взял бутыль и наполнил кружки самогоном. — Не пойму я, откуда же этот мальчишка появился?.. Твое здоровье! Сиволоб выпил, закусил салом и вытер ладонью рот. — В том и есть политический вопрос. Откуда? Это не нам с тобой выяснять. Того мальчишку мы изловим и доставим вместе со старухой в гестапу. Понял? А уж в гестапе завсегда правду дознают: кто, зачем и откуда. И будет нам с тобой от немцев полная благодарность… — Может, ты путаешь, Семеныч? — все еще сомневался Тимофей Петрович. — Может, тебе почудилось? Ведь если мы никого у старухи не найдем, над нами вся деревня потешаться будет. — Точно говорю тебе — прячет! Своими ушами слышал! — староста стукнул кулаком по столу. Хмель исподволь начал подбираться к нему. — Давно подозрение имею, а нынче получил полное подтверждение. — Рассказывай, рассказывай… — Я, брат, старуху вокруг пальца обвел! Сейчас все расскажу. Да ты чего не пьешь, не закусываешь? — Он потянулся к бутыли, но Тимофей Петрович сам быстро налил ему полную кружку. В свою плеснул на донышко. — Теперь, значит, выпьем за твое здоровье! — Сиволоб чокнулся с гостем, лицо его начало багроветь, глаза помутнели. — Как же ты одурачил старуху? — спросил с интересом Тимофей Петрович. — Запросто! — захихикал Сиволоб. — Промашку дала, ведьма! Категорично! — Староста икнул. — Пришла ко мне проситься к сестре. Сестру, вишь, больную навестить задумала. Ладно, говорю, поезжай, старая, пешим ходом. Не соскучусь! Выправил ей бумагу, она, дура, и потопала. Третий день уже шляется! А я тут и выяснил. Наблюдение вел… — Сиволоб с трудом ворочал языком. — Да… наблюдение, значит, вел… За коровой… — За кем? — Тимофей Петрович подумал, что ослышался. — За коровой… — При чем тут корова? Мы же про старуху… Лишку хватил, Кузьма Семеныч… — Э, нет… — помахал пальцем Сиволоб. — Я, брат, не сбился. Меня на свинье не объедешь… Да… Ты слушай! — Слушаю, слушаю, Кузьма Семеныч… — Ну вот, значит… Ушла старуха к сестре, я к ней во двор! В хлеву корова на замок заперта. Прислушиваюсь — не мычит. Ладно… Вечером опять к хлеву. Опять никакого мыка. Молчит корова. Дышать — дышит, а не мычит. А? Что скажешь? Да ты пей! Закусывай!.. Да… На другой день под вечер, обратно топаю к хлеву — не мычит корова! Смекаешь, в чем дело? — Плохо голова варит, — признался Тимофей Петрович. — Силен твой первач. Не пойму я про корову… — Э-э-э! — протянул укоризненно Сиволоб. — Мало в тебе стойкости, слабоват… Ну, как говорится, клин клином выбивают! Чем ушибся, тем и лечись! Налей еще по одной, у меня чего-то руки дрожат… Тимофей Петрович наполнил кружку старосты, забыв налить себе. Сиволоб выпил, понюхал корку хлеба и свесил голову на грудь. — Дальше-то что, насчет коровы? — громко спросил Тимофей Петрович. Сиволоб поднял на него осоловелые глаза. — Корова? Ах, ты про корову! Ну, слушай… Третьи сутки корова не доена, а не мычит… Не понял? Вот и видно, что ты не знаешь крестьянской жизни… Корова, ежели ее вовремя не подоить, на всю деревню мычать будет. А тут, понимаешь, трое суток не доена, а молчит! Как это понимать? А? Не знаешь? Не мычит та проклятая корова потому, что ее доят. Понимаешь, доят! Спрашивается: кто ее может доить, коли старухи нет дома, на хлеву замок висит? — И верно, кто же ее доит, Кузьма Семеныч? — удивился Тимофей Петрович. — Об том и речь!.. Мальчишка ее доит, боле некому! Он, верно, на сеновале спрятан. На сеновале, сам знаешь, имеется лаз в хлев, чтобы сено сбрасывать. Он ее и доит. Потому корова и молчит… Завтра мы с тобой на зорьке нагрянем и… со святыми упокой! Цап-царап — и нет старухи! Цап-царап — и нет щенка! Им — гестапа, нам — почет и уважение! — Ну, Семеныч, — развел руками гость, — большого ты ума человек! Государственного! Помяни мое слово, быть тебе начальником полиции! — Господа немцы благодарить будут. Во, смотри. — Он вытащил из кармана сложенный вчетверо лист бумаги и развернул его. — Тебе доверяю, тебе покажу. Видишь? — Что это? — Список. Поминальный! Хоть сейчас попу отдать можно, чтобы, значит, за упокой души… панихида… — Кого же ты записал? — А у кого, значит, в семье были коммунисты, комсомольцы, кто раскулачивал в тридцатом году… — Молодец, Семеныч, знаешь свое дело! А дальше что? — Известно что. Передам бумагу куда следует, и всех их голубчиков… — он пьяно захихикал. — Всех их… хи-хи… всех их… голубчиков… хи-хи… — голубчиков… в геста… в геста… ха-ха-ха! В гестапу! — Ну и хитер ты, Кузьма Семеныч. Давай выпьем, чтобы все сбылось в точности. — Кажись, я уже набрался… — голова Сиволоба опять свесилась на грудь. — Ко сну что-то клонит… — Он сунул список в карман. — Давай часок-другой поспим, да и за дело! Пойдем с тобой на облаву! — Пойдем, Семеныч, пойдем. А пока — по последней! Тимофей Петрович придвинул к старосте наполненную кружку. — За удачу! Ты это хорошо сказал: цап-царап — и нет старухи! Цап-царап — и нет щенка! И насчет панихиды… Ну, раз, два — взяли! Он чокнулся пустой кружкой, и Сиволоб, проливая самогон на бороду, выпил до дна. Он потянулся за капустой, и тут же с грохотом свалился на пол. — Что ты, Семеныч? — Тимофей Петрович склонился над Сиволобом. — Не ушибся ли, сохрани бог? Кузьма Семеныч, ты меня слышишь? Вместо ответа староста повернулся набок, и изба наполнилась могучим храпом. Несколько минут Тимофей Петрович прислушивался к этому храпу, потом подошел к двери и набросил крюк. Вернувшись к Сиволобу, он попытался разбудить его, но тот спал мертвым сном.

Тимофей Петрович задернул наглухо занавеску, подошел к старосте и перевернул его на живот. Сиволоб продолжал храпеть…
Староста проснулся от головной боли. Ему казалось, что голова его стиснута раскаленным обручем. Не открывая глаз, Сиволоб пытался припомнить, что было вчера. Он вспомнил, как пил с лесником, вспомнил, что они о чем-то сговаривались, но о чем? Он приоткрыл глаза. Солнце освещало следы вчерашней попойки, — обгрызанные корки хлеба, облепленные мухами куски сала, раздавленную на полу картошку. Сиволоба не удивило, что он уснул в одежде и сапогах, — с ним такое случалось не раз. Староста скосил глаза на ходики — был уже полдень. Он проспал почти сутки. С трудом поднявшись, Сиволоб подошел к столу, потянулся к бутыли и увидел, что она пуста. Стальной обруч на голове сжался с такой силой, что ему казалось, сейчас его голова расколется. Качаясь, он добрался до кровати и повалился навзничь. В забытьи он не услышал шума подъехавшей машины. Распахнув настежь дверь, в дом вошли трое: немецкий лейтенант, солдат с автоматом и человек в штатском. Лейтенант не сразу заметил лежащего на кровати Сиволоба. — Не староста, а свинья, — сказал он, глядя на раздавленную картошку и облепленное мухами сало. Сиволоб рванулся с кровати, но острые клещи впились в его затылок, и он застонал на всю хату. Лейтенант обернулся. — Каналья! — заорал он. — Встать, ленивая свинья! Забыв о боли, староста вскочил с кровати и вытянул руки по швам. — Занемог я, господин лейтенант, видно, простыл… — бормотал он испуганно. — Копф… кранк… зеер… — пытался припомнить он подходящие немецкие слова. — "Копф"! "Кранк"! — передразнил его фашист. — Скоро ты вылечишься от всех болезней! Оружие есть? Человек в штатском перевел вопрос лейтенанта. — Есть… с разрешения господина военного коменданта. Сейчас покажу… — Оружие — на стол! — приказал лейтенант. Трясущимися руками Сиволоб вытащил из заднего кармана маленький револьвер и осторожно положил его рядом с вилкой, на которой торчала картофелина. — Документы! Это приказание немного успокоило Сиволоба. Документы у него были в порядке. В них значилось, что за поджог колхозного зернохранилища он был в тысяча девятьсот тридцатом году осужден на десять лет тюремного заключения и отбыл наказание в апреле тысяча девятьсот сорокового года. В документе, выданном военным комендантом города Гладова, говорилось, что Сиволоб Кузьма Семенович назначается старостой деревни Зоричи и ему разрешено иметь огнестрельное оружие — револьвер системы браунинг № 00759801. Офицер и переводчик долго рассматривали его бумаги, потом лейтенант сказал что-то переводчику, и тот приказал Сиволобу: — Сядь в угол и не шевелись. В твоем доме будет произведен обыск. — Господи! — взвыл Сиволоб. — За что мне такое? Я же всей душой! С первого дня войны молю господа нашего Суса Христа даровать победу храброму немецкому воинству… — Что он вопит? — спросил офицер. — Позовите солдат, пусть делают обыск. Переводчик распахнул окно, крикнул что-то по-немецки, и в дом вошли два автоматчика. Начался обыск. Сиволоб сидел, стараясь понять, чем он прогневил немцев. — Ошибочка, видно, произошла, господин лейтенант, — заискивающе начал он. — Ошибочка?! — офицер подошел к Сиволобу и дернул его за бороду. — Борода настоящая! — сказал фашист. — Остается только выяснить, настоящий ли ты сам… Этот немец любил пошутить. Переводчик даже не потрудился перевести Сиволобу шутку господина лейтенанта. Солдаты обшарили все углы, перерыли сундук, сорвали иконы, слазали в подпол, на чердак, перетрясли постель, но ничего запретного не обнаружили. Сиволоб успокоился, — произошла какая-то ошибка, сейчас все выяснится. Ему даже показалось, что на лице лейтенанта мелькнула смущенная улыбка. Когда ефрейтор доложил, что при обыске ничего не найдено, Сиволоб осмелел настолько, что без разрешения поднялся с места. — Вот видите, — сказал он обиженно. — Зря, выходит, пугаете. Только я пуганый… Я коммунистами пуганный, теперь меня не запугать… Офицер вскинул удивленно брови и недобро усмехнулся: — Какой храбрый Иван! Сейчас мы проверим, пуганый ты или нет. Пусть снимет штаны! — Господин лейтенант приказывает тебе снять штаны! — сказал переводчик. — Что-о?! — Господин лейтенант приказывает тебе снять штаны! — То есть как это понимать? В каком смысле снять штаны? Вы, может, неверно перевели, господин переводчик… — А ну, пьяная харя! Я тебе покажу "неверно перевели". Сейчас же снимай штаны, пока их с тебя не содрали вместе с твоей грязной шкурой! — За что, матерь божья, за что такое! — Сиволоб пытался расстегнуть ремень, но пальцы его словно одеревенели. Лейтенант подал знак солдатам, и те с гоготом стянули со старосты штаны. — Смилуйтесь! — заверещал Сиволоб. — Я же верой и правдой! За что же меня! Я же в бога верую, крест ношу!.. Меня вся деревня знает! Вопли старосты привлекли народ к его дому. Кручина заглянул в окно и развел руками: — Староста наш… вот потеха! На коленях перед немцами! — Тебе все шутки! — прикрикнула тетя Саня. Она только что вернулась от сестры и шла к старосте доложить о своем возвращении. — Ей-богу, на коленях! Офицер распарывал ножом пояс на брюках старосты. Сиволоб все еще ничего не понимал, но чувствовал: сейчас произойдет что-то важное, отчего зависит его судьба, а может быть, и жизнь. Наконец немец отложил в сторону нож и осторожно вытянул из пояса сложенную в полоску бумажку. — Господи Сусе Христе! — Сиволоб почувствовал как внутри у него все холодеет. — Поднять бандита! — приказал офицер. Солдат пинком поднял старосту на ноги. — Ты все еще будешь запираться? — спросил лейтенант, осторожно разворачивая бумажку. — Нет за мной греха! Видит бог! — завизжал Сиволоб. Гитлеровец разгладил листок. — Читай! — приказал он переводчику. — "Удостоверение, — прочел переводчик. — Товарищ Орлов Г. В. (Сиволоб К.С.) оставлен во вражеском тылу для выполнения особых заданий. Подпольным организациям предлагается безоговорочно оказывать содействие товарищу Орлову Г. В. (Сиволобу К. С.). Секретарь Гладовского райкома КП(б)В Я. Спивак". Сиволоб слушал переводчика точно во сне. У него закружилась голова; чтобы не упасть, он ухватился за автомат стоявшего рядом ефрейтора. Сокрушительный удар свалил старосту с ног. — Он хотел вырвать у меня автомат! — крикнул ефрейтор. Лейтенант наставил на старосту пистолет: — Вставай, собака! Живо! Увидев нацеленный на него пистолет, Сиволоб истошно закричал: — Не мое это! Не мое! У меня там список в кармане. Все большевики переписаны. Богом прошу, проверьте! Лейтенант с брезгливым видом обшарил карманы штанов старосты. Списка не было. — Может быть, ты носишь чужие брюки? — ехидно сказал фашист. — Свои потерял в пьяном виде? Переводчик и солдаты засмеялись. — В машину его! В гестапо выяснят, чьи брюки носил красный комиссар Орлов. Сиволоба вывели на крыльцо. У дома все еще толпился народ. Ближе всех к крыльцу стояла Александра Ниловна. Увидев ее, староста ободрился: сейчас он докажет лейтенанту, что он никакой не Орлов! — Господин переводчик! — заговорил быстро Сиволоб. — Богом прошу: пусть господин лейтенант спросит стариков. Меня же здесь с мальчишества все знают. Они сразу скажут! Никакой я не Орлов, Сиволоб я! У моего отца здесь кругом земли были… Лейтенант выслушал переводчика и насмешливо кивнул: — Господин Орлов — почти покойник, а желание покойника надо уважать. Если ему угодно перед смертью говорить с этими стариками, я не возражаю. Но чтобы быстро, не больше одной минуты. — Православные! — начал проникновенно староста. — Вот господин офицер сомневается, точно ли я Кузьма Сиволоб. Говорит, будто я коммунист, по фамилии Орлов. Уж вы-то мепя сызмальства знаете, знаете, как я от коммунистов настрадался. Подтвердите господину офицеру, кто я есть на самом деле, что Сиволоб я, Кузьма… Все молча и враждебно смотрели на старосту. — Почему они молчат? — спросил лейтенант. — Скажите, что я приказываю отвечать, точно ли этот человек есть местный житель, по фамилии Сиволоб. Переводчик перевел вопрос лейтенанта. Александра Ниловна сделала шаг вперед, пристально взглянула Сиволобу в глаза и покачала головой: — Совсем даже и не похож на Кузьму! — Не Сиволоб это! — выкрикнул Кручина. И тогда все заговорили разом: — У Сиволоба глаз был серый, а у этого — желтый! — Кузьма хромой был, а этот во как шастает! — Не знаем мы его! Выслушав переводчика, фашист властно поднял руку. Говор толпы смолк. — Все! — сказал лейтенант. — Последнее желание покойника исполнено. Поехали!
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Сиволоба увезли, но люди не расходились: никто не понимал, за что его арестовали, и каждый высказывал свои соображения. Споры прекратила Александра Ниловна. — За что боролся — на то напоролся! — сказала она, поправляя платок. — Пошли, паны-граждане, до хаты! Народ стал расходиться по домам. Александра Ниловна зашла сначала в хлев, где Краснуха лениво пережевывала свою бесконечную жвачку. Взяв в углу грабли, она трижды постучала по доске, закрывавшей лаз на сеновал. Доска приподнялась, и в проеме показалась голова Владика. — Кто там кричал, тетя Саня? — Сиволоб визжал! Схватили кота поперек живота! Арестовали! В Гладов повезли… — Кто же его забрал, тетя Саня? — Немцы, кто же еще? Так, без штанов, в одних исподних, и увезли! — Как без штанов? — А вот так… — Так он же староста! Немцам служит… — Бешеные волки завсегда друг на друга бросаются! Заскрипела калитка, кто-то вошел во двор. Владик поспешно опустил крышку лаза. — Кого еще бог принес? — Тетя Саня вышла во двор и увидела деда Кручину. — Заходи, — приветила она его, — хороший гость и в лихие времена — радость! — Дело к тебе, Ниловна. Парнишку надо переправить в другое место. Без промедления. Сиволоб-то пронюхал, что ты его прячешь. В гестапо он все выложит… — Ах ты, боже ж мой! — Тетя Саня побледнела. — Да откуда же он, пес шелудивый, пронюхал? Кто тебе сказал? — Не серчай, Ниловна, не могу я все про все рассказывать. И время не теряй на расспросы! — Куда же его теперь? Не котенок ведь, за пазуху не спрячешь! Кручина вытащил из котомки заплатанную, застиранную рубашонку и потрепанные штаны. — Пусть переоденется в деревенское и спустится вечером огородами к реке, где лодки на берегу. Пусть спрячется под лодкой, ночью я за ним и приду. Он меня уже знает, не испугается. — Все поняла. Значит, придешь за ним? А я-то узнаю, куда вы его?.. — Узнаешь. Только сейчас поторапливайся! И еще есть до тебя порученье. Собирай и суши грибы немедля. Чтобы запасы были. И другим бабам скажи, чтоб сушили. И сухари сушите. Чтобы в каждой хате были сухари. Понимаешь, к чему дело идет? Кручина не успел еще уйти, как Александра Ниловна поднялась на сеновал. Она боялась испугать Владика и, бросив на сено одежду, сказала обычным спокойным голосом: — Говорят, немчура к нам на постой пожалует… Надо тебе, сынок, в другом месте пожить… недолго… Унесут их черти, опять вернешься… Переоденься-ка в эту одежду… — Куда вы меня, тетя Саня? — Стемнеет — пойдешь к реке. — А что мне там делать? — Спрячешься под лодку. Вечером за тобой дед придет, тот самый, который тебя ко мне привел. Что он скажет, то и делай…* * *
На другое утро Александра Ниловна взяла большую корзину и отправилась в лес. Она знала: кроме нее, сегодня по грибы отправятся много баб. Только бы немцы не запретили ходить в лес. В этот самый час Юрась тоже вышел из дому. После истории с политруком оставаться с отцом он не мог. Юрась решил бежать из дому. Забрать Владика и пробираться вместе к фронту. Сегодня же ночью они двинутся на восток. Перед уходом мальчик зашел в дом за сапогами. На пороге он столкнулся с отцом. — Перебирайся, сынок, в хату, — дружелюбно сказал Тимофей Петрович. — Владика мы теперь не прячем, чего тебе в шалаше одному скучать? — Я хочу жить в лесу… — Почему? Юрась молчал. — Приходи хоть ночевать под крышу… Теперь в лесу всякое может быть, особенно ночью… — Я хочу жить в шалаше, — упрямо повторил мальчик. — Я пришел за сапогами. — Зачем они тебе? — Кажется, дождь будет… Хочу пойти в Зоричи. Тимофей Петрович нахмурился. — Не время сейчас для прогулок. — Чего мне бояться? — сказал Юрась вызывающе. — Меня фашисты не тронут. А задержат, — скажу, чей я сын, меня и отпустят… — Оставайся дома! — жестко сказал Тимофей Петрович. — Ничего ты не знаешь, кого немцы тронут, кого не тронут… — Знаю. Меня не тронут, а Владика тронут. За то, что его отец дерется с фашистами! Тимофей Петрович вздохнул, точно ему не хватало воздуха. — Да, Владику будет плохо, если узнают, кто он… И тете Сане придется ответ держать… Потому и не ходи туда. Не надо привлекать внимание. Слышишь? И вообще я запрещаю тебе ходить в деревню! Круто повернувшись, Тимофей Петрович вышел из дому и решительным шагом направился по тропинке, что вела в Зоричи. Юрась посмотрел ему вслед. "Если бы мама знала! — мелькнула у него мысль. — Хорошо, что ее здесь нет!" Он взглянул на тропинку, по которой только что прошел отец. — Вот назло пойду! — сказал он вслух. — Пойду и все! Больше он меня не увидит! Юрась сорвал со стены свою фотографию и скомкал ее. Потом открыл ящик комода. Он опасался, что отец уничтожил его красный шелковый галстук, но галстук лежал на том самом месте, куда Юрась положил его вечером Первого мая. Он подошел к зеркалу, повязал галстук и долго стоял так. Потом спрятал галстук в карман, вышел из дому, запер дверь и, как всегда, положил ключ под ступеньку. Юрась прошел уже полпути, когда сообразил, что отец тоже отправился в Зоричи. "Наверно, пошел к Сиволобу", — подумал он. Встречаться с отцом Юрасю не хотелось, но откладывать разговор с Владиком он не мог. Оставалось одно: протянуть время, в надежде, что Тимофей Петрович долго в деревне не задержится. Юрась брел по лесу, упорно думая только об одном: увидеть Владика, уговорить его бежать на фронт. Хлеба на несколько дней он припас. Идти они будут ночами, днем прятаться в лесу. Только бы узнать, сколько километров до фронта. Погруженный в свои думы, Юрась не разбирал дороги. Но, услышав чьи-то голоса, он огляделся и понял, что бредет к Гиблому болоту. Жители окрестных деревень держались подальше от этих мест. Ягоды и грибы здесь не росли. Снова послышались голоса. Сделав еще несколько шагов, он разглядел сквозь листву кустов двух человек, сидящих под старой лохматой елью. Один из них поднялся, и мальчик узнал отца. Вслед за отцом поднялся и второй человек. Это был Кручина. Негромко говоря о чем-то, они направились прямо к Гиблому болоту. Юрась удивился: "Зачем они идут туда?" Но раздумывать над этим было некогда. Раз отец не в Зоричах, надо спешить, пока его там нет. Юрась вышел снова на тропинку и зашагал в деревню. Над его головой ветер гнал на восток кучевые облака. В темно-синем небе они казались высвеченными изнутри, бег их был плавным и быстрым. Юрась проводил облака завистливым взглядом: через несколько часов они появятся над землей, где нет фашистов… Деревенская улица была безлюдна. Юрась облегченно вздохнул: он не сомневался, что отца ненавидит вся деревня, и его, сына предателя, тоже все должны ненавидеть. Он подошел к дому сторожихи и еще издали увидел на дверях замок. Юрась растерялся. Конечно, тетя Саня могла уйти по делам, но куда же девался Владик? Значит, тетя Саня заперла его в доме? А может быть, он спрятан на сеновале? Ну да, скорее всего — на сеновале, там безопаснее! По шаткой скрипучей лесенке мальчик быстро влез наверх. Владика на сеновале не было. Сквозь щели в дощатых стенах пробивались горячие лучи солнца, образуя прозрачную завесу из мерцающих пылинок. "Он услышал скрип лестницы и забился в сено", — подумал Юрась. — Владька! — позвал он тихо. — Это я! Вылазь! Никто не отозвался. По-прежнему искрились в солнечной завесе пылинки. "Значит, он заперт в доме, — решил мальчик. — Подожду тетю Саню в садочке, там меня никто не увидит". Но едва он начал спускаться, как во двор вошли два полицая. Впереди шел Гармаш, за ним — приземистый широкоплечий парень, которого Юрась никогда прежде не встречал. У обоих на рукавах были полицейские повязки. Юрась застыл на месте. — Вот он, еврейский щенок! — закричал Гармаш. — На сеновале прячешься! А ну, сигай швидче на землю! Ходь до мене — почеломкаемся! Юрась понял: его приняли за Владика. Теперь, если полицаи узнают, что ошиблись, они взломают дверь, найдут Владика и тогда — конец! И Владику и тете Сане! — Кому сказано, швидче! — гаркнул Гармаш. — Тимашук! Дуй на сеновал, пощекоти сено вилами, нет ли там еще кого! Тяжело ступая, чувствуя, что у него кружится голова, Юрась спустился с лестницы. — Кто такой? Откуда взялся? Документы? — Гармаш выпаливал вопросы один за другим, не давая мальчику прийти в себя, сообразить, что делать. — Проходил мимо… зашел вот… — лепетал Юрась, думая только об одном: как бы увести полицаев со двора, чтобы тетя Саня успела вернуться и спрятать Владика в другом месте. — Почему прячешься? Как звать? Фамилие? Документы? — Я не прятался… Хозяйки дома нет… вот я и залез на сеновал… думал, дождь начнется… думал, пережду на сеновале… — Рассказывай сказки! Куда ушла хозяйка? Когда придет? Документы! — Документов у меня нет… А хозяйку я не видел… не знаю, куда она ушла… На лесенке показался Тимашук. — Никого нема! — крикнул он. — Тогда слазь, сиди здесь и жди старуху. А как придет, хватай и волоки в мою хату. К вечеру будет подвода — свезем обоих в гестапу… — Слухаю! Будет в аккурате! — Тимашук уселся на крыльцо, зажал коленями карабин и стал свертывать цигарку. — Иди вперед! — Гармаш ткнул кулаком Юрася с такой силой, что тот едва устоял на ногах. Они вышли на улицу и прошли уже несколько домов, когда им повстречался Кручина. При виде арестованного Юрася, которого Гармаш продолжал подталкивать, старый почтальон хотел броситься к нему, но Юрась прижал к губам палец. Кручина растерялся, он ничего не мог понять: почему арестовали сына Тимофея Петровича, почему Юрась хочет, чтобы он молчал. — За что хлопца схватили, пан Гармаш? — начал старик. — Не твое дело, старая кочерыжка! — огрызнулся Гармаш. — Отойди в сторону, не отсвечивай! — Я отойду, мне что! — забормотал Кручина, не отставая ни на шаг от полицая. — Не пойму только, за что пану Марченко такая обида… Он — целиком и полностью, и вот тебе, благодарность. — Чего ты бормочешь, лысый мухомор? При чем тут пан Марченко? — За что, интересуюсь, сынка его схватили? Хлопец тихий, послушный… — Ты про кого? — Гармаш с ходу остановился. — Стой! — крикнул он Юрасю, который продолжал шагать по пыльной дороге. — Ты про кого, старый леший? — Что же ты, не знаешь, кого цапаешь? Это же Юраська, сын пана лесника. — Не морочь мне голову, кривая осина! Зачем сыну Марченки на чужом сеновале прятаться! Это еврейский мальчишка! О нем Сиволоб на допросе показал… — Да мне ли не знать Юраську, его здесь все знают… Смущенный словами Кручины, Гармаш бросил пристальный взгляд на мальчика. "На еврея не похож, — подумал он. — А только это ничего не значит". — Говори фамилие! — приказал снова Гармаш. Юрась молчал. "Чего он молчит? Должно быть, перепугался", — подумал Кручина. — Да ты не бойся, скажи пану полицаю, кто ты есть, тебя и отпустят, — уговаривал он Юрася. — Батька твой верой и правдой служит немцам, ему от них полное доверие, потому как заслужил… доказал на деле… Каждое слово Кручины било Юрася наповал: "Да, его освободят. Освободят, потому что он сын изменника!" — Ты скажи, что ты есть Марченко, — говорил Кручина. — Подучиваешь! — набросился на старика Гармаш. — Был бы Марченко, сразу сказал бы! Со двора на улицу, держась за руки, выбежали девочка и мальчик. При виде полицая они повернулись и бросились обратно. — Стой! — закричал им вслед Гармаш. — Стой, кому говорю! Перепуганные ребята остановились. — А ну, ходь сюда! Не спуская с полицая испуганных глаз, ребята подошли. — Мальчишку этого знаете? — спросил Гармаш. — Знаю… — прошептала девочка. — А ты знаешь? — Знаю… Это Марченко Юрась. Мы на одной парте сидим… — А я про что говорил! — обрадовался Кручина. Гармаш обозлился: "Дьявол забери! Не того арестовал!" Он вспомнил про замок на дверях. "Конечно, тот мальчишка спрятан в доме, замок повешен для отвода глаз. Ну, да ладно, еще ничего не потеряно: во дворе караулит Тимашук, сбежать невозможно". — Чего ж ты молчал, балда, только время зря на тебя потерял! — попрекнул он Юрася. — Ступай до батьки да скажи ему мой привет. Давно с ним не виделись! И Гармаш быстро зашагал к дому Александры Ниловны.ДИВЕРСИЯ
Юрась вернулся в шалаш подавленным. Кручина расхваливал отца за то, что тот стал изменником, а он, Юрась, молчал, молчал, потому что все это правда. Юрась видел, как Гармаш направился к дому тети Сани. Конечно, Владика уже схватили, арестуют и тетю Саню. Теперь никто их не спасет! Больше у него здесь нет друзей. Сегодня же, как стемнеет, он уйдет. Может быть, ему повезет и он встретит в лесу партизан.* * *
Первая звезда застала Юрася в пути. Он привык к лесу, темнота его не пугала, но он не представлял, как трудно идти в лесу ночью. Казалось, вся земля состоит из невидимых пней, кочек и непроходимых колючих зарослей и цепкой травы. Чтобы не заблудиться, Юрась частенько поглядывал на небо: Большая Медведица должна все время оставаться слева. Он был в пути уже несколько часов, когда набежавшие вдруг тучи плотно затянули небо. Юрась остановился, боясь сбиться с дороги. Нужно подождать, когда ветер разгонит тучи. Он опустился на землю, прислонился к дереву и сразу почувствовал, как устал. Казалось, он не сможет сделать больше ни одного шага. Это напугало его: он пробыл в пути часа два-три, что же будет дальше?! Конечно, днем идти гораздо легче, но днем можно нарваться на немцев. Все-таки придется идти ночью. Тишину леса нарушил отдаленный шум. Он быстро приближался, нарастал с каждой секундой, потом стал удаляться и вскоре стих. "Ветер прошел по листьям, — решил Юрась. — Будет гроза". Он опять взглянул на небо. Ни одна звезда не светила сквозь толщу туч. Юрась остановился: идти дальше или поискать пристанище для ночлега? Вдруг ночную тишину вспорол пулеметный треск. Юрась боялся поверить своему счастью: неужели партизаны?! Но треск приближался с такой быстротой, что он тут же догадался: это мотоцикл. Значит, где-то близко шоссе. Юрась приободрился: шоссе тянется с запада на восток. Надо идти по лесу, не теряя из виду шоссе. Вот и все! Тогда он не собьется с пути. С трудом продираясь сквозь заросли, цепляясь заплечным мешком за сучья, Юрась двинулся напрямик к шоссе. Вскоре он оказался у придорожного кювета. Подтянув заплечный мешок, не теряя из виду ленту шоссе, Юрась двинулся на восток. Тревожны были его мысли. Еще утром все казалось так просто. Он будет идти с девяти вечера до пяти утра. Значит, за ночь он сможет пройти километров тридцать. Через десять-пятнадцать дней он окажется у своих. Теперь он понял, что ночью в лесу не идешь, а пробираешься. Больше двух-трех километров в час не пройти. Но все равно надо шагать и шагать на восток, он ни за что не вернется к отцу! Идти по обочине шоссе было легче. Юрась ускорил шаг, но вдруг споткнулся и упал. Поднявшись, он сделал шаг вперед и снова споткнулся, — по траве тянулась толстая проволока. Неподалеку лежал вывороченный взрывом телеграфный столб. Шум машины заставил мальчика броситься плашмя в траву. Через узкие прорези затемненных фар пробивались два синих лучика. Юрась не успел рассмотреть, что это за машина, так быстро она исчезла. Шум ее еще долго отдавался в чаще леса. "Машины слышны издалека, в случае чего, успею спрятаться", — подумал Юрась и вышел на шоссе. В просветы туч выкатилась луна, осветив все неживым голубоватым светом. В этом неверном свете мальчик увидел на повороте шоссе столб с фанерной стрелой. На стреле четкими черными буквами было написано по-немецки: "Nach Moskau!" Юрась пнул столб ногой — столб не шелохнулся. Стрела была прибита высоко, Юрась не мог до нее дотянуться. В бессильной ярости он стоял перед столбом, не зная, как сбить проклятую надпись. Он вспомнил о проводе, бросился обратно и без труда нашел поваленный телеграфный столб. Провод был длинный, толстый, он тянулся за мальчиком, громко шелестя в траве. Юрась накинул провод на указатель, дернул, фанера хрустнула и отвалилась. Он наступил на стрелу сапогом, все еще сжимая в руке провод. Вдали послышался знакомый шум. Юрась нырнул в кювет. Машина пронеслась мимо. Он вылез из кювета и только теперь заметил, что держит провод. Вдруг ему пришла в голову мысль, от которой самому стало страшно. Дрожащими руками он укрепил конец провода на столбе указателя, около которого валялась сломанная стрела с надписью "Nach Moskau!" Потом протянул провод на другую сторону шоссе и, на высоте своей груди, обмотал его вокруг толстого ствола березы. Юрась понимал, что надо уходить — и уходить как можно скорее. Но он не мог заставить себя уйти: он должен знать, что будет дальше. Он залез в придорожные кусты, снял заплечный мешок и стал ждать… Вдали послышался треск мотоцикла. Юрась почувствовал, как его охватила противная дрожь. Однажды он уже испытал это, когда впервые увидел фашистские танки. Мальчик закрыл глаза: "Сейчас, сейчас…" Мотоцикл мчался на предельной скорости, наполняя все вокруг оглушительным треском. Юрась заставил себя открыть глаза и успел заметить, как вылетел и распластался на асфальте фашист. Мотоцикл свалился на обочину шоссе и содрогался, словно живое существо.
Не разбирая пути, спотыкаясь, ударяясь о деревья, Юрась бросился в глубь леса.
* * *
Диверсия на шоссе вызвала в Гладове переполох. Военный комендант города фон Зуппе в третий раз перечитывал донесение о гибели офицера-мотоциклиста и терялся в догадках. Диверсия была дерзкая, но кто ее совершил? Партизаны? Почему же они не забрали оружие у погибшего, оставили при убитом важные военные документы? Значит, не партизаны? Тогда кто же? Впрочем, чтобы перекрыть проводом шоссе, совсем не нужно много людей. Это может устроить и одиночка. Черт возьми! Шайку преступников-диверсантов обнаружить легче, чем диверсанта-одиночку. Но это нужно сделать! И это будет сделано!
Комендант в четвертый раз перечел переводбезграмотного донесения, полученного рано утром от полицая из деревни Гридичи. "Докладаю, что на шоссе, в трех километрах от Гридичей, обнаружено мною разбитый исправный мотоцикл и при нем мертвый труп, а также проволока, протянутая поперек дороги. Оружие в количестве пистолета и автомата, а также документы и одежа на немецком мертвяке сохранилась в годной сохранности. Главное, докладаю, на месте происшествия успело быть зловредное население, которое нахально оживилось и ведет преступные разговоры: что это только начало, что в лесах затаилась тысяча партизан и немцам, извиняйте, ходить по нашей земле будет очень даже горячо… Полицай Нестор Богомолец". Фон Зуппе медленно прошелся по кабинету. Гибель мотоциклиста его не беспокоила. Но мысль о том, что русские рады этой наглой диверсии, приводила его в ярость. Преступники должны быть найдены — и найдены немедленно! Сегодня же! Он придумает для них такую казнь, что все эти злорадствующие мужики зарекутся даже в мыслях поднимать руку на солдат фюрера!.. Через час фон Зуппе выехал на место происшествия. Вместе с ним в легковую машину уселись начальник гестапо лейтенант Брауде и переводчик. Впереди катил грузовик, в нем ехали врач, санитар, три гестаповца и ефрейтор с большой черной овчаркой на поводке. Перед выездом фон Зуппе вспомнил о Марченко: "Лесник может заметить то, чего не заметим мы". И он приказал немедленно доставить Марченко к месту происшествия. Тимофей Петрович уже знал о событии на шоссе. "Началось! — подумал он. — Кто же они, эти люди, вставшие на борьбу с немцами? Я ничего не знаю о них. Я должен знать…" Тимофей Петрович прибыл на шоссе одновременно с немцами. Пока врач осматривал труп, комендант через переводчика хмуро говорил леснику: — Всякий преступник оставляет следы. Ты должен увидеть эти следы. Ты есть лесник, ты обязан видеть следы в лесу. Осмотри все кругом! Собака будет искать тоже!.. Овчарка никак не могла взять следа. Она металась по шоссе, обнюхивая то мертвого фашиста, то сбитую стрелу указателя, бросалась в кювет и снова возвращалась на дорогу. — Ну, скоро вы там? — крикнул Зуппе. — Разрешите доложить, господин лейтенант, — оправдывался ефрейтор, — мешает запах бензина. К тому же на рассвете прошел дождь… — Марченко, приступай к осмотру! — приказал Зуппе. — Надеюсь, ты умнее собаки! От зоркого взгляда Тимофея Петровича не укрылась примятая трава на обочине. Он обвел взглядом придорожный кустарник и заметил сломанные ветки. "Там они сидели в засаде, — решил Тимофей Петрович. — Собака в конце концов обнаружит такой явный след". Тимофей Петрович перешел на другую сторону шоссе и увидел плотно притоптанную траву. Здесь рано утром толпились колхозники из Гридичей. Обнюхав еще раз мотоцикл, овчарка рванулась через шоссе, потянув за собой тощего ефрейтора прямо туда, где стоял Тимофей Петрович. Низко опустив голову, собака уверенно побежала в глубь леса, вслед за ней устремились гестаповцы. — Наконец-то! — облегченно вздохнул фон Зуппе. — Уверен, что преступники будут найдены. — Он бросил недовольный взгляд на Марченко. — Нет, все-таки немецкая собака умнее русского мужика. — Собака-то, может, и умнее… — протянул Тимофей Петрович. Прошло не более получаса, когда фон Зуппе услыхал гулкий лай, и вскоре послышалась немецкая речь. Из леса вышли гестаповцы и ефрейтор с собакой. — Болото… — доложил ефрейтор. — Собака привела к болоту… И никакого следа! — Что за собака! — выругался гестаповец Брауде. — Курица это, а не собака. Топчется на одном месте! Санитары положили труп в полуторку. Вслед за ними в кузов взобрались гестаповцы. Последней легко, точно ее подбросили, прыгнула черная овчарка. — А ты дойдешь пешком, — сказал фон Зуппе леснику. — Отсюда недалеко… Поехали! Оставшись один, Тимофей Петрович вернулся к придорожным кустам. Он снова и снова задавал себе тот же вопрос: кто эти смельчаки, начавшие борьбу с оккупантами? У них даже не было оружия, — ведь из этих кустов застрелить мотоциклиста проще простого! Да, конечно, у них не было оружия… Тимофей Петрович раздвинул кусты… и отпрянул назад. "Этого не может быть, мне померещилось…" — пробормотал он, снова раздвигая кусты. На смятой траве лежал такой знакомый ему синий заплечный мешок. "Может, просто похож", — уговаривал он себя. Он поспешно развязал веревку: в мешке хлеб, лук, огурцы, соль в тряпице и жестяная кружка. "Кружка! У Юрася была точно такая же! Ну и что из этого? Таких кружек сотни! Тысячи!" Тимофей Петрович все еще старался убедить себя, что мешок чужой. Он вспомнил, как в прошлом году собирал Юрася в Артек. Тогда Тимофей Петрович вывел химическим карандашом на клапане мешка две буквы: "Ю. М.". Сейчас на этом месте темнело большое фиолетовое пятно. Буквы от сырости расплылись, но все же их можно было разглядеть. "Как же попал мешок к диверсанту? Значит, Юрась связан с ним?" Домой Тимофей Петрович не шел, а бежал. Он знал, что в доме Юрася нет, и сразу направился к шалашу. Сейчас станет ясно, он узнает, как попал мешок его сына к диверсанту. — Юрась! — крикнул он издалека. — Юрасик, где ты? Никто не ответил ему. Тимофей Петрович подбежал к шалашу. — Сынок, ты здесь? Вместо Юрася он увидел на смятой подушке записку. Предчувствуя недоброе, Тимофей Петрович схватил записку, буквы запрыгали перед его глазами. "Ухожу от тебя, — прочел он. — Больше не увидимся. Ю." Тимофей Петрович судорожно сжал записку в кулаке и, спотыкаясь, точно слепой, пошел к дому… "Не сберег, не сберег я тебя, сынок мой родной!.."
* * *
Юрась шел не останавливаясь до рассвета. Он держался дальше от шоссе, боясь погони. Ему казалось, что за ночь он ушел далеко и опасность миновала. Мальчик не знал, что при первом же известии о диверсии комендант Гладова, под страхом расстрела, приказал старостам и полицаям окрестных деревень задерживать всех неизвестных им людей и немедленно доставлять для допроса в гладовское гестапо. Ночь выдалась туманная, сырая, Юрась продрог. Когда первый теплый луч коснулся верхушек деревьев, он остановился. Дальше он не мог идти. Отяжелевшие ноги гудели от усталости, глаза слипались; Юрась опустился на еще влажную от росы траву, прислонился к дереву и мгновенно уснул. …Ему приснился удивительный сон. Пришли гости. Много-много гостей. Их встречала мама и всем говорила: "Поздравьте меня, наш Юрась совсем разучился говорить по-немецки". Гости смеялись, а Юрась не мог понять, говорит ли мама серьезно или шутит. Потом прилетел самолет, из него вышли папа и дядя Иван. Они привезли орлиные крылья. Дядя Иван приложил крылья к спине Юрася, и он почувствовал, что может летать. Он взмахнул крыльями и поднялся в небо. А гости что-то кричали ему вслед, но он не слышал, что они кричат, потому что налетел ветер и понес его куда-то. Юрасю было и страшно и радостно. Сквозь густые облака он увидел огромный кедр. На вершине сидела крошечная белочка и лущила шишки. Юрасю захотелось посмотреть на белку ближе, он стал снижаться большими плавными кругами и наконец опустился на соседнюю сосну. Белка посмотрела на него, сморщила нос и громко чихнула. Юрась рассмеялся, но тут же спохватился: вдруг белка обидится. И он вежливо спросил: "Скажите, белка, в какой стороне мой дом?" Теперь рассмеялась белка. Давясь от смеха, она проскрипела противным голосом Сиволоба: "Ты что, ослеп?! Я не белка, я — кукушка! Я знаю, сколько лет тебе жить. Слушай! — И она закуковала: — Ку-ку… ку-ку… ку-ку…" …Юрась открыл глаза. Светило яркое солнце, он лежал под деревом, и где-то совсем близко старалась кукушка: "Ку-ку… ку-ку… ку-ку…" Он вскочил и огляделся. Тихо покачивались вершины деревьев, щебетали птицы, стрекотали неутомимые кузнечики. Впервые со вчерашнего утра Юрасю захотелось есть. Он оглянулся, ища свой мешок, и вдруг вспомнил, что оставил его в кустарнике. Как только Юрась понял, что у него нет ни крошки хлеба, голод навалился на него с такой силой, что у него закружилась голова. Ему стало страшно: куда он забрел? Как выбраться из незнакомого леса? Что с ним будет, если он проплутает в лесу пять-шесть, а может быть, и десять дней? Ведь он умрет от голода, и никто даже не узнает, что он умер. Теперь он мог думать только о еде. Стоял конец июля, в лесу иногда попадались кусты малины, смородины, заросли орешника. Но с каждым часом ему хотелось есть все больше и больше. Скоро к голоду прибавилась жажда. На всем пути Юрасю не встретилось ни ручейка, ни озера. Он брел по лесу, надеясь выйти на какую-нибудь тропинку, зная, что лесная тропа рано или поздно приведет его к людям. Тогда он досыта поест, разживется хлебом и снова пойдет на восток, к фронту. Тропинку он заметил у малинника. Ягоды были обобраны, кусты поломаны. Кто-то недавно здесь побывал. Значит, деревня недалеко. Юрась торопливо зашагал по тропинке. Солнце уже пошло к закату, когда тропинка вдруг вильнула в сторону и Юрась увидел вдали на пригорке большое селенье. Он ускорил шаг и вскоре оказался на околице деревни. Из окна ближайшей хаты высунулась чья-то косматая голова и сразу же исчезла. "Зайду в этот дом. — Юрась в нерешительности остановился у плетня. — Надо узнать, нет ли в деревне немцев…" Но прежде чем он решился войти в хату, звякнула щеколда калитки, и перед Юрасем вырос широкоплечий сутулый мужик. — Куда бредешь? — спросил он, щуря на Юрася водянистые глаза. — В Минск… родственники там у меня… — В Минск? А чего же ты в другую сторону идешь? — Я заблудился… Сейчас я вам объясню, товарищ… — Я тебе покажу! Товарищ! — Лицо косматого мужика перекосилось от злобы. — В гестапе узнаешь, где теперь твои "товарищи"! Схватив Юрася за ворот, мужик втолкнул его во двор…У НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ
Весть об аресте Юрася принес Кручина. — Грета велела передать… В гестапо наш Юрась… В Гридичах его схватили. Фамилию свою не назвал, другую придумал. Сказал, что в Минск шел, родных искать. Одно плохо — нашли у него пионерский галстук в кармане. Надо же! Взял с собой красный галстук, несмышленыш! — Кручина горестно развел руками. Тимофей Петрович сидел пришибленный, боясь поверить словам старика. — Как же?.. Как же так?… — твердил он растерянно. — Ты не путаешь? Кручина обиделся: — Неужели Грета будет зря такое говорить?.. Тимофея Петровича охватило отчаяние. Как спасти мальчика? Ехать в Гладов и заявить, что Юрась его сын? Но разве это поможет. Наоборот! Немцы начнут допытываться, почему Юрась назвал себя чужим именем, почему ушел от отца. Что делать? Как вырвать Юрася из рук врагов?! — Положение трудное, — сокрушенно покачал головой Кручина. — Немцы и полицаи знают, что вы живете вдвоем. А как теперь получается? Был хлопец, и не стало его! Куда, спросят, делся?.. Удрученный несчастьем, Тимофей Петрович до сих пор не подумал, что арест Юрася, даже если обман не откроется, ставит его под удар. — Может, заявить Гармашу, что утоп хлопец, — предложил нерешительно Кручина. — Дескать, так и так, — несчастный случай. Купался и утоп. Тимофей Петрович ожег старика таким взглядом, что тот заерзал и виновато забормотал: — Да я это так… От слова худа не бывает… Может, и обойдется. Немцы тебя знают, доверие оказывают… скажешь, что мальчишка малость не в себе… То, чего не понимал Кручина, Тимофею Петровичу было ясно. Юрась убежал из дому, потому что не хотел больше жить рядом с отцом-предателем. Но кто же тот человек, которому он отдал свой мешок? Скрип телеги и громкие голоса прервали несвязные мысли Тимофея Петровича. — Кто это? — встревожился Кручина. — Сиди, я посмотрю, — Тимофей Петрович вышел из дому. У крыльца остановилась телега, в ней сидели два вооруженных карабинами полицая. Тимофей Петрович знал обоих, они служили в гладовской полиции. Поигрывая карабинами, полицаи переглянулись, и один из них, с лицом плоским и круглым, точно блин, лениво приказал: — Сидай в телегу, поехали! — Куда? — голос Тимофея Петровича звучал спокойно, но, как всегда, в момент опасности, мысль работала быстро и четко: "Выяснили, кто такой Юрась. Теперь все кончено! Это провал! Арест!" — Куда поехали? — снова спросил он. — Ясно куда, — усмехнулся плосколицый полицай. — К нашему начальнику. Хочет с тобой побалакать, поговорить душевно!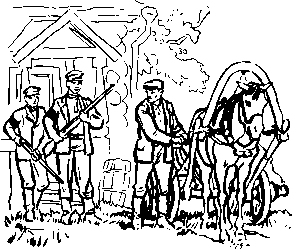
Второй полицай уперся в Тимофея Петровича злобным неподвижным взглядом. — Садись, не задерживай! — прикрикнул он. — Приказано доставить до обеда. Тимофей Петрович медлил. Положение безвыходное. Остается слабая надежда — сбежать по дороге. Пристрелить их и сбежать. — Долго еще ждать? А ну, враз! — Плосколицый наставил на лесника карабин. Тимофей Петрович подошел к телеге. — Садись на передок, — сказал второй полицай. — Будешь править. Не барин на извозчиках разъезжать! — Верно! — поддержал плосколицый. — Садись спе-реду, а мы за твоей спиной присмотрим. Тимофей Петрович понял: бежать не удастся… В дороге полицаи забавлялись, стреляя на лету в ворон. Пугаясь выстрелов, лошадь неслась вскачь. Не прошло и часа, как телега остановилась у полицейского управления. Сжатый с двух сторон полицаями, Марченко вошел в кабинет начальника полиции Дашкевича. До войны Дашкевич был директором ресторана в Минске. Когда немцы заняли столицу Белоруссии, Дашкевич явился в гестапо и вручил фашистам список известных ему коммунистов. В награду его назначили начальником полиции в Гладове. — Привезли, пан начальник, — доложил плосколицый полицай. — Прикажете обыскать? — Идите, — сказал Дашкевич. — Остальное без вас… Полицаи ушли. — Садись. — сказал мрачно Дашкевич и громко рыгнул. — Изжога замучила! Тимофей Петрович сел. — Потому что блюда на маргарине, — пояснил Дашкевич. — Мы к маргарину не привыкли. Маргарин только продукт портит… Тимофей Петрович хмуро молчал, стараясь понять, какую игру ведет с ним предатель. — Имею вопрос, — сказал Дашкевич и побарабанил пальцами по столу. — Как настроение? Как думаешь дальше харчиться? "Издевается, подлец! — подумал Тимофей Петрович. — Хочет позабавиться моим страхом". И сказал как можно спокойнее: — Настроение хорошее, господин начальник. А насчет харчей — сами знаете: маргарин! Эрзац! — Правильно, эрзац! — оживился Дашкевич. — Теперь, уважаемый, кругом эрзац. Не только продукты, даже люди эрзацные стали, — сказал он, останавливая тяжелый взгляд на леснике. — Ты его своим считаешь, а он — большевистский агент. Вроде, понимаешь, рака. Поймаешь его — он черный, бросил в кипяток — красным обернется. Правильно я говорю? "Издеваешься, шкура!" — Тимофей Петрович нащупал в кармане револьвер. — Что же ты молчишь, уважаемый? И выражение личности у тебя такое… словно тебе в компот перцу насыпали… Тебе радоваться надо, а ты смотришь, как судак отварной… — Чего мне радоваться? — спросил Тимофей Петрович, не понимая, почему Дашкевич тянет, не приступает к допросу. — А того радоваться, что немецкие власти тебе доверие оказывают, как, значит, доказавшему… Начальник гестапо поручил мне сказать — доволен он тобой. За то, что политрука задержал. И насчет старосты Сиволоба… Правильно ты сообщал, что он подозрительный. Лейтенант Брауде так мне и сказал: "Преступно, что мы не прислушивались к сообщениям Марченко, а то бы мы раньше разоблачили большевистского комиссара Орлова". Понимаешь? — Понимаю, — неуверенно протянул Тимофей Петрович. Он все еще считал, что Дашкевич ведет с ним какую-то подлую игру. — И что же, признался Сиволоб, что он красный? — Поначалу ерепенился, извивался, как угорь на сковороде. Только ведь господа немцы шутить не любят. Такой шашлык из него сделали! — А он-то признался? — Не успел. После строгого допроса отдал богу душу. И господин комендант приказал мне передать, что с сегодняшнего дня тебя назначает… — Дашкевич поднялся с кресла, — назначает старостой деревни Зоричи. Власти уверены, что ты быстро наведешь порядок и выловишь преступных сообщников Сиволоба… Только теперь Тимофей Петрович понял, что на этот раз опасность миновала. Он тоже встал и громко, торжественно, как присягу, произнес: — Клянусь всем, что мне дорого, буду беспощадно уничтожать всех сообщников Сиволоба! — Молодец! Твои слова я передам лейтенанту Брауде. — За это спасибо! Врагов у нас еще много. Я слышал, и в Гридичах какого-то комиссара арестовали… Дашкевич рассмеялся. — Комиссара! Мальчишку! Но. видать, получил полное отравление организма у красных. На допросе вел себя нахально! В кармане у него пионерский галстук нашли. Признался, что пионер. — А куда же он шел? — Пробирался из-под Бреста. Говорит, в Минск, к родне. А в Минске проверили — никаких там родных у него и в помине нету. Комендант распорядился его в концлагерь: дескать, он там скоро ноги протянет! — Дашкевич взглянул на часы и закончил скороговоркой: — Ну, заступай в новую должность и помни: главное сейчас — убрать урожай. Пусть работают от зари до зари. Пусть работают! И бабы, и старики, и дети! О саботажниках сообщай мне. Я из них разом бифштекс с кровью сооружу! — Я свой долг выполню, господин начальник, не сомневайтесь. Вот только просьба у меня к вам… — Говори. — Старосте надо жить в деревне, чтобы всех видеть, за всеми следить. А я в лесу живу, на отшибе… — Переезжай в хату Сиволоба! — Не в этом дело, господин начальник. Сын у меня… подросток… — Знаем. Нам о тебе все известно. Жена в отъезде, у матери в Хабаровске. Сыну — тринадцать лет. Состоял в пионерах… — Это точно. Состоял. Чтобы все видели, какой я сознательный… для отвода глаз, значит… — Ладно, не оправдывайся. Никто тебя не винит. Говори, чего просишь. — Колхозники в Зоричах… крестьяне, то есть… По злобе на все готовы. На любое злодейство… За себя-то я не боюсь. А вот сын… Покоя мне не будет. Убьют они его за то, что я староста, от немцев поставленный. — Чего ж ты просишь? — Разрешите отвезти его в Берловичи. Там у меня родственники дальние. Оставлю им мальчонку и буду спокоен. В Берловичах обо мне ничего не знают… — Ну что ж, если для пользы дела… Поезжай, отвези… — Большое вам спасибо! — Но чтобы через два дня был обратно! У нас есть сведения — в районе появились красные бандиты. Сам знаешь, что на шоссе случилось. Следи в оба! В случае чего — хватай и вези ко мне. У меня для них меню готово! Сыты будут!
В ЛАГЕРЕ
"Лагерь"! С этим словом у Юрася было связано столько воспоминаний! Много раз проводил он лето в пионерских лагерях, а в прошлом году был даже в Артеке. Долго вспоминал Юрась новых друзей. Вспоминал, как на закате огромное солнце лениво, словно нехотя, опускается в море. Юрасю казалось, что, когда там, на горизонте, огненный шар погружается в воду, все море сразу становится теплым и тихим. Потом оставалась только узенькая рубиновая полоска, которая внезапно, точно ее дернул за невидимую нить морской царь, тоже исчезла в воде, и тогда к небу взлетали веселые искры пионерских костров. Счастливое, мирное лето! Оно было так недавно, но Юрасю кажется, что и костры, и песни, и закаты — все это приснилось ему…В концентрационном лагере было более тысячи пленных. Загнанные за колючую проволоку, многие из них жили под открытым небом. Пленные ходили по лагерю голодные, грязные, на рваных их гимнастерках не было знаков различия. Задубелые от крови повязки лучше всяких слов говорили о том, как советские бойцы попали в неволю. — Спать будешь рядом со мной, в бараке, — сказал Юрасю пленный, заросший рыжей щетиной. Голос у него был глухой и сиплый, из-под густых нависших бровей пристально смотрели запавшие серые глаза. — А насчет довольствия — на сегодня все съедено. Может, завтра повезет. — Я не хочу есть, — сказал Юрась… — Угораздило тебя попасть сюда! — с какой-то укоризной сказал солдат. — Сколько тебе годов-то? — Четырнадцатый. — Во, видали? — ни к кому не обращаясь, просипел солдат. — За что, спрашиваю, в этот рай попал? Батька в армии? У Юрася задрожали губы. Он не плакал, когда его бил на допросе фашистский офицер, не плакал, когда за ним захлопнулись ворота лагеря. Но сейчас он не мог сдержать слез, потому что плакал не от боли, не от страха. Плакал, потому что стыдился сказать правду о своем отце. Пленный по-своему понял слезы мальчика и погладил его по плечу. — Не робей! — заговорил он успокаивающе. — Ничего фашист тебе не сделает. Подержит и выпустит. На кой ты ему сдался! — Я не боюсь, — сказал зло Юрась. — Я убегу отсюда! Тусклый взгляд солдата оживился: — Вот это разговор! Не может того быть, чтобы мы здесь сгнили на радость гадам. Гляди в оба, зри в три! Правильно говорю? Юрась кивнул головой. — А коли так, держись за Егора Кротова. — Кто это? — Во непонятливый! Конечно, я! Второго Егора Кротова не отыщешь на всем глобусе! Всю ночь Юрась пролежал с открытыми глазами. Слева от него тяжело дышал Егор Кротов, справа — беспокойно ворочался пленный, со светлой густой бородой. Про него Кротов сказал Юрасю: — Учитель. Душевный человек… Вой лагерной сирены поднял пленных в пять утра. Один за другим сползали они с неструганых дощатых нар и поспешно выходили во двор. Вышел и Юрась. — Где здесь умыться? — спросил он Кротова. — Эка чего захотел! — сказал без улыбки солдат. — Нет для нас у немца воды… — Но без воды человек не может жить. Нам учительница говорила. Без пищи можно долго, а без воды нельзя… — Пить фашист дает понемногу. Потому как лошадь без воды не может, а мы здесь за лошадей работаем. — За лошадей? — Ну да. Тебя-то. пожалуй, не возьмут. Потому как ты не коренник, не пристяжной, а так, стригунок, жеребенок вроде… Юрась решил, что Кротов шутит. — А когда здесь кормят? — спросил он. — Кормежку, сынок, надо еще спроворить. — Как это — спроворить? Егор Кротов тяжело вздохнул: — Эх, парень, парень! Завязли мы с тобой, что пчелы в дегте. Ну вот, кажись, и завтрак. Теперь не зевай! Сквозь колючую проволоку заграждения Юрась увидел, что по дороге идут несколько женщин и два старика. Все они несли узелки или небольшие лубяные корзинки. Завидев их, пленные бросились к проволоке. Кротов, схватив Юрася за руку, побежал тоже. Мальчик не понимал, почему все бегут, но чувствовал, что нужно поспеть куда-то раньше других. И он бежал изо всех сил. Они оказались у самой проволоки. Отсюда были хорошо видны идущие по дороге люди. Вот они свернули с большака и пошли по тропке прямо к лагерю. А на дороге, освещенной утренним солнцем, показались новые люди. — Зачем мы сюда прибежали? — спросил Юрась. — Видишь — народ идет? Это наш завтрак, обед, ужин, перекур и прочий разносол! Фашисту от этого кое-что обламывается. Сейчас увидишь… Первым к заграждению подошел босой старик в треухе. Едва он поставил на землю корзину, как перед ним вырос часовой. Немец опрокинул корзину, и на траву высыпались яблоки, помидоры, морковка и что-то завернутое в тряпицу. Часовой развязал тряпицу, там оказался кусок сала. Ничего не говоря, немец сунул его в карман и отошел в сторону. — Во, пес! — сказал Кротов. — Опять забрал сало! Старик безропотно сложил все в корзину и подошел вплотную к колючей проволоке. Юрасю показалось, что где-то он его уже видел. — Здравствуйте, родные, — сказал старик в треухе. Его дребезжащий голос тоже был знаком Юрасю. — Нет ли среди вас Стрижака? Иваном зовут. Пленные зашумели: — Стрижака ищут! Не слыхали, есть в лагере Иван Стрижак? Стрижака в лагере не оказалось. — Жив-здоров твой Иван, — участливо сказал Кротов. — Врагов бьет на фронте! — Дай боже! Вестей, слышь, от него нет. Только и было, что одно письмецо-треугольничек… Старик стал раздавать через проволоку свои приношения. Юрасю достались репа, морковка, сухарь, яблоко. — Вот тебе и завтрак! — говорил Кротов. — Не даст нам народ погибнуть. Смотри, что делается! У лагеря тем временем собралась толпа женщин. Они пришли из окрестных деревень. Каждая что-нибудь несла. Какая-то уже немолодая колхозница просунула через проволоку бутылку молока и приговаривала: — Пейте, пейте на здоровье, сыночки. От всей деревни нашей будет вам отдача. А скажите, родные, не встречали вы на войне сына моего, Семена Зубова? Вслед за ней все женщины наперебой начали расспрашивать: — Окунева Валентина не встречали? — Может, слыхали про моего мужа? Никита Репни-ков. Старшина он. — А мой внучек — лейтенант младший. Митенька. Арефьев фамилия. Нет у вас Арефьева Митеньки?.. Немецкий часовой что-то выкрикнул и потряс автоматом. — Приказывает расходиться, — перевел Юрась. — Ты откуда сообразил? — спросил Кротов. — Немецкий я знаю… Толпа у проволоки начала редеть. — Сейчас начнут коней снаряжать, — сказал Кротов. — Вот и Борисыч шагает. — К ним подошел учитель. — Тебе что досталось, Борисыч? — Бульба! — сказал учитель, показывая картошку. — Деликатес! А это яблоко для армянина… — Да, плох наш Азарян, — вздохнул Кротов. — В голову ранен. И у меня для него тоже припасено кое-что… Они пересекли пыльную площадь и оказались у длинного деревянного сарая. Здесь же стояли повозки с бочками. Конвойные с долговязым рыжеусым унтер-офицером курили сигареты и лениво переговаривались. — Эх, закурить ба! — мечтательно протянул Кротов и взялся за оглоблю. — Мы будем сзади подталкивать, — сказал учитель. — Пойдем, мальчик. Увидев Юрася, унтер оттолкнул его. — Убирайся, дохлый крысеныш! — Я вам не крысеныш! — сказал по-немецки Юрась. — О! Какой нахальный мальчишка! Ты говоришь по-немецки? Где тебя обучали? Юрась не хотел разговаривать с фашистом о матери, и он сказал: — В нашей школе все ребята говорят по-немецки. Унтер усмехнулся: — Это хорощо. Русские дети теперь подданные Великой Германии, и они должны знать немецкий язык. Он подал команду. Пленные потянули повозки к лагерным воротам. Позади, прихрамывая, шел долговязый унтер-офицер. У ворот часовой пересчитал пленных и раскрыл ворота. Юрась долго еще слышал скрип несмазанных колес и гортанные выкрики немцев.
Бомба, упавшая в центре города, попала в собор. Большой старинный собор превратился в груду развалин. Только высокая звонница, стоявшая отдельно, чудом уцелела. Это было тем более удивительно, что взрывная волна повредила почти все ближайшие дома. Окна многих из них были забиты фанерой или досками. Немцы спешили пристроить новый корпус: в тюрьме не хватало места для арестованных. Двадцать пленных разбирали развалины и свозили уцелевший кирпич к тюрьме. — Думаешь, у фашиста машин нет? — говорил Кротов. — Есть! Только не хочет немей возить на машине. Хочет, чтобы мы на себе тащили. Для чего, спрашивается? А для того, чтобы нам унижение сделать, чтобы мы сами себя за скот считали. — Это невозможно, дорогой Егор Егорыч, — заметил, тяжело дыша, учитель. — Не могут нас унизить варвары. Убить могут, а унизить — нет! Как сказал один русский поэт:
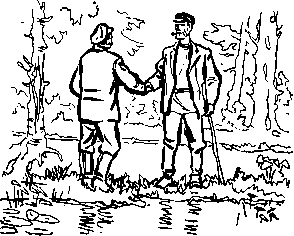
— Где же это случилось, дядя Егор? — Да в этом самом в Гладове и случилось. От нашего лагеря до того проклятого забора ходу, поди, часа два, не боле. Рядом живет, Каин!
СНОВА В НЕМЕЦКОЙ КОМЕНДАТУРЕ
Тимофей Петрович и Спивак встретились на другом берегу реки. Трудно было узнать секретаря райкома в исхудавшем седобородом человеке. Оттого, что Спивак так исхудал, он показался Тимофею Петровичу удивительно высоким, каким-то костлявым великаном. Только голос у него остался прежний — густой, раскатистый. Они обнялись и молча смотрели друг на друга. — Едва признал гебя, — заговорил Тимофей Петрович. — Бородищу какую отпустил… седую. — Пусть седая! Мне не жениться! — загремел Спивак. — А ты, брат, тоже не похорошел, весь изморщинился! — Не греми, Яков. Здесь тебе не бюро райкома, — Тимофей Петрович почувствовал радость оттого, что Спивак говорит по-прежнему громко. — Черт! Привычка! Не могу привыкнуть шептаться, понимаешь, не могу! — Надо приучаться… — Да я же у себя дома! Ты подумай, что происходит: воры, громилы ворвались в наш дом и горланят в три глотки. А мы, хозяева, должны шептаться! Трудно мне такое выносить! — Трудно… А мне ведь еще труднее, Яков. Сам понимаешь… — Знаю, Тима, все знаю. — Голос Спивака теперь был тих и печален. — Тяжела твоя ноша… — Ладно, не будем обо мне. А подумай, каково Юрасю?! Нет, не зря мы прожили жизнь, если вырастили таких орлят. Ведь что пришлось решать мальчику: "С кем ты, с отцом или с Родиной?" И мой сын, Юрась Марченко, отвечает: "Нет больше у меня отца!" Великое испытание выдержал Юрась! — Тимофей Петрович повел широкой ладонью по лицу и, опустив плечи, чуть слышно закончил: — Какой ценой выдержал! Боюсь даже думать! Жив ли мальчик? — Жив. И мы сделаем все, чтобы спасти его. Пока лагерь не перешел в ведение немецкой полиции, есть надежда устроить побег! — Если бы!.. — Надейся! А Юрась твой хороший урок нам дал. Стыд и позор нам с тобой! Олухи мы, Тима! — О чем ты? — Мы, брат, собственной силы не знаем! Ну скажи мне, чего мы таились от Юрася?! Чего боялись?! Думали, мальчишка, ребенок, не сумеет тайну сохранить, проболтается! — Закон конспирации, — неуверенно начал Тимофей Петрович. — Устарел этот закон! Придется нам повиниться перед мальчишкой. Тимофей Петрович молчал. — Ну, с этим все! — прервал молчание Спивак. — Переходим к следующему вопросу. Война затянется. Блицкрига у немцев не получилось и не могло получиться. Партия приказывает нам развернуть партизанскую войну. Нужно готовить базу для партизанского отряда. Что ты предпринял для этого? — Кое-что мы с Кручиной наметили. Километрах в двадцати есть подходящее место в лесной чащобе. Вокруг трясина, топь, и никаких подходов. Одни непуганые лоси вокруг бродят — живое, так сказать, продовольствие. Начнем там рыть землянки, строить склад… — Будь осторожен. У немцев не должно быть никаких подозрений против тебя… Перехожу к очередному вопросу. Нам нужны опытные боевые командиры. Где их взять? Думал ты об этом? — Командиры дерутся на фронте… — А пленные — в гладовском концлагере? Там есть боевые командиры, в числе их такой, как Азарян. — Азарян? Кто он? — Кадровый офицер. Опытный артиллерист. Знает саперное дело. Для партизанского отряда такой человек дороже золота. Мы разрабатываем план его побега. Но как вызволить остальных? — А если напасть на конвой? Их же гоняют в город на работы. — Нет у нас пока что сил для нападения. Надо искать другой путь. — Думал я об одном плане, — сказал неуверенно Тимофей Петрович. — Не знаю, выйдет ли… Очень уж он нахальный… — Ну-ка, выкладывай! — Хочу попробовать вырвать пленных с помощью самих немцев. Но сначала нужно иметь в лагере верного, смелого человека. — Есть такой. Мы с ним связаны. В лагере он известен под именем Егора Кротова. Не знаю, настоящая ли это фамилия. Ему можно довериться полностью. Но скажи, что ты затеял. — Скажу. Только сначала все сам продумаю. Как ты говоришь, "до мельчайших мелочей". — Хорошо, делай, как считаешь лучше. Когда мы теперь увидимся? — Встретимся послезавтра, здесь же. — Есть. А теперь попрощаемся и разойдемся разными дорогами. Я не знаю тебя, ты не знаешь меня. И верь: Юрася мы спасем!Военный комендант города Гладова капитан фон Зуппе не удивился появлению Тимофея Петровича. Лесник уже бывал у него. В кабинете военного коменданта, как всегда, торчал переводчик. — Какое сообщение хочет сделать староста? — спросил комендант, не предлагая Тимофею Петровичу сесть. — Насчет урожая, господин комендант… — Ты имеешь мой приказ. Урожай должен быть убран. — Вот я и пришел, господин комендант… Потому как с бабами да ребятами урожая не уберешь. Старики больными сказываются. — Что ты хочешь от меня? — Вашего разрешения, господин комендант… — Какого разрешения! Я тебе приказываю! Убрать урожай! Армии фюрера нужен хлеб! — Так точно, господин комендант! Потому я и пришел к вам. Без мужиков в таком деле нельзя. С одними бабами хлеб не уберешь. Комендант обратился к переводчику: — Что он хочет? Чтоб я послал на поля свой гарнизон? Этого он хочет? Тимофей Петрович испуганно замотал головой: — Боже сохрани! Солдаты фюрера не могут оставить винтовки! А вдруг партизаны?! Я потому и тороплюсь с уборкой, что опасаюсь: вдруг бандиты поле подожгут! Сгорит урожай! На корню! Упоминание о партизанах и о поджоге встревожило Зуппе. — Предупреждаю: если сгорит хлеб, сгорит вся деревня и ты вместе с ней! — Я об этом и болею, — сказал Тимофей Петрович. — Урожай от партизан можно спасти. Только пусть господин комендант распорядится… — Да где я тебе возьму мужиков? — Мужики-то есть. Только в лагере они. Сами в плен сдались, добровольно. Не захотели с Германией воевать. Вот я и прошу: отпустите вы их по домам. Я за них поручительство дам. Головой отвечу. С ними я урожай под метелочку уберу! Просьба нового старосты насторожила фашиста. — Откуда ты знаешь, кто находится в лагере? Кто тебе сообщил? — Бабы мне сказали, господин комендант. Бабы да старики… — Что-о? Он, кажется, шутит со мной, свинья! — Зуппе вскочил с кресла. — Последний раз спрашиваю: кто тебе сообщил? — Как перед богом! — Тимофей Петрович перекрестился на портрет Гитлера. — Бабы и старики из деревни каждый день ходят к лагерю. Высматривают через проволоку, нет ли родных. И многие нашли. Кто мужа, кто сына, кто внука. Они мне все хорошо известны, вот я к вам, значит… с просьбой, чтобы хлеб не пропал. А осенью, как уборка кончится, их можно опять в лагерь отправить. Работать они у меня будут знаете как! Потом станут умываться! Комендант задумался: — Сколько человек тебе надо? — Человек двадцать в самый бы раз… — Достаточно и пятнадцати! — Данке зеер[3],— сказал Тимофей Петрович. — Слушай мои условия. Пленные передаются только матери, отцу или жене. Коммунисты, евреи и офицеры из лагеря не выпускаются. Мать, отец, жена должны иметь справку, что в их семьях никогда не было коммунистов и никто больше не находится в Красной Армии. Все справки подпишешь лично ты. За обман — расстрел. Понял? — Чего понятнее! От меня обмана не будет! Мне коммунисты в Зоричах не нужны. Они меня первого пристукнут! — Вижу, ты понимаешь, кто твои враги. Завтра принесешь мне список и все справки. Я сам их передам коменданту лагеря. Пленных забирай быстрее. — Лагерь скоро перейдет в ведение политической полиции, — пояснил переводчик. — Тогда над ним будет другой хозяин… — Мигом оформлю, господин комендант. Не сомневайтесь, хлеб уберем! Под метелочку!
НОВЫЙ СТАРОСТА
Вечером, когда Александра Ниловна собиралась ложиться спать, к ней заявился Тимофей Петрович. Он остановился на пороге, поздоровался и снял кепку. Не ответив на приветствие, хозяйка уставилась на нового старосту злыми, горящими глазами. Тимофей Петрович сказал с упреком: — Не по-русски, Ниловна, гостя на пороге держать. — Не по-русски? А присказку помнишь: "гостю гость — рознь, иного хоть брось!" — Эту помню и другую не забыл: "гость — не кость, за дверь не брось!" Так и стоять мне на пороге? Позволь хоть в кухню войти. — На что тебе мое позволенье? Мы теперь не хозяева в своем дому. Хозяева теперь полицаи да старосты… — Не сердись, а выслушай. Я к тебе по делу. — Тимофей Петрович сел на табуретку. — Дела твои с немцами, а не со мной… — Погоди, Ниловна. Скажу я тебе правду. Кляну себя, что пошел немцам служить. А только, сама понимаешь, назад мне пути нет… — Каяться пришел? Я не поп, грехов не отпускаю… — Знаю, словам моим веры нет. Словам не поверят, а доброе дело зачтется. Никогда не поздно доброе дело сделать… — Заблеял волк овцой! — Вот что, Ниловна! Задумал я вызволить пятнадцать пленных из лагеря… И нужна мне твоя помощь. Понимаешь? — Пока не пойму… — Обещал мне военный комендант отпустить на уборку хлеба пятнадцать пленных. Только надо, чтобы все эти пленные были здешние, из Зоричей. Теперь поняла? — Нет, не поняла. — Голос ее звучал по-прежнему неприязненно. — То ли ты дурнем стал, то ли мне голову морочишь: нету в лагере наших колхозников… — Это верно. А только лагерное начальство этого не знает. Фашисты пленных скопом, по головам считают, без фамилий, без имен. Этим и надо воспользоваться. Только без твоей помощи мне не обойтись… — В таком деле я готова. — Бледные щеки Александры Ниловны порозовели. — В три узла завяжусь, а помогу! — Тогда слушай. Отбери пятнадцать женщин, надежных, толковых, у которых мужья или сыны в армии. Пусть они идут в лагерь, к коменданту. Скажут, что пришли за своими мужиками. У коменданта к тому времени все нужные бумаги уже будут. Главное, чтобы женщины не подвели, чтобы не испугались. — Бабы не подведут, не бойся. А как же пленные? Откуда пленный-то узнает, кто есть его жена, как ее звать, фамилия какая? — Это уже моя забота, Ниловна. Ты делай свое дело, а я свое. Вот и будет ладно! Александра Ниловна напряженно смотрела на старосту. "К чему он это затеял? — думала она, глядя на исхудавшее, иссеченное морщинами лицо Тимофея Петровича. — Ведь, в случае чего, немцы ему голову оторвут!" — О нашем разговоре — молчок! — предупредил Тимофей Петрович. — Чтобы никому! Будешь с бабами говорить, обо мне — ни слова! Я своей головой рисковать не хочу. Она у меня одна! Глаза хозяйки зло вспыхнули. Она заговорила громко и быстро, боясь, чтобы он не перебил ее. — Я тебя насквозь вижу, двойная твоя душа! Знаю, какты ловчишь: и нашим и вашим! Победит Красная Армия — ты и начнешь про свои заслуги трезвонить: дескать, я из фашистского лагеря пятнадцать наших воинов спас! И свидетель есть — Александра Полякова. Нет, не о пленных твоя боль, за шкуру свою дрожишь! Чуешь, придет немцам конец, — заставит тебя народ ответ держать. Вот и крутишь! Насквозь тебя вижу! Одного не пойму. Сказать чего? — Говори! Столько уж наговорила… — Не то меня удивляет, что ты предателем стал… И не то, что не рассмотрела тебя вовремя советская власть. Не пойму, как у тебя, гада ползучего, сын такой хороший вырос! Вот чего не пойму… Александра Ниловна ждала, что староста обрушится на нее с руганью. И растерялась, когда в ответ на ее слова Тимофей Петрович счастливо улыбнулся: — Спасибо тебе, Ниловна, спасибо! Завтра зайду. Потолкуем подробнее, как себя вести бабам у коменданта. И он ушел, оставив сторожиху в полном недоумении: с каких это пор за обидные слова стали говорить спасибо?На другое утро, получив от Александры Ниловны список женщин, Тимофей Петрович составил пятнадцать маленьких записочек. Заполнив последнюю, он перечел их: "Некрашевич Иван Григорьевич. Жена: Некрашевич Анна Владимировна". "Гуц Сергей Ефремович. Мать: Гуц Анисья Петровна…" Пятнадцать таких бумажек, пятнадцать имен женских, пятнадцать мужских… Теперь предстояло самое трудное: как можно быстрее передать записки в лагерь, чтобы пленные успели выучить не только имена своих "жен" и "матерей", которых они никогда в жизни не видели, но и свои новые имена. Еще вчера Тимофею Петровичу казалось совсем не сложным переправить в лагерь маленькую бумажную трубочку. Ее можно было спрятать в краюхе хлеба и бросить через проволоку Егору Кротову. Но с сегодняшнего дня лагерное начальство неожиданно запретило заключенным подходить к заграждению. Часовые получили приказ стрелять в каждого, кто приблизится к проволоке. В первый же час гитлеровцы застрелили трех человек. Тимофей Петрович растерялся. Если пленные не будут знать своих новых имен, имен своих "жен" и "матерей", все провалится… В полдень, как было условлено, Тимофей Петрович и Спивак снова встретились на другом берегу. Лежа в высокой траве, секретарь райкома слушал рассказ Тимофея Петровича, попыхивая трубкой. — Рушится весь план, — докладывал Тимофей Петрович. — Комендант назначил выдачу пленных на субботу. Сегодня — среда. Если до субботы списки не попадут в лагерь, все пропало. Как я объясню коменданту, почему ни одна женщина не явилась за своим мужем или сыном? Секретарь райкома продолжал молча курить. — Чего ты молчишь, Яков? — Тимофея Петровича раздражало спокойствие Спивака, хотя он и знал, что тот напряженно думает, как найти выход из опасного положения. — Списки у тебя? — заговорил наконец Спивак. — У меня. — Покажи. Тимофей Петрович снял кепку, порылся в подкладке и вытащил бумажку, свернутую в узкую полоску. — Вот они. Спивак развернул бумажку, на траву упали пятнадцать маленьких записочек. Секретарь райкома пристально вглядывался в каждую записку, словно хотел запомнить на всю жизнь эти имена и фамилии. — Скажи, Тима, женщины понимают, какое важное дело им поручено? Понимают, на какой риск идут? — Александра Ниловна предупредила их: пронюхают немцы правду — смерти не миновать. — А они что? — Ничего. Только спросили, когда идти в лагерь. Спивак задумчиво скатал записки, вытащил из кармана пистолет и вложил в дуло бумажную трубочку. Потом, так же не спеша, сунул пистолет обратно и посмотрел на Тимофея Петровича большими светлыми глазами. — Войну мы выиграли, Тимофей, — сказал он вдруг. — Только фашисты пока еще не понимают этого. Они ведь как рассуждают? Раз берем советские города, захватываем пленных, вешаем, убиваем, жжем, — значит, русские вот-вот пардону запросят. А того не понимают, что победить героический народ невозможно. Приди сегодня в любую деревню и скажи: "Так и так, бабоньки, помогите вызволить бойцов из неволи. Но дело опасное, головой рискуете!" Как думаешь, откажутся они, испугаются? — Может, одна-две испугаются, остальные не дрогнут. — В том-то и дело, друг мой, Тимофей! Не дрогнут! Такой уж у нас народ! Один подвиг всем бросается в глаза. А когда перед тобой тысяча геройских поступков, — тут уж, брат мой, ты считаешь, что так и надо, ничего удивительного… Спивак говорил непривычно тихо, раздумчиво. По небу плыли высокие облака. — Вчера имел сведения об Юрасе. — Он повернулся к Тимофею Петровичу. — Мальчик здоров. — Ты его видел?! — Сразу поняв нелепость своего вопроса, Тимофей Петрович умолк. Во взгляде его была такая боль, что Спивак не выдержал и обнял старого друга. — Все будет хорошо… Пленных посылают работать в Гладов. Тебе, конечно, там показываться нельзя, сам понимаешь. Юрась вместе с Кротовым… — Ты о Кротове и в прошлый раз упоминал. — Ему дано задание организовать в лагере подпольную организацию, помочь устроить побег заключенных. И еще ему приказано беречь нашего Юрася, как самого себя! — Спасибо, — выговорил Тимофей Петрович так тихо, что Спивак скорее угадал, чем услышал это слово. — Теперь — главная задача: скорее переправить список в лагерь. — Как же это сделать? — Не знаю… Пока еще не знаю. Может быть, Грета придумает… Она нам не раз уже помогала… Ты вот что, до пятницы из Зоричей не отлучайся. А сейчас: ты — направо, я — налево. Я не знаю тебя, ты не видел меня. Прощай, друг!
ПРОДАВЕЦ ВИШЕН
В четверг рано утром заключенных погнали в Гладов. Шестеро пленных впряглись в телегу, остальные шли строем. Кротов и учитель шагали в последнем ряду. Между ними, с трудом передвигая ноги, шел Азарян. Окровавленная грязная повязка скрывала его лицо. За последние дни Азарян немного окреп. По тому, как учитель и Кротов разговаривали с Азаряном, Юрась понимал, что он пользуется их особым уважением. Азарян был единственным человеком, кому дядя Егор говорил "вы". Тяжело передвигая ноги, Кротов зорко поглядывал по сторонам, провожая взглядом прохожих. Вчера утром ему должны были передать через проволоку списки с "фамилиями" пленных и с именами их "жен". Неожиданный приказ коменданта лагеря сорвал все планы. Кротов не сомневался, — подпольщики попытаются связаться с ним другим способом. Скорее всего, это произойдет здесь, в городе, во время работы на площади. Но как? Ближе пятнадцати метров конвой к пленным никого не подпускает… В этот ранний час улицы были пустынны. Редкие прохожие при виде немцев спешили свернуть в сторону. Пленные подошли к развалинам собора и принялись за работу. Таская кирпичи, Кротов продолжал следить за каждым прохожим, перекидываясь изредка отрывистыми фразами с учителем и Азаряном. …Раскаленное солнце пекло сильнее и сильнее. Казалось, оно замерло на месте, не обещая конца этому изнуряющему дню. Кирпичная пыль разъедала глаза, забивалась в нос, скрипела на зубах. Все время хотелось пить, но воды для пленных не было. В полдень на площади появился босой старик. Он нёс корзину, прикрытую зеленой тряпицей. Юрась сразу узнал старика — он видел его у лагерного ограждения, только тогда старик был в треухе. И опять Юрась подумал, что он и до лагеря встречал этого человека, но где, когда?.. Старик остановился возле дома, опустил на скамью корзину, снял с нее холщовую тряпицу. Корзина была полна темно-красных вишен. Не спеша, он насыпал ягоды в жестяную кружку, положил рядом стопку нарезанной бумаги и стал ждать покупателей. Что-то приговаривая, он протягивал прохожим кружку с вишнями, но люди, не останавливаясь, проходили мимо. Из-за угла появился офицер-гестаповец под руку с высокой девушкой. Он что-то оживленно говорил ей, и девушка, закидывая назад голову, громко смеялась. — Стрелять таких девок надо! — сказал мрачно Кротов. — С кем гуляет! Юрась взглянул на девушку, и у него перехватило дыхание. С фашистским офицером шла Екатерина Васильевна. Катя шла, не обращая внимания на пленных. Она слушала, что говорил ей офицер, трясла кудряшками и хихикала. — Я хочу вам говорить один разговор, фрейлейн Катья… — Ах, не называйте меня так! — перебила его Катя. — Называйте меня Кэтхен. Я люблю немецкие имена. — Такой слова делает мне один большой удовольствий… — Вы прекрасно говорите по-русски. — Я учил этого языка цвай яр — два год. — Смотрите, пленные! — Катя округлила глаза. — Куда они везут кирпичи? — Для новый тюрьма. Кирпич есть старый, тюрьма есть новый! — сострил гестаповец, и Катя залилась смехом. — Фрейлейн Кэтхен во смехе есть очень красива, — сказал осклабившись гестаповец. — Я хочу иметь такой фотографий, когда вы смеяться. — Он отстегнул кнопку на футляре лейки. — Только не в этом платье! Оно мне не идет! Посмотрим лучше, как работают пленные. — Катя уселась на скамейку рядом с продавцом вишен. — Купи ягодок, барышня! — старик протянул ей кружку, полную ягод. — Не надо! — отмахнулась Катя, даже не взглянув на старика. — Что же вы не садитесь, господин лейтенант? По-моем), эти пленные не так уж плохо выглядят. Вы знаете, господин лейтенант, есть люди, которые распускают вредные слухи: будто русские пленные умирают от голода, будто немцы заставляют их делать непосильную работу, бьют, истязают… — Мы будем строго наказать за такой разговор. Это есть один большой ложь… — Это возмутительно, это надо опровергать. Я хочу вам предложить… — Я слюшай… — Пусть все видят, как добры немецкие офицеры. Дайте мне аппарат! Немец снял с себя лейку. — Просьба фрейлейн есть для меня приказ… — Дедушка, насыпь вишни в кулек. — Что вы придумали? — насторожился гестаповец. — Будет прекрасный снимок! Немецкий лейтенант великодушно угощает пленных вишнями. Вы напечатаете фотографии в газете, а смелые летчики сбросят ее в большевистском тылу. Чтобы русские не верили ложным слухам, не боялись сдаваться в плен… Разве я плохо придумала? — О, фрейлейн Кэтхен имеет политический голофа! Но германский офицер не может носить корзина… — Корзину? Вы собираетесь кормить вишнями всю эту ораву! — Она кивнула в сторону пленных. — Для снимка достаточно угостить одного. Я сниму вас крупным планом… — Я говорю нох айн маль — еще раз, фрейлейн Катья… Кэтхен имеет на плече умный голофка. Я слюшай вас… — Возьмите кулек с вишнями. Так. Теперь подойдите… подойдите… к кому бы вам подойти?.. — Я подойду вон к той мальчишка. Это есть душевно: немецкий офицер любит русских ребенок! — Что вы, что вы! Тогда же все увидят, что в немецких лагерях есть пленные дети! Лучше всего вам подойти вон к тому солдату, — Катя указала на Кротова. — У него грязное, но типичное русское лицо. Только не забудьте улыбнуться ему… — Что? — Улыбайтесь пленному, когда будете его угощать. У вас симпатичная улыбка. Увидев подходящего к пленным лейтенанта, начальник конвоя унтер-офицер Бегальке поспешил ему навстречу. — Будет небольшая комедия! — сказал ему гестаповец. — Вы примете в ней участие. — Что прикажете, господин унтер-штурмфюрер? — Станьте рядом с этой грязной свиньей, — гестаповец показал на Кротова, — и улыбайтесь, когда я буду давать ему эти чертовы ягоды!.. Кротов не слышал разговора Кати с фашистом, но почувствовал, что эта парочка появилась здесь неспроста. Чего им торчать на пыльной площади? Он по-настоящему встревожился, когда заметил, что гестаповец показывает на него унтер-офицеру. — Отойди отсюда! — бросил он Юрасю. — Подальше. Он взглянул на скамью, где сидел продавец вишен, и старик вдруг четырежды перекрестился на крест уцелевшей звонницы. Увидев это, Егор успокоился. Лейтенант и унтер подошли к нему. — Слюшай мой слова, — начал лейтенант, оглянувшись на Катю. — Немецкий официр есть добр. Я давай тебе этот вкусный ягод! Он протянул Егору пучок красных вишен, но пленный, точно не заметив этого, ухватился за кулек. — Очень хорошо! Снимаю! Готово! — крикнула Катя. Гестаповец выпустил из рук кулек, повернулся и, четко, точно на параде, отбивая шаг, вернулся к девушке. — Пора на работу, — сказала Катя. — Начальник приказал быть в полицейском управлении не позднее тринадцати часов. Держите вашу лейку. Надеюсь, я получу этот снимок. — Мне есть приятно делать вам приятно… Я буду провожать фрейлейн. Гестаповец взял Катю под руку… Когда они скрылись за углом, Кротов взглянул на продавца вишен. Старик накрыл корзину зеленой тряпицей и, ухмыляясь в бороду, пошел прочь. …Остаток дня Егор работал с таким рвением, что учитель не удержался и сказал: — Вы, кажется, забыли, на кого стараетесь?.. — Сегодня можно! — ответил Кротов. — Очень разуважил меня немецкий лейтенант. Я, брат, всегда плачу добром за добро. — И, счастливый, он сунул руку в карман, чтобы еще раз убедиться: кулек из-под вишен цел, значит, список имен в его распоряжении.* * *
В субботу пятнадцать колхозниц стояли у лагеря, ожидая коменданта. Они хорошо помнили наставления Александры Ниловны: — Главное, бабоньки, чтобы радость на лице была. Как услышишь, что "твоего" вызывают, — бросайся к нему! Хочешь — плачь, хочешь — смейся! И, главное, по имени называй! А накануне, вечером, пятнадцать военнопленных заучивали свои имена и имена своих "жен" и "матерей". Лежа на нарах, пленный твердил: — Иван Макарыч Свирид… Иван Макарыч Свирид… Жена Марья Васильевна Свирид… Марья Васильевна… На соседних нарах чей-то молодой голос шептал: — Поляков Петр Гаврилыч… Мамаша — Александра Ниловна… Александра Ниловна… Петр Гаврилыч Поляков… Переходя от одного к другому, Кротов спрашивал: — Фамилия? Имя? Отчество? Как зовут жену? Как зовут мать? В субботу утром всем вызванным к коменданту Егор дал последнее наставление. — Пусть никто самовольно из деревни не уходит. Не для того вас освобождают. Живите пока в Зоричах, помогайте бабам вести хозяйство и ждите приказа.КТО ОН?
Все прошло благополучно, никто не сбился. Выпущенные из лагеря военнопленные жили теперь в Зоричах, работали в поле и ждали приказа об уходе в лес. — А почему вас не освободили, дядя Егор? — спросил Юрась. — Значит, не пришло время. Наше дело партийное: где прикажут, там и находимся. Да и с тобой расставаться жаль, — усмехнулся Кротов, и было непонятно, говорит он всерьез или шутит. — Давай уж вместе отсюда… — Но когда же? Когда? — Скоро. Потерпи. Хочу тебя спросить: почему батька твой вести о себе не дает? Ни разу не пришел к проволоке. И на площади Соборной не показывается… Плечи Юрася вздрогнули. — Нет у меня отца, — с трудом выговорил он. — То есть как это нет? Ты же сам говорил, что отец у тебя в Зоричах. Юрась не выдержал. Глотая слезы, он рассказал все. — Горькое горе при живом отце сиротою быть. Не знаю я, чем тебя и утешить. Скажу только еще раз: держись за Егора Кротова. Весь этот день Кротов не отходил от Юрася. Но мальчик словно не замечал своего нового друга, думая о чем-то своем. Горестное выражение его лица не давало Кротову покоя. — Есть у меня задумка, не знаю, говорить ли тебе… — Как хотите… — вяло сказал Юрась. — Дело рисковое, брат, — Кротов пытался возбудить в мальчике любопытство. — Могут и прикладом огреть. — Что я должен сделать? — оживился Юрась. — Упасть. — Как — упасть? — Обыкновенно. В общем, так… Кусты по дороге в Гладов помнишь? — Где проселочная дорога пересекает шоссе? — Точно. От тебя требуется немало… Повторяю, можно получить прикладом… Нет, не буду я тебя в такое дело ввязывать… — Вы мне не доверяете, да? Думаете, если у меня отец… — Замолчи! И чтобы я не слышал такое! Завтра пойдешь в колонне последним. Будешь толкать телегу вместе с Азаряном. Позади вас будет только один конвойный. Шагов за пять до перекрестка — падай! Ясно, к тебе подбежит конвойный. Задержи его любым способом. Всего на одну минуту! Скажи, что нога подвернулась или голова закружилась, короче, говори что хочешь, лишь бы отвлечь немца… — А что потом? Я упаду, а потом, что будет? Кротов укоризненно хмыкнул: — Когда надо, узнаешь. А сейчас скажу одно: если пройдет все гладко, значит, мы и в плену — солдаты, и в плену сражаемся! — Я сделаю все, что нужно, — сказал Юрась и добавил. — А насчет приклада мне батя… мне один человек говорил, что от отбивки коса только острее становится… Как всегда, телегу сзади подталкивали два заключенных. На этот раз вместо Кротова рядом с Юрасем был Азарян. Юрась не сразу признал его, — он впервые увидел Азаряна без повязки. Лишь теперь можно было понять, как измучен и истощен этот человек. Даже свалявшаяся под повязкой черная борода не могла скрыть его страшной худобы. Только кровоточащая рана на лбу да большие черные глаза делали живым это землистосерое лицо. — У вас кровь над бровями, — испуганно сказал Юрась, толкая телегу. — Надо перевязать. — Не надо! — Азарян скосил на мальчика блестящий круглый глаз. — Прошу тебя, молчи. Не обращай внимания… Юрась умолк. Он слышал за собой цоканье сапог конвойного. От усталости, голода и непосильной работы пленные по дороге в Гладов часто валились с ног. Первым к упавшему подбегал долговязый конвойный Краус. Он ударял пленного прикладом, выкрикивая одну и ту же фразу: — Не лежи на земле, получишь насморк! Юрась оглянулся, — за его спиной шел Краус. До перекрестка дорог, где начинались кусты, оставалось немного. Вот уже показались две трепещущих осинки, а вот и деревянный настил через ров. Отсюда до проселочной дороги всего несколько метров. Через минуту надо падать! Юрась попытался найти взглядом Кротова. Но тот шел далеко впереди. Вот и проселочная дорога. По ней тихо движется грузовик. Должно быть, водитель ждет, когда пройдут пленные, чтобы выехать на шоссе. Пора! Юрась упал прямо под ноги Крауса. От неожиданности фашист дернулся в сторону, но, тут же поняв, что случилось, стукнул мальчика прикладом по спине. Удар был несильным, немца отвлекло непредвиденное событие: с проселочной дороги на шоссе въехал грузовик и остановился, заслонив от конвойного остальных пленных. — Буду стрелять! — заорал Краус, бросаясь к водителю, но, вспомнив о мальчишке, кинулся обратно. — Вставай! — И он снова ударил его прикладом. Юрась медленно поднялся с земли. — Голова закружилась, — сказал он по-немецки. По-прежнему на шоссе тарахтел грузовик. Краус, тряся автоматом, заорал водителю грузовика: — Прочь с дороги! Машина рванулась с места, пересекла шоссе и покатила дальше. Лица шофера Юрась не успел разглядеть. Он увидел только надвинутую на лоб кепку, из-под которой выбивался буйный рыжий чуб. — Догоняй телегу! — приказал Краус. — Бегом! Ну! Юрась затрусил по дороге. За спиной он слышал тяжелое дыхание немца. Настигнув телегу, мальчик облегченно вздохнул. — Молодец… — услышал он негромкий голос рядом с собой. — Это не был голос Азаряна. Вместо него телегу толкал учитель. — Молодец… — Учитель понял немой вопрос в глазах Юрася и прошептал: — Азарян бежал…* * *
Груженные кирпичом носилки казались в этот день Юрасю легкими! Еще бы! Азарян бежал! Мальчик смоттрел на конвойных, а в голове было одно: Азарян бежал! Он видел купающихся в пыли воробьев, но думал об одном: Азарян бежал! И это он, Юрась, помог ему! Больше всего мальчику хотелось поделиться своим радостным чувством с дядей Егором, но Кротов работал далеко, в паре с учителем. Наблюдая за ним, Юрась видел, что и дядя Егор сегодня не похож на себя. С лица его не сходила улыбка, он легко передвигался и время от времени покручивал отросшие в лагере усы. "Неужели он не подойдет ко мне?" — огорчался мальчик. В полдень, когда солнце жгло с особой яростью, перед Юрасем неожиданно оказался Кротов. Юрась с трудом узнал его. Глаза дяди Егора сверкали, кулаки были крепко сжаты, ходуном ходили желваки на обтянутых скулах. — Вот он, гад! Бандюга! — Кого вы, дядя Егор? — Вон он, крышу чью-то разоряет! На крыше одноэтажного домика с выбитыми окнами, видимо, брошенного хозяевами, Юрась увидел какого-то человека. Человек сдирал с крыши листы ржавого железа. — Кто это? — спросил Юрась. — Тот самый! Хозяин мой ласковый! Человек на крыше повернулся к ним лицом. — Это он! — приглушенно выкрикнул Юрась. — Он! Он! Ему удалось бежать! — Ты что, с ума спятил? Чего кричишь? Смотри, унтер идет! — они начали поспешно складывать кирпич в штабеля. — Обознались вы, дядя Егор, — сказал Юрась. — Перепутали… — Чего это я перепутал? — Это не тот, который вас выдал… — Да мне ли его не знать? — Обознались! Я его сразу узнал! Это политрук! Которого мой отец выдал. Это он! Спасся! — Никак ты бредишь? — Он это, он! Я даже шрам его разглядел на подбородке! Кротов выронил из рук кирпич. Сейчас он вспомнил: на подбородке того парня тоже был шрам! — Будешь ты работать, свинья ленивая? Унтер схватил выпавший из рук пленного кирпич и ткнул им в грудь Кротова. — Не тычь, скотина, — сказал Егор. — Холера чумная! Пленные в ужасе замерли. — Что он сказал? — фашист взглянул на Юрася. — Переведи! — Он говорит, что у него закружилась голова, и поэтому он выронил кирпич. — Держи! — унтер ткнул еще раз кирпичом Кротова и отошел к дереву, под которым укрывался от зноя. Пленные облегченно вздохнули. Работая, Юрась теперь не отрывал глаз от крыши. Его терзало сомнение: кто же этот человек? Предатель или герой, сбежавший из гестапо? Юрась взглянул на Кротова. Кротов укладывал кирпичи и что-то говорил учителю. Тот поглядывал то на крышу, то на Юрася. Пленные начали нагружать телегу. Неожиданно раздались крики и немецкая ругань: солдаты волокли из развалин заключенного; истощенный голодом и непосильной работой, он забился в какой-то закуток и заснул. Охранники нашли его и сейчас с криком тащили к своему начальнику. Услышав шум, человек со шрамом скатился с крыши и через минуту показался на площади. Его разбирало любопытство: кого бьют немцы? Теперь Юрась и Кротов могли хорошо рассмотреть его. — Политрук! — прошептал Юрась. — Предатель! — прохрипел Кротов. Груженную кирпичом телегу потащили к тюрьме. Путь туда и обратно занимал не меньше двух часов. Телегу тянули молча. Не было сил говорить. Но Кротов, превозмогая усталость, тяжело дыша, спросил: — Можешь ты ручаться, что этот гад на крыше — тот самый политрук, что был ночью у твоего батьки? — Точно, дядя Егор. Он! — И я тебе с полным ручательством говорю: это тот подлец, что предал меня фашистам… Когда они вернулись на площадь, на крыше уже никого не было. Но оба они — и Юрась и Кротов — все время следили, не появится ли снова человек со шрамом… Перед возвращением в лагерь унтер-офицер, как всегда, выстроил пленных для пересчета. Фашист знал, что измученные, голодные люди еле держатся на ногах. Чтобы продлить их мучения, он считал нарочно медленно, иногда сбивался со счета и начинал все сначала. Дойдя до шестнадцатого, он остановился, не торопясь набил трубку, раскурил ее и, прежде чем продолжать счет, сделал несколько затяжек. Стоявшие ближе к унтеру пленные жадно вдыхали сладкий медовый запах табака. Многие из них за одну затяжку готовы были бы отдать последний кусок хлеба. Гитлеровец знал, как страдают курящие пленные, и придумал для себя забаву. Пересчитывая заключенных, он пускал каждому в лицо струю дыма. Глядя, что многие открывают рот, чтобы вдохнуть в себя табачный дым, немцы ржали от удовольствия. Юрась стоял в шеренге последним. Кротов толкнул его локтем, и тогда мальчик увидел, что человек со шрамом появился снова. Он стоял у калитки дома и, ухмыляясь, смотрел, как фашист издевается над пленными…
Унтеру надоело забавляться, он сунул трубку в карман и, тыча каждого пленного кулаком в грудь, выкрикивал: — …Двадцать шесть! Двадцать семь! Двадцать восемь! Двадцать… — тут он внезапно умолк, точно кто-то сунул ему в глотку кляп Двадцать девятый — Юрась — оказался в шеренге последним. А утром он вывел из лагеря тридцать человек. Значит, кто-то сбежал?! Немец позеленел. Он ясно представил себе, что будет. Он пригонит пленных в лагерь, часовые у ворот пересчитают их и обнаружат, что пленных двадцать девять, а не тридцать. Тогда его, унтер-офицера Карла Бегальке, разжалуют в рядовые и отправят в штрафной батальон. Он снова начал пересчитывать пленных. Но нет, по-прежнему последний двадцать девятый — этот мальчишка. Фашист тупо уставился в землю: подымать тревогу или нет? Кто именно сбежал, ему было безразлично, в лагере не было никаких списков. Пленных пересчитывали, как баранов в стаде — по головам. Кротов чуть заметно нагнулся к Юрасю и прошептал: — Скажи усатому черту, что я хочу сделать важное заявление, переводи все точно. Слово в слово. — Господин унтер-офицер! — выкрикнул в гнетущей тишине Юрась. — Пленный Кротов хочет сделать важное заявление. Фашист встрепенулся: — Какой Кротов? Какое заявление? — У меня заявление, — сделал шаг вперед Кротов. — Известно ли господину унтер-офицеру, что сбежал один пленный? Юрась перевел слова Кротова. — Известно! И вы все за это ответите! — заорал унтер. — Каждый третий будет расстрелян! — А если я скажу, где беглец? Немец обрадовался: угроза расстрела сделала свое дело! — Если скажешь, куда скрылся пленный, и он будет обнаружен, никто из вас не пострадает. А тебе я дам три сигареты. — Переведи ему, — обратился к Юрасю Кротов. — Господин унтер-офицер, сбежал вон тот парень, что стоит сейчас напротив, у ворот, и скалит зубы! Немец стремительно обернулся. Человек со шрамом не слышал, что говорил Егор, но он испугался свирепого взгляда фашиста, устремленного на него. На всякий случай он юркнул в калитку. — Догнать! — заорал унтер и тут же понял, что пленный лжет. Человек был чисто одет, стоял на виду, не опасаясь немцев. Рот унтера перекосился, на висках набухли синие жилы. Он двинулся на Кротова. — Переведи быстрее! — просипел Егор. — Говори: "Господин унтер-офицер может не тревожиться. Беглого поймают, и в лагерь вернется ровно тридцать человек. Тридцать ушло, тридцать пришло! Порядок!" — Что хрюкает эта свинья? Пусть берет лопату и роет себе могилу! — Господин унтер-офицер! — голос Юрася срывался от волнения. — Он говорит, что сейчас солдаты приведут беглеца, и тогда в лагерь вернется тридцать человек. И у вас не будет никаких неприятностей! Тридцать ушло, тридцать пришло. Порядок! Бегальке понял. Ну конечно! Как он сам не догадался?! Важно пригнать в лагерь тридцать пленных. Лишь бы сошелся счет! Два охранника, не скупясь на пинки, притащили парня со шрамом. Ничего не говоря, немец с размаху саданул его кулаком по скуле. — Не худо! — пробормотал Кротов. — Это задаток. Полностью получишь от меня… — За что? — выкрикнул парень, хватаясь за скулу. — Подойди сюда! — крикнул унтер Юрасю. Юрась подошел. — Пусть скажет, кто ему помог бежать? Юрась перевел, но человек со шрамом трясся от страха, не понимая, чего от него хотят. — Молчишь?! — немец снова ударил его. — Повтори вопрос. И предупреди: если будет молчать, я вырву его поганый язык и скормлю собакам! Юрась повторил вопрос. — Ниоткуда я не бежал! — заскулил парень. — Меня господин комендант знает! Меня в гестапо знают, я сам — за новый порядок! Из всех этих слов немец уловил только знакомое слово "гестапо. — Что он бормочет про гестапо? — спросил гитлеровец. Юрась, не задумываясь, пояснил: — Боится попасть в гестапо! — Ага! Заговорил! Спрашивай, куда он хотел бежать, где хотел скрыться? — Да чего мне бежать? — хлюпая разбитым носом, заныл парень. — Я же не пленный, не партийный, не партизан! — Что он говорит про партизан? — Говорит, что в местном лесу есть партизаны… Унтер разинул рот. Оказывается, этот тип связан с партизанами! Вот повезло! Надо срочно сообщить начальству об аресте большевика, связанного с партиза; нами. И уж тогда командование отметит заслуги Карла Бегальке! Скорее всего, его произведут в фельдфебели! Лишь бы начальство не узнало про обман. — Становись! — приказал он парню. Обмякший от страха парень встал в строй рядом с Кротовым. Довольный немец расправил усы. В лагерь вернется тридцать пленных. Тридцать ушло, тридцать пришло. Порядок! Парень шагал рядом с Кротовым. Он не узнал в этом изможденном человеке путника, который несколько недель назад доверил ему свою жизнь. — Ты им объясни… — приставал он к Кротову. — Напутали они… Я жаловаться буду… Разве это порядок — хватать без разбору… Егор молча усмехался и только один раз сказал: — Это и есть новый порядок. Шагай веселей! Колонна подошла к лагерю. Часовые открыли ворота и приняли по счету пленных. Когда ворота захлопнулись, Кротов спросил предателя: — Тебя как звать-то? — Степан. Степан Щур… — Хорошее имя! Был Степан Разин — вольный казак. Еще был Степан Халтурин, за свободу голову сложил. Ты вот тоже живешь на свете, Степан Щур. — И неожиданно добавил: — Спать будешь в нашем бараке. Идем. Юрась пошел было за ними, но Кротов остановил его: — Нынче на твое место гостя дорогого уложим. Ты уж переночуй на свежем воздухе. Ничего не поделаешь, гостю завсегда надо уступать лучшее место.
Утром унтер-офицер Бегальке докладывал коменданту лагеря: — Господин капитан! В бараке номер один сегодня ночью повесился военнопленный. Какие будут распоряжения? Комендант пожал плечами: — Выкиньте на свалку!
Карл Бегальке был разъярен. Он не верил, что пленный повесился, хотя труп его болтался на поясе, перекинутом через балку у входа в барак. Нет, конечно, его прикончили сами русские. Но кто? Почему? Сегодня Бегальке также узнал, что в конце недели лагерь перейдет в ведение политической полиции. Это означало, что он, унтер-офицер Бегальке, снова окажется в танковой бригаде. Тем более, что рана его на ноге совсем зажила. Говорят, что у русских появились неплохие противотанковые пушки, от которых не спасает никакая броня. Было от чего прийти в дурное настроение. Сжимая короткую тяжелую дубинку, он шнырял по лагерю, выбирая очередную жертву. Кротов, Юрась и учитель сидели в это время у повозки с бочкой. Здесь можно было спокойно поговорить: часовые стоят далеко. Поодаль, радуясь короткому отдыху, сидели другие пленные. — Думают о нас на воле, думают, — говорил Кротов. — Долго мы здесь не задержимся… — Вот разобьем Гитлера, и приеду я, Егор Егорович, к вам в гости, — сказал учитель. — Будет нам о чем вспомнить… — Не гостем, а братом будешь, милый ты человек! Вот и Юраська ко мне приедет! Приедешь? — Если мама позволит… Где-то мы с мамой будем жить? — Отца, значит, не считаешь, вычеркнул из своей жизни? — спросил Кротов. Мальчик опустил голову. — Кажется, ты сделал поспешные выводы, — сказал учитель. Юрась поднял на учителя глаза. — Подлец-то признался нам, — сказал Кротов. — Верно, это он тогда приходил к твоему батьке… Политруком, упырь, прикинулся. — Зачем же он приходил? — В том-то и дело! Приходил твоего отца проверить. Нет, значит, твоему родителю полного доверия. Вот фашисты и подослали провокатора: если, мол, укроет политрука, — значит, с большевиками заодно. Во как дело-то может одернуться! — Но отец же не знал… Он думал, это настоящий политрук… И он его выдал… избил… — А вдруг знал? — спросил учитель. — Знал! По всему видать — знал! Вот и дал ему прикурить! Нет, Юраська, тут дело не так просто. Дай срок, все выясним. Не торопись от отца отрекаться! — Смотрите, унтер! — встревожился учитель. — И переводчик с ним. — Пойдем от греха, — сказал Егор. Но едва они поднялись, как услышали окрик переводчика: — Оставаться на месте! Они замерли: приказ сулил недоброе. Немцы приближались, и переводчик продолжал выкрикивать: — Оставаться на месте! Оставаться на месте! Унтер-офицер остановился перед Кротовым. Этот пленный был ему сейчас особенно ненавистен. Он наверняка причастен к смерти парня со шрамом. Из-за него Бегальке не получит чин фельдфебеля. Кротов выдержал взгляд унтера. В серых запавших глазах пленного не было ни страха, ни покорности. Это привело Бегальке в ярость. Он мог бы без всяких разговоров пристрелить пленного. Но нет! Прежде он сломит его, заставит делать все, что захочет. Фашист перевел взгляд на учителя. — Юде? [4] — спросил он свирепо. Ничего не ответив, учитель снял очки и старательно начал протирать их пальцами. — Молчишь! — размахнувшись, унтер ударил его кулаком в лицо. Учитель упал. — Не смейте! — рванулся Юрась, но Кротов с силой оттолкнул его в толпу пленных. Унтер вскинул голову. Он не понял, что крикнул мальчишка, но почувствовал в возгласе протест, неповиновение. Фашист обвел глазами пленных. Сейчас он покажет русским, что они бессловесные твари, что немецкий солдат может заставить их делать все, что захочет! — Подними! — крикнул фашист Кротову и пнул учителя сапогом в лицо. Кротов помог учителю подняться. Боясь упасть снова, учитель обнял Кротова за плечи. — Держись, Борисыч… — мягко сказал Кротов. — Обойдется… — Плюнь бородатому в морду! — приказал усмехаясь немец. Кротов почувствовал, как вздрогнул учитель. — Приказано тебе плюнуть в морду этому типу! — сказал переводчик. — Не обучены мы в людей плевать! — мрачно просипел Кротов. — Ну-ну! — угрожающе протянул фашист. — Я жду! — Говорит, что не умеет плевать в людей… Унтер злорадно ухмыльнулся: — Не огорчайся, научишься. Плюнь в него, и я дам тебе пачку сигарет. Вот она! Держи! Кротов мотнул головой: — Некурящий я… — Ах, так?.. — скривился фашист и обернулся к переводчику. — Скажи этому стаду свиней: кто плюнет бородатому в лицо, получит пачку сигарет. Ну! Пленные стояли, точно окаменев. "Неповиновение!" Бегальке взглянул в глаза Кротову и увидел такое, что поспешно расстегнул кобуру пистолета. — Выполняй приказ, или я застрелю тебя на месте! — синие вены на висках немца стали почти черными. — Егор Егорыч, он застрелит вас… — Учитель все еще обнимал Кротова за плечи. — Вы должны жить… — Долго мне ждать?!! — унтер сжимал в руке пистолет. — Даю минуту на выполнение приказа. Минуту — или вы оба будете мертвы! — Тебе дается минута! — сообщил переводчик. — Плюнь, или будете застрелены оба! Кротов шумно вздохнул: — Придется плюнуть… От судьбы не уйдешь… — То-то! — осклабился унтер. — Испугался! Мы научим русских и плевать друг в друга и убивать друг друга! Всему научим! Плюй! — Прощай, братцы! — крикнул Кротов и, шагнув вперед, плюнул немцу в лицо. Бегальке взвизгнул, рванул из кобуры пистолет и разрядил в Кротова всю обойму.
ФЛАГ НА КОЛОКОЛЬНЕ
Совещание подпольщиков на Красном острове продолжалось недолго. Спивак рассказал о положении на фронтах, прочел последние сводки Совинформбюро. Когда стемнело, все стали расходиться: на острове остались только Спивак и Гурко с Кручиной. — Ребята в деревне скучают, — сказал Кручина. — Хотят в лес уходить, партизанить… Спивак разозлился: — Пусть только посмеют! — А и верно, — сказал Гурко. — Даром хлеб едят. Обученные бойцы! Переправим в лес, вот тебе и отряд партизанский! — Видно, что у твоего батьки сын дурень! — сердито бросил Спивак. — Сбежать им не хитро. А только немцы в тот же час расстреляют и Тимофея и женщин наших, которые их вызволили. Можем мы на такое пойти? — Доколе же им небо коптить? — спросил Кручина. — Раздобудем оружие, наладим партизанский лагерь и, будь ласков, всю деревню уведем с собой. Вместе с живностью. И Марченко уйдет с нами. Уяснил? — Малость понял… — Передай бойцам, чтоб сидели тише воды, ниже травы! И пусть сил побольше набирают. Осень будет несладкой, а зима и того трудней! — А насчет флага, товарищ Спивак? В силе остается? — спросил Гурко. — А как же! Райком решил! Я в тебе не сомневаюсь… — Можете положиться… — Что с Владиком? Здоров? — Хлопец в порядке. Конечно, тяжело ему взаперти. Воздухом дышит только по ночам, у открытого окна. И все про Юрася спрашивает да про Ленинград: не взяли ли немцы? — Ленинград держится геройски, так и скажи ему. И дружок его жив, пусть надеется на встречу.* * *
За полчаса до запретного времени, когда уже стемнело, но ходить по городу ещё разрешалось, Гурко и Владик вышли из дома. Извилистыми, узкими переулками они бесшумно пробирались к центру города. Прошлой ночью Гурко уже проделал этот путь. Дважды его останавливал немецкий патруль, но Гурко предъявлял немцам ночной пропуск. Пропуск ему принес старик нищий. — Грохот велел передать, — сказал старик. Гурко знал: Грохот — подпольная кличка Спивака. С ночным пропуском Гурко без приключений подошел к Соборной площади. Стоя в нескольких шагах от колокольни, он с трудом различал ее силуэт — такая выдалась темная, непроницаемая ночь. Крутая, спиралью, лестница начиналась почти у самого входа. Нужно было миновать три марша, чтобы укрепить флаг под куполом, в проеме, где висели тяжелые медные купола. Гурко подымался медленно, ощупью. Благополучно миновав два марша, он приближался уже к третьему, когда, шагнув, почувствовал под ногой пустоту. Тоненький лучик карманного фонарика обнаружил провал: пять или шесть ступеней оказались разрушенными взрывной волной. Чертыхнувшись, Гурко налег на перила и с радостью убедился, что они крепки. Растянувшись плашмя на перилах, он подтянулся и осторожно ступил на лестницу. Под его тяжелыми шагами вновь заскрипели старые, исхоженные ступени.
До последнего марша оставалось совсем немного. Гурко уже ясно представил себе, как завтра утром жители Гладова увидят трепещущий на колокольне красный флаг. И вдруг на последнем и особенно узком повороте возникло новое препятствие. На пути лежал сорванный взрывом колокол. Гурко попытался обойти его, но в темноте все время натыкался на холодный металл. Он засветил еще раз фонарик и увидел, что между стеной и колоколом оставалась совсем узенькая щель. Протиснуться в нее рослый широкоплечий Гурко не смог. Подавленный неудачей, он вернулся домой. И вот сейчас Гурко вел к звоннице Владика. Он посвятил мальчика в свой план перед самым выходом. Владик побледнел и молча начал шарить по углам едва освещенной ночником комнаты. — Ты чего? — спросил Гурко. — Кепку ищу. Мама вечером не разрешает без кепки… …Они подошли к колокольне. Ничто не нарушало тишины, не слышно было топота ночных немецких патрулей. До запретного часа оставалось еще двадцать минут. За эти двадцать минут нужно было все сделать. Гурко вытащил из-за пазухи флаг и передал его Владику. — Не бойся, все будет хорошо! — прошептал он. Владик скользнул в щель, и как ни прислушивался Гурко, он не смог уловить никакого шороха — так бесшумно поднимался мальчик на колокольню…
* * *
В эту ночь Юрась не уснул. Стоило закрыть глаза, и он видел перед собой лицо Кротова. Он вспомнил последний разговор с ним: — Вызволю тебя и сам не задержусь в гостях у фюрера собачьего, — говорил Егор, сипло покашливая. — Кротова на передовой ждут, без него наступленье откладывается. — И он усмехнулся своей немудреной шутке. Теперь он убит… Убит потому, что не захотел сделать подлость, не подчинился фашисту… Значит, жизнь не самое дорогое на земле? Значит, есть для человека что-то дороже жизни? Что? Некому Юрасю задать свой вопрос. Все вокруг спят тяжелым сном. Изредка кто-то тоскливо стонет во сне… За крохотным грязным оконцем робко занялся рассвет. Завыла сирена. Юрась вышел из барака и направился к лагерным воротам. У ворот уже стояла телега. Заключенные и конвоиры ждали унтер-офицера. Бегальке явился мрачный, невыспавшийся. В кулаке он сжимал плетеный кожаный хлыст. Бросив исподлобья взгляд на заключенных, он вскочил в телегу, резанул хлыстом воздух и гаркнул: — Вперед, клячи! Двенадцать пленных потащили телегу в Гладов. Бегальке с ненавистью смотрел на спины везущих его пленных. Русские скоты видели его позор! Они видели его оплеванным! Того он пристрелил… Но остальные живы… И. наверное, смеются над ним! Конечно, смеются! Русский пленный плюнул в лицо германскому солдату. Такой позор можно смыть только кровью этих скотов! Он убьет десять русских. Не десять — сто! И надо торопиться, пока лагерь не передан в ведение полиции. Первым он прикончит мальчишку и этого бородатого. Все началось из-за него… На повороте телегу тряхнуло. — Быстрее! — заорал Бегальке. — Живо! Учитель обернулся на окрик и вытер рукавом струившийся по лицу пот. Глаза фашиста налились кровью. "Очкастая падаль! Издевается, напоминает, что Бегальке вчера вот так же вытирал плевок!" Фашист соскочил с телеги, взмахнул хлыстом и со свистом опустил его на голову пленного. Кусок свинца, заделанный в конце плети, оглушил учителя, и он упал под колеса телеги. Телега остановилась. — Краус! Оттащить в сторону! — приказал Бегальке. Конвойный схватил пленного за ноги и потащил на обочину дороги. — Вперед! — приказал Бегальке. — Не оглядываться! Пленные не видели, как унтер топтал учителя коваными сапогами. — Ты посмел надо мной смеяться! Но ты никогда больше не будешь смеяться! И никому не расскажешь, что ты видел! Догнав заключенных на окраине города, унтер снова уселся в телегу. Кое-где в домах уже раскрывались ставни. Юрась пристально вглядывался в окна домов. Почему-то ему казалось, что в одном из них он обязательно увидит отца. Екатерина Васильевна не могла не рассказать ему, что видела Юрася на площади, среди пленных. Неужели отец не придет и сегодня! Юрась сам не мог понять, хочет ли он увидеть отца. А вдруг отец и верно знал, кто этот "политрук"? Но тогда, значит… Нет, это невозможно, он бы не скрыл от меня… И почему его посадили в тюрьму? Почему его не трогают немцы? Всех коммунистов арестовали, а отца не тронули. Телега тащилась по главной улице. Несмотря на ранний час, несколько человек, обгоняя пленных, торопливо шли к Соборной площади. Юрась увидел, что близ собора толпится народ. Встревоженный Бегальке соскочил с телеги. — Вперед! —выкрикнул он. — Бегом! Марш-марш! Пленные ускорили шаг. "Народ на Соборной площади! Что там случилось?" Появление немцев никого не испугало, люди не бросились врассыпную. Это поразило Бегальке, но, сразу же овладев собой, он закричал: — Расходись! Собираться запрещено! Никто не шелохнулся, все стояли, смотря куда-то вверх. Бегальке задрал голову и не сразу поверил своим глазам: на колокольне развевался красный флаг. "Какая наглость! Сорвать! Сейчас же сорвать флаг!" Унтер взглянул на пленных и не узнал их. Из лагеря вышли истощенные, грязные, измученные люди. Сейчас их плечи распрямились, разогнулись спины. Это были другие… опасные люди! — Повернуться спиной к флагу! — крикнул он срывающимся голосом. Пленные скорее догадались, чем поняли приказ немца, но продолжали стоять неподвижно, точно вросли в землю. — Спиной! Повернуться спиной! — орали конвойные, угрожая автоматами. — Разогнать толпу! — прохрипел Бегальке. — У нас боров так хрипел, когда его резали! — сказал кто-то. В толпе засмеялись. Этот смех ошеломил гитлеровца. Они смеются! Смеются над солдатами фюрера! — Краус! Немедленно — к военному коменданту! Сообщи! Нужна рота автоматчиков — расстрелять толпу! Еще слышен был топот сапог Крауса, когда в толпе раздался голос Гурко. — Расходитесь, братцы! — крикнул он. Дальше! Дальше отходите, видите, господин унтер-офицер сердится! Переходи на ту сторону! Веселее! — Парень верно говорит! — сказал босой старик. — Расходитесь, граждане. Вдруг колокольня обвалится. Толпа поредела. Люди по два-три человека стояли в разных концах площади. Взоры их по-прежнему были устремлены на колокольню. Вскинув автомат, Бегальке дал по флагу очередь. Но, должно быть, у него дрожали руки: флаг, словно насмехаясь, пламенел на ветру. Тогда Бегальке кинулся к колокольне. На бегу он крикнул конвойным: — Пленным лечь на землю! Не поднимать головы! В случае неповиновения — стрелять! — Ложись! Ложись! — заорали немцы, тыча в спины пленных прикладами. Пленные распластались на земле. Конвойные успокоились. До сих пор им было не по себе. Их осталось только четверо, а пленных — одиннадцать. И еще эти люди в разных концах площади!.. Лежа на земле, Юрась слегка приподнял голову и вдруг заметил невдалеке продавца вишен. И тут же мальчик вспомнил, когда он впервые увидел его. Ну да! Старик приходил к отцу и спрашивал дорогу к Кручине. — Братцы, ложись! — закричал вдруг Гурко. Вслед за ним бросились на землю все, кто стоял поблизости. В ту же секунду раздался оглушительный взрыв. Грохот рухнувшей колокольни заглушил вопли двух раненных конвоиров. Кирпичные осколки со свистом рассекли воздух. Густая розовая пыль заволокла площадь. — Бей их, братцы! Кирпичами! — раздался из толпы чей-то возглас… Юрась не видел в этом розовом тумане, кто оторвал его от земли. — Бежим, браток! Третья скорость! По голосу он узнал Гурко.* * *
Темной дождливой ночью лодка бесшумно ткнулась носом в травянистый мысок, и три человека вышли на берег. Четвертый остался сидеть в лодке. — Может, передумал, возьмешь меня? — заговорил тот, что остался в лодке. — Опять свое! Да пойми ты, пойми, что в Зоричах ты нужнее! Оккупанты не подозревают тебя. Безобидный старик, бывший почтальон… — Они еще узнают, какой я есть безобидный старик! Прощевай, Яков Максимыч! — До свиданья, товарищ Кручина. Значит, вчера у тебя все прошло хорошо? — Всех перевез. Они уже на базе… вас ждут. Юраськой интересовались, беспокоились, жив ли… — Кто обо мне беспокоился, дедушка Кручина? — Дружки твои лагерные. Которые сбежали во время взрыва… Ну что ж, еще раз прощевай. Яков Максимыч. Прощевай и ты, Владька, и ты, Юраська! Отца-то успел повидать? — Нет… — А что так? — Нельзя было, — сказал Спивак. — Придет время — свидятся. — Тимофея-то Петровича, поди, возьмете в отряд? — ревниво спросил старик. — Тимофея в отряд? Пусть не надеется! На своем месте он сейчас один целого отряда стоит. Так и передай ему. — Обнимите его за меня… — сказал дрогнувшим голосом Юрась. — Будет исполнено. Только скажу наперед: разобьем германа — выдерет тебя батька. Помяни мое слово — выдерет! Юрась тихо рассмеялся: — Пусть… Я согласен. Теперь согласен… Дождь усилился. — Возвращайся, друг, — обратился Спивак к старику. — Нам тоже пора. Надо успеть до рассвета…Дождь перешел в ливень. Синие молнии секли небо, над головой грохотали взрывы. Три человека упрямо шли в глубь леса, навстречу новым испытаниям. Ответственный редактор Г. В. Антонова Консультант по художественному оформлению Ю. И. Киселев Технический редактор Н. М. Сусленникова Корректоры Ю. А. Бережнова и К. Д. Немцовская. Подписано к набору 16/VI 1965 г. Подписано к печати 30/VII 1965 г. Формат 84 X lOB'/a. Печ. л. 5. Усл. п. л. 8.2. Уч. — иэд. л. 8.34. Тираж 50 000 экз. ТП 1965 № 348. М-13362. Ленинградское отделение издательства "Детская литература". Ленинград, наб. Кутузова. 6. Заказ № 629. Цена 35 коп. Фабрика "Детская книга" № 2 Росглавполнграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по печати. Ленинград, 2-я Советская. 7.

Последние комментарии
7 часов 35 минут назад
23 часов 39 минут назад
1 день 8 часов назад
1 день 8 часов назад
3 дней 14 часов назад
3 дней 19 часов назад