Нас ломала война… Из переписки с друзьями [Тамара Николаевна Лисициан] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Тамара Лисициан Нас ломала война… Из переписки с друзьями
© Лисициан Т.Н. текст, 2022 © Издательство «БОС» (дизайн, редактирование, печать), 2022Памяти моего сына Сандро посвящается
 Тамара Лисициан с сыном Александром (Сандро) Лонго дома, 1975 г.
Тамара Лисициан с сыном Александром (Сандро) Лонго дома, 1975 г.
Кинорежиссер – особая профессия
Кинорежиссер – особая профессия в мире кино, которая кроме таланта и творческих сил требует огромной выдержки, умения не только организовать работу всего коллектива съемочной группы, но и добиться поставленных целей. Именно такими качествами обладала Тамара Николаевна Лисициан, чья жизнь сама может стать основой захватывающего фильма. Тамара Николаевна родилась в 1923 году в Тбилиси, в 1939–1940 гг. училась на актерском факультете Тбилисского театрального института, в 1941 году поступила в Московское городское театральное училище. Как только началась война, она решила уйти на фронт. Но так как Тамара была чемпионкой Грузии 1939 года по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, умела управлять мотоциклом и прекрасно знала немецкий язык, ее направили сначала в разведотдел 5-й армии, затем в разведывательно-диверсионную часть особого назначения при Западном фронте. Выполняя одно из боевых заданий в тылу врага в Белоруссии, Тамара Лисициан оказалась в плену и попала в концлагерь. Но она никогда не сдавалась, и, сумев организовать побег, 19-летняя девушка вместе с несколькими товарищами оказалась у партизан и участвовала во многих опасных операциях. После ранения Тамара Николаевна вернулась в Москву в театральное училище, которое закончила в 1946 году. Но ей был предопределен путь в кино. Выйдя замуж за сына одного из руководителей Итальянской коммунистической партии Луиджи Лонго, с которым познакомилась еще в Грузии, Тамара Лисициан уехала в Италию и работала там в представительстве «Совэкспортфильма», где начала заниматься монтажом и дублированием фильмов. В 1952 году она вернулась с семьей в СССР, закончила в 1959 году режиссерский факультет ВГИКа и пришла работать на киностудию «Мосфильм». Тамара Николаевна сняла несколько полнометражных художественных фильмов («Чиполлино», «На Гранатовых островах», «Тайна виллы “Грета”» и др.), делала научно-популярные, короткометражные и документальные ленты. Ее картины талантливы и самобытны, ей с равным успехом удавались разные жанры и темы. Кроме этого, Тамара Николаевна писала сценарии, занималась дубляжом иностранных кинокартин и восстановлением многих старых кинофильмов. Тамара Лисициан была бескомпромиссным и честным человеком, и это доказано всей ее жизнью и творчеством. Карен Георгиевич Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России, кинорежиссерЕе не сломали ни жизнь, ни война
Я познакомилась с Тамарой Николаевной Лисициан, когда мне только исполнилось 17 лет. Я заканчивала школу и, как многие другие девочки, мечтала стать актрисой. Меня к ней привела моя учительница, которая в свое время была первой учительницей сына Тамары Николаевны – Сандро. Спустя 10 лет мы случайно пересеклись с Тамарой Николаевной в коридоре «Мосфильма». Она узнала меня, обрадовалась и пригласила к себе в группу (в то время она приступила к съемкам фильма «Тайна виллы “Грета”»). Мы проговорили два часа и с тех пор стали общаться постоянно. Тамара Николаевна пригласила меня сняться в небольшой роли в этой картине. «Тайна виллы “Грета”» стала ее вторым политическим фильмом, который был посвящен расследованию деятельности масонской ложи «Пи-2». Я часто бывала у нее в гостях, мы беседовали подолгу и обсуждали самые разные темы: и моду, и работу, и политику, и даже кулинарию. Когда я вновь после длительного перерыва пришла к ней, то увидела на стене в большой комнате ее портрет военных времен, которого раньше не было. Тамара Николаевна рассказала мне невероятную историю этого портрета, написанного в январе 1944 года в морозной Москве художником Михаилом Ещенко. Он тогда решил написать галерею портретов молодых военных, чтобы оставить их лица потомкам. Его привлекла необычная девушка, с очень усталым и грустным лицом, одетая и по-военному, и нет. Ещенко уговорил ее попозировать, чтобы набросать портрет, и потом Тамара Николаевна увидела свой портрет на выставке в Центральном Доме работников искусств спустя 34 года, в 1978 году. С тех пор портрет юной партизанки был в ее квартире, а сегодня, после ее кончины, он висит в музее Победы на Поклонной горе. Еще Тамара Николаевна много рассказывала мне об Италии, о своей жизни в семье первого мужа Джузеппо Лонга, о своем знакомстве со знаменитыми итальянскими режиссерами: Федерико Феллини и Паоло Пазолинни, с замечательным итальянским писателем-сказочником Джанни Родари. Кстати, именно это знакомство дало ей возможность снять два своих лучших детских фильма: «Чиполлино» и «Волшебный голос Джельсомино». Джанни Родари дал лично ей разрешение на экранизацию своих сказок, и она сумела добиться их постановок. Ведь после дипломной работы «Сомбреро» по пьесе Сергея Михалкова она 10 лет на «Мосфильме» работала только на восстановлении старых фильмов и синхронных переводах итальянских картин, а два сценария: «Сказку о потерянном времени» и «Три толстяка», которые она разработала, отдали другим режиссерам. Тамара Николаевна рассказала мне, что Сергей Бондарчук, с которым у нее были добрые приятельские отношения, после просмотра «Чиполлино», смеясь, сказал, что сцена штурма замка принца Лимона – лучшая кинопародия на все батальные сцены мирового кинематографа. Тамара Николаевна была настоящим профессионалом, работала быстро и всегда знала, что и как будет снимать, очень хорошо относилась к актерам и коллегам, уважала чужое мнение, но никогда не поступалась своим. В ее картинах снимались самые лучшие советские актеры: Кирилл Лавров, Рина Зелёная, Владимир Басов, Людмила Чурсина, Юрий Соломин, Александр Збруев, Ирина Скобцева, Леонид Броневой и многие другие. Я рада, что в последнем своем игровом фильме «Загадочный наследник» Тамара Николаевна дала мне хорошую роль, и мне удалось сняться вместе с Иннокентием Смоктуновским. Когда она собралась пригласить его на одну из главных ролей, ее все стали отговаривать, говоря, что он не станет сниматься у малоизвестного режиссера и с ним вообще очень сложно. Но Тамара Николаевна не привыкла отступать, добилась с ним встречи и… вернулась в шоке. Он не просто согласился на съемки, но еще оказалось, что во время войны он, так же как она, после боя попал в плен, прошел пытки, был брошен в концлагерь, потом переведен в другой (тот же самый, где сидела и Тамара Николаевна, но раньше на год), потом бежал и попал, как и она, к партизанам. Последний фильм, на котором мы работали вместе с Тамарой Николаевной, – это документально-публицистическая картина «Встреча с духоборцами Канады». Наша небольшая съемочная группа, где я была помощником режиссера, поехала в Канаду, чтобы снять натуру к будущему игровому фильму по сценарию писателя Сергея Алексеева об истории духоборцев, которые первыми в мире совершили в 1895 году пацифистский акт сожжения оружия. Тамару Николаевну очень заинтересовала эта история. Мы проехали всю Канаду, снимали в тех местах, где жили и живут до сих пор русские духоборцы, но, когда вернулись, через несколько месяцев распался Советский Союз, все планы разрушились, но Тамара Николаевна, чтобы спасти тот интереснейший материал, который был снят в Канаде, смонтировала свой последний документальный фильм. Тамара Николаевна рассказывала мне очень много о себе и своей жизни, но никогда не касалась темы Великой Отечественной войны, потому что заставила себя забыть все ужасы, которые она перенесла в то время. Так было до конца 1990-х. Вернувшись в очередной раз из Италии, куда она ездила ежегодно к своей подруге графине Илиане де Сабато, Тамара Николаевна сообщила мне, что собирается написать свои военные воспоминания. Конечно, ей хотелось бы снять фильм, но, понимая, что в то время это уже было невозможно, она решила написать книгу. Она заставила себя вспомнить всё! По ее словам, беседуя с молодыми итальянцами и затронув тему Второй мировой войны, она была шокирована тем, что они были абсолютно уверены в том, что ту войну выиграли американцы и англичане, а СССР вроде тоже что-то там сделал. К ее ужасу, и в России одураченная и развращенная лихими 1990-ми молодежь всё меньше и меньше знала и хотела знать о войне. Вначале Тамара Николаевна написала книгу «Нас ломала война» на итальянском языке и с помощью друзей издала ее в Италии, а потом перевела эту книгу на русский язык и с помощью тех же друзей издала ее в России за свой счет. Всего 1000 экземпляров, они разошлись очень быстро, и те, кому удалось прочесть эти военные воспоминания, никогда не забудут, кто победил! Знакомство с Тамарой Николаевной Лисициан для меня стало подарком судьбы. Наша дружба длилась 25 лет до ее ухода из жизни. Особенно мы сблизились после смерти ее сына Сандро, которая стала для нее сильнейшим ударом, но и на этот раз она заставила себя жить дальше. Мы созванивались ежедневно, помогали друг другу, советовались во всём. Тамара Николаевна прожила очень трудную, но яркую жизнь. Военная молодость и ужасы, которые ей пришлось пережить, закалили ее характер. Тамара Николаевна всегда была сдержанна, бескомпромиссна и готова к бою за правду. Она была очень талантливым человеком, и всё, что хотела сказать людям, говорила своим творчеством. На ее очаровательных и одновременно глубоких детских фильмах выросло не одно поколение в нашей стране, а три политических картины: «На гранатовых островах», «Тайна виллы “Грета”» и «Загадочный наследник», снятых Тамарой Николаевной в конце 80-х годов прошлого века, настолько актуальны, что можно подумать – их сделали сегодня. Я очень рада, что к 100-летию Тамары Лисициан мы имеем возможность переиздать ее книгу «Нас ломала война». Сегодня эта книга – свидетельство прошлого – еще более актуальна, чем двадцать лет тому назад, когда была написана, как предупреждение для будущих поколений – нельзя забывать историю! Лидия Андреева-Куинджи, творческий руководитель проекта «Герои былых времен»От автора
Бывают воспоминания, которые не только всю жизнь причиняют боль, но и постепенно меняют мироощущение, мировоззрение и даже характер человека. Для меня такими воспоминаниями, такой болью стала память о пережитом на войне. В день Победы 9 мая 1945 года, под торжественные марши и радостные голоса, раздававшиеся по радио и с улицы, я весь день горько плакала. Пока шла война, все силы, все мысли были сосредоточены на Победе. И вот она добыта нечеловеческими усилиями! Счастье – да! Спало многолетнее напряжение, и сразу же встали перед глазами потери, о которых старались не думать в разгар сражений. Я плакала по моей полуразрушенной Родине, по погибшим, по искалеченным людям, по моей обгоревшей, омытой своей и чужой кровью юности. Пережитое на войне в дальнейшем изменило мое отношение к жизни, к людям, мой характер! Не всегда в лучшую сторону. Я это понимала и старалась забыть свое военное прошлое. Десятки лет вела борьбу с собственной памятью. Постепенно мне стало казаться, что я справилась и смогла забыть многое из пережитого тогда. Стала спокойнее, сильнее, уравновешеннее. И только изредка вспыхивала загнанная в глубину сознания боль, возникали болезненные ассоциации, неожиданные комплексы, уходящие корнями в военное время. Настали восьмидесятые годы. Я продолжала работать на киностудии «Мосфильм», снимала фильмы, много ездила по стране и за рубежом. Однажды получила одно из писем от своей давней подруги, итальянской киносценаристки Элианы де Сабата, которая снова приглашала провести у нее в Италии мой отпуск. И я стала ездить к ней почти каждый год в ее родовое поместье Таварно около города Бергамо. За эти годы мне довелось увидеть много интересного и нового в Италии. Это совсем иной, особый мир, иные люди. Как в каждой стране, много понятных и не очень обычаев и представлений о мире, о жизни, об истории. Одно меня печалило: люди в большинстве своем почти не читают книг и очень подвержены влиянию современных средств массовой информации. Телевидение, газеты, радио подчинили себе почти все население. Но что меня просто потрясло, так это удивительное незнание не таких уж далеких событий Второй мировой войны. С кем бы я ни говорила, все – особенно люди среднего и молодого поколения – уверены, что Вторую мировую войну выиграли американцы. Элиана де Сабата и Тамара Лисициан. Италия, Капарбио, 1997 г.
Элиана де Сабата и Тамара Лисициан. Италия, Капарбио, 1997 г.
– А русские? – спрашивала я с болью в сердце. – Русские?.. Да… Они тоже что-то там сделали. Но что именно, мне так никто и не смог объяснить. Я вспоминала, как наш известный кинорежиссер, ветеран войны Григорий Чухрай, снял документальный фильм-интервью, поразивший всех нас. Он проехал по Европе, обращаясь к многочисленным собеседникам с одним вопросом: – Что вы знаете о Второй мировой войне? Ответы были неутешительными. Никто не смог ответить ему ничего вразумительного. Для нас, ветеранов, это был шок. Теперь с этим удивительным незнанием столкнулась и я. Прошло всего пятьдесят лет после войны. Мы, участники сражений, еще живы, а два новых поколения уже не помнят, не знают, кто разгромил фашизм, кто принял на себя самые страшные удары гитлеровской военной машины. Какие потери понесли мы за четыре года отчаянных битв с напавшими на нас фашистами на нашей территории, потом на территории Восточной Европы и, наконец, самой Германии. Мне не только повторяли миф о единственных победителях фашизма – американцах, но и утверждали, что гитлеровцы уничтожали в лагерях смерти только евреев. Шесть миллионов евреев! Это знали все. Но никто понятия не имел о 18 миллионах погибших от рук фашистов мирных граждан Советского Союза, не считая 9 миллионов наших солдат и около 3 миллионов военнопленных![1]Я была потрясена и оскорблена таким открытием. Поделилась своими переживаниями с Элианой. – А я тебя давно просила, – сказала она, – написать книгу своих воспоминаний. Расскажи нашим людям, как это было. Хотя бы на примере твоей личной судьбы. Если вы, участники тех событий, будете молчать, то всегда найдутся люди, которые в своих интересах воспользуются этим. Еще раз прошу тебя: напиши. У меня ты свободна, отдыхаешь. Сядь и напиши. Действительно, она просила меня об этом еще в 1962 году, в Москве, вскоре после того, как мы познакомились, но я отказывалась, убеждая ее и себя в том, что мне не по силам снова вспоминать пережитые потрясения и боль. Но время шло, и я стала понимать, что Элиана права. Ее настойчивость и горечь от услышанного мной в Италии заставили меня собраться с силами и постепенно, не жалея себя, что называется, кровью, написать для моих итальянских друзей эту повесть. Недавно я перевела ее на русский язык, чтобы и наши послевоенные читатели узнали о том, как нас ломала война, как мы преодолевали ее. Как наши люди поддерживали друг друга в тех ужасных обстоятельствах и потом на всю жизнь сохранили дружбу, любовь и уважение друг к другу, скрепленные общими страданиями, борьбой и Победой. Тамара Лисицан 20 апреля 2001 г., Москва
Вместо предисловия
Письмо к итальянскому читателю киносценаристки Элианы де Сабата Эта история имеет два начала – в 1941 и в 1961 годах. 1941 год: октябрь, ноябрь, декабрь – для Москвы это было страшное время. Московское радио сообщало, что немцы все ближе и ближе подходят к столице, приблизились к окраинам города. Все, кто только мог, кинулись защищать Москву. Горожане рыли окопы, помогали солдатам. Молодежь уходила на фронт добровольцами. Немцам так и не удалось взять Москву. Оставалось всего 11 километров, но они не смогли их преодолеть. Мало кто из тех добровольцев, юношей и девушек, прервавших учебу и ушедших на фронт, вернулись с войны живыми. Рассказы о некоторых пережитых ими событиях, понесенных жертвах собраны в предлагаемой тут переписке с друзьями, принадлежащей Тамаре. 1961 год: я была в это время в Москве, принимала участие в съемках фильма о трагическом отступлении наших солдат из России. О трагедии этих Альпийских частей, гибнувших на морозе, преследуемых советскими частями, я знала, еще будучи девочкой. Моя мать отправляла посылки нашим «Альпийцам» из района Джулии. Среди них было много наших крестьян. Помню теплые вещи, лекарства и карандаши, которые им посылали. Мама объясняла мне, что чернила там замерзали, и писать домой они могли только карандашами. Теперь их фотографии бледнеют на небольшом памятнике павшим в Гаварно, в нашей деревушке, откуда они ушли на войну. В 1962 году известный кинорежиссер, великолепный мастер экрана Пепе Де Сантис воспроизводил ту страшную зиму на местах бывших сражений в Советском Союзе. На съемках итало-советского фильма «Новое на Востоке».
Слева направо: режиссер Тамара Лисициан, сценарист Элиана де Сабата, композитор Арам Хачатурян. Киностудия «Мосфильм», 1962 г.
На съемках итало-советского фильма «Новое на Востоке».
Слева направо: режиссер Тамара Лисициан, сценарист Элиана де Сабата, композитор Арам Хачатурян. Киностудия «Мосфильм», 1962 г.
В это же время я близко познакомилась с Тамарой Лисициан. Она была режиссером киностудии «Мосфильм». До этого мы с ней уже закончили работу над полнометражным фильмом о России «Новое на Востоке» и подружились. Она говорила на правильном и точном итальянском языке. После войны Тамара вышла замуж и несколько лет прожила в Риме. Она была красива, обаятельна и всегда спокойна. Кто бы мог подумать, что эта молодая женщина пережила ужасные обстоятельства, подвергалась пыткам и избиениям? Кто бы мог подумать, что она была в концлагере у немцев, у нацистов? И сумела убежать! Единственная девушка в группе трех мужчин-беглецов.
 Джульета Мазина, Тамара Лисициан, Федерико Фелинни.
Москва, кинофестиваль, 1963 г.
Джульета Мазина, Тамара Лисициан, Федерико Фелинни.
Москва, кинофестиваль, 1963 г.
В один прекрасный день, совершенно случайно, я узнала, что Тамара не может встретиться со мной потому, что в этот день назначена встреча ветеранов ее воинской части. Каждый год они встречаются в Москве. В подробности она не хотела вдаваться. Но я, крайне заинтересованная, упрямо настаивала. Советский Союз, этот мир так мало нам известный с его проблемами, мировоззрением, особой системой… он восхищал меня. Там шла своя жизнь, это была сама История, и мы понимали, что присутствуем при событиях необъятных, огромной значимости… Тамара не хотела подробно рассказывать мне о той встрече. Похоже, она стеснялась, не хотела, чтобы ее считали героиней, какой-то особенной. Но все же ей пришлось кое-что мне рассказать. Их осталось в живых мало. Из 5000 добровольцев, которые входили в воинскую часть 9903, уцелело только около тысячи человек… Призналась, что ей было всего 18 лет, когда она добровольцем вошла в состав 5-й Армии, защищавшей Москву зимой 1941 года, а затем перешла в авиадесантную воинскую часть 9903 и была заброшена с товарищами в тыл к немцам в качестве диверсанта-разведчика для подрыва мостов и вражеских эшелонов. Глядя на Тамару, такую спокойную, ласковую, одетую со вкусом, невозможно было все это представить. Тем не менее выяснилось, что она, еще школьницей, была чемпионкой Грузии по стрельбе из винтовки ТОЗ-8, занималась борьбой самбо (так русские называли японскую борьбу джиу-джицу) и пользовалась этим знанием на войне, умела собрать из подручных средств взрывное устройство не хуже, чем испечь пирог.
 Тамара Лисициан – чемпионка Грузии по стрельбе, 1939 г.
Тамара Лисициан – чемпионка Грузии по стрельбе, 1939 г.
 Лициан Тамара Николаевна, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, кинорежиссер-постановщик, 1979 г.
Лициан Тамара Николаевна, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, кинорежиссер-постановщик, 1979 г.
Я была очарована. Восхищена. Мне хотелось знать больше. Я решила уговорить ее рассказать мне все, что ей удастся вспомнить. Однако для этого понадобилось тридцать лет. Тридцать лет дружбы. Только тогда Тамара согласилась кое-что рассказать, а также собрать и привести в порядок письма, которыми обменивались с ней все эти годы ее товарищи-ветераны. Все, что собрано в данной рукописи документально, ничего не придумано. Тут много писем и воспоминаний. Полагаю, что я была права, убеждая Тамару взяться за эту работу. Надо знать о ярких жизнях, о героических судьбах этих молодых людей. На страницах рукописи мы видим людей простых, мужественных, сильных, которые все вместе смогли выстоять, выжить, победить и в то же время остаться людьми – надежными, щедрыми, мечтателями, какими были прежде. Эти люди говорят друг с другом искренне и просто. Они не впадают в отчаяние и довольствуются малым. Так сложилась мозаика, составленная из дружеских бесед людей, опаленных одной трагической судьбой, связанных глубоким уважением друг к другу и общими воспоминаниями. Возникает неожиданный для нас образ советского человека, который нам рисовали совсем иначе. И это тот редкий случай, когда мы узнаем об этих удивительных людях без каких-либо посредников и почти без их ведома. Элиана де Сабата

Глава 1 Начало войны
«– Сколько тебе лет? – Восемнадцать, умею стрелять, ездить верхом, и еще на мотоцикле, немного знаю немецкий… – В разведку пойдешь?»Дорогая Тамара! Давно собираюсь тебе написать, но все не успеваю, а время летит. Много думаю о тебе и о наших встречах в Москве, о твоей жизни, о которой ты так неохотно рассказывала мне. И какой же это был рассказ, периодически смущенно прерываемый словами: «Да тут у всех такие судьбы, мы ведь отстаивали наше Отечество…» Помнишь? Я хорошо понимаю, как тебе больно вспоминать те страшные годы. Но я твердо верю в то, что ты должна собраться с силами, все вспомнить и обо всем рассказать. Я не раз говорила тебе об этом и не могу не повторить: «Кто там не был, кто не знает ничего о том, что было, – должен об этом узнать». Самоотречение и героизм свойственны всем матерям. Но героизм во имя идеи и великодушие, проявленное по отношению к тем, кого ты даже не знаешь, сила духа, не имеющая ничего общего с фанатизмом, сознание, что ты должен защищать свободу, ни с чем не сравнимы и дороже самой жизни. И такая отвага была свойственна и мужчинам. Я считаю, что это одно из самых важных обстоятельств во всем пережитом тобой. Судьба не пожелала твоей смерти, значит, ты должна обо всем рассказать. Рассказать о тех, кто остался там, но чья смерть не была напрасной, и кто продолжает жить в нашей благодарной памяти. Я прошу тебя, найди в себе силы, ты же уже проявила столько мужества! И не можешь сказать, что в тебе его больше не осталось. Я не поверю. Множество вопросов хотелось бы тебе задать. Уверена, мы встретимся и обо всем поговорим. А пока верю, что ты не откажешь своей сестричке – как ты всегда меня называла. Жду твоего письма и крепко-крепко тебя обнимаю, твоя Элиана. Гаварно, март 1995 г.
Дорогая Элиана! Я много думала над твоим предложением, возможно, ты и права. С годами судьбы и события забываются. Вижу, что молодые и не очень почти ничего не знают о Второй мировой войне. Особенно у тебя в Италии и вообще в Европе. А часто и не хотят знать. С грустью наблюдаю, как и у нас многие совсем не интересуются страшным временем, пережитым их отцами, матерями, дедами и бабушками. Они не хотят, чтобы их беспокоили трагическими рассказами о событиях тех лет. Большинство, кажется, думает сейчас лишь о том, как бы разбогатеть и повеселиться. Живут сегодняшним днем и знать не хотят о тех, кто страдал, часто погибая в муках, кто дал им возможность жить благополучно, легко и не думать о смерти, как будто ее не существует. В глубине души эта беспечность и безразличие меня всегда обижают, но я скрываю обиду от чужих глаз, чтобы не выглядеть старой ворчуньей, тоскующей о прошлом. Но должна признаться, ты меня начинаешь убеждать. Возможно, я не во всем права, и не далеки те времена, когда появятся поколения, которым будет интересно узнать о наших утратах и победах. Хочется надеяться, что наш опыт в будущем окажется для кого-то полезным. Но прежде, чем обратиться к дневникам и письмам моих боевых товарищей, думаю, нужно хотя бы коротко напомнить, что это было за время. Несколько страниц я хочу посвятить битве за Москву, добавив кое-что из воспоминаний немцев, напавших на нас. Эти страницы помогут представить трагическую ситуацию в России 1941 года. Из наших писем и рассказов станет яснее, почему мы, молодежь, пошли на войну добровольцами. Бросились на фронт, невзирая на возможную гибель, даже не думая о ней. Ведь на краю гибели была наша Родина! Полагаю, также станет понятнее, как возникло партизанское движение, и какую роль оно сыграло в Отечественной войне. Эти страницы не претендуют на исторический обзор. Мы лишь делимся своими воспоминаниями о той нечеловеческой обстановке, в которой оказались. Но все же мне думается, что и в них, как в осколке зеркала, ты увидишь то время. Надеюсь, что Бог даст мне силы воскресить в памяти кровавое прошлое, и с волнением надеюсь, что это поможет сегодняшнему поколению понять нашу неизбывную боль. Я попробую сделать это, прежде всего, ради тебя и нашей дружбы, моя итальянская названная сестричка. Ты права, я теперь уже не могу отказать твоим настойчивым просьбам. Хотя все эти годы старалась даже мысленно не возвращаться в тот ад. Обнимаю тебя крепко. Твоя Тамара.
* * *
Итак: 11 октября 1941 года. Немцы уже под Москвой. Их войска с авиацией и танками вступили на территорию Московской области. По плану «Тайфун» 22 июня 1941 года они двинули на Москву сразу 75 дивизий! Это значит, что на москвичей, кроме тысяч танков и самолетов, устремился 1 миллион 850 тысяч немецких солдат. Эти цифры мы узнали позже, а в разгар сражения все эти танки, самолеты, артиллерийские батареи, нескончаемые потоки солдат вырастали, как из-под земли. Как в страшном сне, казалось, им не будет конца. Шли они ночью и днем, уничтожая все на своем пути, как саранча. Совсем небольшой эпизод, описанный немцами в военном дневнике от 10 октября 1941 года, даст тебе ясное представление о том, с какой яростью и напором двигались они по нашей земле. «…Все вперед и вперед. Навстречу движется колонна противника. Мы полностью уничтожаем ее. И вот уже виден деревянный мост, у которого копошатся русские подрывники. На мосту поток беженцев. В любой момент может раздаться взрыв. Но фельдфебель Н. знает, как поступить. Не останавливаясь, он врезается в толпу: гусеницы давят людей, коров, лошадей. И так мы продвигаемся все дальше и дальше. …Во время этой атаки было уничтожено 4 противотанковых орудия, 5 полевых, огромное количество огнеметов, пулеметов, грузовых автомобилей, тягачей и повозок»[2]. Так кто же пользовался этой военной техникой? Кто так упорно сопротивлялся немцам? Обрати внимание, Элиана, тут, как и в других немецких дневниках, они лишь хвастливо перечисляют победоносные гитлеровские атаки, не удостаивая вниманием гибель гражданского населения и защитников своей Родины. Они не видят людей, они просто давят все живое! 18 октября 1941 года был захвачен город Можайск, в 100 км от Москвы. Перед этим, 7–14 октября 1941 года, четыре наши армии оказались в глухом немецком окружении в районе Вязьмы и Брянска без всякой возможности остановить вражеское наступление. Немцы уже посчитали путь к Москве свободным. Но оставшиеся разрозненные соединения Красной армии, упорно защищались, преграждая путь к столице. Немцы несли серьезные потери – в этих сражениях было уничтожено 135 тысяч немецких солдат, офицеров и большое количество военной техники, «…генералы Гадлер, Клюге и Рунштед предложили Ставке Гитлера перенести атаку на Москву, «ввиду наступающей зимы», на весну 1942 года. С ними не согласились…»[3]Началась отчаянная битва за Москву, в которой участвовало более миллиона немцев. В защите столицы приняли участие и партизаны. В первые же дни оккупации Московской области, по постановлению ЦК Компартии от 18 июля 1941 года «Об организации борьбы в тылу Германских войск», за спиной у немцев оказалось более 40 партизанских отрядов – 17 тысяч наспех вооруженных людей, и далеко не все из них прошли военную подготовку, поскольку никто не ожидал увидеть фашистов на подступах к Москве. Все верили лозунгу, звучавшему в газетах, с трибун и по радио: «Бить врага на его территории»: «Мы войны не хотим, но себя защитим, Оборону крепим мы недаром, И на вражьей земле мы врага разгромим. Малой кровью, могучим ударом!» А тут немецкие танки немцев под Москвой, бомбы падают на столицу! Партизанам пришлось на ходу учиться сражаться с регулярными опытными немецкими армиями. Вспомни, ведь годом раньше, в 1940 году, немцы захватили Францию всего за 44 дня силами всего четырех дивизий. В Париж их войска вошли за 2 дня – 14 июня 1940 года. Бельгия защищалась 19 дней. Дания – 1 день. Норвегия – 2 месяца. На Италию за всю военную кампанию немцы бросили от 6 до 20 дивизий, и то только к концу войны. И нигде при этом не было таких кровопролитных боев, как в России. За все четыре года[4]. Русским пришлось отбиваться от всей Европы, захваченной и мобилизованной фашистами против нас. Европы со всей ее промышленностью, вооружением, солдатами. Тамара Лисициан, разведчик разведотдела 5-й армии.
Подмосковье, январь 1942 г.
Тамара Лисициан, разведчик разведотдела 5-й армии.
Подмосковье, январь 1942 г.
Я расскажу тебе больше о партизанах, а не о регулярных войсках потому, что вскоре сама присоединилась к ним. О партизанах писали и немцы – в частности, разгромленный под Москвой генерал-полковник Г. Гудериан: «Мы знали, что в 1941 г. предстояло вести боевые действия в стране с выносливым и любящим свою Родину населением… Во Второй мировой эта «малая война» за линией фронта приняла особые масштабы. Именно она в конечном итоге повлияла на исход многих сражений… Действия партизан к концу войны активизировались и охватили все районы боевых действий. Это заставило бросить на борьбу с ними целые соединения, которые были так необходимы на фронте. Физически крепкие и нетребовательные русские особенно подходили для ведения партизанской войны, чего нельзя сказать о немцах». В этих строчках генерал впервые признает превосходство русских, очевидно, имея в виду не только партизан. Бои за Москву, где был разгромлен «отец» германской танковой армии, генерал Г. Гудериан, стоили фашистам огромных потерь не только от действий партизан. Подоспевшие из других районов страны войска Красной армии разнесли немцев в пух и прах. С октября 1941 г. по 2 февраля 1942 г. были разгромлены 38 гитлеровских дивизий, из них 11 танковых, остальные с огромными потерями были вынуждены отступить. Над Москвой были сбиты 1300 самолетов. Немцы потеряли до 500 тысяч солдат и офицеров только убитыми, еще сотни тысяч были ранены. Остальные войска были отброшены на 150–250 км от Москвы. Тебе, конечно, трудно представить число сражавшихся, раненых и погибших в этом гигантском сражении. Но если ты мысленно прибавишь к 500 000 убитым под Москвой немцам столько же (а может быть, и больше) погибших советских людей, это будет равноценно тому, как если бы сразу погибло все население твоего родного Милана. Миллион! Подумать только – миллион замерзших на сорокаградусном морозе трупов, припорошенных снегом. На москвичей обрушилось не только горе потерь, но и страшная обязанность: похоронить всех этих людей на политой кровью подмосковной земле. Выдолбить могилы в мерзлой земле, положить одних подальше от других и засыпать кого-то с ненавистью, кого-то – со слезами и болью в сердце. Эта трагедия длится до сих пор, и не только потому, что мы помним о ней. Десятки, а может быть, и сотни тысяч раненых, ставших тогда инвалидами, все еще мучаются, доживая свой век, без рук или ног, с простреленными легкими, ослепшие и контуженные. Подумай над этим. В годы войны такие разрушения и людские потери были не только под Москвой. Ведь нам еще предстояли трехлетние сражения, Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Ленинград. Годами на этих землях, разбитых взрывами, истерзанных осколками, покрытых тысячами подбитых танков и артиллерийских орудий, самолетов, на землях с невзорвавшимися снарядами, многократно пропитанных кровью, перекопанных под десятки, сотни тысяч могил, не росло ничего! Сеять пшеницу, как было до войны, стало невозможно. Земля не рожала по 3–4 года. 24 января 1942 года газеты сообщили, что Московская область, наконец, очищена от оккупантов. В этих боях, кроме сотен тысяч наших военных и ополченцев, погибло более 3000 партизан, многие пропали без вести. За все время сражений партизаны отвлекли на себя свыше 5 немецких дивизий из 75 атаковавших Москву, уничтожили около 50 000 солдат и офицеров из наступавших на город 1 850 000 немцев. Взбешенные народным восстанием у себя за спиной, немцы окончательно озверели: они вешали, расстреливали, заживо сжигали не только партизан, которых им удавалось захватить, но и мирных граждан. Взрывали города, жгли деревни, с особой яростью разрушали памятники старины и музеи. Был уничтожен Новоиерусалимский монастырь – гордость русского зодчества XVII века; предали огню дом в Клину, где жил и творил Петр Ильич Чайковский, Бородинский музей, посвященный битве русских войск с Наполеоном. Разгромили и обезобразили Музей-усадьбу Л.Н. Толстого в Ясной Поляне и многое другое. Зимой 41-го, отправляясь в разведку, я сама видела эти чудовищные разрушения. При разгроме штаба 512-го Пехотного полка Вермахта наши разведчики обнаружили приказ: «Всякий раз оставляемая нами местность должна представлять собой пустыню. Чтобы произвести основательные разрушения, надо жечь деревянные дома, взрывать каменные постройки, уничтожать подвалы. Мероприятия по опустошению территорий должны быть беспощадны, хорошо подготовлены и досконально выполнены». По этому приказу в Московской области были полностью уничтожены 640 сел, сожжены провинциальные города: Верея, Руза, Наро-Фоминск, Можайск, Истра. Около 1000 школ и 400 больниц. В Можайске немцы живьем сожгли в храме всех мужчин и подростков города! Да, вот еще один документ – приказ, найденный после разгрома немцев под Москвой: «…Все партизаны, независимо от пола, в форме или в гражданской одежде, должны быть публично повешены. Во всех селах, хуторах, где партизаны находят приют или снабжение продовольствием, дома сжигать, заложников расстреливать, пособников вешать. На всех входах в населенные пункты, занятые войсками, выставить усиленные караулы. Гражданские лица, не имеющие немецких пропусков, должны быть расстреляны на месте. Солдат обязан во всех случаях – во время службы, на отдыхе, на обеде – иметь при себе оружие. Командирам соединений представлять к награде лиц, особо отличившихся в борьбе с партизанами, равно как и лиц, отличившихся в боях…» Это были истеричные приказы немцев, оказавшихся на грани панической атаки. Маршал Г.К. Жуков дал высокую оценку деятельности партизан Подмосковья. Многие из них были награждены орденами и медалями, получили звания Героев Советского Союза. После боев под Москвой партизаны продолжали сражаться с немцами, продвигаясь в тыл нацистской армии теперь уже в других регионах страны. Мой однополчанин, Георгий Осипов, рассказывал, как в то время возникла разведывательно-диверсионная воинская часть 9903, в которой он начал воевать раньше меня: «Майора Артура Карловича Спрогиса вызвали к начальнику штаба Западного фронта генералу Василию Даниловичу Соколовскому. «Вам, профессионалам, хорошо известно положение на фронтах, – сказал генерал Соколовский. – Сейчас нам важно знать силы и планы противника в Белоруссии, ее магистрали и шоссейные дороги используются для переброски подкреплений на Восточный фронт. Следовательно, разведка должна сочетаться с активными диверсионными действиями на всех дорогах, подрывом эшелонов, мостов, нефтехранилищ, узлов связи, внезапными нападениями и уничтожением небольших гарнизонов, полицейских участков и т. д.». Для выполнения этих задач А.К. Спрогис возглавил воинскую часть 9903.
 Артур Карлович Спрогис, командир разведывательно-диверсионной части 9903.
Москва, 1941 г.
Артур Карлович Спрогис, командир разведывательно-диверсионной части 9903.
Москва, 1941 г.
Часть была интернациональной. В ее составе сражались русские, украинцы, белорусы, армяне, латыши, татары, коми, евреи, литовцы и бойцы других национальностей, отобранные лично Спрогисом. В ряды были приняты и немцы-антифашисты: братья Альфред и Виктор Кенан, Курт Ремлинг. В те годы никому и в голову не приходило делить людей по национальному признаку и выяснять, «кто лучше». В стране, где проживало более 100 национальностей, людей ценили за их личные качества, а не за принадлежность к той или иной этнической группе. Мы все были равны. И это стало нашей силой. Самые важные и опасные задания проводил сам Спрогис. Бойцы воинской части 9903 в течение весны – начала лета 1942 года по 10–12 человек вылетали в тыл к немцам и приступали там к боевым действиям. Дорогая Элиана, теперь, когда мы немного рассказали о боях под Москвой, я посылаю тебе записи из блокнота недавно умершего журналиста Юрия Федоровича Соколова, дополненные воспоминаниями моих однополчан в нашей с ним переписке. Обнимаю, твоя Тамара! Юрий Федорович Соколов пишет:
 Елена Павловна Гордеева, студентка Московского института транспорта, сражалась под Москвой в воинской части 9903. Москва, 1940 г.
Елена Павловна Гордеева, студентка Московского института транспорта, сражалась под Москвой в воинской части 9903. Москва, 1940 г.
«Темной июльской ночью 1942 года двухмоторный самолет "Дуглас" поднялся с аэродрома в Серпухове и взял курс на Запад за линию фронта в тыл врага. Там, в 27 км от Гомеля (Белоруссия), в лесу, на поляне, группа диверсантов-парашютистов должна была приземлиться, а затем незаметно пробраться в город для выполнения важного задания. На скамейках вдоль окон самолета расположились одиннадцать десантников. Рядышком сидели Тамара и Лена – неразлучные подруги. Студентка Елена Гордеева родилась в Москве в 1922 году. Она начала сражаться под Москвой в воинской части 9903 раньше Тамары. Тогда еще была жива ее однополчанка – знаменитая партизанка, Герой Советского Союза, Зоя Космодемьянская. Они еще ходили в тыл к немцам в Подмосковье пешком. В ноябре 1941 г. Елену тяжело ранили. Спасли ее в Сибири, в Омском госпитале; после выздоровления партизанка-доброволец Елена Павловна Гордеева вернулась в свою воинскую часть. Там-то они и подружились с Тамарой, которая перешла в воинскую часть 9903 из разведотдела 5-й Армии, сражавшейся с немцами под Москвой осенью и зимой 1941–1942 гг. Слева от девушек – Михаил Казаков из Ивановской области. Ему, как и Тамаре, восемнадцать лет, на год меньше, чем Елене. Успел перед войной закончить курсы трактористов и ушел добровольцем на фронт. В разное время, разными путями пришли все они в партизанскую разведывательно-диверсионную часть…»
* * *
«В октябре 1941 года, когда немцы подошли к Москве, – рассказывала мне позже Тамара Николаевна, – мы, московские комсомольцы, осознали, что все не относившееся непосредственно к обороне столицы теряет всякий смысл. Я училась в Московском городском театральном училище, но тревога в эти дни была так велика, что книги валились из рук. С 22 июля 1941 года по ночам Москву начали бомбить. Наши прожектора выхватывали самолеты из темноты ночного неба, грохотали зенитки… К сожалению, сбитых было не так много, как хотелось бы. Земля содрогалась от взрывов авиабомб. 10 октября 1941 года на Москву налетело сразу 70 немецких самолетов. Под тревожный вой сирен оставшиеся в городе москвичи укрывались в метро и бомбоубежищах. Горе было большое: разрушены десятки жилых домов, гибли люди. Фугасные бомбы попали также в здания Курского вокзала, театра им. Вахтангова, Большого театра, Книжной палаты, на Манежную площадь; горела Красная Пресня и другие районы. А ведь никаких войск в городе не было, и немцы это знали. И все же днем мы продолжали учебу. А ночью дежурили на крыше нашего училища, которое находилось в одном здании с Театром имени Революции (теперь он называется Театром имени Маяковского). Во время бомбежек мы скидывали с крыши немецкие зажигательные бомбы, стараясь не угодить под осколки. Однако в ночь на 16 октября нашим студентам было предложено уйти из города. Пешком, поскольку транспорта уже не оказалось, а немцы были близко. «Уходим? Значит, Москву сдадут?», – подумала я с ужасом. Все во мне протестовало против этого! А тут, чуть раньше, я слышала, что если гитлеровцы ворвутся в город, то защитники столицы, уходя, взорвут все мосты, метро и, может быть, даже Кремль, чтобы врагу ничего не досталось… Тогда много разных слухов ходило… Я не могла уйти из Москвы в такую пору. Я любила ее так же, как свой родной Тбилиси, привыкла гордиться этим замечательным городом. Любовалась его улицами, домами, парками, а Кремль олицетворял для меня всю нашу Родину. Проводив притихших студентов нашего училища с их рюкзаками и сумками, пожав руку директору училища Коробову, уходившему с ними, я шла подавленная по пустынным улицам Москвы без всякой цели. Временами издали была слышна артиллерийская канонада, фронт был рядом. В воздухе летали кусочки жженой бумаги, иногда пахло гарью. В разных местах, даже в домоуправлениях, жгли документы, чтобы они не попали в руки к немцам, если те возьмут столицу. День был серый, холодный, город казался безлюдным. Большинство мужчин сражались на фронтах с гитлеровцами: кто в Красной армии, а те, кого не брали в армию по состоянию здоровья или по возрасту, ушли в ополчение защищать Москву с оружием в руках. Большинство оставшихся горожан: женщины, старики, подростки, рыли окопы вокруг города, становились донорами, сдавая кровь для раненых бойцов, помогали в госпиталях. Многих эвакуировали на восток страны с промышленными предприятиями. Пустые улицы казались широченными, изредка проезжала какая-нибудь автомашина. После нее пустота и тишина были еще тревожней. Неожиданно я оказалась на Крымском мосту. Как он был красив! «Значит, и его взорвут», – подумала я с горечью. Сняла перчатку и погладила ледяные перила… попрощалась… «Всей этой красоты не будет?! Войдут фашисты?!» От этих мыслей становилось страшно. И тут окончательно созрело решение. Почти побежала к зданию Московского Комитета ВЛКСМ. Здание ЦК Комсомола после гитлеровских бомбежек стояло в руинах. Пройдя мимо них в тишине пустых улиц, я свернула в Колпачный переулок, где находился Городской Комитет Комсомола и… ахнула! Сотни, если не тысячи,мальчишек и девчонок комсомольского возраста молча сбились в стайки перед зданием. Стояла напряженная тишина… Все они пришли за направлением на фронт, чтобы защищать родной город…»Продолжает рассказывать в своем письме Ю. Соколов: «Тамара присоединилась к этим девушкам и юношам. Простояв на улице в толпе комсомольцев несколько часов, она попала, наконец, к молодому военному инструктору Горкома Комсомола Александру Шелепину, измученному бессонницей и круглосуточным притоком добровольцев[5]. Он сидел на письменном столе рядом со стаканом чая и доедал бутерброд с колбасой. Спросил ее устало: – Сколько тебе лет? Что умеешь делать? – Восемнадцать, умею стрелять, ездить верхом, и еще на мотоцикле, немного знаю немецкий… – В разведку пойдешь? – не то спросил, не то определил ее судьбу Шелепин и стал выписывать документ-направление. Многих ребят «домашних», не спортивных, несмотря на протесты, Шелепин отправлял домой… Под монотонный гул мотора вспоминались Тамаре заваленное снегом, заледеневшее декабрьское Подмосковье, 5-я Армия, днем и ночью отбивавшая атаки немцев под грохот орудий и бомбежек, прифронтовая разведка, где она начала свою солдатскую службу в конце 1941 года.
 Группа девушек-бойцов разведывательно-диверсионной части 9903 перед вылетом в тыл врага. В центре: Герой Советского Союза Елена (Леля) Колесова, 1942 г.
Группа девушек-бойцов разведывательно-диверсионной части 9903 перед вылетом в тыл врага. В центре: Герой Советского Союза Елена (Леля) Колесова, 1942 г.
 Боец разведывательно-диверсионной части 9903 Овидий Горчаков, 1942 г.
Боец разведывательно-диверсионной части 9903 Овидий Горчаков, 1942 г.
Что они, девчонки-разведчицы, видели за линией фронта под огнем артобстрелов и вой авиабомб? Наступавших, а потом отступавших немцев… Замерзшие на сорокаградусном морозе тела наших убитых солдат и множество трупов гитлеровцев… Подбитые танки, артиллерийские орудия, сгоревшие обломки самолетов и другой военной техники – своей и чужой… Сожженные избы, разрушенные дома разоренных сел и пригородов, слезы беженцев… Видели повешенных и расстрелянных жителей, погибших красноармейцев и ополченцев, защищавших Москву, сотни немцев, окаменевших на морозе, в самых нелепых позах торчавших среди почерневших от гари, развороченных взрывами сугробов… Зима 1941 года была лютой, морозы минус 40–41 градус. Сердце кровью обливалось от всего увиденного. Руки тянулись к оружию, которое тогда ей еще не полагалось. После настойчивых требований она добилась от Шелепина в марте 1942 года перевода к разведчикам-диверсантам, в воинскую часть 9903, находившуюся под командованием штаба Западного фронта. Командир Артур Карлович Спрогис пользовался непререкаемым авторитетом. В части бойцы знали, что в 1918 году во время Гражданской войны он был юным разведчиком, потом служил в погранвойсках. В Испании в 1936–1938 годах за дерзкие действия в тылу франкистских войск и подрыв патронно-порохового завода в неприступном тогда городе Толедо; получил высокую награду – орден Ленина. Знали молодые добровольцы и о том, что с самого начала войны их командир обезвредил несколько шпионских групп, засланных к нам в тыл гитлеровцами по земле и по воздуху. Опытный разведчик, умный наставник, он за короткий срок вместе со своими помощниками, офицерами разведки, обучил сотни добровольцев воинской части 9903 подрывному делу, основам разведки, диверсионным приемам, обращению с парашютом. Физически и морально закалил их. Внезапная вспышка осветила лица десантников… за ней вторая, еще и еще…»
 Журналист Ю. Соколов (справа) с бывшими военнопленными у колодца, в который во время войны гитлеровцы сбрасывали раненых красноармейцев.
Славута, 1985 г.
Журналист Ю. Соколов (справа) с бывшими военнопленными у колодца, в который во время войны гитлеровцы сбрасывали раненых красноармейцев.
Славута, 1985 г.
Елена Павловна Гордеева, разведчица-подрывник вспоминает в своем письме: «Самолет был обнаружен врагом, и мы попали под обстрел. Я смотрела в окно и видела, как за бортом самолета, совсем рядом, разрываются снаряды и вспыхивают зеленые и красные огоньки трассирующих очередей, слышала сквозь гул моторов грохот разрывов… А внизу была видна полыхающая линия фронта, почти прямая, уходящая за горизонт. Горели деревни, рвались снаряды, летели трассирующие пули, зависли над землей осветительные ракеты. Действительно – линия огня. Самолет стало бросать и трясти, как на булыжной мостовой. Ослепляющие лучи прожекторов то освещали лица десантников, наш комсомольский «спецназ», то шарили по ночному небу… “Дуглас” забирал все выше и выше, и куда-то вбок от линии фронта. И вскоре после того, как летчику удалось ускользнуть из-под огня противника, сквозь напряженный гул моторов в темноте послышались звуки зуммера, и сопровождающий подал команду: “Приготовиться!“ Мы выстроились у двух боковых, противоположных друг другу, дверей самолета в порядке, определенном еще на земле. Я прыгала первой из правой двери, за мной – Тамара. Дверь открыли, и светлой летней ночью мне было видно, как мы пролетали над лесами, полями, темными пятнами селений. Вся панорама, чуть серая, покачивалась и уходила из-под ног. В разных местах на большом расстоянии друг от друга виднелись зарева пожарищ. Это каратели жгли деревни. Я стояла у самой двери и из-за шума моторов команда до меня долетела неясно. Но тут же раздался отчетливый голос нашего командира группы Корнеева: “Пошел!“ – с добавлением крепкого солдатского словечка, и я прыгнула за борт…» Тамара продолжает рассказ: «Не мешкая, я двинулась сразу же за Лелей, грудью подалась вперед, и, прежде чем ноги оторвались от пола, ветер вырвал меня из двери. Секунды свободного полета; в наступившей тишине был слышен сразу ослабевший гул самолета – и вдруг по лицу больно ударило прикладом винтовки, которая висела на моем плече: раскрылся парашют, натянулись стропы. Падение резко прекратилось, и я, плавно раскачиваясь, стала приближаться к земле. Недалеко от себя я увидела серые в ночных сумерках купола парашютов моих товарищей. Далеко-далеко все еще слышался гул нашего самолета. Парашют под свежим ветерком развернуло раз-другой, и он понес меня прямо на лес. «Не зависнуть бы на дереве», – только успела подумать я, и тут же с облегчением увидела под собой поляну. По сапогам прошелестел тростник и я… плюхнулась по пояс в лесное болото. Услышав снова над головой самолет, нашарила фонарик и, как было велено, помигала им вверх, и только потом потерла рукавом ватника лицо, сплошь облепленное комарами. Торопливо подтянув парашют, стала выбираться из болота в сторону высоких деревьев, черневших неподалеку на фоне более светлого неба. Чуть в стороне послышался тихий свист, затем хрустнула сухая ветка. Сердце замерло. – Кто там? – спросила я вполголоса. – Мы, – ответил знакомый голос. Подошли Алексеев с Кравцовым – подрывники нашей группы. Молча помогли отцепить и утопить в болоте парашют. Вглядываясь в темноту леса, помигали фонариками, снова тихо посвистели, но ответных сигналов не было. Я вылила воду из сапог, сняла мокрые ватные брюки, надела юбку, выжала портянки, отгоняя ими комаров. Решили продолжить поиски. Пока пробирались вдоль болота, я заметила, что Кравцов прихрамывает. – Что с ним? – спросила Алексеева. – Перед самым вылетом у него в кармане сдетонировал взрыватель. Спасли ватные брюки. Никому не сказал, боялся, что его оставят в госпитале и он не полетит с нами. А теперь, после прыжка, разбередил рану. – Ничего, – буркнул Кравцов. – До свадьбы заживет! Прислушиваясь и оглядываясь по сторонам, в надежде заметить свет фонариков остальных десантников, мы взяли немного в сторону от болота, где нас нещадно ели комары. Теперь сапоги увязали в глубоком песке, цеплялись за невидимые сучки и корни деревьев. Постепенно лес стал оживать. Зачирикали, затрещали птичьи голоса. В рассветном сумраке просматривались сосны, березы, а мы все еще брели по лесу, надеясь выйти к поляне, на место встречи, как договорились в Москве, ориентируясь по карте. Среди высоких сосен увидели островки кустов. В них можно было укрыться. Я предложила остановиться в этом месте. Кравцов еле шел. – Подождите меня тут, а я посмотрю, куда мы попали, может, и остальных ребят найду. Нечего с такой ногой шататься по лесу. Я распаковала свой вещмешок, достала летнее платье, туфли, переоделась и, оставив винтовку с вещмешком ребятам, ушла на разведку».
Из письма Елены Гордеевой-Фоминой: «Наша группа, в которой были мы с Тамарой, состояла из 11 человек. Как было сказано командиром перед вылетом, мы должны были собраться на лесной поляне. Следуя этим указаниям, после приземления я отправилась на ее поиски. Еще при раскрытии парашюта меня дернуло с такой силой, что слетели сапоги, вещмешок и винтовка. Теперь без сапог, почти безоружная (у меня остались только гранаты, прикрепленные к поясу), я босиком, осторожно, пробиралась между деревьев. Поляны никакой не нашла. Кругом лес да болото, в котором я утопила свой парашют. Стала посвистывать. В стороне послышался ответный двойной свист. Сомнений не было: кто-то из своих. Так, пересвистываясь, мы вышли навстречу друг другу. И когда оказались совсем близко, я спросила: «Кто это?» – «Это я, Иван Атякин, Лельк, это ты, что ль?». Мы были рады встрече. Я взяла у него питание к рации, которое тянуло килограммов на десять, Иван оставил себе рацию и вещмешок, и мы отправились на поиски других членов нашей группы. Ходили, посвистывали, сигналили фонариками, но так никого больше и не нашли. После напряженной ночи мы устали и, когда рассвело, залезли в небольшой кустарник, решив в нем отдохнуть…»
Продолжает рассказывать Тамара: «Лес, к моему удивлению, как-то внезапно кончился, высокие сосны поредели. По краю леса шла проселочная дорога, за ней – небольшая луговина, чуть дальше по кустарнику угадывался ручей, а еще дальше колосилось ржаное поле. Возле ручья, который оказался небольшой речушкой, росли кряжистые лохматые сосны и светлые густые березы. Я взобралась на одну из них и увидела вдалеке деревушки, а за полем ржи – необработанный луг. Лес, из которого я вышла, такой темный, густой и мрачный, теперь под лучами солнца казался прозрачным и даже каким-то радостным. Как будто и не было войны. Солнце пригревало, летали пчелы, посвистывали птицы… Вдруг в нескольких километрах справа от меня показался разрушенный железнодорожный мост. Хорошо были видны упавшие в воду пролеты. Судя по длине моста, река должна была быть широкой… То, что я увидела, удивило и встревожило. Глухое, недоброе предчувствие поднялось в груди… Быть этого не может! Я сползла с дерева. На нашей карте, которую мы выучили назубок, не было ни реки, ни железнодорожного моста, ни деревушек. Я шла вдоль речушки, пробираясь кустами, обогнула холм, поросший елочками, и вышла к полоскам огородов. На одной из них копошилась старая женщина. Я подошла к ней. – Здравствуйте, бабушка! Куда ведет эта дорога? В то село? Как оно называется? – Комарин, Комарин, касатка. – А во-он та деревня? – Лужаки, – старушка разглядывала меня, мое белое платье в красный и черный горошек, туфли со шнурками. – А немцы там есть? – спрашиваю неожиданно для самой себя. – Есть-есть. И там немец, и там… Не ходи туда, дочка… – Спасибо, бабушка. Беженка я, к родным добираюсь. Спасибо. Возвращалась я прежним путем. Обогнула холм, прошла кустами вдоль речки и осторожно юркнула в лес. Отыскала своих товарищей. – Во-первых, лес кончается тут же рядом, – рассказала им. – Справа – железнодорожный мост, какая-то большая река, и названия деревень совсем не те. Давайте переберемся поглубже в лес. Они удивились: откуда какое-то село Комарин, мост? Не было этого в районе приземления, все хорошо помнят ту карту местности. И немцев не должно было быть. Странная история: уж про мост-то предупредили бы – заметный ориентир… Мы собрали свои мешки и углубились в лес, ближе к болоту. И никому из нас тогда не пришло в голову, что после внезапного обстрела самолет сбился с курса и высадил группу в другом месте. Отдохнули, пожевали копченую колбасу с сухарями из Н3, обсудили обстановку и решили дождаться темноты, а на день затаиться, чтобы не обнаружить себя. Однако я не могла справиться с тревогой. Не могла в этой непонятной ситуации сидеть сложа руки. Надо было хотя бы узнать, как далеко тянется этот лес. Закрепила компас на руке, взяла свои документы на имя Гванцеладзе и сказала ребятам: «Оставайтесь тут, а я все же пойду посмотрю другую сторону леса. Ночью тут ничего не поймешь». Винтовку и вещмешок опять оставила им. В мешке лежал и пистолет, который мне вручил перед отлетом Спрогис: «Если попадешься, то лучше застрелись. Ты слишком хороша, чтобы они просто так тебя повесили», – сказал он мне на прощание. Я вновь шла вдоль речки-ручья, но уже в другую сторону леса. И подумать только, что он казался мне ночью почти непроходимым!.. Довольно скоро лес кончился и с этой стороны. Прикинула, что по площади он, пожалуй, километр на километр, а в глубину, может, чуть больше. А вокруг опять поля и деревни вдали. Спрятаться негде. Искать своих надо только в глубине леса. Тем же путем, по берегу речушки, пошла обратно. Жарко, пахнет травами, изредка прощебечет какая-то птаха… И вдруг раздался собачий лай. Лаяло несколько собак впереди меня. Я прибавила шаг. Стал слышен невнятный говор. Осторожно раздвинув ветки, застыла: вдоль дороги, метрах в пятидесяти, не дальше, спиной ко мне, развернувшись цепью, в сторону леса шли десятка два вооруженных полицаев и шесть немцев с собаками на поводках. На самой дороге почти напротив того места, где прятались Алексеев и Кравцов, стояли подводы с лошадьми. Облава! Лес небольшой, теперь я это знала – прочешут еще до темноты! Кравцов с раненой ногой далеко не уйдет. Алексеев его не бросит. Завяжется перестрелка. Ну, сколько они там смогут отстреливаться… А остальные, Леля? Перебьют же поодиночке! Нельзя было терять ни минуты – отвлечь, остановить! И я вышла из кустов на луговину».
Вспоминает Елена Павловна Гордеева: «Проснулись мы от собачьего лая. Этот лай не был похож на беспорядочный брех дворовых собак. Солнце еще высоко. Откуда-то со стороны донесся шум мотоцикла. Мы с Иваном быстренько собрали свои немногочисленные вещички и отправились в противоположную сторону от лая, решив держаться подальше. Лес, который ночью нам казался густым и непроходимым, оказался довольно-таки редким: кругом высокие деревья и почти нет кустарника, в котором можно было бы укрыться в случае опасности. А тут еще и собаки… “Если это немецкие ищейки, то на болоте они нас не найдут”, – сказала я Ивану. Чахлое деревце среди болота стало нашим ориентиром. По зыбучей трясине через камыши мы перебрались к нему и спрятались в низеньких кустах у его корней, на крохотном островке».

Глава 2 Плен
«…полицаи побежали ко мне с криками и матерной бранью. Надо отвести от леса, надо напугать… но как?! Вот и немцы стали приближаться со своими лающими псами».Продолжает рассказ Тамара: «Меня заметили сразу. Первым, кажется, закричал немолодой полицай. Как потом выяснилось – староста села Комарин: – Партизанка! Все повернулись на его крик, и полицаи побежали ко мне с криками и матерной бранью. Разного возраста, с белыми повязками на рукавах, одетые в обычные крестьянские куртки, пиджаки и картузы, все с немецкими автоматами. Я медленно шла им навстречу и старалась улыбаться. «Предатели! Гады! – думала я с ненавистью. – Только бы не застрелили сразу. Надо отвести от леса, надо напугать… но как?!» Ноги одеревенели и едва слушались. Вот и немцы стали приближаться со своими лающими псами. – Партизанка, б… шпионка! – орали полицаи, срывая компас с моей руки. Тут же обыскали, выхватили из-за пазухи мои документы с вложенной в них фотографией «Ганса»[6], передали подбежавшему немцу. – Юден? – спросил он, глядя мне в лицо. – Нет, грузинка, – ответила я по-немецки и улыбнулась ему. Вот это номер! Принял за еврейку! «Ну конечно: глаза карие, волосы темно-каштановые, да еще вьются… На фоне светлоголовых голубоглазых белорусов моя армянская внешность вполне отвечала его представлениям о евреях», – думала я. Он рассматривал мои документы. Хорошо, что в Москве в штабе меня спросили, говорю ли я по-армянски – видимо, предвидели такой оборот дела. А когда я сказала, что армянского не знаю, но с детства говорю по-грузински, так как росла среди грузин в Тбилиси, то в немецких документах написали «грузинка» и имя мы вместе подобрали грузинское – Этери Гванцеладзе. Полицаи продолжали ругать меня. Так и сыпалось: «Жидовская морда! Сталинская курва, бандитское отродье! Небось комсомолка, жидовка!» Фельдфебель оторвался от документов: – Партизанка? – Медицинская сестра, – спокойно ответила я. Чего мне стоил мой спокойный голос и улыбка! Она просто застыла на моем лице, как судорога. А в голове лихорадочно складывалась новая версия моей легенды… – Это ваши документы? – спросил фельдфебель и прикрикнул на полицаев по-русски: – Тишина! – Мои, – подтвердила я по-немецки. – Рассказывайте. – Только без этих вот… – презрительно скривилась я, кивнув на полицаев. Те двинулись было на меня с руганью, но немец их остановил. – И потом мне нужен переводчик, для большого разговора, я плохо знаю немецкий, – тянула я время. Из группы полицаев выдвинулся какой-то прилизанный тип, говоривший по-немецки. «Вероятно, школьный учитель», – почему-то подумала я. Немцы с переводчиком отошли со мной в сторону за одиноко стоявший на луговине куст. – Я слушаю, – сказал фельдфебель. Тут один из немцев, который был рядом со мной, спокойно расстегнул штаны и стал мочиться в кусты. Никто никак не отреагировал. Я была потрясена! Это что же за скоты такие? Или собираются меня тут же прикончить, и я для них уже не существую?! Но я взяла себя в руки и прежним спокойным тоном стала рассказывать: – Я весь день ищу вас и очень рада, что, наконец, мы встретились… – медленно, выжидая, пока переводчик закончит перевод, я говорила о том, как отступала с немецкими войсками из Можайска, как ранее, взяв город, немцы мне выдали этот паспорт. Как я познакомилась с Гансом, и что у нас была любовь, и мы собирались пожениться. Как в суматохе отступления Ганс велел мне вернуться в Можайск и ждать его там, так как, по его словам, их часть уходит временно и скоро вернется. Но они не вернулись. – А меня с приходом русских, как бывшую студентку медицинского училища, мобилизовали… Я сама напросилась в десантную часть, – всхлипнула я и стала вытирать слезы. – Я хочу найти Ганса… Эта была единственная возможность вырваться к вам и найти его. Я знаю, что в германской армии замечательный порядок, и мне помогут найти Ганса, помогут, я уверена, найти нам друг друга… Я рассказывала, вытирая слезы, переводчик переводил. Немцы слушали. А время шло… – Яверювам, фройляйн, – сказал, наконец, фельдфебель. – Но вы должны доказать нам свою лояльность, время военное, сами понимаете. Тогда и мы вам поможем. Расскажите, что это за парашютисты, с которыми вы прибыли, сколько их, где они, какое у них задание? Мы слышали ночью рокот самолета… Я ждала, пока переводчик все это переведет, хотя прекрасно поняла, о чем меня спрашивают. Только бы потянуть время, только бы поверили! Сейчас самое главное… – Я рада вам помочь. Только самолет был не один, – объявила я. – Как не один? Мы слышали один. – Вы ошиблись, их было два. «Как медленно спускается солнце к закату, – думала я. – Как нам нужна темнота!» – и продолжила отпугивать немцев от леса. – Парашютистов, не считая меня и еще одной медсестры, сорок восемь человек. В эту ночь они все собрались и заняли круговую оборону. Я еле выползла от них в поле. Вооружены пулеметами, минометами, у всех автоматы. Какое задание? Громить мелкие гарнизоны немецкой армии и полицаев. Я уверенно описывала грозную для фельдфебеля и его команды ситуацию и с удовольствием наблюдала их тревогу. Радость моя увеличивалась еще и оттого, что солнце близилось к горизонту. Лес уже начал темнеть. Еще немного – и наступят сумерки. – Так где же они? – спросил немец, озираясь. – Вся группа в обороне во-он там, в конце леса, в елочках, – показала я вдаль на границу леса и поля. Переводчик заметно волновался, поглядывая по сторонам. Собаки мирно лежали на траве у ног немцев, но хозяева явно нервничали: кто курил, кто беспокойно прохаживался взад-вперед, всматриваясь в лес. – Могу вас туда проводить, – не унималась я, понимая, что план мой срабатывает. Фельдфебель молча подвел меня к подводе, стоявшей на дороге. Остальные поплелись за ним. На подводе лежал наш грузовой вещмешок с боеприпасами, минами, аптечкой. – Что это за мешок? Он упал ночью возле села, – немцы уставились на меня. Вот оно в чем дело! У меня сжалось сердце. Как же теперь обойтись без всего того, что так нам необходимо, что так аккуратно мы складывали еще вчера перед отлетом… Теперь ясно, почему облава: всполошились бесы, найдя мешок… – Понятия не имею. – Не имеете понятия? – фельдфебель недоверчиво покосился на меня. – Это не из нашего самолета. Это, наверное, со второго. Все наши мешки были оранжевые, а этот зеленый, – доказывала я наличие двух самолетов. Дождевое облако заслонило заходящее солнце. Фельдфебель посмотрел на почерневший лес, задумался, оглядел группу полицаев на луговине и… приказал всем садиться на подводы. Я не верила своим ушам! Неужели убираются? Неужели победа! – Век, век, век[7]! – поторапливал фельдфебель. – Как «век»? Вы не пойдете туда? – «обеспокоено» спросила я, кивая на дальний край леса. – Нет, завтра. Едва скрывая свою радость, видя, как торопятся солдаты, я все увереннее настаивала: – Имейте в виду, они вас ждать не будут. Завтра, нет, сегодня же ночью, они уйдут. Чтоб потом ко мне не было претензий! Ну, почему вы уезжаете? – Не твое собачье дело! – буркнул переводчик, усаживаясь на край телеги… Фельдфебель достал блестящие наручники. – Извините, фройляйн, я должен… на всякий случай. У нас так положено, – и сковал мне руки. Затем указал на свой мотоцикл. Так мы и поехали, как потом выяснилось, в Комарин: он – за рулем мотоцикла, я – на багажнике. Сзади нас пылили телеги с остальными немцами, собаками и полицаями. Наручники и немцы меня мало беспокоили. Ехала я с чувством исполненного долга. Главное, выиграно время. Лес небольшой, ночью ребята соберутся и уйдут, таков был приказ: собравшись, сразу уходить с места приземления. То, что мы попали в незнакомый район, я успела передать ребятам. Теперь можно и о себе подумать… Как освободиться самой? Но это подождет до завтра. Как-нибудь сбегу, думалось мне. А пока настроение было приподнятое. Редкие прохожие на пустынной улице села с удивлением смотрели на мотоцикл фельдфебеля и телеги с остальными солдатами. «Девичка» в городском платье, нездешняя, в наручниках, вызывала и любопытство, и сочувствие. Возле одного крыльца я заметила старушку, с которой говорила утром в поле на огородной грядке. Она что-то шептала и украдкой издали перекрестила меня…
Вспоминает в своем письме Елена Павловна Гордеева-Фомина: «На островке мы сидели до тех пор, пока все не стихло. А затем, выбравшись из болота, снова отправились на поиски ребят. Неожиданно вышли на край леса, увидели на песке следы немецких сапог. Нам показалось это странным. Нам говорили, что немцы на захваченной территории в одиночку в лес не ходят. Пошли дальше, и опять обнаружили те же следы. Снова углубились в лес и, когда стало темнеть, продолжили поиски. Они оказались безрезультатными.
 Елена Павловна Гордеева, боец разведывательно-диверсионной части 9903. Подмосковье, 1941–1942 гг.
Елена Павловна Гордеева, боец разведывательно-диверсионной части 9903. Подмосковье, 1941–1942 гг.
На рассвете решили запросить Центр, какое они дадут распоряжение. Мы находились в лесу, рядом с болотом, ужасно донимали комары, лица и руки у нас сильно распухли и были в царапинах от беспрестанного расчесывания. Тогда я решила из своего черного берета сделать защитную маску. Вырезала финским ножом дырки для глаз и рта и надела берет на лицо. В таком виде, едва держа карандаш в опухших руках, составила текст радиограммы и отдала Ивану шифровать. Дождавшись времени выхода в эфир, Иван развернул рацию, забросил повыше на дерево антенну и начал вызывать Центр. Я, замаскировавшись в кустах с наганом Ивана в руке и гранатой за поясом, все в той же маске-берете, стала наблюдать, чтобы враг не застал нас врасплох. В полутьме рассвета стал накрапывать дождь. Иван никак не мог связаться с Большой землей. И вдруг вижу: среди деревьев мелькают две фигуры. Впереди высокий, с немецким автоматом, висящим на груди, в пилотке, форму в утреннем сумраке не разглядишь, второй поменьше ростом, идет за ним и почти не виден. Первое, что пришло в голову, – фашисты! Быстро говорю Ивану: «Сматывай рацию: немцы!». Иван стал быстро стягивать антенну с дерева. Я прицелилась в идущих прямо на нас солдат. Начинаю взвешивать возможности. Из нагана на учениях я попадала в цель прилично. Но при большом расстоянии решила, что промажу. Надо ждать, когда подойдут поближе. Вдруг идущий впереди нагнулся, что-то поднял с земли, и за ним я увидела Второго. Какова же была моя радость, когда в нем я узнала заместителя командира группы Граховского. А рыжеватый, вооруженный немецким трофейным автоматом и издали похожий на фрица, был наш командир Леша Корнеев. Я выскочила из своей засады и бросилась на шею Корнееву. Он оторопел от неожиданности. Да и видок у меня был далеко не элегантный: на лице маска, без сапог, ноги завернуты в разорванную на портянки рубаху. – Лелька Гордеева, ты ли это? – первое, что спросил Корнеев. – Где остальные? Веди скорее к ним! И когда я ему сказала, что здесь нас только двое с Атякиным, и никого больше с нами нет, он одновременно огорчился и обрадовался. Группа вся еще не собралась, но хоть радист нашелся. Иван к этому времени сложил рацию и, тоже радостный, вышел из кустов. Пошли рассказы, кто как приземлился и кто как провел время до встречи. Леша Корнеев, разглядев мои пораненные ноги, сказал: – Надо доставать тебе, Лелька, обувь. Что за боец босиком? Затем, прочитав текст радиограммы, Лешка решил: – Хорошо, что вы не вышли на связь. Надо вообще подождать связываться с Центром, пока не найдем остальных. И снова, но уже вчетвером, мы отправились на поиски. Вскоре, рыская по лесу, в березнячке увидели женщину, собиравшую ранним утром грибы, подошли к ней, заговорили. Прежде всего спросили, что за местность. Стало ясно, что летчик, выходя из-под обстрела, сбился с курса и выбросил нас не там, где надо было (на 120 км дальше). Поэтому-то и поляны, обусловленной для сбора, никто не нашел. Женщина рассказала, где поблизости находятся немцы, предупредила, что вчера они приезжали в лес, но зачем – она не знает. Корнеев, показав на мои босые ноги, попросил женщину принести какую-нибудь обувку для меня, так как нам срочно надо было уходить с этого места. Она показала нам безопасный путь из леса, по которому мы двинулись вместе, а вскоре женщина отошла от нас ненадолго и принесла парусиновые полуботинки сорок второго размера. Хотя я носила тридцать шестой, была им очень рада. Еще через двое суток, в стороне от леса, в березовой роще у речушки, нашлись Димка Канач и Миша Казаков, которые поделились своими наблюдениями…»
Продолжает рассказ Тамара: «…В центре села мотоцикл въехал во двор двухэтажного кирпичного здания старинной кладки с зарешеченными окнами первого этажа. По длинному коридору меня провели в маленькую пустую комнату с каменным полом и небольшим зарешеченным окошком под потолком. В углу на полу лежала охапка сена. Наручники сняли. – Тут вы побудете только эту ночь. Завтра, как только мы найдем парашютистов, вас освободят, – сказал фельдфебель. Железная дверь с грохотом закрылась. «Черта с два вы их найдете!» – злорадно подумала я. Слабый свет из окошка. Побелка на стенах вся испещрена какими-то надписями и царапинами. С трудом разбираю написанные вкривь и вкось строчки. Где химическим карандашом, где выцарапано чем-то острым, гвоздем, что ли? Где коричневатой жидкостью – уж не запекшаяся ли кровь? «Мама, прощай! Завтра меня расстреляют. Юра», «Будь проклят фашист, скоро и тебя повесят!», «Счастье – отдать жизнь за Родину!», «Да здравствует Сталин!», «Родина будет свободна!», «Всех не убьете, палачи!». Стало совсем темно. Невозможно прочесть, что там еще написано. Навернулись горькие слезы. «Ненавижу немцев, ненавижу полицаев, ненавижу! Скорей бы вырваться… Завтра – тяжелый день». С такими мыслями легла на охапку сена на полу, засыпаю. Почему-то ни разу не мелькнуло опасение, что могла разделить участь этих патриотов, оставивших тут свои последние слова-призывы. Проснулась от грохота открывающейся железной двери… Утром меня вывели из камеры во двор полицейского участка. Обрадовала неожиданная перемена погоды. После вчерашнего яркого солнца небо затянули темно-серые тучи, моросящий дождь поливал всех и все. «Теперь ни вы, ни ваши овчарки вообще ничего не найдете. Даже следов», – думала я, спокойно оглядываясь вокруг. Во дворе толпились вооруженные автоматами немцы и полицаи. Повизгивали собаки. Было много телег. На них под плащ-палатками лежало, видимо, еще какое-то оружие. Народа было много. За ночь, а может, и рано утром собрали, очевидно, подкрепление со всего района. Меня это не тревожило. Я была уверена, что наша группа собралась в эту ночь и теперь далеко ушла от этих мест. – Итак, едем на поиски, – подошел ко мне фельдфебель с какими-то вновь прибывшими немцами. – Вы должны показать нам то место, где они находятся. Я нахмурилась и сказала обиженно: – Их теперь там нет. Я предупреждала, что они не будут вас ждать, особенно после моего исчезновения. Надо было брать их вчера, как я вам предлагала… вы не захотели, а теперь я ни за что не отвечаю. Мои слова перевели громко, и от этого они прозвучали вызывающе. Я впервые подумала, что мне следует говорить по-немецки хоть кое-как, но самой. А так можно нарваться на неприятности от одного только нахального тона переводчика. Фельдфебель злобно посмотрел, надел на меня наручники и стал отдавать команды на отъезд, провозились до полудня. Меня посадили на первую телегу. Лошадьми правил полицай. Переводчик сел рядом, подсели и несколько немецких солдат. Дождь почти прекратился, и мы выехали из села. Телеги остановились перед лесом на том же месте, где были и вчера. Меня повели в лес, сзади рассыпались цепью полицаи и немцы с собаками. Мокрые деревья и кусты осыпали всех брызгами, ноги утопали в сыром песке. Я вела их подальше от болота, к краю леса у самого поля. Болото отделяло это место от остального лесного участка. – Ну, где же они? – фельдфебель злился. – Я же говорила… – заныла я, в душе потешаясь. Солдаты и полицаи без особого рвения шарили по лесу. Осторожно обходили болото. Конечно, никому не хотелось нарваться на вооруженную до зубов засаду. Нашли один изрезанный парашют и берет нашего командира Корнеева. Все. На лицах видно было не столько разочарование, сколько облегчение. Молчаливые с утра солдаты и полицаи загомонили, каждые на свой лад. Закинули оружие за спину, стали собираться к телегам… В душе я ликовала! Подул ветер. Стало холодно в мокром платье и с мокрой головой. – Я не могу вас освободить. Мы не нашли никого, – подошел ко мне фельдфебель. – Поедете к моему начальству в Брагин. Там пусть и решают. Неожиданно выглянуло солнце. Все вокруг засверкало, заблестело. Я насторожилась. Далеко ли этот Брагин. Может, меня в пути увидят наши ребята? Помогут? Или самой повезет? – Но вы должны сообщить вашему начальству, что я добровольно к вам явилась и была готова показать вам место, где собрались парашютисты! – продолжала я гнуть свою линию. – Да-да. Все уже написано, – сухо перебил меня фельдфебель. – Там все устроится, и Ганса найдут… Так начался мой путь в неизвестное. Телега катилась под ярким солнцем по мокрому песку, по лужам. Наручники заменили тугой веревкой. Платье на мне высохло, волосы тоже. Сопровождали меня, кроме возницы на телеге, еще двое вооруженных ружьями полицаев. Один из них держал под курткой мои документы, – видела, как он их прятал. Я смотрела то на мокрый лес, то на сверкающее каплями недавнего дождя поле, усыпанное цветами, то на рожь возле дороги, и мысленно перебирала в памяти события этих суток, пытаясь угадать, что меня ждет в ближайшие часы». Тут, моя дорогая Элиана, я прерву наши с Соколовым и Лелей воспоминания и покажу тебе письмо нашего товарища Михаила. (Кстати, недавно мы с Еленой и Шурой, нашей однополчанкой, были у него в гостях в Краснодаре.) Он написал это письмо Елене Гордеевой-Фоминой вскоре после того, как нашел ее адрес. Ведь к концу войны нас так разбросало, что мы с трудом находили друг друга. Письмо Михаила, думаю, дополнит эпизод, о котором я рассказала Юрию Федоровичу.
Отрывок из письма бывшего партизана, разведчика-диверсанта Михаила Казакова.
 Михаил Казаков, боец разведывательно-диверсионной части 9903. Подмосковье, 1940 г.
Михаил Казаков, боец разведывательно-диверсионной части 9903. Подмосковье, 1940 г.
«…Всякий раз, когда вспоминаю то утро 23 июля 1942 года, меня мучает совесть. Тишина. Вижу ржаное поле и дорогу посреди него. Солнце. На дороге появилась подвода-одноколка. С белыми повязками на рукавах и с винтовками за плечами шагают двое полицаев. Еще один, на вожжах, управляет. Едут шагом. На противоположной от нас с Карначиком стороне и к нам спиной сидит на подводе темноволосая девушка. Одинокое дерево на дороге против нас, в метрах пятидесяти от опушки, где мы лежим в кустах. Поравнялись с нами и начинают удаляться, никто не повернул голову. Мелькнула мысль, шепчу Димке: «Вроде наша Тамара?». Подвода удаляется медленно. Что делать? Стрелять? У меня была винтовка для бесшумной стрельбы. До сих пор не могу понять, почему не стрелял. Потом нахожу своей совести оправдание, ведь инструкция гласила: никаких действий не предпринимать, пока вся группа не соберется. А если бы выстрелил? Одного убил, а остальные двое открыли бы ответный огонь. Поднялся бы шум, лошадь испугалась бы, рванула. Нас только двое. Местность незнакомая. Лес мог быть окружен врагом. А если бы лошадь галопом увезла Тамару и возницу-полицая? А в него опасно было стрелять, он сидел рядом с ней, можно было промахнуться. Чем бы все в таком случае закончилось? Вот ведь какие вопросы возникают спустя десятилетия. Что это было – растерянность, трусость или решение на основе здравого смысла? …Сейчас, уже с высоты прожитых лет, все полнее осознаешь величие подвига, стойкости и мужества Тамары, оказавшейся в сложнейшей ситуации, которая могла бы выпасть на долю каждого из нас, – разведчику со всеми уликами в руках у такого изощренного, жестокого и хитрого врага. И такие враги поверили ей! Это ж надо было так их убедить! …А ведь все могло бы оказаться совсем иначе – и не было бы сейчас ни нас, ни наших детей, ни наших внуков. Мы продолжали борьбу, и в течение полутора лет после этого нанесли ощутимый урон врагу, выполнили задачу командования фронта. В этом большая заслуга нашей боевой подруги и товарища Тамары Николаевны Лисициан, с честью и твердостью духа прошедшей сквозь муки фашистского ада, а потом снова с оружием в руках сражавшейся с врагом. Леля, от меня лично и от моей семьи передай Тамаре наш низкий поклон и самые добрые пожелания крепкого здоровья, новых творческих успехов в ее благородном и нужном людям труде и долгих лет жизни. Михаил». Елена подарила мне это письмо на память. Как видишь, моя дорогая Элиана, сестричка милая, я могла быть спасена и избавлена от стольких страданий! Но судьба мне готовила новое испытание, совсем другой удел…
 Памятник на могиле погибших советских воинов и местных жителей. г. Брагин, Гомельская область
Памятник на могиле погибших советских воинов и местных жителей. г. Брагин, Гомельская область
Глава 3 Тюрьма Брагин, Гомельская область
«Двое полицейских били меня в соседней с кабинетом комнате. Били колючими розгами и ремнями с пряжками, разрывавшими мне платье и тело».Прибыли в Брагин мы вечером сразу после захода солнца. Мне показалось, что в городке не меньше сотни домов. Кое-где мелькали в окнах огоньки то ли от свечей, то ли от керосиновых ламп. Фонарей на пыльной широкой улице не было и в помине. Остановились перед местной тюрьмой. Здание было похоже на старую школу с большими окнами, заделанными наспех железными прутьями. Меня отвели в большую пустую комнату. Половину ее занимали широкие и длинные дощатые нары, накрепко прибитые к стене. На нарах не было ни сена, как на полу в Комарине, ни чего бы то ни было, свидетельствующего о пребывании арестованных. Зато на стенах опять надписи: «Родина, прощай!», «Будьте прокляты, немцы!», «Прощайте, мама! Наверное, больше не увидимся. Обнимаю вас», «Прощайте, товарищи, отомстите». Была надпись, которую я видела и в Комарине: «Тут был парашютист Морозов». Чей это путь я повторяю? Кто этот Морозов, и где он теперь? Читала, пока был свет из зарешеченного окна. Сердце сжималось и ныло от этих посланий. «Отомстите!» – повторялось несколько раз, невольно шептала: «Отомстим… Отомстим…». Совсем стемнело, и я вытянулась на нарах. Есть не хотелось, хотя я уже вторые сутки ничего не ела и не пила. Не давали, а я и не просила. «Вот бы попить, – подумала. – Завтра будет трудный день». – И заснула. Меня разбудил звук открывающейся двери. Вскочила, не понимая, в чем дело. За окошком была ночь. Вошли четыре или пять солдат, у некоторых из них в руках были свечи. Не столько по униформе, сколько по первым же словам я поняла, что это были не немцы. Какой-то из славянских языков. Путая свой язык с русскими словами, они объяснили, что пришли, как друзья: «Вот, принесли, кушай!» Развернули пакет, там была бутылка воды, хлеб и граммов 300–400 швейцарского сыра. «Ешь, – говорили они. – Кушай. Мы нет немцы, мы чехословенцы». – Чехи? Словаки? – спросила я, жадно глотая воду. – Да-да! – хором подтвердили они. Говорили еще что-то, но я не поняла. Только поняла, что спрашивали: «Ты Москва? Партизанка?» Я делала вид, что и это не понимаю. Каждый из них пожал мне руку. Оставили одну зажженную свечку, а сами ушли. Я никогда не забуду эту дружескую встречу, часто думала о ней. Ведь вначале я не ждала от их прихода ничего хорошего, более того, спросонья я даже испугалась. Через год с небольшим в партизанский отряд Житомирской области Украины, где я была подрывником, явилась группа словаков, сбежавших из немецкой воинской части. Они объяснили, что хотят вместе с нами сражаться против немцев. Командир отряда разрешил им присоединиться к нам. И я, помня ночной визит со свечками в Брагине, с большим удовольствием своими руками пришивала незнакомым мне словакам на их пилотки красные ленточки – знак принадлежности к советским партизанам. Они сражались вместе с нашими бойцами, истребляя вражескую технику и немцев, где бы они только ни попадались. Об отваге словаков знали все житомирские отряды. Они стали нашими большими друзьями. А теперь, дорогая Элиана, вернемся в Брагин 1942 года, где я провела ночь в тюрьме, доедая хлеб с сыром, оставленные мне словаками. Утром полицаи отвели меня на допрос в местное полицейское управление. Допрос начался сразу, как только меня ввели в комнату следователя-немца. Я не поняла, что за чин передо мной, но сразу отметила его внимательные и умные глаза. Это был человек средних лет, темноволосый. Рядом с его письменным столом у небольшого столика сидел за пишущей машинкой пожилой полицай из местных. Около него стояла молодая переводчица, видимо, из немцев, которых оккупанты называли «фольксдойч». То есть «восточные немцы», граждане Советского Союза. Следователь читал бумаги, которые положил ему на стол сопровождавший меня полицай. Он вертел в руках фотографию «Ганса» и мой немецкий паспорт, изредка посматривая на меня. Наконец, он отпустил «моего» полицая и попросил рассказать, как было дело. Даже встал и придвинул мне стул. Он был небольшого роста – почему-то я сразу вспомнила, что где-то читала: «Опасайтесь малорослых мужчин – они всегда с комплексами, ничего хорошего от них не ждите». Спокойно и подробно я стала рассказывать свою придуманную историю под дробь пишущей машинки, на которой с удивительной скоростью работал местный пожилой полицай. Переводчица бесстрастно переводила, не глядя на меня. Я особенно подчеркнула, что «если парашютисты не были пойманы, то только потому, что господин фельдфебель не захотел этого сделать сразу, как я ему советовала, объясняя, что ночью все сорок девять парашютистов уйдут в неизвестном мне направлении. Я даже предлагала ему проводить его самого и его людей на место, где находились в то время парашютисты». Как только я закончила свой, как мне казалось, стройный и убедительный рассказ, следователь нетерпеливо встал и резко бросил: – Хорошо. Ну, а теперь рассказывайте правду. Как все было на самом деле. Я хочу знать правду. – Как? – возмутилась я. – Я рассказала вам все, от всего сердца, а вы мне задаете такой вопрос?! – Вот именно! Выкладывайте правду. – Клянусь вам, мне нечего больше сказать. Если вы поможете мне найти Ганса, он вам все подтвердит, – кивнула я на фотографию, лежавшую на письменном столе. Я помнила, что этот «Ганс» убит под Москвой и его невозможно найти. – Тогда, если все так, и вы не хотите ничего больше мне сказать, подпишите протокол. Полицай у машинки подал мне листки, которые я быстро проглядела и обмакнула ручку в чернильницу, чтобы подписать. – Смотри не напиши настоящее имя, – ехидно прошипел полицай. Не взглянув на него, я подписала скорописью «Гванцеладзе», как значилось в моем «Можайском» паспорте. – А теперь, раз вы отказываетесь говорить правду, – продолжал следователь, – я вынужден принять меры… Двое полицейских били меня в соседней с кабинетом комнате. Били колючими розгами и ремнями с пряжками, разрывавшими мне платье и тело. Это были молодые белорусы примерно моего возраста. Ярость, с которой они бросили меня на деревянный топчан, с руганью обрушив бесчисленные удары, потрясла меня. Невозможно было понять, как это могли делать мои ровесники, наши советские ребята! Я кричала, задыхаясь не только от боли. С каждым ударом вспыхивали мысли: «Свои… они же наши… ненавидят… за что? Хуже немцев… почему? Запомнить, отомстить! Скорее вырваться и отомстить…». Оказывается, ненависть помогает переносить боль. Я этого раньше не знала. Сколько времени прошло, было непонятно. Но вдруг удары прекратились, и яуслышала спокойный голос следователя: – Ну, что? Скажешь теперь правду или продолжать? Переводчица стояла рядом со следователем. – Я сказала вам всю правду. Я не знала, что соотечественники Ганса такие жестокие… – Дура, идиотка, – так же ответил спокойно следователь, ехидно улыбаясь. – Ты еще не знаешь, что такое настоящая жестокость! – Наденьте ей наручники и посадите в грузовик, – обратился он к моим мучителям. Переводчица переводила. Когда они вывели меня на улицу, солнце заходило, и от красноватого света было больно глазам. Тело болело и ныло при каждом шаге. Перед дверью на улице стоял грузовик. Неподалеку какие-то люди, возможно, колхозники или жители Брагина, с любопытством смотрели в нашу сторону. Полицаи втащили меня в кузов. Там уже сидел немецкий солдат с автоматом. Грузовик тронулся. Видно было, как кто-то из женщин, глядя на меня, вытирал слезы. В задних рядах кто-то осторожно перекрестил меня, как та старушка в Брагине. Седой полицейский, прихрамывая, подбежал к грузовику: «У-у-у, сталинская б…». Так прощался со мной Брагин в июле 1942 года. «Проклятые полицаи! – думала я. – А жители? Свыклись с оккупантами. Какой-то медвежий угол, в котором поселилось зло. Неужели думают, что так теперь все и будет? Думают, пронесется война стороной… Надеются спрятаться от беды. Кто может угадать свою судьбу?». Кончилась война. Прошло сорок лет. В апреле 1985 г. радиоактивная пыль Чернобыля накрыла и Брагин, Комарин и все вокруг. Как будто кто-то проклял эти места. Одни напасти: то гитлеровцы, то радиация… Нет теперь там тихих медвежьих углов, смерть настигает всех и всюду. Через два дня после того, как меня увезли, к Брагину подошли ребята нашей группы. Они искали меня. Ориентируясь по рассказам жителей деревушек, через которые меня везли полицаи, ребята шли за нами, но не могли догнать, опаздывали на те самые два дня, во время которых группа окончательно собралась и смогла двинуться за мной. – Да, – говорили им крестьяне. – Мы видели эту девушку, но ее провезли позавчера… Поэтому и к Брагину они подошли слишком поздно. Однако, как выяснилось потом, переводчица из Брагина, которая переводила во время моего допроса, была связана с местными партизанами. Таким образом мои ребята узнали, что было со мной в брагинском полицейском управлении, и даже получили копию допроса, напечатанную на машинке. – Ее повесили, – сказала переводчица. – После таких допросов арестованных всегда увозят на грузовике в лес и там вешают для устрашения партизан. Я видела, что грузовик вернулся пустым. Она погибла. Ребята, узнав о моей гибели, не стали больше меня искать. Леля плакала несколько месяцев, вспоминая меня. Копию текста с моим допросом и свой отчет ребята смогли отправить в Москву нашему командиру А.К. Спрогису. В отделе кадров воинской части 9903 в связи с этим донесением уничтожили папку с моими документами, в том числе комсомольский билет, студенческий и прочее. Так было заведено. Документы погибших ликвидировали. Теперь, дорогая моя Элиана, можешь прочесть письмо моей подруги и однополчанки Елены Гордеевой и отрывок из дневника ее мамы Ольги Георгиевны Гордеевой, которые я тебе посылаю. Из письма Елены Гордеевой: «…Партизаны местного отряда, к которым мы временно присоединились, рассказали нам, что в штаб полиции Брагина привезли парашютистку. Переводчица, которая работала при штабе, рассказала партизанам, как было дело. Ошибиться было нельзя, все подробности совпадали. Тамара была очень красива, ты помнишь ее особенную красоту. Этим она выделялась среди всех. Да и имя Этери Гванцеладзе, которым она называлась, было военным псевдонимом Тамары. «Во время допроса полицаи страшно истязали эту девушку, – рассказывала переводчица. – А потом посадили в грузовик и увезли на казнь».
* * *
Отрывок из дневника матери Елены – Ольги Георгиевны Гордеевой: «…Вижу по письму, что Лена жива и здорова, но вот несчастье! Тамара погибла. Ее лучшая подруга. Какая тяжесть на сердце! Мне она была так близка с тех пор, как они встретились, она и Лена. Я готовила им все на двоих, вышивала платочки, шарфы! Ждала, что они вместе вернутся домой. Как мне ее жаль. Она на год младше Лены, такая добрая, веселая. Лена пишет, что для нее это страшная потеря. Бедная девочка совсем не успела пожить. Окончив школу, сразу, как и Лена, ушла на фронт. Будь проклят Гитлер! Почему судьба не пошлет ему смертельную болезнь или пулю в спину? Скольким людям он принес смерть. Когда я заходила в Центральный Комитет комсомола или в штаб, я всегда боялась увидеть Тамару без Лены. А теперь, возможно, увижу Лену, но без Тамары. Как тяжело на сердце! Я никогда не думала, что они разлучатся. Не знаю почему, но мне в голову никогда не приходило, что Тамара будет убита. Я всегда боялась за Лену, а Тамара, казалось, не может умереть. Бедная, бедная девочка. Бедная ее мама, если она еще жива. Когда же кончится эта проклятая война?!» Как видишь, моя Элиана, переводчица – связная партизан ошиблась. Меня отвезли не в лес, а на полустанок железной дороги, ведущей в белорусский город Мозырь. Правда, я не знала о конечной цели. Удивительно, как интуиция мамы моей подруги Елены подсказала ей, что я жива и «не могла умереть». А моя мама рассказала мне после войны, что примерно в это же время она видела сон. Давно не было обо мне никаких известий. Радиосводки с фронтов были неутешительными. И вот, снится маме, что какие-то черные фигуры ведут меня в гору. Руки связаны у меня за спиной, а на горе стоит виселица. Меня ведут к ней. Мама во сне зарыдала, и вдруг услышала голос: «Не бойся, ее не убьют». Мама в ужасе проснулась и утром побежала молиться в церковь. Подумай, Элиана, что тогда делалось с нашими матерями! От горя они становились ясновидящими! На полустанке в лесу стоял товарный поезд. Один из вагонов был полуоткрыт. Возле него прохаживался немецкий солдат с автоматом. Вдоль поезда подальше ходили другие вооруженные солдаты и, по-видимому, железнодорожники в гражданской одежде. Прибывший со мной немец передал какие-то бумаги дежурному у открытого вагона, и они вместе закинули меня внутрь. Я видела, как грузовик из Брагина с солдатом скрылся в лесу, а мой новый конвоир забрался в вагон, молча показал мне на место в дальнем углу, а сам сел на пол с автоматом наизготовку у полуоткрытой двери. Вскоре поезд тронулся. Двигался он медленно. Темнело. Лес за дверной щелью стал совсем черным. Тряска причиняла мне беспрерывную боль во всем теле, и все же я свернулась на дощатом полу и забылась в полусне. Последней мыслью было: «Хоть бы поезд наши взорвали… в наручниках сама не выберусь…» То, что при взрыве могла погибнуть и я, мне и в голову не приходило. На рассвете поезд остановился на какой-то станции. Конвоир высадил меня на пустой перрон. Станция была небольшая. Кругом лес. Из здания вокзальчика вышли несколько немцев в серой солдатской форме. Конвоир усадил меня на скамейку под окном и, видимо, попросил немцев присмотреть за мной. Они подошли и молча стали разглядывать мое изодранное, в засохшей крови платье, наручники на покрытых синяками руках, исцарапанные ноги в кровоподтеках. Вскоре вышел конвоир и повел меня через здание вокзала в город. Что это был за город, я не знала и, куда вела эта железная дорога, понятия не имела. Вскоре мы пришли к двухэтажному дому. Часовой проверил у конвоира документы и позвонил в дверь. Открыл солдат, повел нас на второй этаж. На площадке нас ждал седой пожилой офицер. – Господин капитан… – начал рапорт мой конвоир. Офицер его остановил, взял у него из рук пакет с бумагами и велел снять с меня наручники. – Все. Можете возвращаться, – сказал он конвоиру и открыл передо мной дверь в комнату. От неожиданности я остановилась на пороге. Большая гостиная, залитая утренним солнцем. Пол устлан коврами, красивые шторы, хрустальная люстра, такой же торшер, красивая легкая мебель и, главное, несколько нарядных красиво причесанных немецких дам вокруг столика с кофейным сервизом… Куда это я попала? Дамы были изумлены не меньше меня. Капитан слегка подтолкнул меня в спину и усадил в креслице перед столом. – Вот, дамы, – сказал он, – мне говорят, что фройляйн – партизанка. Это так? – спросил он, наливая мне в чашку кофе и придвигая вазочку с печеньем. Все не сводили с меня глаз. – Нет, – сказала я тихо по-немецки. – Я медицинская сестра и ищу своего жениха. – Что это они с ней сделали, Альберт? – спросила с неодобрением одна из дам у капитана. – Бедное дитя, – ответил он. – По-видимому, попала к грубым людям. Теперь я сам займусь этим делом. Пейте, пейте, – протянул он мне чашку на блюдечке. Руки у меня тряслись, но я сумела не перевернуть чашку и проглотила нечто горячее и сладкое. Тут все дамы застрекотали что-то сочувственное в мой адрес, но я не могла понять, что именно из-за скорости их речи и незнакомого произношения. Догадывалась по взглядам и улыбкам. Потом они захотели узнать обо мне подробности, но седой капитан посмотрел на часы и сказал, что поезд отходит, нам надо ехать. Ехали мы с ним и двумя вооруженными солдатами в обычном плацкартном вагоне недолго. Поезд остановился у полуразрушенного моста через большую реку. Тут капитан сказал мне, что сейчас мы переберемся через эту реку, которая называется Припять, в город Мозырь. Там находится его «служебное место». Вместе с двумя солдатами мы сели на дрезину и так переехали по временному настилу полуразрушенного моста на ту сторону самой большой в Белоруссии реки. Здесь капитана ждала машина, на которой он довез меня до центра города. Тут, в трехэтажном доме напротив кинотеатра, как я узнала позже, жили офицеры Мозырьского гарнизона. На первом этаже находилось караульное помещение – маленькая (примерно 5 м2) комнатка с зарешеченным без стекол окном на улицу. В комнате стояла железная кровать с соломенным, ничем не покрытым матрасом, стул и маленький столик – больше ничего не могло бы поместиться. На стуле постоянно сидел часовой с автоматом. – Побудьте пока здесь, – сказал капитан, вводя меня в эту комнатку. – Я не хочу отправлять вас в тюрьму. А завтра мы поговорим. Несмотря на то, что часовой сидел у меня прямо над головой, а в окно, как в клетку со зверем, беспрестанно заглядывали проходившие мимо немцы и что-то комментировали, я спала на этом матрасе весь оставшийся день и всю ночь, как убитая. Утром часовой дал мне поесть какую-то кашу, хлеб, протянул солдатский котелок с бурдой, назвав ее «кофе». Я ела и пила с жадностью – очень хотелось есть! Вскоре за мной явился конвоир и повел, как он сказал, к капитану Мюллеру. Так я узнала его фамилию. Мы перешли улицу. На противоположной стороне, справа от офицерского дома, позади кинотеатра стояло здание школы. По тому, как оно с улицы охранялось часовыми, так же, как и офицерский дом, было ясно, что школа перестала быть школой. Меня привели в бывший спортзал. Теперь он стал кабинетом капитана СД Альберта Мюллера. Вдоль больших окон и всех стен в ведрах на полу стояли высоченные разноцветные гладиолусы и раскидистые белые пионы. У большого письменного стола и на нем в вазах и стеклянных банках тоже стояли большие букеты цветов. От этого зал был похож на летнюю выставку цветов. За широким письменным столом сидел седой, грузный капитан Мюллер. Среди цветов он показался мне еще более старым, чем вчера. На вид ему было не меньше, а может, и больше пятидесяти лет. Он поднял голову над бумагами: – Смелее, смелее заходите, фройляйн! Я подошла и села на край стула перед письменным столом. – Я прочел ваши документы. Тут произошла какая-то ошибка. Наши военные чиновники неверно отреагировали. Я хочу вам помочь. Сколько вам лет? – Недавно исполнилось девятнадцать. – Я так и думал… Расскажите-ка мне все сами с самого начала. – Спасибо. У вас есть переводчик? Можно его позвать? Я плохо говорю по-немецки. – Не надо. Я и так пойму. Расскажите, как сможете. Тут впервые, вспоминая школьные уроки, и то, как переводили мои рассказы переводчик в Комарине и переводчица в Брагине, я начала свою «исповедь» про Ганса, про Можайск и встречу с фельдфебелем в Комарине.* * *
Дорогая моя Элиана! Ты очень обрадовала меня своим милым, как всегда искренним, письмом. Я долго не писала тебе, так как уезжала по работе, а когда я работаю, ты знаешь, я так сосредоточена на своем деле, что забываю обо всем на свете. На этот раз у меня появилась возможность снять фильм по очень интересному сценарию нашего журналиста и писателя Генриха Боровика «На Гранатовых островах». О захвате американцами с помощью местных наемников островного государства, в котором незадолго до этого в большом количестве была обнаружена нефть. Причем в момент нападения на основной остров там случайно оказалась группа иностранных журналистов, перед которыми нападавшие поставили выбор: либо скрыть факт агрессии, либо попрощаться с жизнью. Острая современная ситуация, интересные характеры, живой диалог, работа с разными актерами всех возрастов увлекли меня надолго. Натуру мы снимали на Кубе. Сначала я полетела туда с оператором и администратором, чтобы выбрать места съемок. Местная природа нас очаровала! Горы, покрытые густыми джунглями, теплое море, высоченные пальмы раскачиваются под постоянным ветром, заросли сахарного тростника, поля ананасов, яркие соцветия на деревьях: красные, белые, сиреневые, желтые… И это в декабре! На сухих ветках без листьев! Потом, во второй раз, мы полетели вместе с актерами и всей группой на съемки. Эта экспедиция достойна повести! Сказать, что Куба нам очень понравилась – ничего не сказать, мы просто влюбились в нее! Веселые, сердечные, простые люди, всегда готовые потанцевать, спеть, похохотать! Красивые, грациозные, дружелюбные. «Бедные, но красивые», как сказали бы твои кинематографисты. Однако внешняя беззаботность совсем не означала у кубинцев поверхностное восприятие жизни. Они политизированы в хорошем смысле этого слова, любят свой остров, готовы сражаться за него и верят, что трудная жизнь настоящих работяг даст им в конце концов достаток и обеспечит безопасность. Как ты знаешь, ни того ни другого у них пока нет. Как-то после съемки, в которой участвовало много местных жителей (сцена воспроизводила бой с американскими наемниками на улице городка), пальба, взрывы, дым, пыль и жгучее солнце окончательно высосали из нас все силы. Пока собирали и грузили на машину нашу съемочную аппаратуру, я присела на край тротуара в тени у какого-то подъезда. Из дома вышла темнокожая немолодая женщина с кувшином воды и кружкой. – Хотите? – протянула она мне воду, – вы столько бегали по солнцу! Я все видела из окна, – кивнула она на раскаленную улицу, где все еще собирали реквизит наши ассистенты. Женщина говорила по-испански. Я ее понимала. А мой итальянский оказался ей тоже сродни. Она подсела ко мне, улыбаясь жемчужными зубами, поправила платок, завязанный на голове так туго, что совсем не было видно волос. – Ваш фильм, я слышала, против американцев? – Против нападения их солдат на беззащитных. – Они только и делают, что глотают слабых. Мы у них на очереди. Они и вас бы съели, если бы вы не были такими сильными. Помолчав, она добавила: – А если ослабеете, то и до вас доберутся. «Ну, это уж слишком! – подумала я. – Как же им плохо, бедным – живут, как на вулкане. А ведь она оказалась пророчицей. Теперь-то это ясно!» У нас там осталось много друзей, с которыми мы были неразлучны на работе и на отдыхе, их нельзя было не полюбить. У меня там был и второй режиссер – личность необыкновенная. Представь себе негра двухметрового роста, прекрасного сложения, который отлично говорил по-русски, потому что… окончил в Москве Институт физкультуры! Он сплел мне шляпу из пальмовых листьев, чтобы меня не сожгло кубинское солнце, а потом повесил себе на шею мой мегафон и стал по моему плану командовать массовкой, как заправский капрал. Я говорила ему, что в данный момент нужно для съемки, а он на всю Кубу весело орал в мегафон на местном языке команды, демонстрируя при этом в улыбке все свои «320» белоснежных зубов и отличные организаторские способности. Не буду описывать тебе всех наших помощников – письмо будет бесконечным, но должна тебе сказать, что это были замечательные люди и прекрасные дни! Мы были с ними и в Доме-музее Хемингуэя. Когда-то я зачитывалась его книгами! Ты знаешь, как я люблю свою работу, и всегда счастлива, когда она есть, но Куба для меня была непрерывным грандиозным праздником! Повторю – эти 15 дней достойны повести! А теперь я снова возвращаюсь, как ты того хочешь, в сороковые годы, продолжаю это мучение… Ты считаешь, что я должна довести до конца рассказ о Мюллере, и я соглашаюсь, хотя не знаю, почему я это все пишу?! Итак, мы остановились на том моменте, когда капитан СД Мюллер попросил меня рассказать мою историю. По-немецки. Без переводчика. Кое-как я рассказала все то, что рассказывала всем в эти дни. Он слушал внимательно. – Хорошо, – наконец сказал капитан. – Я постараюсь вам помочь. Попробуем найти Ганса. А тем временем вы сможете поработать у нас. Но я должен для этого получить разрешение у начальника этого округа, который сейчас с группой СС охотится за партизанами. Они все время перемещаются с места на место. Когда они появятся тут или поблизости, я вас ему представлю, и тогда решим, что можно сделать. В этот же день после того, как меня вернули в караульное помещение-клетку, какой-то солдат принес мне простыню. Я решила застелить ею матрас, но он остановил меня и стал объяснять, что я должна снять платье и завернуться в простыню, пока какая-то женщина постирает и зашьет мое платье. «Так приказал капитан, – сказал солдат. – Я быстро принесу платье обратно», – уверил он. Однако снять платье было непросто. В нескольких местах оно присохло с кровью к глубоким ссадинам и порезам от пряжек тех ремней в Брагине. Я показала солдату, что снять платье не смогу. Он ушел. Я накрылась простыней с головой и легла на матрас. Хотела поспать, чтоб не чувствовать постоянную тупую боль в теле. Только устроилась, кто-то потянул за простыню. Смотрю: тот же солдат, что просил платье. Показывает кусок ваты и пузырек с прозрачной жидкостью. Я стала отмачивать присохшие места – оказалось, что в пузырьке была перекись водорода. В некоторых случаях на ранках она пенилась. По моей просьбе солдат вместе с часовым стали спиной ко мне и отгородили меня простыней от окна, пока я снимала платье и перекисью промывала порезы. Потом я завернулась в простыню, и платье мое унесли. Несколько часов я просидела, завернувшись в простыню, обдумывая слова Мюллера. Появилась надежда. Если они возьмут меня на работу, значит, свобода… Только они меня и видели! Но что это за начальник, который рыскает за партизанами? У окна опять торчали немцы-зеваки. Из кинотеатра гремела музыка, второй день одна и та же пластинка – «Лили Марлен». Принесли еду, потом платье и гребешок. Прошло два дня. Утром пришел унтер-офицер с автоматом. – Едем в Калинковичи. Это название я помнила по карте, которую мы прорабатывали в Москве. Мелькнула мысль: а вдруг нападут партизаны и освободят? На улице ждала машина. Солдат за рулем, другой с автоматом на заднем сиденье – рядом со мной. Унтер-офицер впереди – рядом с шофером. Подъехали к Припяти. Опять на дрезине переправились на другой берег и сели в поезд. Доехали до Калинковичей. В городе меня привели в тюрьму и передали начальнику с какими-то бумагами. Толстый, круглолицый, пожилой начальник тюрьмы расписался в получении, и мои конвоиры удалились. А меня он, пыхтя и отдуваясь, повел на второй этаж и запер в одиночной камере. На следующий день конвоир при автомате вывел меня из тюрьмы. Мы шли, как он сказал, к зданию школы. День был солнечный, зелени вокруг много. «Но сколько же здесь немцев?!» – подумала я, глядя на деловито снующих солдат и офицеров. Мы прошли всего квартал, а я насчитала более двадцати фрицев. Наших людей и не видно. Что за город такой? Немец заметил мой взгляд. – Команда карателей, – буркнул он под нос. – Вчера приехали. Мне показалось, что они ему не очень симпатичны, эти военные в черных мундирах. Но расспрашивать не решилась. Часовые у здания школы проверили документы конвоира, потом меня ввели в актовый зал. Теперь тут был кабинет начальника округа – офицера СС, о котором говорил Мюллер. Меня удивил возраст этого начальника. На вид ему не было и тридцати. В черной эсэсовской форме, худой, спокойный, вежливый. «Охотник за партизанами» предложил мне сесть и рассказать о себе все, без переводчика. Теперь я знала, как рассказывать мою историю по-немецки. Рассказывая, я смотрела на эсэсовца, и он тоже не сводил с меня глаз. Вид у него был усталый, бледное лицо ничего не выражало. Когда я закончила, он сказал спокойно: – Спасибо. Можете идти. Конвоир с автоматом ждал за дверью и повел меня в тюрьму. Часа через три ко мне в камеру вошел начальник тюрьмы. Толстый, добродушный на вид немец, был явно раздражен. – Я не знаю, что вы там наговорили этому эсэсовцу! Он приказал мне вас расстрелять. «Шпионка» – говорит! Я не желаю вмешиваться в эти истории. Мне вас прислал Мюллер, так я вас и отправлю с этим приказом к Мюллеру. Пусть он вас и расстреливает. Вы пленная Мюллера, а не моя! С двумя вооруженными конвоирами я тут же была отправлена на товарном поезде в Мозырь и доставлена в ту же самую караульную клетку. Бумаги с приказом были переданы Мюллеру. Прошло еще два дня. Как-то Мюллер прошел по улице мимо окна караулки, кивнул мне, но разговаривать не стал. Я не знала, что и думать. Каждый вечер в кинотеатре напротив на всю мощь динамиков опять запускали пластинку с «Лили Марлен», заманивая публику. Какие там крутили фильмы, я не знала, да и зрителей мне не было видно, но эта «Лили Марлен» преследовала меня каждый вечер и окрашивала мысли о грозящем мне расстреле в какой-то абсурдный бред. «Неужели это последняя музыка в моей жизни? – думала я. – Хорош похоронный марш!» В конце концов эта песенка мне опротивела окончательно. Однако в глубине души я не верила в то, что приказ этого эсэсовского гаденыша будет выполнен. Почему мне так казалось, я не могла себе объяснить. Но с каждым днем надежда крепла, и я старалась угадать, как это получится. Однажды часовой, который находился со мной в комнате, разбудил меня на рассвете. – Вас зовет капитан Мюллер, – сказал он и вывел на улицу, где меня ждал другой немец, как я узнала потом, адъютант Мюллера. Мы прошли несколько метров по тротуару и вошли в подъезд этого же дома. Поднялись на третий этаж, прошли по плохо освещенному коридору, адъютант открыл передо мной дверь и отступил в полумрак, захлопнув дверь за моей спиной. Я очутилась перед капитаном Мюллером. Но на кого этот Мюллер был похож! Без мундира, в белой нижней рубашке, седые волосы всклокочены, лицо красное, небритое… Он сидел за письменным столом, раскачиваясь на стуле, и молча разглядывал меня. Потом рявкнул: – Сядь! – и указал на стул перед письменным столом. Я села. – Где партизаны?! – вдруг заорал он, сильно хлопнув ладонью по столу. Я ответила, что не знаю, да и как я могу знать после всего того, что произошло? Не дослушав, он снова заорал: – Где партизаны?! Я вновь так же тихо и внешне спокойно, хотя все во мне дрожало от неожиданности и непонимания, отвечала, что не знаю, я ведь все уже рассказала… Тогда он вскочил, сорвал со стены кожаную коричневую плетку (тут я увидела на стене над его стулом целый натюрморт из охотничьего ружья, сабли и кинжала). Мюллер яростно стеганул плеткой по столу, тут же бросил ее перед собой, ударил кулаком по какой-то толстой книге, лежавшей тут же, и опять заорал: – Я спрашиваю, где партизаны?! – Я не знаю, господин капитан, я уже все рассказала… Он не слушал меня, опустил голову на руки, лежавшие на столе, и закрыл глаза. Так прошло какое-то время. Я сидела, не шевелясь, и думала: «Куда пропала вся вежливость? Вылезло хамское рыло оккупанта. Чтоб вас всех бомбами накрыло! Долго будем так сидеть?» Тут за спиной Мюллера бесшумно приоткрылась дверь в коридор, и в щели показалось улыбающееся лицо адъютанта. Он смотрел на меня и ладонью делал успокаивающие жесты. «Ничего, мол, все в порядке. Спокойно, спокойно…» – и скрылся. Я удивилась еще больше и стала ломать голову, что бы все это значило? Прошло еще какое-то время. В окне появились солнечные лучи. Я оглядела комнату. Это была полугостиная с диваном, креслами, журнальным столиком, полукабинет с литографиями на стенах, отделанным серебром оружием, которое висело над письменным столом. Справа от входной двери – еще одна, возможно, в соседнюю комнату. Мюллер то ли спал, то ли дремал. Мне это надоело. – Господин капитан, можно я пойду обратно. – Зачем, – грозно спросил Мюллер, подняв голову. – Я еще не умывалась, и вообще… Он встал, распахнул дверь в другую комнату. – Пожалуйста! Умывайтесь. Мне ничего не оставалось, как подойти к двери, в которую уже вошел Мюллер. Сразу за дверью к стене была приделана раковина с краном. На полочке лежало мыло в зеленой мыльнице, стакан с зубной щеткой, рядом висело полотенце. Я стала мыть руки. Как давно я не брала в руки мыло! Мюллер улегся на железную кровать. Очевидно, это была его спальня. Краем глаза я оглядела комнату: одно окно, между ним и кроватью – тумбочка, за мной, кажется, шкаф. Оглянулась украдкой, в полуоткрытой дверце шкафа блестел множеством орденов парадный мундир. Комната – узкий пенал. Что теперь делать? Мою руки, лицо, снова руки… долго-долго. – Сколько можно мыть руки! – рычит недовольно Мюллер. – Иди сюда… – и хлопает рукой по кровати. Я в панике. Хватаю полотенце, отворачиваюсь. – Я кому говорю, иди сюда! Из окна не прыгнешь, третий этаж… за дверью коридора адъютант… Делаю несколько шагов и останавливаюсь посреди комнаты. Вижу на тумбочке в рамке большая фотография: женщина обнимает девушку, обе улыбаются. От бессилия начинаю плакать злыми слезами, слезы льются градом. Стою смотрю на Мюллера и реву. – Ты почему плачешь? – Мюллер приподнялся на локте и с удивлением смотрит, как я сморкаюсь в его полотенце. – Я тебя спрашиваю, почему ты плачешь? Меня осеняет: – У вас дочь такая, как я, – показываю на фотографию. Продолжаю всхлипывать, не трогаясь с места. И – о чудо! Мюллер внимательно посмотрел на фотографию, стоявшую перед ним на тумбочке, потом неожиданно завалился на подушку и через несколько секунд захрапел! Слезы мгновенно высохли. Я смотрела на него с большим желанием пристрелить эту скотину из его же пистолета, который висел на спинке кровати вместе с ремнем. Но… с третьего этажа не прыгнешь, да и под окном во дворе часовой. Я это хорошо знала, меня водили туда в туалет. Не двор, а замкнутый колодец. В коридоре этот проклятый шут – адъютант… Застрелить одного капитана и отдать за это жизнь – не слишком ли дешево? Я швырнула полотенце под умывальник и вышла в коридор. Он был пуст. Но у подъезда часовой! Главное – выдержка. Я постучала в первую дверь. Появился сияющий адъютант. – Господин капитан спит. Проводите меня в караульное помещение. – Да-да, пожалуйста! И вот я снова в «клетке». Что это было? Наверное, он был пьян, но почему так орал? Эсэсовец напугал? Почему не расстреляли? Какое ничтожество! А все-таки как вовремя я напомнила ему про дочь! Ну и что? Сегодня проскочила, а завтра? Расстреляет? Прошли сутки. Пришел конвоир. – Вас ждет господин капитан. Сижу перед прежним подтянутым, выбритым, причесанным на косой пробор Мюллером в его «оранжерее». Окна закрыты. Одуряющий запах цветов. – У меня приказ расстрелять вас, – сказал Мюллер. – Но я вам верю и доверяю. («Значит, понял, что я могла пристрелить его, пока он там храпел, но не понял, почему я это не сделала. Растрогался», – подумала я). – Я хочу спасти вас, – продолжал Мюллер. Здесь это уже невозможно. Поэтому я посылаю вас к моему другу, майору Михаэлису. Вы поедете на Украину, в Житомир. Там другой округ, другое начальство. Я написал обо всем Михаэлису. Машина и конвоиры ждут вас. Идите. Счастья вам… – Спасибо, – пролепетала я, с ужасом понимая, что меня отрывают от Белоруссии, от наших ребят, которых тут много, с которыми я надеялась связаться рано или поздно. Украина! Все равно, как в Сахару! Больше я Мюллера не видела никогда.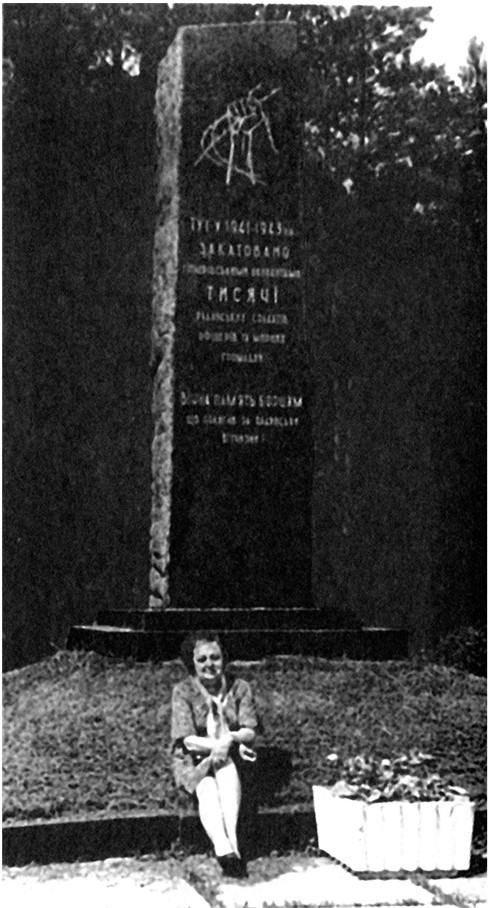 Памятник советским военнопленным и жителям Житомира, погибшим от рук немецких оккупантов
Памятник советским военнопленным и жителям Житомира, погибшим от рук немецких оккупантов
На улице перед школой стоял автомобиль. Из четырех немцев, ехавших со мной в Житомир, запомнился только один. Высокий, ярко-рыжий с белыми ресницами и бровями, бесцветными водянистыми глазами и множеством оранжевых веснушек. Клоун какой-то. Однако вид у него был зловещий. Он-то и вез мои документы. Остальные ехали по своим делам с портфелями и брезентовыми сумками. Все были при автоматах и всю дорогу напряженно молчали, поглядывая по сторонам. Видимо, боялись нападения. А я так на него надеялась! В Житомир приехали ночью. Рыжий привел меня в комендатуру к Михаэлису. К моему удивлению, Михаэлис вышел к нам в приемную… в пижаме! Он был выше среднего роста, спортивного сложения, на вид лет сорока пяти. В моем представлении на немца не похож. «Скорее, кавказец какой-то», – подумала я. Лицо у него было смуглое, глаза карие. Поперек щеки – длинный шрам, на висках залысины. Очевидно, он и жил тут, в комендатуре. С любопытством посматривая на меня, он велел рыжему отвезти меня в тюрьму, забрал документы и весело пожелал мне «спокойной ночи». Житомирская тюрьма обнесена высоким каменным забором. Это здание и до войны было тюрьмой. Впрочем, и после войны тоже. Большой двухэтажный каменный дом, видно, недавно белили: и снаружи, и внутри, и даже на земле просторного двора были видны свежие следы побелки. Пахло известью. Меня заперли в одиночной камере второго этажа. Очень высокий потолок, железная кровать без постели покрыта досками, в углу ведро. Похоже, в тюрьме кроме меня никого не было. Изредка тишину нарушали гулкие шаги тюремщика в кованых железом ботинках. Прости. Пока больше вспоминать и писать не могу. Целую. Твоя Тамара. Письмо Элианы к Тамаре: Я получила письма, которые ты написала и перевела для меня. Не беспокойся о трудностях, которые тебе попадаются при переводе. Я знаю, что ты давно не занималась итальянским, но поверь мне, все прекрасно и понятно. А если будут ошибки, то я их поправлю. Я не согласна с тобой по поводу Мюллера. Почему ты думаешь, что этому не поверят? Было бы проще написать об истязаниях, чем отрицать их в этом случае… Когда мы с тобой разговаривали тут, в Гаварно, и ты уклонялась от рассказов, а потом все же начинала говорить на эти темы, я видела, с какой ясностью ты вспоминала мельчайшие подробности, как будто перед тобой проносилась кинолента с изображением всех деталей. Я поняла твои молчаливые паузы, когда ты сидела, утонув в кресле, внешне такая спокойная, а между тем лицо у тебя покрывалось красными пятнами. Я не могла знать, какие мысли, какие воспоминания проходили перед твоим мысленным взором, но догадывалась, что они, должно быть, все еще сильно будоражат тебя. Меня начинала мучить совесть, потому что это мои вопросы спустя столько лет вновь причиняют тебе боль… Я боялась, что делаю ошибку, доставляя тебе страдания после всего того, что ты пережила. Прости меня, Тамара. Но ты собиралась с силами и продолжала рассказ – такой искренний и такой проникновенный, что заставляет сопереживать с невероятной силой. Я как будто прожила с тобой то время, в тех далеких краях. Я помню все, что ты мне рассказывала, и нахожу эти темы в письмах, которые ты мне прислала. Эти письма такие простые и трогательные. Ваши судьбы полны невероятных событий и героических поступков. Твои товарищи становятся мне родными, близкими, а я узнаю совершенно новую Тамару. Но, пожалуйста, не замыкайся снова, как ты умеешь это делать, не становись застенчивой, скромно скрывающей все, что может как-то раскрыть твой героизм. Ты должна продолжать. Ты сможешь. И еще как! Молодец, моя дорогая. Обнимаю тебя крепко-крепко. Твоя Элиана.
 Здание тюрьмы в г. Житомире, 1942 г.
Здание тюрьмы в г. Житомире, 1942 г.
Глава 4 Тюрьма Житомир
«Избивали во время допросов так, что я уже не могла ходить, и последний раз солдаты почти волоком притащили меня обратно в тюрьму».Дорогая Элиана, получила твое письмо, как всегда, к большой моей радости. Спасибо за такое сердечное поощрение! За это время я немного отошла от депрессии. Успокоилась в твоем прекрасном доме в Гаварно под синим итальянским небом. Набралась сил в цветущем саду, наполненном покоем. Вижу тебя рядом, все понимающую, внимательную… Набравшись сил, теперь уже дома продолжу. Начну с того дня, когда я оказалась в Житомире. После ночи, проведенной на топчане в свежепобеленной, пахнущей известью одиночке, я была отконвоирована в немецкую комендатуру, находящуюся в центре города. Это был четырехэтажный старинный дом, окруженный часовыми. Они прохаживались возле зарешеченных окон первого этажа. С крыши свисал огромный, на два этажа, красный флаг с белым диском, в центре которого чернела свастика. Ветер играл с этим полотнищем, и временами свастика пропадала в складках ткани, и флаг казался нашим! Красным! Сердце билось… скорей бы! Меня провели в дом, на второй этаж, в кабинет майора СД Пауля Михаэлиса. Друг Мюллера был приветлив. – Как отдохнули? Мюллер пишет о вас в превосходной степени. Я рад. Мы постараемся вам помочь. Расскажите мне подробно, как все это с вами произошло: парашютисты, отступление из Можайска… Теперь я говорила по-немецки уверенней и, по-моему, все убедительнее рассказывала про Ганса, фельдфебеля в Комарине и прочее. Михаэлис слушал, сочувственно вставляя реплики-вопросы, а потом сказал: – Через пару дней я за вами заеду. А пока вы должны побыть в тюрьме. Я скажу, чтобы днем вас не запирали. Вы можете погреться на солнце во дворе, подышать воздухом. Есть будете с солдатами охраны в караульном помещении. Потом… посмотрим. Я была удивлена. А дальше все было по его плану. Мне было разрешено ходить по двору почему-то пустой тюрьмы. Во всяком случае, я не видела никаких арестованных и не слышала других голосов, кроме немецкой речи охранников. Они ко мне не подходили и не заговаривали. Ела я в караульной столовой за длинным столом в самом конце, далеко от солдат, которые с интересом наблюдали за мной. Дежурный солдат подавал мне все то же, что ели остальные. И опять мне достался большой кусок швейцарского сыра, напомнившего чехословаков в Брагине. К нескрываемому удивлению охранников, я сразу его съела. Это была, как потом оказалось, трехдневная порция. К сожалению, убежать из этой тюрьмы было невозможно. Высокие гладкие стены охраняли часовые, не говоря уж о воротах, не только изнутри, но и снаружи. Я все время думала о том, как выпутаться из этой истории. Допустим, Мюллер проникся доверием потому, что я не пыталась убить его и строго придерживалась своей версии о Гансе, ну, а тут? Что ждать от Михаэлиса? Будет ли он искать Ганса или даст мне работу и документы? Тогда бы я смогла поискать местных партизан, сообщить о себе в центр… Прошло два дня, и появился Михаэлис. Он поговорил с начальником караула, а затем предложил мне прокатиться по городу. Михаэлис вывел меня на улицу. Там стояла машина с открытым верхом. За рулем – солдат. – Вы когда-нибудь бывали в Житомире? Приятный зеленый город, красивая река Тетерев. Вам понравится. Я была рада поездке прежде всего потому, что она давала мне возможность сориентироваться. Ведь привезли меня темной ночью. С интересом осматривая улицы, я пыталась понять, как можно выбраться из города. По солнцу определила северную сторону, где должны были быть леса, мимо которых меня везли, – там Белоруссия, там наши… Город был почти не разрушен, много деревьев, кустов, одноэтажных домов с палисадниками, как на дачах под Москвой, немного прохожих. Вскоре мы выехали на окраину и оказались на заасфальтированном шоссе – по тем временам важная дорога. Не все улицы в городе, по которым мы ехали, были заасфальтированы. Машина остановилась. – Пойдемте, погуляем, – предложил Михаэлис. – Я хочу показать вам нечто интересное. Через несколько минут мы подошли к высокому проволочному ограждению, за тремя рядами которого находился лагерь советских военнопленных. У меня подкосились ноги, когда на расстоянии 150 метров я увидела наших пленных солдат. В шинелях и гимнастерках, превратившихся в лохмотья. Без ремней, заросшие, страшно худые, такие же желто-серые, как песок, на котором сидели и медленно по нему куда-то брели. Они не смотрели в нашу сторону, откуда светило яркое солнце. Краем глаза я заметила, что Михаэлис наблюдает за мной и постаралась не выдать своего волнения. Безразличным тоном спросила: – Это сколько же их? Этих солдат? – Шестнадцать тысяч, – ответил Михаэлис. – Но тут не видно столько. – Они все на работах. Тут только раненые и больные. Это крайние бараки, дальше рвы, где их хоронят. Так удобнее, недалеко. Остальные живут ближе к городу. Вон – в тех кирпичных строениях. – А чем они болеют? – продолжала я, стараясь не выдать своего отчаяния. Михаэлис смотрел мне прямо в лицо. – Дизентерия, сыпной тиф, у многих раненых гангрены, туберкулез – разные болезни. Я изо всех сил сдерживала себя, но сердце стучало и рвалось из груди. Я готова была разреветься: наши солдаты, припорошенные песком, одинаковые, униженные, умирающие, неотличимые друг от друга… Михаэлис был, по-видимому, удовлетворен экспериментом. Садист! – Хорошо. А теперь поедем проведать ваших земляков. – Каких земляков? – Вы ведь сказали, что вы грузинка? – Да. – Вот и поедем к грузинам. Вскоре мы оказались перед двухэтажным зданием. – Это полиция, – сказал Михаэлис. – Полицейских, правда, мало. Большинство из них грузины. Они не хотели воевать и перешли на нашу сторону. В плену они заявили, что ненавидят русских и коммунистов, всегда их ненавидели, поэтому мы их выпустили из лагеря и создали полицейскую часть из одних грузин. Пока он говорил, у меня перед глазами все еще стояли наши пленные. И я даже не заметила, как мы вошли во двор. Несколько десятков полицейских вытянулись по стойке «смирно». Я мельком посчитала – примерно человек восемьдесят. Пять или шесть офицеров подошли к Михаэлису. В стороне стояла небольшая группа немецких солдат. Нас ожидали. Все вместе двинулись к строю полицейских, одетых в серо-синеватую форму. Михаэлис с улыбкой обратился ко мне. – Поговорите с ними на родном языке. Надеюсь, вы действительно грузинка… – А не еврейка, – со смехом продолжил фразу долговязый офицер. Опять проверка! Надо взять себя в руки… Я старалась не терять самообладания. Подошла к полицейским. Близко. Предатели! Такие знакомые с детства лица, красивые, черноглазые… Что же вы наделали?! Нет, ненависти не было, только злость. Заговорила по-грузински спокойно и громко: – Кто из Тбилиси, моего родного города? Отзовитесь, поговорим. А то эти вот, – кивнула головой на немцев, – думают, что я – еврейка, и не могут оставить меня в покое. Говорила без малейшего акцента, что не просто. Но я родилась в Тбилиси и выросла среди грузинских детей, соседей. Этот красивый язык был моим вторым родным. Мой отец – армянин, умер, когда мне и 9 лет не было. Он не успел научить меня армянскому. Моя мама не знала других языков, кроме родного – русского. Училась я в русской школе. Но в доме у нас большинство семей было грузинских, а по соседству жили и курды, и евреи, и армяне. Все дружили, все понемногу говорили по-русски. Наш двор был одной большой многонациональной семьей, как и большинство дворов в Тбилиси. Но дети в основном общались по-грузински. В школе мы наряду с иностранными языками учили и грузинский. Теперь этот язык должен был спасти мне жизнь. По рядам полицейских прошел тихий говор. Немцы это заметили, и скомандовали: «Вольно!» Тут же грузины обступили меня. – Ты как сюда попала? – начались вопросы. – Хочешь сказать «где Кура[8], а где мой дом?» – ответила я тбилисской шуткой. – А вы сами-то откуда? Оказалось, большинство из деревень. Тбилисцев мало. – Что ты тут делаешь? Ты давно из Тбилиси? – Поехала на каникулы к подруге и попала в войну. Ходим с ней по селам, хлеб, еду собираем. – А где она? – Увидела немцев, испугалась, убежала. – А ты не испугалась? Ты правда тбилисская? – Ну, конечно! Задавайте вопросы, что хотите знать? – В какой школе училась? – На какой улице живешь? – Кого знаешь в нашем городе? – Какие театры есть у нас? Какие бани? – Оперный имени Палиашвили, драматический Марджанишвили, русский Грибоедовский… а бани? Серные у нас бани, вот какие! Я старалась отвечать весело и уверенно. Гвалт стоял невообразимый. Немцы внимательно слушали. Вдруг один из грузинских полицейских повернулся к ним и по-русски с сильным акцентом крикнул: – Наша! Да?! Наша! – Наша! – закричали еще несколько человек, улыбаясь и похлопывая меня по плечу. – Какая там еврейка, наша девчонка! Попала в беду, несчастная. Отпустите ее! – Наша! – бил себя в грудь первый защитник. Все остальное они кричали по-грузински с редкими русскими словами. Михаэлис поднял руку. Все замолчали. Из группы немецких солдат вышел один, как выяснилось, переводчик. – Скажите им, что мы все поняли. Спасибо. Может быть, фройляйн будет работать с ними как переводчик. Позже. Переводчик все перевел, но, видимо, не все его поняли. Кто-то крикнул из толпы: «Скажи по-грузински, что он сказал, что ему надо?» Я перевела, и тут же прозвучали крики одобрения. – Будем ждать! Приходи, генацвале![9]Немцы двинулись к выходу. Я помахала полицейским рукой и пошла за Михаэлисом. Экзамен сдан. Свобода где-то рядом. В машине по дороге в тюрьму Михаэлис сказал: – Я рад. Кажется, эти грузины тоже были очень довольны встречей! А вы? Вам понравилось? – Да, конечно. Всегда приятно встретить земляков вдали от родных мест. – Думаю, теперь будет правильным назначить вас к ним переводчицей. Русского переводчика они не всегда понимают… Он их тоже! Мысль, что я скоро получу документы и смогу вырваться на свободу, отодвинула все остальные впечатления и переживания этого дня. Скоро, скоро, еще немного! На свободе я смогу найти местных украинских партизан. Они помогут мне пробраться к своим, в Белоруссию. Тогда я в этом почему-то была абсолютно уверена. Уходя, Михаэлис сказал: – На этих днях будут оформлены ваши документы, понадобятся подписи генерала и сотрудниковбезопасности. Потерпите еще немного, и вы сюда больше не вернетесь. В радостном волнении и мечтах я провела остаток дня во дворе житомирской тюрьмы, наблюдая за тем, как тюремщики таскали доски в основное здание. «Для нар, – объяснили они мне, – ожидается пополнение». Кого еще собрались сажать? Вроде бы в городе тихо… Прошло два дня, под вечер появился Михаэлис: – Ваши документы еще на подписи, на все нужно время. А пока, чтобы вы не скучали, я приглашаю вас в театр. И мы отправились в театр. Чего только не бывает в жизни! Из тюрьмы, под арестом и вдруг, с майором СД, оказаться в театральной ложе. С ума можно сойти! Ребята не поверят… Я знала, что с самого начала войны наши артисты тоже ездили на фронт. С группой Большого театра в первой фронтовой бригаде выступал перед солдатами и мой двоюродный брат, обладатель мощного, необыкновенного по тембру баритона Павел Лисициан, танцевала для воинов чудесная балерина Галина Уланова, пели известные всей стране Лемешев, Козловский и многие другие знаменитые певцы. Давали концерты музыканты, киноактеры, актеры драматических театров, исполнители народных песен, артисты цирка. Все они с риском для жизни ездили на передовую, старались воодушевить и порадовать наших воинов. И все это несмотря на обстрелы, налеты немецкой авиации. Некоторые вместе с армейскими частями попадали в окружение, в плен и потом погибали в немецких концлагерях. Это были удивительные люди и вдохновенные артисты. До войны их все знали, любили, на их искусстве выросло не одно поколение. Перед войной, как на праздник, мы всей школой регулярно ходили в Тбилисский оперный и драматические театры, на концерты в консерваторию. Многие из нас ходили туда слушать и своих одноклассников. В каждом классе по 3–4 ученика нашей школы одновременно бесплатно учились в музыкальной школе и периодически выступали в консерватории. А когда с гастролями приезжали из Москвы наши звезды Оборин, Гилельс, Ойстрах, Нежданова, Барсова, Лисициан, Козловский – весь город был в смятении, как достать билеты на концерты! Вообще, Тбилиси был одним из самых музыкальных городов. Летними вечерами из открытых окон на каждой улице можно было услышать звуки фортепьяно или скрипки, а то и виолончели. Играли то гаммы, то сложные пассажи. Многие из нас с детства знали на память оперные арии, народные песни, имена любимых певцов. По радио постоянно передавали записи не только наших, но и зарубежных знаменитостей. Особенно мы любили Карузо, Галли Курчи, Милицу Корьюс, Тито Скипа и многих других. Поэтому ты можешь понять мой интерес к концерту, на который меня вез Михаэлис. На какое-то время любовь к музыке и любопытство приглушили во мне постоянную настороженность. Мысленно я старалась угадать, кого и что я услышу. «Конечно, эти националисты будут исполнять только немецкую музыку – думала я, – но не Бетховена, разумеется, хотя и у него есть легкие песни, впрочем, вполне может быть и его. Скорее всего, все-таки Вагнера или Рихарда Штрауса…» У малоприметного входа в житомирский театр толпились немецкие солдаты, с ними несколько местных девушек. Издали мне улыбались грузинские полицейские. Солдаты расступались, отдавая честь проходившим в театр офицерам. Театр был небольшой, мест на 500–600. Мне даже показалось, что раньше это здание могло бы быть кинотеатром или клубом, но на сцене ни занавеса, ни экрана не было. Зал был забит до отказа немецкой солдатней. Кое-где мелькали платьица приглашенных девчонок. В ложе у меня за спиной сидели еще три офицера. Оркестр разместился прямо перед сценой, в первых рядах. Наконец все стихло. Зазвучала музыка. «Похоже, оперетта», – подумалось мне. На сцену выскочили размалеванные танцовщицы и два танцора в лохматых цветных париках, перьях и шляпках. Пританцовывая, они пели, потом дружно поднимали ноги в ритме музыки и что-то скандировали. Потом опять танцевали, но уже по очереди, и речитативом что-то рассказывали, отчего зал хохотал и аплодировал. Затем, к моему удивлению и смущению, танцующие барышни под музыку стали сбрасывать с себя и без того коротенькие юбочки и безрукавки, расшитые блестками. До этого я никогда не видела таких представлений. Девицы остались почти голыми. Михаэлис назвал представление непонятным словом «ревю». Польки, галопы, вальсы… музыканты выбивались из сил. Танцы превратились в вакханалию. Вышитые плавки танцующих не скрывали ягодиц. Голые плечи, животы и едва прикрытая грудь «балерин» нисколько не смущали публику, которая непрерывно им рукоплескала. Непристойные виляния бедрами и неприличные жесты «артисток» вызывали бурный восторг присутствующих. Я готова была провалиться сквозь землю от стыда, как будто платье сняли с меня. Офицеры за моей спиной оживленно переговаривались и аплодировали. Михаэлис тоже время от времени хлопал. Мне было неловко даже голову повернуть в его сторону. Теперь я смотрела не на сцену, а в зал. Случайно бросила взгляд на ложу напротив. Там в кресле сидел худощавый немецкий генерал с черным кружком-повязкой поверх левого глаза. Он смотрел на беснующуюся в восторге солдатню. Рядом с ним стоял, прислонившись к стене, молодой офицер. За ними в глубине ложи были видны другие аплодирующие офицеры. Генерал что-то сказал молодому офицеру, и оба уставились на нашу ложу. Мне стало не по себе. У одноглазого генерала был такой зловещий вид! Я опустила голову и стала смотреть на свои туфли со шнурками… Хваленые европейцы, думала я, вот как, оказывается, они воодушевляют своих солдат. Скотство какое-то… Хорошо бы нашим самолетам бабахнуть сейчас по этой «культуре» фугасом… Очень удобное для бомбежки скопление! О том, что бомбежка и меня бы накрыла, мне, как всегда, в голову не приходило. К сожалению, Житомир находился далеко от фронта и наших самолетов. После спектакля, возвращаясь к тюрьме, Михаэлис спросил меня: – Вам понравилось ревю? Вы почему-то все время молчали. – Неужели вам это нравится… – я еще слабо говорила по-немецки и не могла подобрать подходящего слова —…голое мясо? – наконец, выдавила я из себя. – Стоило ехать от самой Германии сюда, чтобы показывать такой позор. – Как, как? – рассмеялся Михаэлис – «голое мясо?» «Тело», вы хотели сказать. Между словами «мясо» и «тело» большая разница! Тела красивых девушек! Притом, они неплохо танцуют. Что тут позорного? Это же развлечение! Вы видели, как веселились люди? Даже наш генерал присутствовал. Вы заметили его в ложе напротив? – Да, но он больше смотрел в зал, чем на сцену. И на нашу ложу тоже. – Наверное, вы ему понравились, – улыбнулся Михаэлис. – Он прекрасный человек. Кстати, он должен будет поставить последнюю подпись на ваши документы. Я представила себе черный кружок на глазу генерала, и мне почему-то стало тревожно. – Да, вот что я еще хотел сказать, – продолжал майор – вы знаете, что нам периодически положен двухнедельный отпуск домой? Я этого не знала. – На днях я уезжаю в отпуск в Германию. Мой адъютант принесет вам документы, когда они будут готовы. Вы приступите к работе с грузинами без меня. А я тем временем попрошу свою жену, чтобы она подобрала вам пальто, теплую одежду, ботинки к зиме. Вы с ней одного роста и сложения. Зима тут суровая, а из вещей здесь ничего не найдешь. «Еще бы! – подумала я, – ведь сами же эшелонами все вывозите. Грабите и вывозите. Чего уж теперь жаловаться – «Ничего не найдешь!». Все наше в вашем фатерлянде и найдется…» Тем временем мы подъехали к тюрьме. – Да, чуть не забыл, вот вам листок с моим адресом на всякий случай. Мало ли что, война ведь. Лучше запомните его наизусть: Мюнхен, Вальдшлессхен штрасс, 10, мне. До свидания, удачи вам, Этери! Он сдал меня часовому во дворе тюрьмы и удалился. Адрес я запомнила, как видишь, на всю жизнь. Прошло еще три дня. За мной пришли два солдата, и молча повели меня в комендатуру, туда, где меня встречал после Мозыря Михаэлис. Погода стояла солнечная, однако людей на улице видно не было. Огромный красный флаг со свастикой на белом круглом фоне неподвижно свисал с крыши. Одноглазый генерал – «прекрасный человек», по словам Михаэлиса, – ждал меня в своем кабинете. Тут же сидели еще два офицера. Генерал недовольным тоном велел мне рассказать подробно всю мою историю с самого начала. Потом не удержался и заорал: – Здесь нет таких простофиль, как Михаэлис или Мюллер! Если ты не расскажешь, наконец, правду, то я прикажу тебя повесить прямо перед театром, где ты изволила развлекаться! Один из присутствующих офицеров оказался следователем. В его кабинете начались допросы, опять побои, как в Брагине, опять меня избивали полицаи, на этот раз украинцы. Немцы рук не пачкали. Я вцепилась в свою «легенду прикрытия» намертво: «медсестра, ищу Ганса». Меня отводили в тюрьму, а наутро снова приводили на допрос в комендатуру, и так не то два, не то три дня подряд. Сейчас уже не помню. Избивали во время допросов так, что я уже не могла ходить, и последний раз солдаты почти волоком притащили меня обратно в тюрьму. Дело было ночью, но спать я не могла. Болело все, нельзя было пошевелиться. Кровь сочилась не только из носа, но и из ушей. Несколько дней меня после этого никуда не водили – кажется, неделю, если не больше. Потеряла счет времени. Как-то зашел ко мне солдат из охранной тюремной команды и принес глиняный кувшин с водой. Это был высокий парень лет двадцати пяти, с выцветшими желтоватыми волосами. Когда я еще ходила по двору тюрьмы, мы столкнулись с ним при выходе из столовой, где кормили охранников и куда по распоряжению Михаэлиса пускали поесть и меня. – Как вас зовут? – спросила я. Он замялся, но потом все-таки ответил: – Альфред Камм. Я из Кельна. А вы? – Я из Грузии, из Тбилиси. Этери Гванцеладзе. Камм, а почему вы не на фронте? – Я единственный сын у родителей. Таких, как я, на фронт не посылают. Я этого не знала. Он стоял надо мной с кувшином в руках. – Михаэлис вернулся из отпуска? – спросила я. – Не знаю, я не хожу в комендатуру, – ответил он. – Я могу принести вам что-нибудь поесть. – Спасибо, я не могу есть… у меня сломаны два зуба. Хорошо помню этого молодого немца: часто видела его во дворе тюрьмы, к тому же именно он тащил меня из тюрьмы через весь Житомир в концлагерь, в тот самый, который мне показывал ранее Михаэлис – Шталаг 358. Но главное и потому, что я его снова увидела через несколько лет после войны. И где?! Представь себе, Элиана, во Флоренции, в 1949 году, летом, возвращаясь после отдыха в Абетоне, я шла по Старому мосту через реку Арно с мужем и сыном, которому было всего полтора года. Вдруг вижу – навстречу нам идет Камм. В белой рубашке с расстегнутым воротом… Под руку он вел какую-то белокурую девушку. От неожиданности я окаменела. Ко мне приближалось нечто из прошлых, совсем еще недавних потрясений, которые я так старалась забыть. Не отрывая глаз от идущего мне навстречу немца, я попросила мужа: – Пожалуйста, возьми сына и зайди в лавочку рядом. – Зачем? – Я тебе потом объясню… скорей! Он увел ребенка. Я и сейчас не могу понять своего тогдашнего замешательства. Ну, Камм, ну и что… и все же… В эту минуту я должна была встретить житомирское прошлое, житомирское привидение… одна, как тогда… одна… Слышу, как они говорят по-немецки… Вдруг Камм увидел меня и остановился. Узнал! Было видно, как он побледнел и растерялся. – Вы Альфред Камм? – спросила я по-немецки, шагнув к нему навстречу. Он очнулся и попятился. – Нет-нет! – почти закричал испуганный Камм. Чем немало удивил свою спутницу. Она вскинула голову, посмотрела в его сторону, не понимая, очевидно, почему он отрекается от своего имени. Но Камм не дал ей вымолвить и слова, схватил за руку и бросился прочь. Я смотрела, как парень убегает и тащит за собой свою подружку. Удивительно, ведь он мне тогда сам лично не причинил зла. Чего же он так испугался? А я? Почему я так заволновалась? Кто знает, что с ним было после Житомира? Наверное, и у немцев на войне появлялись жуткие комплексы, страхи. Вероятно, и у них воспоминания до сих пор вызывают невольную дрожь. Люди все-таки. Возвращаюсь, милая Элиана, к рассказу о житомирских событиях 1942 года. Я буду посылать рукопись частями, так как пишу медленно, получается много, и что-то вроде дневника. А ты уж сама складывай все эти части в любом порядке. Итак, не помню, сколько времени прошло после последнего допроса. Я лежала, сплевывала кровь в полузабытьи и думала, что спасти меня может только Михаэлис. Ведь не случайно допросы начались именно тогда, когда он уехал в отпуск. А Михаэлис мне не только поверил, ему еще нужна была и переводчица. Через какое-то время пришли те же солдаты и опять повели меня в комендатуру. Я едва передвигала распухшие ноги. Неужели опять допрос и побои? Однако меня привели в другую комнату, этажом выше. В просторном помещении за длинным столом сидели несколько немецких офицеров. С краю я сразу увидела Михаэлиса, он не смотрел в мою сторону, разглядывал какую-то бумагу. По центру стола сидел следователь. Чуть дальше – черный мундир эсэсовца. Остальные все СД. – Подойдите-ка поближе, – сказал следователь, – Вот мы и добрались до истины. Ваша смелость вызывает восхищение, так же, как и упорство, но… – он блаженно улыбнулся темными прокуренными зубами, – вас выдали ваши же. Можете, вернее, вы могли бы их поблагодарить, но… завтра мы вас расстреляем. Все выжидательно уставились на меня. Их было шестеро. Следователь достал из пачки бумаг фотографию «Ганса». Повернул ее и показал надпись на фотографии: «Дорогой Этери от Ганса». – Что это такое? – Надпись, мне на память. – А кто это написал? – Ганс. – Вот оно, вранье! Имя Ганс пишется с буквы «Н». Вот она, ошибка. Ошибка тех, кто подписывал вам эту фотографию. Тут «G» вместо «Н». Уж свое-то имя каждый немец напишет грамотно! На этом мы заканчиваем наше знакомство. – Я не знаю, почему он так написал, но писал Ганс. – Хватит! – заорал следователь. – Завтра будете расстреляны, и точка! Прощайте, можете идти. – Вы совершаете большую несправедливость. Эту надпись сделал Ганс. Но раз уж вы все решили, могу я напоследок попросить? – Да! – рявкнул следователь. – Что еще? – Вам ведь больше не нужна эта фотография? Отдайте ее мне. Я хочу умереть с фотографией Ганса на сердце. Когда-нибудь он узнает, как вы обошлись с его невестой. При этих словах эсэсовец вскочил из-за стола, грохнул стулом и, выругавшись, отошел к окну. Следователь молча протянул мне фотографию. Я собрала все силы, чтобы, не качаясь, повернуться и пройти к двери на окончательно обессиливших ногах. На Михаэлиса я даже не посмотрела. Все во мне застыло. Так значит, расстрел… Не помню, как меня довели до тюрьмы. В камере я вытянулась на досках. Все тело болело. Смотрела я на эту проклятую фотографию и думала о нашем начальнике штаба, от которого я ее получила, об Афанасии Мегере. Что за безобразие, бессовестные люди… как же можно посылать к немцам с непроверенными документами! Ну, куда смотрел Мегера? Правда, немецкого он сам не знал… А теперь я должна погибнуть из-за такого пустяка! Вот идиотство… Потом я подумала о маме. Она так никогда и не узнает, где и как я погибла. Она ведь не знает, кто такая Этери Гванцеладзе. Нет, она, конечно, знает настоящую Этери, прославленную отличницу тбилисской грузинской школы, которую еще до войны за успехи в учебе наградили орденом Ленина в Москве. А мы все, простые смертные, зеленели от зависти к этой Этери. Но то, что я выбрала это имя как псевдоним, маме и в голову не могло прийти! А выбрала я его тогда, когда мне сказали, что имя должно быть грузинским и таким, какое я ни при каких обстоятельствах ни в бреду, ни под пыткой, ни от страха, ни от радости не забуду. Конечно же, Этери Гванцеладзе! Какое еще другое имя могло так врезаться в память? Всю ночь мне снились школа, улицы нашего города, одноклассники, учителя… Я проснулась под утро с мыслью о нашем молодом учителе немецкого языка Христофоре Сергеевиче Оганезове. В 10-м, тогда последнем классе, он сказал мне:
 Школа № 43 в г. Тбилиси, в которой училась Тамара Лисициан
Школа № 43 в г. Тбилиси, в которой училась Тамара Лисициан
– У вас отличные способности к языкам, Лисициан, но вы ленивы и упрямы, как ослица! Вы ведь ничего не учите дома! Я все вижу – берете только на слух! Я никогда не поставлю вам в аттестат «отлично», хотя вы сейчас сносно продекламировали «Лореляй»! Садитесь. Вот я и села. В калошу. С этим немецким. А ведь как он мне сейчас нужен! Дура я дура! Сейчас? Нужен? Зачем он мне сейчас? Меня расстреляют! «Лореляй» прокричать им на прощание, что ли?! Нет, я не буду ждать, когда меня поставит к стенке это зверье! Это им не кино, где гордо подставляют грудь под пули. Я знала, что в тюрьме не казнят. Значит, поведут куда-то. По дороге в комендатуру в одном месте улица идет вдоль песчаного обрыва над рекой. Обрыв – метров 40. Брошусь, и пусть стреляют. Попадут – их удача. А по песку можно скатиться до самой воды, и Тетерев поможет мне скрыться. Наверняка! Не так-то легко попасть в скатывающегося по обрыву человека.
 Пионерский лагерь в горах на Удзо. Слева направо: Андроникова, Лисициан, Ланго, Яралова и др.
Возле г. Тбилиси, 1938 г.
Пионерский лагерь в горах на Удзо. Слева направо: Андроникова, Лисициан, Ланго, Яралова и др.
Возле г. Тбилиси, 1938 г.
Приняв решение, снова заснула. Проснулась, когда было уже совсем светло. Скоро придут. Стала думать о друге, который ждет меня, и, возможно, тоже не узнает, куда пропала его первая любовь. Первая любовь пришла к нам, одногодкам, еще в 1938 году. В пионерском лагере в горах возле Тбилиси. Нам было по 15 лет. То, что это настоящая любовь, мы поняли только в 1941 году в Москве, после первого поцелуя, первого и последнего в тот вечер расставания, когда этот поцелуй стал нашей клятвой верности на всю жизнь. Я ушла на фронт, он – «в другую сторону», как пелось тогда в песне… Вспомнился мне и поцелуй, и мой любимый. Хорошо, что и он, и мама далеко от фронта, в безопасности! Ну, солдат, готовься к бою! Я слезла с топчана и села на табурет, чтобы сразу встать, когда они придут. Уже совсем светло за решеткой, солнце высоко, а эти гады все не идут и не идут… сколько можно ждать? Хуже нет, чем ждать и догонять. Наконец, загремела железная дверь. На пороге… Михаэлис собственной персоной! За ним в коридоре – Камм. – Бедная моя Этери, – сказал Михаэлис, входя. – Расстрела не будет. Девушка с такими глазами не может так долго и упорно лгать. Я так и сказал генералу! Со вчерашнего дня я бился за вас до… он посмотрел на часы, – до одиннадцати сегодняшнего утра. Вы спасены. Я встала, чтобы подойти к нему, но не могла и шагу ступить, не могла ничего сказать, только смотрела то на него, то на Камма. Михаэлис улыбался. – С сегодняшнего дня вы можете называть меня «фати»[10]. У меня потемнело в глазах, и я в первый раз в жизни, без всякой видимой на то причины, потеряла сознание. Это случилось 11 августа 1942 года. Когда я пришла в себя, Михаэлиса не было. Камм укладывал меня на топчан, под головой оказалась небольшая подушка, на досках – серое солдатское одеяло, похожее на шинель. – Принести вам что-нибудь? – спросил Камм. Я отрицательно помотала головой. Он закрыл за собой громыхнувшую дверь, и снова наступила тишина. Прошли еще два дня. Рано утром опять загремела дверь. Вошли Камм и еще два солдата. – Идем, пошли… – сказали они мне. С большим трудом я поплелась за ними. Один из солдат остался у ворот тюрьмы, другой вместе с Каммом вывел меня на улицу. – Куда мы идем? – спросила я, еле переставляя ноги от боли во всем теле. – В госпиталь, к военнопленным, – коротко ответил Камм. «Значит, за проволоку, – подумала я, к тем больным, едва передвигавшимся солдатам в лохмотьях, которых показывал мне Михаэлис. Поближе к братским могилам… Что-то я там не видела женщин…» – А где Михаэлис? Он знает? – Его нет в Житомире. Его перевели, – сухо сообщил Камм. Часто останавливаясь, потому что я задыхалась и не могла долго идти, мы медленно двигались к другому концу города. Не помню, попадались ли нам прохожие. – Почему меня не оставили в тюрьме? – Теперь туда будут свозить евреев, – усмехнулся второй солдат. – Понадобится много места. Это же еврейский город! – Неправда, – только и смогла ответить я, вспомнив, как охранники говорили мне о каком-то пополнении, для которого из досок сколачивали нары. – Правда, правда – усмехался солдат. – Вот теперь, после чистки, он будет другим. Это что еще за «чистка», думала я, повисая на руке единственного сына немецких родителей. – Постоим еще немного… Не могу…
 Ограда и ворота бывшего концентрационного лагеря для советских военнопленных в городе Житомире, район Богунья, 1957 г.
Ограда и ворота бывшего концентрационного лагеря для советских военнопленных в городе Житомире, район Богунья, 1957 г.
Глава 5 Концлагерь Житомир
«…те почти волоком потащили меня по песчаному двору к трехэтажному дому из красных кирпичей. Я едва дышала».Наконец, добрались до лагеря. Немцы на проходной сдали меня полицаям, и те почти волоком потащили меня по песчаному двору к трехэтажному дому из красных кирпичей. Я едва дышала. Вдруг на нашем пути встал, как вкопанный, какой-то военнопленный, такой же серый, как его драная шинель. Он смотрел на меня в упор и начал произносить мое имя: Тама… Я в ужасе крикнула, как могла, вернее, простонала по-грузински: «Молчи, тут у меня другое имя, молчи, а то меня повесят!» Шалико молча попятился в сторону. Я тоже сразу узнала его. Правда, теперь передо мной отступал в сторону не красивый черноволосый молодой грузин, мой сосед по дому в Тбилиси, а седой, похудевший, с бледным до прозрачности лицом старик. Шалико Абшилаве был старше меня всего лет на десять, а может, даже меньше. В Тбилиси, сколько я себя помню, мы жили в одном доме. Он с матерью – молчаливой вдовой, всегда одетой в черное с неизменным черным платком, покрывавшим волосы, жили на первом этаже, в маленькой полутемной комнатке. Мы с мамой – тоже простой женщиной, казачкой из Грозного – жили на втором этаже, в комнате побольше и посветлей. Он был студентом Тбилисского медицинского института, я – только начала ходить в школу. Он был серьезным, старательным парнем, я – маленькой озорницей в компании двух таких же сорванцов – соседских мальчишек моего возраста, тоже живших на втором этаже. Это была моя «шайка». Мальчики, армянин и грузин – Жора Мармарян и Эдик Мирианашвили. Один был младше меня на год, другой – на год старше. Еще с детского сада во всех проказах они признавали мое превосходство. Мы втихую от родителей лазили по чердакам в поисках «клада», прыгали с крыши на крышу, чтобы добраться до Горисполкома и сверху, с крыши, спрятавшись за транспарантами и флагами, посмотреть парад физкультурников на главной площади города, куда посторонних не пускали во избежание давки. Изнывая от ужаса, со спичками и огарками свечек в руках, лазили мы и за «привидениями» по глубоким подвалам нашего старинного дома. В общем, «шайка» устали не знала и конспирацию сохраняла. Иначе нас ждала участь сидоровой козы – наши мамы были скоры на расправу. Совсем другим был Шалико. Целыми днями на улице он просиживал за книгами и тетрадями. В комнате было мало света, поэтому он регулярно выставлял во двор стулья, раскладывал свое «хозяйство» и занимался. За такое образцовое поведение мы его презирали! Двор наш по периметру второго этажа, он же последний в доме, был украшен, как часто бывает на Востоке, непрерывным длинным деревянным балконом с красивой балюстрадой. Время от времени моя «шайка» позволяла себе подразнить «зануду Шалико». Мы набирали в чайник воду из крана и, когда взрослых не было дома, лежа на полу общего балкона, спрятав головы за резные стойки перил, «нежно» поливали книжки, тетрадки и голову «аккуратиста» Шалико. Можешь себе представить его возмущение! Страшно довольные, давясь от смеха, мы по-пластунски, на животах, расползались по своим комнатам. Тогда у нас не было квартир. Семьи жили в основном в 1–2 комнатах, при общей кухне и туалете. Мама Шалико иногда жаловалась на нас нашим родителям, но невозможно было дознаться, кто это сделал – «шайка» держала оборону. И вот теперь Шалико не верил своим глазам, по двору концлагеря полицаи волокли «предводителя» той самой «шайки». Я тоже не верила своим глазам. Теперь он, по-видимому, уже врач. Тоже попал в плен? Где? Чуть не выдал меня своим «Тама…», сразу видно, что не из моей «шайки». Те ребята не растерялись бы. Да, это был он, и слава Богу, понял вовремя, что я ему сказала на его родном языке. Элиана, дорогая, тут я должна остановиться. Сил больше не хватает, так горько все это вспоминать… Иногда кажется, что я не смогу дописать рукопись до конца. Как мне пережить снова все то, что я пережила пятьдесят два года тому назад?! А ведь воспоминания повторяют страдания. Как мне вернуться в 1944 год, и еще раньше – в 1941–1942? Описать, то есть вновь прожить месяцы в нацистском концлагере, в их тюрьме? Вспоминая подозрительность одних и ненависть других? Мою боль и страдания окружающих? Ты понимаешь, сколько усилий нужно приложить твоей бедной Тамаре? Если мне это удастся, это будет исключительно твоя заслуга. Может быть, мне удастся освободиться от этих тяжких воспоминаний, получив энергию и мужество от нашей дружбы и сердечной привязанности, которые нас связывают тридцать пять лет. Но сегодня у меня не хватает сил. Постараюсь рассказать тебе то, что ты хочешь знать, завтра. Прости меня. Через несколько дней передам с кем-нибудь из едущих в Италию эти странички. Постарайся понять меня. Уверена, что поймешь. Обнимаю крепко-крепко, Тамара. Дорогая Тамара! Давно нет от тебя вестей. Может быть потому, что я вновь и вновь просила тебя написать о твоих переживаниях, рассказать, как дальше они поступили с тобой… Почему же ты больше не хочешь ничего рассказывать? Я много думаю о тебе и, полагаю, что ты была их жертвой, если так можно выразиться, только внешне, знаю, что ты всегда старалась побороть ситуацию. Побороть ощущение бессилия и физическую слабость, даже в обстоятельствах, которые не давали тебе возможности защищаться. Знаю, что невозможность действовать для тебя всегда была куда тяжелее, чем те мучения, которым они тебя подвергали… Ты всегда была так замкнута, не хотела говорить со мной об этом, признать свою силу воли. Тебе трудно, я знаю, тебя это смущает. Но ведь я расспрашиваю потому, что люблю тебя, а разделить беду, боль, пусть даже прошедшую, – разве не в этом смысл дружбы? Ты считаешь страдание чувством личным, интимным, я согласна с тобой. Но, с другой стороны, мы же сами невольно стараемся избавиться от него… Тут на помощь приходит дружба. Не делясь ни с кем все эти годы, молча, ты смогла все-таки сохранить душевное и умственное здоровье, постепенно окрепнуть физически. Конечно же, в тебе недюжинная, особенная сила, которая не гнется, не ломается. Силой души твоей ты отвергаешь, отталкиваешь от себя зло, но с какой готовностью ты сразу же открываешься радости, добру. Это счастье – иметь такой характер и такое здоровье. И все же продолжай рассказывать мне все, что сможешь, для того чтобы можно было глубже понять, узнать о постигшей людей трагедии и в концлагере, и на войне. Люди должны задуматься над всем этим. Мы ведь не хотим жить в мире беспринципных ловкачей, пользующихся любым случаем, чтоб все использовать только в свою пользу, думающих только о себе… Когда мои сыновья называют меня идеалисткой, я отвечаю: «Если в мире обезьян мне удалось вырастить двух людей – я считаю, в этом и есть главный смысл моей жизни, ее результат». Война, которую мы пережили, хотя и не все с таким напряженным участием, как ты, перевернула жизнь целого поколения, даже двух… В моей памяти возникают страшные моменты… помню бомбы, которые падали на Милан, да еще так близко… пожары, земля дрожала… Однажды я спросила маму: «А как это, когда нет войны?» Она смогла мне только сказать: «По вечерам не бывает темноты, зажигается множество огней…» Мы не хотим войны, но ее нельзя забывать, чтобы сохранить основы уважения к человеческим жизням. Наши дети, наши внуки иногда просят рассказать о том, что мы пережили. Для них это – как самое интересное и достоверное кино с живыми, присутствующими тут же персонажами. Однако они должны знать, что их убеждения, их сила однажды понадобятся для того, чтобы не повторились эти ужасы. Меня же в то военное время больше всего мучило отсутствие ласки, любви, привязанностей. О детях тогда как-то мало думали. Не до того было. Развод моих родителей и одиночество. В детстве это так страшно. А ты в это время была уже в гуще событий. Действовала там, где твое присутствие могло повлиять на ситуацию… А когда ты не могла ничего сделать, тебя поддерживало ожидание момента, когда ты вновь будешь на свободе и примешь участие в борьбе. И это в нескончаемые месяцы жуткого пребывания в концлагере… Тамара, по-моему, я слишком настойчива, больше не буду: жду. Во всяком случае, напиши мне, как ты живешь и где ты будешь в ближайшее время. Может быть, мы сможем оказаться вместе в одно и то же время и в одном и том же месте! Обнимаю тебя, как ты того заслуживаешь, с огромной нежностью, твоя Элиана.
Моя дорогая Элиана, спасибо за такое теплое письмо. Оно меня взволновало и растрогало. Спасибо тебе за понимание и за дар сопереживать чувствам и мыслям близких тебе людей. Ты очень внимательна, а главное – добра, и душа невольно тянется к тебе. Недаром мы стали назваными сестрами. Все, что ты говоришь о своих сыновьях, – верно, и убеждает меня в том, что мне следует, мучительно напрягая память, все же продолжить рассказ. Хотя это так тяжело… Вернемся в 1942 год. Украина. Город Житомир в ста километрах западнее Киева. Немецкий концентрационный лагерь для военнопленных. Кирпичные красноватые трехэтажные дома-кубы вперемежку с длинными одноэтажными деревянными бараками, почерневшими от сырости, выстроились вдоль асфальтированного шоссе на юго-западной стороне города. Когда-то, всего полтора года назад, на этой территории не было бараков и колючей проволоки. Вокруг домов росла густая трава, на газонах распускались цветы, а подстриженные кусты окаймляли главную дорожку. Тут был военный городок. Теперь между бараками и домами только песок, по которому бродят ослабевшие от голода и болезней пленные. Мало кто из них вспоминает или думает, что каких-то 15–16 месяцев назад тут жили, учились, занимались спортом, смотрели кино наши солдаты и офицеры. Сейчас здесь хозяйничают немцы. Три ряда колючей проволоки на высоких столбах отделяют территорию смерти от живого мира. На деревянных вышках – часовые с автоматами. Ночью по несколько раз включают яркий свет на столбах, освещая пустой лагерный плац. Всех пленных после вечерней поверки запирают в домах и бараках до утренней поверки, территория лагеря поделена колючей оградой на отсеки, где помещаются по три-четыре тысячи человек. Всего пленных, как объяснял мне раньше Михаэлис, 16 тысяч. Но мне всегда казалось, что он сказал неправду. Пленных было явно меньше. Почти все солдаты, неузнанные офицеры и медперсонал попали сюда из окружения, в котором оказались наши войска под Киевом. Их малая часть, других развезли по разным лагерям на Украине и в Германии. А многие тысячи наших бойцов остались лежать в украинской земле. Погибли при защите столицы Украины. Подходить к внешней ограде нельзя, часовые стреляют без предупреждения. Несколько человек поплатились жизнью за то, что от нестерпимого голода пытались вырвать пучок еще не съеденной травы, все еще густой и зеленой, растущей между рядами проволочной ограды и кольцами Бруно. Их тела долго не разрешали убирать в назидание остальным. Об этом мне рассказали пленные, предупреждая об опасности. Но не сразу, позже, когда мы познакомились ближе. После встречи с Шалико меня кое-как довели до красного кирпичного дома. Показали место на первом этаже, где я могла оставаться. Большая, в четыре окна, пустая комната с каменным полом. Я легла под окном. Холодный пол после жарких улиц приглушал боль во всем теле. Хотелось пить и, не двигаясь, лежать тут как можно дольше. Со двора доносились голоса какой-то переклички. «Проверка, должно быть», – сказала я себе. Оглядела комнату, которая совсем не походила на тюрьму, если не считать оплетенные колючей проволокой окна. «Наверное, – подумала я, – тут была столовая». У нас в Москве, в нашей казарме, в столовой пол тоже был каменный, из мраморной крошки, как тут. Мы с Лелькой мыли его в свое дневальство. Она терла его старательно, как делают при мытье деревянных полов, а я, часто макая тряпку в ведро с водой и слегка отжимая, с размаху возила ею по полу на всю длину рук… Конечно же, моя половина бывала вымыта в десять раз быстрее, чем территория совестливой Лельки! Я смеялась над ней, но она не одобряла мой «летучий» метод. Где ты, моя любимая подружка? Как ты там без меня в Белоруссии? В дверь постучали. Кто это? Ни немцы, ни полицаи стучать не стали бы. – Да-да, войдите, – сказала я как могла громче. Дверь открылась, и вошли несколько пленных в поношенных гимнастерках. Некоторые – в драных шинелях внакидку, без сапог, в каких-то опорках. С ними Шали. Один из них стал поднимать меня с пола. – Да что же это такое, – ворчал он, – хочешь воспаление легких получить? Пол-то холодный… Мне было больно оттого, что он поднимал меня, я невольно застонала. – Ну, ладно, ладно. Вижу, что больно… сядь хотя бы, обопрись о стену. Да что же это такое, – повторял он, разглядывая меня. – Где это так тебя? – В комендатуре. Пленные уселись вокруг меня на пол. Начались расспросы. – Как тебя зовут? – Этери, – ответила я, глядя на молчавшего Шалико. – Сколько тебе лет? – Девятнадцать. – Полицаи сказали, что ты партизанка, это правда? – Откуда ты? Где жила? Я еле ворочала языком. Очень хотелось, чтобы они наконец ушли. Но я понимала, что надо отвечать. Я тут, видимо, надолго. Еще несколько человек вошли и стоя разглядывали меня, слушали мои ответы. Тот, который меня поднимал, повернулся к присутствующим. – Вот что, дорогие мои, тут у нас не следственный изолятор. Так она долго не протянет. Толя, пойдем со мной, а вас всех попрошу, попрошу… – Да ладно вам, Василий Степанович, – недовольно бурчали посетители – уж и поговорить нельзя… – Попрошу, попрошу! – настаивал Василий Степанович. Он поднялся и стал выпроваживать людей из комнаты. Затем закрыл за собой дверь. Я снова легла на пол. Через какое-то время он вернулся с двумя половинками железной кровати. За ним шли тот, кого он назвал Толей, и еще один высокий неуклюжий широколицый парень. Они несли доски и другие части кровати. Установили ее в дальнем углу, у противоположной окну стены. Потом Толя принес какую-то шинель и постелил ее на доски. Круглолицый поставил под окно ведро с деревянной доской вместо крышки. – Если тебе что-нибудь будет нужно, обращайся ко мне или к Толе, – говорил Василий Степанович, осторожно усаживая меня на кровать. – Мы находимся в конце коридора, последняя дверь слева. Я буду сам приходить, пока ты болеешь. Ложись и ни о чем не думай. На сегодня ни немцев, ни полицаев не будет. В пять часов вечера была поверка, потом всех загнали в дома и бараки. Запирают снаружи на здоровенные амбарные замки до утренней поверки. – А вы не могли бы позвать ко мне кого-нибудь из женщин? – попросила я. – Какие женщины! Голубушка, тут мужской концлагерь. В Житомире он единственный. Мы с Толей будем тебе и за женщин, и за маму, и за папу. Толя тем временем принес деревянный табурет, железную кружку и – о, счастье! – котелок с водой. Я пила не отрываясь, прямо из котелка, и чувствовала, как с водой возвращаются силы. – А вы кто, Василий Степанович? – спросила я, допив воду. – Пленный, как и все. Сначала был просто санитаром, а потом меня немцы повысили. Стал экономом этого первого блока. Ну, завхозом, по-нашему. На общественной работе нахожусь, – иронически усмехнулся эконом. – На тех же харчах, что и все, но отвечаю за сбор одежды с умерших. Ее немцам сдаем. Ну и за порядок в блоке тоже отвечаю. А Толя – он кадровый военфельдшер, на воле, конечно, а тут – мой помощник. Высокий худющий блондин Толя улыбнулся и слегка поклонился. – Значит, вы вроде как начальник дома. – Да нет, какой я начальник! Начальник нашего первого блока – немец, Хипш его фамилия. Говорит, до войны был парикмахером. Завтра увидишь. – Есть начальники и из пленных, – заговорил Толя, – тут у нас немцы назначили главным врачом госпиталя хирурга Алексеева, он живет в другом блоке. Завтра, наверняка, придет знакомиться. – Какого госпиталя? – Как какого? Нашего. Это место называется госпиталь, «Кранкенлазарет» по-немецки. Шталаг 358. Мы отделены от всего остального лагеря. Тут четыре с половиной тысячи раненых и больных, двести человек медперсонала. В каждом блоке свой главный врач и эконом – кивнул он на Василия Степановича. – А чем раненых лечите? – Мы их хороним, – ответил Василий Степанович за Толю. – Тут никого не лечат, только хоронят. Нет ни лекарств, ни перевязочного материала, даже постелей нет, не говоря уж о белье. Воды помыться – и то нет. Завшивленность от этого стопроцентная. – Раненые и больные редко выживают, – подтвердил Толя, – гангрены, сыпной тиф, дизентерия… – Ну, да ладно, – перебил его Василий Степанович, – утро вечера мудренее. Главное, не дрейфь, партизанка. Бог не выдаст, свинья не съест! – И они ушли. Наутро я услышала за дверью топот множества быстро идущих ног, а потом голоса со двора. Перекличка. Я поняла, что началась утренняя поверка. Видимо, я тут же снова уснула. Вскоре проснулась оттого, что меня тихонько потряхивал за плечо Василий Степанович. – Проснись, Этери, проснись… Рядом с ним стоял немец. Небольшого роста, подтянутый, аккуратно выбритый. Черноглазый и черноволосый ефрейтор с любопытством смотрел на меня. – Партизанка? – спросил по-немецки. – Нет, – ответила я приподнимаясь, – медсестра. – А мне сказали – партизанка, – настаивал немец. Я поняла, что это был Хипш, начальник блока. – Нет. Это кто-то меня оклеветал. Я – медсестра. – Почему не явилась на поверку? – Не могу ходить, стоять… – Почему? Я показала на свое «бывшее» платье – ныне разодранные окровавленные лохмотья. Вытянула опухшие в синяках и ссадинах ноги и руки. Хипш посмотрел, молча повернулся и в сопровождении Василия Степановича вышел из комнаты. Митя, так звали неуклюжего тридцатилетнего парня, который помогал устанавливать кровать, принес котелок баланды и воду. Есть я не могла, только пила. Баландой называли вываренную картофельную шелуху, слегка подсоленную, без признаков какого-либо жира или овощей. Это серое варево выдавали два раза в день по котелку на человека и один раз в день к ней добавляли «хлеб» – смесь муки гороха и опилок, которую нельзя было даже разрезать ножом – рассыпалась. По триста граммов на душу. – Митя, я есть не могу. Все время подташнивает. И эти кусочки хлеба тоже отдай кому-нибудь… У меня зубы… десны еще не зажили. – Правда, не хочешь? – удивился Митя, – Скажи, правда? Может, потом, понемногу? Ночью? – Нет, не могу… – Тогда, – Митя оглянулся на дверь, – можно я? Только никому не говори… И он стал быстро-быстро глотать кусочки «хлеба» с опилками и запивать баландой из котелка. Я смотрела, как он глотает, почти захлебывается, и думала с тоской: какой же он голодный! И те, что приходили вчера, такие же худые, серо-желтые. У всех торчат скулы и глаза кажутся огромными, может, оттого, что блестят, как будто вот-вот слезы потекут… наверняка такие же голодные, как Митя. После Мити долго никого не было, а потом вошел человек лет тридцати пяти, похожий на цыгана. Высокий, широкоплечий, глаза темные, густые черные волнистые волосы. – Я – Алексеев, – сказал он, опираясь на железную спинку кровати. – Главный врач «Кранкенлазарета». За что это они вас так? – спросил он громко низким голосом. – Долго рассказывать, а говорить мне трудно… Ни за что, в общем. – Ни за что? А я слышал другое. Ты – парашютистка, партизанка, – вдруг перешел он на «ты». – А еще что слышали? Алексеев не успел ответить – в дверь вошел Василий Степанович, с ним еще один человек – невысокий, лысеющий, с улыбающимися карими глазами. – Вот, – сказал Василий Степанович, – еще один главный врач, только на этот раз одного нашего блока, Александр Дмитриевич Биценко. Биценко подал мне руку. – Как вы сегодня? Не лучше? Спали? – Спала. – И поела! – торжествующе сообщил Василий Степанович. – Митя котелок пошел на кухню мыть. – А ты давно из Москвы? – продолжал разговор Алексеев. – Месяца полтора-два. Какое сегодня число? – Четырнадцатое августа, – сказал Биценко, держа меня за запястье и пытаясь нащупать пульс. – Наши от Москвы отогнали их? Далеко? – поинтересовался Василий Степанович. – Километров на двести, говорили. – А Сталин в Москве? – Все время был, Александр Дмитриевич. – Называйте меня просто Митрич. Меня все так зовут. – Ладно, с тобой все ясно. Не помрешь! – почему-то громко засмеялся Алексеев. – Потом еще поговорим. И ушел. Ушли за ним и Биденко с Василием Степановичем. К концу дня, когда солнце за окном стало красным, я услышала, как во дворе опять идет перекличка. «Опять поверка, – подумала я, – сейчас всех загонят и запрут. Опять будут гости…» И не ошиблась. Первым пришел Василий Степанович с котелком баланды. – Вот, достал тебе ложку. Ешь! Отказываться не стала. Понемногу глотала варево под наблюдением Василия Степановича. Гадость порядочная, но надо привыкать. Через месяц баланда не только не казалась гадостью, дождаться ее не могла! Так все время хотелось есть. Вкус не различала. Не с чем было сравнивать, кроме как с далекими теперь воспоминаниями. В дверь несколько раз стучали. Василий Степанович выходил, и я слышала его недовольный голос: – Дайте же поесть человеку, что за народ такой! – в конце концов он впустил нескольких пленных. – Только не долго! Человек болеет. Нельзя же так! Что за люди?! Опять посыпались вопросы: как в Москве, есть ли хлеб, продукты? Бомбят ли город? Где правительство, Сталин? Где проходит фронт? Какие города еще взяли? Отвечала, что знала. Слушали очень внимательно. Никто не верил, что я просто медсестра, подробности я не рассказывала. Понимающе улыбались, кивали головами, переглядывались. – Не бойся, не пропадешь, не выдадим… поправляйся скорей. – Мы про тебя слышали еще раньше, слухи ходили. Удивительно, но в «Кранкенлазарете» каким-то образом узнавали все, что делалось в Житомире. Слухи, слухи… как и откуда?! А сплетен-то сколько! За время пребывания в плену я убедилась, что мужчины охочи до сплетен ничуть не меньше женщин. Эта особенность чуть нестоила мне жизни, но об этом потом. Так прошло несколько дней. Василий Степанович Головко, такой была его фамилия, Толя Мащенко, Александр Дмитриевич Биценко и Митя Пустовалов старались всячески приободрить меня, помочь хоть чем-нибудь. Начали с одежды. Как-то утром Головко принес мне наволочку, набитую чистыми белыми тряпицами. – Это тебе и подушка, и чистые тряпочки для тех твоих дней. Я смутилась, залилась краской. – А вот этой веревочкой я сниму с тебя мерку. Надо что-то делать с твоей одеждой. Зима на носу. Пока он снимал мерку, я размышляла: «Все не как у нормальных людей. В августе – «зима на носу». В лагере собирается найти мне одежду! Каким это образом, когда все кругом в лохмотьях. Подумал и про тряпочки. Действительно, стал и мамой, и папой!». Василию Степановичу Головко было в то время 38 лет. Среднего роста, лысый, (остатки каштановых волос были заметны лишь на висках и на затылке), зато под носом красовались густые коричневые усы. Землисто-бледное, продолговатое лицо, блестящие веселые карие глаза с хитринкой. Сразу было видно, что Василий Степанович – очень добрый человек. На него невозможно было сердиться, хотя он все время ворчал и ко всему придирался. Он рассказал мне, что попал в плен в окружении под Киевом, когда немцы загнали в «котел» несколько наших армий. Их танки и самолеты непрерывно, днями и ночами, расстреливали и бомбили в этом «котле» сотни тысяч наших солдат и офицеров, которые с боями пытались вырваться из окружения. Десятки тысяч из них погибли, более двухсот тысяч были взяты в плен, раненые, контуженные, потерявшие своих командиров подразделений, оглушенные бомбежками, артобстрелами, танками, бешеным натиском фашистов. Немцы разместили их в наспех отстроенных лагерях на базах наших бывших военных городков по всей Украине. Вывезти столько пленных за пределы страны они не могли. Железные и шоссейные дороги были забиты немецким транспортом с оружием, танками, солдатами, направлявшимися на фронты сражений. Только теперь пленных начали понемногу вывозить в Германию и в другие европейские страны – на работу и в специально для этого приспособленные лагеря смерти. – Я думаю, что, если так дальше пойдет, вывозить им придется не так уж много. Только у нас каждый день умирают по 35–40 человек, и не только от болезней и гангрен. От голода. Ты теперь сама видишь, долго ли можно продержаться на этой баланде. Хорошо, хоть за семью я спокоен. Они вовремя уехали из Киева к родителям жены, на Урал, – грустно закончил свой рассказ Головко. А я подумала – надо торопиться. Не ждать удобного случая, придумать, как бежать отсюда, пока есть еще какие-то силы, пока не увезли в Германию, в какой-нибудь лагерь смерти. Но не стала говорить об этом Василию Степановичу. Чтобы как-то отвлечь его от тяжелых воспоминаний, сказала: – Давно хочу вас спросить, Василий Степанович, как это вам удается так хорошо бриться? – Мне досталась бритва в наследство от одного умершего тут товарища. – А мыло? – я помнила, как брился, намыливая щеки, мой покойный папа. – Бреюсь без мыла, и тебе советую забыть такие слова, как «мыло», «зубная паста» или еще там «одеколон». Всю эту буржуазную «мирихлюндию»! – рассмеялся Головко. Я не знала, что это такое «мирихлюндия», но, глядя на желтые кривые зубы и распухшие красные десны смеющегося Василия Степановича, поняла: зубы здесь не чистят. И еще подумала: если человек в таком месте может беззаботно хохотать, значит, у него еще здравый ум и настоящая сила воли. В этом нетрудно было убедиться, глядя, как он мне помогает, как оберегает. Настоящий рыцарь из моих детских книжек. Да он ли один? Мне не следовало жаловаться на тех, с кем свела меня судьба в этом страшном месте. Тут каждый знал, что смерть его близка, если не от болезни, так от голода. В этом состоянии человек раскрывается. Легко можно увидеть, какой он на самом деле. Здесь, в Житомире, было больше людей хороших, чем плохих. Однако, если бы я попала не в мужской лагерь, неизвестно, спаслась бы я. Василий Степанович, Толя, Александр Дмитриевич, Митя не отходили от меня. Они стали моими старшими братьями, моей семьей, моей личной охраной от обозленных и жестоких людей. Ведь были и такие. Но сначала о друзьях. Первому повезло Василию Степановичу. Он нашел – о, чудо! – английскую шинель тонкого сукна горчичного цвета. Потом разыскал среди пленных профессионального портного из Киева. Не знаю, где они нашли иголку и нитки, но этот портной, которого я так и не увидела (он умер прежде, чем я стала выходить во двор), по меркам сшил мне на руках теплое платье с рукавами и даже где-то разыскал «змейку» для воротника. Доктор Биценко умудрился «увести» из-под носа полицая пару солдатских обмоток, из которых тот же портной сшил мне толстые чулки. Ноги у меня были такие худые, что чулки тоже оказались впору. Все из той же страшной груды одежды, оставшейся от мертвых, Головко «выудил» для меня зимнюю ушанку. Однажды Толе на кухне передали две настоящие картофелины, найденные в шелухе, привезенной для баланды. Их сварили и передали «для Этори». В другой раз там же нашли небольшую морковку и опять передали «для Этори». К этому времени обо мне знал уже весь «Кранкенлазарет», и даже те, кто жил в других блоках и уже не мог покидать нары, интересовались, выздоравливаю ли я. А незнакомые голодные люди вместо того, чтобы съесть чудом найденную картофелину или морковку, посылали ее «для Этери». Только тот, кто испытал смертельный голод, близость смерти, может оценить всю щедрость и силу воли этих людей. Дело было даже не во мне или картофелине. Я напомнила им их прошлую жизнь, жен, семью, детей. Мысленно прощаясь с ними, они, в безнадежном отчаянии, хотели спасти во мне свою память о них. Может быть, даже не осознавая этого. Удивление и благодарность переполняли меня. Вскоре отличился Толя. Достал в бараке, куда возил на тачке баланду, чьи-то, уже ненужные хозяину, сапоги. (Какое страшное словосочетание в этом месте – «уже ненужные».) «Уже ненужные», – так потом и сказал спокойно Толя: «Хозяин сапог умирал, и перед смертью подарил их мне». Толя тут же нашел среди выздоравливающих (были и такие) сапожника, тот сапоги распорол и сшил заново по моей мерке. Чем он шил, для меня осталось загадкой. Когда Василий Степанович, Толя и Митрич пришли ко мне с этой обновкой, я глазам своим не поверила. Настоящие сапоги! – Я вам так благодарна. Милые вы мои… – Сегодня герой – Толя! – сказал Василий Степанович торжественно. – Толя, ты так меня растрогал, слов не нахожу… Спасибо! Толя рассмеялся: – Не за что! Растрогалась?! Ты бы видела, как сегодня другие люди от умиления чуть не плакали! Вот где народ растрогался! Сказать? – спросил он у Василия Степановича. – Да ну тебя! – отмахнулся Головко – Наш-то отец, Василий Степанович, пока полицаев не было, смотался на кухню и в остатке горячей воды с золой постирал твое платьице и бельишко. Мало того, развесил его сушиться за углом нашего блока. Что тут началось! Все, кто был во дворе, на костылях и без них, доходяги и доктора, ходили смотреть, как на ветру развевались остатки твоего платья, трусики, лифчик! Стоя смотрели, сидя на песке смотрели. Молчали и смотрели. Я видел, как некоторые даже слезы вытирали. Вот как люди разволновались. Неизвестно, кто больше радуется: ты нашим заботам, или они оттого, что ты объявилась в нашем «Кранкенлазарете», живешь среди нас! Когда я по-настоящему почувствовала волчий голод, поняла, что поправляюсь. Понемногу мне стало легче. «Не могу не поправиться, – думала я, – когда столько людей хотят этого! Сколько тепла, какое это счастье быть среди своих… Как в армии…» «Какая же это армия? – спросишь ты. Армия разбитых бойцов, умирающих от голода и болезней в плену». Это как посмотреть! На первый взгляд ты, конечно, права. Но дух нашей армии еще жил среди пленных солдат. Дух единства, дух взаимоподдержки, дух глубоко спрятанной, не выставляемый напоказ, но от этого еще более пронзительной любви к нашим людям и нашей земле. Этот дух и спас в конце концов наше Отечество. Несмотря даже на то, что не всех грело это невидимое сразу чувство. Но оно было у большинства, независимо от политических, религиозных и даже нравственных убеждений. Ты говорила мне в свое время, что русские люди (вы всех нас называли либо «русские», либо «советские») за рубежом, в отличие от других, всегда страдают от ностальгии. Все остальные живут себе на чужбине нормально, часто по принципу «где кошелек, там и родина». Это уже мое наблюдение. А русским не живется на чужой земле! Страдают. Небо с овчинку! Совершенно согласна с тобой – испытала на себе. Так вот, это самое чувство, которое точит нас в любом месте на земном шаре, кроме своей Родины, привязанность к своей земле, – оно-то и спасало нас во время войны. Объяснить это трудно, почти невозможно, с ним рождаются. Оно спасало нас от всех наполеонов и гитлеров. В армии тогда, в 1941–1945 годах, оно было особенно сильным. А в плену? Ну, что же, кто терял его, терял чувство плеча, локтя, тот погибал раньше других. Но сотни тысяч выстояли. Тысячи бежали из плена[11]. Во всех странах Европы они продолжали драться с фашистами за нашу землю, нашу победу, несмотря на плохо зажившие раны, перенесенные голод и болезни. Столько улиц по странам Европы до сих пор носят имена советских партизан, бывших пленных. За их могилами ухаживают до сих пор и у тебя в Италии. Вспомни героя-партизана Полетаева, о котором ты с нашим писателем Сергеем Смирновым собиралась писать сценарий. Он тоже был из пленных. И он, как ты знаешь, был не один. Это все тот же русский дух – называй его ностальгией, любовью к родным пенатам, как хочешь. Это все он. Так вот тогда, в Житомире, это ощущение единства, армейского родства и подняло меня на ноги. Недели через две, может, больше, держась за стены, я стала выходить во двор. Грелась с другими пленными на солнце, на теплом песке. Хотя начало сентября в Житомире – лето, почему-то все время мне было холодно, и не только мне, почти всем. Наверное, от голода. Многие не расставались с шинелью. Так, сидя на солнце, я, наконец, сама рассмотрела колючую ограду и густую траву под ней. Вышки с часовыми, деревянные бараки, кирпичные дома, в которых умирали раненые и больные, одноэтажное здание кухни, где варили баланду. Вокруг кухни постоянно ходили вооруженные полицаи, не подпуская близко никого, кроме врачей с тачками. На этих тачках медперсонал развозил в больших баках баланду, а в деревянных ящиках – хлеб с опилками. Сначала неходячим больным, потом – кучке выздоравливающих и, наконец, себе. Каждый день количество баланды строго учитывалось и уменьшалось в соответствии с умершими. Сидевшие со мной во дворе пленные все время выбирали из одежды вшей. Уже по году с лишним никто из них не мог помыться. Воду включали на кухне только на время приготовления баланды и для мытья котлов. Личные котелки мыть было нечем. Их осушали, накрошив туда рассыпающийся «хлеб», который тут же съедали. Воду для питья тоже возили в баках и тоже в ограниченном количестве. Пленные в разговорах со мной рассказывали обо всем, что происходило в лагере, не жалуясь, как будто разговор шел о ком-то другом. Один только раз пожаловался раненый азербайджанец: – Слюшай, эти докторы мишей не ловит. Они должен сразу мертви убират. Не ходият барак и дом днием. Толко утро. А люди умират целий ден. Мой место низу. Видишь нога, палцы немец оторвал гранатом. Кажди раз, верху умир человек, – вши сыпитса низ. Я вихожу, говору: там умир человек, вши сыпитса, а он говорит: «За один тачку тащит? Так целий ден нада тачка ходит, что захотел! Завтра утром берем месте всем». Понимаешь, какои лиуди! Все недовлни в наш барак. От вший не знаем, что делат. – Ну, а баланду привозят два раза в день? – Да, для баланда другой ходият, а для мертви другой. Толко тачка один и для баланда, и для мертви люди. Но это была единственная жалоба измученного человека. Обычно расспросив, откуда я, есть ли у меня родители, где училась, не прерывая поиски вшей, начинали рассказывать о себе, о жене, о том, как она любит дом, семью, как хорошо готовит. Подробно рассказывали о еде. Какие блюда обычно ели в доме, какие были для гостей. Сидевшие рядом слушали очень внимательно, вставляли свои советы, как лучше готовить борщ или утку с яблоками. Что вкуснее – окрошка или блины. Кавказцы объясняли секреты приготовления шашлыка, харчо и лобио. Жившие в Средней Азии вспоминали разные способы готовки плова. У всех жены были, по их рассказам, замечательные, красивые, добрые и хозяйственные. А уж дети – просто необыкновенные: умные, отличники, будущие ученые, артисты, изобретатели… И так изо дня в день. У нас были свои места на песке, ждали друг друга. Иногда кто-то не являлся. Узнавали, спрашивали проходивших мимо санитаров, врачей. Те отвечали: «А, этот-то? Да, умер ночью». И так изо дня в день. Однажды я вышла раньше обычного, почти сразу после раздачи баланды. На привычном месте еще никого не было. Я села спиной к стене дома, как всегда, и вскоре увидела людей, тащивших две тачки. Никогда в жизни не забуду этот кошмар! С тачек свисали руки, ноги, головы. Голые тела – скелеты, обтянутые кожей, – лежали на тачках, как дрова. Слой в длину тачки, слои сверху поперек. За оглобли тачки тащили фельдшера и санитары по 4 человека. Колеса и ноги тащивших тонули в песке. Тачки скрипели, как будто скрипели кости, лежавшие на них. Головы и конечности мертвых качались от движения и медленно проплывали мимо меня. Руки умерших, свисая почти до земли, шевелились, как будто искали опоры. У многих были открыты глаза, рты, видны зубы. Мертвые мученики смотрели в небо и покачивали головами. – Господи, за что?! От ужаса я стала задыхаться. Медики с трудом вывезли тачки за ворота. Дальше везли под конвоем шестерых немцев, мимо ограды, к лесу, ко рвам, к братским могилам, так никем и не узнанных бойцов. Не осталось даже имен. Ни уважения, ни милосердия! Их семьи, родные так никогда и не узнают о жуткой смерти их любимых. Это были солдаты со всех концов нашей Родины. А их на тачках, как дрова! После войны стало известно, что миллионы советских людей погибли в таких же лагерях, таким же ужасным образом, или были расстреляны карателями, а сейчас о них никто и не вспоминает, кроме осиротевших семей[12]. Только евреи помнят о замученных тогда повсюду людях своей национальности. Каждый год по всему миру проходят поминки в синагогах, в семьях, на экранах телевидения. Все страны ежегодно с глубоким сочувствием присоединяются к их горю. О холокосте пишут книги, снимают фильмы. Немцы, в том числе и поколения, выросшие за эти пятьдесят лет, до сих пор посыпают головы пеплом и стыдятся смотреть евреям в глаза. И это справедливо! Но о гибели в тех же самых лагерях и печах миллионов, повторяю, миллионов советских людей ста национальностей Советского Союза мир вроде бы и не знает, не помнит, не заметил? Почему?! Почему не раскололось небо от боли, от отчаяния этих миллионов несчастных? Почему не обрушилось оно от ледяного равнодушия, безразличия уцелевшего человечества и их потомков? Почему?! Прошло еще несколько дней. Я больше не выходила так рано во двор. В тот день и после я не могла прийти в себя. На меня все время глядели те застывшие, с выражением ужаса и удивления, глаза. Я и сейчас их вижу. Днем я рассеянно слушала рассказы о женах, детях и довоенной еде моих новых знакомых, которые почти все были обречены на те ужасные тачки. А сама думала совсем о другом. Почему до сих пор они не попытались убежать? Сидят тут, как под гипнозом. Как кролики перед удавом. Обреченно ждут смерти. Тут или в Германии. Понятно: больные и раненые, но те, кто не ранен и пока не болен? Врачи, медперсонал – у них еще есть силы возить тачки с умершими, развозить баланду. Почему сидят? Откуда такая покорность судьбе?! В голове вертелись слова и мелодия популярной у нас перед войной песни, которую я очень любила: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор! Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца – пламенный мотор!» «Ну, так где же этот пламенный мотор? – думала я. – Тут есть кадровые офицеры, скрывающиеся под видом санитаров и фельдшеров, врачи высоких званий, носившие ромбы в петлицах. Всех их раньше или позже ждут эти проклятые тачки и безымянные рвы с известкой. Что же они до сих пор, целый год, не убежали? Хоть кто-нибудь!». Я как-то спросила Толю: – А побеги отсюда были? – Нет, – сказал он сухо – ты что же, не видишь ограду и часовых? Это невозможно. – Но ведь через проволоку, я слышала, ток тут не пропускают. – Ну и что ты хочешь этим сказать? – начал раздражаться Толя. – Ничего. Я просто так, поинтересовалась. Как-то днем Василий Степанович подозвал меня и сказал: – К тебе пришли. Там за проволокой о тебе спрашивают, – и повел меня за собой. За оградой стояли полицаи в серо-синеватой форме. Грузины! Я была поражена. Как нашли? – Этери! Как ты там? Нам сказали, что ты будешь у нас переводчицей! – кричали они мне по-грузински. – Мы тебя ждали, а потом узнали, что они тебя сюда посадили. Чем мы можем тебе помочь? Вокруг меня постепенно стали собираться пленные, находившиеся во дворе. Никто не мог понять, о чем спрашивают полицаи. Должна тебе сказать, Элиана, хотя ты и говоришь свободно на пяти языках, но и ты бы ни слова не поняла в нашем разговоре. Это язык, совершенно не похожий ни на какой другой на свете. В нем нет корней, похожих на корни других языков. Он красив, на нем написаны прекрасные поэмы и стихи, но произношение, как я говорила тебе, очень своеобразное и трудное. Грузины – христиане. Всегда были храбрыми воинами и защищали свои земли от мусульман несколько веков, но, в конце концов, обратились за помощью к могучему соседу, русскому царю, и добровольно вошли в состав Российской империи. Они сохранили при этом свою культуру, язык, свой алфавит, не похожий ни на какой другой в мире. Я говорила тебе, что родилась и выросла среди них, и они навсегда остались мне близкими, понятными, почти родными. Ты понимаешь, после всего того, что я тебе рассказываю, как мне было невыносимо больно видеть их в немецкой полицейской форме. Я говорила с ними через проволочное ограждение на приличном расстоянии, громко, и меня слышали не только пленные, но, вероятно, и часовые на вышках, но никто не мог понять нас. Я рассказала им обо всем, что произошло со мной в тюрьме и комендатуре, и как меня притащили сюда, и что тут делается. Они пришли в неописуемую ярость. Я старалась всячески их успокоить, чтобы потом все это не отразилось на мне же. – К сожалению, вы ничем не можете мне помочь. Если только вам удастся найти майора Михаэлиса… – Его теперь не найдешь, вся комендатура в Житомире сменилась. Весь их штаб заменили новыми людьми. Может быть, для тебя это лучше. Один из наших спрашивал тогда еще своего знакомого немца о тебе, тот сказал, что тебя отправили сюда отлежаться, потому что ты была очень слаба и невозможно было продолжать допросы. Но, если ты тут не умрешь и окрепнешь, они собирались продолжить допросы. А если умрешь, сказал немец, то тем лучше, рвы рядом. Так мы узнали, где ты, но никак не удавалось добраться сюда. Сама знаешь, какая у них дисциплина. – Эти, новые, – продолжал другой, – не знают, вряд ли они станут поднимать старые бумаги. У них сейчас своих забот довольно. Они про тебя и не вспомнят. Лучше тебе побыть пока тут на виду, чем в тюрьме. Да к тому же там сейчас все забито евреями. Собрали отовсюду, даже из пригорода. – Нас тоже должны скоро перевести. Только не знаем, когда и куда. – Очень жаль… Мы попрощались, и они ушли. Им и в голову не приходило, что тут я была, возможно, ближе к гибели, чем в тюрьме. Хотя… Я повернулась к проволоке спиной и увидела, что окружена пленными. Кто стоял, кто сидел на песке. Все-таки интересное событие. За ними показался Хипш. Спросил, естественно, по-немецки: – Что это за полицаи, о чем и на каком языке ты с ними разговаривала? Я ответила, что это мои земляки-грузины, пришли проведать меня, а говорили мы на нашем родном грузинском языке. Пленные внимательно слушали, как я говорила по-немецки. Хипш не унимался. – Так ты в самом деле грузинка? – А вы не знали? Можете спросить у моих земляков-полицаев. – Хорошо-хорошо. Были у меня сомнения, но ты меня убедила, – с этими словами Хипш удалился. Пленные же не расходились. Один из сидевших на песке спросил недоверчиво: – Это кто ж ты такая, что говоришь на всех этих языках? И с полицаями, и с немцами… Кто ж ты на самом-то деле? – Грузинская девчонка, такая же, как вы – пленная, – возмутилась я, – немецкий в школе выучила. Вы же видели, в каком состоянии меня приволокли. Вам этого мало? А не видели, так спросите у тех, кто видел! Хотите и вы устроить мне допрос?! Все мы на краю могилы. Глупо и подло подозревать друг друга и цепляться! Я двинулась вперед. Молчавшие пленные расступились. Долго пришлось ждать Василия Степановича. Он сдавал Хипшу по списку одежду умерших. Два полицая потащили узлы к проходной. Мне так хотелось пожаловаться на подозрительность того пленного, отвести, что называется, душу. Но Хипш не отпускал Василия Степановича и что-то раздраженно ему выговаривал. Увидев меня, подозвал: – Головко меня не понимает. Переведи. Я сейчас проверял сортиры перед этим блоком. Свинство! Я очень недоволен. Переведи! Я перевела. Василий Степанович развел руками: – В нашем блоке много больных дезинтерией, а воды для мытья уборных дежурным не выдают… Я перевела. Хипш разозлился еще больше. – Меня это не интересует! – он поднял вверх свой стек (трость) перед носом Василия Степановича. – Запомните, – сказал он торжественно, – лицо каждого учреждения – его сортир! И не заставляйте меня это повторять, если не хотите беды! Возмущенный Хипш ушел. Его фразу о «лице учреждения» я не раз вспоминала вот уже более пятидесяти лет. Должна тебе сказать, Элиана, Хипш был прав! В тот день обозленный Хипш вдруг вернулся: – А ты, я вижу, теперь в порядке, поправилась. Чтобы являлась со всеми на апнель[13]? Поняла?! Что я могла сказать? Что еще еле хожу? Бесполезно. Я кивнула, и Хипш удалился – теперь уже насовсем. С этого дня я стала выходить на этот аппель и стояла с правого края, рядом с Василием Степановичем и Толей. Однажды утром мы увидели, что к «Кранкенлазарету» подогнали по железнодорожной ветке, которая упиралась в ближайшие рвы на противоположной от шоссе стороне, товарный поезд. Множество полицаев и немцев с собаками окружили вагоны. Высаживались новые пленные. Тут же отделяли раненых от здоровых. К вечеру нас всех выстроили во дворе на поверку. Ждали новых. Впереди растянувшейся толпы шли за проволокой здоровые. Их вели ближе к городу, в ту часть лагеря, где находились здоровые пленные. За ними ковыляли около сотни раненых и, видимо, больных. Их стали вводить в проходную «Кранкенлазарета». Все были взволнованы прибытием этапа. Ждали новостей с фронта. Некоторые надеялись встретить знакомых, узнать что-нибудь о родном городе, о семье. С вновь прибывшими вошли немцы, полицаи с дубинками, переводчик из местных немцев, которых немцы из Германии называли «фольксдойч». Василий Степанович шепнул мне: – Этот переводчик – страшная сволочь, остерегайся его. Немцы с ним очень считаются. Он у них проходит как главный по распознаванию евреев. – Но я же не еврейка. – Если разозлится, то и еврейкой назовет. А они ему верят. Мимо нас шли измученные солдаты: кто с костылем, кто опирался на палку, кого поддерживали товарищи. На перевязанных бинтами и тряпками головах, руках, на одежде – запекшаяся кровь. Многие босиком, раненые ноги обмотаны чем попало. Шли молча, не глядя по сторонам, совершенно обессиленные. Подошел переводчик: – Новые, станьте в строй! Дайте новым место! Расступитесь! Прибывшие смешались с остальными. – Первый ряд, десять шагов вперед! – продолжал командовать «фольксдойч». – Второй ряд, пять шагов вперед! Два длинных ряда медперсонала и тех, кто мог ходить, вместе с вновь прибывшими выровняли строй. Последовала новая команда. – Спустить штаны! Я окаменела. Не глядя, поняла, что и Василии Степанович с Толей расстегивают брюки. От стыда за них и за себя готова была провалиться сквозь землю. Снимать штаны? Зачем? Очередное унижение?! Я смотрела прямо перед собой на немцев перед нами, боясь повернуть голову в сторону. Полицейские отошли от них, и было слышно, как они, громко разговаривая, двигались вдоль первого ряда пленных с противоположной нам стороны. Вдруг я услышала чей-то отчаянный крик, матерную ругань полицейских и глухие удары палками по телу. Эти-то звуки я могла отличить от всех других! По громкому стону и по тому, как орали полицейские, я поняла, что избивают пленного. Меня охватила дрожь. Что это, зачем?! Я не могла повернуть голову в ту сторону, так как рядом стояли Василий Степанович и Толя со спущенными брюками. Избивая пленного, полицейские приволокли его к немцам, и я увидела окровавленного человека, пытавшегося руками защитить голову от ударов палками и сапогами. Наконец, его бросили на песок, и полицейские с переводчиком вернулись к строю пленных. Через какое-то время все повторилось; ругань, отчаянные крики избиваемого, удары… еще одного несчастного продолжали избивать перед группой спокойно наблюдавших немцев. Мне казалось, что эти удары сыплются на меня. Каждый раз я вздрагивала от боли. Еще не все зажило во мне, и эти удары я чувствовала на себе вновь. Я кусала губы и дрожала, как на морозе. Еще одного избитого полицаи с руганью волокли за ноги по песку к немцам. Он был без сознания, в крови. Возможно, ему проломили голову. Мне казалось, что этим истязаниям не будет конца. Колени у меня подгибались. Я еле сдерживалась, чтобы не упасть, когда эта банда во главе с переводчиком подошла к нам. Обогнув нас, они двинулись дальше вдоль второго ряда, постепенно удаляясь. И там время от времени слышались крики и звуки побоев. Так к немцам подтащили еще несколько человек. Не знаю, может, всего их было человек 10 или 15. Невозможно было не то, что считать, а соображать! Все силы уходили на то, чтобы устоять на ногах и не стонать от ужаса и боли вместе с избиваемыми. Что? Что они такого сделали? Может, в рюкзачках, которые многие из них несли, нашли что-то? Но что? Закончив свой обход, полицейские подошли к немцам, а переводчик дал команду: «Надеть штаны!» Однако строй не распускали. Пленные, стоя в строю, должны были присутствовать при дикой расправе. Избитых подняли ударами палок с песка. Кто-то из них поддерживал совсем изнемогавших. Человека без сознания полицаи заставили тащить за ноги по песку самих окровавленных пленных. Так гнали их, продолжая избивать, к проходной. По белому песку тянулся кровавый след. За ними спокойно проследовали немцы, тихо разговаривая о чем-то своем, покуривая сигареты, обходя кровавые пятна, оставленные избитыми пленными. Я давно заметила, что немцы большие аккуратисты, черт бы их побрал! Все еще стоя в строю, мы видели, как полицаи провели всю группу вдоль проволочной ограды ко рвам. А потом слышали, как их там расстреляли. Нам разрешили разойтись. Главным врачам велели разместить вновь прибывших по освободившимся в последнее время местам. Все расходились молча, подавленные пережитым. Я вернулась на свое место. За окнами комнаты, которые выходили к лесу и рвам, еще были слышны отдельные выстрелы. Неужели кто-то пытался убежать? Ко мне пришли Василий Степанович и Толя. – Что ты смотришь в окно, все равно ничего не видно, – сказал Василий Степанович, – тебе мало было того, что видела во дворе? Постарайся отвлечься от этого, иначе себя погубишь. Мы тут уж привыкли и стараемся не очень переживать. – А зачем вас заставили снять штаны? – Потому, что так они находят евреев. – Это как же? – Ты разве не знаешь, что евреи при их крещении проходят обряд обрезания? – ? – Ну, им обрезают часть мужского полового органа. – А как же тогда у них получаются дети? – Да не сам орган, а только часть кожи на нем! Вот по этому признаку находят и убивают евреев. – Но есть же неверующие евреи. Без этого обряда, наверное. – Они спасаются, если только по лицу или произношению не видно, что еврей. Иначе и их убивают. – Раз уж их хотят расстрелять, зачем так зверски мучают перед этим? – Потому что человеческая ненависть и злость беспредельны! – вмешался Толя. – Достаточно безнаказанности и власти. От этого люди теряют человеческое обличие. Особенно, если есть беззащитные жертвы, на которых можно вылить свое бешенство. Ты знаешь, ведь они уничтожают и цыган вместе с их детьми, без всякой жалости, всех вместе. Уж не говоря о том, что они делают с коммунистами и нашими моряками, если узнают о них! Достаточно малой татуировки на руке, вроде якоря, – расстреливают на месте. И все из-за того, что моряки везде врезали им, этим арийцам, как никто другой. С отвагой и без комплиментов! Настоящие мужики! Покосили немцев без счета! – Нам тут все-таки удалось, – вмешался Василий Степанович, – спасти некоторых евреев, выдав их за мусульман. Мусульмане тоже проводят обрезание. У нас было несколько татар среди пленных. Мы с ними договорились. Они успевали научить евреев нескольким словам на татарском языке, и при проверке те спаслись. Когда полицейские набросились на них, они стали произносить татарские слова, смешанные с русскими, и убедили полицейских и немцев в том, что они татары. А настоящие татары, когда их спрашивали, подтверждали: «Да, наши». Но тогда проверка была не сразу. Сначала запускали новых по баракам, а потом назначалась экзекуция. А теперь видишь, что делается, сразу же с поезда – и в строй, никого невозможно спасти! – А почему не проверяют вновь прибывших отдельно, а смешивают со всеми и начинают проверять сначала? И тех, кого уже проверяли, и тех, кто только что прибыл? – Кто их знает, – ответил Василий Степанович, – я думаю, им приятно лишний раз власть свою показать, унизить нас по-всякому при каждом удобном случае. Да и напугать при этом, показывая каждый раз эти муки. Вот, мол, что ждет каждого. Только пикните! – Нам сказали вновь прибывшие, – добавил Толя, – что они так с нами обращаются и морят голодом потому, что Сталин якобы сказал: «У нас нет пленных. А если кто и попал в плен, значит – предатель! Чтоб не попасть в руки врага, нужно было застрелиться». Вот мы и оказались вне закона. Никто нам не помогает, а фашисты только пользуются этим. При таком раскладе нам остается умереть либо тут, либо в германских лагерях где-то в Европе. Тут один полицай рассказал нам о тех лагерях – фабрики смерти! А потом, если удастся выжить, что маловероятно, неизвестно, чем все для нас окончится при возвращении домой. Могут спросить: «Почему не застрелился, предатель?» А то и помогут в этом деле… – Вранье все это. Никогда не поверю! Кстати, я давно хотела вас спросить, почему это вы до сих пор не попытались убежать? Оба заговорили одновременно: – А как ты это себе представляешь? Полоумная! Что, не видишь, какая тут охрана?! – Вижу. Но вы же взрослые люди! Есть и офицеры, и врачи, и не просто врачи – ученые! С ромбами. Один этот ваш горластый Алексеев чего стоит. Давно бы что-нибудь придумали. Сил у вас пока хватает, жить хочется. Я бы на вашем месте давно убежала к партизанам. Их полным-полно во всех лесах кругом. – Ну, нахалка, ну, нахалка! – возмущенно повторял Василий Степанович. – Пожалуйста, скатертью дорога, – иронизировал Толя, – беги, раз ты у нас такая храбрая! Может, и нас прихватишь… побежим за тобой. Оба были раздражены ужасно. Я поняла, что наступила на больную мозоль. Мы потом долго не говорили об этом. Я заболела сыпным тифом: тифозные вши добрались и до меня. Несколько дней подряд была температура за сорок, я почти не приходила в сознание и все время бредила. Потом мне уже рассказывали Толя и Василий Степанович. Как главврачу, немцы выдали ему термометр и баночку с марганцовкой. Василий Степанович разводил крупники марганцовки и, как только я приходила в себя на некоторое время, заставлял меня полоскать рот. Врачи сказали ему, что иначе первым же осложнением у меня может быть отит. Я думаю, и у вас так называется воспаление внутренней части уха. От слабости я не могла поднять голову и полоскать рот. Через несколько минут вновь теряла сознание. Василий Степанович был близок к отчаянию. Как только я открывала глаза, надо мной склонялось его рассерженное лицо. – Сейчас же полощи рот! Я молча отворачивалась. Мне хотелось, чтобы меня оставили в покое. Сил не было совсем. Какое еще там полоскание… Василий Степанович выходил из себя.
 Бывший военнопленный, врач Биценко Александр Дмитриевич, 1980 г.
Бывший военнопленный, врач Биценко Александр Дмитриевич, 1980 г.
– Да что же это такое! – повторял он свою любимую фразу, – я кому сказал?! Полощи, дура! – дальше шли еще более зверские эпитеты, но я не шевелилась. Тогда они с Толей поворачивали меня, поднимали голову и силой заставляли полоскать рот. Доктор Биценко и еще какие-то другие врачи тоже не оставались в стороне, следили за пульсом, прикладывая ухо к спине, выслушивали легкие, всматривались в глаза, поднимая веки, меняли тряпку с холодной водой на лбу. Но чем они могли помочь? Я чувствовала их рядом. Закрыв глаза, слышала их голоса и однажды услыхала непонятную фразу, которую запомнила: – Начинается воспаление легких, коллега, скорее всего – летальный исход… Я слушала и думала, что это такое – «летальный исход»? И опять проваливалась в страшные сны. Все время почему-то сны были жуткие, приходила в себя в холодном поту и опять: «Сейчас же полощи рот! Кому говорят!» – и так пять, шесть раз в день. Не знала я, чьими молитвами в конце концов выжила. Колдовали надо мной атеисты, вряд ли кто из них молился. Но и они, и все в лагере, кто знал про меня, «до скрежета зубовного», как выразился однажды Толя, хотели, чтобы я осталась с ними. Им казалось, что в этом была какая-то надежда и для них. Как талисман. Но когда тиф и воспаление легких стали отступать, и я уже не теряла сознания, начались сильные боли в пояснице. Я все время стонала – ослабела и не могла больше терпеть боль молча. Однажды я заметила, что, когда мне удается согнуться «треугольником», когда поясница становится «углом», боль почти пропадает. Но мне не удавалось надолго так складываться. Узнав об этом, Толя поднял меня на руки. Спина «провисла», и боль стихла. Он носил меня по комнате, потом по коридору взад-вперед по три-четыре раза в день. Я засыпала у него на руках, а просыпалась от боли на кровати. Несколько раз я говорила Толе, чтоб он не носил меня. Худющий, голодный, сам еле душа в теле, а взялся носить такую тяжесть. – Молчи, глупая, – отвечал он раздраженно, – что ты там весишь? Кожа да косточки! Костями даже назвать нельзя! И не смей командовать, что мне делать, а чего не делать, муравей несчастный! Я понимала, что за грубым тоном пряталась тревога за меня, жалость, такая же, как и за ворчанием и обидными словами Василия Степановича. Возражать не было сил. Почти все волосы у меня постепенно выпали. Сколько возьмешь в руку, столько в руке и остается. Я показала этот ужас Толе со слезами на глазах. Толя посмотрел и вдруг сказал: – Не выбрасывай этот локон. Дай мне его на память. У тебя когда-нибудь еще вырастут. – Зачем тебе? – Если нас развезут по разным лагерям, локон мне будет напоминать о тебе… Я отдала ему завиток волос, а сама подумала: «Ругаются, ругаются, бежать не хотят, и на тебе! Локон ему дай! Телячьи нежности. А еще кадровый фельдшер. Разве такой убежит». Вслух спросила: – Ты что же это, надеешься тут выжить, и сто лет после лагеря прожить? Думаешь, у нас будет время на воспоминания? – На воспоминания? А почему бы и нет. Василий Степанович молча взглянул на нас и вышел из комнаты. – В таком случае, я дам тебе мой адрес, тот, где я жила с мамой. Она и сейчас там живет. Только выучи его наизусть, нигде не записывай. И имей в виду, меня зовут Тамарой, а не Этери. В случае чего, напишешь моей маме, где мы встретились, и как вы с Василием Степановичем на сегодняшний день жизнь мне спасли. Мою маму зовут Марфой Ивановной. Запоминай – я назвала свой адрес, он мне – свой. Я и представить себе не могла, что Толе предстоит в скором времени еще раз спасти мне жизнь. Но об этом я расскажу позже. Вскоре вернулся Василий Степанович с куском какой-то коричневой плотной ткани. – Без волос и в доме простудишься. Топить-то тут не принято, а в ушанке все время ходить тоже негоже. Ты же не туркмен какой-нибудь, это они всегда в бараньих шапках ходят. Носи косынку. Я и стала ее носить, потому что скоро голова осталась совсем без волос, как колено, а в доме делалось все холоднее и холоднее, так же, как и снаружи. Когда я снова смогла выходить на поверку, опять прибыл эшелон с новыми военнопленными. На этот раз раненых было немного, всего человек десять. Евреев среди них не оказалось. Никого не расстреливали. Перед поверкой Василий Степанович радостно сообщил мне: – В эшелоне есть одна девушка, медсестра и, представь себе, грузинка! Я обрадовалась и стала ждать ее с большим нетерпением. Мне казалось, что вдвоем нам будет легче переносить лагерные беды. Ждала я землячку на плацу возле блока, где жила. Наконец, она вошла через проходную, и полицай указал ей на наш краснокирпичный дом. Мы сразу же увидели друг друга. Шла она ко мне медленно, еле передвигая по песку ноги. Шла и, не оглядываясь по сторонам, пристально смотрела на меня. Так же, как и я на нее. По мере того, как она подходила, я заметила яркий румянец на ее скуластом лице, что не случалось видеть у пленных. Крупные черные локоны выбивались из-под косынки, большие черные продолговатые глаза смотрели испуганно. Губы плотно сжаты. Я бы поклялась, гладя на ее лицо и ладную фигурку, что она азербайджанка. Но почему она так напугана? Я пошла ей навстречу улыбаясь, раскрыв руки, чтобы обнять ее, и заговорила, приветствуя по-грузински. У девушки из глаз покатились крупные слезы. Я обняла ее и спросила по-грузински: «Почему ты плачешь? Как тебя зовут?». Она продолжала молча плакать и теперь смотрела на меня, как загнанный зверек. Тогда я спросила то же самое по-русски. – Рая Туковая, – всхлипнула девушка. Букву «р» она произнесла, сильно картавя. Меня охватила тревога. Еврейка! Тут, в этом проклятом месте, после всего того, что я видела, – еврейка! Я обняла ее прижала к себе: – Перестань плакать. Не бойся. Никто тебя не выдаст. Она разрыдалась у меня на плече, уткнувшись в мою шинель. К нам стали подходить пленные, бывшие на плацу. – Успокойся, все обойдется, пойдем в дом. В комнате я усадила ее на кровать. – Рая, мы с тобой подруги по несчастью и, думаю, будем дружить всегда. Я все понимаю. Не плачь. У меня тут верные друзья. Они помогут и тебе. Всхлипывая, Рая спросила: – Ты тоже еврейка? (опять это ужасное «р»!) – Нет, я грузинка. Но это сейчас не имеет никакого значения. Мы обе в беде и должны держаться вместе. Причем тут еврейка, грузинка, да хоть китаянка! Причем тут все это?! Рая впервые улыбнулась. Крупные белые зубы осветили все ее заплаканное лицо. – А что, китаянки тут тоже есть? – Господи, не только буква «р» выдавала! Акцент, сильнейший еврейский акцент! Обняв ее, я направилась к Василию Степановичу. Он тут же понял и оценил ситуацию: – Кто тебе сказал, что ты должна назваться грузинкой? Надо было сказать, что ты азербайджанка… ты очень похожа на азербайджанку… А теперь тут, в Житомире, где есть полицаи-грузины… эти предатели тут же тебя выдадут! Бедная Рая снова заплакала. – Василий Степанович, – сказала я, – ну зачем вы пугаете человека? Эти полицаи здесь не бывают! Он тут же прервал меня: – Ко всему надо быть готовыми. Разве немцы не отправили тебя к ним на проверку? – Тех полицаев в Житомире больше нет. Их давно куда-то перевели. Они же приходили со мной прощаться, помните? Раз они не появляются, значит, их тут больше нет. Давайте подумаем лучше, как устроить Раю. У вас найдется еще одна кровать, чтобы поставить ее рядом с моей? Василий Степанович кивнул. – А ты, – обратился он к Рае, – перестань реветь. Держись Этери, и главное, ни с кем не разговаривай, кроме нас. У тебя сильный акцент. Откуда ты родом? – Из-под Львова, – всхлипнула Рая, – в плен мы попали в Молдавии. – Сколько тебе лет? – Двадцать. – Рая продолжала плакать. – Этери, она старше тебя на год, а ревет, как маленькая! Научи ее держаться по-солдатски! Так Рая начала свою жизнь рядом со мной в житомирском «Кранкенлазарете». Хипш потребовал, чтобы и она являлась на поверку. Я виду не подавала, но все время внутренне дрожала за Раю. Мы с ней не разлучались. А Рая вроде бы успокоилась, больше не плакала. Наша дружба ни у кого не вызывала сомнений в том, что Рая – моя землячка. Только Хипш посматривал на Раю с подозрением. Однажды после поверки он подозвал меня и спросил, кивнув головой в сторону Раи: – Это что же, к нам еврейку привезли? – Господин Хипш, вам, я вижу, кругом евреи мерещатся, – ответила я, улыбаясь, как можно беззаботнее, – неужели вы думаете, что я стала бы спать рядом с еврейкой и есть с ней из одного котелка? (Первую неделю у Раи и не было котелка, она его потеряла в дороге, и Хипш видел как-то, что мы с ней ели по очереди из моего.) Хипш задумчиво посмотрел мне в лицо. – Ну, если это ты говоришь… – Можете мне поверить! – продолжала я весело. – Помните, вы и во мне сомневались, а что оказалось? Она такая же грузинка, как и я. – Ну, если это ты говоришь, – повторил Хипш, – наверное, так оно и есть… Больше он к этому вопросу не возвращался, а я с дрожью думала об известном «специалисте» по евреям, переводчике «фольксдойч». Он мог появиться в «Кранкенлазарете» в любой день. К счастью, его давно не было видно. Слухи ходили, что его тоже куда-то перевели. Василий Степанович раздобыл и для Раи лишнюю шинель вместо матраса, сапоги и зимнюю ушанку. Толя тоже позаботился о Рае, как только представилась возможность. А возможность появилась вскоре после ее прибытия. Немцы, зная, что в «Кранкенлазарете» среди пленных находятся профессора медицины высокого класса, решили устроить нечто вроде курсов повышения квалификации для своих военврачей. В нашем блоке на втором этаже всех больных перевели в бараки. Провели ремонт. Организовали настоящую операционную, аптеку, склад белья, дезинфекционную камеру и душевую. Главным хирургом назначили начальника «Кранкенлазарета» Алексеева. Он стал набирать себе помощников, Толя сразу же посоветовал ему взять на должность операционной сестры Раю – так ее реже видели бы на плацу. В операционной она могла носить марлевую маску и не разговаривать. Для Алексеева онакак квалифицированная медсестра была бы хорошим помощником, а операционная для Раи – самым безопасным местом. Алексеев согласился. Мы с Раей ликовали. Операции проводили два раза в неделю. Немцы предупредили Алексеева, Толю, которого назначили аптекарем, Василия Степановича как завхоза при операционной и других медиков, обслуживающих операционную, что, если пропадет что-либо из лекарств, инструментов или оборудования, – все они тут же будут расстреляны. На первой же операции вместе с немецкими врачами появился тот самый переводчик. Рая в марлевой маске работала молча. «Да», «нет» – вот все, что от нее слышали. После операции, прибрав все в операционной, она спустилась к нам. Мы в это время хлебали баланду в комнате Василия Степановича, где с ним жили Толя и доктор Биценко. – Ну как? Страшно? – спросили мы. – Как в клетке с тиграми, – ответила Рая. – У меня руки дрожали, хорошо, что Алексеев совсем заморочил немцев своими объяснениями. Меня они не замечали. – Поздравляем с премьерой! – весело сказал Василии Степанович и поднял свой котелок. Мы чокнулись котелками. – Хочешь, я попрошу Алексеева пустить меня посмотреть операцию, чтобы тебе не было так страшно, – предложила я. – Хорошо. Только я все равно боюсь. Всего теперь боюсь. Пока я была на фронте, к нам в село пришли немцы, и всех: и моих родных, и соседей – всех расстреляли за то, что они евреи. А потом, через месяц, расстреляли всех остальных в селе. Украинцев, русских – за то, что они давали хлеб и другую еду партизанам. Мне написал мой двоюродный брат из партизанского отряда. Он успел убежать, когда всех ловили для расстрела. Письмо нам в медсанбат передали партизанские разведчики. Рая уже не плакала. Она рассказывала тихо, ни на кого не глядя. Только щеки у нее побелели. Алексеев разрешил мне прийти только на третью операцию. Василий Степанович отвел меня в душевую. С горячей водой и настоящим мылом! Выдал мне белый халат, шапочку и марлевую маску. Мою одежду, пока я мылась, «прожарил» в дезкамере. С горячей водой ушла вся моя постоянная ломота в теле. Сколько сил прибавилось! Я влетела в операционную раньше немцев, как на крыльях. Рая в марлевой маске уже раскладывала инструменты, коробки с марлевыми салфетками, какие-то бутылочки и эмалированные миски. – Рая, я была в душе! – с восторгом сообщила я подруге. – Тише, тише, уже идут… Санитары внесли на носилках раздетого больного и стали укладывать на операционный стол. Боже мой! Разве можно было его оперировать?! Из-под серой кожи, покрытой какими-то пупырышками, торчали кости. Возраст трудно было определить. Он тихо стонал. Вошел Алексеев, за ним пятеро немцев и переводчик – все в марлевых масках в белых халатах. – Аппендицит, – громко сказал Андреев и протянул руку Рае. Та дала ему длинную миску с ватой, марлей и флаконом.
 Алексеев Иван Григорьевич, врач, 1942 г.
Алексеев Иван Григорьевич, врач, 1942 г.
Все склонились над больным. Запахло спиртом и еще чем-то едким. Андреев отрывисто называл инструменты. Рая молча подавала. Когда я, наконец, смогла между спинами увидеть живот больного, Андреев уже копался в нем. Резиновые перчатки в крови, запах крови. Голос Андреева. Он что-то объясняет. Переводчик переводит. Немец спрашивает. Переводчик переводит. Андреев приподнимает часть кишки, показывает и объясняет. Я вижу какие-то прищепки по краям разрезанного живота, кишки… Алексеев отрезает аппендицит, продолжая по ходу объяснять немцам свои действия. Я смотрела на операцию, на больного и думала: как мало у него крови! И теперь, когда она почти вся вышла во время операции, как он сможет выжить? Толя сказал, что после операции больных отправляют обратно в барак – на прежнее место, на нары, без постелей, без перевязок… Кормя, как и до операции, той же баландой. В результате они умирают. «А не убийца ли этот Алексеев? – думала я. Немцев на еще живых пленных обучает. Не предательство ли это?». После операции я пришла в комнату, как побитая собака. Что же это я видела?! Как такое может быть?! Алексеева ничуть не беспокоит, что оперированные умирают в завшивленных вонючих бараках! Жестокость, как у немцев. Нет, еще страшнее. Для немцев пленные – чужие, а для него свои, сограждане! Тогда я еще не знала о клятве Гиппократа. Пришла Рая с нашими котелками. – Пойдем к Василию Степановичу. Все давно уже, наверное, едят. – Рая, там наверху… Это же убийство. – Да. – Что же делать?! Как остановить… – Кого? Немцев? Или Алексеева? Ты меня удивляешь! Алексеев мне сказал вчера: «Эти люди умерли бы и без операции. У кого гнойный аппендицит, у кого туберкулез или гангрена… В наших условиях – верная смерть». – Значит, знает кошка, чье сало съела. Оправдывается! – Конечно, знает. Но, может быть, так они скорее перестают мучиться? – А эти операции – что? Еще большее мучение перед смертью! А фашистов обучать на еще живых – не преступление? – Преступление. Да. Трагедия. Все преступление: и вой на – преступление и то, что мы тут с тобой сидим – преступление, и наша операционная с Алексеевым – трагедия, и то, что доктор Поляков в соседнем блоке выделывает… все эти эксперименты… тоже преступление и трагедия, что ж теперь, повеситься?! – Какие еще эксперименты? – А ты не слышала? Во втором блоке, там тоже навели чистоту: халаты, душ, как у нас. Отобрали добровольцев… – Я не знала… Что значит – добровольцев? Давно? – Да с неделю. Добровольцы из пленных. Это те, кто сами согласились. Там обещали кормить. Только кормят одних яичными белками и ничего не дают больше, других – только сахаром. Есть еще какие-то группы. Этих, на опытах, человек 20 или 30. Зайди туда, сама увидишь. Несчастные скелеты. Им меряют температуру, давление. Все записывают. Ждут, когда умирать начнут. Тогда будут вскрывать и результаты тоже записывать. Мне тамошний фельдшер говорил. – Зачем это? Совсем спятили? – Кто? Поляков и его помощники? Ничуть. Результаты нужны немецким врачам, а наши работают за еду. Там пленные медики и сам Поляков получают, как и в нашей операционной, настоящий хлеб, по 6 кусочков сахара в день, 20 граммов сала, по яйцу на завтрак. Говорят, дают в обед даже кровяную колбасу. У нас, правда, пока колбасы не было, только сыр… Да, я знала, что колбасы не было. Василий Степанович, Толя, Рая делились со мной и доктором Биценко своими небогатыми пайками. Кроме нашей обычной баланды группе Алексеева варили где-то за оградой лагеря еще суп из настоящих овощей. Санитары, прикрепленные к нему, приносили бак с супом дважды в день. Смертельный голод от этих пленных стал отступать, но какой ценой! Рая как-то сказала мне: – Когда я думаю, что вокруг нас столько людей каждый день умирает от голода, даже эта подачка у меня в горле застревает. У меня тоже застревала по той же причине. Но я себя старалась мысленно оправдать тем, что собиралась бежать, и мне нужно было набраться сил после тифа. Да и что говорить, тяжелая штука – голод. Тут от кусочка хлеба или яйца не откажешься, когда друзья с тобой делятся. Мысли о побеге не оставляли меня все время. Я понимала, что одной мне вряд ли удастся это сделать. Да и слабость была такой, что я не могла без одышки обойти сразу территорию «Кранкенлазарета», хотя каждый день в любую погоду делала это для тренировки. Я искала среди медиков, которые еще держались на ногах, людей, готовых рискнуть. Обдумывала вариант выхода на волю. С Толей и Василием Степановичем было бесполезно говорить об этом. Они накидывались на меня, с возмущением отметая все мои рассуждения и варианты, как «опасные для всех нас, для всего «Кранкенлазарета» мечтания!» Шалико почему-то избегал меня. Я пробовала говорить и с ним, и с другими, но все повторяли одно и то же. Невозможно. – Нечего и думать о побеге, особенно из «Кранкенлазарета». Отсюда выходят только мертвыми. – А я не собираюсь тут умирать! Чего вы ждете? Надо же что-то делать. Увезут в Германию, там всем крышка! Смирились и лапки сложили? Мужики, называется! – Остановись с этими разговорами. Еще нас подведешь! Моя настойчивость многим не нравилась. Особенно Алексееву, у которого были везде свои «уши»: он злился на меня, ведь его немцы назначили ответственным за порядок в «Кранкенлазарете». В конце концов, как оказалось, все мои разговоры действительно могли стоить мне жизни и, как ни странно, не от рук немцев, полицаев или переводчика, а от самих же военнопленных! Но об этом позже, а сейчас я продолжу разговор о событиях, которые добавили немало переживаний и горечи в наше житомирское существование. Как-то раз в середине дня всех ходячих вызвали на внеочередную поверку. Сначала мы думали, что опять прибыл эшелон с пленными, но эшелона не было. Все выстроились, как обычно, в три с половиной ряда на плацу, и сразу же увидели, что один из бараков был окружен немцами и полицаями. Переводчик и несколько полицаев выгоняли пленных из барака. – Выходите! Все! С вещами! – На выход! Быстро! Бегом! На транспорт! – В строй! Все с вещами на поезд! Все на выход! Я обернулась. На железнодорожной ветке, которая проходила около проволочной ограды, не было видно ни поезда, ни отдельных вагонов. Пленных из того барака, поспешно выходивших с небольшими узелками и тощими рюкзаками, выстраивали там же вдоль стены. Несколько полицейских, выгонявших пленных, вышли из барака последними и заперли двери на замок. Мы услыхали команду: – Все вещи из рюкзаков и узлов выбросить на песок! Пленные неохотно стали выполнять команду. Кое-кто замялся и получил удары палкой. Полицейские и немцы подошли к ним близко. – Бросайте! Выворачивай! Кому говорят?! Все, все! – Полицейские стали подхватывать узлы и рюкзаки, которые некоторые пленные опустили к ногам, не решаясь вывернуть. Содержимое высыпали на землю перед хозяевами рюкзаков и узелков. Мы с тревогой наблюдали, как немцы стали расстегивать кобуры и доставать пистолеты. Стоявших у стены остолбеневших пленных расстреливали в упор. Расстреляли почти всех. Каждый выстрел попадал мне в сердце! Расстреливали наших! Безоружных пленных! Оставшихся после казни заставили складывать трупы на стоявшие у барака тачки, вместе с их вещами, лежавшими на песке. Меня била дрожь от ужаса и бессилия. Я спросила у Василия Степановича, задыхаясь от горя: – За что их расстреляли? За что? Он покосился на меня и тихо сказал: – У них в рюкзаках были куски человеческого мяса. Они его ели. – Как это?! – Да так, – подтвердил стоявший по другую сторону от меня Толя. – На днях, когда мы везли тачки с умершими ко рвам, немцы заметили, что у многих трупов из того барака были отрезаны куски мышц на икрах ног и на ягодицах. Нас спросили: «Что это значит? Следы ритуала? В этом бараке секта сатанистов?» Что мы могли им ответить? Только молча развели руками, да пожали плечами. Сами мы, конечно, сразу поняли, в чем дело. Только сатанисты были не в бараке, а стояли перед нами, да еще задавали вопросы. Немцы сами доводят людей до сумасшествия… – А теперь они же, гады, их и расстреливают, – перебил Толю Василий Степанович, – тут у нас настоящий ад с бесами в погонах. Меня закачало, и я схватилась за рукав шинели Василия Степановича. – Ты давай, держись, Этери. Не такое еще увидишь! Я и на это не могла больше смотреть, какое «такое» он мне еще пророчил! Пока отвозили тачки с убитыми и их пожитками, немцы, ругаясь, обходили наш строй, с презрением вглядываясь в лица стоявших. Как будто и эти пленные были виноваты в том, что произошло. Затем они дали команду сжечь барак. Это пламя, гигантский костер, я не могу забыть, помню всю жизнь! Стоит мне увидеть где-нибудь горящий дом или высокое пламя, как я слышу немецкую брань, голоса ругающихся матом полицейских, их крики: «Всех вас надо было сжечь, людоеды!» Несколько дней «Кранкенлазарет» не мог успокоиться. Только и говорили о страшном бараке, о расстреле, об отчаянии пленных. Потом волнение понемногу улеглось, не было больше сил обсуждать. В лагере жизнь, вернее, агония пленных продолжалась по-прежнему, в обычном порядке. Утром – поверка, тачки с пленными, умершими за сутки, раздача баланды. Днем – разговоры на песке у бараков о еде, о болезнях, о доме. К вечеру раздача баланды, поверка, и всех под замок до утра. Эшелоны с пленными больше не приходили. Изредка с воли доносились новости о нападениях партизан вокруг Житомира, об арестах евреев, о появлении новых полицейских соединений – «легионерах». Так однажды мы узнали, что немцы собрали из бывших военнопленных шестнадцать тысяч добровольцев-азербайджанцев и создали из них полицейское соединение «Легион». Одели в особую форму, дали рацион, как немецким солдатам, оружие. Поселили в Житомире, рядом с лагерем военнопленных, в пустующих домах напротив, через дорогу. Мы вскоре увидели их, марширующими по шоссе. Вскоре стало известно, что в Бердичеве и Виннице находятся такие же соединения легионеров из пятнадцати тысяч грузин и четырнадцати тысяч армян. Из Берлина «легионерам» посылали даже газеты на их родных языках. Видимо, готовили к боям с партизанами, а может, и для фронта. Эти сообщения взбудоражили и больных, и врачей. Особенно выходили из себя пленные родом с Кавказа. Как могли их земляки стать предателями? Они рассказывали о своих народах, об их культуре, об истории, о мужестве, проявленном веками при защите родной земли. Доказывали, что эти отщепенцы – ничтожная, презренная частица народа. Их слушали – кто с интересом, кто с раздражением. На плацу часто собирались группы спорящих. Лихом поминали и украинских и белорусских полицаев. Их тоже насчитывалось десятки тысяч. В это же время мы узнали и о власовцах. Кавказцы с некоторым облегчением заговорили и о русских, украинских и о белорусских изменниках, как будто участие русских, белорусских и украинских предателей в немецкой армии и полиции, если и не оправдывало их земляков, то в какой-то мере все же снимало обвинение в их национальной предрасположенности к предательству. В это время я впервые услыхала, как люди стали группироваться в разговорах по национальной принадлежности. Раньше я этого не замечала. Мы воспринимали друг друга до и во время войны по гражданству и убеждениям. «Наши» или «не наши». Граждане нашей страны, родные – или граждане воюющей против нас страны – чужие; Граждане Германии, Венгрии и другие. Своими они становились только тогда, когда сражались вместе с нами против напавших на нас фашистов. Конечно, находились и такие, которые объясняли согласие на службу в полиции независимо от национальности, страшными условиями в плену. Голод, болезни, угроза отправки в лагеря смерти в Германию… Но тут же получали в ответ: – А мы? Мы не в том же положении?! И все же никто из нас не просится в полицаи! – Еще неизвестно, сколько бы ушло в полицию и отсюда, если бы стали агитировать и у нас. – Что? Что ты сказал?! А ну, повтори! Будь у голодных, истощенных людей больше сил, дело дошло бы до драки, и не одной. Были разговоры и о том, что, получив оружие, наверное, многие из этих полицаев уйдут в партизаны… Но эти голоса мало кого убеждали. Тем не менее я должна тебе сказать, что очень многие действительно, получив оружие, при каждом удобном случае уходили к партизанам. Особенно после разгрома немцев под Сталинградом и на Курской дуге. В нашем отряде тоже были такие. Сражались они мужественно. Многие погибли. С некоторыми уцелевшими партизанами из «легионеров» после войны я встречалась и переписывалась. До сих пор храню их письма из Грузии и Армении. Были правы житомирские пленные и в том, что оставшиеся служить немцам составляли меньше 0,1 процента от воевавших на фронте их земляков. По вашим масштабам 50–80 тысяч человек – это много. Но если учесть, что нас тогда было почти двести миллионов граждан и не меньше трети взрослого населения за годы войны так или иначе участвовало в защите Родины, можешь себе представить, какая малость оказалась в предателях. Песчинка. Однако в 1942–1943 годах, когда шли кровопролитные бои с немцами и их европейскими союзниками, когда судьба нашей страны висела на волоске, было больно сознавать, что у стольких людей, считая и власовцев, поднялась рука на своих же. О встрече с власовцами я расскажу тебе позже. Да, это была «песчинка», но песчинка, как будто попавшая в глаз… А пока наше невидимое «информбюро» сообщало нам время от времени, что делалось у наших соседей, полицаев-азербайджанцев. Выяснилось, что немцам очень трудно было с ними объясняться. В своем большинстве это были простые люди – крестьяне и жители провинциальных азербайджанских городков, где почти никто не говорил по-русски. По-немецки – тем более. Их военной подготовкой немцы были недовольны. С их точки зрения, полицаям надо было пройти подготовительный курс, чтобы понимать и выполнять команды немецких офицеров. Для занятий немцы выбрали уединенную поляну вблизи полицейских казарм. Она находилась между проволочной оградой «Кранкенлазарета» и рвами – братскими могилами военнопленных. В один, как говорится, «прекрасный день», мы увидели, как батальон азербайджанских полицаев, шагавший по заасфальтированному шоссе, свернул к «Кранкенлазарету» и расположился перед нами по ту сторону проволоки на поляне. Поляна в ширину (то есть от нас до рвов и хвойного леса) была метров 150. В длину вдоль нашей ограды с вышками и часовыми она тянулась метров 400. Все, кто только мог передвигаться, собрались на этой стороне «Кранкенлазарета», в безопасной близости от проволоки. Пока какой-то переводчик в полицейской форме переводил на русский язык объяснения немецкого офицера (а их, этих немцев, было человек десять – то ли «учителя», то ли охрана с автоматами), мы все уселись на землю в ожидании небывалого зрелища. Переводчик несколько раз по-русски объяснял полицаям, что надо делать по немецкой команде. Легионеры спокойно смотрели на него и слушали. Раздавалась команда. Все продолжали стоять, только смотрели теперь на немца, который командовал. Так повторялось несколько раз. Не только переводчик, но и немцы стали выходить из себя. Немцы орали на переводчика, тот – на легионеров. Среди пленных это вызвало большое оживление, перешедшее в хохот, когда отчаявшийся переводчик от слов перешел к показу и стал сам выполнять команды перед недоумевающими полицаями. Так мы оказались невольными зрителями трагикомического спектакля! Переводчик то бегал по засохшей траве, одновременно приглашая легионеров жестами повторять его движения, то замирал по стойке «смирно», то ползал, то приседал и вскакивал, снова бегал… Легионеры смотрели с интересом, некоторые даже стали смеяться над переводчиком. Немец рявкал команды, переводчик выбивался из сил. Полицаи внимательно слушали и смотрели то на того, то на другого. Видимо, не понимая, что от них хотят. Пленные, как болельщики на стадионе, стали во всю мочь повторять команды то по-русски, то по-немецки, подбадривать переводчика. Со смехом ставили ему оценки за демонстрацию приемов… Потеха, да и только! Среди пленных зрителей были и азербайджанцы, которые совсем недавно защищали среди нас честь своего народа, перечисляя героев, ученых, народных артистов, писателей. Они тоже во все горло что-то орали полицаям по-азербайджански. Некоторые из полицаев стали с испугом оглядываться на них. – Что вы им кричите? – спрашивали зрители у наших охрипших азербайджанцев. – Ругательства! – почти потеряв голос, прохрипели те. – Браво! Продолжайте! – Так их мать! Давайте еще! Теперь уже другой немец стал командовать. Переводчик, задыхаясь, переводил и показывал. Пленные покатывались со смеху. В это время потерявшие терпение немцы после очередной команды, с криками и без всякого почтения, стали бить своих «учеников»-легионеров кто палкой, кто прикладом автомата. Перепуганные азербайджанцы кинулись толпой повторять движения переводчика. Поняли наконец! Что тут началось – трудно передать! Глядя на эту свалку, пленные хохотали до слез, аплодировали. Кто мог, размахивал костылями или палкой. – Браво! Бис! Браво-о-о! – Так их, так. Еще палкой! Еще-е-е! Пленные кричали, потешаясь, довольные происходящим: – Свободы захотели?! Под свастику полезли! Вашу мать! Так вам и надо! Палками, палка-а-а-ми их!!! – дальше шли непереводимые на нормальный русский язык ругательства. – Вон там, справа, не ползут! – показывали немцам костылями пленные. – Дайте им! Дайте еще! Браво-о-о! – А эти не бегут! Остановились! По морде им! По мо-о-о-рде! – и опять оглушающий своей фантазией невообразимый русский мат. – Это вам не Красная армия! Немцы вас научат, такие-растакие! Будете фюрера любить! – и опять ругань, злой хохот до коликов в животе. В какой-то момент я оглянулась и посмотрела на «болельщиков». Как много сил уходило на этот азарт. Уже сейчас некоторым не хватало сил кричать и двигаться, они только беззвучно смеялись, глядя на суету за проволокой. Получали удовольствие? Да! Разрядка? Да! Только для многих – перед смертью. Может, это и хорошо для тех, кто обречен, умирать, посмеявшись вдоволь? Больно думать об этом! Через несколько дней злой спектакль имел продолжение, но уже на территории «Кранкенлазарета». Дело в том, что эти полицаи-легионеры, как все смертные, заболевали, несмотря на свое привилегированное положение. Дизентерия, туберкулез, язва желудка и другие болезни часто случались и у них. Но больниц для полицаев в Житомире не было. Их отправляли… к нам в «Кранкенлазарет»! В одном из домов расчистили и побелили два этажа. Больных привели около сотни. Форму и паек им оставили прежние, но ни лекарств, ни постелей, ни воды для умывания у них не было, как и у всех остальных пленных… Вскоре сыпной тиф начался и у легионеров. Смертей было много. Умерших, по приказу немцев, вывозили во рвы на тачках: раздетыми, без имен, вместе со всеми другими непривилегированными пленными. Оставшуюся форму и обувь немцы забирали по списку. Однажды Василий Степанович сказал мне: – Хочешь посмотреть на смешное представление? – Смешное? – усомнилась я, – тут у нас?! – Да. Хотя, как сказать… во всяком случае, удивительное – это точно. Пойдем. И повел он меня к больным азербайджанским легионерам. На втором этаже кирпичного дома мы остановились в дверях и увидели… торговые ряды! В больших комнатах вдоль стен и окон от двери до поперечной стены были установлены сплошные деревянные нары. Между этими двумя рядами посреди комнаты был общий проход. На каждом секторе нар, ближе к проходу, сидели легионеры. Почти все они сидели, поджав под себя ноги, скрестив их по-восточному. Перед каждым лежал «товар»: одно яйцо, три-четыре сигареты, пять-шесть кусочков сахара, две-три щепотки чая, небольшой кусок мыла, коробка спичек, свернутые в трубочку новые бинты, три-четыре печенья, катушка черных ниток… Все это было аккуратно разложено на платках и каких-то тряпочках. По проходу, разглядывая редкости, медленно ходили медики, ходячие больные из других бараков и блоков, ковыляли инвалиды. Стали ходить и мы. «Товар» был разным. У кого больше сигарет, но не было яйца, у кого не было сахара, но были катушки с белыми и черными нитками с воткнутыми в них иголками, у кого – три-четыре карамельки и тому подобное. Но самыми неожиданными были покрикивания продавцов: – Ходи! Смотри! Какой яйцо! Золотой, золотой яйцо! – Кушай сахар! Такой сахар только Германия делиет! Сладкий, как виноград! – Не умирай, подожды! Куры последний сигарет! – Спички! Горячий спички! Можно «Кранкенлазарет» горит! Закрыв глаза, можно было подумать, что ходишь по настоящему восточному базару. Только «товар» больно необычный, да запах немытых тел и параш знакомый. – Какие цены? За какие деньги продается? – Бэрэм марки, доллари! Оказывается, по-русски они все-таки объяснялись! Кое-как понимали, не то, что на поляне! Может, там были другие? Предлагали менять «товар» на золото, кольца, цепочки, часы. Легионеры явно витали в облаках! Какие доллары, откуда? А золото?! Немцы давно всех обобрали, еще раньше, чем загнали за проволоку. Поотбирали даже обручальные кольца. Только бумажные рубли удавалось сохранить, да и то потому, что тут они никому не были нужны. По вечерам, когда уходили немцы, на эти бумажки запертые в домах и бараках пленные играли в «очко». Даже меня научили… Горы бумажек собирались «на банк». Макулатура! О чем думали больные полицаи? Зачем им было золото? Какие марки могли их спасти? Тиф, туберкулез, дизентерия косили их не меньше, чем остальных пленных. Почти никто из них не возвращался в казармы. Базар был не смешным. Страшным! Торговали смертники. На краю могилы. После войны мне довелось просматривать списки награжденных за мужество и героизм на фронте. В списках были мужчины и женщины, люди всех национальностей, даже иностранные граждане. Всего за время Отечественной войны звание Герой Советского Союза было присуждено 11 тысячам человек, из них – 87 женщин. Многих наградили посмертно. Оказалось (и это мне было особенно интересно), что в годы войны вместе с миллионами солдат и офицеров всех республик Советского Союза, не подозревая об участии своих земляков-«легионеров» по ту сторону фронта, геройски сражались около двух десятков азербайджанских, грузинских и армянских дивизий. Они участвовали в боях на Северном Кавказе, в Крыму, на других фронтах. Многие из них дошли до Берлина. Звание Героев Советского Союза получили более 100 азербайджанцев, 120 грузин, 106 армян (двое из них – дважды). Сотни тысяч воинов трех республик Закавказья погибли, сражаясь за Родину. Десятки тысяч получили боевые ордена и медали[14]. Таков итог их ратного труда и усилий. Но об этом мы узнали уже после войны, а тогда… сама понимаешь! Тогда я с горечью видела, что и на краю могилы люди не расстаются со своими привычками, слабостями и пороками. В этом я постоянно убеждалась, к большому своему удивлению, а иногда и настоящему потрясению. Ведь мне было всего девятнадцать, и жизнь я знала в основном по книгам и кино. А тут судьба показывала мне самые тяжелые и жуткие примеры настоящей человеческой трагедии… С холодами в житомирский лагерь пришел еще один эшелон. Всех из вагонов сразу же повели в основной лагерь. Раненых почти не было, зато в «Кранкенлазарет» привели с поезда двадцать две пленных медсестры. За несколько дней до этого в нашей с Раей комнате здоровые на вид пленные, доставленные из основного лагеря, сколотили дощатые длинные сплошные нары. Они тянулись, чуть отступая от наших кроватей, вдоль стены и окон. Проход шел посреди комнаты от кроватей к двери. Принесли шесть ведер-параш с крышками. – Ждите пополнения, – сказали, уходя, пленные плотники. Подробностей никто не знал. И вот от проходной к нашему блоку бодро шагали двадцать две молодые медсестры. Как скоро выяснилось, они попали в плен на Сталинградском направлении, где шли ожесточенные бои. Было им по 19–21 году. Русские, украинки, одна татарка, три башкирки, две молдаванки. О трудностях, о боях, о переживаниях на фронте и в плену они не рассказывали, но было и без рассказов понятно, что война поставила на них свое страшное клеймо. Их провезли уже по нескольким лагерям, и они знали, что везут их в Германию. Дело было во времени. Девчонки выглядели здоровыми, даже упитанными, вели себя развязно, говорили громко, постоянно употребляя матерные слова и выражения. Расспрашивали нас о «Кранкенлазарете» и вскоре высыпали из блока на плац – посмотреть своими глазами на новое обиталище. Мы с Раей видели, как они прогуливались и знакомились с ходячими больными и медперсоналом. Было странно слышать их громкие голоса и смех на этом обычно тихом дворе. На земле, как всегда, сидели совсем слабые, истощенные люди. Едва передвигались на костылях инвалиды. Вдоль стен домов сидели пленные – худые, оборванные, грязные. Кто дремал, кто искал вшей, кто смотрел перед собой невидящим взглядом. Девчонки не обращали на них никакого внимания. Или привыкли, или все им стало безразлично. Болтали, смеялись. Меня это неприятно удивило. Вскоре началась раздача баланды, и прибывшие медсестры уселись на нары ужинать. – Откуда у немцев столько картофельной шелухи? Всю дорогу едим и едим только шелуху, – сообщила одна из девушек. – Думали, тут что-нибудь другое дадут… – Жареных курочек, например! – захохотала другая медсестра и выругалась. – Или свиные отбивные… – мечтательно добавила еще одна. – Отбивные будут нам в Германии, по ж…м, – мрачно сказала первая. Поев, побежали строиться на поверку. Первая ночь прошла спокойно, если не считать того, что в коридоре перед нашей дверью до полуночи были слышны смех и громкие разговоры приехавших девушек с ходячими, больными из пленных, спустившихся к ним с верхних этажей нашего блока. Зато в последующие ночи нас с Раей охватил ужас. Всю ночь в темноте девушки принимали гостей. Мы с Раей не могли уснуть от стыда за девчонок и отвращения. Наутро, выходя на поверку, мы увидели под нарами почти у всех новеньких по три-четыре чужих котелка с баландой. И еще раз ужаснулись. Я тогда еще не до конца понимала, хотя и видела расправу у того страшного барака, как ломаются, уродуются, перерождаются люди от голода, от страха, от отчаяния, от войны… Мы с Раей, в конце концов, решили, что у этих девчонок, как говорится, «крыша поехала». После всего пережитого на фронте и в плену осталось одно на уме – выжить. Выжить любой ценой. И они нашли свой способ выживания. Мы видели, как, ничуть не смущаясь, девчонки весь день время от времени хлебали баланду в котелках из-под нар, болтали, смеялись, даже пели. А потом уходили возвращать котелки. Часто, заходя в комнату, мы с Раей слышали, как они на том же самом мате весело обсуждали ночные события и своих гостей. При нашем появлении такие разговоры почти всегда прерывались. Наконец, одна из девчонок не выдержала и спросила: – Вы чего всегда такие злые? К вам что, мужики не ходят? Или вы где-нибудь в другом месте устраиваетесь? – Остальные захихикали. Так началась наша молчаливая вражда. Ночные бдения продолжались. «Вот идиоты – думала я, – ну, не идиоты ли эти мужики?! Лишают себя пищи, умирают ради «этого» раньше времени. Ну, не идиоты?!» Мне не было жаль ни тех, ни других. Какое же ничтожество – люди, – пришла я к выводу. И тут же отругала себя. А Василий Степанович, а Толя, а доктор Биденко? Никто из них не «дружил» с медсестрами. Мало того, скольким пленным они помогали пережить болезнь, выжить? Одних евреев спасли не один десяток. А кто меня спасал?! Нет, нет, так нельзя. Однажды, как бы опровергая мои обвинения, попалась мне на глаза одна из медсестер. Она редко выходила со всеми во двор на прогулки. Я никогда не слышала, чтобы она материлась. Целыми днями что-то зашивала, латала. Зашла как-то к Василию Степановичу и попросила нитки. «И, если можно, ножницы. Мои сломались». Василий Степанович нитки дал, ножницы починил, а мне потом сказал: – Это Женя, сибирячка, славная девчонка. С ней дружит Алексеев. Она к нему часто заходит. У него в первом блоке своя комната, ты знаешь. Остальные ее не трогают. – Кто Алексеева обидит, тот и дня не проживет, – засмеялся Толя. – Могу сообщить вам новость. Главврач Алексеев назначил ее второй операционной сестрой. Сегодня мне сказал об этом сам Хипш. С немцами согласовано. Прошло еще какое-то время, и Рая поделилась со мной своими наблюдениями: – Знаешь, эта Женя неплохая девушка, мы с ней хорошо понимаем друг друга, хорошо с ней работать. Она не задирает нос, как остальные, а могла бы… У нее за спиной сам Алексеев. – Да. Я знаю про Алексеева. Но одна Женя погоды не делает. Я ненавидела нашу комнату. С отвращением ложилась спать, с таким же отвращением просыпалась. Однако деваться было некуда. Мы с Раей научились спать и при посетителях. Девчонки и вовсе невзлюбили нас. Не только оттого, что мы их сторонились, но еще и потому, что жили по-другому. В глубине души, конечно же, каждая понимала весь кошмар выбранного ими способа выживания. Оставалось тихо ненавидеть «чистоплюек». И они со злобой провожали нас глазами. Однажды, когда в комнате оставалась со своим шитьем одна Женя, я подсела к ней. – Скажи, пожалуйста, эти девчонки и до плена были такими? – Да что ты! Нет, конечно. He до того было. По десять, пятнадцать раненых в день на передовой вытаскивали, да еще с их оружием. Ты представить себе не можешь, какие они, эти раненые, тяжелые. Бывало, пули вокруг цокают, или бомбежка идет, грохот, землей засыпает, осколки летят, а мы тащим раненых, да еще не раз отстреливались их оружием. Нельзя же по-другому. Люди кровью исходят, кто стонет, кто кричит, ругается от боли, а еще хуже – молчит: то ли живого тащишь, то ли умер уже… Уставали до обморока, спали, как убитые, несмотря на обстрелы, взрывы. Даже помыться не успевали. У многих грыжа выступила… А сколько девчонок гибло вместе с ранеными. А ты говоришь, были ли такими… Нет, не были. Плен сломал. – А где вы в плен-то попали? – У реки Чир, она в Дон впадает. На нас танки налетели под Суровихино. Все мы из разных полков одной стрелковой дивизии. После танков, которые дальше ушли, на восток, 10 августа окружили нас итальянцы. Сразу поотбирали у всех ремни, почему, не знаю… Очень смеялись над нашими галифе и обмотками, но не обижали. Накормили макаронами, вроде длинной вермишели без дырок, потом австрийцам передали, те – немцам, тут-то все и началось. По три-четыре дня «забывали» кормить. Гоняли из лагеря в лагерь. А лагеря! Если бы ты видела! Горы трупов, возле них стонут раненые, лежат контуженные. Мертвых хоронить некому, да и некогда. Всех живых везут или гонят пешком на запад. Обращались как со скотиной, даже хуже… Что тебе рассказывать, сама знаешь… Знать-то я знала, но, видимо, и на меня стал действовать плен. Стала непримиримой. Не могла я сочувствовать девчонкам. А Женя оказалась добрячкой. Всех жалела, все терпела. Настоящая сестра милосердия. Таких и в жизни можно встретить редко, а в плену, казалось, и вовсе нет. Многие, почти все, от бед и голода, от страха голову теряют, ожесточаются. Однажды, когда я, Толя, Василий Степанович и доктор Биценко собрались, как всегда, с котелками баланды поужинать вместе, вбежала плачущая Рая. Увидев нас, она уткнулась в стену и громко разрыдалась. – Что случилось? – повскакивали мы со своих мест. – Эти медсестры, – всхлипывала Рая, – сказали, что я еврейка, а никакая не грузинка, и что они все расскажут Хипшу. Больше ничего нельзя было понять, я обняла ее. Рая рыдала. Ее всю трясло. Затрясло от возмущения и меня. Все стали успокаивать Раю как могли. – Мы с доктором сейчас с ними поговорим, – встали со своих мест Василий Степанович и доктор Биденко. – Нет! – закричала я. – Это я сейчас с ними объяснюсь! Пойдем! – взяла я за руку Раю. – Пойдем, тебе говорят! Должна сказать, Элиана, что во время войны со мной иногда происходила довольно неприятная история. Видимо, эта черта характера досталась мне от моих предков со стороны мамы – терских казаков. Армяне в основном мягче и добрее, хотя в гневе и они не сахар. В гневе я становилась невменяемой. Как вы, итальянцы, выражаетесь: «от злости ничего перед собой не вижу». Я себя не помнила. Это бывало редко, но меня в бою несло с бешеной силой. В партизанском отряде, куда я потом, после плена, попала, меня мои товарищи, местные партизаны, побаивались. Хотя сами тоже в боях были не ангелы. Это стало мне понятно вскоре после того, как мы схватились в рукопашную с мадьярами. После плена это свойство моего характера стало проявляться особенно сильно. Сама я обратила внимание на свой недостаток, когда заметила опасливые взгляды и нежелание спорить со мной о чем бы то ни было моих друзей-подрывников, с которыми дружила и участвовала в боевых операциях и которые в общем-то меня любили и по возможности берегли. Всю жизнь я старалась потом вытравить из себя этот безумный гнев и, кажется, на сегодняшний день в этом преуспела. Такие вспышки со мной после войны, насколько помню, больше не случались, даже несмотря на перенесенную в бою контузию. Вернее, когда подкатывало, я всегда давила в себе этот гнев, понимая, что может случиться любая беда. Вог такой похожий внутренний взрыв произошел со мной тогда в «Кранкенлазарете», когда рыдала Рая. В буквальном смысле от гнева у меня потемнело в глазах. Мы выбежали с ней в коридор, и я рванула на себя дверь нашей комнаты. С порога оглядела девчонок на нарах. Они спокойно готовились к прогулке перед поверкой. Кто расчесывал волосы, вылавливая вшей, кто копался с этой же целью в гимнастерке, кто натягивал сапоги, кто-то хлебал остатки баланды. Все повернули голову к открывшейся со стуком о стену двери. Я оглядела их и громко, но без крика, с яростью сказала: – Слушайте вы, б…и! Если кто-нибудь из вас посмеет сказать кому бы то ни было, что бы то ни было про Раю, я вас всех подведу под расстрел. По-немецки я говорю, и уж найду, что сказать немцам, чтобы ни одна из вас не уцелела. Вы все ляжете рядом с Раей! Сердце у меня билось от бешенства в горле. С последними словами я с грохотом захлопнула дверь. Рая охнула у меня спиной, и мы вышли на плац. – Зачем ты так? – шептала Рая, шагая рядом со мной. – Они теперь нас возненавидят. – Они и так нас ненавидят. – Но ты им пригрозила расстрелом. Как ты не боишься? Ночью кто-нибудь из их кавалеров нас придушит. – Не придушит. Меня всем лагерем спасали, и их кавалеры знают меня очень хорошо. Не притронутся. – Как ты могла так с ними, это же все-таки наши девчонки. – А как они могли подставить тебя под пулю? Какие же они наши, если способны на такое? В этом случае надо сразу дать по мозгам, чтобы они, вдобавок ко всему, не стали убийцами. Это как вовремя влепить пощечину истеричке. Сразу приходит в себя. Я убеждала Раю, но сама по мере того, как стихало бешенство, с которым я ворвалась к девчонкам, стала стыдиться слов, с которыми, как к врагам, обратилась к ним. Стыдилась, но не жалела о своем порыве. По-другому – я была уверена – мы бы потеряли Раю. И смыть это преступление было бы нельзя ни с гадких девчонок, ни со всех нас. А всем нам, и этим медсестрам тоже, надо было дальше жить, заводить семью, детей. Как это все с загаженной совестью? Если, конечно, мы выживем. Так я старалась успокоить себя и Раю. Между тем пленных из Житомира стали постепенно отправлять дальше на Запад. С первым же эшелоном вывезли и медсестер. Сказали, в Равенсбрюк[15]. Я их больше никогда не видела. Кроме Жени. Она осталась. В последний момент Алексееву удалось вычеркнуть ее фамилию из списков отъезжавших. Конечно, с молчаливого согласия немцев, которым Алексеев был нужен. Мы с Раей вздохнули с облегчением. Теперь только доски этих ужасных нар напоминали нам о пережитом. Женя осталась в своем уголке, но на месте бывала редко. Иногда даже ночью ее не было. Она оставалась у Алексеева. Прошло еще какое-то время. Шла зима. Снега по-настоящему не было, только холод; ледяной ветер разносил по лагерю колючий песок. Как-то утром по шоссе от Житомира к «Кранкенлазарету» стала приближаться толпа местных жителей под конвоем. Их вели немцы с овчарками на поводках. Немцев было немного, полицаев – не было совсем. Люди шли молча. Сначала было слышно только шарканье сотен, возможно, тысяч ног по асфальту. Шарканье ног и бесконечный поток людей, одетых по-зимнему – в темные пальто, шапки, платки. Почти все с узелками, сумками, коробками. Было что-то жуткое в молчании приближавшейся массы людей. Когда они поравнялись с лагерем, в толпе заплакал ребенок, и мы увидели, что толпа состояла не только из мужчин и женщин, но и детей, которых несли на руках, катили в колясках, вели за руку. Стариков поддерживали те, кто помоложе. Ребенок перестал плакать. Люди продолжали идти молча. Все пленные, бывшие во дворе, замерли, провожая глазами толпу. Неожиданно вперед вышел человек, одетый в черное, с пейсами. В черной шляпе и черном пальто. В руках у него была книга в темном переплете. Он прошел несколько шагов быстрее и оказался один впереди всех. Не оглядываясь, он громко запел, глядя в раскрытую книгу. Видимо, молитву. Толпа негромко, но дружно подхватила пение. Собаки залаяли. Мы поняли, что мимо нас ведут житомирских евреев. Они шли неспешно и пели свои молитвы. Мы видели печальные лица поющих людей, проходивших совсем рядом с оградой «Кранкенлазарета». Они шли сосредоточенно, не глядя по сторонам. А начало колонны уже свернуло в лес, ко рвам. Я все еще не верила, что сейчас произойдет трагедия. Позади толпы, замыкая ее, шла группа немцев. Шли вольным шагом, о чем-то оживленно разговаривая. Автоматы небрежно висели у кого на плече, у кого на груди, многие несли их в руках на длину ремня. Кто-кто курил. Можно было подумать, что эти немцы не имеют никакого отношения к толпе, идущей перед ними. Постепенно все они скрылись в лесу. Мы стояли на плацу, не веря своим глазам и предчувствию. Не расходясь, молча смотрели друг на друга. Издали из леса доносилось пение, но не ровное, как было на шоссе, не дружное. Выделялся сильный голос раввина. Время от времени принимались лаять собаки. Потом на какое-то время все смокло, слышны были только голоса немцев. Они кричали что-то резкое, но что именно – было непонятно из-за расстояния. Прошло еще минут сорок. Вдруг люди в лесу громко и дружно запели молитвы, которые стали перекрываться частыми очередями пулеметов и автоматов. Пение смешалось с криками и лаем собак. Стрельба продолжалась. Перекрывая стрельбу, раздался отчаянный крик женщины: «Я не еврейка! Я не ев-рейка-а!». Крик оборвался. На нашем плацу все окаменели. Стрельба продолжалась мучительно долго. Потом стали слышны отдельные выстрелы. Затем все стихло. В зловещем молчании пленные стали разбредаться по баракам и блокам. Я тоже поплелась в дом. Через какое-то время Толя позвал меня: – Выйди-ка, посмотри на этих варваров. На этих правнуков Гете, Гегеля и всяких там гениев. Иди, иди, полюбуйся… Я выглянула и увидела, как по шоссе от леса к Житомиру шли немцы с большими, видимо, тяжелыми узлами на спине и в руках. Очевидно, с одеждой и вещами только что расстрелянных людей. Автоматы висели на шеях, собаки шли рядом на поводках, пристегнутых к поясам хозяев. Руки были заняты узлами. В эту ночь мы с Раей не спали. Думаю, что в «Кранкенлазарете» не спали не только мы. Для всех нас эти люди были нашими согражданами: служащими, врачами, учителями, рабочими, ремесленниками, дети – пионерами, школьниками. Это фашисты их выделили как евреев. А для нас они были просто нашими советскими людьми. Такими, как люди любой другой национальности: казахи, украинцы, русские, татары и остальные. Знаешь, Элиана, когда сама испытываешь почти невыносимые мучения, переживаешь часы и минутыперед расстрелом, все это не так тяжело, чем видеть, как терзают и расстреливают ни в чем не повинных людей. Детей с матерями, целые семьи… Какой бы национальности они ни были. Я видела это не только в Житомире, но и когда мы, партизаны, находили целые украинские села, сожженные немцами со всеми жителями… Колодцы с трупами погибших в них сельчан. Сотни жителей от мала до велика всех национальностей, расстрелянных на площадях разрушенных провинциальных городков на Украине и в Белоруссии… Виселицы с повешенными коммунистами, комсомольцами, партизанами… От этого можно было сойти с ума! И с ума сходили. В том числе и в «Кранкенлазарете», особенно после расправы над евреями, свидетелями которой мы невольно стали. Люди не выдерживали. Таких больных немцы тоже расстреливали, как только находили. Прошла ночь, и этот ужас опять повторился. Мы снова услышали шарканье ног по асфальту. Опять пел молитвы шедший перед обреченными раввин. Только на этот раз толпа за ним шла молча. Шли семьи с детьми и стариками, шли молодые люди – некоторые, обняв друг друга. Шли инвалиды с костылями и палками, под руку с мужчинами и женщинами, и опять детские коляски, вещмешки, узелки, сумки. Опять к этому проклятому лесу и рвам. На этот раз у меня не было больше сил смотреть на молчаливое, неторопливое шествие к смерти. Мы с Раей, как и многие другие, ушли в дом, под крышу, чтобы не видеть и не слышать. Увы, помочь мы ничем не могли. – Почему они не разбегаются? – накинулась я в доме на Толю и Василия Степановича в полном отчаянии, – почему не бросаются на своих палачей? Ведь охраны немного, a их тысячи! И собак этих никудышных мало: если вся толпа бросится бежать, так хоть половина, да спасется! Почему они такие покорные?! Никто мне ничего не ответил. Потом Толя вдруг сказал: – Они идут так, как будто происходит сознательное жертвоприношение. Никто не плачет, не кричит, не рвет на себе волосы. Как будто они себя и собственных детей сознательно приносят в жертву каким-то неизвестным нам идеалам своего народа. И еще молитвы поют! Хотел бы я поговорить с кем-нибудь из этих раввинов. Наверняка есть у них какая-то идея… Вот и не разбегаются. Вдруг началась стрельба в лесу. Все было слышно. Я убежала в нашу комнату, но и туда доносились звуки. Жени не было. Прибежала испуганная Рая: – Слышишь, опять! Я не могла говорить, перед глазами шли и шли эти люди с детьми, а за окнами их всех убивали! Я, чтобы не слышать эти пулеметные очереди, невольно стала биться лбом о железную спинку кровати, Рая схватила мою голову и прижала к груди. – Что ты? Что ты! Подумают, что и ты еврейка. Успокойся, а то убьют нас обеих! – Пойми ты! Евреи, не евреи – это же наши люди! Наши советские люди, кто бы ни был: русские, евреи, украинцы – это же наша кровь! Кровь наших людей! Весной 1978 года я приехала в Житомир на слет бывших партизан. Утро у меня было свободное, и я вышла на площадь перед гостиницей. Город после войны восстановили, он разросся, и я не могла сориентироваться на новых улицах. Попалось такси. Я попросила шофера отвезти меня на Богунью. Так назывался район, где в 1942–1943 годах был «Кранкенлазарет» и лагерь военнопленных. На шоссе перед местом, которое я не могла забыть, попросила шофера меня подождать. А сама пошла к забору. Да-да, там стоял забор, а рядом – та самая старая проходная, через которую в 1942 году полицаи приволокли меня на территорию «Кранкенлазарета». Забор стоял на месте проволочной ограды вдоль шоссе. Я шла, чтобы обогнуть его. После бетонного забора началась ограда из колючей проволоки. Но только в один ряд, и вся территория хорошо просматривалась. Бараков больше не было, не было и части кирпичных домов, в том числе и того, в котором я жила. Но, что меня несказанно удивило, так это деревья! Большие деревья выросли вокруг плаца, да такие, как будто они тут были всегда! И трава, которая тогда росла только под рядами проволоки, теперь покрыла всю территорию. Я стояла со стороны той самой поляны, где тренировали в 1942 году легионеров. Поляны не стало, она заросла кустарником. Я снова вышла на шоссе. Воспоминания и песчаная земля под ногами разволновали меня ужасно. Не заметила, как почти наткнулась на проходившего вдоль забора мужчину. – Простите, что тут за этим забором? Он посмотрел на меня, на забор. – Гаражи житомирской воинской части. Она расположена вон в трех высоких домах. Там тогда жили тоже военнопленные, не больные. – А во время войны что было? – Во время войны? – он опять посмотрел на забор, потом на меня. – Да ничего тут не было во время войны. Край города и дорога. Вот и все. – Спасибо. Моему собеседнику было лет сорок. Мог и не знать. А я ходила и мысленно видела и слышала всех, кто был тут со мной. Жил и умирал. Я сфотографировала забор с проходной и проволочную ограду. Потом решила пойти поклониться рвам. Не тут-то было! Все густо-густо заросло хвойными деревьями. Лес придвинулся к шоссе и к поляне перед «Кранкенлазаретом». Под деревьями все сплошь заросло кустарником и молодой порослью. Ведь под ними были люди! Деревья от этого выросли высокой, плотной, темной стеной. Я шла по шоссе вдоль леса, надеясь найти просвет, и вдруг увидела памятник из красного мрамора. Высокая стела на постаменте из нескольких ступенек. На стеле – бронзовая надпись на украинском языке: «Здесь похоронены тысячи советских граждан, погибших от рук немецко-фашистских палачей в 1941–1943 годах». Ноги от волнения у меня дрожали, и я присела на ступени памятника. Вдруг где-то рядом щелкнул фотоаппарат. Я подняла голову и увидела шофера такси. Рядом стояла его машина. А я и не заметила, как он ехал за мной. – Зачем вы это сделали? – спросила я. – Простите, но я понял, что у вас тут были близкие люди. Сюда не раз приезжали из других городов и, походив вокруг леса, просили снять их у памятника родственникам, погибшим в этом лагере! Я подумал, что и вам захочется иметь такое фото. Ко дню моего отъезда он принес снимок в гостиницу. Если хочешь, я пошлю его тебе. Обнимаю, твоя Тамара. Тамара, моя дорогая, какой болью отозвались во мне твои страницы… Как могла ты столько лет носить в себе такой ужасный груз переживаний? Теперь я начинаю думать, что лучше было не трогать эти жуткие воспоминания. Дать им поблекнуть, погаснуть в глубине твоей души. Но сейчас, как перед открытым ящиком Пандоры, остается только присутствовать в смятении перед волной душераздирающих образов, которые тебя преследуют, поглощают, душат. Перед горьким клубком, который тебе вновь приходится разматывать. Знаешь, я восхищаюсь тем, как тебе удается возвращать эти горестные голоса из прошлого, приковывать их к белым страницам, вновь побеждая свою историю… Ты сумела заново пережить ее, встретить с открытым забралом, со всей ответственностью, размышлениями и доводами. Однако я отдаю себе отчет в том, что такой жизненный опыт навсегда остается на дне души человека, даже если внешне это незаметно. Теперь я лучше понимаю, почему ты не выносишь слабый свет в помещениях, который напоминает свет в заключении, когда отказываешься от вареного лука или черного хлеба… Читая о бредовом состоянии людей, которые ели мясо своих умерших товарищей, или о девушках, продававших себя за котелок тошнотворной баланды, я размышляла, как можно дойти до такого? Что думать о них, находившихся рядом с другими, которые не теряли надежду, силу воли, думая о побеге? Я понимаю, рассказывать все это тебе было очень тяжело, унизительно, как будто ты их презираешь и осуждаешь. Но это не так. Кому ты рассказываешь? Нам, которые никогда не испытывали ничего подобного. Ничего, что можно было бы хоть отдаленно сравнить с вашими страданиями. В твоем рассказе я не вижу презрения – только боль. Нет, Тамара, не сомневайся и не вини себя. Подумай, в законодательствах благополучных стран, где люди живут в мире, без войны, закреплено право оправдать убийство при самообороне, «законная защита». То есть, когда человек рискует быть убитым, он, чтобы спастись, может убить сам, и при этом не будет считаться виноватым. Это абсолютное оправдание самого тяжелого преступления для того, чтобы не произошло другое, такое же тяжелое, со смертью защищающегося. Тех несчастных людей лишали жизни с помощью голода. Их лишали жизни постепенно. «Смерть, растянутая во времени». Во всех случаях их убивали. Инстинкт самосохранения – главный, неконтролируемый, он может утопить спасателя вместе с тем, кого спасают… Для них, для тех мужчин и для тех девушек, их поведение тогда, мне кажется, было самообороной, законной защитой. Они хотели жить, и у них не было больше сил испытывать ужас. За кошмаром того голода следовало успокоение сытостью. И они не причиняли нового зла тем бедным мертвым. А девушки поддавались произвольному стремлению тех, кто ради минутного удовольствия отказывался от поддерживающей жизнь миски баланды. Они шли навстречу неминуемой гибели, это было самоубийство. Бедные девушки, те, которые выжили. Что стало с ними? Как смогли они стать женщинами, матерями с таким истерзанным телом и душой? А может, они не вспоминали, не думали больше об этом? Может быть, смогли освободиться от воспоминаний? Потеря памяти – иногда благо. Когда же ты пишешь об обреченности размеренного шествия евреев к смерти, как не думать о том, что они должны были воспротивиться, сопротивляться? Я читала одного из еврейских политических деятелей, по его мнению, веками преследуемые и истребляемые, они, с одной стороны, теряли способность к сопротивлению, а с другой – именно эта подавленность и родила в конце концов агрессивность части евреев. Появился тип «борющегося еврея». Я вспоминала его книгу «Восстание», когда читала, как ты призывала своих товарищей по несчастью к побегу, а они не доверяли тебе, считали тебя провокатором… Эта героическая сила – обратная сторона медали самосохранения. Эта жажда свободы, уверенность в своих идеалах вплоть до принесения им в жертву собственной жизни… не все могли так чувствовать, испытывать такое стремление. Разрушение день за днем достоинства человека – не только его тела, но и души – вот чего добивались ваши палачи. «Человек ли это?» – спрашивал в своей книге Примо Леви, помнишь?[16]Многие не стали ими. Но не все. Помни о них, это все еще твой тяжкий долг, моя сильная, непокоренная Тамара. Несмотря на то, что теперь я знаю, чего это тебе стоит, продолжай. Жду твоего следующего письма, а пока обнимаю тебя с любовью и почтением. Твоя Элиана.
Дорогая Элиана, спасибо за глубокое и, как всегда, искреннее письмо. Оно пришло, когда я, замученная своими воспоминаниями, решила на какое-то время остановиться и передохнуть. Поэтому твое письмо в какой-то степени застало меня врасплох. Но я все-таки хочу сразу же ответить. Я не со всем в твоем письме согласна. Чувство самосохранения, по-моему, штука опасная и может завести человека, если им не управляет разум, в такие дебри! Вообще, человеческие инстинкты не должны, по-моему, бежать впереди хозяина. Еще Достоевский говорил словами своего героя, прости за возможную неточность цитаты: «Широк человек – сократить бы!» По-моему, это говорилось и про инстинкты. Ведь под чувство самосохранения можно подвести и пленных, перешедших служить в полицию из голодного вшивого концлагеря. А как же? Кормят, поят, одевают! А то, что при этом надо еще и служить, терзать и убивать себе подобных, так зато себя сохранил! Чувство самосохранения. Так ведь тоже можно объяснить. А девчонки, которые, спасаясь от голода, как ты считаешь, продавали себя за баланду из чувства самосохранения. Разве они не разрушали себя тут же? Тебя это тоже беспокоит. А как же они дальше смогут после этого жить, быть полноценными женщинами, матерями, спрашиваешь ты. Так ведь все делалось из чувства самосохранения. «Законная защита», считаешь ты. Так можно многое оправдать и запутать. Ну и что сохранили? Жизнь! А нужна такая жизнь? Ведь человек тем и отличается от животного, что ему мало ПРОСТО ЖИТЬ. Есть еще душа и нравственность, цели, идеалы, ради которых люди живут и преодолевают Бог знает какие беды и трудности. Есть, по-моему, внутренний мир, гармония в человеке, которая не может регулироваться инстинктами, в частности, инстинктом самосохранения, или подчиняться им. На то мы и люди. Время от времени каждый человек заглядывает к себе в душу. И память, как ты ее не гони, подскажет тебе, каков твой внутренний дом. Человек ли ты? Да, нас ломали, убивали наши души на войне, но я не согласна с тем, что инстинкты в этом случае неуправляемы. Когда ими не управляешь, это либо безумие, как болезнь, до которой доводили людей немцы, либо нежелание душой и умом потрудиться. Ты пишешь «успокоение сытостью». Какая же это «сытость»? Это безумное отчаяние. Какое же это успокоение, если подумать о дальнейшей жизни? На войне и в плену не бывает успокоения. Это вечные муки совести потом, если к надломленным все-таки вернется сознание. От них нет избавления. Я не могла примириться, вернее, не хотела делать скидку на слабость, на то, что, как ты говоришь, «не все могут». Моя мама говорила мне, внушала с раннего детства: «Нет слова – не могу. Есть слово – не хочу. А за это придется отвечать!» Так моя мама смогла закалить меня на всю дальнейшую жизнь. Я поверила ей и благодарна за простую науку не опускать руки в трудный час, не ломаться и не сваливать все на пресловутую человеческую слабость. Если человек нравственно здоров, инстинкты ходят в узде. Помнишь, я говорила тебе, что для ребенка все начинается в семье, как важно иметь ее. А, кроме того, мне повезло. Я росла в тридцатые годы, когда мы, подростки, жили и учились в атмосфере романтической героики. Страна поднималась из руин революции и Гражданской войны, прославляя своих героев: исследователей Арктики, героев-летчиков, героев стахановского движения, новостроек. Славился напряженный труд во всех областях: в науке, в промышленности, в сельском хозяйстве, в учебе, в боях за родную землю на Дальнем Востоке. Героев награждали орденами, медалями, званиями «народных» страны. Книги, фильмы, театральные пьесы рассказывали о героях Революции и Гражданской войны. Любовь к Родине, гордость за нее, смелость, активная позиция в жизни, самопожертвование ради жизни и счастья людей всех наций и даже народов мира – вот что последовательно воспитывали в нас школа и комсомол. Ты называешь меня «непокоренной»? Так ведь я частичка племени, воспитанного перед войной. Чтобы там сейчас ни говорили из политических и конъюнктурных соображений, почти все мое поколение было поколением непокорных романтиков. Жаль только, что почти все оно оказалось раздавлено войной под фашистскими танками. Уцелевшие и наши дети подверглись после войны такому нажиму «перевоспитателей», начиная с Хрущева, такой психологической молотилке, что теперь люди, родившиеся после войны, с трудом верят в наш беззаветный патриотизм, чистоту помыслов и взаимоотношений. Поэтому, я прошу тебя, не считай меня какой-то особенной. Ты знаешь, я этого не люблю. Как говорил Суворов: «Доброе имя я видел в славе своего Отечества». Особенной была моя Родина, а я всего лишь ее частичка. Что же касается еврейской обреченности или агрессивности, о которой ты пишешь, тут много неясного и спорного. Я до сих пор не могу по-настоящему понять ни того, ни другого; когда обреченность провальная, безысходная (куда девается при этом «неодолимое» чувство самосохранения?), а агрессивность – слепая и часто далекая от справедливого решения проблем. Тут еще надо подумать и разобраться, где собака зарыта. Будем думать обо всем вместе. Обнимаю тебя, моя сестричка, крепко-крепко, твоя Тамара.
Здравствуй, Элианочка, прости за такой долгий перерыв. Я собиралась с духом, чтобы продолжить житомирский рассказ. Как всегда, для меня это тяжкая задача, однако наш с тобой телефонный разговор подтолкнул меня к работе. Я снова пишу тебе. На этот раз хочу познакомить тебя с вечерами в «Кранкенлазарете», когда немцы всех нас запирали и уходили в свои казармы и квартиры. Люди в таких условиях тянутся друг другу. Коридор первого этажа при тусклом свете лампочки под потолком постепенно заполнялся пленными: ходячими больными и медиками. Из разных комнат тащили по полу кто стул, кто табурет. Стол в конце коридора, на котором Хипш принимал от Василия Степановича по утрам одежду умерших, дружно передвигали на середину коридора, и начиналась игра в самодельное домино или замусоленные карты, обычно – в «очко», я тебе рассказывала. В другом конце коридора пленные просто сидели и разговаривали. Ведь нас запирали в 5 часов вечера, и спать еще не хотелось, общались. Иногда спускался со второго этажа пленный, которого прозвали гитаристом за то, что он не расставался с где-то найденной растрескавшейся гитарой. На ней уцелело всего четыре струны, но это все же позволяло ему играть на ней и петь. Пел он в основном воровские блатные песни, потому что в мирное время был вором и часто сидел в тюрьмах. Там он и выучил этот «репертуар». Его любили за тихий нрав и за то, что перед тем, как попасть в окружение, он, призванный в 1941 году в армию, не смотря на свой смирный вид, сражался с немцами не на жизнь, а на смерть. Свидетели его отчаянной храбрости сидели сейчас с ним в житомирском лагере и с уважением рассказывали остальным пленным об этом маленьком, тщедушном на вид смуглом человеке и о его подвигах. Впервые я увидела его в углу коридора, когда он пел, согнувшись над гитарой, цыганскую песню. Наверное, цыган, – подумала я, – уж больно весь черный. Всклокоченная голова поднялась над гитарой. Он пристально посмотрел на меня и опять уткнулся в гитару. В этот вечер он пел только цыганские песни. Голос у него был хриплый, как у курильщика. Через какое-то время он закашлялся и ушел. Маленький, худой, чуть выше своей гитары. – Жалко одессита, – сказал один из его соседей по нарам, мой знакомый Гриша. – У него туберкулез. Скоро помрет. А какой герой был на фронте! – Такой маленький? – Еще какой герой! Совсем смерти не боялся. Ни пулеметов, ни танков – подползал с гранатами и закидывал ими чуть ли не в упор. Такой патриот, каких мало… Вор и патриот! Такого сочетания я и представить себе не могла. С этих пор «гитариста» я зауважала. Оказалось, что он был еще и «джентльменом», как назвал его Василий Степанович. Однажды я захотела послушать блатные песни «гитариста». Вообще-то он их не пел, а, напевая, хрипя, тренькал на гитаре. Но слушали его с интересом. Среди разных песен о ворах и проститутках, о расправах и любви у «гитариста» были и песни на «мате». Говорили, что смешные. Каждый раз, когда я слышала смех вокруг него, понимала, что он поет как раз те самые песни, я пыталась их послушать, но мне это не удавалось. Завидев меня, несмотря на то, что пел он, всегда опустив голову, и вроде бы ни на кого не глядя, «гитарист» прекращал «те» песни и переходил на обычные. Пробовала я подкрасться незаметно, прячась за спины окружавших «гитариста» плотным кольцом слушателей. Он каким-то собачьим чутьем угадывал мое приближение и тут же прекращал петь на полуслове. Так случалось несколько раз, и я поняла, что «гитариста» не обманешь. Пожаловалась Василию Степановичу. – Что ж ты хочешь, – сказал он, – «гитарист» – джентльмен. Он не будет при дамах петь хулиганские песни. А тебе стыдно должно быть. Да, мне стало стыдно. Вор учил меня приличию. После войны в Москве появился поэт-исполнитель своих песен под гитару. Исполнял он эти песни в «тюремном стиле». Тренькал и хрипел. Певческого голоса у него не было. Стиль этот вызывал бурный восторг у чистой, сытой публики. Интеллигенты ломились на его концерты («как оригинально, как свежо!»). А я, несмотря на то, что, по слухам, стихи и песни у него талантливы, слышать их не могла. Передо мной тут же возникал черноволосый, черноглазый урка, храбрый солдат, умиравший от туберкулеза, его хриплые песни при свете тусклой лампочки… Был у нас тогда в Житомире еще один гитарист. Простенькая гитара у него была цела, но на ней было всего три струны. Он считался санитаром и прислуживал Алексееву в том, другом блоке. Звали его Виктор. Иногда он приходил днем в наш блок пообщаться, поговорить и оставался на ночь у Василия Степановича. Так, однажды он рассказал мне, что у него в Москве живет родной брат, знаменитый композитор, автор замечательных военных маршей – Кручинин[17]. – А как вы оказались тут? – Был на фронте под Киевом с концертной бригадой московского театра Красной армии. Попали с нашими солдатами в окружение. Всех похватали, разбросали по лагерям. Мне солдаты посоветовали назваться санитаром. А вообще-то я профессиональный гитарист. Работал в оркестре театра Красной армии много лет. От Виктора Кручинина я впервые услышала знаменитую у нас потом песню «Землянка». Голос у него был низкий, приятный. Пел он, аккомпанируя себе на трех струнах, задумчиво и проникновенно. Теперь эта песня навсегда связана у меня с «Кранкенлазаретом». В другой раз он принес мне неизвестно как попавший на эту территорию затрепанный том «Ярмарки тщеславия» Теккерея. Я была счастлива! У нас в театральном училище в программе по западной литературе был Теккерей, но я его не успела прочитать. Честно говоря, так, наверное, и не прочла бы на воле. Том-то толстенный эдакий «кирпич». А тут – просто подарок судьбы! Отключалась от всего того, о чем рассказывала тебе раньше. Часы передышки! Как далеко уводил меня Теккерей от немцев, от рвов, от умирающих и вечно не хватающей баланды! После возвращения в Москву, немного оправившись от контузии, я нашла старшего Кручинина. Зашла к нему в благополучную, красивую квартиру. Было это в конце 1944 года. Над диваном в гостиной висел большой портрет Виктора в черной раме с траурным черным бантом в нижнем углу. – Вы бы бант сняли, – сказала я старшему Кручинину. – Нет, это мой брат, погибший на войне в 1941 году. – Вы уверены, что он погиб? – ? – Снимайте. Он в плену. До лета 1943 года был жив. Думаю, вернется. Я была с ним в одном лагере. Не буду описывать, какое волнение и надежды вызвал мой приход в семье Кручининых. Через год звонят, у телефона Кручинин: – Тамарочка, приезжайте сейчас же к нам! – Что случилось? – Не спрашивайте, сейчас же приезжайте! Поехала в тревоге. Что там стряслось? Может, помочь в чем-нибудь надо? Приехала. В передней молча раздевают, глаза смеются. Вхожу в гостиную. На диване под своим портретом сидит Виктор, мощи Виктора! Он не может от слабости даже подняться. Обнявшись, оба рыдаем на диване. Вокруг плачет вся семья Кручининых. – А помнишь Теккерея? – вдруг сквозь слезы спрашивает тень Виктора, кости Виктора, которые я обняла. – Да, и твою «Землянку» тоже. Семья вокруг ничего не понимает. Спрашивать не решаются. В этот вечер больше ни о чем не вспоминали. Просто пили чай с вареньем. Старший Кручинин рассказывал, как нашел брата в Германии в нашем госпитале. Эти встречи в Житомирском «Кранкенлазарете» были удивительными, неожиданными, остались в памяти, как грустные уроки жизни. Но были уроки и потяжелей. Встречи-открытия. Открытия шоковые, от которых я не могла избавиться потом всю жизнь. Однажды вечером меня позвали сыграть в «очко». Играя за столом в карты, я услыхала за спиной разговор, который очень меня заинтересовал. – А я тебе говорю, не обошлось без измены! Немцы напали, а у нас оружие на складах. Баки с самолетов на промывке. Командиры в отпусках. Это как называется? Я бросила игру и подсела к рассказывающему. – Скажешь, наша разведка не сообщала, что это зверье стоит на границе на изготовке? – Знали. Но наши старались оттянуть войну. Мы не были готовы. Боялись их спровоцировать, – ответил пожилой мужчина с рукой на перевязи. – Наши и договор о дружбе из-за этого с ними заключили. – «Боялись, не готовы!» А как же гений всех народов нам всем на уши лапшу вешал: «Враг будет разбит на его же территории»! И притом в тот же момент, как нападет! – Он этого не говорил. – Здрасьте, а кто говорил? К нам подсели прямо на пол еще несколько пленных. От иронии, от слов «гений всех народов» я внутренне вспыхнула. Мое отношение к Сталину тогда совпадало с торжественной песней, которую пели потом с большим воодушевлением по всей стране, в том числе и мой двоюродный брат Павел:
 «Вечная память жертвам фашизма 150 000 воинам Советской Армии, погибшим в 1941–1944 гг. в концлагере для военнопленных Гросслазарет "Славута"»
«Вечная память жертвам фашизма 150 000 воинам Советской Армии, погибшим в 1941–1944 гг. в концлагере для военнопленных Гросслазарет "Славута"»
Глава 6 Концлагерь в Славуте Хмельницкая область
«…расстреляли в Славуте всех. Жили тут в основном евреи. С ними расстреляли и остальных».
 Привезли нас в Славуту, небольшой украинский городок Хмельницкой области. В этом лагере оказалось двенадцать тысяч пленных. До войны тут, в десяти трехэтажных кирпичных домах и в городе, располагалась кавалерийская дивизия Красной армии. Теперь в домах и бывших конюшнях, а также в понастроенных бараках держали военнопленных. Меня, Раю и Женю привели в крайний десятый блок. Там, на первом этаже кирпичного трехэтажного дома, находились 50 пленных женщин. Это были врачи, фельдшера и медсестры. Наших, тех знакомых медсестер, среди них не было. Значит, их действительно увезли в Равенсбрюк, решили мы.
Половина этажа, занятая женщинами, была разделена фанерными перегородками на небольшие клетушки. В этих отсеках помещались всего два деревянных двухэтажных топчана.
Так же, как в Житомире, без постелей. Столик, он же шкафчик для четырех котелков, и табурет завершали обстановку. В конце коридора была дверь во двор и лестница на второй этаж. Только на втором этаже, где жили мужчины, дверь с лестницы была намертво забита.
Часть двора на уровне женской половины первого этажа была отгорожена от мужской рядами колючей проволочной ограды. Одним концом ограда примыкала перпендикулярно к дому, другим – к внешней ограде, которая, как и в Житомире, состояла из трех рядов колючей проволоки на высоких столбах с «кольцами Бруно» между рядами. Вышек не было.
Я продолжала думать о побеге и выясняла подробности. Часовые стояли снаружи под «грибами» – у деревянных столбов под деревянной же маленькой крышей. Ток через проволоку не пропускали, свет по ночам тоже не зажигали. Мне все это показалось обнадеживающим. Однако смена часовых проходила с овчарками. Это осложняло ситуацию.
Женщины в этом углу лагеря были разного возраста: от 20 до 50 лет. В большинстве своем они не были сильно истощенными и не казались больными. Хотя и тут кормили, как в Житомире, одной баландой из картофельных очисток и «хлебом» пополам с опилками. Вид у этих женщин был подавленный. Разговаривали друг с другом мало, с нами тоже.
Привезли нас в Славуту, небольшой украинский городок Хмельницкой области. В этом лагере оказалось двенадцать тысяч пленных. До войны тут, в десяти трехэтажных кирпичных домах и в городе, располагалась кавалерийская дивизия Красной армии. Теперь в домах и бывших конюшнях, а также в понастроенных бараках держали военнопленных. Меня, Раю и Женю привели в крайний десятый блок. Там, на первом этаже кирпичного трехэтажного дома, находились 50 пленных женщин. Это были врачи, фельдшера и медсестры. Наших, тех знакомых медсестер, среди них не было. Значит, их действительно увезли в Равенсбрюк, решили мы.
Половина этажа, занятая женщинами, была разделена фанерными перегородками на небольшие клетушки. В этих отсеках помещались всего два деревянных двухэтажных топчана.
Так же, как в Житомире, без постелей. Столик, он же шкафчик для четырех котелков, и табурет завершали обстановку. В конце коридора была дверь во двор и лестница на второй этаж. Только на втором этаже, где жили мужчины, дверь с лестницы была намертво забита.
Часть двора на уровне женской половины первого этажа была отгорожена от мужской рядами колючей проволочной ограды. Одним концом ограда примыкала перпендикулярно к дому, другим – к внешней ограде, которая, как и в Житомире, состояла из трех рядов колючей проволоки на высоких столбах с «кольцами Бруно» между рядами. Вышек не было.
Я продолжала думать о побеге и выясняла подробности. Часовые стояли снаружи под «грибами» – у деревянных столбов под деревянной же маленькой крышей. Ток через проволоку не пропускали, свет по ночам тоже не зажигали. Мне все это показалось обнадеживающим. Однако смена часовых проходила с овчарками. Это осложняло ситуацию.
Женщины в этом углу лагеря были разного возраста: от 20 до 50 лет. В большинстве своем они не были сильно истощенными и не казались больными. Хотя и тут кормили, как в Житомире, одной баландой из картофельных очисток и «хлебом» пополам с опилками. Вид у этих женщин был подавленный. Разговаривали друг с другом мало, с нами тоже.
 Концлагерь в г. Славута
Концлагерь в г. Славута
 Здание концлагеря в г. Славута
Здание концлагеря в г. Славута
Почти все мужчины из Житомира попали в соседние с нами блоки. Многие – в 10-й. Мы – Рая, Женя и я – вскоре увидели своих друзей через внутреннюю проволочную ограду. К ней подошли Толя, Шалико, Митрич, Кручинин и другие «житомирцы». – Ну как, девчонки, живы? – Живы-живы, а что у вас? – Все то же самое. Только больных, кому повезет, переводят в городскую больницу. Остальных хоронят рядом с лагерем. – А что за город? – Славута-то? Ничего особенного. Полицаи говорят, городок небольшой. Кругом леса да болота. Глухомань. – И все же, расстреляли в Славуте всех. Жили тут в основном евреи. – С ними расстреляли и остальных. Теперь в домах живут немцы славутского гарнизона и народ из окрестных деревень. Деревни немцы тоже с землей сравняли в 1941 году. – Я смотрю, вы тут все разузнали, – не удержалась я, – а побеги из лагеря были? – Опять за свое? – вдруг тихо сказал всегда молчавший Шалико. – Мало тебе было в Житомире? Я промолчала. Толя тоже был недоволен. – Подожди, Этери. Ну, зачем сразу такие вопросы? Мы еще никого не знаем. Обживемся, осмотримся… Но ни обжиться, ни осмотреться ни ему, ни моим подружкам не пришлось. Через несколько дней с группой врачей и фельдшеров Толю, Раю и Женю отправили в Киев. Толя успел перед отъездом рассказать мне, что ему удалось узнать от полицаев. Под Киевом идут напряженные, кровопролитные бои. С немцами рядом сражаются против наших власовцы. Потери огромные. Немецкие врачи не хотят оказывать помощь власовцам – своих не успевают обслуживать. И вот решили послать пленных врачей для раненых власовцев. Когда двое врачей стали отказываться, им предложили выбор: или фронт, или расстрел! – Приходится ехать, – сказал на прощание Толя. – Уж мы их «полечим», подлецов! Знаешь, Этери, я не так уж и переживаю этот перевод. Мне почему-то кажется, что под Киевом легче будет добраться до наших. А ты держись, зря не рискуй. Наши наступают – скоро войне конец! Побереги себя. Мы пожали друг другу руки через проволоку. Он исчез для меня, как и Головко-Брельский, навсегда. С Раей и Женей расставание тоже было тяжелым. Девчонки плакали, да и я не могла удержаться от слез. Обнялись, как перед смертью. Для Раи так оно и оказалось. Сколько горя, милая Элиана, может вынести человек?! Вскоре Митрича и остальных житомирцев перевели в другие блоки, а затем, по слухам, с очередным эшелоном отправили на запад. «Вот я и осталась одна», – подумала я с тоской, хотя рядом все еще были Шалико и Кручинин. Все оценивала с точки зрения возможности побега. Шалико продолжал избегать меня. У Кручинина болели ноги, он едва ходил. Оба они редко выходили во двор. Я в эти дни все время проводила у внутренней проволочной ограды. Май был солнечным и теплым. Можно было весь день находиться на плацу. И я ходила, ходила, как волк в клетке, взад-вперед перед оградой, вглядываясь в пленных на мужской половине. Кто? Кто из них решится на побег? Как убедить бежать через проволочную ограду? Ведь по-другому тут уйти не удастся! И как бы не нарваться на каких-нибудь здешних «Белова» и «Корбута», которые продадут за буханку хлеба! Со мной охотно знакомились, разговаривали через ограду. Многие называли меня партизанкой. Ох уж эти постоянные сплетни! Расспрашивали про подкоп в Житомире – и об этом тут уже знали! Постепенно образовались ежедневные собеседники. Я была настолько сосредоточена на своих поисках и мыслях о побеге, что почти не общалась с остальными женщинами. И знаешь, почти никого из них не помню, кроме одной, но о ней пойдет речь позже. Я была уверена, что никто из них не согласится на побег, да еще через проволоку, поэтому они меня тогда не интересовали. Еще и потому, что обнаружила причину относительно благополучного внешнего вида многих из них. Однажды ночью я проснулась и вышла по нужде в коридор, где в углу стояли параши. Еще не дойдя до цели, я услышала в темноте приглушенные голоса, тихий смех. Кто-то прошел рядом, задев меня, и извинился. По голосу я поняла – мужчина. Это открытие меня потрясло! Я вспомнила котелки с баландой под нарами в Житомире. Значит, и здесь то же самое, такие же «гости»?! Но как они сюда попадают? Ведь и тут после вечернего аппеля дверь во двор запирали на замок. Немцы с собаками обходили здание перед тем, как удалиться. И что же? «Гости» все-таки появлялись, несмотря на замки? Загадка. Эту загадку вскоре мне объяснила соседка по нашей клетушке. Надо тебе сказать, что рядом со мной, на соседнем топчане внизу, спала немолодая женщина Клавдия Никитична Голуб. Она-то мне и сказала: – Когда ты ночью выходишь, будь осторожна. Иди по стенке. Там в коридоре есть люк. Он ведет к трубам парового отопления. Ночью этот люк бывает открыт, можно упасть и повредить ноги. Днем посмотри, где он находится, и запомни это место. – Зачем же его ночью открывают? – удивилась я. – Зачем? Через него сюда с мужской половины гости ходят. Ты никого в темноте не встречала? У себя они такой же люк открывают и под полом приползают сюда. Я не стала задавать вопросы зачем, да кто, да к кому. К горлу подкатил горький комок: я вспомнила девчонок там, у нас, и заставила себя не думать об этом славутском продолжении той истории. В нашем отсеке ночью все спали, никто не выходил на ночные встречи, и я перестала обращать на все это внимание. Для себя же сделала вывод – такие не побегут. Одни, как мои соседки, очень слабы, другие надеются голод пережить. С ними каши не сваришь! Буду опять искать попутчиков у соседей. Вскоре мне показалось, что я нашла подходящих людей. Это были два друга: врач Николай Голубев и фельдшер Александр Поляница. Мы подробно обсудили мой план, и они почти согласились с ним. Однако время шло, а Николай и Саша никак не могли решиться. Тогда я продолжила поиски, но никого, кто бы внушал доверие, не находила. Однажды ко мне подошел молодой незнакомый пленный и представился: – Володя Кунин. Здравствуй. Это ты собираешься бежать? – Кто тебе сказал, Кунин? – Да все говорят. – Это кто же – все? Немцы тоже? – Ну, зачем немцы. У нас своя компания. Николай, Сашка, еще кое-кто. – Вот трепачи! – Нет, ты скажи, это правда? Давай обсудим. Выхода не было. Я подозвала своих новых друзей. Отругала Николая и Сашу, но, поскольку они, оправдываясь, подтвердили, что Кунин – «свой парень в доску», я начала обсуждать эту тему и с ним. Через день-другой Володя сказал, что говорить во дворе о таких вещах опасно, и надо бы встретиться в более надежном месте. Например, на женской половине после поверки. – Ну, хотя бы на лестнице, что ведет на второй этаж.

Там, когда еще светло, никого не бывает. Александр Поляница, 1939 г. – А ты откуда знаешь? – Ребята рассказывали. – Это которые в гости ходят? – Ну ходят, и что? – Ничего. Дураки эти твои ребята, вот и все. Сдохнут от таких походов скоро с голоду. Кунин пожал плечами. В этот же вечер он появился у нас на лестничной клетке. – Первое, – деловито начал Володя. – Куда бежим? Ты подумала о том, что не успеем мы отойти от лагеря, как нас схватят и по кусочкам развесят на ограде в назидание всем остальным? – Так уж и развесили! Я знаю, как найти партизан, – соврала я, понимая, что и этот колеблется. – Ты кем был до войны, что такой умный? – Учителем истории в школе. – Где? – На Волге, в Горьком[23]. Какое это имеет отношение к делу? – А такое, что если ты такой образованный и умный, что же ты тут второй год сидишь и ничего лучшего не придумал, как лазить к девкам на свидания? – Это я-то на свидания?! – А то нет! Сразу собрался по знакомой дорожке. Пугать меня решил: «опасно разговаривать во дворе», «по кусочкам развесят»… Ну и сиди тут, пока в Германию не отправят! – Видимо, я была не далека от истины. – Ну, не злись, не кипятись… я же люблю тебя, – он накинулся на меня, прижал к стенке и начал целовать! У меня потемнело в глазах! Я тут же сбила его с ног приемом самбо. Сил особых прикладывать не пришлось. Стена была мне опорой, а Кунин никак такого афронта не ожидал и грохнулся со ступенек, хорошенько ударившись спиной и головой об пол. Не сразу поднявшись, он молча смотрел на меня снизу вверх, потом медленно встал и, держась за стену, пошел в коридор. У двери обернулся. – Я все равно люблю тебя и хочу. Я задыхалась от злости и обиды. За кого он меня принимает?! И это «свой парень в доску»?! Какая тут может быть любовь, скотина?! Вот и еще одна возможность побега потеряна! С кем теперь разговаривать? Я была в шоке и дня три старалась не выходить во двор, а выходя – не подходила к проволочной ограде и не смотрела в ту сторону. Наконец, случайно увидела Голубева и Поленицу, которые давно уже делали мне знаки, чтобы я подошла. – Что случилось, Этери? Ты где? Почему не выходишь? Болеешь? – Спросите у вашего Кунина. – Что случилось? У него, похоже, сотрясение мозга. – Мозга? Сотрясение совести у этого подлеца. Слышать о нем не хочу. А вы? Все еще собираетесь? – не дожидаясь ответа, я ушла в дом и опять дня два ни с кем из них не разговаривала. Однако прятаться и бездействовать дальше не могла. Надо было как-то выходить из положения. Увидев меня, Николай стал рассказывать, что Кунин поправился и очень переживает нашу ссору, раскаивается, готовит все необходимое для побега. Даже достал железные накладки, чтобы разрезать проволоку. – Какие еще накладки? – Те полоски, которыми скрепляют рельсы на железных дорогах. В них есть дырки, и он надеется сделать из этих накладок пару ножниц. На заднем дворе всякий хлам валяется, он и подобрал. – Все равно он подлец, и вы его не защищайте. – А ты не думаешь, что он в самом деле мог в тебя влюбиться? – Как вам не стыдно, Коля! Разве влюбленные накидываются на своих девушек по подъездам?! Я знаю, что такое настоящая любовь. В Москве меня ждет парень, которого я люблю. Мы с ним за три года только один раз поцеловались, прощаясь! Хотя все то время по-настоящему любили друг друга. А тут? Никогда, никогда не оправдывайте его и не унижайте понятие «любовь»! В самом деле, Элиана, как можно было поверить, что этот молодой двадцатисемилетний учитель мог в меня влюбиться? Во-первых, такая агрессивная выходка говорила совсем не о любви. А во-вторых, ты бы видела тогда меня! Я была тогда без волос, с распухшими, кровоточащими от цинги деснами, в уголках губ все время скапливалась кровь. Из-за гайморита рот не закрывался – носом дышать не могла. Такая худая, что платье на мне болталось, как на вешалке, а безволосая голова на тонкой шее казалась непомерно большой, как котелок. Под глазами синяки доходили до самых опавших щек. Ну во что тут было влюбляться? Я уж не говорю о самом месте для романа! Ну, стыдоба, и все тут! Однако Кунин не унимался. Снова и снова он поджидал меня у проволоки. Как я ни избегала его, он умудрялся все время торчать у меня перед носом. Из-за этого я не могла ни с кем разговаривать, он тут же возникал и пытался участвовать в беседе. Пришлось отчитать его при Коле Голубеве. Он слушал молча. Под конец я решительно заявила: – Не смей ко мне подходить. Никогда. Не хочу тебя видеть, понял? Коля, объясни ему в конце концов! – и ушла в дом. С этого дня Кунин исчез. Я его не видела во дворе даже издалека. По словам Николая, он лежал на нарах и перестал готовиться к побегу. – Без нее я никуда не пойду, – сказал он Голубеву. – Придется уходить без него, – пришел к выводу Коля. – Только надо подождать немного. Все-таки уход через проволоку – это какая-то нереальная затея. Ты посмотри, сколько проволок пришлось бы разрезать… Мы ищем другой вариант. Не будем торопиться. «Не будем торопиться» для меня означало «не пойдем вообще». Что делать?! Я заметалась. Больше не на кого было надеяться, не с кем было говорить. Я перезнакомилась на их половине со всеми. Как быть? От безысходности решила прикинуться овечкой. – Позови, пожалуйста, Володю, – сказала как-то я Полянице, который не очень вникал в наши с Володей отношения. Он был сосредоточен на «другом варианте» и целиком погрузился, на мой взгляд, в бессмысленные поиски. Володя, видимо, не поверил своим ушам. Он подошел к «колючке», за которой я ждала, вместе с Сашей Поляницей. – У меня к тебе трудный разговор, Володя, – грустно сказала я. – Деликатный. Поляница тут же отошел. – Ты должен меня понять. Я не привыкла к таким отношениям, на которые ты меня толкал… – Я больше не буду, – торопливо перебил меня Володя. – Я много думал. Давай помиримся, и все будет, как ты захочешь. Я тебя понял и никогда не напомню тебе о моих чувствах, только прости меня. – Ты тоже прости меня за грубость. Давай разберемся в наших отношениях. Мы встречались у проволоки всего два дня. И Кунин поверил! Поверил мне, когда я врала ему, что он меня глубоко тронул своими переживаниями. Что я сама к нему не равнодушна, но из-за девичьей робости не могла вести себя иначе, что я бы реагировала по-другому, если бы… «но не под немцами же! Не на костях же товарищей! Когда будем на воле, другое дело. Тогда – да». Потом я все время говорила о партизанах, о том, что знаю, где их можно найти. Окрыленный Кунин развил бурную деятельность. Скрепил, наконец, ножницы, раздобыл где-то веревки для сигнализации о приближении часовых во время работы. Напоследок подобрал еще двоих надежных ребят, поскольку Голубев и Поляница окончательно передумали бежать с нами, уверяя, что почти нашли другой, более подходящий, вариант. Мы им слабо верили и готовились разрезать проволоку сами. Наконец, назначили ночь для ухода. Кунин преобразился. Зеленые глаза у него горели кошачьим блеском, кудри стояли дыбом, когда он сказал мне полушепотом: – Ждем тебя в клубе, как только стемнеет. «Клубом» у нас называли большую комнату размером около сорока квадратных метров, если не больше, на первом этаже нашего блока, рядом с женским отделением. От женщин дверь туда была забита, но в определенные дни в клуб пускали и нас – со двора, через калитку в проволочной ограде. Дело в том, что в славутском лагере немцы организовали «художественную самодеятельность». Нашли среди пленных людей, способных играть на разных музыкальных инструментах, и, как в насмешку, время от времени устраивали умиравшим от голода людям концерты, на которых присутствовали и некоторые из наших тюремщиков. Летом концерты проходили под открытым небом, а зимой – в клубе. Кое-кто из пленных, имевшие голос и силы, также пели. Участникам полагалась двойная порция баланды. В оркестре играл и Виктор Кручинин. Однажды полицаи разыскали среди пленных оперного певца и указали на него немцам. Пленный ни за что не соглашался петь. Тогда немец пригрозил его выпороть. Певец покорился. Но на концерте в клубе после одного-двух романсов под гитару он попросил некоторых музыкантов проаккомпанировать ему арию Игоря из оперы «Князь Игорь». Немного тихонько прорепетировали без слов, и он запел. Запел во весь свой прекрасный баритон: О дайте, дайте мне свободу, Я свой позор сумею искупить… И далее: Я Русь от недруга спасу! Он пел со слезами на глазах. Он протягивал руки к слушателям. От его голоса и слов мороз пробирал по коже. И пленные во время пения встали со скамеек. В глубоком волнении слушали стоя. Аплодисментов не было. Все стояли и молча смотрели на певца. Он закончил и, не двигаясь, тоже смотрел на нас. В тишине удивленные немцы спросили переводчика: «Что случилось? О чем он пел?» Переводчик объяснил. От их голосов пленные очнулись и стали садиться. Певца тут же вывели. Всем велели разойтись по своим местам. В тот же день его расстреляли. Мы так и не узнали его имени. С тех пор я никогда не ходила на оперу «Князь Игорь». И сейчас не могу слышать арию Игоря. Думаю, ты понимаешь меня, Элиана. Вот из этого-то клуба было решено выходить к ограде. Женская половина была в конце лагеря, на углу – «гриб» часового. Поэтому выбрали клуб, подальше от угла ограды. Ночью в этой пустой комнате, обычно запертой на ключ, можно было удобно, без свидетелей, расплести проволочную сетку на окне и незаметно спуститься на песок. Самое неприятное – ползти по песку к внешней ограде: песок в этих местах почти белый. Тут, в лагере, трава на дворе тоже была вся съедена, и часовой легко мог увидеть наши темные фигуры на светлом песке. Другое дело – у самой проволоки. Там, в недоступном для голодных пленных месте, росла, как в Житомире, густая травка. Ночью она казалась черной. Прижавшись к ней, мы сливались с черным пятном у ног часового, который, как правило, смотрел на белый песок вокруг домов, а не на почти черную в ночи траву возле себя под проволокой. Я стояла в темноте коридора и ждала, когда из люка перестанут вылезать «гости». Их было не так много, и я беспрепятственно спустилась к трубам. Наощупь ползла по ним, шероховатым и холодным, до тех пор, пока не услыхала над головой: – Стой. Подними руку, я помогу. Через минуту оказалась в темном клубе. Окно было готово к выходу, и мы, один за другим, спустились во двор. После темноты в клубе тут казалось светло. Стали подползать к ограде, как вдруг увидели вдалеке за оградой огоньки и услыхали лай собак, а затем и неясные голоса. – Назад… – прошептал Кунин. Мы поползли изо всех обратно и успели взобраться в открытое окно как раз в тот момент, когда огоньки фонариков оказались на уровне того места, где мы недавно лежали. Послышалась неразборчивая русская речь. – Что это? – Смена часовых. Лагерь охраняют казаки. – Как, и они?! – У них старые счеты с советской властью, – обернулся ко мне заплетавший проволоку на окне Володя. – Будет время, расскажу, как в гражданскую, по приказу Троцкого, почти всех казаков, не отступивших с белыми, уничтожали целыми селами. Людей до последнего младенца расстреливали, а села сжигали дотла. – Кто? – Спецотряды Красной армии во главе с комиссарами. – За что? – За то же, за что сейчас немцы расстреливают. За верность присяге, Родине. Казаки присягали царю и клятву свою держали. Я похолодела. Красная армия? Моя родная Красная армия?! Не может быть! Хотя Кунин историк, должен знать. Троцкий, троцкисты, они, конечно, все могли. Недаром все эти процессы против троцкистов… Спрашивать Кунина, да еще в присутствии двух незнакомых товарищей, не решилась. А они все трое продолжали стоять у окна и заделывать проволочную сетку. – Ты возвращайся к себе. Там у вас не ошибешься, – говорил Володя. – Трубы там кончаются. А мы проверим интервалы смены часовых. А то опять нарвемся. Попробуем завтра. Один из новых товарищей, его звали Степан, помог мне спуститься в люк. Несмотря на неудачу и перижитое волнение, я тут же крепко уснула на своем топчане. На следующую ночь мы опять проделали тот же путь к ограде – и снова неудача! На этот раз немцы, правда, без собак, проверяли посты. Мы едва успели вернуться и разойтись. На третью ночь мы собрались в «клубе», но не стали вылезать во двор. На небе вовсю светила луна! Белый песок почти сверкал под ее лучами. Третий раз я вернулась на свой топчан подавленная и озабоченная. Не сразу заметила, что Клавдия Никитична не спит. Она сидела на своем месте. В темноте шепотом позвала меня: – Этери. – Что случилось? – так же шепотом спросила я, – вам плохо? Чем помочь? Она пересела ко мне на топчан. – Очень надо поговорить. Утром перед поверкой не уходи сразу во двор. – Хорошо, хорошо Клавдия Никитична. Только вы меня разбудите пораньше, а то просплю. Она пересела на свое место, а я, как всегда, уснула. Утром я проснулась оттого, что Клавдия Никитична, сидя на моем топчане, гладила меня по плечу. В комнате никого не было. – Уже поверка? – испуганно спросила я, забыв наш ночной разговор. – Нет-нет. Все вышли, но еще есть время. Послушай, Этери, что я тебе скажу. Только не обижайся. Я вдвое старше тебя и хочу сказать тебе, как мать… Зачем ты эти ночи ходишь на мужскую половину? Ты себя так погубишь. Ты не похожа на наших тут. Ты умница, у тебя есть характер. Я давно наблюдаю за тобой, и сердце разрывается. Ты выбрала страшный путь. Война когда-нибудь кончится, не всю же жизнь она будет продолжаться. Подумай о себе. Что с тобой будет потом? Мужчины приходят сюда, но ни одна из женщин не унижается до того, чтобы ходить к ним! Доченька моя, остановись! Не ходи больше! Если тебе так сильно не хватает баланды, давай я тебе буду отливать половину своей. Мне и половины хватит. Я все равно болею и скоро умру. Послушай меня, не ходи туда больше. Она смотрела на меня с тревогой и жалостью. В глазах у нее стояли слезы. Предложение отдавать мне половину ее баланды, половину голодного пайка, меня окончательно сразило! Я не выдержала. Обняла ее. Мы молчали и плакали вместе. Раздался гонг на поверку. – Все не так, милая Клавдия Никитична, все не так. После поверки поговорим. Я торопливо бросилась во двор, где строились остальные женщины. Несколько женщин по болезни не были в строю. В том числе и Клавдии Никитичны. Я была взволнована, растрогана, смущена. Чем я заслужила такую доброту, такую заботу?! Весь день мы с ней ждали, когда нас оставят вдвоем. Наконец, перед вечерней поверкой, все опять вышли во двор, и я рассказала Клавдии Никитичне, зачем я в эти дни лазила по трубам. Она была в восторге. – Благослови тебя Боже, моя девочка! Я не ошиблась, ты не такая, как все! Какое счастье! Я благословляю тебя! Она целовала меня то в лоб, то в голову, гладила мне щеки. – Иди, будь спокойной и уверенной. У тебя получится! Бог сохранит тебя. Сердце меня не обмануло, девочка моя. Ты мне открыла свою тайну. Я тоже доверю тебе свою, чтобы ты ни минуты не сомневалась в том, что я тебя не предам. Ты должна уходить спокойной. – Что с вами, Клавдия Никитична? Что это вам в голову пришло? Если бы я в вас сомневалась, я бы… – Слушай меня и не перебивай. – Она оглянулась на дверь и тихо сказала мне прямо в ухо:
 Клара Израилевна Пещанская, бывшая военнопленная медсестра, 1940 г.
Клара Израилевна Пещанская, бывшая военнопленная медсестра, 1940 г.
– Я еврейка. Зовут меня Клара Израилевна. Меня спас украинский язык и непонятная внешность. Акцента тоже, как видишь, нет. Я себя выдала за украинку. Сама я из Киева, медсестра. Я онемела. Как же ей удалось спастись? Что же она тут пережила! Какие облавы и зверства, бедная, бедная Клара Израилевна! Мы молча обнялись. Я оставила ей адрес мамы. Мало ли, что там у нас с Куниным получится на проволоке. Так, на всякий случай.
 Тамара Лисициан, 1944 г.
Тамара Лисициан, 1944 г.
Глава 7 Побег
«И тут я… воспитанная под лозунгом "Бога нет!", вдруг, захлебываясь слезами и дождевыми струями… не переставая работать ножницами, почти вслепую шептала: "Господи! Если ты есть, помоги! Помоги не только мне, нам помоги! Спаси нас, спаси, если можно… помоги, помоги, пожалуйста…"»И у нас получилось! В эту же ночь. Было пасмурно. Мы, все четверо, благополучно подползли к проволоке. Я и Степан с концами двух веревок расползлись вдоль ограды в разные стороны. Другие концы веревок были привязаны: мой конец – к ноге Кости, а конец веревки Степана к ноге Володи. Костя и Володя вдвоем, лежа рядом на спине, начали разрезать проволоку ограды. Мы со Степаном внимательно следили за часовым. Когда он шел от Степана к работающим Володе и Косте, Степан дважды дергал за веревку, подавая сигнал об опасности. Те бросали работу и поворачивались лицом в траву, чтобы слиться с ней. Когда часовой доходил до меня, я дергала за веревку один раз, и Володя с Костей принимались за работу. Как только часовой начинал возвращаться обратно, я дергала за веревку дважды, и работа прекращалась до того момента, когда Степан одним рывком сообщал, что часовой снова на его стороне. К счастью, часовой ходил вдоль ограды не часто. Вечером набежали тучи. Ночь была душной, изредка гремел вдалеке гром. Прорезав ход в первом ряду ограды, условным тройным рывком Володя и Костя вызвали нас со Степаном на смену. Мы поменялись местами. Я и Степан, привязав к щиколоткам веревки, принялись за работу. Сердце у меня выскакивало из груди при каждом щелчке разрезанной проволоки! Эти щелчки казались выстрелами! Такие громкие щелчки, думала я, легко мог услышать часовой! Только мы приспособились и начали довольно быстро щелкать ножницами, как первые крупные капли дождя стали падать нам на лицо. Мы ведь лежали спиной на земле и резали проволоку над собой лицом к небу. Еще немного, и пойдет дождь. Гром катался по небу уже над нами. И тут я, никогда не входившая в церковь, воспитанная под лозунгом «Бога нет!», почему-то вдруг всем сердцем, всеми моими костями и жилами взмолилась, взмолилась, отчаянно захлебываясь слезами и дождевыми струями, бившими в лицо. Не переставая работать ножницами, почти вслепую шептала: «Господи! Если ты есть, помоги! Помоги не только мне, нам помоги! Спаси нас, спаси, если можно… помоги, помоги, пожалуйста…» Эти мысли прервали рывки веревки – Володя требовал смену. Дождь уже лил стеной. Лежа лицом кверху, невозможно было дышать. Заливало рот, нос, глаза, уши. Настоящий тропический ливень! Я такой ливень видела только у нас на Кавказе, в Батуми, у Черного моря! Мы расползались по потокам воды, под шум дождя, колотившего листья и ветки, окружавших лагерь, высоких деревьев. Часовой замер под своим «грибком». Прошло еще какое-то время, и мелкие частые рывки веревки позвали нас: «На выход!». Я вползла в узкий проход между разрезанными и загнутыми проволоками по воде, по мокрой траве, под шум дождя, и сразу же зацепилась косынкой за проволоку. Сзади полз, тяжело дыша, Степан. Костя и Володя уже выползли. Их не было видно. Подергав косынку, я поняла, что она крепко держится, и я теряю главные секунды нашей со Степаном жизни. Бросив конец косынки, я поползла вперед. Вот, вытянув руки, я ладонями оперлась о твердую протоптанную тропинку часового. Не прекращая вытягивать тело из проволочной норы, посмотрела вправо. Сквозь дымку ливня увидела под «грибком» фигуру часового. Еще несколько «шагов» локтями, и я почувствовала на лице колючие, мокрые ветки молодой посадки елочек. Нырнула в них. Как договорились, после того, как я проползла под елочками примерно метров сто и, слыша за собой дыхание и легкий треск веток (ох, уж этот медведь Степан, не может потише!), поняла, что настал момент поворачивать. Дождалась Степана, и мы свернули вправо, огибая черный в ночи, огромный, как нам казалось, 10-й корпус славутского лагеря «Шталаг 301». Вскоре мы встали на ноги и быстро пошли к темному лесу. Слева от нас не очень далеко мелькали между деревьями освещенные окна домов. Несмотря на поздний час, звучала музыка, что-то вроде фокстрота. Должно быть, патефон. В стороне слева увидели водонапорную башню. Ее было видно днем и из лагеря. Кустарник, посадки, высокие деревья кончились. Тут нас ждали Володя и Костя. Перед намиоткрылась большая поляна, впереди за ней – тот самый лес и болота, о которых полицаи говорили «глухомань». Дождь внезапно прекратился. Мы шли по мокрой траве, иногда оглядываясь на отстающие от нас черные в ночи длинные блоки ненавистного концлагеря. Случайно взглянув на небо, мы были поражены. Ни единой тучки! Луна уже зашла за лес, и над нами переливались крупные и мелкие звезды на темно-синем небе, от которого я, за одиннадцать месяцев плена, совсем отвыкла. Пахло полынью и еще какими-то травами. Мокрое насквозь платье цеплялось за ноги. Шинели мы оставили в лагере, чтоб не мешали вылезать из ограды. Было и радостно, и страшно. «А чего, собственно, бояться, – подумала я, – лес рядом, по такой мокрой траве ни одна собака нас не учует». Ни с чем не сравнимое чувство свободы, эйфория счастья наполняли меня с каждым шагом все больше и больше. Мы вошли в лес. Совсем скоро споткнулись о рельсы железной дороги. Перешли через нее и попали в чащу деревьев, кустов, бурелома. Под ногами хлюпала вода, нами всерьез занялись комары. Лес. Мы шли довольно долго, пока не выбились из сил. Занялся рассвет. Нашли на болоте островок, как нам показалось, надежный, и в изнеможении повалились спать. Проспали почти весь день. Проснулись от нестерпимого голода. Вокруг не было ничего съестного. Одна земляника, зато какая крупная! Целые поля земляники. Ляжешь на землю, а под травой и зелеными листьями красным-красно! Попадались сыроежки, но ели и траву, горьковатый зверобой, мяту… А я следила за солнцем. Позже – за звездами. Надо было идти на северо-восток. Я была уверена, что там были партизанские районы. О том, что я не знаю, где находятся партизаны, и куда нам следует двигаться, мои спутники пока не подозревали. Я вела их на северо-восток по звездам и солнцу. Мы шли уже трое суток. Днем спали, вечером и ночью шли. Спать решили подальше друг от друга. Поодиночке, чтобы в случае погони не оказаться всем вместе в ловушке. С каждым днем дорога нам давалась все трудней. Исцарапанные кустами, искусанные комарами и вшами, в болотной тине и грязи, мы медленно брели по лесу. Часто останавливались. Лежа на земле, собирали и ели землянику, которая в тех местах спела целыми полянами. По всей вероятности, она-то нас и спасла. Так посчитала Юлия Ипполитовна Солнцева, когда через много лет узнала о нашем побеге. Лет через тридцать после войны, разговаривая на «Мосфильме» со старой, умной Юлией Ипполитовной Солнцевой, одной из ведущих режиссеров студии, я с удивлением узнала тайну ее бодрости и красоты. Она меня любила и часто приглашала к себе, как она выражалась, «покалякать». Я была преисполнена почтением и восхищением ее мужем, кинорежиссером-романтиком Александром Петровичем Довженко. Вместе с тем мне очень нравился живой ум, несгибаемый, предприимчивый характер Юлии Ипполитовны, которой после смерти Довженко удалось осуществить его замыслы и сценарии в известных всей стране фильмах. Когда, как-то к слову, я рассказала ей, как мы добирались до партизан в непроходимых тогда лесах Славутчины, она уверенно сказала: – Вас спасла земляника. Только немногие знали раньше, а ученые заговорили лишь теперь о том, что земляника – сильнейший биостимулятор. Она содержит в себе не только много витаминов, но и большое количество других необходимых человеку микроэлементов. Каждое лето, в сезон земляники, вы должны съедать не меньше 10 чайных стаканов этой чудесной ягоды и делать «маски» из раздавленных ягод. Я всегда так делаю. Посмотрите на меня! Юлия Ипполитовна сохранила и в старости прекрасный цвет лица, бодрость и ясную память. Дожила она до 90 лет. Такова тайная сила земляники. В конце июня 1943 года земляника была нашей единственной пищей на пути сквозь глухие, сумрачные леса и болота. Опасаясь погони, мы обходили деревни и населенные места по краям леса. Крик петуха или лай собаки заставляли нас уходить поглубже в лес. Поэтому мы не могли достать себе какую-нибудь другую еду. И все же еще двигались вперед.

На рассвете четвертого дня мы с Володей опять поссорились. Только я успела наломать зеленых веток, чтобы устроить себе постель возле густого колючего кустарника, как с другой стороны небольшого холмика, который ограждал меня от остального леса, послышались шаги. Это был Володя. Партизанская землянка Улыбаясь, он подошел ко мне и вдруг, обняв, молча повалил на приготовленные мной для сна ветки. От неожиданности я на мгновение растерялась и даже испугалась. Но как только почувствовала на себе его тяжесть и услышала шепот: «Мы на свободе, ты теперь моя, навсегда, моя…» – пришла в такую ярость, что, не помня себя, укусила его изо всех сил в шею. От боли он приподнялся, схватившись рукой за укушенное место. Этого момента мне было достаточно, чтобы применить самбо. В два-три приема я отбросила его. В глазах у меня потемнело, и я со всего размаха ударила лежавшего на земле Володю сапогом между ног. Его крик и матерную ругань услыхали наши спутники. Пока он, скрючившись, валялся на земле, я схватила здоровенную сухую ветку без листьев и приготовилась к обороне. В этот момент из-за холма показались Костя и Степан. – Что случилось? Вы чего? – Володя, все еще лежа, скрючившись на земле, и ругаясь при каждом слове, объявил им, что я его обманула и чуть не убила. – Я тебя, – задыхаясь от боли, обратился он ко мне, – на свободу, б…ь, вывел! Жизнью рисковал! А ты (опять мат) все врала?! В благодарность искалечить решила! – опять мат! – Если это будет продолжаться, – перебила я его, постепенно приходя в себя, – я от вас уйду. Сами ищите партизан, черт бы вас побрал! Зачем, зачем я так сказала?! Никогда, никогда нельзя произносить вслух да, еще в гневе, такие слова! Я как будто прокляла их! Вскоре все трое погибли. Но в тот момент я об этом не думала. Я была зла и обижена. – Если бы не я, никто из вас не тронулся бы из лагеря. Так бы и сгнили там, герои! Это я вас вытащила! Да, обманула. Ну и что? Зато вылезли на волю! А ты, – обратилась я к Володе, – заткнись! Без «приманки» не хотел с нар слезать! Если бы я тебя не подцепила на обещания, быть тебе в Германии, в какой-нибудь печке или газовой камере! И ты еще говоришь о благодарности? Матом ругаешься, а еще учитель! Стыдись! Теперь вот что: не нужны мне ни ваши благодарности, ни матерная брань, ни упреки. Или он оставит меня в покое, или я уйду, – ткнула я сухой веткой в сторону Володи. Мужики мои за эти дни здорово ослабели и устали. Несомненно, они боялись заблудиться в этих лесах и болотах. Им совсем не хотелось терять меня. Они все еще верили, глядя на мой решительный вид, что я веду их к партизанам. Я была в это время их надеждой, если не опорой, и они приняли мою сторону. Володе ничего не оставалось, как угомониться. Но через сутки, на утро пятого дня, они не выдержали. – Ну, так где же все-таки партизаны? – спросил Костя. – Или тоже наврала? – Вот еще! – ответила я. – Должны были быть где-то здесь. Они на месте не сидят. Переходят из района в район. Вдруг вдалеке надрывно заплакал ребенок. – Проклятая девка! – вскинулся все еще прихрамывающий Володя. – «Должны», «где-то», «переходят»! Врет все! Давай, шагай туда, – махнул он в сторону плачущего ребенка, – узнай, где мы, где немцы? Где партизаны? Не узнаешь, не взыщи! Аплодисментов не будет! «Вот дурак, – думала я, – еще и угрожает. Так ведь я и насовсем могу уйти. Хотя эти двое не виноваты. Надо довести дело до конца». Вслух сказала: – Ладно, пойду. И пошла в ту сторону, где вдалеке все еще плакал какой-то малыш. Всхлипывания ребенка и голос женщины, утешавшей его, привели меня к опушке леса. Рядом с последними соснами стоял небольшой дом, окруженный плетнем. Как позже выяснилось, принадлежал он леснику. От дома начиналась широкая тропа через большую поляну. Правее был виден участок с колосившейся рожью, далее деревушка, а за ней – опять лес. Я зашагала к дому. Ребенок больше не плакал. Обойдя дом, я увидела женщину, которая стирала в корыте белье. Часть белья уже сушилась на веревке на солнце. Двое маленьких белобрысых детишек играли у ног матери с какими-то щепками, макая их в ведро с водой. Больше никого не было видно ни вокруг, ни в открытой двери хаты. Я прошла через плетеную калитку, подошла ближе. – Добрый день. Женщина перестала стирать и с удивлением уставилась на меня. Ребятишки тоже подняли головы. – Добрый дэнь, добри, – сказала, наконец, женщина – Заходьтэ… женщина. – Дайте мне, пожалуйста, воды попить. Зараз, зараз, – и она бросилась в хату. Малыши заковыляли ко мне со своими щепочками. Хозяйка вынесла алюминиевую кружку воды Я взяла кружку, отпила. Присматриваясь к миловидной женщине, спросила: – А молока не найдется? Женщина вдруг расплакалась: – Чого ж ти мэни видразу нэ казала? Бачу, бачу, чого тоби треба! Прокляти нимци! – она выхватила у меня кружку и скрылась в хате. Я никогда раньше не слышала украинского. Почему-то этот язык мне сразу понравился, даже растрогал своей похожестью на русский. Такой родной, понятный. – А ты титка, чи дядько? – вдруг спросил малыш у моих ног. – Тетка, тетка я. – А чого лыса? Я провела рукой по «лысой» голове, не зная, что сказать ребенку. Хозяйка подала мне кружку молока. Вытирая концом головного платка слезы, смотрела, как я пью. Какое молоко я пила! В жизни никогда больше я не пила молоко с таким наслаждением! Все во мне дрожало от удовольствия и радости. В эти минуты молоко было для меня окончательным подтверждением возвращения к своим, к свободе. – Я знаю, кого ты шукаешь, – сказала женщина, отогнав любопытных малышей к корыту. – Почекай тут, скоро мий сын повернэться, вин видведе тэбэ до партизан. – А немцы там есть? – кивнула я на деревеньку. – Нема, ни нимец, ни мадьяр, до нас не ходять. – А вы украинка? – Чоловик у меня россиянин, а я украинка по матеры, полька по батьку. Кохановские мы, а ты? – Я, Тамара, грузинка, – почему-то не сказала всю правду. – А я Лида. От деревни шел к нам по тропе мальчик лет двенадцати. – А он и Коля, – сказала Кохановская. Коля вошел в калитку и, не здороваясь, спросил мать: – Кто это? – мальчик, кажется, говорил по-русски. – Тамара, шукае партизан, – Коля молча оглядел меня и вошел в дом. Я села на обрубок дерева и стала ждать. Коля вошел в дом в лохмотьях с торбой через плечо, с рваной шапчонкой на лохматой голове. Ни дать ни взять – нищий беспризорник. Через полчаса на пороге появился вымытый причесанный паренек в белой рубашке, серых выглаженных брюках, в кожаных полуботинках. – Ты одна? – спросил меня строго. – Нет. Еще трое мужиков. – Я должен на них посмотреть, – заявил Коля. Мы с ним пошли в лес. Беглецы сидели на прежнем месте. Коля, как взрослый, очень серьезно поговорил с ними, потом решительно приказал: – Идите в нашу хату. Ждите там. Я приведу, кого надо. Мы вместе вышли из леса. Оказалось, что мы дошли до Житомирской области. Точнее, до ее Барановского района. Лида ждала нас у калитки. Детей не было – видимо, заперла в хате. – Хлеба, пожалуйста, – сразу же попросил Костя. – Хоть сколько-нибудь. Лида ушла в хату. Коля с помощью Степана стал устанавливать деревянную лестницу под окно чердака. Костя и Володя сели на землю в ожидании Лиды. Вскоре она вышла с кастрюлей, придерживая деревянные миски в фартуке. Раздавая миски, сказала: – Пийтэ отвар, вин тэплий. Пробачите, хлиба зараз нэ дам. Писля голоду – помрэтэ вид хлиба. Пийтэ, вин мнений. Потим дам хлиба з собою. Мы выпили всю кастрюлю бульона и мужчины полезли на чердак, а меня Лида взяла за руку. – Почекай. Дай я тебэ помыю. – А муж твой где? – Вин поихав за силью. За хатой, на огороде, я разделась, и Лида вымыла меня теплой водой с мылом. Все царапины, порезы еще от лагерной проволоки, растертые ноги горели от мыла огнем. Лида смазала их какой-то мазью из трав, и они успокоились. – Ты никак знахарка?
 Партизанская связная, бывшая лесничиха в Житомирской обл. Украины Лидия Кохановская. 1974 г.
Партизанская связная, бывшая лесничиха в Житомирской обл. Украины Лидия Кохановская. 1974 г.
– Там у Солянки, е знахарка, – кивнула она в сторону деревни. – Уси хворобы травами ликуе. А я шо! Так… Одягайся. – И подала мне мужские черные трусы, синюю рубаху и просторную, темную, в белый цветочек юбку на резинке. – Свое нэ чипай! Зараза якась. Ось на ногы – подала она мне тряпки вроде портянок. – Замотатай – и в лапти. А хустку на голову – цэ тоби мий подарунок. Носы, Лидку помятай. Платок был серый, с голубыми цветами. В таком виде я полезла на чердак. Там было жарко, душно, пахло сеном. Спутники мои храпели вовсю. Отключилась и я. Проснулась от негромких голосов и скрипа лестницы. На фоне рассветного неба в чердачном окне появилась по пояс фигура человека в черной кожанке с портупеей на груди. Лица не было видно, свет бил ему в спину. На фуражке заметила алую ленту. За ним появилась еще одна голова в черной полу-папахе и тоже с алой лентой наискосок.
 Партизаны минируют железную дорогу
Партизаны минируют железную дорогу
Глава 8 Партизаны
«Без оружия я вас в отряд доставить не могу. Надо будет разоружить мадьяр, обходчиков на "железке". А тогда двинем в отряд».– А ну, кто тут ищет партизан?! – громко крикнул первый в кожанке, всматриваясь в темноту чердака. Я стала трясти спавших мертвым сном спутников, радостно повторяя: – Вставайте, вставайте! Партизаны! Партизаны! Да, это были они. В кожанке – молодой коренастый командир подрывной группы Шурка Майоров. Так он сам представился, пожимая нам руки. Его заместитель – высокий худой парень Митька Арбузов, Гриша Власюк, чуть выше и постарше Майорова, Коля Калюжинский, мальчишка лет четырнадцати. В солдатской гимнастерке – большой, грузный Толя Цапченко. Самый старый, с сединой, – Поплавский, лет было ему тогда около сорока. Еще двое – Гриша Лопатюк и Лаврик Герасимчук, чистили винтовки. Всего восемь человек. Во дворе у плетня стояла телега, устланная сеном. Лошади, привязанные к плетню, жевали сено из телеги. Возле хаты стояли два больших алюминиевых бидона из-под молока с открытыми крышками. Гриша Власюк протянул нам алюминиевые кружки: – А ну, налетай! Тут сметана! Мы пили райский нектар с жадностью. Остановиться было трудно, почти невозможно! Шурка тем временем объяснял ситуацию. Так и сказал – «ситуацию»… – Без оружия я вас в отряд доставить не могу. Надо будет разоружить мадьяр, обходчиков на «железке». А тогда двинем в отряд. – Какой он, отряд-то? – спросил Костя. – Как называется? – оторвался от сметаны Володя. – Отряд имени Хрущева. Мы в соединении Маликова. Там все больше местные колхозники. Есть и городских немного, и другие, беглые, вроде вас – из плена. Только отряд отсюда далеко, дня два пути. А мы, моя группа, подрывники, да не только подрываем, обвел он рукой своих товарищей. – И воюем тоже. По ко-о-ням! – скомандовал Шурка. Двое подрывников, Гриша и Лаврик, уже запрягли лошадей в телегу. Мы обнялись с Лидой и ее суровым на вид сыном Колей. – Нэ ображайся, я твое сукню з вошами зпалыла, – шепнула мне Лида. – А чоботы я помыла и поклала у сино. Там воны у тэбэ, – я поняла, что мое «музейное» платье из английской шинели «з вошами» сгорело и отныне ходить мне в ее пестрой юбке. Мы расцеловались и выехали со двора.
 Группа партизанского отряда имени Хрущева Соединения имени Щорса. Второй справа: Григорий Власюк, 1943 г.
Группа партизанского отряда имени Хрущева Соединения имени Щорса. Второй справа: Григорий Власюк, 1943 г.
Мимо Солянки проехали в дальний лес. Телегу трясло, но лес был редкий, и двигались мы быстро. Толя Цапченко тренькал на своей балалайке. Автомат лежал у него в ногах. Остальные шестеро на конях были вооружены кто автоматом, кто винтовкой. За возницу был Власюк, тоже с винтовкой, как и Калюжинский. Конь Власюка был привязан к телеге сзади и бежал за нами на скрученных вместе поводьях. У некоторых подрывников я заметила на поясе гранаты. Всю дорогу добродушный Цапченко тренькал на балалайке и тихонько что-то напевал, а я думала о тех, кто остался в лагере. Что стоило им уйти с нами?! Голубев, Поляница… они же знали. Перед уходом, после разговора с Клавдией Никитичной, я подозвала к проволоке Шалико: – Шалико, я ухожу. Пойдешь со мной? – Ты что, совсем с ума сошла? Гижи хар?[24]– возмутился Шалико. – Что я должен твоей маме сказать? Что тебя тут убили? – Ты лучше скажи, что я должна твоей маме сказать? Что ты остался и с голоду умер? Мы разошлись, очень недовольные друг другом. О чем он думает теперь? Телега остановилась. Все сошли с лошадей, привязали их к телеге. Шурка поднял с земли какой-то сухой прут. – Значит так, – сказал он. – Тут проходит проселочная дорога. – Майоров провел по песку линию. – Хорошая дорога. Два километра направо – и мы на станции Радулино, – кружок в конце линии. – Там мадьяры. От Радулино идет железная дорога, – еще одна линия, наискосок, под углом к первой. – Между «железкой» и проселочной дорогой в этом треугольнике лес. Небольшой лес. Мадьяры пойдут от Радулино через лес по «железке» к Мирославлю – Шурка ткнул веткой в кружок. – Мы их встретим тут, – он начертил на линии железной дороги крестик. – У нас за спиной будет лесок и проселочная дорога. На обратном пути надо быстро перейти ее и лес и вернуться сюда, к телеге. Иначе они пошлют погоню: по «железке» – дрезину, по проселочной – машины, и мы в «мешке» между двух дорог. Путь отрезан. Направо станция, налево – чистое поле до Мирославля. Ясно? Взяли у мадьяр оружие и – одна нога здесь, другая там! Все поняли? Пошли! Ты остаешься при конях тут, – повернулся он к Калюжинскому. Тот поморщился. – Ты еще покриви мне рожу-то. Отправлю к отцу в стрелковую роту, будешь знать! – Калюжинский замер. Мне понравилось, как просто и понятно Майоров все объяснил. Не терпелось взять, наконец, в руки оружие. – Да, – вдруг остановился Шурка. Вы тоже выскакивайте из засады, – обратился он к нам. – Хватайте оружие и бегом сюда. Руки-то у вас свободные! Мы понеслись за командиром. Откуда силы взялись? Вчера еще еле шли. Перебежали прямую ровную проселочную дорогу и углубились в лес. Вскоре добрались до «железки», разбились на две группы и залегли в густом кустарнике по обе стороны рельсов. Утро было ясное, тихое. Чирикали над нами в кустах какие-то пичужки, легкий ветерок покачивал ветки, пахло сыростью и травами… Я оказалась на земле рядом с Майоровым. Других не было видно. Мы молча, довольно долго прислушивались, ждали. Солнце поднялось и стало припекать. Или это так нам показалось? Наконец далеко-далеко стали слышны голоса обходчиков, постепенно они становились все более отчетливыми. Вот они рядом, громко разговаривают. Язык незнакомый, смеются. Вдруг Майоров с пистолетом в руке выпрыгнул на шпалы. Я вздрогнула от неожиданности. Прыжок, как у кузнечика – с места в воздух, и на «железку». – Бросай оружие! Бросай! Что смотришь? Бросай! Я подползла ближе. Сквозь ветки увидела чужих солдат. Они смотрели на Шурку, потом оглянулись по сторонам и стали поднимать ружья на Майорова. Таким же пружинным прыжком он скрылся в кустах по ту сторону дороги. – Огонь! – успел крикнуть на лету. Сразу же раздался залп в воздух. Но мадьяры и не думали бросать оружие. Они дали несколько очередей по кустам. Пули пролетели и у меня над головой. Снова услышала команду Шурки: «Огонь!» На этот раз наши дали залп по солдатам. Я увидела перед собой падающего солдата, который шел первым, и бросилась за его винтовкой. Схватила ее и, еще стоя на коленях, обернулась вправо на крики и ругань. В нескольких шагах в меня целился мадьяр. Я выстрелила первая. Он упал. Тут же услыхала команду Шурки: «Не шуметь! Тихо!» Тут я увидела, что наши добивают мадьяр прикладами автоматов и штыками их же винтовок. Чуть дальше, поперек рельсов, лежал кто-то из наших подрывников, убитый или раненый. Я кинулась к нему. Дорогу мне преграждал убитый мной мадьяр. Он лежал на спине, все еще держа в руке винтовку. Я выхватила ее у него и увидела, что он смотрит в небо широко открытыми ярко-голубыми глазами. «Не старше меня», – мелькнула мысль. Все длилось секунды. Но я на всю жизнь запомнила этот взгляд и его глаза. Через пятьдесят лет я оказалась в Будапеште по дороге в Италию. Поезд стоял там четыре часа. Я решила выйти с вокзала и пойти посмотреть на город и на Дунай. Я шла мимо красивых домов, заглядывала в нарядные витрины и постепенно приближалась к Дунаю. На улице было много народа, приходилось обходить разговаривающих на тротуаре людей, стоящих у светофоров… вдруг, подняв голову, я увидела молодого человека, который шел мне навстречу и смотрел мне прямо в лицо большими яркими голубыми глазами. Я вздрогнула. Это были «те» мадьярские глаза, вынырнувшие из полувековой дали. Только они смотрели не в небо, а на меня. Я отвернулась. Все было тогда правильно. Опоздай я на полсекунды, и он убил бы меня. Но через полвека, встретив «его» взгляд, я опустила голову. Убить человека даже в бою, даже защищаясь, непросто. Хотя часто это понимаешь не сразу. Рубец в душе остается навсегда. Особенно, если довелось заглянуть в глаза убитому. Особенно, если убитый – твой ровесник. Особенно, если это первый убитый тобой человек. Пусть враг, но и человек тоже. Первое убийство, как первая любовь, никогда не забывается. Оставляет печать в душе навсегда. Мне больше не захотелось видеть Дунай, и я, не глядя по сторонам, вернулась в поезд. Война ходит за нами по пятам и через полвека, и всю оставшуюся жизнь. А тогда, перескочив через убитого, я подбежала к подрывнику на рельсах. Это был раненый Толя Цапченко. Одной рукой он придерживал кожанку, пробитую на животе пулей. Другая, откинутая, была в крови. Я расстегнула кожанку. Кровь на разорванных брюках. Быстро расстегнула брюки и увидела разорванную рану внизу живота. Поняла – разрывная пуля. Вокруг нас собирали оружие. С мадьярами было покончено. – Не оставляйте меня здесь, – тихо сказал Толя. – Что ты, что ты! Конечно, нет! Я увидела, что от дыхания у Толи из раны стали выступать голубоватые кишки. Подошел Шурка, поднял Толин автомат. – Бинты есть? – спросила его я. Бинтов не было. Я сорвала с головы платок Лиды, быстро сложила его, наложила на рану и стала застегивать брюки, стягивая Толе живот. – Давай быстрей, – услыхала голос Шурки. Увешанные мадьярскими автоматами Гриша и Лаврик подняли Толю и понесли через кусты в лес. Я стала вытирать травой кровь на руках. – Шурка, глянь, – сказал кто-то за моей спиной. – Мадьяр убегает! Я подняла голову. От нас в сторону станции бежал, спотыкаясь о шпалы, солдат. Он даже не прятался по кустам. Бежал, ошалев, в открытую к станции. Солдат был уже довольно далеко. – Черт с ним, некогда, – буркнул Шурка. – И так нашумели слишком. Берем Толю – и ходу! Я подхватила свои две винтовки и оглянулась на пути, не оставили ли какое-нибудь оружие. На шпалах и рельсах были разбросаны шесть убитых мадьяр. Вокруг все было залито кровью: шпалы, щебенка, одежда убитых, даже рельсы. Пули и штыки сделали свое дело. «Мой» мадьяр все так же смотрел в небо. Оружия не осталось, все подобрали. Я побежала за подрывниками, унося с собой винтовки. «Какие все-таки тяжелые», – подумалось мне. Некоторое время все бежали по лесу между кустов и деревьев. В стороне от меня несли Толю. Вдруг Шурка скомандовал: – Стой! Положите Толю на землю. Ко мне! – позвал он ребят. Я тоже подошла ближе и услыхала конец разговора. – Кто? – спросил Майоров. Молчание. – Я, – твердо сказал Поплавский. – Все за мной! – и Шурка побежал, унося ручной мадьярский пулемет. Мы все побежали за ним. Вдруг за спиной услыхали выстрел. Что такое? Никто не остановился. Перебегая проселочную дорогу, увидела Поплавского, догонявшего Шурку. Они на бегу говорили о чем-то. У меня от предчувствия сжалось сердце. Возле нашей телеги все остановились, стали складывать в нее мадьярское оружие. Все еще не веря предчувствию, я подошла к Майорову: – А Толя? – Его больше нет. – Как нет?! – меня стала бить дрожь. – С ним мы бежали слишком медленно. Он тяжелый. Нельзя же было рисковать всей группой, – он спокойно пошел к телеге и добавил на ходу: – Да и рана безнадежная… По ко-о-ням! Я не могла двинуться с места. Стало подташнивать. Толя, бедный Толя…. «Не оставляйте меня здесь…» А мы?.. Мы… оставили! Ко мне подъехал на коне Шурка. – Чего стоишь? Садись быстро на телегу, не задерживай! Я пошла к телеге, куда уже сложили оружие. Возле нее стоял Поплавский с балалайкой Толи. Вдруг он со всего размаха ударил ею о дерево. Она со звоном разлетелась на куски. У меня чуть не треснуло сердце. – Больше не пригодится, – сказал громко Поплавский и сел на коня. – Никто из нас не умеет играть, – добавил, обращаясь, неизвестно к кому. По дороге я слышала, как разговаривали ехавшие верхом рядом с телегой Майоров и Поплавский. – У каждого по винтовке со штыком, а у кого еще и автомат, арсенал на ходу, – говорил Шурка – Я видел, как ты еще и ручной пулемет пер, – засмеялся Поплавский. – Ребята там тоже патроны и гранаты насобирали порядком. Боятся нас мадьяры. – Дурачье мадьярское, – продолжал Шурка. – Отдали бы все, – живы бы остались, а так… еще и Цапченко угробили. Помолчали, потом Поплавский снова заговорил: – Я захожу к нему за голову, а он ведет за мной взгляд, как будто догадывается. Я обошел, крикнул: «За Родину!» и дал заряд. Опять помолчали. – Надо будет сказать колхозникам в Мирославле, – распорядился Шурка. – Когда все утихнет, пусть похоронят. «Вас бы самих так, "За Родину!"» – подумала я с горечью, – а потом колхозники бы и похоронили! В 1975 году меня пригласил в гости Гриша Власюк, живший после войны с семьей в далеком украинском селе Ровенской области. Там к нам присоединились несколько бывших партизан из нашего отряда. Все мы были очень рады встрече, делились воспоминаниями, рассказывали о своей жизни после войны. Агроном колхоза села Украинка, куда мы съехались, дал нам на два дня свою машину, «Газик», чтобы Власюк свозил нас четверых в Мирославль, вокруг которого мы партизанили, и в город Новоград-Волынск к ослепшему бывшему подпольщику Герману Иванову, с которым мы все после войны познакомились и поддерживали связь. Подъехав к станции Радулино, по дороге к Мирославлю, Гриша сказал: – Я каждый год навещаю в этих краях могилы наших партизан. Жаль только, не знаю, где похоронен Толя Цапченко. Ты помнишь его? – Еще бы! Как не помнить? Я знаю, где его похоронили. Там же, где его Поплавский… ну, в общем, не будем говорить о Поплавском. Его, небось, и в живых-то уже нет. – Как, нет? – откликнулся один из наших. – Он жив. Живет в Барановке. Отсюда километров 25 будет. Мы прикинули свои возможности и пришли к выводу, что нам не хватит времени заехать и в Барановку, и к Иванову, которого мы уже предупредили по телефону. Шел второй день нашей поездки, и надо было возвращать «Газик» агроному. – Ну, тогда я передам ему ото всех привет, – сказал наш товарищ. – От меня не надо, – ответила я. – Если бы поехали, тогда другое дело. Поговорили бы, встретились… а так, привет… не надо. Мы поехали в тот памятный лесок, теперь уже густой высокий лес и, действительно, нашли могилу Толи. Только рядом была еще какая-то могила. Обе ухожены, окружены невысоким штакетником. Внутри штакетника стояли деревянные пирамидки со звездочками, покрашенные красной краской. Около них лежали увядшие букетики полевых цветов.
 Хата Войтовичей, в которой скрывались партизаны.
Село Мирославль. 1942 г.
Хата Войтовичей, в которой скрывались партизаны.
Село Мирославль. 1942 г.
По приезде в Мирославль я спросила у колхозников: – А кто ухаживает за двумя могилами в лесу около Радулино? Наши пионеры, школьники. Это же могилы партизан. Жаль только, что имен мы их не знаем. – Можете написать на одной из них: «Партизан Анатолий Цапченко из Полтавы». Он тоже был в плену у немцев и бежал. – Это все, что мы знали о Толе. Через некоторое время, вернувшись в Москву, я получила письмо от Гриши Власюка. Он писал о своей семье, о наших друзьях-партизанах, с которыми мы ездили в Мирославль и к Иванову. О том, как они работают в колхозе. Об их детях, которые учатся в школе. Передавал приветы. И, между прочим, сообщил о Поплавском. Узнав о том, что мы были в Мирославле и заезжали на могилу Цапченко, в то же время «не захотели» (так ему передали) поехать в Барановку, Поплавский запил. Он был не глуп, понимал, что разговоры о спешке и чужой машине, которую надо было возвращать, – отговорки. Он пил несколько дней подряд. Его видели на улицах Барановки в совершенно «разобранном» виде, подавленного и молчаливого. А вскорости он повесился. Война догнала его…
* * *
А тогда, после гибели Цапченко, мы не сразу двинулись в отряд. Оказалось, что подрывные мобильные группы кроме своей основной задачи выполняли и некоторые хозяйственные поручения командиров своих отрядов. В одном из сел нас ждали жители, помогавшие отряду. На телеге лежали продукты, одежда, сапоги, большая бутыль самогона, даже аптечка, которую им удалось достать в городе Новоград-Волынском. Поблизости ни немцев, ни мадьяр не было, и вся группа спокойно расположилась возле одной из крайних хат. Обедали тут же, у телег. Хозяйка вынесла два ведра борща, домашнюю колбасу, еще теплый хлеб. Голова закружилась от такой роскоши! Я спросила Гришу Власюка, помогавшего хозяйке: «Можно ли попросить косынку?». Оказалось, можно. Хозяйка, Марта Михайловна, вынесла мне пестрый хлопчатобумажный головной платок и сама завязала его у меня на затылке. Марта Михайловна Войтович, партизанская связная с сыном Григорием Степановичем, село Мирославль Барановского района Житомирской области, 1971 г.
Марта Михайловна Войтович, партизанская связная с сыном Григорием Степановичем, село Мирославль Барановского района Житомирской области, 1971 г.
– Мы сюда часто заезжаем – и помыться, и белье сменить, – говорил Гриша. – Вон твои беглецы мыться пошли, – показал он на шагавших друг за другом к хате Володю, Костю и Степана. – Сын хозяина, Гришка Войтович, сейчас их приоденет – не стыдно будет в отряде показать. Тут наши связные живут. Они и еду для отряда собирают, и остальное, что надо. – Откуда же столько еды и всякого добра? – Колхозники в нас души не чают, – посмеиваясь, подсел к нам со своей миской Арбузов. – Мы сторожим тут все дороги. Немцы второй год ничего не могут вывезти отсюда. И зерно, и молоко, коровы и свиньи, овцы, – все остается в колхозе. – Так колхозом и живут? – Так и живут, самогонку попивают, да нас благодарят, что мы кроме урожая еще и молодежь не дали увезти на каторгу в Германию. – А как же война? Их не касается? – Касается, касается. Мужики да сыновья, вся молодежь, все в отряде. Тут одни бабы да калеки спины ломают. Видала? Гриша Войтович – хромой. Мужья с сыновьями из леса выходят по ночам только на посевную да на урожай. Ближе к вечеру мы тронулись в путь к отряду. Перед этим хозяйка по моей просьбе обменяла мою юбку, подаренную Лидой, на серые холщовые брюки, и я пересела с телеги на лошадь Гриши Власюка. Сам он опять правил конями одной из телег. Снова ехали по бездорожью через лес и перелески. Мне надоело трястись в телеге, и я была рада, что Гриша согласился одолжить мне своего коня. Ехали мы неторопливо по известному одним партизанам пути. В какой-то момент рядом со мной появился Митька Арбузов. Наши кони шли голова в голову. Митя оказался разговорчивым парнем, и охотно поведал мне про отряд, про действия группы подрывников Майорова, про села, мимо которых мы проезжали. А мне все не терпелось разузнать о самом Майорове, которого я, как и Поплавского, невзлюбила после гибели Толи Цапченко. – А кто этот ваш Шурка? – наконец, спросила я Арбузова. – Окруженец-сапер, как и я. Мы с ним встретились у Власюка после того, как он смылся из тюрьмы. – Какой тюрьмы? Можешь рассказать? – Чего ж не рассказать… об этом все тут знают. Дорога длинная, – ответил Митька, – могу и рассказать. А было это так… На масленицу, месяцев пять назад, в селе Суемцы Шурка попал на блины. Ну, крепко выпили, и он заснул у стола. Там же сидел бывший секретарь сельсовета. Видит – у Шурки из кармана торчит пистолет. Тут же сбегал в полицию. Шурку схватили, сильно избили, отвезли в тюрьму Новоград-Волынска, а там приговорили к расстрелу. – Кого это приговорили к расстрелу? – к нам подъехал Шурка. – Да тебя, весной… – А… ну, да! Бумага на закрутку найдется? А то я свою где-то посеял. Арбузов достал из планшета, висевшего у него на боку, школьную тетрадку и оторвал листок в клетку. – Как же ты выкрутился? – спросила я у Шурки, пока он доставал из кисета табак и скручивал цигарку. – А так… повезло… – Шурка затянулся самокруткой и пристально посмотрел на меня. – Думаешь, только вы там молодцы из лагерей бегать? Мы тут тоже не лыком шиты. – Ну, а все-таки, – не отставала я. – Как это получилось? Мы же про себя все тебе рассказали. – Давай, Шурка, – поддержал меня Арбузов, – расскажи ей. Я могу и напутать… – Ну, что тут особенного… Нас человек пятнадцать было в камере смертников. Все в одном белье… из окна видим – для нас уже общую могилу вырыли… – Шурка опять затянулся самокруткой и помолчал. – Ну, вывели нас в коридор на обед, а я смотрю – в соседней камере дверь приоткрыта, и куревом тянет. Я – раз, и туда. Там какая-то семья сидела. Пока курнул, пока о том, о сем… выглянул, а наших всех уже опять в камеру заперли. Полицаи по случаю Пасхи перепились и не пересчитали. Я – в туалет. Слышу, никто не ходит. Подождал немного и бегом на первый этаж. Вижу, часовой от двери отошел и в окно бабам кричит: «Не будет вам свидания! Пасха! Поняли!» Те галдят, а я во двор. Смотрю, а у высоких стен длинные доски лежат. Схватил одну, приставил к стене и перелез через стену и проволоку на ней. Спрыгнул, вижу – на улице никого. Пасха! Только бабы за углом у входа шумят. Ну и дал деру! Вот так-то… Поняла? – Шурка тронул коня и поехал вперед к первой телеге. – Слыхала? – весело продолжил Арбузов. – Босой в одной нижней рубахе и подштанниках, Шурка ночью постучал к Власюку. Представляешь? Я в эту ночь ночевал там. Так мы и познакомились. – А того предателя больше не видели? Секретаря сельсовета… – Как же, нашли! – усмехнулся Митька. – Недавно, перед встречей с вами, проезжали мы недалеко от Суемец. Один из наших, Иван Мартынюк, был женат на сестре того секретаря. Он его и выманил из села. Мы крепко били этого гада палками, бросали несколько раз в речку, чтобы очухался, опять били и, под конец, полумертвого, предателя пристрелили. Я начинала понимать, какие у меня будут товарищи по оружию.
* * *
Наступила теплая, украинская осень. Ночью мы доставили очередные две телеги с продуктами и теплой одеждой для четырехсот бойцов нашего отряда. Утром, пока партизаны разгружали телеги и распределяли доставленное по ротам и в санчасть, Шурка пристроился на корнях старой сосны писать отчет о проделанной нами работе. Он не любил забираться днем в землянку. Для записей у него хранилась в штабе толстая «амбарная» книга. Он брал ее при возвращении с задания и сдавал, уезжая с нами на новое. Писал всегда чернильным карандашом из трофейной заветной коробки. Я зашла в санчасть к врачу отряда и передала ему белый стрептоцид – единственное лекарство, которое нам удалось раздобыть на этот раз. В двух землянках и возле них, под навесом на топчанах, наскоро сбитых ребятами, лежали несколько выздоравливающих раненых и десятка два больных. Фурункулез, воспаление легких, у кого застужены почки, у кого горло или уши. У многих от болот, сырости вокруг и недостаточного питания – авитаминоз, артриты, экземы. Были случаи брюшного и сыпного тифа. Отрядный доктор и его жена-медсестра не жалели сил, стараясь всем помочь. Но недоставало лекарств, перевязочного материала. Вместо спирта использовали самогон. Во время операций раненым давали вместо наркоза тот же самогон. Вместо лекарств – отвары трав, которые собирали на опушке леса и у болота. У меня с медсестрой Наташей и доктором были добрые отношения. Сразу же по приезде я всегда заходила в санчасть с новостями. Тут же узнавала о событиях в отряде. Иногда помогала варить на костре и процеживать отстоявшиеся уже травы, кормить раненых и больных, советовалась с доктором. У нас в группе тоже случались ранения, простуды, надо было помогать ребятам на ходу до возвращения в отряд. Первую помощь я всегда брала на себя. Поболтав с доктором и Наташей, я отправилась искать приятелей и знакомых девчонок по территории нашего стойбища, которых не видела целый месяц. Ребята из стрелковой роты похвастались, что на днях подбили на большаке из трофейного противотанкового ружья машину с немецким полковником и тремя офицерами. В штаб соединения доставили портфель и большую сумку с документами из той машины. Вторая группа подрывников в это же время – как рассказали мне сами подрывники – заминировала дорогу, идущую к мосту через реку Тетерев. По ней то и дело шастали то немцы, то мадьяры, собирая по селам молодежь или продукты питания для отправки в Германию. – Местных к мосту не подпускают, – рассказывал Миша Усанов, лейтенант из окруженцев, – а сами носятся. Вот теперь им «подарочек» отломился. Две машины с солдатами на воздух подняли, и еще гранатами забросали. – Мост никак взорвать нельзя? – спросила я. – Там охраны до черта! Одной группой не обойдешься. А отряд сейчас готовит передвижение на запад. Наши с востока наступают. Не до моста теперь… После обеда у походной кухни меня позвали в землянку начальства. Там, за дощатым столом, сидел уже немолодой, лет сорока пяти, смуглый грузный человек – один из руководителей нашего отряда. Перед ним лежали папка с бумагами, большой трофейный блокнот и чернильница с ручкой. – Входи, садись, – приветливо обратился он ко мне, – есть разговор. Я насторожилась. Девчонки, работавшие постоянно в отряде, – кто поварихами, кто прачками, – рассказывали мне про этого «героя» с двумя орденами. Не одна из-за него наплакалась. Боялись жаловаться, уж больно мстительным был. «Со света мог сжить», – говорили мне подружки. – Ты на сколько поездов выходила? – спросило начальство. – Пока на девять. – Девять. Правильно. Твоих сколько из них? – Пока три. – Пока три, правильно. И Майоров так докладывал. Участвовала в двух успешных засадах, – читал он донесение Шурки, – одна на мадьяр, другая на немцев. Четыре боя с полицаями, два с мадьярами… Тут еще голландцы, поимка немца-бауэра… предатель в Мирославле… в общем, – оторвался он от бумаги, – пора представлять тебя к награде. И так уж припозднились. Что скажешь? «Красного Знамени» или «Звездочку»? – Вам виднее. – Значит, не отказываешься? Вот и хорошо. Соглашайся и все будет тип-топ! – он засмеялся и посмотрел на часы. – Как стемнеет, незаметно зайди в мою землянку. Она первая, сразу за санчастью. Все и обсудим. Меня бросило в жар от такой наглости. – Это что же, ни Галя, ни Сонька не угодили?! Теперь я понадобилась?! Не будет этого! Подавитесь вы своими орденами! – я вскочила со скамейки и шагнула к выходу. – Ты потише, потише! Стой, тебе говорят! Ишь, распалилась… тебе еще придется здесь отвечать особисту и всем нам, откуда ты такая краля? Как в плен попала? Кто выпустил? С каким заданием? Следствие начнем, глядишь – и расстрелом за измену кончим… Я это дело так не оставлю… В общем, чтоб не кобенилась! Явишься сегодня же вечером, ясно? Меня как будто помоями окатили… Я пулей вылетела из землянки и, задыхаясь, бросилась в лес. Шла, не разбирая дороги, лишь бы подальше от людей. «Вот так, все и закончилось, – думала я, – у позорного столба. Измена? Что я могу доказать? Еще и с Куниным поссорилась. Тоже не будет свидетелем. Конечно же, ему поверят, этому козлу орденоносному, что бы ни сказала. Это конец. Не отмоешься! Нет, лучше сама. Без позора… Кому я нужна расстрелянная?» Я продиралась все дальше и дальше между деревьями и кустами, как в Славуте… Концлагерь, лай сторожевых собак, стрельба на рвах – все это шло, продиралось по лесу, вместе со мной. Я опять все видела, слышала, хотя эти месяцы ни разу не думала о том месте, о тех мучениках. Было больно вспоминать… Напомнил, подлец! Освободилась, называется! Лучше было бы там подохнуть… Ну, ладно, что могла – сделала, теперь осталось только имя свое защитить… Между деревьями показался просвет. Я вышла на маленькую зеленую полянку. Поперек нее лежало старое засохшее дерево. Огляделась. Тут меня никто не найдет. Села на упавший ствол, вытянула ноги, достала свой трофейный мадьярский пистолет. Перед тем, как выстрелить, посмотрела вверх, на небо в обрамлении березовых вершин. Оно было по-осеннему синее. Макушки берез под заходящим солнцем усыпаны золотистыми листьями. Я взглянула ниже, на бело-черные стволы вокруг. Через всю полянку передо мной в солнечном луче повисли две тоненькие серебристые паутинки. Почти у самых ног из травы тянулись вверх, как свечи, высокие белые колокольчики. Тишина стояла удивительная… ни ветра, ни птиц, ни войны… «Как красиво, как хороша земля без людей, – подумала я. – Какая благодать… Наверное, скоро без войны все станет радостным и спокойным, как тут… как сейчас… а меня уже не будет…» Я снова посмотрела на совсем синее небо, оглядела золотистую от косых солнечных лучей поляну, кружевные березы. Вдохнула запахи леса, увядающих листьев, каких-то трав… Не помню, сколько времени я просидела так, не думая больше ни о чем, растворяясь в аромате осени в неземной тишине до звона в ушах. Напряжение спало. Стала приходить в себя. Посмотрела на потемневшее темно-синее небо, на далекую маленькую звездочку. И там, наверно, кто-то живет и мучается… а может, и нет… Какие мы маленькие со всеми нашими переживаниями, бедами, короткой жизнью. «Все ли так безнадежно? – вдруг, как о ком-то другом, спокойно подумала я. – Еще немного, и война погаснет, все разъедутся… Стоит ли самой уходить из этой красоты, от близкого вселенского покоя?.. Уступать эту благодать ядовитой букашке, негодяю?» – Нет! Я вздрогнула и оглянулась. Никого. За моей спиной в наступающих сумерках, все в той же тишине, падали, кружась, два березовых листка. Неужели это я сказала «нет»? Странно. «В самом деле, – продолжала я размышлять, – это не выход. Скажут, застрелилась, потому что виновата! Ну, уж нет… попробую еще… пожить…» Я спрятала пистолет, стряхнула с брюк сухую кору дерева, на котором сидела, и пошла к нашей стоянке. Я никогда не терялась в лесу. Было темно, когда я подошла к нашему лагерю. Ребята моей группы еще не спали. Издали вспыхивали и таяли огоньки цигарок перед землянками. У нас на восемь человек их было две. – Ты далеко ходила? – спросил Шурка. Я молча села с ним рядом. – Стреляться ходила, –ответила совсем тихо. – Да передумала. – Что-о? – Пошли в землянку, там поговорим. В землянку набилась вся группа. Запалили фитиль в чашке, похожей на лампаду. – Что случилось? – снова начал Шурка. – Я сейчас расскажу, только вы, ребята, не болтайте об этом ни с кем. Хуже будет. Доказать я ничего не смогу. Свидетелей не было. Вы мне как братья. Придумайте защиту. Я о вас подумала, потому и вернулась. И я рассказала ребятам, не называя имени начальства, как меня собирались наградить орденом. Когда стих возмущенный мат, Шурка спросил. – Кто эта гадина? – Не скажу. Тут дракой да стрельбой не поможешь. Надо что-нибудь поумнее… Ребята задумались, фитиль замигал. В землянке стало душно. – А ты выходи замуж за Шурку, – сказал вдруг Поплавский, – никто тебя и не тронет. Утром сходите в штаб, зарегистрируйтесь там, как люди делают. Вот доктор, например, со своей медсестрой, или еще недавно пара в стрелковой роте… – Ты что? В своем уме? Вы же знаете, что меня в Москве парень дожидается. Любовь у нас… – Ну, я тогда не знаю, – развел руками Поплавский. – Так, чтоб и волки сыты и овцы целы – на войне не бывает. – Утро вечера мудренее, – стал выпроваживать всех Шурка, – дышать нечем, пошли. Завтра решим. Я вышла на воздух со всеми. Спать совсем не хотелось. Решила пойти проведать коней. Я с детства люблю лошадей… Наши кони стояли недалеко, в стороне от всех. Подкинула им сена и села на землю рядом. Кони довольно фыркали и с хрустом жевали. Послышались шаги. В темноте подошел Шурка, сел рядом. Помолчал, потом сказал: – Ты не обижайся, но Поплавский прав. Другого способа и я не вижу. Ты не думай, что я такой уж хам. Я тебя не трону, если сама не захочешь. Спать будем, как всегда, вместе с ребятами. Я тебе слово даю. Тут иначе не выкрутишься. – Я понимаю. Другого выхода вроде бы и нет. Но имей в виду: жизнью я теперь не дорожу, обрыдло все. Если тронешь, – застрелюсь. – Ну, что ты за дура такая! Мы тебя спасти хотим, а ты «застрелюсь»! Да у меня в каждой деревне по невесте! На тебе что ли свет клином сошелся! Ты меня знаешь. Слово мое – закон. Ну, так как? – Договорились. Я тебе верю. – Куда было деваться… Мы долго еще сидели молча. Каждый думал о своем. Потом пошли спать в землянку к ребятам. Утром, в сопровождении всей группы, отправились в штаб к командиру отряда Кириленко. Захар Иосифович обрадовался нашему решению. – Молодцы! Хвалю! Сейчас все запишем… и, чтоб детей побольше! Не сразу конечно… еще повоюем! А там будешь у нас мать-героиня! К вашему возвращению с задания будет вам отдельная землянка… Надо было видеть морду того орденоносца! Еще немного, и выдал бы себя. Убил бы, если б мог! Мы с Шуркой отметились в книге регистраций. Чинно поцеловались под крики «горько» и аплодисменты ребят. Серьезно принимали поздравления собравшихся командиров и партизан. Девчонки вручили нам букеты осенних полевых цветов. Так я стала официальной женой Майорова. А настоящая жена Шурки, это, не считая всех его «невест», хоть и не зарегистрированная нигде Евдоха, жила в селе Мирославль, и после войны вырастила дочку с лицом Шурки. Удивительно! Был он некрасив, непостоянен, выпивоха, задира – и все же пользовался на житомирщине неизменным успехом у женского населения. – А где свадьбу будем играть? – спросил Арбузов, когда мы вернулись к своим землянкам. – Какая еще свадьба? – прошипела я ему в лицо. – Законная! – настаивал Митька. – Такой повод отметить! Шурка, ты как на это смотришь? – Сегодня ночью выходим в задание. Потом, подальше где-нибудь. Может, у Кохановской на Солянке. Ребята хоть и понимали, что наша регистрация была вынужденной, понарошку, но такой повод напиться не могли пропустить. Забегая вперед, должна тебе сказать, что поводов приложиться к самогону у ребят было немало, и они ни разу себе в этом не отказывали. Поезд взорвали – колхозники приглашают «отметить», мадьяр перебили – опять повод. С полицаями схватились – как не помянуть. В отряд едем – проводы. Из отряда – со встречей! И так без конца. Я из себя выходила! Напьются, палить в воздух начинают, себя не помня, песни орут, по хатам спать разбредаются, а тут рядом – то немцы, то мадьяры. Бери этих пьяных героев голыми руками! Сколько я их ни стыдила, ни ругала – как об стенку горох! Я уж и колхозникам объясняла: «Подведете вы их!» Ничего не помогало, несут свою «горилку» и несут! Когда выпал снег, прибавилась еще причина – холод. «Чтоб не простудиться». Как-то выехали мы ночью после такой «профилактики» из села. Должны были заночевать, как всегда из предосторожности, в лесу. Едем, едем, подвыпившие ребята в седлах дремлют. Лошадьми никто не правит. Я ехала последней, думала, Шурка впереди следит за дорогой, а он, оказывается, спал на ходу. Смотрю, впереди огоньки – село какое-то. Лошади тепло почуяли, прибавили ходу – и к селу. Я подскочила к Шурке, схватила его лошадь за повод. – Ты что, спишь, что ли? В какое это село мы вперлись? Шурка еле пришел в себя, пока я лошадей обратно гнала. Поворачивала за поводья и плеткой то по лошади, то по всаднику! Еле убрались. Потом Шурка сказал, что ехали мы прямо к немцам. А еще раз после ужина с самогоном в другом селе мы выехали ночью в незнакомом месте, оказались в поле. С трудом нашли лес. Охмелевшие ребята повалились спать в лесу прямо на снег, под ноги лошадям. Вижу – ничего мне не остается, как привязать коней к стволам деревьев и охранять всю команду. Самой спать хочется ужасно, злюсь на храпящих ребят. Хожу между деревьями по кругу, чтоб не замерзнуть и думаю: «Все! Завтра разнесу их так, что на всю жизнь меня запомнят! Уйду в другую группу! Да там, наверное, такая же картина. Нет, лучше оторвусь, и сама без них стану партизанить, как Миша Коган в Вересенском лесу. Опыт есть, район знаю…» Вдруг справа послышался далекий рокот, ближе, ближе… да, это машины! Сквозь деревья виден свет фар. Идут недалеко вдоль леса. Значит, и там дорога! И с этой стороны мы перешли дорогу, входя в лес. Значит, это не лес, а какая-то лесополоса между двух дорог? А что, если окружат? Далеко ли деревья тянутся? Машины идут и идут… Я стала будить ребят. Какое там! Рычат спросонья, даже головы не поднимают. А машины все гудят. Я стала бить их сапогами. Не помогает. Прикладом по спинам в тулупах, по рукам, ногам, опять сапогами… – Немцы, скорей! Немцы, вставайте! Нехотя стали приподниматься. – Ты чего дерешься? – пошел мат. – Все кости поотшибала! – Немцы, вон машины, скорей! Поняли, вскочили, увидели проходящие фары. Схватили коней за поводья. Шурка вполголоса приказал: – За мной! Пешие, рядом с конями…Мы поспешно вышли из леса, повернувшись спиной к той стороне, по которой шли машины. Перешли дорогу на нашей стороне и устремились в поле. И тут увидели, как вдалеке, огибая лес, выехали машины на дорогу, которую мы только что пересекли. – Похоже, окружают лес, – сказал Власюк. – Вперед, вперед, – повторял Щурка. Мы бежали по открытому полю, оглядываясь, пока машины были далеко. Фары стали приближаться. Вдруг Шурка скомандовал: – Ложись! И коней кладите, быстро… Ночь была темная, без луны, но небо светлее земли, и нас могли заметить на фоне неба. На открытом поле ветер кое-где смел снег, и обнажилась земля. Среди этих прогалин мы и улеглись с конями. Теперь перед нами между лесом и полем неспешно двигались машины. Фары светили и в глубине, на той стороне леса. Похоже, что и там машины остановились. Освещали обе дороги, по ту сторону леса и ближе к нам. Вот ближние машины остановились, стали разворачиваться, повернули фары в сторону леса. С противоположной стороны машины повторили этот же маневр, и свет с двух сторон пронзил довольно большой участок с деревьями и кустами. – Ну, Тамарка, с нас пол-литра, – сказал лежавший рядом на земле Арбузов. Минут через десять машины снова развернулись, встали вдоль дороги и вся цепочка, объезжая лес, скрылась вдали. В том же направлении, откуда появилась, только теперь все машины шли мимо ближней к нам опушки леса. Зачем они приезжали? Кого искали? Так мы и не сумели узнать. – Вот она, ваша самогонка! На виселицу она вас приведет, балбесы! – ругала я ребят по дороге в отряд. – Вот немцы-то порадуются! Вот им подарок! – Они сами свой шнапс жрут не меньше нашего, – отбивался за всех Власюк. – А ты видел? – не унималась я. – Схватят вас. Не доживете вы до конца войны! Уйду я в другую группу. Смотреть на ваши пьяные рожи тошно. Однако уйти мне не дали. А было это так. Двигались мы с отрядом на передислокацию на запад. На телегах везли раненых, больных, все хозяйство, семьи погорельцев, бежавших от карателей. Двигались медленно через глухие чащобы и болота. Я присела на край одной из телег, лошадь свою за поводья привязала тут же. Ехали по бездорожью, подскакивая на корнях деревьев и промоинах. Как вдруг, вижу: в стороне от нас идет пешком вооруженная чужая группа. Идет спокойно, не таясь, параллельным с нами курсом. Кто бы это мог быть? Из какого соединения? Мимо нас в свое время проходили знаменитые Ковпаковцы, Сабуровцы. Прекрасно вооруженные, с рациями и всяким другим военным снаряжением они выходили в рейды до самой Румынии. Вели серьезные бои с немцами, румынами, мадьярами. Мы себя чувствовали, глядя на них, бедными родственниками. У нас не было такой силы ни в людях, ни в вооружении, ни в оснащении боевой техникой. Так кто же это шагает около нас? Они шли все ближе, ближе. Я пригляделась, и дух у меня захватило! Димка Карнач, Сашка Косолапов, Мишка Казаков, Костя Островский. Наши десантники! Спрогисовцы! Моя группа. Я вмиг слетела с телеги, – Ребята! Ребя-таа! – закричала я что есть мочи и бросилась к ним наперерез. Десантники остановились, не веря своим глазам. – Тамарка?! Живая? Откуда?! Обхватили меня, как медведи! Обнимались, целовались, рассказывали, перебивая друг друга, как сообщили в Москву о моей гибели, как плакала Лелька. – Лелька где? – спросила я. – На базе, сегодня дневалит… – Где? Как туда дойти? Константин Островский, разведчик, 1941 г.
Константин Островский, разведчик, 1941 г.
– Сейчас объясним. Да ты бросай этот отряд! Сдался он тебе! Раз нашлась, возвращайся! – Ну конечно! Я только доложу командиру отряда. Какое счастье! А вы куда? – На операцию. Времени мало. Сама найдешь? И объяснили мне, где у них сейчас база. Было это недалеко от села Прибитки. Мы попрощались. Я помчалась за конем. У телеги оказался мрачный Шурка. Он, видимо, наблюдал за нашей встречей. – Кто это? – Моя московская группа! Вот чудо-то! Нашлись, как иголка в сене… Передай Кириленко, я к ним на базу… к подруге. Скоро вернусь и все расскажу! Я вскочила в седло и поехала к Лельке, определяя по рассказу и по следам десантников направление. Сердце у меня от счастья билось бешено. Ребята нашлись! Лелька жива! Сейчас увижу!.. Деревья стали расступаться, вот она, просека, орешник… я толкнула коня каблуками и неожиданно вылетела на поляну, едва успев осадить лошадь, чтоб не влететь в огонь. У небольшого костра чистила картошку Лелька! Лелька! Моя подружка… Я скатилась с лошади и, не помня себя, бросилась ей на шею. Через минуту мы сидели у костра и, держась за руки, горько плакали. Мгновенная радость была смята нахлынувшими воспоминаниями о пережитом за эти тяжкие месяцы смертельных потрясений. Лелина жизнь без меня оказалась тоже тяжелой и страшной, как каждая судьба бойца в тылу врага. Долго мы плакали, не в силах говорить. Хорошо, что вокруг никого не было, все ребята и девчата были на заданиях. Оказалось, что нашего командира, Лешку Корнеева, отозвали в Москву по болезни, а группу слили с десантниками Кости Островского. Он был, как командир, несравненно сильнее и грамотней. Перед войной Костя учился в педагогическом институте. С Костей пришли не только ребята, но и Шурочка Захарова с Линой Самохиной, так что Леля была не одна. Это были наши надежные подруги. Мы со слезами понемногу рассказывали друг другу о пережитом, так не похожем на наши московские ожидания и представления о действиях в тылу оккупантов. Тем не менее определенные положительные результаты действий наших ребят в Белоруссии были на лицо. Удавался сбор разведданных, в которых так нуждался разведотдел штаба Западного фронта. Ему подчинялась наша воинская часть 9904 того, только у Лели, Шуры и Лины, не считая остальных ребят, были на счету по 6 подорванных немецких поездов с фашистами и их военной техникой. Девчата участвовали вместе со всей группой и большими соседними партизанскими отрядами в уничтожении немецких и украинских полицейских гарнизонов, в минировании дорог и мостов… но вместе с тем война ломала и наших ребят. Девчатам было еще тяжелее. И холод, и часто голод, пули, постоянная тревога, нехватка самого необходимого и опасные тяжелые походы делали свое дело… А тогда мы расстались с Лелей под вечер, договорившись, что на завтра они с кем-нибудь из ребят приедут к нам в отряд забирать меня. Я вернулась к своим партизанам и сразу же пошла к командиру отряда Кириленко. По тому, как он слушал мой радостный рассказ о десантниках, я поняла, что у него уже побывал Шурка. – Собралась уходить? – спросил он спокойно. – А как же?! Мы ведь все учились вместе, нас вместе посылали, это мои друзья и подруги… – Мужа решила бросить? – так же деланно спокойно спросил Захар Иосифович. – Так ведь… – тут я прикусила язык. – Это еще что такое?! – вдруг рявкнул Кириленко. – Ты что надумала?! Может, это у вас в Москве такие штуки позволены, а у нас ты… знай свое место! Никуда не уйдешь! Хорошие подрывники нам самим нужны! – неожиданно закончил Кириленко. – Ступай! Положение стало критическим. Сказать ему правду – значит признаться в том, что мы его обманули, значит еще больше восстановить его против себя. Уж не говоря о том, какой это будет повод для мести «орденоносца». Да и Шурка будет не на моей стороне, раз он, я была в этом уверена, пожаловался Захару Иосифовичу. Одна против всех? Не справлюсь. Когда я соглашалась на «брак» с Майоровым, я была уверена, что могла положиться на него. В глубине души, кошачьей интуицией я чувствовала, что он неравнодушен ко мне. Хотя он полагал, что ничем не выдавал себя. Но я знала по многим мелочам, что это так. Окончательно я убедилась в своем подозрении, когда мы попали под минометный обстрел на Олевской железной дороге. Мы буквально наткнулись на мадьяр. В тот момент, когда мины пролетали у нас над головой, Майоров мгновенно сбил меня с ног и, защищая, накрыл своим телом. Этот случай утвердил не только меня, но и давно наблюдавших за Шуркой ребят в том, что он неравнодушен ко мне. Кажется, поэтому предложение Поплавского, тогда в землянке, не с потолка упало. Со своей стороны я продолжала держаться особняком и никогда ни в чем не выделяла Шурку. Хотя и зорко наблюдала за ним, боясь, как бы этот благородный порыв с женитьбой не обернулся бы крупной ссорой. Теперь все прояснилось. Майоров все-таки надеялся, что его когда-нибудь оценят… На следующий день приехали за мной спрогисовцы. Разговор в штабе у Кириленко был резкий, настолько резкий, что мне пришлось, во избежание худшего, отложить свое возвращение на некоторое время. Москвичи уехали, взяв с меня слово, что я все улажу к их возвращению через пару недель. Но уже через неделю наш отряд нарвался на отступающих немцев, и в бою меня контузило.
 Партизанский отряд имени Хрущева Соединения имени Щорса. Крайний справа: командир отряда Кириленко Захар, 1943 г.
Партизанский отряд имени Хрущева Соединения имени Щорса. Крайний справа: командир отряда Кириленко Захар, 1943 г.
Это было во второй половине января 1944 года. Немцы отступали на запад, к Польше. Так некоторые их части оказались в Ровенской области Украины, по которой проходило дальше в их тыл и наше соединение. Получалось, что, спасаясь от наступающих частей Красной армии, они натыкались на партизан, и тут завязывались нешуточные бои. Волей-неволей Кириленко пришлось отпустить меня с другими ранеными в Москву. Везли нас на санях, потаенными тропами, через линию фронта. Последний раз я видела Майорова с саней. Он стоял на сверкающем от солнца снегу, махал мне рукой и варежкой вытирал себе глаза и щеки. Украина и Белоруссия в это время уже были освобождены…

Глава 9 Контузия, Москва, Лубянка, окончание
Из писем тех, кто выжил…Дорогая моя Элианочка! Теперь я посылаю тебе еще несколько писем, сохранившихся в моем архиве. Из переписки моих друзей и из моих ответов на их письма ты узнаешь остальное, то, что тебя так интересует. Кроме того, в этих письмах есть и моя послевоенная судьба, и судьба моих товарищей, выбравшихся из пламени войны. Ты узнаешь, кто из них спасся, кто нет. Как мы нашли после войны друг друга. Прости меня за то, что таким образом я делаю перерыв в нашей с тобой переписке. Во-первых, тяжко мне все время, так долго, снова переживать и описывать те военные события. А во-вторых, сейчас я начинаю работу над новым фильмом и целиком посвящу свое время, мысли и чувства этой работе. Не буду пока рассказывать тебе подробно, о чем моя следующая картина. Тема новая для всех нас. В печати у нас об этом десятки лет ничего не сообщалось, и даже в библиотеках и музеях материалы на эту тему не показывали публике до 1982 года. Фильмы мы же до сих пор не снимали вовсе. Я имею в виду масонство, его невидимую деятельность. Ты спросишь, почему я вдруг заинтересовалась этой темой? Читая итальянские газеты, и наши тоже, я наткнулась на сообщения о провале у тебя в Италии тайной масонской ложи «П-2». О гибели в связи с этим главы банка «Амброзиано» и его секретарши, которую, судя по всему, просто выбросили из окна, а его повесили под одним из лондонских мостов. Твои газеты, я не знаю, обратила ли ты внимание на эти статьи, пишут о масонах как о древней тайной международной организации, которая разделена на две тесно связанные между собой части. Одна, всем видимая, скажем, официальная, занимается вполне мирной деятельностью: благотворительностью, просвещением и тому подобным. Тогда как вторая преследует политические цели. Ты знаешь, что после войны я очень болезненно переживаю все, что касается подготовки новых мировых конфликтов. «Холодная» война против моей Родины угнетает меня постоянно. Миллионы жизней, разгром хозяйства страны, здоровье нашего уцелевшего народа, которое до сих пор не восстановлено полностью, мы отдали на уничтожение фашизма. Чтобы теперь нас унижали? Грозили стране «санкциями»? Объявляли нас «Империей зла»? Мы этого не заслужили! Мне хотелось бы понять яснее, насколько масонство замешано в этой, пока политической, войне против нас. Пережитая война научила – противника надо знать, и знать хорошо. В этом залог безопасности. Вот почему я занялась изучением истории с «П-2» и хочу снять на эту тему художественный фильм. Фильм – предупреждение нашим людям о возможной опасности. Я согласна с вашим известным кинорежиссером Нанни Лоем, который рассматривает киноискусство как оружие борьбы. Он справедливо считает, что кино – в этом основной закон реализма – должно быть ближе к действительности, ближе к проблемам общества, показывать их. Он говорит: «Я не люблю фильмы, которые делает в столице узкий круг людей для определенной среды. Я не люблю язык этих режиссеров, которые убеждены, что их собственные проблемы – это проблемы, волнующие всех людей». Лой как будто угадал мои мысли. Сформулировал то, что постоянно стучит мне в сердце. Мы слишком настрадались, слишком много потеряли во Второй мировой – Отечественной войне. Слишком дорого обошлась нам Победа, чтобы теперь благодушествовать и, не дай Бог, проворонить ее! А такое может случиться, я это чувствую кожей. Наши люди все еще доверчивы и простодушны. Поэтому последние мои фильмы посвящены постепенно надвигающейся на нас опасности. Раньше я снимала фильмы для детей. Я считала очень важным воспитывать в детях, в новом послевоенном поколении, честность, смелость, чувство единства с народом и Родиной. Но с годами поняла, что настало время поговорить и со взрослыми. Этой новой картиной я, по-видимому, буду занята весь 1983 год. Прости, если буду писать тебе редко и коротко. Я все также помню и люблю тебя, моя сестричка. Крепко целую. Твоя Тамара.
Статья Е. Тарасовой в журнале «Работница» № 6 1979 г. (фрагменты). …Он сразу заметил ее в толпе, ожидавшей трамвая у Покровских ворот. Матовое, с легким молодым румянцем и яркими крупными глазами лицо в ореоле темных волос, на которых как-то особенно весело сидела белая ушанка, – ее ладная, перетянутая ремнем фигурка и впрямь выделялась. Подошел, заговорил. Она равнодушно скользнула незаинтересованным взглядом и молча отвернулась. В это время приблизился трамвай. Девушка вскочила в него. Он – за ней. И уже там, в холодной тесноте вагона, продолжал приглашать к себе в мастерскую. Она сначала упорно отказывалась, а потом вдруг какая-то тревога или печаль мелькнула в ее глазах. Она очень внимательно посмотрела на черноволосого человека, так неумело-смущенно уговаривавшего ее, и решительно махнула рукой: «Хорошо, рисуйте, раз вам так этого хочется…» Потом она еще раз или два, отрывая от уплотненного командировочного времени минутки забегала в мастерскую. И уехала, успев назвать лишь свое имя – Тамара Лисициан. Это было 35 лет назад. Тамара Николаевна Лисициан – кинорежиссер на «Мосфильме». Именно здесь я услышала, как о ней сказали: «Дважды рожденная». Правда, так называют ее лишь те немногие, кто слышал о ее судьбе. …1941 год. Шла война. Осенним пасмурным утром, когда горько пахнущие увяданием листья шуршали под ногами, отправилась она в Колпачный переулок в ЦК ВЛКСМ. Там стояли сотни таких же юных, как она, добровольцев. Достоевский говорил, что сознательное «самопожертвование в пользу всех – признак высочайшего развития личности». Но мальчики и девочки, рвавшиеся в октябре 41-го на фронт, едва ли помнили эти слова. Они просто не могли поступить иначе… …Зимой 1944 года у Тамары Лисициан была короткая командировка в Москву. Именно тогда художник Михаил Михайлович Ещенко и написал ее портрет. В это время он, известный актер Центрального детского театра, член Союза художников, окончательно оставил сцену и, одержимый желанием рассказать на этот раз языком живописи о героических защитниках Отечества, искал подходящие «сюжеты». Таким «сюжетом» показалась ему Тамара. Он не знал ни ее адреса, ни рода войск, в которых она служила. И, когда портрет был готов, сделал несколько попыток отыскать свою героиню, но поиски успехом не увенчались, и он отложил их, надеясь, что не навсегда. Шел победный 1945 год, и девушка вернулась в Московское городское театральное училище, слившееся позднее с ГИТИСом. Но вскоре, прервав учебу, уехала в Италию, где работала в римском отделении «Совэкспортфильма». Шесть лет провела она в Риме. Изучила итальянский. И, вернувшись в Москву, сохранила привязанность к народу Италии, его искусству и литературе. Не случайно, закончив в 1959 году ВГИК (мастерская С.И. Юткевича) и начав работать режиссером на «Мосфильме», Тамара Николаевна Лисициан сняла «Итальянский дневник», острую политическую картину на документальном материале об итальянской компартии, вторым фильмом стал «Сомбреро» (киностудия имени Горького) – фильмы, хорошо принятые зрителями. В 1961 г. участвовала она и в съемках советско-итальянской двухсерийной картины «СССР глазами итальянцев» (киностудия «Мосфильм»). Не так давно режиссер Лисициан сделала на «Мосфильме» картину «Чиполлино» по известной сказке Джанни Родари, а несколько месяцев назад перевела на русский язык его новую сатирическую сказку, предназначенную уже для взрослых, предполагая на ее основе со временем снять телевизионный фильм. …В канун 1978 года, когда Тамара Николаевна торопилась закончить фильм «Волшебный голос Джельсомино» для Центрального телевидения, сделанный также по книге Джанни Родари, кстати, теперь уже высоко оцененный прессой, на студии раздался телефонный звонок. Артур Карлович Спрогис, воевавший в свое время в Испании, командовавший десантной частью 9903, в которой сражалась и Лисициан с 1941 года (Тамара по праву считает его своим военным учителем), сообщил, что видел ее портрет. – Да, наши фотографы хорошо снимают рекламные портреты, – спокойно ответила Тамара Николаевна, привыкшая к тому, что ее фотографии время от времени появляются на различных мосфильмовских выставках и в кинотеатрах. – При чем тут фотографы? На выставке в Центральном Доме работников искусств я видел твой живописный портрет, написанный масляными красками! И только тут Тамара Николаевна вспомнила заснеженный Покровский бульвар и промерзшую мастерскую, наполненную запахами керосина и красок. Но фамилия художника начисто вылетела из головы. Артур Карлович тоже ее не запомнил. Когда Тамара Николаевна позвонила в ЦДРИ, выставка уже закрылась. Она поинтересовалась именем живописца. У нас одновременно выставлялся не один художник, а три… Пришлось добывать телефоны всех троих. У первого художника, которому позвонила Тамара Николаевна, телефон молчал. Позвонила второму, спросила о картине: – Это вы писали портрет партизанки Лисициан? Минута замешательства, и вслед радостное: – Тамарочка! Цела? Как я рад, как рад! Надо бы повидаться… – узнал по голосу! – Но ведь вы не хуже меня знаете, как у нас, москвичей, летит время, – сокрушенно говорит мне Тамара Николаевна. – Хотя выбраться, конечно, надо! И мы выбираемся. Уже вдвоем. Михаил Михайлович идет навстречу по переулку. – Я бы обязательно узнал вас! – говорит он, подходя. – Значит, вы все же увидели свой портрет? – Даже купила. Замечательный портрет получился. Спасибо. Всем нравится. – А теперь скажите, – спрашивает Михаил Михайлович. – Почему вы все же согласились позировать? Ведь поначалу вам так этого не хотелось? Боялись не вернуться? – Нет, просто подумала: если меня не станет, так у мамы хоть портрет останется… а потом не до того было. – Все-таки, выходит, я не совсем не прав… Время, время… – помолчав, вздыхает Михаил Михайлович: – Тридцать пять лет прошло с нашей встречи. Кто бы мог подумать, что они так быстро пролетят! Да, 35 лет и одно остановленное мгновение.
Письмо директора музея «Партизанской Славы» г. Славуты (Украина) Уважаемая Тамара Николаевна! Я прочитал статью «Остановленное мгновение» в журнале «Работница» № 6 автора Е. Тарасовой и решил Вам написать небольшое письмо. В городе Славута Хмельницкой области в 1977 году открылся музей «Партизанской Славы», где имеется стенд, рассказывающий и об узниках «Грослазарета-301» (концентрационный лагерь), в котором и Вам пришлось быть. Мы ведем переписку с бывшими пленниками этого лагеря. Их всего более сотни. Вы, видимо, знаете, что в этом лагере немецко-фашистские захватчики уничтожили более 150 тысяч советских граждан, сейчас им установлен памятник. Мы получаем много писем от бывших узников этого лагеря и родственников погибших, которые к нам обращаются с различными вопросами. Уважаемая Тамара Николаевна! Я понимаю, что Вы очень загружены работой и Вам тяжело вспоминать прошлое, и все же я Вас убедительно прошу – напишите нам для нашего музея. Было бы неплохо, если бы Вы нам выслали свою фотографию (какой Вы были, у нас есть, нет, какой Вы стали). Славутский райком компартии Украины решил в мае месяце 1980 года – в годовщину 35-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне – провести в городе Славуте встречу партизан соединения им. Ф. М. Михайлова, врача, повешенного немцами в нашем городе за связь с партизанами, которым командовал Герой Советского Союза Антон Захарович Одуха. Ядро этого отряда (затем соединения) составляли бывшие узники «Грослазарета 301», такие как Кузовков И.В. – комиссар соединения Манько А.И. – зам. командира соединения по разведке и многие другие. Вы, должно быть, знаете, что только на нашей земле немцы имели в то время 66 лагерей для советских военнопленных, откуда некоторым все-таки удавалось бежать, и они пополняли, а иногда и сами организовывали партизанские отряды.
 Директор музея «Воинской и Партизанской Славы» Бекренев В.И. с женой Валентиной и Тамарой Лисициан в лесу на месте бывшей партизанской стояки. 9 мая, 1990 г.
Директор музея «Воинской и Партизанской Славы» Бекренев В.И. с женой Валентиной и Тамарой Лисициан в лесу на месте бывшей партизанской стояки. 9 мая, 1990 г.
У нас в музее есть документы о том, что к 1944 году в тылу у немцев на нашей территории был 1 млн партизан 64-х национальностей, из них – 100 тыс. женщин. Многие партизаны удостоены звания Героев Советского Союза, сотни тысяч награждены боевыми орденами и медалями. Вам, как армянке, наверное, будет приятно узнать, что в знаменитых партизанских соединениях Ковпака и Наумова были два отряда армян: «имени Микояна» и «Победа»[25]. Тамара Николаевна, нельзя ли вспомнить кое-что поподробнее, я опять обращаюсь к статье «Остановленное мгновение» о Вас, надеюсь, она у Вас есть. Что за группа подрывников Александра Майорова, в какое партизанское соединение она входила, на какой территории действовала? Напишите о своих партизанских делах. Не опережая события, я все же думаю, что мы обязательно пригласим Вас на встречу партизан в мае 1980 года. Тамара Николаевна! Желаю Вам отличного здоровья и всего наилучшего в Вашей жизни и работе. Крепко жму Вашу руку. Валентин Бекренев. 19.09.79 г. Наш адрес: 281070, Хмельницкая обл., г. Славута, Музей партизанской славы. Директору музея Бекреневу Валентину Ивановичу
* * *
Уважаемый Валентин Иванович, получила Ваше письмо и задумалась. Ответить на все Ваши вопросы я не смогу. Для этого надо написать целую книгу, а это мне не по силам. Очень больно все это вспоминать. Писать к тому же в таком объеме – значит отключиться от всего: от работы, от семейных обязанностей, от повседневной жизни. А ведь я работаю в кино. Творческая работа и без того поглощает основную часть моего существования. Не говоря уж о семейных заботах. Однако я понимаю Вас. Вы собираете материалы не для себя. Для истории и воспитания идущих за нами поколений. Поэтому я не могу просто так отказать Вам. Я решила все же немного написать Вам о, как Вы пишите, партизанских делах. Это небольшие эпизоды, которые, я думаю, Вам будут интересны. Знаете ли Вы, например, как мы подрывали вражеские поезда? Наша группа под командованием Шуры Майорова (его настоящее имя Иван Семенович) подорвала всего 16 немецких эшелонов. В подрыве 12 из них участвовала и я. Обычно каждую операцию готовили четыре человека: двое зарывали под рельсы взрывчатку, а двое наблюдали за тем, что происходило на железной дороге, по обе стороны от подрывников. Дело в том, что немцы в это время, летом 1943 года, пускали поезда только днем, пока светло. Боялись партизан. Сначала шли вооруженные обходчики, проверяя, нет ли мин. Потом пускали за ними поезд. Поезда шли тихим ходом, а впереди паровоза были прицеплены две платформы с углем или дровами. Для чего делалось? Если обходчики не замечали ничего подозрительного, а после них платформы натыкались все же на мину, взрыв не доходил до паровоза. Разбитые взрывом платформы скидывали в сторону. Ремонтная бригада, которая сопровождала каждый поезд, быстро ремонтировала путь, и поезд с паровозом тихим ходом благополучно добирался до следующей станции. Даже если удавалось заложить еще одну мину несколько дальше, ее в этом случае находила ремонтная бригада, которая шла после первого взрыва пешком перед ползущим к станции поездом. Тихий ход поезда тоже снижал эффект взрыва. В лучшем случае удавалось вывести из строя паровоз. За ним падали 3–4 вагона. Так немцы были вынуждены охранять свои поезда. То, что вы видите в кино на эту тему, очень эффектное, было возможно в 1941–1942 годах, но не в 1943. Кроме того, к 1943 году на протяжении сотен километров по обе стороны железных дорог немцы заставили местное население вырубить все деревья и кусты на расстояние до двухсот метров. В последнем вагоне, самом надежном, поскольку результаты взрыва его не достигали, всегда находилась охрана. После взрыва солдаты зорко наблюдали за вырубленными участками, и если замечали кого-нибудь, то тут же открывали огонь. Такой была обстановка на железной дороге. Кроме того, нам постоянно не хватало боеприпасов и взрывчатки. В отряд из Москвы ничего не поступало, и мы оставались на «подножном корму». Расспрашивали жителей деревень и поселков о том, в каких местах области были в первые годы войны ожесточенные бои, где они видели брошенную технику или боеприпасы. Добирались до таких мест и собирали все, что нам могло пригодиться. Помню, как я была потрясена, когда мы набрели на поросшее бурьяном поле боя, где лежали с 41 года никем не похороненные останки наших солдат. Немцы своих где-то похоронили, а наши, стремительно отступая, не успели. Мы ходили по полю и собирали все то, что не забрали немцы, унося своих убитых. Вспомнились слова: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями…» Как было страшно видеть то, что осталось от наших солдат и офицеров в их истлевших остатках гимнастерок и галифе. Хотелось кричать от боли! Крестьяне сюда не приходили. Одни – из суеверия, другие боялись немецких мин. С болью душевной думаю о тысячах наших бойцов, павших в горах, лесах и болотах, защищавших нашу Родину, и по сей день, через столько лет после войны, не найденных, не опознанных и не похороненных! А тогда мы подбирали их оружие, часто еще годное и готовое мстить за своих хозяев. Находили и авиабомбы, брошенные в глухих зарослях. Научились отвинчивать взрыватели и высыпали из бомб тол, собирая его для диверсий на «железке». Однажды в одной из деревень стали расспрашивать хозяйку хаты, нет ли поблизости какого-нибудь оружия или брошенной техники. Она только махнула рукой: «Нету, нет ничего хорошего! – потом добавила: – Правда, в лесу лежат какие-то брошенные ящики. Мы думали, мыло: желтенькие такие плитки, натащили по хатам. Стали стирать, а оно не мылится! Повыбрасывали, да и дело с концом! Нет тут ничего путного». Мы бросились в указанное место. Так и есть! Тол! Ящики с толом! Нам его хватило на несколько поездов! Обычно мы просили по хатам небольшие мешки или старые простыни с наволочками и укладывали на каждый поезд по 8 килограммов тола в каждый мешок или наволочку. У Майорова были в запасе взрыватели. Кроме того, мы собирали по селам веревки, что было труднее, но все же доставали, а дальше… Расскажу, как я взорвала свой «личный» поезд. Было это 10 августа 1943 года. Нам сообщили связные, что 11 августа из Шепетовки в Житомир и далее пойдет поезд с немецкими солдатами и оружием. Пополнение на фронт. Мы решили его подорвать. Сидим в лесу, у костра, едим печеную в углях картошку. Я и говорю ребятам: – Надо же, какое совпадение. Ровно год назад, 11 августа, в Житомире меня должны были расстрелять. Я только что вспомнила! – Да, ну! Расскажи-ка, как это было? Я рассказала. – Выходит, это у тебя вроде второго дня рождения? – Выходит, да. 11 августа случилось чудо. И вот, я с вами! – Значит, этот день надо отметить, – сказал Майоров. – В день рождения полагается подарок. – Чего же ей подарим? – весело спросил Арбузов. – Окромя стакана самогона нам всем! – Пусть себе в подарок подорвет сама поезд с гадами! Сказано – сделано. На следующий день, ближе к вечеру, мы подобрались к «железке» недалеко от станции Хролин, куда должен был прибыть поезд. Пропустили шедший по шпалам патруль обходчиков и побежали по картофельному полю к железной дороге. Бежать было неудобно – по кочкам, по кустам картофеля, да еще с оружием и тяжелым мешком с толом. Ругали тихо колхозников за то, что они, как правило, на вырубках у «железки» сажали картошку. Говорили, что земля «хорошо родит». А нам скакать по такому полю каково?! Добежали до дороги. Слева вдали еще были видны спины обходчиков. Калюжинский и Герасимчук стали на страже. На «зексе», как говорили у нас в школе, когда кто-нибудь «смывался» с уроков. Мы с Гришей Лопатюком стали рыть под рельсами яму для лежавшего рядом мешка с толом. Больно «царапалась» щебенка под рельсом и шпалой. Вдруг по рельсам услыхали далекий стук колес. Торопливо положили в ямку мешок, засыпали щебенкой. А поезд все ближе. – Бегите! – говорю, – скорей! Ребята побежали к лесу. А я должна была вложить в тол взрыватель, к которому была привязана тонкая веревка. Подбегая к «железке», мы ее протянули между кустами картофеля, чтобы в нужный момент я могла дернуть за нее и вырвать чеку из взрывателя. Иначе тол не взрывается. Веревка была длиной 80 метров. И надо же, ребята, убегая, наступают на веревку! Она дергается у меня в кулаке и, того гляди, вырвет чеку! А поезд уже близко. Слышен хорошо мерный стук колес. Кричу: «Сойдите с веревки! Не топчите веревку!» – какое там! не слушают! Тогда в отчаянии я врезала матом с добавлением: «Не топчите… веревку». Подействовало сразу. Они мгновенно отлетели от веревки. Я вложила взрыватель в щель между рельсой и толом и тоже побежала сломя голову. Только успела залечь между грядок и намотать на ладонь конец веревки, как показался поезд. Почти рядом. Прошла первая платформа, половина второй платформы… Я изо всех сил дернула за веревку – о, ужас! Взрыва нет! Только я приподняла голову, чтоб посмотреть, что там такое на «железке», как вспыхнуло яркое пламя под паровозом, и грохот оглушил меня. Над головой что-то пролетело, еще и еще рядом. Я не стала ждать, и под грохот и скрежет металла вскочила, не оглядываясь, бросилась к лесу, подтягивая за собой веревку. Вдруг, перекрывая скрежет падающих вагонов, услыхала чей-то молодой мужской голос: – Ва-а-ся! Ва-а-а-ся! – и глухой говор. Какие-то приглушенные стенками вагонов голоса, как бульканье в кипящем котле. Я бежала изо всех сил, унося ценную для нас веревку, перескакивая кочки, на которых росли кусты картофеля, к лесу. Как вдруг услыхала рядом сухие стуки пуль о землю. Не слыша выстрелов от стука своего сердца и грохота сзади на рельсах, поняла все же, что меня обстреливают. Запетляла, меняя направление. Веревка, которую мы с таким трудом насобирали по кускам в селах, тут же за что-то зацепилась, пришлось упасть в ботву на землю и осторожно подтянуть застрявший конец. Намотав часть веревки через локоть на руку, снова вскочила и побежала к лесу. Все также изо всех сил. А пули продолжали с тупым стуком вонзаться в землю у моих ног. Казалось, лес не приближается, а отступает! За ноги цеплялась картофельная ботва. На рельсах за спиной лязг железа стих. И опять: «Ва-а-ся! Ва-а-а-ся!» А эти сволочи все стреляют! Пули тупо стукаются о землю! Наконец, деревья! Наконец, вот они, кони! Вскакиваю в седло, и уходим, уходим рысью от всей этой кутерьмы. Отъехали километров на десять. – Как это? Как ты нам крикнула?! – смеясь, на ходу «подколол» меня Лаврик. – Где только выучилась?! – А нас все попрекала: «Не ругайтесь! Не выражайтесь! Как не стыдно!» Воспитывала… – А сама всех нас переплюнула! Ну, самой-то не стыдно? Училка! Ребята хохотали надо мной, а я молчала. Что уж тут теперь… Я действительно протестовала и не разрешала в моем присутствии так ругаться, теперь они отыгрывались, поднимая меня на смех. И долго еще потом нет-нет да спросят: – Так, как ты нас обложила? Повтори, повтори-ка при Шурке! Они смеялись, а я все отмалчивалась. …В ушах у меня, нет-нет, да возникал снова лязг падающих вагонов и приглушенные крики немцев в них. Вскоре связные со станции Хролин сообщили нам, что кроме поврежденного паровоза в упавших вагонах погибло 26 и было ранено 42 немца. «Мало, – подумала я, – жаль, мало. В следующий раз хорошо бы посильнее долбануть. С двух сторон, двумя группами. Об этом надо сказать Шурке». Как оказалось, погибли не только немцы. Еще и машинист с помощником. Кого из них кто-то так отчаянно звал из уцелевшего вагона: «Ва-а-а-ся! Ва-а-а-ся!!», я так и не узнала. «Не возил бы ты, Вася, эту чуму по нашей земле, – думала я, – глядишь, жив бы остался…». Никого из них в то время я не жалела. Вскорости наши связные сообщили нам, что в село Рогачев пожаловал немецкий гарнизон. Состоял он из восьмидесяти голландцев. Оружия при них, по словам очевидцев, было «видимо-невидимо». Командир наш Шурка был очень доволен. – Голландцев разоружить! Оружие доставить в отряд! Все мы были, кроме Поплавского и Власюка, младше Майорова, ему тогда было 25 лет, и ни минуты не сомневались в правильности его решений. Вот как все было дальше. В одной из ближайших деревень крестьяне одолжили нам две подводы с лошадьми. Под вечер мы подъехали к Рогачеву. В роще поблизости оставили своих лошадей, а телеги подогнали к крайним хатам села. Перерезали провода связи голландцев с мадьярами, потом незаметно пробрались к зданию школы, где разместились голландцы. Майоров велел нашим ребятам залечь в палисадниках и за домами вокруг школы; а мне сказал: «Пойдешь со мной». Как только зашло солнце, рогачевцы, по обыкновению, запирались в домах, и село опустело. Однако было еще светло. Мы с Шурой Майоровым вышли из-за дома и направились к школе. В то время я довольно бегло говорила по-немецки и, когда часовой у школы крикнул нам: «Стой, кто идет», я громко сказала по-немецки: «Позовите вашего офицера, нам надо с ним поговорить». Мы подошли близко, и часовой мог нас хорошо рассмотреть. Шура был среднего роста, в черной кожаной куртке, на плече у него висел немецкий автомат, на фуражке над козырьком алела красная лента – партизанский знак. Защитные галифе были заправлены в сапоги. У меня тоже был вид для часового странный: кожаная черная куртка поверх ярко расшитой красными узорами украинской кофты, темно-серые брюки заправлены в сапоги. На голове я носила красный шелковый платок с бахромой, повязанный так, что красная бахрома обрамляла лицо, как волосы, которых все еще не было. Часовой минуту разглядывал нас, потом дал выстрел в воздух. Мы невозмутимо смотрели на него. На выстрел выглянули несколько голландцев из разных окон, а на пороге возле часового появился коренастый офицер. Не давая открыть ему рот, я громко сказала: – Господин офицер, вы окружены партизанами. Мы знаем, что вы не немцы, а голландцы. Вашей крови мы не хотим. Сдайте все оружие, и мы вас не тронем. Офицер с возмущением спросил: – Кто вы такие? Кого вы представляете?!! Я перевела. Шура заложил пальцы в рот и засвистел во всю мочь. Грохнул залп из автоматов по окнам школы. Посыпались стекла. В окнах исчезли головы. Испуганные офицер и часовой поспешно отряхивали с мундиров стекла. Я продолжала: – Мы представляем партизанский отряд. Вы окружены. Предлагаем разойтись без крови. Несите оружие. Мы знали, что оккупанты напуганы разными жуткими рассказами о партизанских расправах. Расчет Майорова был верным. Офицер, ещераз оглядев потемневшие палисадники и дома, совсем другим тоном сказал: – Хорошо, хорошо… без крови, без крови, мы согласны… – и вошел в дом. Шура опять засвистел, но по-другому. По этому свисту двое наших ребят должны были кинуться к подводам и подъехать к школе. Прошло несколько минут. Мы с Шурой стали прохаживаться перед школой. Стало быстро темнеть. Вдруг мы услышали стук колес, и появились две телеги. Правили лошадьми двое наших ребят с красными лентами на шапках. Подъехали к школе. Кое-где в окнах школы зажегся свет. Мы с Шурой спокойно продолжали прохаживаться, зная, что из школы за нами наблюдают. Было ли страшно? Конечно! Ведь перед школой в засаде осталось только четверо ребят! Упрись голландцы – и головы бы нам не сносить. Как медленно шло время! Наконец дверь открылась, и солдаты стали выносить ящики с гранатами, ружьями, патронами… Шура стоял на подводе, как Наполеон. Жестами он показывал, куда что ставить, и тихо поругивал голландцев матом. Когда закончилась погрузка, Шура подошел к офицеру: – А пистолеты? Я перевела. Офицер переминался с ноги на ногу. – Я что сказал?! – рявкнул Шура. – Пистолеты, вашу мать! И получил пистолеты! Целый ящик с патронами. Отобрал пистолет и у офицера. – Теперь все в дом! И чтоб до утра никто не высовывался! Я оставляю охрану, – пригрозил Майоров, сделав широкий жест в сторону домов напротив. Мы сели на края телеги, свесив ноги. Не оглядываясь, уже в темноте, выехали из Рогачева. Вдруг уже в поле увидели позади нас зарево пожара. Это ребята, отходя из села, подожгли гараж голландцев, где были, как они потом нам рассказали, два грузовика и легковушка офицера. Встретились мы все в роще, где оставляли коней, пересели на них и без остановки погнали тяжелогруженые телеги далеко через болота и буреломы к отряду. Отряд стоял в это время за болотом, в лесу, недалеко от женского монастыря города Корец. Вот, пожалуй, и все, уважаемый Валентин Иванович. Сама удивляюсь, как все припомнилось. Надеюсь, вам пригодится. Крепко жму Вам руку. Тамара.Письмо инвалида Отечественной войны, бывшего партизана Германа Иванова Уважаемая Тамара Николаевна! Пишет Вам бывший участник Новоград-Волынского подполья Иванов Герман Иванович. Я сам прикован к постели и не вижу. По мере сил и возможностей занимаюсь журналистикой. Помогают в работе ученики старших классов, комсомольцы. Пишу о героях войны, подполья и партизанах. Собирая материалы для очерка о командире диверсионной группы партизанского объединения им. Хрущева, соединения им. Щорса под командованием Маликова, Иване Майорове (Саше), я столкнулся с именем отважной разведчицы Тамары Лисициан. Уважаемая Тамара Николаевна, если вы та самая партизанка, которую я разыскиваю, то очень прошу вас откликнуться на мое письмо и рассказать о себе, о вашем побеге из плена и тех, кто бежал с вами. Жду ответа. С глубоким уважением, Герман Иванов. Адрес на конверте. Письмо написано под мою диктовку учеником 8-А класса средней школы № 12 г. Новоград-Волынского Александром Давыдюком.
* * *
Уважаемый Герман Иванович, я получила Ваше письмо и спешу ответить. Я действительно была в подрывной группе Майорова отряда им. Хрущева, соединения им. Щорса под командованием Маликова. Откуда вы об этом узнали? Как нашли мой адрес? Очень я вам благодарна за внимание и за Ваш благородный труд, который Вы продолжаете, несмотря на свое тяжелое состояние здоровья. Желаю Вам бодрости, по возможности улучшения здоровья и творческих успехов. Это письмо мне писать нелегко. Приходится признаться, что я очень многое забыла. Забыла сознательно, пусть Вам не покажется слово «сознательно» странным. Я попытаюсь вам его объяснить. Война для меня, как и для всех людей, была страшным потрясением. Почти все, пережившие ее активно, оказались травмированными ею психически так сильно, что в той или иной степени всю жизнь продолжают страдать от воспоминаний. Воспоминания эти в основном тяжелые, мы все теряли друзей, нас убивали, и мы убивали, и страх, и голод, и ненависть – все смешалось, все калечило и терзало души, особенно молодые, а нам было по 18–19 лет! Когда кончилась эта ненависть, я все еще просыпалась по ночам в холодном поту, мне казалось, что война все еще идет. Во сне, по словам моей мамы, я вскрикивала, не просыпаясь, вставала с постели, ходила по комнате и говорила то по-русски, то по-немецки, то по-грузински. Сама я этого не помнила по утрам. Но все, что напоминало мне войну, и днем вызывало в душе моей отчаянную тоску. Тоску по погибшим, по искалеченным, тоску от мысли обо всем, что поправить, даже после нашей великой Победы, на мой взгляд, было нельзя. Я долго не могла опомниться от всего пережитого и осмысленного во время военных потрясений. Ведь тогда и речи быть не могло о психологической реабилитации вернувшихся с войны. И вот я сказала себе: «ЗАБУДЬ!» У меня осталось к этому времени так мало сил, что иногда я стала бояться, как бы все пережитое не вызвало у меня нервное заболевание, психический надрыв. А ведь надо было дальше жить, учиться, работать. Я не стала смотреть фильмы и пьесы о войне или концлагерях, не стала читать книги или слушать радиопередачи на эту тему. Заставляла себя переключаться на другие темы и впечатления. Заставляла усилием воли, много лет подряд, и выжила. В таких случаях каждый спасается как может. Некоторые, наоборот, до сих пор живут воспоминаниями, и это поддерживает их в нынешних трудностях или невзгодах, а я сохранила себя для работы, для дальнейшей борьбы с трудностями всякого рода, заглушив воспоминания, насколько это возможно. За тридцать лет такая самозащита дала свой результат. В нем есть и положительные, и отрицательные стороны. То, что я уцелела, не сломалась от пережитого, факт положительный, но то, что я заставила себя забыть и плохое, и хорошее, случавшееся вокруг меня во время воины, имеет и свои отрицательные моменты. Общие события я помню, но то, что касается подробностей, которые интересуют сейчас историков, журналистов, пионеров… я с огорчением должна признать, что это стерлось в моей памяти. И рада бы припомнить, но это теперь или требует горьких усилий, или вовсе не получается. Так же, как я начисто забыла немецкий язык, на котором свободно говорила во время войны. Мой сын, который, как все мальчики, родившиеся после войны, зачитывался военными мемуарами, историческими и художественными описаниями военных событий 1941–1945 годов, знает о войне гораздо больше, чем я, пережившая эти события на конкретных, сравнительно малых участках. Я понимаю, что это мой большой недостаток, но поверьте: при том душевном состоянии, в котором я вернулась с войны, лично для меня это был единственный способ уцелеть и не попасть в сумасшедший дом. Теперь, я думаю, что вам ясно, почему я никогда не писала своих воспоминаний. Вы скажете – эгоизм. Да, но, пожалуй, не столько просто эгоизм, сколько чувство самосохранения, которое четко определило мои силы, возможности и, в связи с этим, поведение после войны. Просто я надорвалась и так себя лечила. Приведу вам пример того, как не всегда заметно, но тяжко нас уродовала война, когда ее не удавалось задавить в памяти. После войны прошли годы. Я вышла замуж, работала за рубежом. В августе 1952 года я вернулась в Москву с мужем и сыном. Мы приехали учиться. Пока я жила и работала в Риме, почти все мои однополчане разъехались по Советскому Союзу. Кто по работе, кто к родным. Даже москвичи по разным причинам поменяли свои адреса и телефоны. На прежнем месте я нашла только Лелю, Елену Павловну Гордееву, теперь уже по мужу Фомину, мою самую близкую и любимую подругу. Вспоминая прошлое и наших однополчан, Леля вдруг сказала: – Ты знаешь, Коля-то Николаев счастливо женился. (Тут я вынуждена изменить имя нашего товарища, о котором пойдет речь. В дальнейшем ты поймешь, почему.) Живет он теперь на улице Горького, в центре Москвы. У них родился сын недавно. Николай, наверняка, будет очень рад повидаться с нами. Хочешь, я ему позвоню? – Конечно! – обрадовалась я. И вот мы в гостях у Николая. Мы, это я с мужем и Леля. Встреча, в самом деле, была замечательной! Мы столько лет не виделись! Николай за эти годы успел закончить Литературный институт, работал в какой-то газете, теперь уже не помню, в какой. Собирал воспоминания наших ребят о войне, писал и свои. Готовил книгу о партизанских рейдах. Мы были уверены, что книга у него получится интересной. Он был умен, начитан, до войны, ребенком, прожил несколько лет с отцом-дипломатом в Англии, свободно владел английским, хорошо рисовал и был прекрасным рассказчиком. В начале 1942 года Николай пришел добровольцем в нашу воинскую часть 9903 и сразу обратил на себя внимание. Стройный синеглазый блондин со слегка вздернутым тонким носом и безупречными манерами сильно отличался от остальных. Он был младше всех нас, но как-то сразу же сумел войти со всеми в контакт на равных. Коля вылетел в тыл к немцам весной 1942 года в составе диверсионно-разведывательной группы раньше нас с Лелей. После ужина, уютно расположившись в маленьком кабинете Николая, мы наперебой делились воспоминаниями о наших походах, о послевоенной жизни. Говорили и об Италии, и о Литинституте, и о наших разъехавшихся товарищах. Как вдруг мой муж, молчавший весь вечер, уловив паузу, спросил, показывая на стену, где под автопортретом Николая в партизанском обличии с автоматом на груди висели охотничье ружье, пистолет, какая-то сабля и еще что-то в этом роде: – Это что же, ваши орудия производства? А это, – он протянул руку к письменному столу, – результат, образец производства? Мы посмотрели на письменный стол, где возле чернильного прибора и папок с бумагами лежал человеческий череп. Я и раньше его заметила, но не обратила особого внимания, посчитав муляжом. Когда я училась в театральном училище, у нас среди множества реквизита был и череп, с которым Гамлет произносил свой монолог. Но тут… Наступила пауза. Николай молча взял череп в руку и протянул его нам с Лелей. – Узнаешь? – спросил он меня. Я внимательно посмотрела на череп. Он был без нижней челюсти. На темени, почти посередине, чернела круглая дырочка величиной чуть меньше копейки, а от нее шла вбок тоненькая трещинка. Я вопросительно посмотрела на Колю, ничего не понимая. – Это Надя Ковалева, – сказал он спокойно. – Как Надя?! – одновременно выдохнули мы с Лелей. В это время в комнату притопал двухлетний сын Николая, Вася, белокурый ангелок. Он вытянул ручку и, улыбаясь, показал пальчиком на череп в руке у отца: – Тетя… – пролепетал малыш. – Ты что? – спросила глухо, не своим голосом, у Николая Леля. Лицо у нее страшно побелело. Я в ужасе застыла. – Да, Надя, – спокойно повторил Коля, возвращая череп на письменный стол. Он взял сына на колени и стал рассказывать. – Я был влюблен в Надю. Влюбился с первого взгляда, как только увидел ее у нас на Красноказарменной. На занятиях по самбо. Мы познакомились, и я просто потерял голову. Конечно, я не смел даже вида подать. Мне было шестнадцать, а Наде – двадцать лет. Я робел и мучился от мысли, что скоро нас отправят в тыл к немцам в разных группах, и я ее потеряю. И надо же такому случиться! Нас определили в одну группу Сазонова. Надя вместе с Аллой Богдановой была с нами. Я был счастлив! Только и думал о том, как буду охранять ее во время опасных заданий, как покажу ей, на что способен в бою, как заслужу если не любовь, то хотя бы ее восхищение и дружбу вначале… Но все получилось совсем по-другому. Оказывается, Надя приглянулась не мне одному. Сазонов стал приставать к ней сразу же, как только мы оказались в тылу. Вы помните ее, какая отчаянная, боевая была девчонка? Она сразу же послала его к «той матери», и было это не однажды. Сазонов, бывший политрук, был крутого нрава. Он пригрозил ей расправой. Она опять отшила его. Тем временем и наш орденоносец Кухаренко тоже полез к ней с такими же предложениями. Надя и его послала, куда следовало. Время шло, мы выполняли боевые операции, минировали, собирали разведданные. Надя поражала меня своей храбростью и неутомимостью. А про этих подлецов я и не догадывался. Как они ее подловили! Была она как-то на посту. Стояла на краю леса. Перед этим Сазонов отменил правило, по которому девчонок не ставили в охрану. Перед Надей, на опушке проходила дорожка, вроде тропки. За ней, метрах в тридцати, стояла хата лесника. Жара была невыносимая. Жара и тишина. Надя решила попить воды у лесничихи. Сошла с поста и, не спуская глаз с этого места, подошла к хате. Лесничиха вынесла ей кружку с водой. На беду Сазонов и Кухаренко делали то ли обход постов, то ли следили за Надей, во всяком случае, оба появились на ее месте и, подозвав, обвинили в том, что она «покинула пост в военное время». Отвели ее в штабную землянку, кого-то там еще позвали. Состряпали протокол и приговорили ее к расстрелу! Я в это время стоял на посту на другом конце нашей лагерной территории. Вижу, двое наших ведут Надю мимо меня в лес. Один из них – Кухаренко. Они с автоматами, а она без оружия и без ремня. Идет и матом их кроет. Я понять ничего не мог. Они скрылись за деревьями, и вдруг слышу – выстрел. У меня сердце оборвалось! Что это?! Появились парни без Нади, подошли, и Кухаренко говорит: – Сменишься, возьми лопату и закопай там… – кивнул туда, откуда пришли. А в руках у него Надины хромовые сапожки. Я чуть с ума не сошел! Сменили меня, и я, даже не помню, как закопал ее… Глаза ей не смог закрыть, застыли. Накрыл лицо ее стоптанным беретом… Коля закурил, помолчал и вышел из комнаты. Мы сидели, ошарашенные его рассказом, и старались не смотреть на письменный стол, на то, что осталось от нашей подруги. Рассказ продолжила жена Николая, Алена: – Когда мы поженились, как-то летом Николай предложил во время отпуска пройти по его партизанским тропам. Я была счастлива! Вы все у меня герои! Увидеть ваши места, да еще вместе с Колей! Я с радостью отправилась с ним в Белоруссию. Ходили мы, ходили, обошли много стоянок, видели землянки, кое-где окопы. Все, конечно, осыпалось, обветшало, заросло травой. Землянки если не осыпались, то отсырели, пахло, как из могил. Но вообще-то места там красивые. Мне понравилось. Под конец пришли мы к еще одному лагерю с землянками. Там Коля нашел потревоженную могилу. «Возможно, волки раскопали», – сказал он, и мы решили кости перезахоронить. Так и сделали. Все сложили в глубокую яму, засыпали, а череп Коля захотел взять с собой. Рассказал мне про нее, – кивнула Алена на череп. – И положили мы череп в мешок. Сели в поезд, а запах из мешка тако-о-й! Все на нас смотрят… Слезли мы, снова в лес пошли и в ведре на костре вываривали череп несколько часов. Так он теперь у него на столе и лежит. Мы молчали, убитые горем, потрясенные гибелью Нади и поступком Николая. Не находили слов. Попрощались, как на похоронах, и спустились на улицу. В глазах у меня стояло миловидное краснощекое лицо Нади, ее коренастая фигурка, непослушные русые волнистые волосы, торчавшие из-под темного берета, чуть раскосые, серые веселые глаза, смешно сморщенный в улыбке нос. Я знала, что ее одинокая мама жила в двух шагах от Николая, на Пушкинской площади. Оплакивала свою единственную дочь, пропавшую на войне… До сих пор с глубокой тоской думаю о них. Через несколько дней я встретилась с нашим бывшим командиром, Спрогисом. Он жил один на Дорогомиловской улице, и наши ребята часто его навещали. Поговорив о том, о сем я, все еще под сильным впечатлением от посещения семьи Николая, рассказала Артуру Карловичу о бедной Наде. Я ждала, что Спрогис тоже ужаснется и согласится со мной, что Николай, несмотря на внешне благополучный вид, сломался на войне. Стал невидимым инвалидом, как многие из нас. Но Спрогис помолчал, а потом заметил: – Дураки они с Аленой. Зачем было вываривать череп? Положили бы в муравейник, было бы быстрее… И все?! Больше он ничего не сказал. Видимо, что-то случилось и с ним… нечеловеческое. Душа окаменела. Позже я узнала, что Сазонова и Кухаренко после войны судили и дали им одному пятнадцать, другому девять лет строгого режима. Отсидев свой срок не полностью, после амнистии вернулись они в Москву, и как-то пришли на наше собрание в Комитет ветеранов войны на Кропоткинскую. Все, кто оказались рядом с ними, постепенно стали пересаживаться на другие места, подальше. Вскоре вокруг них никого не осталось. Они сидели в окружении пустых стульев. Ту амнистию никто не принял и ничего не простил. Теперь их больше нет. Вскоре один за другим они умерли. И Коля умер. Тяжело умирал, несколько лет, от болезни Альцгеймера. Вот она, неизгладимая печать войны. Невидимые, незаживающие раны. Так что я тоже – просто обыкновенный, душевно израненный солдат, дорогой Герман, и то, что вы считаете нужным писать обо мне, мне кажется не очень подходящим и не очень интересным занятием. Для меня, во всяком случае. Таких, как я, много. Писать надо было бы об особенно выдающихся воинах. Их тоже немало. Вы еще спрашиваете, с кем я бежала из концлагеря. В разное время в течение 1944 – в начале 1945 годов все трое погибли. К сожалению, на Житомирщине остались только могилы этих бесстрашных людей. Смерть на войне – всегда трагедия, но то, что случилось с одним из них, Володей Куниным, трагедия вдвойне. Володя возвращался с задания. Вышел из леса и увидел в поле наших наступающих солдат. С радостью бросился к ним, размахивая над головой автоматом. Солдаты увидели его и стали кричать: «Бросай оружие!» Ошалевший от счастья Володя не слышал, что ему кричали, и продолжал бежать к ним, смеясь и тоже что-то крича. Они опять крикнули: «Бросай оружие!» Он их не слышал и все бежал, высоко над головой держа автомат, размахивая руками… И они убили его. Он так и застыл с улыбкой на губах. В районе было много бендеровцев, и солдаты были строго предупреждены. Его, вероятно, приняли за бендеровца. После войны колхозники рассказывали, что на могилу к нему приезжала молодая жена из города Горького с Волги. Вот, дорогой Герман, и все, что я наскребла на сегодняшний день в своей памяти, если пригодится, буду рада. Расскажите о своей семье, о своих делах, о ветеранах, с которыми дружите. А тем из них, кто помнит меня, сердечный привет. Крепко жму руку. Тамара. Дорогая Тамара! Ты не поверишь, я шестой раз принимаюсь за письмо к тебе, но моя беспорядочная жизнь «цыганки» не дает мне его дописать. Все это время я езжу с мужем по разным странам с его концертами, а недописанное письмо в мое отсутствие прячется в разных бумагах – моих недругах, которых скапливается на моем письменном столе все больше и больше. Ты его помнишь! Никак руки не доходят навести порядок. Мечтаю когда-нибудь разобраться, однако это несбыточные мечты! Гора бумаг и документов все растет и растет. Сегодня я посылаю тебе письмо Миммы Гандосси. Надеюсь, что ты не рассердишься на меня за то, что я дала прочесть нашим друзьям часть неоконченной книги. Тебе, наверное, все же интересно, как принимается твоя работа, твои воспоминания итальянским подростком, одним из тех, во имя кого мы с тобой все и начинали. Прочти и продолжай, моя сестричка. Обнимаю. Твоя Элиана. Письмо Миммы Гандосси: Дорогая Тамара, я никогда не отдавала себе отчета в том, что значит страдать. В мои 16 лет страдание мне всегда казалось легко преодолимым злом. Я никогда не представляла себе человека зверем без всякого следа человечности. Мы были созданы для того, чтобы любить, а оказывается… Страдания на войне я считала чем-то давно прошедшим, чувствами, которые принадлежат прошлому. Однако, читая Ваши воспоминания, я поняла, как они разъедают души тех, кто лично пережил войну, кто присутствовал при геноциде, кто видел в душах других, себе подобных, – ненависть. Я, переживающая любую ссору с сестрой, я, которая сердится из-за пустяка, не отдаю себе отчета в своем везении. Я – свободный человек, и не вникаю в смысл этого. Не ценю по существу важность этого понятия. Каждое слово этих воспоминаний вонзалось в мое сердце и ранило его намного сильнее, чем боль, испытанная мной в детстве, при виде нищего ребенка на улицах Бергамо, или теперь, когда, отправляясь в дом престарелых, нахожу там старушек, забытых всеми, брошенных собственными детьми. Я хочу сказать, что эта книга показала мне со всей глубиной, на что способен человек, не ведомый Богом, и в то же время – как он может измениться, если его ведет любовь к Богу, смелость и сила духа. Я молода, и, как и у всех молодых, воспоминания об ужасных военных временах вызывают не только пристальное внимание, но и надежду внести и мой вклад в то, что поможет хотя бы немного изменить Мир, сделать его Миром любви, добра и братства. В то же время, как все молодые, я понимаю, что ничего не знаю о жестокой действительности вокруг нас, той жизни, которую я хочу открыть для себя и жить в ней без остановки, пока смогу. Признаюсь, я часто задаю себе вопрос, что бы случилось, если бы разразилась война в Италии? Как бы я поступила? Стала бы я смелой патриоткой, как вы с другими ребятами. Смогла бы бороться и воевать так, чтобы война не раздавила мое сердце и не изуродовала страданиями? Я не могу себе ответить. Я боюсь. Я уверена, что будет правильно опубликовать эту книгу. Люди должны это знать, им это просто необходимо. Нельзя забывать прошлое только потому, что оно не настоящее. Прошлое нужно нам, как урок на будущее, но трудно сделать так, чтобы это произошло. Мне жаль, что вам придется продолжать писать, потому что я уверена: работа доставляет вам, пережившей все это, много страданий и большую боль. Но, уверяю вас, ваша книга поможет многим людям, таким, как я. Когда вы допишите, и я прочту все до конца, я не закрою эту книгу навсегда, не оставлю ее на чердаке или плесневеть в подвале, как случается с какой-нибудь другой книгой. Она будет для меня большим и важным уроком на всю жизнь. Она открыла мне глаза, потрясла, но не омрачила желание жить и бороться. В ней я нахожу для себя удивительную силу, которая заставляет меня сжать зубы и не сдаваться! Хотя я прочла книгу не до конца, только то, что вы пока написали, она меня покорила! Слезы текут у меня по лицу, и рука дрожит, пока я пишу это, но я считаю необходимым дать вам знать о том, что думаю и что чувствую. Спасибо. Мимма (Мария-Джулия). Дорогая Элианочка! Ты и Мимма очень порадовали меня вашим посланием. Можно даже сказать, вдохновили. Если за нами в мир приходит такая молодежь, значит, мы жили не напрасно. Еще раз убеждаюсь в том, как ты была права тогда вначале, убеждая меня. Поцелуй за меня Мимму и обними ее родителей, Франко и Марию-Розу. Мимме я напишу позже, сейчас не успею. Сегодня вечером я со своей съемочной группой уезжаю в Румынию, на съемки фильма, о котором я тебе раньше писала. Он будет называться «Тайна виллы Грета». А пока посылаю тебе еще несколько писем моих друзей-ветеранов. Позвоню тебе из Румынии. Обнимаю, твоя Тамара. Письмо бывшего партизана, колхозника Григория Власюка Власюк Г.Е., бывший партизан, с дочерью Ольгой и внуком Сергеем. Москва, Красная Площадь, 1977 г.
Власюк Г.Е., бывший партизан, с дочерью Ольгой и внуком Сергеем. Москва, Красная Площадь, 1977 г.
Здравствуйте, уважаемая Тамара Николаевна! Боевому другу моей молодости, бесстрашному диверсанту, с кем вместе прошли сотни километров партизанских троп в тылу врага, мой боевой партизанский САЛЮТ! Шлю также привет и массу наилучших пожеланий Вашему мужу, Виктору Федоровичу, и сыну Саше. Представьте себе, Тамара Николаевна, какая радость постигла меня, когда я получил письмо от Ивана Афанасьевича, где он сообщил, что Вы и вправду живете в Москве, что он говорил с Вами и дал мне Ваш адрес. Ведь я думал, что я одинок, что все мои боевые друзья, которые остались в живых, так и разъехались по необъятной Родине, и поделиться радостями и невзгодами мне не с кем. Ведь членов нашей диверсионной группы в живых осталось мало. Митя Арбузов и Володя Кунин погибли в 1944 году, наш боевой командир Майоров – в 1945. В парке г. Здолбунова на обелиске перед вечным огнем высечено его имя. Двое – Костя Темников и Коля Бакшишев – в 1945 году осуждены за хулиганство, так как в пьяном виде разоружили милиционера. Костя Темников пытался бежать, и был убит. Коля Калюжинский (Маленький) в 1948 году ехал товарным поездом из Шепетовки, в районе Дубровки он спрыгнул на ходу с поезда и погиб. Лаврик Терасимчук (помните, который по заданию Майорова ушел служить в полицию, а потом украл несколько винтовок и пришел к нам), после войны влюбился в дочь своей жены от ее первого брака и стал на путь воровства и многоженства. А в 1970 году он покончил с собой, повесился. Коля Блаженов и Гриша Бондаренко где-то во Львове служили в КГБ, и последнего их местожительства не знаю. Как видите, встретиться с друзьями-однополчанами или письменно поделиться воспоминаниями мне не с кем. Иногда бываю в Житомире, захожу к майору Кириленко Захару Иосифовичу – командиру нашего отряда, – тогда мы целыми днями или ночами за стопкой вина вспоминаем наши боевые дела. Несколько слов о себе. После войны меня оставили в западных областях Украины для наведения порядка и усмирения бендеровцев. Я пробыл тут по июнь 1947 года. Здесь, на землях Западной Украины, меня настигла судьба моя, любовь моя, и в конце 1947 года произошло бракосочетание святого раба Григория с молодой девицей Марией Павловной. Это произошло на закате моей молодости, и я думал, что у меня не останется потомства. Но Бог милостив (хотя я ему не вполне доверяю), он послал мне в 1948 году дочь Олю, в 1950 г. – двух сыновей-близнецов Сашу и Васю, в 1954 г. – сына Толю, а в 1956 г. – двух дочерей-близнецов Соню и Тоню.
 Партизанский отряд имени Хрущева Соединения имени Щорса.
Второй ряд справа: командир подрывной группы Иван (Шура) Майоров, 1943 г.
Партизанский отряд имени Хрущева Соединения имени Щорса.
Второй ряд справа: командир подрывной группы Иван (Шура) Майоров, 1943 г.
Если к этому прибавить трех зятьев и трех невесток, то я, как глава семейства, буду на достойном уровне. В настоящее время все дети взрослые, разъехались по работам, а мы со старушкой помаленьку живем, дышим чистым воздухом и занимаемся сельским хозяйством. Я 19 лет и 6 месяцев работал в сельсовете, был председателем и секретарем, а с 1968 г. работаю в конторе колхоза. Мои родители умерли в Мирославле, там похоронено и много партизан – я ежегодно весной еду на кладбище на поминки. Все пока хорошо, только в старости тревожат раны, особенно та, финская, полученная в феврале 1940 года. Тамара Николаевна! Убедительно прошу, дайте ответ, вышлите фото, мы его поместим в уголок боевой славы, и свое семейное. Пусть оно пополнит мой архив, всегда напоминающий мне о моей молодости. Я вам это сделаю взаимно. Спасибо за внимание. Пишите. Жду. Ваш боевой побратим Власюк Г. Здравствуй, дорогой Гриша, побратим мой боевой! Как же ты меня обрадовал и взволновал своим письмом! Вот уж несколько дней я мысленно отвечаю тебе, рассказываю в ответ на твои вопросы, а сесть за письмо не могла – так волновалась и не знала, с чего начать, как выразить и радость, и печаль мою по поводу того, что ты мне описал. И хотя ты теперь, через тридцать лет, найдя меня, и стал меня величать по отчеству и на «Вы», сразу скажу тебе, что зря, так как я все та же. Нас породнили пережитые вместе беды и радости. Воспоминания о них для меня так же святы, как и для тебя. Поэтому, запомни раз и навсегда: пока мы живы, отношения наши, дружба и доверие не могут измениться или «постареть». Они, как наши погибшие товарищи, навсегда останутся молодыми. Поэтому письмо твое мне дорого, как весточка от потерявшегося и вдруг объявившегося брата. Спасибо тебе за него и за то, что ты нашел способ восстановить нашу связь. После твоего письма, Гриша, я вдруг так ясно припомнила и Мирославль, и Славутскую свою эпопею, и наших бедных ребят, так захотелось тебя увидеть, что не оставляет меня неожиданная мысль – не махнуть ли мне дней на десять в село Украинку, где-нибудь в конце августа – начале сентября? Может, найдется там у вас на свежем воздухе, о котором ты пишешь, тихий уголок для отдыха? Как ты на это смотришь? Вот бы и наговорились! Обнимаю тебя, твой боевой друг, старый солдат. Тамара.
Письмо московского журналиста Соколова Юрия Федоровича Бекреневу Валентину Ивановичу, директору музея «Партизанской Славы» Здравствуйте, уважаемый Валентин Иванович. Сегодня выслал Вам материал о подкопе и о побеге Лопухина в конце 1943 года из Славутского лагеря, как Вы просили. Кроме того, хочу рассказать Вам о встрече с бывшим партизаном Власюком Григорием Емельяновичем на празднике Победы в Славуте. Я тогда не успел Вам о нем рассказать. В спешке мы с Вами едва успели попрощаться. Думаю, что Власюк Вас должен заинтересовать. У него отличная память. Музею он может пригодиться. После митинга на цикорном заводе мы с Григорием Емельяновичем и Тамарой Николаевной вышли вместе на улицу. Время было обеденное. Зашли в ресторан «Горынь» пообедать. Власюк ни на шаг не отходил от Тамары Николаевны. Он приехал за ней из деревни, в которой жил, с намерением увезти ее с праздника Победы в Славуте в свой колхоз, где ее знали и ждали. Сели мы за столик у открытого окна. Официантка приняла заказ и ушла. За столом продолжался разговор о том, что на праздник в село «Украинку» собралась вся многочисленная семья Власюка, родные из соседних сел, все ждут их. Власюк все еще надеялся уговорить Тамару Николаевну. Но она дала слово секретарю горкома партии выступить в Доме офицеров города как бывшая партизанка, а ныне Заслуженный деятель искусств РСФСР. Не могла она нарушить обещание, тем более что была гостьей горкома. За чаем Тамара Николаевна отодвинула от себя черничное варение, на что Григорий Емельянович ехидно заметил: – Все не можешь забыть черничную поляну? С тех пор чернику видеть не могу, – призналась она с грустной усмешкой. Григорий Емельянович повернулся ко мне и рассказал: – Особист в нашем отряде косо смотрел на ребят из Славутского концлагеря: «А не послали ли их немцы с заданием?». Это стало у него просто как болезнь: никому не верил. Разбираться некогда, и на всякий случай приказали проверить. Тамарой заняться поручили Шурке Майорову. Он взял с собой Ваську Калюжинского. У парня и пистолет, и сердце в случае чего не дрогнет. Отошли подальше, на черничную поляну. Тамара накинулась на чернику, ребята тоже собирали. И вдруг Шурка говорит: «Ты отсюда больше не уйдешь. Давай, выкладывай, кто тебя выпустил из лагеря. Скажешь, тогда мы, может, еще подумаем». А Калюжинский добавил: «А так и думать не станем». От возмущения Тамара слов не находила. Ругала их и сволочами, и гадами ползучими. Они матом на нее, а она размазывала злые слезы черными от черники ладонями и кричала: «Предатели! Не желаю с вами разговаривать! Стреляйте, сволочи!!!» Часа полтора орали друг на друга. Они свое, она свое. – Ну ладно, пошли, – сказал, наконец, Майоров. Он еле сдерживался от смеха. Все лицо у нее было в чернике. Когда мы их увидели, так и закатились: «Негра привели»! Шурка потом в штабе за нее горой – и взял в нашу группу. Она была отчаянная, многие у нас ее побаивались… Когда Тамару Лисициан увезли на выступление в Дом офицеров, мы с Власюком продолжали беседовать. – Да-а, жизнь была каждый час интересная, – говорил он. Смотрю в обветренное, морщинистое лицо, в голубые глаза бывалого человека, хочется побольше узнать о партизанском житье-бытье. – А что вы делали в перерывах между боями? – Известно дело: чистили оружие, чинили обувку, одежку, харч доставали, песни пели… Тамара в такие тихие часы рассказывала нам много интересного. – О чем же? – Про книги там разные, про медицину. Ее многому научили военнопленные врачи в Житомирском концлагере. Про астрономию хорошо говорила, про заграничные страны, которые хотелось посмотреть, про Грузию. Она даже пела нам грузинские песни! – Она же армянка, хотя… – Ну и что! А дружба народов? – легко разрешил недоумение Власюк, и мы с ним от души засмеялись. – Теперь у нее есть и украинские любимые… послушали бы вы, как она спивает: «Ты ж мэнэ пидманула, ты ж мэнэ пидвела, ты ж мэнэ молодого з ума розума свела…» Она вообще из певческого рода. От мамы, видно, от терской казачки, она голос получила, не от одних армян. И смелость… Знаете, какие казаки? Вот и она у нас такая… Григорий Емельянович рассказывал мне, как гостил со своей супругой у Тамары Николаевны в Москве, она показывала Музей Революции, Мавзолей. Побывали и на киностудии… – А она приезжала к вам? – Как же! И не один раз. Колхоз ее встречал с караваем на рушнике как почетного гостя. У нас Тамару Николаевну хорошо помнят и любят, особенно в Мирославле, да и в других селах. Это наша героиня. – А где теперь ваш командир Майоров? – Он погиб в 45-м. Расскажу, как было. …В 1945 г. в село Украинка Острожского района Ровенской области прибыли около 25 солдат во главе с лейтенантом Казаковым для охраны укрепрайона. В селе в это время находились бывшие партизаны в таком же количестве, тоже вооруженные, которые работали в подсобном сельском хозяйстве (колхоза еще не было) и несли охрану здания, в котором жили все вместе. Между партизанами и солдатами дружбы не было. 25 декабря 1945 г. подвыпивший Шурка Майоров (он был в это время директором подсобного сельского хозяйства) шел по селу темным вечером и увидел часового солдата. Шурка отобрал у него винтовку и принес ее лейтенанту Казакову с упреком, что его солдаты плохо несут службу, у них ничего не стоит отнять оружие. Казаков возмутился, но согласился распить с Шуркой и со мной бутылку водки. Посидели, выпили. Потом я пошел на дежурство и вдруг слышу – две очереди из автомата. Мы с товарищами бросились туда, где стреляли, и в темноте услыхали стоны смертельно раненого Шурки. Три пули перебили спину (почки), три попали в голову и шею, одна в ногу. Шурка возвращался на свою базу, когда в темноте в него стал стрелять тот солдат-чуваш, у которого он отобрал винтовку. Мы все, товарищи, подобравшие Шурку, видели группу Казакова, которая, не прячась, стояла возле кустов на противоположной стороне улицы и наблюдала, как мы поднимали Майорова. Один из товарищей Шурки, Филипп Кондратюк, хотел дать по ним очередь из пулемета, но я его вовремя остановил и не допустил дальнейшего кровопролития между солдатами и партизанами. Шурка страшно мучился и все просил меня пристрелить его, чтоб прекратить мучения, но я не мог, и он ругал меня за это. «Не можешь другу помочь!» – кричал и ругался. Но я не мог. Это на войне было можно, а в мирное время меня бы посадили. А он все просил… Как выяснилось на следствии после смерти Шурки (он жил после ранения 5 с половиной часов, его довезли до города Здолбунов, где он умер у меня на руках и похоронен), Казаков велел и в тот злополучный вечер солдату-чувашу расправиться с обидчиком. «Сделай из него кисель», – сказал солдату Казаков, и тот убил Майорова. На суде его оправдали, и за смерть Шурки никто не был наказан. Через много лет в селе Оженин Ровенской области я встретил нищего, оборванного, заросшего бородой человека, который узнал меня и признался, что он – тот самый бывший лейтенант Казаков. На мой вопрос, как он докатился до такого состояния, Казаков попросил сначала поставить ему кружку пива, а потом… Но я не стал больше с ним разговаривать и ушел. Больше никто этого Казакова не видел… В мае 44-го, когда партизанское соединение было расформировано, а Майоров с группой партизан был послан в Чехословакию с боевым заданием, Григорий Емельянович продолжал борьбу с украинскими националистами и работал в Управлении восстановительных работ Ковельской железной дороги. С 47-го – почти двадцать лет проработал в сельсовете секретарем и шесть созывов был председателем… Вы можете найти его, Валентин Иванович, по адресу: Ровенская область, Острожский район, село Украинка. Всего Вам доброго, напишите, когда получите материал о Лопухине. С уважением, Ю. Соколов
* * *
Здравствуй, дорогой друг мой Гриша, получила я вчера удивительное письмо (с посылкой) из Харьковской области. Удивляюсь и ломаю голову, от кого бы это. Никого знакомых у меня там нет. В ящике две пол-литровые банки: одна со сметаной, другая – с абрикосовым компотом, и свежая выпотрошенная курочка в марле, пропитанной уксусом, все это засыпано семечками и, конечно, от этого курочка свежая! А, кроме того, письмо на страничке из детской тетрадки. «Привет из совхоза Комсомолец. 17.11.74 года. Харьковская область. Ст. Лозовая. Здравствуйте, крестная Тамара Николаевна. С приветом к вам ваша крестница Маруся, а также мой муж Вася и мои дети. Крестная, узнавши, что вы живы, я решила послать вам письмо и маленькую посылочку, может, вы будете недовольны, но мне хочется познакомиться с вами и повидать вас. Но поскольку мы теперь не можем повидаться, то прошу, примите мою маленькую посылочку и, как получите, будьте добры, ответьте, получили ли вы ее, и как все дошло, не испортилось ли. Я работаю дояркой, а Вася трактористом. Старший сын ходит в 4 класс, а двое дома. Прошу, крестная, сообщите, как получите, и прошу, не обижайтесь и будем знакомы. До свидания, примите привет от меня и Васи и моих детей»[26]. Я читала со слезами на глазах от нежности и радости. Это дочка Павло Тучи, которую мы с Шурой крестили и по его настоянию в Мирославле еще тогда, в 43-м, во время войны, ночью, при немцах. – Пусть все знают, что дочь мою партизаны крестили! – настаивал Павло тогда. Ты, Гриша, в это время был уже ранен, и мы приехали к Мирославлю без тебя. Хотели дождаться поезда возле Радулино и подорвать его утром, как только он двинется в нашу сторону. Приехали мы, как всегда, верхом, ночью, и остановились на краю села, возле хаты Гриши Войтовича. Гриша спрятал коней в своем сарае, дал им корма. Мать Гриши, Марта Михайловна, как только мы вошли, стала хлопотать возле плиты, торопясь накормить нас. Мы разулись, умылись и стали устраиваться на ночлег. Вдруг в хату постучал, напугав нас всех, Павел Туча. Он был сильно навеселе. Павел притащил с собой бутыль самогона и объявил нам, что, пока нас не было в селе, у него родилась дочка, и что он просит меня и Майорова быть ей крестными матерью и отцом. Мы были удивлены и взволнованы тем, что на оккупированной фашистами земле, в такую лихую годину человек просит партизан быть крестными его дочки, прекрасно зная, что вся его семья за это может быть уничтожена, если немцы об этом проведают. – Мы, конечно, комсомольцы, – заявил Майоров, – но это дело политическое. Черт с ним, с попом, пошли! Мы с Шурой снова натянули сапоги и пошли по темным переулкам в хату Тучи, где нас уже ждал мирославский священник, Кузнюк Анатолий Иванович, и все родичи Тучи. – Вы крещеные? – первым делом спросил Кузнюк. – Да, – ответила я уверенно, так как знала, что родители меня крестили. Отец мне даже показал однажды церковь в старом квартале Тбилиси, когда мне было лет восемь, и сказал: – Запомни, это твоя церковь. Тут тебя крестили. К моему удивлению, и политически подкованный комсомолец Шурка тоже оказался крещеным. – Бабка крестила, – сказал он неохотно, как бы извиняясь за свою «темную» бабушку. – Тогда становитесь сюда, к купели. Только с оружием нельзя. Снимите. Хотя двери были накрепко заперты, а окна завешаны и закрыты ставнями, остаться без оружия мы не смогли. Мы даже спали с оружием под головой. С трудом договорились, что моя винтовка и Шуркин автомат будут лежать у нас в ногах, пока мы стоим у корыта-купели. В хате горели свечи, было душно и очень тихо. Я помню крохотное розовое тельце, которое тогда держала на руках и которое взял у меня священник, как только налили в корыто теплую воду, и начался обряд… И вот у нее, у Марийки Тучи, уже и «чоловик Вася», и трое детей, и ласковая душа. Своей крестной матери-партизанке через 31 год прислала курочку на радость, выражая свою сердечность. Сам понимаешь, разве в посылке дело! Для меня это – как поцелуй ребенка из моей юности. Чего на свете не бывает?! Разве думали мы тогда между боями, что такие встречи и письма нас ждут через 31 год?! Кстати, Гриша, я хочу рассказать Бекреневу о Марийке и о том, как ты стал крестным отцом в Мирославле. Можно? Ему, наверняка, будет интересно. Обнимаю тебя и Марию, ваша Тамара.Отрывок из письма Тамары Лисициан Бекреневу Валентину Ивановичу …Я рассказала вам о Марийке Туче, но были в Мирославле еще одни крестины, правда, немного раньше Марийкиных, которые тоже имели отношение к одному из наших подрывников, Грише Власюку. Немцы еще только недавно вошли в Мирославль, был конец 1941 года. По селу развесили приказы немецкого командования. В одном из них приказывалось всем евреям явиться в комендатуру. В Мирославле был учитель-еврей Табакман. Он был женат на украинке и имел четырех детей. Сначала он прятался от немцев, но потом почему-то решил подчиниться приказу, зарегистрироваться в комендатуре. Пошел и не вернулся. Его расстреляли. А потом немцы явились к его жене, Марине, и потребовали отдать детей-полуевреев тоже на уничтожение. Марина умоляла пощадить детей и добилась разрешения оставить их дома, но только при условии, что они будут крещены, и справка о крещении будет представлена в комендатуру. Вся история с семьей Табакмана так напугала соседей Марины, что никто не соглашался быть крестными родителями ее детей. В отчаянии она уже собралась идти в чужие села, искать людей посмелее, как вдруг встретила Гришу Власюка. Гриша убежал из плена недавно, добрался до своего дома в Мирославле и притаился у родителей, выясняя пути к партизанам. Марина рассказала ему о своем горе. Гриша тут же согласился быть крестным отцом ее детей, вместе они нашли и крестную мать. Детей крестили, и жизнь их была спасена. После этого Гриша ушел в партизаны…
* * *
Письмо бывшего военнопленного, врача Голубева Николая Федоровича[27] Через 36 лет здравствуйте, Этери. Вы остаетесь в моей памяти, несмотря на многие долгие годы. Все эти годы я рассказываю о вас, как о героине, патриотке Родины, и вот вчера мне врач, с которой я работаю, говорит, что видела портрет Этери-Тамары в журнале «Работница». Как я был обрадован, увидев его! Жива!!! Голубев Николай, бывший военнопленный врач, 1956 г.
Голубев Николай, бывший военнопленный врач, 1956 г.
В 1950 году, будучи в Тбилиси, я заходил на улицу Акакия Церетели, 8, где мне жители дома ответили, что Этери в Италии. В год 30-летия Победы я вновь написал по этому адресу, но ответа не получил и посчитал, что это связано с Италией. В Вашей большой жизни, в ее громадном количестве эпизодов, я – маленькая частица. Примите от меня сердечную благодарность за то, что вы вселяли в меня веру в жизнь, при невозможности выжить. До сих пор я помню, как выобратились к нам с Поляницей в Славуте, слышу ваш голос: «Ну что, герои, долго еще думаете сидеть здесь, за проволокой?!» Я вышел из оцепенения, в котором находился до этого длительное время. Нас с Сашей впоследствии изумляла ваша душевная сила, целенаправленность, энергия, вера во все, что вы делали, ваш патриотизм. После вашего побега утром у прорезанного отверстия через проволоку собралось лагерное начальство. Все увидели на проволоке ваш головной платок, которым вы, потеряв его, «утерли» им нос. Сколько было криков и злости! Долго суетились, заделывая в ограде «проход свободы». Несколько дней мы были в большом напряжении, а потом прошел слушок, что Этери в партизанском отряде, она не поймана, она на свободе! Мое сердце было переполнено радостью за вас, за счастливый исход побега. Если бы не повторная подготовка к побегу, не деятельное участие товарищей, то, кажется, можно было бы умереть от тоски и зависти. И все же, после вашего ухода, как-то еще больше появилось желание жить. Вы сделали большую встряску в моей жизни и показали, что кроме лагерной смерти еще есть другой вариант – жизнь. Этот могучий заряд, вложенный в меня, помог мне выжить. Когда мне было очень плохо, трудно, я всегда ставил себе примером Этери, и самое страшное становилось терпимым. После «момента» встречи с вами, я страшно много пережил, все выдержал, и вот живу и работаю сейчас врачом в профилактории ГРЭС. Сердечно жму вашу руку и желаю вам творческих успехов. Николай. Р. S. Если вас не затруднит, Этери, напишите, очень буду рад. Ведь мы – выходцы «с того света», и будем теперь жить на этом. Николай. Голубев Николай Федорович. Добрый день, Коля. Спасибо за весточку, спасибо за память и теплые дружеские слова. Очень рада, что вы уцелели, хотя понимаю, как вам тяжело пришлось, и очень вам сочувствую. Ваше письмо – это письмо из моей юности, и сейчас, когда мне уже 56 лет, а моему сыну 32, ваши воспоминания о нашем рукопожатии через решетку славутского лагеря кажутся невероятными! Действительно, как «с того света»… из другой жизни. В год 30-летия Победы я ездила к своим товарищам-партизанам и с ними проехала по местам наших боев в Ровенской и Житомирской областях. По дороге мы заехали в Славуту, и я побывала на этом страшном месте. Сейчас там, как и до войны, военный городок, тоже обнесенный проволокой. Напротив того места, где мы с Володей Куниным и его двумя друзьями прорезали проволоку и вылезли на волю, стоит памятник-обелиск «Жертвам фашизма», а чуть подальше евреи поставили землякам города Славуты свой особый памятник (глыба камня с еврейскими надписями). А вокруг – все тот же светлый песок и сосны. Молодые солдаты из городка рассказали, что все кабели, телефон и прочее у них висят на столбах, так как, когда пробовали закапывать их обычным способом, всюду натыкались на человеческие кости. Там лежат десятки тысяч погибших – пленных и жителей Славуты. Молодые солдаты, проводившие земляные работы, падали в обмороки при виде этих костей. Заболевали от шока. Пришлось прекратить работы, и теперь все кабели электрокоммуникаций висят на столбах. Если окажетесь в Москве, обязательно заходите. Буду рада обнять вас. Крепко жму руку. Ваша Этери-Тамара. Добрый день, Этери! С трепетом, с большим внутренним напряжением я читал твое письмо. Большущее тебе спасибо за него, от всего сердца спасибо. После твоего побега стали обдумывать свой побег и мы с Поляницей. Но неожиданно, без моего ведома, Сашка Поляница с полицаем Сашкой «Рябым» и фельдшером «выехали» в ассенизаторской бочке, пытаясь бежать таким образом; поехали, но только до ворот лагеря. Их там встретили комендант лагеря и зондерфюрер; они были проданы казаком, выдавшим их за лошадь и золотые часы. Сашка попал в карцер. Я ему через казака-охранника (с которым договаривались раньше) передал шинель и котелок. Через 10 дней карцера и истязаний он был отправлен этапом в Германию. Это было в 1943 году. 14 января 1944 года лагерь в Славуте ликвидировали. Гнали нас на Тернополь-Проскуров. Через лагерь в Славуте прошло 160 тысяч человек – погибло 150 тысяч (эти цифры я знаю из сведений лагерных писарей, проводивших учет), и вот уходили последние 3500 доходяг. По дороге пристреливали всех слабых и отстающих, оставляя в кюветах трупы, примерно по 350 человек в день. В конце концов мы попали в офицерский лагерь в Ченстохове, лагерь со стопроцентной смертностью офицеров. Славута сменила своих «жителей» 6 раз, а Ченстохов умерщвлял еще быстрее. Затем, в кандалах и наручниках, под усиленной охраной я попал в международный лагерь в Германии Шталаг IX-A, город Ейгенхайн, в котором находились блоки (бараки) русских, французов и итальянцев. Блок на 350 человек русских офицеров находился между этими блоками. Там был резкий контраст: голодные и истощенные русские и итальянцы и холеные, откормленные французы. Французов кормили хорошо, они имели право переписки с родными и получали посылки. За какую-нибудь безделушку, переброшенную им через проволоку, они перебрасывали нам продукты. Я перебросил им свой разрисованный котелок, они мне – кусок хлеба и колбасы. С итальянцами мы много говорили через их переводчика, и у нас был тоже свой переводчик, так что мы многое узнавали о фронтах и друг о друге. Когда итальянцы запевали «Катюшу», подпевали мы, а затем подхватывали французы. Пел весь лагерь, забывая о голоде и плене. Сбегалось немецкое начальство. Криками запрещали нам петь, угрожая расправой. Затем был Бухенвальд – лагерь, где находились французы и русские, болеющие брюшным тифом. И госпиталь в Херсфельде на 500 человек для русских военнопленных. Там находились патриоты, отправленные на работу, сжигавшие тела кислотой и вводившие под кожу керосин. Нужно было их лечить, при полном отсутствии медикаментов, долго. Они после выписки опять не хотели работать на немцев, снова жгли себя кислотой и возвращались на лечение. Фронты сближались, в апреле 1944 года ходячих больных и меня с двумя фельдшерами погнали между фронтами, присоединили к колонне пленных из народов мира всех национальностей. На рассвете 5 мая в город Броттероде, где были и мы, вошли англо-американские войска, и мы – 41 пленный – были освобождены. Свобода! Мы были доставлены на Родину, в Великие Луки, в лагерь для проверки – СМЕРШ. Мне выдали удостоверение прошедшего проверку «по первой категории», то есть восстановили воинское звание капитана медслужбы. А 28 февраля 1946 года я вышел из этого последнего этапа моей лагерной жизни. Пережито ужасное, пережита сама смерть, не по своей воле, а тем более какой-то вине. Отпечаток остался на всю жизнь. И хотя я знаю, что к концу войны к нам в плен тоже попало немало немцев, румын, итальянцев и прочих мадьяр там, и еще всякий сброд – 3,5 млн, все равно нет никакого удовлетворения. Как подумаешь, что страна наша лежала в руинах по их милости, а эту ораву еще и кормили, лечили, гуманные условия им создавали: чистое белье, библиотеки, кино, газеты… Хлебнули бы они с наше, вспомнили бы, как они нас морили… Ну, да мы не злопамятные, а жаль… Несправедливо! Не будем все же вспоминать. Главное, что мы находим друг друга даже через 36 лет! Наша связь восстановлена. И какие теплые, радостные, какие волнующие письма приходят! И как это до бесконечности дорого! Мы не попали в число 150 тысяч, погибших в Славуте, и миллионов пленных, убитых и умерших в разных лагерях. Хотя по всем событиям, как будто, и должны были быть там. Судьба – быть живыми! Я думаю, это письмо – не последнее, и при возможности, может быть, вы с мужем будете у нас в Джамбуле? Крепко жму руку, Николай.
Добрый день, Коля. Большое спасибо за два глубоко взволновавших меня письма с воспоминаниями. Я хочу послать эти воспоминания в Славутский музей с твоей фотографией, чтобы твои мысли, переживания и жизненный опыт сохранили в музее для будущих поколений. Раз у тебя хватает на это сил – пиши, пиши. Это памятник всем нам и всем погибшим «вне закона». Теперь о Полянице. Я все-таки написала по присланному тобой адресу в Тихорецк. Мне ответила его дальняя родственница и дала его новый адрес. Попробую написать теперь по этому адресу, вдруг ответит! Это было бы так радостно для нас и интересно для музея. Крепко жму руку. Привет от Виктора Федоровича. Этери-Тамара.
Здравствуй, дорогая и незабвенная Тамара-Этери! Ты меня ошеломила, потрясла до глубины души своим письмом.
 Александр Поляница, бывший военнопленный фельдшер, 1947 г.
Александр Поляница, бывший военнопленный фельдшер, 1947 г.
Когда я прочел до конца, меня качало, будто я стоял не на земной тверди, а на зыбучем песке. Боже правый, через столько-то лет! Как же мне тебя не помнить, насмешливая юная Этери. Прекрасно я помню и Николая Голубева, мы с ним всегда держались вместе, хлебали баланду из одного котелка, спали на втором этаже нар рядом, о чем только не переговорено, что только не вспомянуто! Спасибо же тебе, моя ты радость и мой ты ангел! Тамара, ты меня извини за мою бесцеремонность, на чей-то взгляд, может быть, недопустимую, за панибратство в обращении с тобою. Но одно лишь воспоминание о Славутской каторге нас всех, прошедших этот ад, должно роднить до конца наших дней. Меня могут не понять и осудить за эту форму обращения. Но разве дело в ней, в форме? Слишком тяжелы воспоминания, слишком много пережито. После возвращения домой я тебя искал в Тбилиси по тому домашнему адресу, который ты мне велела запомнить, если останусь жив, чтобы отыскал, если не тебя, то твоих родных, и рассказал бы им о том, что я видел тебя еще живой. У нас так мало было шансов на то, что мы выживем. В указанном адресе Лисициан никогда не проживала, так мне ответила юркая старушонка сквозь дверь на цепочке, видать, хозяйка той квартиры. Как я мог после такого афронта думать о тебе, мой милый и мой славный друг и товарищ! Но, ничего, пережил и это. Я специально, чтобы изучить твой язык, остался в Грузии, работал в Мцхете, нарочно каждый выходной приезжал в Тбилиси и болтался неприкаянным псом целыми днями по проспекту Шота Руставели в надежде на встречу. Боже, какие-то были иллюзорные надежды! Выглядывал я тебя ДВА года! И вот теперь, через 37 лет, ты опять возникла, словно из небытия… Нет, знаешь ли, такое с людьми случается нечасто! Ты мне напиши, как вы с Колей напали на мой след? Кого ты еще знаешь и с кем переписываешься? Все это ты мне без утайки, дружочек, напиши. Как сложилась твоя семейная жизнь? Кто ты есть сама? Нет, нет, я чувствую, что сегодня я этого письма не кончу… Крепко обнимаю тебя, мой дорогой товарищ и друг, прижимаю к своему больному сердцу и говорю: дай бог тебе здоровья, благополучия и всего самого хорошего, что только может пожелать друг, выпивший с тобой горчайшую чашу. Вечно помнящий ВАС, Этери-ТАМАРА, Александр.
Добрый день, друг мой Саша, с большой радостью прочла твое письмо. Во-первых, нашелся! Это главная удача. Очень я довольна, что доставила и тебе радость своим письмом. Я писала с осторожностью, так как не знала, кому попадет письмо. Конечно, невозможно описать то, что пережито за эти 37 лет. Ты спрашиваешь, а ответить трудно: я на воспоминания никак времени не найду. Кручусь, как белка в колесе. Посылаю мои фотографии с мужем и с сыном. Пришли мне свою, пожалуйста, тоже. Какой ты сейчас? Очень жаль, что болит у тебя сердце. Но чему тут удивляться? Такое пережить! Одна Славута чего стоит. Но кому расскажешь, кто поймет? Не видевший и не переживший всего ужаса не поймет никогда. Ты прав: мы, пережившие этот ад, навсегда стали кровными друзьями, больше, чем родные по крови. Крепко жму руку и обнимаю по-братски, всего-всего доброго. Этери-Тамара.
Дорогая и незабвенная Этери, здравствуй! С праздником тебя, друг мой, кучу тебе пожеланий самых что ни на есть лучших и искренних. Я называю тебя Этери потому, что я знал и знаю ту Этери, и это имя мне ближе. Я образ этой светлой девушки пронес через всю мою страшно неудачную, очень сложную и до безобразия нелепую жизнь. Теперь, получив твое подробное письмо с фотографиями и автобиографией, я опять вижу тебя с собою рядом: живую, простую, добрую, и в то же время – гордую и очень сложную. Что ж, это естественно. У каждого из нас есть наше, только наше, глубоко захороненное где-то в душе, что делает нас и сложными, и неповторимыми, и гордыми. У меня тоже есть семья. Дочь выдал замуж в августе 1979 года, а сын еще учится в 8 классе. Знаешь ли ты о моем побеге из лагеря в Славуте? Если не знаешь, могу написать поподробнее. После твоего побега у меня горела земля под ногами, меня жег стыд днем и ночью. Я метался, искал выхода… Я готов был на все… И я решился… 12 марта 1980 года мне исполняется 62. Как видишь, дружочек, мы с тобою мартовские, весенние… Ты спрашивала: куда я попал после Славуты? Увезли в Германию. В железном вагоне. Немцы в это время для строительства укреплений на 2-м фронте собрали этап штрафников-смертников. После долгих мытарств и переездов к ним воткнули и меня. Заковали нас попарно в кандалы, построили в колонну и погнали. Гнали нас 4 суток, не давая ни есть, ни пить. Гнали очень быстро. Охрана менялась на ходу, отстававших пристреливали на месте. Догнали нас до села Оберензе (Вестфалия), посадили на ночь в каменный инвентарный сарай какого-то бауэра, замкнули. Ночью начался обстрел, ударили танки. На сарае загорелась крыша, начался пожар. Мы, скованные, ничего не можем сделать. И вот кому-то удалось избавиться от кандалов. Он через горящую крышу выбрался наружу и открыл двери сарая. Когда мы выскочили, все еще скованные, то увидели на улице едущие танки с белыми звездами. Нас очень приветливо встретили танкисты-негры, они же расковали нас и накормили. Вот так я освободился. Из мертвых воскрес. Милая, дорогая подруга ты наша, сестра и товарищ! Ты глубоко права в том, что понять нас может только тот, кто испытал сам на себе и горе, и унижение, и боль войны. Теперь мы уже до конца дней крепко и неразрывно спаяны воспоминаниями о той жизни и тех условиях, в которых познаются настоящие друзья. Разве это не так? Этери, добрый мой друг. Когда я говорю «Этери», вместе с этим именем невольно ассоциируется моментально: концлагерь, наши переговоры через колючую проволоку, твои укоризненные, полные искреннего упрека слова в адрес мужчин, «отсиживающихся» в лагере, твои зажигательные речи, которых, не скрою, многие боялись не только потому, что нам было совестно слушать их из уст юной слабосильной девчонки[28]. Опасались провокации, больно бесстрашной, прямой, открытой ты была. Но потом, после твоего побега сквозь тройные витки проволоки, мы восхитились тобой. Ты, Этери, девушка-грузинка из Тбилиси (так мы считали), стала для нас знаменем, символом патриотизма, примером того, на что рискнуть способен не каждый. Далеко не каждый! В трудные минуты я всегда мысленно обращался к тебе с вопросом: а как бы ты поступила в данной ситуации? А понравилось бы это Этери? Я, и в партию вступая, мысленно спрашивал у тебя совета. Твое имя, Этери, для нас было святым. Иным оно и не могло быть. Я много в жизни видел девушек и женщин. Я влюблялся, влюблялись и в меня, я оставлял, оставляли и меня, я жил; как и все люди, но ты… ты всегда была ни девушка, ни женщина, ты была просто – Этери, вдохнувшая в меня веру в человека, в Победу, в мои собственные силы! И это в то время, когда ты сама едва держалась от истощения на ногах, когда и над тобой самой висела смерть в любой час. Как же можно не любить тебя? Я счел бы за святотатство забыть обо всем или пройти в жизни пробежкой мимо, не останавливая своей души на прошлом. Радость ты наша, гордость и любовь нашей юности, Этери! Я очень рад, друг мой, за тебя, горжусь твоими успехами, как своими собственными, горжусь и радуюсь тому, что ты есть у меня. Счастлив тем, наконец, что ты счастлива в семье и в работе. Жена моя Аннушка спросила: «Ты так рад письмам и успеху Этери? Значит, ты ее еще любишь?» Я ей ответил: «Я рад каждому ее письму, я рад, очень рад ее успеху. «Люблю» – слово не то, которым я измеряю свое отношение к ней. Я ее глубоко уважаю. Я преклоняюсь перед ней. Этери мне дорога, как дорога и неповторима юность, в период которой я свято истинно любил ее…» Добрый день, друг мой Саша! Что меня взволновало в твоем письме необычайно, так это твое сообщение о том, что моя настойчивость и откровенность в поисках товарищей для побега в конце концов вызвала у вас, мало знавших меня, недоверие и, как ты пишешь, многие заподозрили во мне провокатора. На первый взгляд – парадокс! Человек страстно рвется на свободу, а его подозревают в предательстве. Но, видимо, в тех обстоятельствах это было не парадоксом, а почти закономерностью. Впервые я с этим столкнулась в Житомирском лагере, и это чуть не стоило мне жизни. Потом то же самое случилось в партизанском отряде. Наконец, я пережила этот шок и в Москве, после того как демобилизовалась. Когда в 1944 году я вернулась в Москву, мне удалось сразу же найти моего командира бывшей воинской части 9903 Артура Карловича Спрогиса. Он в это время уже руководил партизанами Латвии, поскольку фронт сдвинулся на западные территории, и штаб партизан освобожденной Белоруссии изменил свои состав и место действия. Спрогис был удивлен и обрадован моим появлением. Летом 1942 года мои товарищи сообщили ему из Белоруссии, что меня казнили немцы, как им сказали местные партизаны, когда я попала в плен, а потом, в 43-м, после нашей встречи на Украине, они радировали, что я нашлась. Вернувшись, я пришла к Спрогису не только как к своему учителю, но и за своими документами. Улетая в тыл к немцам, мы оставляли в штабе свои паспорта, комсомольский, студенческий билеты и прочее. Мы с Артуром Карловичем проговорили часа три с половиной, я рассказала ему о своих злоключениях и о пребывании в плену, о побеге, о вхождении в местный партизанский отряд, о боевых действиях нашей подрывной группы. О том, как в конце 1943 года, продвигаясь со своим отрядом к Польше, я случайно встретила своих друзей-десантников, с которыми, по заданию Спрогиса, прыгала в тыл к немцам: Елену Гордееву, Диму Карнача, Костю Островского и других. Как командование отряда не отпустило меня к ним, и был большой скандал.
 Артур Карлович Спрогис, бывший командир воинской части 9903. Москва, 1978 г.
Артур Карлович Спрогис, бывший командир воинской части 9903. Москва, 1978 г.
Спрогис слушал внимательно, задавал вопросы, а в конце моей исповеди сказал: – Очень интересно. Но, если все и было так, как ты мне рассказала, тебе никто не поверит. От слов «если все и было так, как ты рассказала» я вспыхнула! Как?! Я душу вывернула наизнанку, рассказывая все, так тяжко пережитое во всех подробностях, а он мне не верит? – Что же мне, врать? Сочинить героическую легенду? – Ни в коем случае! На проверке, а тебя будут проверять, говори так, как было. Только правду. Потом он взял с меня слово, что я ему буду звонить каждый день, чтобы он знал, где я, и не нужна ли мне его помощь. Собрав документы, я вернулась в театральное училище. Параллельно проходила курс лечения, так как контузия давала о себе знать, да и бронхиальная астма обозначилась, а ложиться в больницу я не хотела. Не терплю больниц. Не люблю даже санатории и дома отдыха. Аллергия «на распорядки дня» до сих пор. Так вот, однажды в апреле 1944 года, когда я в обеденный перерыв направилась с занятий в столовую, которая находилась в здании Консерватории на улице Герцена, ко мне подошел незнакомый мужчина и спросил: – Вы Лисициан? Тамара? – Да. – Вас просят подъехать. Надо поговорить. – Кто? С кем поговорить? Он показал мне свое удостоверение. Меня это совершенно не встревожило. НКВД так НКВД. Мы вышли с ним на Бульварное кольцо к памятнику Тимирязева, где нас ждала машина. Через несколько минут он привез меня на Лубянку. Вошли в боковой подъезд, прошли мимо часового, поднялись на лифте, разделись и вошли в просторный светлый кабинет почти без мебели. В глубине, у зарешеченного окна, за огромным письменным столом сидел спиной к свету грузный военный. Пригляделась – генерал. Пол полупустой комнаты покрывал огромный ковер. Вошедший со мной майор взял от маленького столика у стены один из стульев и поставил на ковер посреди комнаты. Я поздоровалась с генералом. – Здравствуйте, – потом обратилась к майору: – зачем же стул посреди комнаты, товарищ майор? Раздался голос генерала: – Тут для вас нет товарищей, гражданка Лисициан. Садитесь. «Это еще что такое?» – подумала я с раздражением и села. Майор тоже сел, зажег лампу на своем столике, несмотря на яркое солнце, бившее в окно. Приготовился писать. Генерал заговорил неприязненным тоном: – Отвечайте, с каким заданием вас послали сюда немцы? Я окаменела. Возмущение, обида захлестнули меня. Я не знала, что сказать! Еле пролепетала: – Это вы мне?! – Кому же еще? Я вас спрашиваю: с каким заданием немцы… – Как вам не стыдно!!! После всего, что мне досталось на фронте! Такие вопросы?! – Да, такие, какие заслужили! С чем вас немцы послали? – Да, это я их послала к такой-то матери, убежав из плена! Значит, вот что я заслужила? Плевки в морду?! – Потише, потише, вы не на базаре! Отвечайте на вопрос, с каким заданием вас прислали немцы? У меня в глазах потемнело от ярости. Не помню, что я там ему кричала и как долго это было, пришла в себя, когда майор тронул меня за плечо. – Идемте. – И пишите все подробно! – донеслось от генерала. Мы вышли в коридор. – Успокойтесь, успокойтесь, – говорил майор, – вот напишете, как в плен попали, и все остальное, и все будет путем. Мы вошли в комнату, где за несколькими письменными столами сидели и разбирали какие-то бумаги трое или четверо офицеров. Они с интересом оглядывали меня, пока майор доставал бумагу, ручку, чернильницу из ящика незанятого письменного стола, придвинул стул: – Тут вам удобно? – налил мне из графина стакан воды. – Работайте спокойно. Я зайду позже. Я писала долго. Видимо, закончился рабочий день, ушли из комнаты все военные. Пришел майор, зажег свет. Подал мне стакан чая и булку с каким-то вареньем. Постоял, посмотрел на исписанные листы, сложил их стопкой. Есть я не могла. Продолжая писать, надеялась закончить побыстрее и уйти из этого отвратительного места. Обида, горечь незаслуженного оскорбления, возмущение стучали мне в голову, в сердце. Наконец, все! Расписалась. В этот момент вошел майор, собрал написанное в папку и положил передо мной новую пачку чистой бумаги. – Пишите. – Так я же написала! – Напишите еще раз. – Зачем? – Так надо, – вошел другой офицер. – Познакомьтесь, я ухожу, Виктор Павлович будет при вас. Я снова стала писать, поняв, наконец, что иначе меня не выпустят. Меня заставили писать трое суток – без перерыва, без сна. То, что это были трое суток, я поняла потом, а тогда, на третьи сутки, я мало что понимала, кроме того, что мне безумно хотелось спать – до одури, до боли во всем теле. Над головой постоянно стоял очередной дежурный офицер и не давал мне остановиться. Утром приходили и вечером уходили работавшие в этой же комнате офицеры. На стол мне приносили еду: суп, котлеты, хлеб, чай, к которым я не притрагивалась. Их уносили, а я все писала, писала. Я стала замечать, что, по мере того как мне давали вместо исписанной бумаги чистую, строчки у меня сползали слева направо, вниз, наискось к правому нижнему углу, почти поперек страницы. Когда голова у меня падала на стол и глаза слипались, меня мягко будили и вежливо требовали, чтобы я продолжала писать. Даже в туалете дверь не закрывалась, и через пару минут меня вынуждали выходить, чтобы я там не засыпала. Да! Все было по-научному! При такой постановке дела врать не смог бы никто. Это не идиотские побои и пытки немцев, где либо ты сдохнешь под ударами, либо можешь промолчать. А тут нет. К началу четвертых суток меня подняли от стола и отвели к тому же генералу, на тот же стул на ковре. Не помню, что он мне начал говорить. Со мной случилась истерика. Не помню и всего, что я ему кричала, рыдая в голос. Помню только одну фразу. Я ее повторяла, захлебываясь злыми, отчаянными слезами: «Отсиделись тут за нашими спинами, теперь на нашей шкуре карьеру будете делать!!!» А в голове одна мысль: «Скорей бы в тюрьму, скорей бы посадили! Спать! Спать в тюрьме можно! Скорей!» Когда, обессилев окончательно, я замолчала и закрыла глаза, услыхала голос: – Не надо так волноваться. Идите домой, вот ваш пропуск. Сразу даже не поняла, что говорит генерал. Майор вывел меня, помог одеться, спустил на лифте. Прошли мимо часового. Открылась дверь, пахнуло холодом. Меня подтолкнули в спину, и дверь подъезда за мной закрылась. До сих пор видеть не могу этот подъезд! Была ночь. Я пошла по Кузнецкому мосту вниз. На Неглинной, на первом этаже во дворе старого московского дома напротив Государственного банка я снимала комнатку у одной старушки. Идти было недалеко, но ноги подкашивались. Видимо, я все-таки засыпала на ходу. Ни машины, ни прохожие не попадались. Я приходила в себя то на правой стороне улицы, то на левой. Спускалась по Кузнецкому, засыпая, зигзагами. Вошла в дом и, не раздеваясь, упала на кровать. Спала, не просыпаясь, двое суток. Испуганная старушка-хозяйка уж собралась вызывать «скорую помощь». Постепенно стала приходить в себя. В кармане пальто нашла медицинскую справку о том, что неделю болею гриппом. Для училища. Ах, какие же заботливые, какие предусмотрительные! Негодяи! Позвонила Спрогису. – Приезжай! Поехала. Совсем больная. С тех пор никогда не писала своих воспоминаний. Даже автобиография вызывала у меня приступ бронхиальной астмы. Так продолжалось десятки лет. Это ли не травма, это ли не комплекс! Спрогис выслушал меня и сказал: – Я же тебя предупреждал. Когда ты мне не позвонила, я сразу же поехал к своим. Да, говорят, у нас. Пишет свои «мемуары». А ты не вмешивайся. Ну и что, говорят, что твой солдат, а проверка – дело святое. Она у вас всегда была такая обидчивая? Ты что там, буянила? – Я буянила? Да их там всех надо было бы… – А чего ты, собственно, кипятишься? Кто тебя хоть пальцем тронул? Ну, проверка как проверка. Сама же видела, сколько в тылу полицаев, бендеровцев, перевертышей было. После войны с ними еще столько мороки будет! Их же десятки тысяч! – А при чем тут я? – При том, что на лбу у тебя не написано, какая ты хорошая! И поведение твое там было непредсказуемым. Ну, все, успокойся! Кончено, забыто! Война еще идет, думать о стране надо, а не раскисать. Умный он был человек, Спрогис, и, возможно, я ему обязана благополучным окончанием всей этой истории. Ведь тогда еще не было свидетелей моих перипетий, партизаны влились в армию и воевали. Пленные еще сидели по немецким лагерям, кто мог подтвердить мои рассказы? Это потом многие начали возвращаться, и их показания на проверках подтвердили все то, о чем говорила я, а мои «мемуары» поддержали их. А тогда, в 44-м, ничего не стоило «на всякий случай» изолировать человека с «непредсказуемым поведением». Однако поверили и не доломали. Так что некоторые говорят обо мне – «в рубашке родилась». А я думаю по-другому. Помнишь, я тебе рассказывала в одном из писем – когда мы бежали из лагеря в Славуте, я взмолилась: «Господи, если Ты есть!..» так вот, теперь я твердо знаю: Он – есть!
Письмо бывшей узницы Славутского лагеря Клары Пещанской-Голуб Здравствуйте, моя дорогая, чудесная Этери! Здравствуй, здравствуй, сказка моя! С радостью и восторгом получила твое письмо. Все эти долгие и тяжелые годы думала и мечтала увидеть тебя, или хотя бы получить весточку. Вдруг получаю твое письмо. Это были для меня праздник, радость и печаль. Ведь ты была так близко. Кто знает, будет ли еще когда-нибудь в жизни такой случай. Представь себе мое счастье, если бы мы встретились с тобой. Ты спрашиваешь, помню ли я? Все эти годы держу связь с нашими товарищами, веду со многими переписку. В Киеве есть много товарищей, которые были вместе с нами, они приходят ко мне. У меня гостила три года подряд, будучи в отпуску, доктор Александрова Елена Семеновна с мужем Никулиным, она живет в Караганде (ты ее знаешь по Славуте). Я ездила и гостила у Марийки Кирильченко, которая живет в Днепродзержинске. Ты ее должна помнить. В 1957 году в Киеве очутилось много приезжих из наших, славутских, и все собрались ко мне. Представь себе, собралось человек пятнадцать, почти все врачи, устроили обед. Долго и много говорили, вспоминали пережитое и товарищей и, конечно, говорили о тебе, Тамара. Тогда меня попросили, чтобы я эту нашу встречу записала. Посылаю тебе стихи об этой нашей встрече. Я их тогда разослала всем тем, которые присутствовали. В 1965 году опять собралось у меня много киевских и приезжих друзей. Мы ездили в Дарницу, туда, где тоже был лагерь. Наш первый лагерь! Там стоят два памятника жертвам фашистских палачей. Об этой встрече трудно говорить, так было много слез. Мы возложили там венок и цветы. Посылаю тебе стихи, написанные мною (и прочитанные там же у подножия памятника). Это было мое выступление. А слез!.. А ты говоришь, помню ли я? Хотя мы с тобой знали друг друга по-настоящему всего несколько дней, но разве такие встречи измеряются временем? Разве можно высказать словами, как ты мне близка и дорога? Этери-Тамарочка – мой замечательный дорогой друг! Я слышала по радио и телевизору, режиссер Тамара Лисициан, но не знала точно, ты ли это. Во всяком случае, я рада и счастлива, что ты на такой интересной работе. Рада, что ты помнишь обо мне. Бесконечно благодарна тебе за письмо. Жива ли, здорова твоя мама? Ведь она первая сообщила мне, что ты спаслась. Помнишь, как ты в ночь побега шепнула мне адрес. Сколько пережито за эти годы! Сколько сил потрачено зря. Я теперь живу одна, мой муж умер три года тому назад. Я его очень любила, и мне очень скучно и грустно. Правда, у меня есть много хороших друзей, но на старости тоскливо жить одной. Очень прошу тебя, напиши мне подробно о себе и, пожалуйста, напиши, как ты меня нашла! Спасибо тебе, что известила меня о своем выступлении по телевизору. Ты не можешь себе представить, как я была рада и счастлива видеть и слышать тебя. Получивши в понедельник 4 марта утром твое письмо, я стала звонить друзьям по телефону, чтобы они тоже посмотрели и послушали тебя. Я взбудоражила пол Киева. Посчитала часы и минуты, и стала ждать… И вот настал час 21:15. Ты появилась на экране – подобранная, светлая, обаятельная. Твое выступление, с присущей тебе простотой и душевностью, привело всех в восторг – я говорю всех, потому что ко мне собралось много людей, которые захотели вместе со мною посмотреть и послушать мою Тамару, кусок моего сердца! Итак, Тамара, киевляне приняли тебя с восторгом. Все передают тебе привет и пожелания новых творческих успехов. Очень хочу знать, как у тебя на работе, дома. У нас идет подготовка к Международному женскому дню. Мужчины погибают в очередях за подарками и цветами. Подхалимы чертовы! Целый год относятся к нам, как попало, а к 8 марта – мимоза, розы… Ладно, пусть они будут живы, здоровы. Ведь любим же мы их такими, какие они есть. Будь здорова, родная моя. Хотела бы еще много написать, но спешу отправить письмо. Желаю тебе много счастья и успехов. Обнимаю, целую тебя. Твоя Клара.
* * *
ВЕТЕРАНЫ
Письмо бывшей военнопленной врача Никулиной Елены Семеновны Дорогая Этери! Поздравляю Вас с Новым Годом, желаю Вам большого счастья, здоровья и, конечно, успехов в Вашей хлопотливой профессии. Письмо Ваше получила, большое спасибо за память. Конечно, Ваше письмо вызвало массу воспоминаний и мелких эпизодов из нашей жизни, тяжелых переживаний в прошлом, а теперь рассматриваемых иной раз и с комическим оттенком. Да, пришлось пережить и прочувствовать немало, и удивляешься выносливости человека. Вы спрашиваете, Этери, как мне удалось выжить? Вопрос, конечно, сложный, но, резюмируя все вкратце, можно сказать: путем компромисса. После того, как Вы ушли от нас, часть женщин отправили в Германию, а мы, молодые медработники, еще оставались на месте. И вот нас решили отправить в Польшу для работы по специальности. Конечно, этап с родной земли не предвещал ничего хорошего, но успокаивало, что это все же Польша. И вот 25 сентября 1943 года нас повезли и привезли в Кельцы, а потом, без пересадки, – прямо в Берлин. Это сообщение было равносильно смерти, и вот мы, наконец, приехали в какое-то сомнительное местечко Вдийриц. Лагерь с нашими русскими, одетыми с иголочки, в шляпах, и все твердящих нам, что мы будем освобождены и будем работать в Восточных областях! В общем, уговаривали нас 3 месяца, а затем сказали: «Или свобода, или концлагерь!» Нашлись наши с «трезвыми умами» и доказали нам преимущество свободы, и мы дали согласие. Правда, нашлись двое, которые отказались и были водворены в концлагерь. Затем работа в лазарете для инвалидов войны (легионеров). А после окончания войны и проверки – срок в 10 лет и работа на строительстве Ангарска и Братской ГЭС с 1947 по 1955 годы. Потом – амнистия и переезд в Казахстан. В 1960 г. – реабилитация. Если вам попадалась в руки книга Бориса Дьякова «Повесть о пережитом», то это описывается как раз та больница, где я начинала и заканчивала свой срок. Только с 1950 г. нас, женщин, отделили от мужчин, и Дьяков уже был только в мужском обществе. Казахстан стал второй Родиной, здесь была создана новая семья. Муж у меня был тоже из нашего военнопленного племени, очень хороший человек, бывший майор артиллерии, но я его похоронила 12 января 1965 года, и теперь одна. Не могу примириться с мыслью, что его уже нет. Я уже пенсионерка, но еще работаю. Как долго буду работать – пока не решила. Работать становится трудно, нет уже той подвижности. С однополчанами переписываюсь, а с Кларой Израилевной даже встречаемся. Была у нее в Киеве в 1965 году, может быть, буду у нее и в 1968. Да, Виктора Кручинина я помню хорошо, а вот других не помню. Рада буду получить от вас письмо. Спасибо за открыточку из Ташкента. Будьте здоровы и счастливы. Уважающая вас Елена Семеновна.
Письмо бывшей военнопленной, медсестры Евгении Плотниковой Здравствуйте, Тамара Николаевна! Как-то давно (лет 7 или 8 назад) я приехала к маме. Она мне и говорит: «Женя, вот статья в "Крестьянке", по-моему, ты рассказывала об этой девушке». И подает мне журнал. Глянула я на снимок и обмерла: «Это же Этери! Жива!» Не откладывая в долгий ящик, я написала в «Крестьянку» с просьбой передать Вам, потом написала на «Мосфильм», но, увы, ответа не получила. Пишет вам Женя Плотникова. Несколько месяцев я была вместе с Вами в Житомирском «лазарете» для военнопленных. Немудрено, что вы и забыли меня, но если помните Ивана Гавриловича Алексеева, Александра Тимофеевича Руденко, Александра Дмитриевича (фамилию не помню), Гаджи Алиева, Толю и Костю из аптеки, Раю и других девушек, то и меня немного должны помнить. Вы только что перенесли сыпной тиф, были в коричневато-горчичном платье и коричневом платочке.

 Плотникова Евгения Ивановна, медсестра, бывшая военнопленная, 1965 г. и сын Е.И. Плотниковой и И.Г. Алексеева Владимир, 1977 г.
Плотникова Евгения Ивановна, медсестра, бывшая военнопленная, 1965 г. и сын Е.И. Плотниковой и И.Г. Алексеева Владимир, 1977 г.
У меня очень хорошая зрительная память, я отлично запомнила Вас и весь период в лазарете. Почему я вдруг пишу Вам сейчас? Где-то в конце ноября смотрела кинопанораму, вел ее Даль Орлов, рассказывали о Вашей новой работе, о фильме «На Гранатовых островах», а потом показали Вас в беседе с Далем Орловым. Что поднялось во мне! Опять перед глазами Житомир и все, что было связано с Вами. А позже (8 декабря) в «Комсомолке» читаю статью «Голос сердца» – и опять о Вас. Целую неделю не решалась писать (не забылось, что на прежние мои письма ответа не было), но решилась. Мне ничего от Вас не надо, просто от памяти никуда не уйдешь, тем более что тогда, в той тяжелой обстановке, общение с Вами оставило во мне что-то светлое, а люди, окружающие меня тогда, стали родными, многих из них уже нет в живых. Отлично запомнилось, что Этери Гванцеладзе и Тамара Лисициан одно и то же лицо. Но Этери была рядом со мной и среди нас, а Тамара Лисициан не откликнулась на мои первые письма, и это было горько для меня. Сейчас, если сочтете нужным, не оставьте без ответа это письмо. Как ни горька была наша тогдашняя участь – все же это наша молодость. Евгения Ивановна Плотникова
Милая, милая Женя, как же я рада твоему письму! Я ничего не получала от тебя и понятия не имела о твоей судьбе, а вспоминала всегда, постоянно, ведь прожитое, ты права, наша молодость. Я не знаю, почему не дошли до меня письма, о которых ты упоминаешь. Как обидно! Так много на свете равнодушных людей: сунули в корзину – и с рук долой. Им ведь не понять наши чувства, и наше прошлое им тоже глубоко безразлично. Когда я получаю письма от старых друзей и знакомых из «той» жизни, я берегу их, как реликвию, как материальное доказательство того, что «та» жизнь была, и что это был не страшный сон. Как бы мне хотелось обнять тебя, побыть вместе, вспомнить те дни, когда так страшно начиналась наша жизнь. Я тебя помню, и помню с самыми добрыми чувствами. Ты мне тогда показалась сразу человеком надежным и добрым. Остальных, кроме Раи Гуковой, я всех забыла. Помню просто группу и «нашу» комнату, нары и прочее. А персонально, кроме тебя и Раи, всех забыла. Я запомнила тех, с кем была дольше в Житомире: Ивана Гавриловича Алексеева, например, которому вы с Раей помогали в операционной, Толю – Анатолия Павловича Мащенко и Костю из аптеки, Руденко, Беценко Александра Дмитриевича. С Алексеевым мы тут встретились в 1963–1964 году и переписывались до его смерти. На статьи обо мне откликнулись и бывшие партизаны, и бывшие военнопленные из Славутского лагеря. Из житомирских еще виделась с Виктором Кручининым. А остальные «житомирцы» не отзываются. Что ты знаешь о них? Я в Житомире была в 1967 году. На месте лагеря опять колючая проволока, за ней – гараж воинской части. Можешь себе представить, как я там напереживалась. Крепко целую, твоя Этери. Сегодня 29 декабря 1981 года – этот день мне запомнится на всю оставшуюся жизнь! Я получила твое письмо! Здравствуй, Тамара! Боже мой – 40 лет, а у меня перед глазами Житомир. Исчезнет ли когда память – наверное, только тогда, когда перестану дышать. Не могу передать, что со мной было, когда тут же у почтового ящика вскрыла конверт (со мной была Тина – младшая сноха). – Мама, ну мама, кто это? В руках у меня твое фото, я не могла ничего сказать, только: «Потом, Тина, потом!» И поднялась к себе на 9-й этаж. Плакать не умею, а дыхание сперло так, что в груди больно. Как я рада, боже, как я рада, что меня окружают такие прекрасные люди! Тамара, сегодняшнее мое письмо, знаю, будет бестолковым, такая радость меня обуяла! Ну, хорошо, давай по порядку. Когда из Славуты нас, группу пленных, отправили в Киев, в немецкий госпиталь, меня там также определили в операционную. Два раза сидела в карцере за саботаж, и бита была не раз, перенесла брюшной тиф. И вот под Киевом началось наступление наших войск, госпиталь быстро свернули и стали эвакуировать (попросту драпать). Прихватили и пленных, а нам троим (мне, Оле из Пятигорска и Наде Поляковой из Омска, она и в Житомире была) удалось бежать. Скрывались под Киевом у железнодорожников станции Ирпень. Тут и застал нас приход наших войск (6 ноября 1943 года). Мы явились в штаб ближайшей части, и так как я была сильно контужена и к тому же беременна (от Алексеева И.Г.), меня безо всяких комиссовали и отправили в Киев. Пригрели меня здесь хорошие, уже пожилые люди, Комарницкие. И вот, 24 декабря 1943 года, у меня родился сын, Володя Алексеев-Плотников. Жила я у них 5 месяцев, пока не связалась с родными. Написала и в Кисловодск, родным Ивана. Получила оттуда письмо от его сестры, которая дала мне понять, что нам у них делать нечего. Куда мне было ехать с ребенком? Словом, в июне 1944 года я приехала в Омск к родным с ребенком, на вокзале меня никто не встретил, представляешь мое состояние?! В 1946 году, в январе, получила письмо и от Ивана, он писал, что вернулся к семье (ведь к началу войны у него было уже 2 детей – Коля и Оля). Сама понимаешь, рассчитывать мне было не на что, а тут еще мать и тетка отыскали жениха и стали давить на меня: «Кому, дескать, ты нужна с ребенком? А тут люди хорошие». Смалодушничала я и вышла замуж, а Иван продолжал слать письма и деньги сыну. Это было в августе 1946 года, а в июне 1947 муж умер. На руках у меня остался еще один сын Виктор. Вот так, моя дорогая! Вдовела я 4 года, и в 1951 году вышла замуж за фронтовика, бравого офицера, он же оказался горький пьяница и тунеядец. Промучилась я 9 лет, родила еще сына и дочь и выгнала его. И вот с 1960 года я одна, замуж после всех этих неудач больше не потянуло, вырастила детей, слава богу, счастлива ими, как никто другой. Володя (так и не увидел отца) – инженер-технолог, Виктор – инженер-программист, Сережа (младший из сыновей) – токарь 6 разряда, дочь Лина –инженер-гидролог. Очень привязаны ко мне, мне же больше ничего и не надо. Благодаря Совету ветеранов войны, связалась со многими фронтовиками, документы мне восстановили, в общей сложности в армии и на фронте я была всего ничего – 8,5 месяцев, а потом – плен, но удостоверение участника ВОВ я получила. С ветеранами часто встречаемся (дивизия формировалась в Омске, в декабре 1941 года). В прошлом году ездили в Волгоград, ну, сама посуди – что мне еще надо? Дети хорошие и со мной, а друзей – не счесть, и теперь ты: это ли не счастье?! Здоровья, конечно, нет, в 1979 году была еще одна операция на голове, но главное – я духом не падаю, а чего только не было за эти долгие годы! Томочка, ведь я не знаю точной даты смерти Ивана. В 1966 году написал его друг из Кисловодска, Иван Григорьевич Зыков, что Иван Гаврилович скончался, и все. Если тебя не затруднит, напиши коротко о ваших с ним встречах – какой он тогда был? Милая, дорогая, бесценная, боже, как я рада, что ты ответила! От всего сердца желаю в Новом году и на всю оставшуюся жизнь самого хорошего. Будь здорова и счастлива! Целую, обнимаю. Женя. Дорогая моя Женя, прости меня, Бога ради, за такое долгое молчание. Почти месяц я не могла написать тебе и только мучилась, не зная, как мне быть. Письмо твое меня ошеломило, судьба твоя и горестна, и удивительна. Сама ты человек героический, и я не ошиблась еще тогда, в Житомире, считая тебя надежным и добрым существом, но я никогда не могла себе представить, что в тебе столько душевных сил, что ты так мужественно совершишь свой жизненный подвиг, что ты такая прекрасная мать! Подумать только, сколько бед свалилось на тебя, и все ты вынесла: и таких красавцев вырастила, и себя как личность сохранила, это же уму непостижимо! На что наше поколение оказалось способно, какие девчата оказались среди нас! Душа моя полна нежности к тебе, гордости за тебя, радости, что мы все-таки встретились. Спасибо тебе большущее за фотографии. Годы не исказили тебя, что тоже удивительно, вспоминая о твоей трудной жизни: можно было бы совсем состариться, а тебя я бы узнала при встрече с первого взгляда. Ты все та же, только старше, и девочка твоя очень на тебя похожа, а что касается Володи, то он копия своего отца. А теперь о причине моего молчания. Иван Григорьевич Зыков, о котором ты мне пишешь, написал тебе неправду. Иван Гаврилович умер в 1974 году, а не в 1966-м. Почему этот Зыков обманул тебя, не могу понять. Посылаю тебе сообщение жены Ивана Гавриловича, которое я получила в 1974 году (обрати внимание на почтовый штамп), и сохранившуюся открытку мне от Ивана Гавриловича от 1969 года, то есть после «смерти» в 1966 году (тоже посмотри на штамп). Чего только я не передумала за эти недели. Поверь мне, от этого обмана стало тоже очень, очень больно. Все, что с нами было на войне, конечно, даром не прошло ни для кого. Когда я встретила Ивана Гавриловича, то была поражена его видом. Он сильно пополнел, ссутулился, голова побелела, казалось, что он чего-то стесняется в разговоре со мной. Когда я вошла к нему, он сидел у окна за столом. Не успела я подойти, как он, не вставая, тихо сказал: «Сначала я должен попросить у вас прощения, Этери, за то, что в Житомире чуть не стал вашим палачом». Представляешь, что ему при его характере стоили эти слова? Я его еле успокоила. Все мы были тогда в аду. Какие уж тут извинения! Женя, милая, родная прости за то, что я все тебе написала, что знала! Я понимаю, что, наверное, надо было скрыть все это, чтоб не огорчать тебя, но как же мне быть тебе другом и кривить душой? Крепко-крепко целую тебя. К счастью, нашла сегодня в одном из своих альбомов последнее фото Ивана Гавриловича. Посылаю. Твоя Тамара. Тамарочка, здравствуй! Сегодня, 3 февраля, получила твое письмо. Мне тебя не за что упрекнуть, тем более – сердиться, я понимаю все. Конечно, я ждала, ждала каждый божий день твоего ответа, но, думаю, работа у тебя такая, не очень-то можно располагать собой на каждый день. Спасибо тебе за письмо, за снимки и за правду. И какое совпадение: сегодня после работы приехал Володя, фотография, где ты с И.Г., стоит на комоде, я слежу за Володей, он остановился, смотрит, смотрит, потом говорит: «Мам, уж не отец ли это? А ведь верно, – я очень похож на него!» Господи, что у меня внутри творилось! В горле комок, смотрю на фото и на сына: «Прости, сынок, что вырос без отца». «Ну, что ты, мама, все в порядке, есть ты – это же счастье». А сейчас постараюсь вернуться к тому времени, когда я еще переписывалась с Иваном. Я думаю – все просто. Чтобы я не надоедала своими письмами, или он сам, И.Г., попросил своего друга написать такое, или Зыков сделал это по просьбе его жены. Но если это исходило от И.Г., то этому уже и названия нет. Уверена: Иван бы не сделал этого, я и мертвому ему верю. Расчет был верным: почерк Зыкова я не знала, жена могла кого угодно попросить сделать эту подлость. Что меня больше всего поразило: почему он после письма Зыкова перестал мне писать? И как он мог умолчать в беседах с тобой, что я жива, есть сын, что мы переписывались? Уму непостижимо! И все же, несмотря ни на что, я никогда, ни на день, ни на час не пожалела, что у меня есть Володя, что я узнала Ивана, что получилось все именно так! Тамарочка, если ты еще пришлешь фото Ивана, я очень буду признательна тебе. Ох, и расшевелила ты во мне все прошлое, а от него все равно не уйдешь никуда! Еще и еще раз смотрю на сделанные тобой житомирские снимки: все голо было, один песок, а теперь столько деревьев, и все же можно узнать это место. Дорогая, родная моя, обнимаю и целую тебя, будь здорова. Жду тебя в Омске. Женя.
* * *
Письмо бывшего военнопленного, врача Беценко Александра Дмитриевича Здравствуйте, дорогая Тамара Николаевна! Получил Ваше письмо с Новогодним поздравлением и теплыми пожеланиями. Письмо меня глубоко взволновало и обрадовало. Я безгранично рад, когда узнаю, что мои товарищи по совместной борьбе против немецкого фашизма, испытав все ужасы плена, голода и унижения, остались преданными партии и народу. Я рад за Вас и сохранил о Вас самые теплые воспоминания. Мне приятно узнать, что Вы кинорежиссер и, конечно, ведете большую идеологическую работу. Вы много сделали и как участник сопротивления. Честь и слава Вам. Я в Кисловодске живу с 1947 года. Пережил много. Об этом можно бы и не говорить. Самое тяжелое для меня – трагическая смерть жены в 1980 году. Тяжело. Живу пока один. Приехала ко мне моя сестра, хозяйничает. Есть у меня дочь Наташа, очень добрая и хорошая. Она врач, работает в Москве в 72 больнице, зять – инженер, и два внука 3 и 6 лет. Зовут меня все время жить к себе в Москву. Бываю в Москве ежегодно и у детей, и в санатории. Но привык к солнечному Кисловодску. Я 8-й год возглавляю Совет ветеранов партии при Горкоме КПСС. У нас 250 ветеранов с партийным стажем 50, 60 и больше лет. Работы много. Собирался в этом году освободиться, но никак не решусь на этот шаг. К тому же я член Горкома КПСС, был делегатом Ставропольской краевой партийной конференции. Если будете в Кисловодске, буду рад встретить Вас как дорогого гостя. Мне хотелось бы задать Вам несколько вопросов. Расскажите о себе, о Вашей жизни все эти годы. И еще я ничего не знаю о судьбе Мащенко и Головко, а также о других товарищах по Житомиру. Что вы знаете о них? Хотелось бы с Вами встретиться. Дорогая Тамара Николаевна! Я Вам бесконечно благодарен за Ваше теплое поздравление с Новым 1982 годом. Примите и Вы от меня искреннее сердечное поздравление с Новым годом и пожелания Вам хорошего здоровья, счастья и благополучия, больших творческих успехов. С глубоким уважением, «Митрич» – Ал. Дм. Здравствуйте, дорогой Александр Дмитриевич, как же я рада Вашему письму! Милый Митрич, какой Вы молодец! Читаю о Вашей работе, думаю о Вашей неутомимой, светлой душе и вижу Вас «там» – строгим, сосредоточенным и смелым, каким Вы мне запомнились навсегда. Вот уж действительно настоящих коммунистов можно убить, но сломить – никогда! Вы, сами того не зная, были мне в Житомире примером мужества, глядя на Вас, и я по-своему боролась, и, как видите, выстояла. Так что наша встреча там для меня имела большое духовное, поддерживающее значение. Так, наверное, и должна существовать эстафета поколений, старшие должны, как это делали и делаете Вы, передавать свою силу духа молодым. Мне, когда мы встретились осенью 1942 года, было 19 лет. Вы ничего не знали обо мне, даже моего имени не знали, и я бесконечно благодарна Вам за то, что Вы тем не менее поддержали меня, отнеслись с доверием и доброжелательностью к моей замученной обстоятельствами особе. Милый, милый Александр Дмитриевич, как я рада, что могу теперь сказать Вам за все это спасибо! Вы спрашиваете о Головко и Мащенко. К сожалению, о Головко мне не удалось узнать что-либо. А вот Толя Мащенко написал моей маме и через нее нашел и мой адрес после войны. Он рассказал в своем письме о трагической гибели моей подруги Раи Туковой, которая была предана полицаем за отказ сойтись с ним. Он в отместку сообщил немцам, что она не грузинка, а еврейка, и нашу бедную Раю расстреляли. А я-то так надеялась ее найти! Этот рассказ Толи был для меня большим горем. Он писал и о том, что любит меня и хранит мой локон, который он взял у меня после тифа в Житомире. Спрашивал, сохранила ли я добрые чувства к нему. Я ответила, что люблю его как друга и всегда буду помнить нашу дружбу в житомирском «Кранкенлазарете», что вышла замуж и очень счастлива. Он, видимо, обиделся (надо полагать, выкинул мой локон) и не стал больше писать. Я, действительно, в это время уже была замужем за моим давним другом, еще с пионерских времен. Он жил и воспитывался в Советском Союзе с 1929 года, то есть с шестилетнего возраста, в подмосковном детдоме для детей зарубежных коммунистов в Монино. Совершенно обрусел к 1938 году, когда мы с ним впервые встретились. Своих родителей, правда, помнил, в отличие от многих других своих товарищей по детдому, но родного итальянского языка не знал. Его родители, итальянские коммунисты, были на подпольной работе в Европе, потом воевали в рядах республиканцев в Испании. Затем во Франции попали в руки немцев, оккупировавших Париж, после чего мать отправили в Равенсбрюк, а отца передали Муссолини. Все мы полагали, что он остался сиротой. Я рассказываю это Вам потому, что думаю: Вам, как коммунисту, судьбы коммунистов за рубежом должны быть интересны, тем более что в эту историю вплелась и моя судьба. Мы познакомились с моим будущим мужем в пионерском лагере, в горах возле Тбилиси, в 1938 году. Потом мы с ним переписывались. В начале войны мы встретились в Москве. Его вместе со всеми монинцами вскоре эвакуировали подальше от фашистов, в г. Иваново. Сам он на фронте не был, но, пока я воевала, ждал меня. А когда я вернулась, мы поженились. Мы искренне любили друг друга и были очень счастливы, несмотря на бедность и нужду буквально во всем. Я училась, он работал в газете для военнопленных итальянских солдат. Мой партизанский полушубок я приспособила под его худую шинельку – форму ремесленного училища. Тогда еще была карточная система. Нам приходилось продавать карточки на продукты одного из нас, чтобы выкупать продукты по карточкам другого, так как ни моей стипендии, ни его крошечной зарплаты не хватало. Но все это были мелочи жизни, которые не мешали нашему счастью. Как вдруг через несколько месяцев выяснилось, что его родители, которые считались погибшими в фашистских концлагерях, живы! Через Красный Крест (тогда МОПР) они разыскали своих сыновей и вызвали их в Италию. К 1946 году отец и мать моего мужа оказались членами политбюро итальянской компартии и депутатами первого послевоенного парламента. Мой муж с младшим братом тут же, в конце 1945 года, были отправлены к родителям в Милан. А мне предстояло оформление загранпаспорта и виз. Прошло несколько месяцев, а мои документы никто, видимо, и не думал оформлять. Тогда ни почтовой, ни телефонной связи с Италией не было. Мы посылали друг другу телеграммы. Муж сообщал, что родители опять послали запрос обо мне с вызовом, что он переоформил наше брачное свидетельство в Милане, и я сразу же получила по их закону итальянское гражданство, так что итальянские власти не будут нам мешать. Однако в Москве о возможности выезда мне никто ничего не сообщал. Все родные и знакомые стали убеждать меня, что выезд мне не разрешат, что мне следует смириться и перестать думать о своем муже. «А любовь?! – отвечала я. – Это что же, так и задавят?» «Да, – говорили мне, и не таких усмиряли!». Шел 1946 год. Тогда я, в полном отчаянии, написала Сталину. Там я описала свою историю любви и замужества. А в конце написала так: «Когда Родина была в опасности, я, как тысячи моих сверстников, кинулась, не раздумывая, на защиту Москвы, на защиту нашей земли. Считаю, что выполнила в меру моих сил свой долг перед Родиной. Почему Родина мне отказывает в самом необходимом – в семье?! И не какой попало, а в семье коммунистов, тоже не прятавшихся в борьбе с фашистами по углам?! Чем же я провинилась?! Мне ничего не надо: ни орденов, ни квартир, ни машин, ни особого почета. Почему мне отказано иметь семью с любимым человеком, иметь детей в награду за все усилия и страдания?». Было еще там что-то, чего я сейчас уже не помню. Две страницы обиды и боли. Мои друзья в тревоге ахнули, а я стала ждать. Через 10 дней меня вызвали в Министерство иностранных дел, не помню точно, как оно тогда называлось. Но говорил со мной тогдашний заместитель министра иностранных дел Деканозов (впоследствии его расстреляли по приказу Хрущева вместе с сотрудниками Л. Берии). Он сказал мне, что мое письмо Иосифу Виссарионовичу получено и мне разрешен выезд. – С загранпаспортом зайдете в итальянское посольство за визой. Вам там дадут итальянский паспорт, как итальянской гражданке. – Я сейчас же откажусь. Зачем мне их гражданство! – Не отказывайтесь. У них такой закон. Мы же не отказываем Вам в гражданстве. Будете иметь два гражданства. В случае чего, они будут спрашивать с Вас, как со своей гражданки, по их законам, а мы – как со своей, по своим!» – засмеялся Деканозов. Так в мае 1946 года я выехала в Италию, в чудом уцелевшую во время войны семью моего мужа. Он уже немного стал говорить по-итальянски. Стала учить язык и я, устроившись сразу же на работу в «Совэкспортфильм». В декабре 1947 года в Риме у меня родился сын Саша. Не буду писать Вам об Италии, о замечательной стране – хранилище архитектурных, живописных, исторических и природных чудес! Расскажу при встрече. Понадобилось бы написать целую книгу! Больше всего меня поразили люди послевоенной Италии. Их настойчивая борьба за достойные условия работы, жизни, их смелость! Италия в те годы бурлила. Интерес к политическим событиям так и остался во мне с тех пор. Этот интерес Вы увидите и в моих сегодняшних фильмах. Итак, до 1952 года я работала в Римском отделении «Совэкспортфильма», муж – в представительстве ТАСС. В 1952 году мы вернулись на учебу в Москву. Я поступила на режиссерский факультет, а он – в МГУ, на экономический. Там он влюбился в свою однокурсницу, и по его инициативе, после восьми лет совместной жизни, мы развелись. Еще через 2 года и я вышла замуж за кинооператора киностудии «Мосфильм» Виктора Федоровича Листопадова. Мы уже 26 лет живем вместе и работаем на «Мосфильме». Милый Александр Дмитриевич, очень я сочувствую Вам, Вашей беде. Потеря жены, конечно же, страшная утрата, но у вас дочь, внуки, и они для Вас такая опора! Когда приедете в Москву, я буду счастлива встретиться с Вами. Очень хочу видеть Вас у себя, познакомить с мужем, с сыном, и познакомиться с Вашей дочерью, ее семьей, Вашими внуками. Крепко целую Вас и жду, а пока – жду письма. Ваша Тамара-Этери.* * *
Дорогая Элиана! На этом я заканчиваю свои воспоминания о судьбах самых близких моих товарищей, ветеранов войны, и о себе. Перечитывая написанное, я успокоилась. Вижу, что получилась повесть не только обо мне, как ты хотела, но и о многих моих сверстниках и наших старших однополчанах. Было бы несправедливо представлять мою судьбу в тех обстоятельствах, как какой-то феномен. Получился рассказ о простых советских людях, о характерах, сложившихся в течение тридцати лет после революции 1917 года. Об этом поколении у вас почти ничего не знают или знают совсем мало, потому что о моей стране в ваших краях много лет писали небылицы, а современных русских изображали в основном недалекими, часто агрессивными и непредсказуемыми чудаками. Поэтому у вас боялись советских людей. Иногда судили о нас по некоторым руководителям нашего государства. Очень немногие знали, что жизнь и менталитет правящей верхушки, особенно в последние десятилетия, не имели ничего общего с жизнью и менталитетом основной массы населения Советского Союза. Они жили как бы в разных мирах. Это обстоятельство, наряду с другими внешними трагическими событиями, и привело, в конце концов, к разрушению нашего Отечества. Ты была права: чтобы понять драматизм происходящего сейчас на наших просторах, был смысл рассказать о простых людях, которые, как ни ломала их война, сохранили на всю жизнь дружбу и уважение друг к другу. О моих друзьях и знакомых, об их мироощущении, о правдивых, глубоких чувствах, которые помогли им выстоять в военное лихолетье 1941–1945 годов. И сейчас еще помогают не погибнуть в омуте наступивших новых потрясений. Надо было все это рассказать еще и потому, что те «русские», которых вы видите теперь у себя, либо с сотнями миллионов долларов, украденных у обессилевшей России, либо с русскими девушками-красавицами и детьми на продажу, не что иное, как грязная пена на поверхности огромного, глубокого моря – России, попавшей в беду. Не судите по ним о наших людях. В этой повести вы узнали о совсем других, обычных гражданах нашей страны. Все вместе мы имеем право на внимание, как частичка, зернышко великого Народа, когда-то – Победителя, а теперь Мученика. Спасибо тебе за помощь и вдохновение, которые мне позволили написать эту работу. Обнимаю тебя крепко, твоя Тамара. Москва – Гаварно. Лето 1995 – 1 июля 1997 гг.Вместо послесловия
Письмо Антонио[29] Дорогая Тамара, я только что закончил читать твою прекрасную книгу. Я потрясен описанной реальностью, твоим драматическим правдивым рассказом. Хочу надеяться, что историческая память об этих событиях (которые впрямую и не впрямую всех нас все еще касаются) будет передана потомкам адекватной публикацией. Стиль этой книги непосредственный, прямой, стремительный. Сюжет развивается в кинематографической манере с захватывающими бедами и преодолениями, которые делают прочтение книги волнующим. Эту книгу должны читать в школах! Но больше всего меня потрясла ты. Какая смелость! Какая воля и характер! Какая жажда жизни, несмотря на целое море страданий и невероятных преступлений! Это великое свойство советского народа. Как ты выдержала? Не могу найти подходящих слов, чтобы выразить все, что я чувствую по отношению к тебе и твоему народу, победившему нацизм. Мы с Паолой[30]часто говорим о твоей книге, потому что невозможно не думать о ней. Я уверен, что в ближайшее время у множества читателей появится возможность задуматься о ветеранах, о битвах в России и о европейских событиях во времена фашизма. Благодарю Элиану и тебя за то, что вы оказали нам честь, дав прочитать заранее этот исключительный документ о жизни и об истории. С глубокими чувствами, Антонио, Паола. Италия, Бергамо, Вилла ди Серио, 1999 г.Письмо Эвелины[31] Дорогая Тамара, прошло уже несколько дней с тех пор, как я прочла твою книгу, но мне не хотелось сразу же говорить тебе о моем впечатлении от нее. Возникло большое желание удержать его в себе, чтобы полнее осознать. Твоя книга действительно прекрасна и убедительна. Чудесная человечность, которая пронизывает ее, чувствуется в каждой строчке, и которая, несмотря на ужас содержания книги, постоянно наполняет душу надеждой. Читая о героизме и великодушии в этой рукописи, я почувствовала себя такой маленькой и неопытной перед настоящей борьбой за выживание. Я испытала отчаянный страх и стыд. Вместе с тем я испытала и гордость за то, что принадлежу к человеческому роду, такому иногда разочаровывающему, но и способному подняться до невероятных высот идейного и морального единства, душевного благородства… Думаю, в этом – магия книги «Нас ломала война…», возникающая при естественном органичном воспроизведении тяжелейшего исторического периода, каким явилась нацистская оккупация и преследование людей в России. Особенно живы портреты мужчин и женщин, которые потрясают своей правдивостью. Мужчины и женщины, которые, будучи такими разными по культуре, социальному уровню, своему жизненному опыту, изо всех сил боролись за общее дело и показали, что, несмотря ни на какие удары, сыпавшиеся на них, они оказались сильнее. Да, главное – у них всех была твердая воля, желание освободиться от врага и уничтожить его. Но, что меня глубоко тронуло, так это их солидарность, высокое чувство братства, во имя которого ценнее всего было не просто выжить самому, а выжить вместе с товарищами по несчастью. Конечно, альтруизм и моральная целостность в душе были не у каждого, как и рассказано в твоей книге… Подлость, страх, карьеризм овладевали некоторыми субъектами и толкали их на злые поступки по отношению к тем, кто ранее был им «братом» и товарищем. Меня потрясла также та глубинная связь, которая установилась между вами, жертвами той трагедии. Связь, которая оказалась способной объединить вас на долгие годы, на протяжении двадцати и даже пятидесяти лет! Эти письма дают почти физически ощутить волнение, трогательную радость, которые каждый из вас испытывал, как только находил товарища, выстоявшего и еще живого! Простота стиля – еще один важнейший элемент, помогающий читателю пережить те дни. Я нахожу очень сильным этот лаконичный стиль с незначительными уступками литературным или сентиментальным отступлениям. Такой стиль органичен при рассказе о жестокости. Эти слова буквально обжигают, с одинаковой точностью и проникновенностью описывая как жестокость ваших палачей, так и проявления любви и благородные порывы, на которые вы, герои войны, были способны. И еще. Разреши мне сказать тебе, что, хотя я и знала, что ты необыкновенная женщина, излучающая добросердечие в каждом слове, в каждом жесте, прочитав, какую смелость и величие души ты проявила в те жуткие дни, я была ошеломлена и растрогана еще больше. Дорогая Тамара-Этери, от всей души желаю тебе опубликовать этот твой исторический и человеческий документ высочайшей ценности. Надо отдать должное и поблагодарить Элиану за то, что она убедила тебя передать на бумаге твои военные воспоминания и разрешила мне прочесть их. Я уверена, что эта работа будет оценена многими. Работа, которая с удивительной ясностью и страстью рассказывает о людях душой маленькой благородной женщины. С глубоким волнением, Эвелина. Италия, Одерцо, 2000 г.
Из семейного архива
 Тамара Лисициан, 1948 г.
Тамара Лисициан, 1948 г.
 Семья дедушки по отцу, Павла Христофоровича Лисициан.
Моздок, 1973 г.
Семья дедушки по отцу, Павла Христофоровича Лисициан.
Моздок, 1973 г.
 Семья дедушки по матери, Ивана Логиновича Шерстобитова.
Крайняя слева в белом платье – мать Тамары Лисициан, Марфа Ивановна, Грозный, 1914 г.
Семья дедушки по матери, Ивана Логиновича Шерстобитова.
Крайняя слева в белом платье – мать Тамары Лисициан, Марфа Ивановна, Грозный, 1914 г.
 Тамара с бабушкой по отцу Марией Петровной Лисициан.
Владикавказ, 1926 г.
Тамара с бабушкой по отцу Марией Петровной Лисициан.
Владикавказ, 1926 г.
 Тамара с матерью Марфой Ивановной и отцом Николаем Павловичем Лисициан.
Тбилиси, 1928 г.
Тамара с матерью Марфой Ивановной и отцом Николаем Павловичем Лисициан.
Тбилиси, 1928 г.
 Народный артист СССР Павел Лисициан, двоюродный брат Тамары. 1933 г.
Народный артист СССР Павел Лисициан, двоюродный брат Тамары. 1933 г.
 Николай Павлович и Марфа Ивановна Лисициан с дочкой Тамусей.
Николаю 47 лет, Марфе 30.
Тбилиси, 1923 г.
Николай Павлович и Марфа Ивановна Лисициан с дочкой Тамусей.
Николаю 47 лет, Марфе 30.
Тбилиси, 1923 г.

 Рим, 1948 г.
Рим, 1948 г.
 Луиджи Лонго с женой Бруной-Конти и невесткой Тамарой Лисициан (рядом шофер Л.Л.). Рим, Джаниколо, 1950 г.
Луиджи Лонго – заместитель генерального секретаря Итальянской компартии Пальмиро Тольятти, а в 1964–1969 гг. – генеральный секретарь.
Луиджи Лонго с женой Бруной-Конти и невесткой Тамарой Лисициан (рядом шофер Л.Л.). Рим, Джаниколо, 1950 г.
Луиджи Лонго – заместитель генерального секретаря Итальянской компартии Пальмиро Тольятти, а в 1964–1969 гг. – генеральный секретарь.
 Надпись на обороте:
Макик, посылаю тебе эту карточку, чтобы ты имел представление о моем рабочем месте. Я вышла ужасно, зато мой рабочий стол-мувиола хорошо видно. Белый квадратик посреди стола на весу это маленький экран, на котором я смотрю части фильма, как люди обычно видят в кино. Рим, 1948 г.
Надпись на обороте:
Макик, посылаю тебе эту карточку, чтобы ты имел представление о моем рабочем месте. Я вышла ужасно, зато мой рабочий стол-мувиола хорошо видно. Белый квадратик посреди стола на весу это маленький экран, на котором я смотрю части фильма, как люди обычно видят в кино. Рим, 1948 г.
 Сандрик с мамой, Площадь Болонья. Рим 1948 г.
Сандрик с мамой, Площадь Болонья. Рим 1948 г.
 Мама с дочкой Тамарой Лисициан. Тбилиси, 1952 г.
Мама с дочкой Тамарой Лисициан. Тбилиси, 1952 г.
 Сандрик Лонго с мамой Тамарой Лисициан. Москва, 1954 г.
Сандрик Лонго с мамой Тамарой Лисициан. Москва, 1954 г.
 ВГИК 3-й режиссерский курс С.И. Юткевича.
Москва, 1955 г.
ВГИК 3-й режиссерский курс С.И. Юткевича.
Москва, 1955 г.
 Тамара Лисициан с сыном Александром Лонго. Киностудия «Мосфильм». Москва, 1980 г.
Тамара Лисициан с сыном Александром Лонго. Киностудия «Мосфильм». Москва, 1980 г.
 Лисициан Тамара Николаевна, Ветеран труда, кинорежиссер киностудии «Мосфильм», ветеран Великой Отечественной войны, партизанка-десантница воинской части 9903 и боец соединения им. Щорса на Украине, заслуженный деятель искусств РСФСР. 1980 г.
Лисициан Тамара Николаевна, Ветеран труда, кинорежиссер киностудии «Мосфильм», ветеран Великой Отечественной войны, партизанка-десантница воинской части 9903 и боец соединения им. Щорса на Украине, заслуженный деятель искусств РСФСР. 1980 г.
 Бывшая партизанка Тамара Лисициан.
Киев, Бабий Яр. 1969 г.
Бывшая партизанка Тамара Лисициан.
Киев, Бабий Яр. 1969 г.
 Бывшие советские военнопленные на месте захоронения 150 000 военнопленных в Славутском концентрационном лагере в течение 1941–1943 гг. Славута. 1980 г.
Бывшие советские военнопленные на месте захоронения 150 000 военнопленных в Славутском концентрационном лагере в течение 1941–1943 гг. Славута. 1980 г.
 Бывшие бойцы части 9903 у памятника Зое Космодемьянской.
Слева направо: Е.П. Гордеева-Фомина, Ю.Д. Терехин, Т.Н. Лисициан. п. Петрищево, Московской области.1984 г.
Бывшие бойцы части 9903 у памятника Зое Космодемьянской.
Слева направо: Е.П. Гордеева-Фомина, Ю.Д. Терехин, Т.Н. Лисициан. п. Петрищево, Московской области.1984 г.

 Надпись на обороте: Николай Федорович Голубев с женой Лидой у нас в гостях.
Врач, бывший военнопленный.
Был в 1943 г. в лагере в г. Славута, на Украине.
Москва, 1980 г.
Надпись на обороте: Николай Федорович Голубев с женой Лидой у нас в гостях.
Врач, бывший военнопленный.
Был в 1943 г. в лагере в г. Славута, на Украине.
Москва, 1980 г.
 Встреча бывших бойцов воинской части 9903.
Слева направо: сидят – Е. Гордеева-Фомина, М. Казаков, стоят – Т. Лисициан, Александра Захарова-Гладышева.
Краснодар, 1987 г.
Встреча бывших бойцов воинской части 9903.
Слева направо: сидят – Е. Гордеева-Фомина, М. Казаков, стоят – Т. Лисициан, Александра Захарова-Гладышева.
Краснодар, 1987 г.
 Ветераны Великой отечественной войны. В очках режиссер-постановщик Тамара Лисициан.
Киностудия «Мосфильм». 1995 г.
Ветераны Великой отечественной войны. В очках режиссер-постановщик Тамара Лисициан.
Киностудия «Мосфильм». 1995 г.
 Надпись на обороте: Иорис Ивен, Каяираги (в очках), Борис Чирков, Тамара Лисициан, Всеволод Пудовкин, Захаревич, Мих. Папава, Киностудия «Чинечитта». Италия, Рим
Надпись на обороте: Иорис Ивен, Каяираги (в очках), Борис Чирков, Тамара Лисициан, Всеволод Пудовкин, Захаревич, Мих. Папава, Киностудия «Чинечитта». Италия, Рим
 Надпись на обороте:
Художник Галей, Роман Ткачук в роли Мастино, Рина Зеленая в роли графини Вишни, режиссер-постановщик Тамара Лисициан, киностудия «Мосфильм», кинофильм «Чиполлино» на съемках в Крыму в 1972 г.
Надпись на обороте:
Художник Галей, Роман Ткачук в роли Мастино, Рина Зеленая в роли графини Вишни, режиссер-постановщик Тамара Лисициан, киностудия «Мосфильм», кинофильм «Чиполлино» на съемках в Крыму в 1972 г.
 Съемочная группа «Мосфильма», кинофильм «На гранатовых островах». Куба, Дом Хемингуэя, 1980 г.
Съемочная группа «Мосфильма», кинофильм «На гранатовых островах». Куба, Дом Хемингуэя, 1980 г.

 На съемках фильма «Встречи с духоборцами Канады». Автор сценария и режиссер постановщик Тамара Лисициан. Киностудия «Мосфильм». Канада. 1990 г.
На съемках фильма «Встречи с духоборцами Канады». Автор сценария и режиссер постановщик Тамара Лисициан. Киностудия «Мосфильм». Канада. 1990 г.
 Тамара Лисициан на съемках своего первого художественного фильма «Сомбреро», 1958 г.
Тамара Лисициан на съемках своего первого художественного фильма «Сомбреро», 1958 г.
 Площадь Пушкина. Подпись рукой Тамары: «Реклама моего фильма». Москва, 1961 г.
Площадь Пушкина. Подпись рукой Тамары: «Реклама моего фильма». Москва, 1961 г.

 Тамара Лисициан с Лидией Андреевой-Куинджи в перерыве сьемок фильма «Тайна виллы “Грета”».
Мосфильм. 1983 г. (Сейчас Л. Андреева-Куинджи творческий руководитель проекта «Герои былых времен».)
Тамара Лисициан с Лидией Андреевой-Куинджи в перерыве сьемок фильма «Тайна виллы “Грета”».
Мосфильм. 1983 г. (Сейчас Л. Андреева-Куинджи творческий руководитель проекта «Герои былых времен».)
 Кинорежиссер Лисициан Тамара Николаевна на съемке своего фильма «Тайна виллы “Грета”». 1983 г.
Кинорежиссер Лисициан Тамара Николаевна на съемке своего фильма «Тайна виллы “Грета”». 1983 г.
 Тамара Лисициан на фоне афиши своего фильма.
Москва, 1984 г.
Тамара Лисициан на фоне афиши своего фильма.
Москва, 1984 г.

 Москва, 1984 г.
Москва, 1984 г.
 Ветераны войны и труда кинорежиссер киностудии «Мосфильм» Лисициан Тамара Николаевна и ее муж кинооператор киностудии «Мосфильм» Листопадов Виктор Федорович у себя дома.
Ноябрь 1984 г.
Ветераны войны и труда кинорежиссер киностудии «Мосфильм» Лисициан Тамара Николаевна и ее муж кинооператор киностудии «Мосфильм» Листопадов Виктор Федорович у себя дома.
Ноябрь 1984 г.
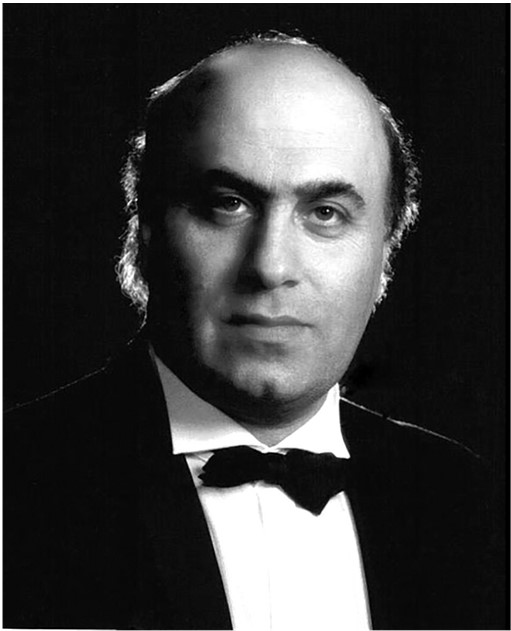 Издательство «БОС» благодарит за помощь в работе над проектом Рубена Павловича Лисициана – племянника и единственного наследника Тамары Николаевны Лисициан, сына народного артиста СССР Павла Лисициана (см. стр. 362).
Рубен Лисициан – советский, российский, армянский певец, заслуженный артист Российской Федерации, преподаватель вокала в ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, профессор, президент Германо-Российской культурно-образовательной академии.
Издательство «БОС» благодарит за помощь в работе над проектом Рубена Павловича Лисициана – племянника и единственного наследника Тамары Николаевны Лисициан, сына народного артиста СССР Павла Лисициана (см. стр. 362).
Рубен Лисициан – советский, российский, армянский певец, заслуженный артист Российской Федерации, преподаватель вокала в ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, профессор, президент Германо-Российской культурно-образовательной академии.

Последние комментарии
10 часов 5 минут назад
1 день 2 часов назад
1 день 11 часов назад
1 день 11 часов назад
3 дней 17 часов назад
3 дней 21 часов назад