Душнила [Влад Каплан] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Влад Каплан Душнила
ВСЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ ВЫМЫШЛЕНЫ. ЛЮБЫЕ СОВПАДЕНИЯ С РЕАЛЬНЫМИ ЛИЧНОСТЯМИ СЛУЧАЙНЫ.
Волшебник-куколд
Это было где-то в две тыщи тринадцатом, когда в питерское метро еще не провели вай-фай. Они познакомились офлайн как в черно-белом кино. Она прогуливала пары в консерватории, играя на виолончели на набережной Грибоедова, в надежде заработать немного на табак и бумажки для самокруток. А он в то же время прогуливался до рюмочной, с каждым шагом выбивая искры из черного крикета, запрятанного глубоко в кармане своей камуфляжной куртки. Большинство ленинградских мальчишек рождаются самыми заурядными и только потом становятся автократами и олигархами. С Федей Чилиным все было с точностью до наоборот. Федор появился на свет с удивительным даром, однако не смог найти ему применения и, в конце концов, стал самым заурядным волшебником. Целыми днями он слонялся по городу в своей камуфляжной куртке и собирал штрафы за распитие и мелкое хулиганство. До тех самых пор, пока случайно не поскользнулся на набережной Грибоедова, рефлекторно схватившись обеими руками за рукава Зарины, потащив ее за собой. Он вообще все время поскальзывался и был такой неуклюжий, что она не позволила ему понести кофр от виолончели, но, чтобы совсем его не расстраивать вручила смычок, а Федору и этого было вполне достаточно, чтобы в кой-то веки почувствовать себя джентльменом. В конце концов, до рюмочной Федор так и не дошел. Держась за смычок каждый со своей стороны, они гуляли так несколько часов подряд. Ей нужно было на остров, ему на континент. И, как это часто бывает в городе Петербурге, обо всем этом они напрочь забыли, так что, в конечном счете, мы можем с уверенностью сказать, что их свели разводные мосты. Зарина Ананасова любила прогуливать лекции по истории музыки и на ходу читать нотную грамоту под музыку техно в наушниках по дороге в училище. А он с первого взгляда влюбился в нее. И тут, наконец, нашлось применение магическим силам, которые в последние годы все больше обременяли Чилина. Федор серьезно взялся за магию и для Зарины колдовал ежедневно. Он превращал для нее воду в шампанское и писал ее имя звездами среди облаков. Когда начинался дождь, они летали над серыми тучами, чтоб не промокнуть, а в белые ночи танцевали вальс на Неве под Дворцовым мостом. Он оживлял сфинксов с Университетской набережной, чтобы те провожали ее до дома, а гуляя по Эрмитажу, превращал музейных смотрительниц в кошек, чтоб насмешить Зарину и, сам того не подозревая, раз и навсегда разрешил, стоявший остро вопрос сокращения кадров в Зимнем дворце. Но все это осталось за кадром и совершенно забылось, когда они, наконец, решили жить вместе. Все реже они выходили из дома, и все чаще выходили в даркнет (дилеры тогда уже вышли из моды). Так магию им заменил тетрагидроканабидол. Удивляться тут нечему. В Питере курят буквально все, здесь это все равно, что попить воды. Легкие наркотики стали обязательной составляющей их совместного счастья. Они могли целыми днями валяться в постели, играя в видеоигры, как первые люди – не замечая собственной наготы, не замечая вообще ничего другого, кроме друг друга. И это было хорошо, и Федор был по-настоящему счастлив, его вполне себе устраивал такой расклад. Но Вавилонская башня, выложенная коробками из под пиццы, обещавшая вырасти, если не до самого неба, то, по крайней мере, до потолка, с каждым новым днем все больше напоминала Зарине о линейности человеческого существования за пределами их доморощенного персонального рая, да и виолончель пылилась в кладовке. И так, в один из дней, она вдруг выяснила для себя, что, как бы хорошо ей не было с Федором в их раю-самострое, там можно было ходить только по кругу, а она уже исходила его вдоль и поперек и, значит, теперь ей нужно идти дальше. Поэтому, не дожидаясь, когда ей, наконец, наскучит (а это, по мнению Зарины, было бы неизбежно), Зарина решила уйти. Покинув Федора, она первым делом избавилась от всех фотографий, подарков, совместных татуировок, бумажных и электронных писем – короче говоря, ото всех общих воспоминаний. Ей казалось, что, чем скорее она расстанется с прошлым, тем ближе к ней будет ее звезда. Та самая, на чей зов Зарина отозвалась и собрала вещи в их самую последнюю ночь, пока Чилин спал, ни о чем не подозревая. Эта звезда, конечно же, не была чем-то конкретным. По правде говоря, это была вообще сплошная метафора – внутренне предчувствие, заставившее Зарину поверить в то, что ее ждет великое будущее, в котором, увы, нету места для Чилина. И все же, должно быть, просто на всякий случай, она решила оставить себе парочку неприятных воспоминаний. О том, например, как Федор храпел по ночам, о том как, увлекшись игрой в приставку, мог часами не обращать на нее никакого внимания, каким он вообще был порой невнимательным, забывая даже, казалось бы, такие элементарные вещи как даты ее самых важных экзаменов в консерватории или, того хуже, день годовщины их первой встречи. С таким багажом Зарина перебралась к своим университетским подружкам и далее, на внеочередном заседании девичьего третейского суда, Чилин был заочно осужден и приговорен к вечному изгнанию из Зарининой жизни. Стоит отдельно отметить, что в мире, где господствуют законы женской солидарности, никоим образом не реализуется прицнип разделения властей, поэтому следить за исполнением приговора, разумеется, взялись те же самые персонажи, которые его выносили, и потому, даже если Зарине случилось бы заскучать, у Чилина не было теперь уже никаких шансов. На все его звонки отвечали подруги – женщины мудрые, с помногу раз перебитыми сердцами, которые знали как правильно отшивать. Сперва они в, самой что ни на есть грубой форме, сообщили Федору, что этот номер больше не принадлежит Зарине, и чтобы больше он сюда не звонил. Но Чилин не сдавался. Тогда в ход пошла тяжелая артиллерия – они заявили, что Зарина теперь влюблена в другого. Это известие окончательно уничтожило Федора, а Заринины подруги, для пущей убедительности еще добавили, что ее новый бойфренд, ко всему прочему, – футбольный фанат, так что лучше Чилину с ним не связываться. Чилин понятия не имел, что ему теперь делать, поэтому отправился бесцельно слоняться по улицам, и коварные улицы завели его назад – в рюмочные. Круг замкнулся, он снова запил. В первый же день он напился до потери памяти и подрался так, что сложно было сказать, что было хуже – его внутреннее или внешнее состояние. Разбитые кулаки, рассеченная бровь, заблеванная камуфляжная куртка, исчезнувший кошелек и, хуже всего, – убийственное похмелье. И, все же, подобно тому как желание быть пойманным за руку порой возвращает преступников на место их преступления, на следующий день похмелье отбросило Чилина назад – за барную стойку. Удовлетворенный притупляющей боль апатией, которую сегодня ему подарило вчерашнее алкогольное отравление, он появился в рюмочной до полудня. Делая вид, что не замечает косых взглядов барменов, нацеленных на него после вчерашней же потасовки, он заказал себе выпить. Не успев толком приложиться к бокалу светлого пива, Чилин с удивлением узнал в компании, сидящей за одним из самых дальних от него столиков своих прежних друзей-алкоголиков. У него, почему-то, не было ни малейшего желания распыляться на этих типов (бог знает к чему это могло привести), поэтому, сориентировавшись, он решил прибегнуть к хитрости и, удалившись в туалет на минуту, при помощи одного из своих магических трюков, изменил свою внешность до неузнаваемости, так что, если бы кто-нибудь и мог теперь обратить на него внимание, то только благодаря его камуфляжной куртке, которую он предусмотрительно повесил на вешалку, в самом что ни на есть неприметном месте. Магия сработала, и ему удалось, как он и планировал, напиться и уйти незамеченным уже только под вечер. По дороге домой, Федора осенило – еще не все потеряно! Раз ему удалось, при помощи колдовства, перехитрить своих бывших товарищей, это значит, он сможет повторить этот трюк для Зарины – переиграть ее подруг и начать все сначала! С этим Чилин вернулся домой в приподнятом настроении, свалился в кровать, завел будильник и уснул со сладкой улыбкой, растекшейся по пьяной физиономии, в предвкушении следующего утра. Под вымышленным именем, вымышленным персонажем, с вымышленной биографией, он встретил Зарину как будто случайно, в том самом месте – на набережной канала Грибоедова, где она обыкновенно прогуливала пары по истории музыки, в надежде заработать на табак и бумажки для самокруток. Ему ничего не оставалось, кроме как прикинуться футбольным фанатом, раз уж Зарине, по словам ее коварных подруг, так нравится тема околофутбола. Разумеется, все это была полная чушь и, тем не менее, Чилину удалось безупречно отыграть роль фаната, причем невыносимого галантного, так что за оставшийся вечер, она позволила ему поцеловать себя околоказанскогособора, околобольшойневы и даже околосвоегодома. Короче говоря, за один этот вечер Зарине повезло снова влюбиться, как она того и хотела. А счастью Федора не было предела. Ему и в голову не приходило, что ради высокой цели можно взять и вот так вот запросто измениться. Специально ради нее Чилин подружился с другими фанатами, стал следить за расписанием матчей, ездить на выезды, и даже сам, как-то незаметно для себя самого, по-настоящему заинтересовался футболом. Короче говоря, они зажили, как прежде, и он уже сам стал забывать свое настоящее имя, лицо и так далее и тому подобное, но это было неважно, ведь как бы сильно он не поменялся, самое главное оставалось неизменным – его любовь к ней. Хотя, по правде сказать, не только. Потому как, в один день Зарина объявила ему, что устала от бесконечного футбола, и ей пора двигаться дальше. С этим, она собрала вещи и переехала к университетским подругам, которые начисто запретили ей всякое общений с этим «диким гопником», в которого за столь непродолжительное время превратился Чилин. Федору не пришлось долго раздумывать, ведь он уже знал, что нужно делать. Позвонив Зарине, от ее подруг, он выяснил, что она влюблена в человека искусства – в настоящего дирижера, а его место с семечками в подворотне. Буквально через несколько дней, словно по волшебству, на набережной канала Грибоедова, Зарина познакомилась с очаровательным молодым и весьма перспективным дирижером еврейского происхождения. Тот безупречно разбирался в музыке, имел хороший вкус, показал ей богему, да и вообще был не похож ни на кого другого, с кем ей доводилось встречаться. В него Зарина влюбилась без памяти. Ну, конечно! И как она сразу не догадалась? Вот, кто всю жизнь был ей нужен! Музыкант, человек искусства. Какая удача! Хотя Чилину, конечно, было известно, что удача тут ни при чем, но он помалкивал, безупречно отыгрывая свою роль. Ему пришлось за несколько дней разучить нотную грамоту и искусство обращения со смычком, но оно того стоило, ведь ради Зарины он был готов на все. Совсем скоро они поженились и, как только Зарина окончила консерваторию, стали вместе служить в филармонии. Оба заработали себе имя и получили множество наград. Жили они душа в душу, и счастью их не было предела. Но все омрачилось, когда Зарина вдруг обвинила мужа в том, что тот так погряз в интеллектуальном труде, что напрочь забыл про нее, да и вообще ей нужен по-настоящему сильный мужчина, который сможет за нее постоять. Через несколько месяцев бракоразводного процесса, уступив все совместно-нажитое Зарине, Чилин, уже в полной уверенности, что держит ситуацию под контролем, вновь позвонил ей. Еще через месяц она уже сожительствовала с бойцом смешанных единоборств, через полгода с биржевым брокером, через полтора года уехала отдыхать на Мальдивы с возлюбленным бизнесменом, в возрасте двадцати девяти лет завела интрижку с капитаном торгового флота. И под всеми этими масками, разумеется, скрывался сам Федор Чилин, движимый любовью к Зарине, и готовый ради нее пойти на любые жертвы. В течение многих лет, в постели над ней нависали звезды, крестики и полумесяцы на цепочках из благородных и полудрагоценных металлов, но Зарина все не унималась. Своему четвертому мужу – юристу, она уже прямо заявила, что попросту не любит его, а ее сердце, по-прежнему принадлежит одному единственному человеку, любовь к которому она пронесла через всю свою жизнь – Федору Чилину, ведь только он любил ее по-настоящему. Чилин отлично знал, что ему нужно сделать, но, как ни старался, ему так и не удалось принять свой первоначальный облик. Он попросту забыл того человека, которым сам был когда-то: его черты лица, манеру говорить, одеваться и все такое прочее. Тело Федора Чилина обнаружили, благодаря камуфляжной куртке, на пляже у Петропавловской крепости. Своего последнего мужа, который внезапно пропал, Зарина так и не спохватилась, а, узнав о смерти Федора, уже больше никогда не вышла замуж и прожила до глубокой старости в полном одиночестве, изредка посещая свадьбы университетских подружек, а также крестины и дни рождения их многочисленных детей и внуков…Море волнуется

Время летнее. Отец получил долгожданное повышение и пропадает на втором этаже у себя в кабинете, выходящем эркерными окнами в сад. Мама по-прежнему самая красивая девушка на всем острове. Ее помада оставляет едва уловимые следы на папиных щеках, приятно пахнущих лосьоном после бритья. Она трудится в саду, а ты машешь ей рукой через окна столовой и улыбаешься. Вы живете в красивом доме, как мама с папой всегда и мечтали, и до школы, что находится за бухтой – в континентальной части портового города, ходит паро́м. Но на дворе каникулы, и про школу на время можно забыть, так что паром курсирует теперь только лишь для того, чтобы переправить на остров твою лучшую подружку, которая на год старше, но вы все равно отлично с ней ладите. Над письменным столом список литературы с парой зачеркнутых наименований, а на столе в столовой лоток душистой клубники, украшенной веточкой мяты. Ты еще морщишься от вкуса вина и запаха сигарет и можешь часами напролет ворочаться с книжкой в постели, не переживая о том, что завтра рано вставать. На пологой крыше твоего дома греется на солнышке рыжий кот, а по деревянной веранде ползают маленькие хвостатые ящерицы. В пожарном водоеме у дома кружатся цветы кувшинок, и мелкая рыбешка мечет икру. Ты укладываешь в соломенную корзинку велосипеда все самое необходимое: бутылку домашнего лимонада со льдом и бутерброды с яйцом, завернутые в фольгу. В траве стрекочут цикады, и разноцветные бабочки исполняют незамысловатые фигуры высшего пилотажа. Ты отправляешься в путь, по пути весело здороваясь со всеми соседями, называя каждого по именам. Море бросает на берег мелкие ракушки и раковины. Водоросли тянутся к пирсу своими скользкими пальцами. Паром лениво качается на волнах. Он подает сигнал, и надоедливые чайки разлетаются, кто куда, а вы с подругой зовете друг дружку по именам, маша руками и, стараясь перекричать гудок корабля. Усатый паромщик швартует судно и закуривает сигарету. Одной из последних на берег сходит твоя подруга, а разноцветные автомобили на палубе, джентльменски пропускают ее вперед, и терпеливо ждут своей очереди. Паромщик, уже по традиции, угощает вас лимонными леденцами, и в благодарность, вы обе неуклюже отвешиваете реверанс, кончиками тоненьких пальцев, держась за подолы воздушных платьев. Вместе с паромом приходят новости: о том, что городские мальчишки, которые еще прошлым летом были заклятыми врагами, с тех пор как у твоей подружки наметились первые очертания груди, не дают ей прохода; о том, что в заливе объявились тигровые акулы, из-за которых байдарочникам в этом году снова пришлось изменить свой маршрут; о том, как красиво украсили городские набережные в преддверии фестиваля парусных кораблей. Но и на острове хватает своих новостей. Хорошо искупавшись, вы совсем как взрослые, ложитесь на разноцветные полосатые покрывала – позагорать. Потягивая через соломинку лимонад, ты рассказываешь своей подруге то, чем ни с кем бы больше не стала делиться. То, чего взрослые никогда не поймут. Поднявшись на локтях, ты говоришь ей, что, кажется, видела приведение. Ты говоришь, что призрак похож на обыкновенную тень. Впервые ты заметила его через окно гостиной, возвращаясь с прогулки домой, а затем, обнаружив в саду следы, ведущие от открытого окна до самой калитки у заднего входа, убедилась, в том, что это никакой не мираж. Внимательно тебя выслушав, подружка, не привыкшая сомневаться в твоих словах, однако привыкшая, в силу своего старшинства, раздавать советы, говорит, что, если все действительно так и было, тебе следует выследить приведение и вежливо попросить уйти. Ты возражаешь, обращая внимание на то, что призрак может оказаться совсем не таким воспитанным, каким она его себе нарисовала. Подружка соглашается, справедливости ради замечая, что сама, вроде бы, никогда прежде с приведениями не сталкивалась, но обещает любую помощь, какая только может от нее потребоваться. Придя, наконец, к согласию вы делите на двоих спелый грейпфрут. Внезапно, заслонив собой солнце, перед вами возникает черная тень, и вы едва не пугаетесь, но быстро соображаете, что это всего-навсего какой-то рыжий мальчишка. Он беззубо улыбается, глядя прямо на тебя, и зовет вас прыгать в воду с тарзанки, Согласившись, вы весело бежите к морю наперегонки.

Папа в городе на неделю. А может и дольше. Ты сильно скучаешь, но ничего не можешь с этим поделать. Вернувшись с прогулки затемно, ты незаметно подкрадываешься к маме из-за спины. Она нарезает овощи к ужину, что-нибудь напевая, и наслаждаясь бокалом холодного шардоне. Ты закрываешь ладонями ей глаза и спрашиваешь «угадай кто». Мама сперва вздрагивает и пугается, а затем смеется. Она целует тебя в лоб и говорит: – Привет, дочка. Иди пока почитай. Еще ничего не готово. – Жалко папы не будет к ужину, – горестно замечаешь ты, обнимая маму за талию. – Действительно, жалко. Сверху слышится глухой стук, словно что-то упало, и ты пугаешься. – Мам, ты это слышала? – Должно быть, кот. Рыжий бандит. А, знаешь, – говорит мама и угощает тебя сочной долькой томата, только из-под ножа, – завтра у меня будет много дел, так что можешь сама отправиться на станцию и позвонить папе в город. – Хорошо, мамочка. Люблю тебя! – И я тебя, дочка. – улыбается твоя мама, – А теперь беги к себе, и не забудь вымыть руки. Прежде чем отправиться в свою комнату, и даже прежде чем вымыть руки, ты решаешь установить источник странного шума, и осторожно, на цыпочках, поднимаешься на второй этаж. Все так и есть. Это всего-навсего рыжий кот, которому ты так и не успела дать кличку, носится по дому, охотясь за стрекозой. Ты открываешь окошко, и стрекоза исчезает в саду. Пройдет еще много времени, прежде чем кот сможет тебя за это простить. Наконец, ты отправляешься в свою комнату, по дороге, просто на всякий случай, заглядывая в гостиную. Первое, что ты замечаешь – созвездие светлячков, рассредоточившихся по всей комнате. Судя по их популяции, окно открыто довольно давно. Ты выглядываешь в него и замечаешь линию примятой травы, ведущей прямо к забору. «Призрак…» – беззвучно шепчешь ты в темноте и, затворив окно, уходишь к себе, погрузившись в мысли о приведении. В хрустальной розетке у тебя на столе, мама оставила восточные сладости рахат-лукум. Едва заметив их, ты широко улыбаешься, позабыв обо всем другом.

Происшествие со светлячками заставляет тебя твердо увериться в том, что необходимо немедленно начинать охоту на призрака. По возвращению с паромной станции, позвонив отцу, ты, в приподнятом настроении, первым делом отправляешься обследовать гостиную, однако не найдя никаких зацепок, решаешь возвратиться в бухту, чтобы искупаться и отдохнуть, а к вечеру продолжить свои наблюдения. Уходя, ты плотно закрываешь калитку у заднего входа. Просто на всякий случай. Где-то на горизонте собираются недобрые тучи, но пока, солнце еще высоко и отражается в твоих глазах, а морской бриз красиво спутывает длинные волосы. Какой-то мальчишка подплывает поближе, чтобы по секрету сообщить тебе о том, что тот рыжий мальчик с тарзанки сегодня собрался тебя поцеловать. Ты благодаришь его, но отплываешь на безопасное расстояние. Кто знает, чего еще ждать от этих мальчишек. Лежа на спине, и раскачиваясь на волнах, ты тайком наблюдаешь за горе-любовником. Он на спор заплывает за буйки, что строго запрещено, и затем медленно направляется в твою сторону. Он подплывает все ближе, и волны предательски несут тебя прямо к нему навстречу. Вот он уже совсем рядом и кладет руку тебе на плечо, но ты начинаешь весело брызгаться, превращая все это в игру, и он уплывает. Закат цвета фламинго провожает тебя домой, и медленно наступающий вечер дарит прохладу. Ты возвращаешься уставшая, намеренно заходя с заднего входа, следуя предполагаемому маршруту таинственного привидения. Задвижка болтается кое-как, и ты без труда открываешь калитку, которую ранее сама же предусмотрительно закрыла на совесть. Никто из домашних никогда не использует этот выход. Ты настороженно наблюдаешь за домом. Вернее, за той его частью, где расположены окна гостиной. Они плотно закрыты. Должно быть, призрак еще внутри! Бегом, ты взбираешься на крыльцо и ловким движением сбрасываешь сандалии. Не обращая совершенно никакого внимания на маму, которая с тобой здоровается, ты с грохотом врываешься в гостиную, словно грабитель в собственном доме, но в комнате никого. Окно, по-прежнему закрыто, но покрывало на диване примято, что странно, ведь мама обычно садится в кресло, диван же – любимое папино место. Бегло оглядевшись, ты замечаешь еще кое-что – на подоконнике блестит серебристый портсигар. Из любопытства ты берешь в руки незнакомый предмет и нажатием кнопки, открываешь его. Ты достаешь одну сигарету и прячешь в кармане комбинезона, в качестве улики. Внезапно, ты слышишь скрип двери. Сердце уходит в пятки, но это всего лишь мама. – Просвистела как пуля, даже не поздоровалась, – говорит твоя мама, руки в боки, стоя в дверях. – Я так бежала, потому что сильно хотела сходить в туалет. На улице сегодня столько комаров, – говоришь ты, широко размахивая руками, изображая всякие жесты, чтобы только отвлечь внимание от дрожащих колен. – Горе ты мое луковое, – улыбается мама, вытирая руки о полотенце, которое всегда очень кстати лежит у нее на плече, – на ужин сегодня картошка в мундире. Не хочешь помочь мне с готовкой? Я уже развела огонь. Пойди, принеси фольгу, а я пока вымою картофель. А, насчет комаров не беспокойся, их отпугнет дым от костра. – Да, мама. В мангале приятно потрескивают поленья. В теплом свете костра ты рассматриваешь улику. На белоснежном фильтре надпись «Союз-Аполлон». Это озадачивает тебя, ведь твоей отец курит исключительно «Мальборо», а мама, как и ты, не выносит одного только запаха табака. Что-то тут нечисто. Ты отрываешь маленький кусочек фольги и заворачиваешь в него сигарету. Просто на всякий случай. Когда появляется мама, становится уже по-вечернему прохладно и совсем темно, а костер, согревающий теплом и светом, окончательно превращается в уютный очаг. Ты спрашиваешь: – Мам, а призраки курят? – Держу пари, – говорит твоя мама, с неизменной улыбкой, – Некоторые курят. Думаю, это зависит от того, курил ли будущий призрак при жизни. Ведь призраки, – подсвечивая фонарем лицо, как делают пионеры, рассказывая у костра страшилки, говорит твоя мама, – это души мертвых людей, которые так и не обрели покоя. Пока мама, занятая пряжей, сидит у костра, после вечернего туалета, ты тайком возвращаешься в гостиную, чтобы завершить осмотр места таинственного происшествия. На улице становится по-настоящему пасмурно, так что за тучами уже не видно и звезд. В темноте, на ощупь, ты пробираешься к закрытому окну, и обращаешь внимание на то, что серебряный портсигар пропал, а затем ощупывая покрывало, понимаешь, что мама уже все привела в порядок. Смотреть, вроде бы, не на что, и все же, просто на всякий случай, ты выглядываешь в окошко, чтобы убедиться, что мама по-прежнему занята, достаешь из выдвижного ящика под трельяжем маленький электрический фонарь, и тщательно осматриваешь диван. Приподняв покрывало, ты замечаешь крохотные влажные пятна белого цвета. «Это ведь эктоплазма – следы приведения!» – приходит тебе на ум. Ты об этом читала в книжках. От страха по твоему телу ползут мурашки, и некогда уютная комната становится какой-то к тебе враждебной. Внезапно, ты сталкиваешься с ПАРОЙ ГЛАЗ, следящих за тобой из глубины комнаты. Сперва тебе хочется позвать на помощь, но сообразив, что это всего-навсего твое собственное отражение в зеркале, ты приходишь в себя, и решаешь не беспокоить маму, ведь призрак, похоже, давно ушел, а у нее и без того полно домашних забот.

Всю неделю дожди, и сверкают молнии. Папа говорит, что молнии всегда появляются в самые трудные моменты нашей жизни. Это бог фотографирует нас со вспышкой, чтобы потом вспомнить, как мы с ними справились. Он говорит, что у них с мамой для тебя есть новости, но лучше тебе об этом спросить у мамы, потому что сам он вернется еще не скоро. Ты сгораешь от любопытства, но говоришь, что сперва тебе нужно дождаться, когда паром отправиться в город за твоей подругой. Но папа говорит, что из-за непогоды, паром с острова сегодня уже не уйдет. Ты глядишь на море, и волны вздымаются высоко, сбивая крикливых чаек с пути. Должно быть, твой папа прав. Ты оставляешь велосипед в грязи у забора и заходишь с заднего входа, с трудом открывая задвижку. Всю неделю не было никаких следов привидения. Наверное, из-за дождя. Ты забегаешь в дом и снимаешь перепачканный дождевик. В дверях гостиной стоит твоя мама. Она нервно перебирает в руках полотенце. У нее за спиной чешет затылок усатый паромщик. Интересно, что ему надо. Мама говорит: «дочка, мы должны тебе кое-что рассказать». Мама больше не улыбается. Паромщик кладет руку на плечо твоей мамы. Она говорит, что твой папа останется в городе. Паромщик протягивает тебе леденец и просит, чтобы ты не расстраивалась. В нагрудном кармане его рубашки блестит серебряный портсигар. Ты кричишь. Ты плачешь. Ты садишься на велосипед и едешь, куда глаза глядят, и размытую дорогу освещают молнии. Это бог фотографирует тебя со вспышкой. Ему интересно, как ты со всем этим справишься. Колеса велосипеда тонут в грязи, но ты продолжаешь крутить педали. Ты продолжаешь крутить, и слезы замешиваются с дождем. Это ты во всем виновата. Не нужно было быть такой любопытной. Ты едешь избитой дорогой, и останавливаешься у паромной станции. Бросив велосипед, ты бежишь к пирсу. Вокруг ни души. Только ты, только чайки, только проклятый паром. Ты кричишь. Ты рыдаешь. Ты бьешь по борту парома ногами, и чайки молчаливо наблюдают за твоим горем. Силы оставляют тебя, и ты садишься на пирсе. Ты достаешь из кармана насквозь промокшего комбинезона холодный алюминиевый сверток и промокшие спички. Ты больше не морщишься от запаха сигарет. Ты не морщишься от их вкуса. И сигарета на вкус теперь как глубокий вдох. Ты затягиваешься как можно глубже, и пирс качается на волнах, а остров прямо под тобой тонет. Но где-то там далеко на горизонте виднеется облако цвета нежно розового фламинго. Боже, как же оно далеко.
Свидетельство жизни Егора Волевича
Мы собрались сегодня по вполне определенному поводу – разобраться в одном довольно запутанном деле, в которое не по своей воле ввязался мой большой товарищ – Егор Волевич. Если с кем-нибудь происходит что-нибудь неординарное, прежде не зафиксированное ни в одном официальном документе, юристы обычно называют такое прецедент. Нашим юристом в тот вечер был мой школьный приятель, которого все называли Клерком. Он, конечно, не всю жизнь был настоящим клерком, зато с самого детства оставался большим поклонником британской культуры мо́дов и поэтому представить не мог своего отражения без рубашки и галстука. А поскольку в качестве платы Клерк согласился принять от меня только пиво – мы собрались в рюмочной. Причем не в самой, что называется «ламповой», как мы это обычно делаем, а как раз, наоборот – в одном злачном месте под названием «Башня с часами». Впрочем, это не слишком точно, поскольку из-за неудачного соседства с аппаратом правительства рюмочную то и дело закрывали, затем открывали снова уже под новым названием, поэтому мне, конечно, не вспомнить, как она тогда называлась. И тем более не сказать, как она зовется теперь. Но точно я помню одно. В тот день было холодно до усрачки, а в «Башне с часами» – контрастно: топили так сильно, что наши потные задницы в подштанниках оставляли на барных стульях влажные очертания. Нам повезло. Пиво налили за полцены. Все потому, что Егор познакомился с официанткой, которая с новогодней ночи работала без выходных, а в новогоднюю ночь удачно потанцевала. К тому моменту с Нового года прошло уже две недели, а у нее никак не шли месячные, и поблизости не было ни одной аптеки (как, кстати, и ни одной башни с часами), так что девочке оставалось стучать по дереву и надеяться, что пронесло. Ну а Егор, как прирожденный джентльмен, пообещал ей, немного погодя, метнуться за тестом на материнство и, как прирожденный болтун, обещания не сдержал. Но не суть. Девочка (она, между прочим, выпила вместе с нами) так напилась, что напрочь забыла о том, что именно обещал Егор, но не забыла его донкихотских намерений и даже начала всерьез фантазировать о том, что, если родится мальчик – она назовет его Егором Волевичем. Мы посмеялись и подняли бокалы за моего хорошего друга, который стал главным действующим лицом того самого прецедента. А суть прецедента Егора Волевича была в следующем. На вопрос «как можно так сильно ненавидеть собственную мать, ведь она дала тебе жизнь и бла-бла…» Егор отвечал всегда одинаково: «У меня на теле есть один шрам, напоминающий о том времени, когда мы с матерью были близки в самый последний раз». Затем он поднимал футболку, указывал на пупок и говорил: «Вот он». Мама Егора выросла в портовом городке и, еще будучи ученицей старших классов, проявляла большой интерес к фланирующим по свободному порту заезжим очаровательным пьяницам-морякам, которые, в свою очередь, были падки на красавиц любого возраста. Так и получился Егор Волевич – мой хороший друг. И то ли ей было нестерпимо трудно растить Егора одной, то ли она действительно была такой уж хреновой матерью, но к шестнадцати годам Егор Волевич принял решение самоэмансипироваться и сбежал из дома, не оставив даже записки. А мама Егора, в свою очередь, приняла решение объявить сына без вести пропавшим, что, по ее мнению, должно было помочь в трудных поисках, которые тем самым приобрели бы официальный статус. Но что-то пошло не так и спустя пять лет матери Егора вручили свидетельство о его смерти. – Гражданин может быть объявлен умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, – процитировал Клерк. И хотя Егор, конечно, был живее всех живых, незнание закона, как нам объяснил Клерк, не освобождает от ответственности. И в данном случае мерой ответственности для моего хорошего друга был отказ официальных властей в признании его собственного существования. Однажды вернувшись в родной городок, Егор, уходивший налегке, решил возвратить себе утраченную коллекцию пластинок и с этим отправился к матери, которую, конечно, хватил удар, ведь она даже организовала кукольные похороны с пустым гробом и всякими разными почестями, как полагается. Оправившись от удара, минут через пять она вручила ему ламинированный листок бумаги, свидетельствующий о том, что Егор Волевич, который и на тот момент был живее всех живых, разве что с небольшого похмелья, был признан умершим три года назад. Так и получилось, что передо мной находилось свидетельство о рождении человека, свидетельство о его смерти и сам человек. В этом был прецедент. Получив известие о своей смерти, Егор Волевич несколько месяцев пребывал в благоговейном запое, который не прекратился и к моменту нашей встречи с Клерком. Официантка Маша, с которой мы так подружились, продолжала подливать пиво, играла группа, названия которой никто не знал. Все знали только одно. Что за порог «Башни с часами» никто не выйдет до тех пор, пока не кончится вьюга. – Юридически тебя нет, – говорил Клерк, и мы кивали, а ударная установка расставляла акценты, предвосхищая падения и взлеты в его интонации. – Это значит, что ты не являешься субъектом какой бы то ни было правовой системы. Тебя нельзя наказать, нельзя привлечь к любому виду ответственности, – Клерк говорил, и перманентно мученическое выражение лица Егора Волевича сменялось хищной улыбкой. Как будто единственное, что может сделать человека счастливым – это его смерть. – С тебя нельзя взыскать налоги, штрафы и алименты, – загибал пальцы Клерк, – нельзя призвать в армию и так далее. Конечно, до тех пор, пока судом не будет установлен факт ошибки, а это вызовет такую волокиту, что какое-то время тебе все же придется побыть на том свете. В то же время ты не сможешь заключить никакой сделки, разве что купить пива и сигарет. – Звучит не так уж и плохо, – добавил я от себя. – Ну да, – продолжал Клерк. – Не сможешь, например, зарегистрировать брак, покинуть страну или отдать голос на выборах. Короче, Егор, тебе решать – жить или умереть. Клерк ухмыльнулся и поправил галстук, а я подумал, что этому моднику до мозга костей жутко повезло найти в жизни такое дело, которое ему по душе, а Егор вдруг стал каким-то задумчивым, но это быстро прошло, и мы пошли танцевать. Группа без названия оказалась не так уж плоха, и либо так подействовала бесплатная выпивка и избыточное отопление, но всем было спокойно и весело. И вроде ясно было, что нужно делать, но зеленая и красная гербовые бумажки остались лежать подставками под пивные кружки, как синяя и красная капсулы в ладонях Морфеуса. И меня не покидало странное ощущение, что если есть две эти бумажки, то должно быть и что-то еще. Я танцевал с красивой брюнеткой, Клерк с хорошенькой блондинкой, а Егор с девчонкой с бело-черными волосами, красиво разделенными вдоль пробора. По-моему, такая прическа называется сплит. С нами действительно все было ясно. Клерк в конце концов укатит в свой юридический департамент на пижонском скутере «Веспа». Я, похоже, скоро женюсь, может быть даже на этой самой брюнетке, потому что, кажется, ни для чего другого я не гожусь. Ну и мы встретимся еще много раз, конечно, чтобы обмозговать все происходящее, и, конечно, произойдет еще много чего другого, мы это тоже знаем и отдельно встретимся, чтобы обсудить и это. Но вот что будет с Егором Волевичем, известно, похоже, только Егору Волевичу, потому что пока выбор не сделан – возможно все. – Куда подевался ваш друг Егор? А, неважно. Увидите его – передайте, что я не беременна, у меня пошли месячные. Выпьете со мной? И мы, конечно, выпили. Метель прекратилась, и на улицу, разделявшую аппарат правительства и «Башню с часами», опустилось ясное морозное утро. Егора мы так и не увидели. Вышел покурить и не вернулся, в точности как и его отец. А два свидетельства – о рождении и о смерти Егора Волевича – я оставил себе как свидетельство его жизни. Может быть, когда-нибудь он вернется за ними, как когда-то вернулся за своими пластинками, и я передам ему от Маши привет. Я прямо так ей и пообещал: «Может быть, передам».Трибулé клоун-гипнотизёр
В точности как на клавиатуре рояля, в жизни бывают белые и черные полосы. Феликс Эдмундович, по прозвищу Комедиант, с детства с удовольствием смешил людей, втайне от всех мечтая когда-нибудь попробовать себя в качестве циркового директора. Что ж, ему представилась такая возможность, когда прежний директор – пожилой и крайне печальный мим, захлебнулся собственной рвотой во время очередного приступа сонного паралича. Да, жизнь – это зебра: полоса белая, полоса черная. По иронии судьбы, именно зебра сыграла с Комедиантом злобную шутку. Не успела труппа сносить траура по печальному миму, как проклятая зебра-самоубийца, бросившаяся посреди представления под выстрел пушки, метающей карликов, озадачила цирковую администрацию очередной смертью. Письменных извинений цирковых дрессировщиков братьев Обгашных, согласившихся с тем, что зебра наложила на себя руки по их неосмотрительности, оказалось недостаточно. Общественность была недовольна. Еще бы, такого кризиса цирк не помнил со времен запрета шоу уроцев. Проблем с законом не было никаких – суицид копытной списали на несчастный случай. Но народ требовал убрать из программы все номера с животными, а цирковых зверей отправить на заслуженную пенсию в естественную среду обитания. Перед Комедиантом встал сложный выбор: пойти на уступку и дать начало новой эпохе цивилизованных цирковых представлений без участия животных, или же гнать активистов в шею, сохраняя верность цирковым традициям. Озадаченный этим вопросом, Феликс Эдмундович услышал, как в его кабинет, расположенный в воздушном шаре, парящем высоко под куполом цирка, постучали. – Войдите. К директору пожаловал Мордехай – бессменный конферанс-распорядитель – человек таких масштабов, что, вместе с его приходом, шар накренился, и со стола Комедианта едва не свалилась недавно пристроенная туда фотография жены-акробатки. Нервно перебирая поля цилиндра и, прикусив черный ус, конферанс обратился к директору: – Феликс Эдмундович, беда… – Верно говорят, беда не приходит одна, – пробубнил себе под нос Комедиант. – Ну, что там у тебя, Мордехай? Выкладывай поскорее. – Трибуле снова загипнотизировал зрителей. На сей раз они… Чего уж говорить. Уж лучше вы сами взгляните… Нацепив пенсне, Комедиант сверху вниз оглядел зрительный зал, и от того, что он там увидел, ему стало совсем не до смеха… Совершенно обнаженные, зрители обоих полов и всех возрастов, не зная стыда, весело аплодировали клоуну Трибуле, а вся их одежда лежала аккуратно сложенная у входа в арену. – Ну, это уж слишком! – разразился директор. – Живо его ко мне на ковер! Трибуле явился незамедлительно. Он был выдающимся клоуном, и в цирке состоял на хорошем счету, но, кроме прочего, был известен своим необузданным нравом. Изюминкой молодого энергичного артиста был номер с розовыми очками, подаривший ему не только любовь публики, но и, по некоторым оценкам, преждевременное повышение до старшего клоуна. Хитрый механизм, вмонтированный в безразмерную оправу очков, приводил в действие меняющие цвета спирали, установленные вместо линз. Вращение этих спиралей оказывало на добровольцев из числа зрителей гипнотическое воздействие, и те, в точности следуя незамысловатым командам клоуна, удивляли и веселили публику. С помощью этого изобретения, Трибуле удалось в совершенстве овладеть искусством гипноза и снискать славу: надевая очки, он полностью контролировал зрителей и всегда покидал арену не иначе, как на крыльях аплодисментов. Таким образом, Феликс Эдмундович находился в довольно неустойчивом положении. С одной стороны, клоуна, за неэтичное поведение следовало уволить. С другой, после скандала с зеброй-самоубийцей, номер Трибуле стал гвоздем программы, и цирк едва ли в скором времени смог бы оправиться после его ухода. Размышления Комедианта были прерваны самим клоуном-гипнотизером. – Вызывали, Шэф? – Вызывал, как же! Присаживайся. Трибуле сел. Глядя директору цирка прямо в глаза, он мысленно отсчитывал до десяти. – Это что ты мне такое устроил?! Разве ты не знаешь, какая теперь ситуация в цирке? Разве такому тебя учили в цирковом колледже, а затем еще четыре года в академии клоунов?! В каком свете, по-твоему, ты выставляешь профессию?! А что скажут в комиссии по клоунской этике?! Трибуле молчал, а Феликс Эдмундович, выпустив пар, казалось, опомнился, и хотел было сбавить обороты, как вдруг обнаружил себя абсолютно голым, а свою одежду аккуратно сложенной прямо перед ним на столе. – Это что еще за шутки?! – гаркнул Комедиант, в порыве гнева приподнявшись со своего кресла, но затем, образумившись, также резко возвратился в исходное положение, опустив кресло на уровень ниже, чтобы прикрыть все самое необходимое. – Ну, я тебе устрою! – продолжал оскорбленный Комедиант, опуская пальцы в отверстия диска служебного телефона, соответствующие цифрам «0» и «2». Трибуле продолжал сидеть неподвижно, глядя на длинные носы своих клоунских ботинок. Спустя полтора часа, среагировав на срочный вызов, явилась милиция. В дверь постучали. В кабинет, представившись, зашел младший сержант. – Милиция. Вызывали? – Вызывали, а как же! Присаживайтесь! Младший сержант сел, и Феликс Эдмундович, который за полтора часа успел снова одеться и сделать обход, описал все по порядку. Трибуле по-прежнему покойно сидел, глядя только на милиционера, под диктовку циркового директора, заполнявшего протокол. Мысленно, он отсчитывал до десяти… – Итак, вы хотите заявить на данного гражданина в связи с тем, что он, посредством гипноза, приказал вам раздеться? – с недоверием спросил милиционер, – я вас правильно понял? – Все верно. Вы совершенно правильно меня поняли – с достоинством заявил директор, укоризненно глядя на Трибуле. Милиционер скептически отложил бланк протокола в сторону. – Известно ли вам об ответственности за ложный вызов сотрудников милиции? – строго спросил он в повелительной манере, в той или иной степени свойственной, наверное, всем государственным служащим. Милиционер хотел было начать с директором цирка свою обычную профилактическую беседу, как вдруг заметил, что его форменный комплект одежды, аккуратно сложенный лежит на столе, прямо перед ним… – Это что еще за безобразие?! – закричал милиционер, прикрываясь фуражкой. – О том то я вам и толкую! – отвечал, торжествующе, Комедиант. – Да, что вы себе позволяете?! Это дерзкое нарушение общественного порядка! – разразился сержант, по ходу дела, неуклюже помещая свои волосатые ноги обратно – в тепло милицейских форменных брюк. Комедианта и Трибуле сопроводили в участок. Затем, после соблюдения необходимых формальностей, оскорбленный директор цирка был отпущен, а дело Трибуле передали следователю, чтобы клоун понес заслуженное наказание. Было назначено судебное разбирательство. Среди прочих, в качестве потерпевших, на него явились младший сержант и директор цирка. Трибуле покорно сидел на скамье подсудимых, ожидая своего часа. После соблюдения формальностей, когда судья, наконец, призвал Трибуле к ответу,клоун-гипнотизер принял присягу, поклявшись говорить только правду и ничего кроме правды. По возвращению судьи из совещательной комнаты, Трибуле все также спокойно занимал свое место, через розовые очки, разглядывая собравшихся. Мысленно он отсчитывал до десяти… Когда судья уже собирался огласить решение, из зала послышались возмущенные вздохи. Судья, схватившись за молоток, хотел было призвать к порядку, но бегло оглядев зал судебного заседания, обнаружил собравшихся совершенно раздетыми. Затем, посредством дедуктивного метода, его честь, выяснил, что и сам, к своему стыду, остался сидеть в одном парике. Одежда же всех собравшихся была аккуратно сложена на столе абсолютного голого судебного секретаря. Суд не вынес такого оскорбления, и дело было передано в Комитет Государственной Безопасности, для дальнейшего рассмотрения в уголовном порядке. Трибуле взяли под стражу, и вызвали на допрос в Кремль к самому Горбачеву. Одному богу известно, что там произошло, но на следующий день распался Советский Союз.
Типичный лев
Это были паршивые четыре дня, четыре дня ни на что не похожие и похожие один на другой. Одно радовало – лето не спешило никуда уходить, так что, по моим подсчетам, было примерно где-то восьмидесятое августа. Ветер вырывал еще зеленые листья с кронами, а Цельсий и Фаренгейт мерились длиной приборов, швыряясь рекордными показателями температуры. Все разговоры были сплошь о погоде. Сотовый телеграфировал сообщениями о том, что в Москве не случалось ничего подобного вот уже почти сто лет, и вот опять. По случаю аномальной жары, чтобы не перезапускать отопление, москвичей решили выгнать на продуваемую всеми ветрами, изжаренную уже очень далеким солнцем улицу, и с этим официально объявили всеобщие четырехдневные выходные. Такое бывает только в Восточной Европе. Я решил провести это время с пользой, отправившись в гастрономический трип. В еде я был не прихотлив, и все четыре дня питался как космонавт – жидким хлебом, также известным под названием «светлое пиво», вместо тюбиков, разливаемым по пол литра в граненые кружки за три полтинника. И все же, не хлебом единым сыт человек. Во всей, богом забытой рюмочной, где я обитал эти четыре дня, была лишь одна персона, которая вызывала во мне, какой-бы то ни было интерес. Эта девица была какой-то младшей сотрудницей с моей очередной новой работы, где из-за, так называемых «выходных», я не успел провести и недели. Но ее я сразу узнал. Все четыре дня она приходила сюда сразу после меня и усаживалась с книжкой на подоконнике прямо напротив туалета, где, в свою очередь, чтобы не пришлось далеко ходить, ежедневно устраивался я сам. Четыре дня мы варились в одном похмельно-димедрольном бульоне, не перекинувшись и словом, при том, покидая рюмочную под закрытие – в одно и то же время. Я накачивался алкоголем и листал инстаграмы блогеров и их домашних животных, а она, положив ногу на ногу, покачивая одной ногой, листала книжку. Все четыре дня я, украдкой, поглядывал на нее, и втайне надеялся, что, стоит мне отвернуться, она делает то же самое. Но она смотрела как будто бы всегда мимо меня или в черный потрепанный переплет книги, закрывающей ее лицо. И, хотя книга четыре дня подряд маячила у меня перед глазами, скрывая глаза незнакомки, я едва ли вспомню, как она называлась. Зато я отлично помню, как приподнимался подол ее юбки, всякий раз, когда она задумывала переложить ноги с одной на другую. Ничего удивительного – к внутреннему миру женщин я был равнодушен с самого детства, зато внешний меня всегда живо интересовал. Такой уж я человек – сколько себя помню, даже вино выбирал всегда именно по этикетке.
В самый последний – четвертый вечер, я провалился в неглубокий сон, и проснулся уже как раз под закрытие. Девушки рядом не было. По звуку дверного колокольчика, я понял, что отворилась дверь, а бросив взгляд на дверь, обнаружил в дверях ее, впервые за четыре дня, глядящую мне прямо в глаза. Это длилось всего секунду, может быть две, но пробрало меня до мурашек. В судьбу верить я разучился, но совпадениям доверял еще меньше, так что, следуя какому-то внутреннему компасу, я быстро собрался и решил последовать прямо за ней. Изрядно набравшись, я, тем не менее, попросил барледи налить мне еще пол литра с собой. Она сказала, что рюмочная закрывается, и мой заказ будет последним. Я ответил, что ничего страшного, больше мне и не надо, схватил пиво, и, сохраняя дистанцию, начал преследование.
Подвесные фонари раскачивались на ветру, и нити накаливания дрожали, вторя, проходящим мимо трамваям. На окнах припаркованных автомобилей выступал иней. По всем ощущениям, это был последний день затянувшегося лета. Кровь кипела алкоголем и никотином, и сердце зачем-то сливало ее всю целиком в область, открывающейся чакры свадхистана – того самого внутреннего компаса, похотливо болтающегося между ног – источника тестостероновой мудрости, заставляющего всякого мужчину во все времена, время от времени чувствовать себя сильнее всякой женщины. Девушка шла впереди, обнимая себя руками, а я следил за ее движениями, опьяненный желанием, допуская даже мысль о применении этой самой силы, ведь времени на церемонии не было – через несколько часов нужно было вставать на работу, а я еще не ложился. Эти мысли, подогретые алкоголем, быстро улетучились, а вся моя сила растаяла, в тот самый момент, когда она, внезапно остановившись, повернулась ко мне лицом и сказала:
– Я тебя знаю?
Я сам не заметил, когда успел подойти так близко, а она уже разглядывала меня в упор, пока пальцы руки ходили по переплету, вместо закладки.
– Не знаю. Зато я тебя знаю.
– А ты ничего.
– Чего?
– Ничего. Выпить хочется… Есть одно место. Тут недалеко. Пойдешь?
И мы пошли, по пути выкурив все мои сигареты и разлив полстакана пива. Допив в одиночку оставшуюся половину, она начала меня осыпать вопросами.
– Любимое кино?… Какую слушаешь музыку?… А девушка у тебя есть?… Какой твой любимый цвет?… Кто ты по гороскопу?
Как только я успевал ответить на один вопрос, она тут же выдумывала следующий, и так до бесконечности.
– Ясно, – комментировала девушка мой последний ответ. – Так я и думала.
– Как думала?
– Все львы – эгоистичные циники.
Я пожал плечами.
– Должна тебе еще кое-что сказать…
– Что?
– Надеюсь, тебя это не отпугнет.
– Что «это»?
– Я нимфоманка.
Я улыбнулся.
– Серьезно?
– Да, все очень серьезно. Есть справка.
– Ну, раз справка есть…
В тот момент я выяснил про себя одно – если и есть на свете какая-нибудь болезнь, которая не отпугнет меня ни при каких обстоятельствах, то – вот это как раз она и есть.
Забравшись в кабину лифта, мы задвинули решетку и двери закрылись. Мы замолчали и впились друг в друга пьяными, усталыми взглядами. Я моргнул первый. Она сказала:
– Ну и что?
– Что «что»?
– Так и будешь молчать?
– А что?
– Я уже знаю тебя как облупленного, а обо мне ты ничего узнать не хочешь?
Я совсем не хотел, но, ради приличия, почесал загривок, и задал первый вопрос, который пришел мне в голову.
– Ну, ладно. Кто ты по знаку зодиака?
Девушка тяжело вздохнула, и двери лифта открылись. Она так и не ответила. Судя по звукам, по лестнице кто-то бежал. Я и не додумался спросить, куда именно мы так долго шли, а только задумался над тем: бегут сверху вниз или снизу вверх. Тем местом «неподалеку», конечно, была ее квартира.
– Где у тебя здесь туалет?
– Он не работает. Идем лучше сразу в постель.
Такой расклад мне понравился. Я, конечно, согласился и сразу свалился в кровать, а она где-то там – в темноте, нащупала пульт, включила музыку, и разделась до белья, прямо у меня на глазах. Я не мешал, но и глаз не отводил. Свет был выключен, но комнату слабо освещали уличные фонари, горевшие на уровне окон. Мы поцеловались. Я притянул ее ближе к себе. Она забралась ко мне под плед и стала медленно раздевать меня, не отнимая губ. Она спросила:
– Ты любишь сверху или снизу?
Я промолчал. Музыка была подобрана верно: лямки, пряжки, застежки, узлы – все подчинилось ее мерному ритму. Танцевал я редко и плохо, но то, что происходило со мной тогда, под тем шерстяным пледом, иначе как танцем не назовешь. И, все таки, плохому танцору не положено вести, так что, как я ни старался – каждый поворот, каждое наше движение, каждый неровный вдох, был целиком и полностью подчинен её ви́дению танца. Я наблюдал за ней снизу вверх, стараясь держаться на безопасном расстоянии от момента высшего наслаждения, хоть это и было непросто. Она спросила:
– Как тебе больше нравится: медленней или быстрей?
Я промолчал. Она ускорилась. В какой-то момент у девушки вдруг перехватило дыхание, и закатились глаза. Она буквально забилась судорогами и, свалилась с кровати на ковер, крепко обхватив меня ногами. Я хотел покинуть ее, но она не отпускала, и я упал вместе с ней. Она держала меня так крепко, что, готов поклясться, в тот самый момент мне показалось, что из моего тела растет меч короля Артура, по какой-то причине, не воспринимающий меня в качестве достойного претендента. Музыка становилась быстрее, как будто бы ее воспроизводил не проигрыватель, а тело девушки, и мне оставалось лишь подчиниться. Когда судороги прекратились, она со страшными стонами выгнулась, вскрикнула и, сперва взвизгнула, затем завыла, и, наконец, стала ЛАЯТЬ. Лай, вперемежку с судорогами, разливался по комнате, и через открытую форточку выбирался на улицу, застревая среди деревьев и отскакивая от стен ближайших домов. Она держала меня так крепко, впиваясь в тело ногтями, что по спине, смешиваясь с потом, ручейками бежала кровь. Лай прекратился, но собачий вальс должен был продолжаться, и мы летали по душной комнате, как влюбленные Марка Шагала, случайно влетевшие в нее вместе со сквозняком через пресловутую форточку, роняя предметы, потерявшие свое значение, и обмениваясь запахами наших потных тел. Поцелуи ползли сверху вниз, оставаясь на память красно-синими отпечатками дикой блаженной улыбки, а за ними ползли мурашки. Едва ли не вгрызаясь зубами, она сорвала с моей шеи цепочку с крестиком и сплюнула в сторону. И плоть, свободная от предрассудков, стала кричать от удовольствия, заигрывая с ее губами, принимая новые поцелуи. Я улыбался, когда по груди сползла первая, самая тонкая струйка крови. Я продолжал улыбаться, когда, открыв глаза, в окровавленном оскале её улыбки с трудом смог различить черты лица. Я улыбался до тех пор, пока не понял, что в зубах у нее не что иное, как жирный кусок мой собственной кожи, сорванный где-то в районе шеи. Вместе с этой картиной ко мне пришло осознание того, что меня натурально ЕДЯТ, и вместе с ним, все тело парализовала адская боль. Я по-прежнему был в ней и не мог пошевелиться, словно она контролировала все мое тело каким-то секретным способом – при помощи рычага, который был его неотъемлемой единицей. Кожи на шее становилось все меньше, и вот уже у нее во рту в свете уличных фонарей блестели лоскутки красного мяса, сорванного с моей шеи. Слезы резали мне лицо. Я умолял прекратить, но, в конце концов, мой голос рассеялся, и я уже не мог говорить, а она продолжала выплевывать шматки розовой плоти в сторону, словно косточки мандарина. Тогда я внезапно вспомнил о возможности применения силы. Своей мужской силы. Я ударил ее кулаком в лицо, и хватка ослабла. Ударил снова и, наконец, высвободился. Меч короля Артура теперь походил больше на ржавый кухонный ножик, но любоваться достопримечательностями своего тела, теперь уже не было времени. Я выбежал из комнаты, поскальзываясь и спотыкаясь в кровавых лужах. Я заперся в ванной на шпингалет и принялся обследовать ее в поисках аптечки, но нечто мерзкое – самое мерзкое, с чем когда-либо встречались мои глаза, остановило меня. Это было мое собственное лицо, отразившееся в зеркале туалетной тумбы, запятнанное следами крови и ужаса. Но хуже всего была шея (!), от которой остался один скелет, захваченный в эшафотной узел каких-то физиологических коммуникаций, изувеченных отметинами укусов. Голова на ней висела, как слишком тяжелая рождественская звезда на щуплой новогодней елке, так что приходилось ее придерживать. А вдоль нее пульсировал гигантский паразит-слизень, задыхающийся от запаха враждебной среды – моя гортань. От этого зрелища, пиво, выпитое мной за четыре дня, просилось наружу, и я отодвинул банную шторку, чтобы от него избавиться. Но то, что я за ней увидел, было в тысячу раз хуже даже моего отражения. Словно клецки в прокисшем супе, в наполненной ванной плавали штук десять не меньше ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ГОЛОВ. Мужских голов. Их волосы переплетались между собой, а выражения лиц застыли в агонизирующем ужасе. Меня, наконец, вырвало. Каскады горячей кислотной пивной блевотины струились по головам мужчин, но, целиком подчинившись своему телу, я так и не смог отвернуться, до тех пор, пока не выблевал все до последней кружки. Придя, наконец, в себя, если это вообще можно так назвать, я выбежал голый из ванной комнаты, придерживая голову, чтобы не потерять, ударяясь о мебель, не в силах сомкнуть, скованный ужасом и болью, собственный рот. Я дергал ручки дверей в поисках выхода, одной рукой держась за копну волос, и чувствовал ее присутствие где-то позади меня. Она истерически громко смеялась. Я хотел было позвать на помощь, но голос уже как будто бы навсегда покинул меня. По наитию мне удалось нащупать выключатель, а затем и входную дверь. Я бросился к двери со всех ног, и в спешке выронил из скважины ключи. С большим трудом, мне удалось нагнуться, чтобы поднять их, не выпуская из рук своей головы, а тем временем, за спиной слышалось тихое шарканье тапочек, заглушаемое хищным ведьминским смехом девушки. Я не поворачивался. Ключ тоже. Выяснилось, что дверь все это время была открыта. Ее смех провожал меня эхом до самой двери подъезда. Я бежал нагишом по холодной улице, оставляя кровавые метки стоп и, не выпуская из рук своей головы, буквально висящей на волоске.
Когда меня выписали из больницы, на улице уже лежал снег, и в котельне произошла какая-то жуткая авария, поэтому отопление во всем доме отключили на неопределенный срок, так что даже в квартире мне на шейный корсет приходилось наматывать шарф. Да, такое может быть только в Восточной Европе. Когда, пришедший в больницу мент, спросил, как все произошло, я, само собой, хотел заявить на девушку, но вспомнил, что даже не удосужился спросить ее имя. Что было, впрочем, неважно – в полиции ведь вполне могли обойтись ее адресом и местом работы, но вместо того, чтобы сообщить все, что знаю, я (не без труда) пожал плечами и расписался в протоколе о том, что совсем ничего не помню.
Последняя ведьма в Советском Союзе
И в первый год революции сотворил вождь колхозы. И это было хорошо. И был колхоз имени Клары Цеткин. В нем-то я и родился. Тут же родились моя матушка, мой отец, и братья мои – Иван и Данила. Тут же я и помру, но сперва послушай-ка, внучка, такую историю; Колхоз наш когда-то был самый ударный во всем калужском уезде. А все потому, что обосновался округ машинно-тракторной станции. Так что трудились наши колхозники всегда на самых передовых машинах, и первую пятилетку выполнили, между прочим, в четыре года! Как раз тогда, году эдак в тридцать втором, как щас помню, по программе обмена революционерами, послали к нам в колхоз греческого агронома. А в Грецию за место него, потехи ради, отправили Емельяна – здешнего пьяницу, лоботряса и уголовника. Емеля из Греции так и не возвратился, а Грека – ничего, обосновался. Грека этот был тот еще плут, хоть и с партбилетом. А девицы… Все ходуном ходили. До тех пор, правда, пока Афанасий – кузнец наш, его из ревности не пристукнул. Но, сперва Грека нам в колхозе реформу устроил; – Деда, а что такое реформа? – Это, внучка, когда сперва делают, а уж опосля думают. А ты не перебивай деда, не то волосенки все по осени повыпадут. Задумал, значит, Грека крестьянское соревнование по выращиванию капусты. Кто, мол, больше вырастит, тому выигрыш – грекина кобыла. Необъезженная, чистокровная. До чего резвая была, зараза! Плуга в жизть не видала! Тут-то колхозники оживились и разом принялись капусту окучивать. Да только вот остальной урожай загубили. До того хотелось людям кобылу! Так, в тот год, как щас помню, одна капуста и взошла на нашем колхозе. Да-а. Не по уму сделали. Была, правда ж, одна баба. Так она вовсе не сеяла в поле капусты. Но был у нее всего-один-навсего кочан, зато какой был. Кочанище! В ширину был два аршина, в высоту три; – И ты тоже, деда, капусту растил? – Нет, внучка, что ты. Твой дед тогда работал на живодерне. Гляди вон, вишь – пасется овечка. Красевая? – Ага. – Ну, так. Я таких красавиц стриженых в день дюжину хоронил, а потом шкурки-то и обдирал. Да-а. Было времечко. Иной раз, вырывалась овечка, так приходилось бегать за ней, лупить ножичком куда попадет. А будешь деда перебивать еще – ночью волки в лес уволочат. Явились колхозники на ярмарку, груженые капустою, и тут же перекрестились. В то время никто в нашем колхозе такой капусты прежде не видовал. Да и сейчас, где сыщешь такую? Победил, конечно, бабий кочан-великан. И Грека лично той бабе свою кобылку то и вручил; На следующий год, опять повторилось соревнование. Но теперь уж свекла пошла в расход. И тут уж Грека объявил де-енежный выигрыш. Снова все взбаламутились, рукава засучили, да урожай забросили. Да-а. Той осенью только свекольник и ели колхозники. Не пропадать же добру. Но и на сей раз выигрыш, конечно, забрала та дурная баба, хоть она была и совсем не дурна. Это я уж та-ак, для красного словца. Вырастила свеклу-верзилу в полтора саженя в поперечнике, ну а вырученные деньги уж в храм снесла; В третий год, когда окочурился Грека, все равно объявили соревнование. На сей раз на тыквах! А в вознаграждение новехонький автомобиль выписали с горьковского автозавода. Да только асфальтированных дорог у нас в колхозе в помине не было. Ни дорог, ни заправочной станции. Пришлось строить, куда деваться! Да недолго радовались колхозники – дорожку-то пришлось прокладывать до самых ворот бабы той – огородницы, будь она не ладна. – А что сталось со всеми овощами, которые вырастили колхозники, деда? – Как что? Погнили все. Да и что ж сделаешь с тыквами этими пресловутыми. А про овощи, про великаны, написали в уездной газетке. Да-а. И фотокарточки имеются в краеведческом нашем музее. А ты не перебивай деда, не то цыганам в табор тебя продам. Стали слюни пускать колхозники, да зуб на бабу точить – болтать всякое. Мол, ведьма она – заманивает малышей в черный свой автомобиль, а потом и в печь! А в одежку их пу́гала одевает, да по ночам с ними в поле хороводы ведет. И все ж, решили пробовать и в тот год свои силы колхозники. Стали почву удобрять добавками всякими привозными. Удобряли, удобряли, да и погубили совсем. Да так, что на той земле теперь уж и сорняк не взойдет! Сильно тогда обозлились на бабу крестьяне-колхозники, и свалили неурожай весь на черную магию. А с подачи, нашего председателя, ведьму на виллы подняли, и сожгли вместе с избой, кобылой и автомобилем выигрышным. А в придачу спалили и церковь, куда баба денежки отдала. Той ведьмой то и была твоя бабка. Никто ее во всем колхозе, кроме меня, не любил. Всю ночь я тогда слезы лил. А колхозники праздновали, что сгубили первую и последнюю ведьму в СССР. Да только чушь это все. Не была она никакой ведьмой. Но вот, странное дело. Следующей же ночью, застрелился наш председатель. Вот из энтой самой двустволочки. – Деда, а где же ты достал двустволку мертвого председателя? – А любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Идем уж. Полноте могилку топтать.Год крысы
Пиз-да-нутый был год – год крысы. Год, в который никто ничему уже не удивлялся. Разговоры ходили разные. Кто-то даже всерьез предполагал, что какие-то там ученые ошиблись – мол, не учли перемену систем летоисчисления или пару високосных лет, или еще чего, и, как следствие, неверно истолковали календарь Майя, а значит конец света, которого все так горячо ждали восемь лет назад, доберется до нас только теперь. Детишки Степанакерта просыпались в объятиях артиллерийских снарядов, или не просыпались совсем. Штаты снова разыгрывали классическую американскую партию в шашки, где черные устали от того, что белым по умолчанию всегда достается первый ход. Полицейские продолжали стрелять в безоружных на улицах Минска и Миннеаполиса. Австралия и Сибирь соревновались, чьи пожары будет лучше видно из космоса. Пляжи Авачинской бухты покрылись испорченными морепродуктами, добровольно покинувшими естественную среду обитания, загаженную, естественно, человеком. Школьники травились завтраками в школьной столовой и химией после уроков в соседних подъездах. А вишенкой на торте стал "новый опасный вирус", обнаруженный в супе из летучих мышей, выносящий старых и слабых, и оставляющий в живых активных налогоплательщиков. Я был как раз таким. Одним из тех, кому этот вирус удалось победить. Хотя «победить» – это громко сказано, ведь победа, никакая, не обходится без потерь. Персонально я потерял обоняние, а вместе с ним вкус к пище и заодно к жизни. И, все-таки, по какой-то причине бог оставил мне две вещи, вкус которых я-по прежнему ощущал (я вообще-то не больно набожный, но потерпите, и скоро вам станет ясно, с чего вдруг я решил упомянуть всуе). Светлое пиво и острая картошка с тройной порцией перца чили, походившая, честно говоря, больше на перец чили с картошкой. «Как ты можешь это есть» – сокрушались мои друзья, самовоспламеняющиеся от одного лишь запаха этого чудного блюда. А я ел. Ел и никак не мог понять, какого хуя всем обязательно нужно заглянуть мне в тарелку. К счастью, было одно такое место, где могли одновременно и приготовить такую картошку и налить кружку светлого пива. Этим местом была Южная рюмочная. Как раз таки в Южной, в тени искусственных папоротников, сидя за стойкой у телевизора, мы впервые и услышали эту главную новость, превзошедшую все прочие разъебы этого препизданутого года. Телик обычно всегда работал вполсилы, так что даже бармен, стоящий ближе всех, едва ли мог что-нибудь слышать. Но только не в этот раз, потому что новость действительно была стоящая. Эту новость крутили по всем каналами всех стран мира, с субтитрами на всех языках, и при участии сурдопереводчиков всех возможных сурдо-языковых диалектов. Так что, как не пытался бармен по-свóему орудовать пультом, перемотанным изолентой, ему все же пришлось сделать громче. Все побросали рюмки и граненые кружки за столиками, и столпились у барной стойки. Даже чувак за диджейским пультом, так что музыка поползла сама по себе, пока наконец кто-то не выдернул его из розетки. Хотя самые умные, как раз таки, оставались на своих местах, отпивая чужое початое пиво и, пока никто не видит, миксуя его с сетами из настоек. Телик работал на полную, и текст телесуфлера, скользящий по полу-цветному экрану в помехах бегущей строкой, отдавался эхом среди бутылок на стеллаже бара и вместе с мухами залетал в открытые рты особенно поддатых персонажей. В конце концов, все собрались у телевизора. Даже в курилке остался стоять только дым. «ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ» – хором повторяли корреспонденты. «ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ» – крутили по всем каналам, вместе с одним и тем же сюжетом, где небритый чувак в тунике, крушит монастырскую лавку у Храма Христа Спасителя. Мы почему-то чересчур быстро смирились с тем, что это никакая не шутка (еще бы, по первому федеральному пиздеть не станут), и в рюмочной повисло какое-то нехорошее настроение. Еще бы. В этой новости, для нас – пьяниц и забулдыг, не было ни черта хорошего. Мы все, мало-помалу были блядскими беспросветными грешниками, а Южная рюмочная, выходит, была все равно, что блядский Титаник, идущий полным ходом через блядскую реку Стикс. Ощущение было знакомое – прямиком из детства. Как когда-то мы ждали родителей, возвращающихся с собрания, чтобы получить заслуженных пиздюлей, так и теперь, мы ждали кого-то, кто должен выдать нам за все грехи наши, только на сей раз мы знали, что отцовским ремнем не отделаешься. На неделю время остановилось. Рюмочные пустовали. Остались только самые преданные зелью безнадежные алкаши, ну и я со своей картошкой. А он… Он целыми днями гулял по городу и, как ни в чем не бывало, болтал с прохожими. Заходил даже в рюмочные, а с ним вместе телерепортеры и, конечно, уполномоченный представитель президента РФ. Там, где был он – калеки вставали на ноги, слепые начинали видеть, скорбящие улыбались и так далее и тому подобное. Но в рюмочных, его ждали меньше всего. Потому что здесь, все знали, что не заслуживают прощения. И все-таки, он пришел. Всех собрал вокруг себя и велел бармену налить всем по стакану воды, и про себя не забыть. Бармен послушался. Мы все получили по стакану воды. Тогда он рассек рукой воздух, и вода в стаканах обернулась разным пойлом из местного меню. До болезни я чаще всего заказывал Кровавую Мэри, и, видно, по этому принципу, вода у меня в стакане превратилась в этот незамысловатый коктейль. Я расстроился и отставил стакан, зная, что все равно не почувствую вкуса. Тогда ОН посмотрел прямо на меня и как бы беззвучно спросил: «а уверен ли ты, что не почувствуешь?». Я засомневался, но все равно взял стакан, чтобы попробовать, и, О ГОСПОДИ, МЭРИ, Я ПОЧУВСТВОВАЛ КАЖДУЮ МИКРОЧАСТИЦУ ВКУСА ЭТОГО БОЖЕСТВЕННОГО НАПИТКА. ВОССЛАВИМ ГОСПОДА АЛЛИЛУЙЯ. По лицу поползли слезы, а ОН лишь улыбнулся и кивнул. Он рассказал нам много чего такого, о чем, по крайней мере, в рюмочных, все итак догадывались, но никто не знал наверняка. Например, что после смерти никто не спрашивает за сексуальную ориентацию, а количество убитых неверных обратно пропорционально шансам попасть в рай. Что священники в рай не попадут вовсе , а на вопрос, как правильно креститься: справа-налево или слева направо, двумя или тремя пальцами, он ответил, что можно и не креститься, по крайней мере, ему на это уж точно по барабану. Потом он рассказал еще пару анекдотов про Ницше, и как тому было неловко, когда они, наконец, познакомились, и ушел, уходя сделав нас совершенно трезвыми, чтобы продлить праздник. Официальные власти на скорую руку успели внести в многострадальную Конституцию очередные поправки. На сей раз о том, что россияне, дескать, являются богоизбранным народом , иначе зачем, спрашивается, мессия явился именно нам. Информационные агентства в один голос трубили, что все произошедшее – заслуга нашего президента, которого, все кому не лень стали выдвигать на нобелевскую премию мира, а первая в космосе женщина-депутат, между делом, даже предложила автоматически продлить его полномочия до скончания времен. Идею, разумеется, поддержали единогласно. Однако, сам Мессия отказывался как либо сотрудничать, либо комментировать действия власти. В конце концов, правительству это надоело и его обвинили, прости господи, во всех смертных грехах, включая падение цен на нефть и низкие зарплаты бюджетников. Его поносили по всем федеральным каналам, то объявляя самозванцем, то делая акцент на том, что раз он не самозванец, то почему тогда цены на нефть упали. Православный патриарх, тот вообще зашел дальше всех, и решил отлучить мессию от церкви. Но даже попавший в опалу, Он продолжал путешествовать по России и проповедовать. И, честно сказать, никто из нас за него особенно не переживал, ведь в схватке между Царем Иудейским и президентом РФ, все делали ставки, разумеется, не на последнего. Как оказалось – напрасно. Во время миссионерского перелета из Чебоксар во Владивосток, в эконом-классе авиакомпании «Победа», мессие внезапно стало плохо. Он потерял сознание. Самолет совершил экстренную посадку в одном из сибирских городов. Мессию госпитализировали. Как ни странно, первым откликнулось правительство Израиля, и, ссылаясь, на то, что, госпитализированный в первую очередь этнический еврей, а уже потом все остальное, предложило услуги одной из лучших клиник в святой земле. Однако, официальная Москва, ссылаясь на ограничения связанные с распространением смертельного вируса, ответила официальным и категорическим отказом. Царь Иудейский впал в кому и через неделю скончался в больнице Стерлитамака. В конце концов, уже посмертно, он был перевезен в Иерусалим и захоронен в Храме Гроба Господня. Независимые эксперты Организации по Запрещению Химического Оружия, обнаружили в крови следы боевого отравляющего вещества класса «новичок». Самые искушенные читатели Святого Писания надеялись еще сорок дней, но ничего не произошло. Православная церковь, в конце концов, после долгих споров, таки причислила мессию к лику, всего лишь, блаженных. Это было весной, а сейчас декабрь – новогодняя ночь. Пизданутый выдался год, что и говорить. Ну хоть без конца света. Так что, наверно, следующий будет получше. По крайней мере, так говорит президент.Склеп (повесть)
Полночь. Город
На душе скребут кошки, во рту будто кот насрал. Не хочется ни есть, ни пить, ни курить. Только привычка, как следствие всех причин, заставляет меня что-нибудь предпринимать. Я иду в универ, потому что студент, отправляюсь обедать, потому что наступает время обеда, курю, потому что всем известен курильщиком. И, все-таки, лекции проходят мимо моих ушей, и кусок не лезет мне в горло. В университетской курилке Яна Кошкина, та самая, которая под каждой партой оставляет жвачку, после беглого осмотра, первой ставит мне диагноз – похмелье. Она живо интересуется, чем я был занят вчерашним вечером. Я решил, что ей, как будущему ветеринару, наверно, лучше не стоит докладывать о махаче с дворовым котом, и отбрил ее какой-то светской беседой о погоде и приближающейся сессии. Снились собственные похороны. Медицинские исследования показывают, что вследствие шока, связанного с утратой близкого человека, в мозгу нарушаются функциональные связи. Это может служить причиной для развития депрессии и пограничных расстройств. Что ж. За один вечер я сознательно утратил сразу пятерых близких, в виде моих дружбанов. Должно быть, к этому все и идет. К депрессии. Помимо дрожи в руках, неутолимой жажды, тошноты и светочувствительности – обычных симптомов алкогольного отравления, весь день меня мучает страшный дискомфорт между ног. Не хочется хвастаться, но такое ощущение, как будто штаны стали тесноваты. Можно, конечно, проконсультироваться на кафедре урологии… Это один из плюсов учебы в меде, здесь каждый второй готов бесплатно поставить диагноз, не ручаясь за качество. Но, как-то неохота потом собирать косые взгляды по универу, к тому же у девушек я, вроде бы, на хорошем счету. Пенис среднестатистического мужчины продолжает увеличиваться в размере вплоть до двадцати пяти лет. Будем надеяться, что в этом все дело. А девушки еще по-летнему загорелые, и из-под больничных халатов, выглядывают стройные бритые ноги в мурашках. Вот только мне, почему-то, это по барабану. А можт, никакая это и не депрессия… Люди – наземные млекопитающие, в естественной среде обитания не способные испытать чувство полета. По этой самой причине, глядя вниз с большой высоты, всякий человек время от времени задумывается о том, чтобы совершить прыжок. Что уж говорить о человеке, которого к земле прибивает апатия, купированная необходимостью посещать лекции по лучевой диагностике. Но вместо того, чтобы выброситься в окно университетского туалета, я бросаюсь в окно между парами, покупаю батон белого хлеба в монастырской лавке у старой церкви, и иду в парк. Надеюсь, хоть утки приведут меня в чувство. Кошкина говорит, что у уток хлеб не усваивается, но пока что-то никто не жаловался. Только тому человеку можно доверить секреты, которому они не нужны даром. В коммуналке на Сретенском чьи-нибудь ребра вращаются со скоростью 78 оборотов в минуту и поют голосами группы СБПЧ. Здесь живет Макс Танцев – единственный настоящий пират среди ординаторов отделения рентгенологии НИИ Склифосовского. У него нет корабля и нету команды, зато есть электро-рекордер и целый альбом краденых рентгеновских снимков, на которые Макс делает пиратские записи музыкальных альбомов. Музыка на костях, как в старые добрые. Такие пластинки обойдутся намного дешевле винила, и немного дороже бутылки вина. А Макс, совершая кражи из историй болезни и, уклоняясь от уплаты налогов, рискует всего-навсего своей личной свободой и профессиональной репутацией. Зато среди меломанов репутация у него лучше некуда. Макс говорит, что если когда-нибудь налоги дойдут до налогоплательщиков, он тут же сдастся полиции, но пока этого не предвидится, и он преспокойно продолжает наряжать череп и кости Веселого Роджера в костюмы из последней коллекции от Лизы Громовой и Дайте Танк!. Танцев – предприниматель с принципами, как Третьяков. Возможно, однажды он продал кому-нибудь снимок вашего таза, вот только ваших секретов он никогда никому не продаст. Он вас внимательно выслушает, пританцовывая, и лишь, когда больше нечего будет сказать, остановит вертушку проигрывателя, и скажет что-нибудь наподобие: – Как здравомыслящий человек, могу посоветовать тебе не мистифицировать. Походу, ты связался с поехавшим религиозным фанатиком. Как врач, могу посоветовать взять пару дней выходных от учебы, а заодно и от бухича. А, как порядочный атеист, и просто твой кореш – возвратить раввину книженцию, и заодно возвратиться к старым добрым предрассудкам относительно природы религии. По рецепту кореша, я вернул Тору раввину и, извинившись за возникшее между нами недоразумение, поблагодарил старика за потраченное время и за гостеприимство. Раввин отнесся к сказанному с пониманием и даже в какой-то момент изобразил что-то похожее на улыбку, но поспешил, вежливо, насколько это было возможно, выставить меня из синагоги. Я совсем не обиделся, и с легким сердцем, вышел на улицу. Мятые триколоры болтались из стороны в сторону на ветру, лишенные всякой торжественности, по обе стороны Маросейки, худо-бедно украшенной к неизвестному празднику. Среди флагов был один, вывешенный вверх тормашками, но на это никто не обращал внимания. Из всех праздничных декораций, наиболее празднично выглядела паутина, висевшая на фонарном проводе, делившем улицу пополам. Но не одни пауки расставляют сети. Иногда, по долгу службы, просто чтобы держать планку раскрываемости, так поступают и сотрудники федеральной полиции. Свыше сорока процентов объявлений о продаже наркотиков в теневом секторе интернета оставляют в качестве приманки, имеющие неограниченный доступ к всевозможной дури, люди в погонах. У меня на глазах, очередной малолетний козел отпущения, как раз, попался в такую ловушку. Парень слезно просил никуда его не забирать, но дяденьки полицейские в форме с, в четвертый раз за год обновленным дизайном, только мрачно качали головами в ответ, заталкивая пацана все глубже на заднее сиденье бело-синего ларгуса, по старой русской традиции вписывая в графу «поняты́е» парочку мертвых душ. Один из них оценивающе посмотрел на меня. Делая вид, что я не причем, хоть я и действительно был не причем, прихрамывая от междуножного дискомфорта, я отправился к остановке. Для страны, где нет ни одной профессиональной бейсбольной лиги, в России подозрительно много бейсбольных бит. Я всегда смеялся над привычкой Клима Кошелева спать с битой в обнимку, но проснувшись от звука праздничного салюта, решил, что бита в постели, наверное, все-таки не помешает. В кресле, напротив зеркала, сидел Соломон Лазарев – мой вчерашний знакомый. Губы у него были в крови. – ТЫ здесь откуда? – поинтересовался я, продираясь сквозь уровни сна, хотя в действительности, почему-то, мне как будто бы не было до этого никакого дела. – Времени у меня мало, так что перейдем сразу к делу. – Ты как попал сюда, сука, мать твою так, и какие у нас с тобой еще могут быть дела? А? – Вопрос хороший. – отвечал ночной гость, – Правильный вопрос. Ведь вампиры, как известно, не могут попасть в жилище без специального приглашения. Людские законы о неприкосновенности частной собственности для нас священны. И все-таки, они не безупречны. Существование многоквартирных домов сделало этот момент несколько размытым. Представившись курьером, я получил разрешение войти от твоей пожилой соседки этажом выше через домофон. – Антонины Семеновны? ЧТО ТЫ С НЕЙ СДЕЛАЛ, ГОНДОН?? – Твоя соседка двинула кони, – констатировал Соломон, вытирая рукавом губы. – Еврейскому вампиру достаточно разрешения одного из жильцов подъезда, чтобы получить доступ внутрь. А конкретно твоя квартира оказалась неприватизированной. Очень неосмотрительно. – предполагаемый вампир неодобрительно поматал головой. – Попасть в такую квартиру – для вампира это дело техники. – Она в социальном найме. И, вообще, лучше не ссы мне в уши, псих ты сраный, блядь, извращенец. Я ведь с самого начала так и знал, что ты какой-нибудь пидор. Вали-ка лучше отсюдова, пока я не позвонил ментам. – Не слишком гостеприимно. Мы ведь с тобой без пяти минут братья. Неприятно, знаешь ли, вдруг выяснить, что твой без пяти минут брат, оказывается, – мусорская подстилка. Я слегка растерялся, но потом быстро пришел в себя. – Так, блядь, четвертый час ночи, братишка, я по горло тобой сыт уже, – кричал я, в истерике, подымаясь с постели, готовый выпроводить предполагаемого родственничка из своей квартиры. Однако, внезапно, перехватив свое отражение в зеркале, я заметил, что Соломон в нем не отражается. Я попробовал было изменить угол обзора, но все бестолку – у чувака просто не было отражения, и все тут. – Что все это значит? Сраный фокусник отравлено улыбнулся, и капельки крови медленно поползли вниз по его подбородку. – Чтобы разобраться в этом феномене, предлагаю обратиться к элементарной физике. Начиная с XIX века, зеркала делают из посеребренного стекла, так? – я зачем-то кивнул. – А серебро, как известно, вампирам противопоказано. По этой причине, ты и не видишь моего отражения. Я начал вспоминать все дурные приметы, которые прошлым вечером показались мне лишь игрой воображения: его нечеловечески острые зубы, дождь, который был вызван его зонтом, разговор с бродячей собакой… Да и откуда вообще он взял, что я иду к остановке? Все это теперь уже не казалось мне таким уж обыкновенным. – Также, ни для кого не секрет, что вампиры обладают способностью к трансфигурации – перевоплощению в некоторых ночных существ, таких как, например, летучие мыши, крысы, волки и некоторые породы кошек. Видишь ли, Стас, прошлой ночью, когда на тебя напал и укусил черный кот, в действительности ты был укушен вампиром в другом обличии. – Так это был ты? – Дошло ж-таки наконец. В истерике я схватился за кровавую метку на шее, с головой забрался под одеяло и стал раскачиваться и кричать как недееспособный. – ЭТО ВЕДЬ СОН. ЭТО ВСЕ СРАНЫЙ СОН. Я СКОРО ПРОСНУСЬ ПО БУДИЛЬНИКУ И ТЕБЯ ЗДЕСЬ УЖЕ НЕ БУДЕТ. – Ты сам этого хотел, – спокойно отвечал Соломон, пожимая плечами. – Разве не за этим ты оставил своих корешей в тот вечер? Разве тебе не хотелось отделаться от вечного противостояния соблазнам и созерцания чужих пороков? Мне все-е известно, Стас. Ты мне понравился. И я решил, дай думаю, кусну тебя по-дружески. Обрати внимание, я не выпил тебя до дна, как твою соседку, а оставил немного крови, чтобы ты смог сам восполнить недостаток, когда придет время. Занавески раскачивались на ветру, отражаясь в зеркале у кровати, в компании тумбочки, гладильной доски и всех остальных предметов в комнате, за исключением гейского еврейского недоделанного вампира. – Это произойдет совсем скоро. Должно быть, ты уже заметил за собой первые признаки обращения: безразличие, плохой аппетит и все в таком духе. Вижу, ты еще не до конца веришь в происходящее. Это нормально. У тебя есть еще пара дней на то, чтобы привести в порядок дела, и принять свою судьбу. Я здесь, чтобы ввести тебя в курс дела, не более того. Вот моя визитка. По вампирским обычаям, я должен стать твоим наставником. Надпись на визитке была: «СОЛОМОН ЛАЗАРЕВ – ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ» Я поморщился. – Э-э-э. Не обращай внимания. – отмахнулся стоматолог. – Это моя специализация из прошлой жизни. Позвони, когда придет время. – А что, если я не позвоню? Что тогда? Ты от меня отцепишься? – Тогда ты умрешь. С этим, Соломон Лазарев обернулся черной молью и вылетел в раскрытую форточку. Рановато, значит, я снял с окон москитную сеть. От такого зрелища, перепугавшись, я обоссал постель. Позднее, меняя белье, я обнаружил причину своих дневных неудобств – крайняя плоть с моего пениса исчезла: усохла, словно ее никогда и не было…

Проснувшись, я убедился в том, что это был никакой не сон. Ни крайней плоти, ни Антонины Семеновны. В ее смерти обвинили, подаренного внуками, щенка ротвейлера. В тот же день его усыпили. Тело соседки вынесли в белом пододеяльнике, сложенном вдвое, четверо незнакомцев, скорбно глядящих под ноги, но то и дело спотыкающихся и теряющих равновесие в узких лестничных маршах. Из-под двери ее квартиры еще тянуло кровью и холодом, а меня больше не тянуло делиться произошедшим, с кем-бы то ни было. И, все-таки, сомнения не покидали меня. Под солнечными очками глаза были красными, как простыни в первый день месячных, а кожа болезненно белой, как простыни, во все предшествующие месячным дни. Солнце гадко щипало ее, так что я топал в лабораторию по темной стороне улицы, мимо отеля с почасовой оплатой, где срут бомжи. Лаборант-гематолог – Вася Пешкин – звезда обеденных перерывов. Когда наступает время обеда, он остается в лаборатории за старшего, с оговоркой о том, чтобы ничего не трогал, а только следил за порядком. Услыхав мою просьбу, Пешкин зажопился. И жопился до тех пор, пока я не подколол его, что он, мол, тупо мебель и в лаборотории нифига не решает. Вот так я получил комплексный анализ крови всего за каких-нибудь полчаса, вместо положенных суток. Пришлось, правда, помучиться – кретин нашел вену только с десятого раза, но я не рискнул отбирать у него иглу. Я сам измерил себе давление. Девяносто на сорок пять. Уровень гемоглобина – девять с половиной граммов на литр, при минимальной допустимой норме в одиннадцать. Предварительный диагноз – анемия. Дорогу к автобусной остановке я срезал через западное крыло клиники, где располагалась станция переливания, и у меня буквально потекли слюнки. Студенистая, как Кровавая Мэри и текучая, как Космополитэн, кровь разливалась по вакутайнерам и капельницам, охлаждалась и упаковывалась в транспортные контейнеры. Воткнуть соломинку и выпить, как кока-колу. Я был возбужден, как пацан в канун Нового Года, который еще не в курсе, что ему подарят поношенную футбольную форму, из которой не так давно вырос двоюродный брат. Соломон Лазарев не ошибся: я медленно подыхаю, а подыхать мне совсем не хочется. В седьмой день рождения родители спросили меня, чего бы мне хотелось: стетоскоп или автомат. Я выбрал автомат, хотя хотелось мне и того и другого, и через каких-нибудь десять лет, из сожаления о несделанном выборе, поступил в медицинский. Да, выбор – жутко неприятная штука. Подбросив монетку и поразмыслив, я позвонил Соломону. Сердце бешено прыгало, перегоняя остатки крови. АППАРАТ АБОНЕНТА ВЫКЛЮЧЕН ИЛИ НАХОДИТСЯ ВНЕ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ СЕТИ Я ходил по комнате в холодном поту, и временами казалось, что отражение в зеркале отказывается мне подражать, или наоборот дразнит меня или совсем исчезает из виду. Я пробовал есть, но меня рвало. Я свалился без сил, а лужа блевотины так и осталась лежать на полу, разнося миазмы. Мотор холодильника рычал, отзываясь ударами пивных бутылок Балтика Сэвен, запрятанных в дверной полке. Ну, уж нет. С бухлом покончено. Звонила Яна Кошкина. Я не ответил, чтобы в который раз перезвонить Соломону. ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ АВТООТВЕТЧИК ОСТАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ ПОСЛЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА Свои плохие ногти (я их грызу) я сточил до неузнаваемости о проклятый паркет, надорвал обои и разбил кулаки о стену. Я рыдал и просил неизвестно кого, чтобы он взял трубку. Я был жалок как никогда. Я просто не хотел умирать. На исходе дня мне удалось уснуть, и мне снился контрастный кровавый душ. Я стоял под ультрафиолетовой лампой, совершенно голый в белой комнате, с такими же голыми стенами из кафельной плитки, и санитар в черной шапочке, черном халате и черной медицинской маске проводил процедуру, снова и снова чередуя температуры. Когда я проснулся, он стоял посреди комнаты. – Не хватало, чтобы у тебя крыша поехала. – Соломон? – спросил я, с трудом разнимая заплывшие веки. Он протянул мне руку. – Зови меня Соло. Вставай. Ну и вонь тут у тебя. – он поморщился, закрывая лицо рукавом. – Ты что, блеванул? Гадость какая. Я поднялся с трудом и тут же свалился на стул, который Соломон предусмотрительно выдвинул из-за стола. Я весь дрожал. Окно было распахнуто настежь. На полу меня не слабо продуло. Искалеченные ударами трясущейся челюсти, слова с трудом выползали у меня изо рта, как дождевые черви на солнцепеке. – Анализ крови показал низкий уровень гемоглобина… Соломон лишь дежурно пожал плечами. – Кровь вампира не вырабатывает гемоглобин. Мы компенсируем этот недостаток, питаясь кровью живых. – Куда ты пропал? На кой хрен оставлять номер сотового, если не собираешься отвечать на звонки? – Была суббота, Стас. Священный день для всех евреев. Разговаривать по телефону в субботу не полагается. Давай-ка поднимайся и приведи себя в порядок. Я послушался. Встал и неуверенно поковылял в ванную, но на полпути, видимо, передумал. Я схватил с книжной полки Новый Завет и стал в истерике размахивать им перед своим вампиром, как опахалом перед шашлыком, выкрикивая единственную молитву, которую знал. Соломон застыл в непонятках. – Ты че делаешь, Стас? Я почувствовал себя глупо и прекратил. – В каком смысле? Он забрал книгу и потрепал меня за плечо. – Стас, для евреев Новый Завет – это как неудачный сиквел. Ты бы его, что ли, прочитал хотя бы, прежде чем вытворять всякое. Я расстроился еще сильнее. С детства меня учили, что надо креститься тремя перстами справа налево, что в Пасху надо освещать куличи, что в доме должен быть красный угол и Библия, но вот, что ее еще нужно прочитать меня предупредить забыли. – Ну, все-все. Теперь отправляйся в душ и переоденься. У нас с тобой сегодня еще много дел. – Но, что, если я не хочу быть вампиром? – заныл я. – Тем более еврейским. Может, можно как-нибудь еще все переиграть? Отмотать назад, или типа того… Не отнимая руки, Соломон сказал ласково, насколько это может незнакомый мужик, доведший тебя до слез в твоей же заблеванной кухне: – Ты сам не знаешь, что говоришь. Иди, иди. А я пока приберусь тут немного. Теплый душ помог. Пульс выровнялся, раны на руках стали выглядеть много лучше – стерильнее, царапины на спине затянулись, даже ногти как будто бы подравнялись сами собой. Когда я вернулся в кухню, Соло с любопытством листал Евангелие, как какой-нибудь таблоид. Он ухмыльнулся: – А говорят еще, что ессейство – ересь. Увидев меня, он возвратил книгу на место и достал инструмент – золотой ритуальный наждак с шестиконечной звездочкой, выгравированной у основания. – Это еще зачем? – удивился я. – Облагородить твои зубы. – Одной рукой фиксируя мою голову у подбородка, пальцем другой руки он отстранил нижнюю губу и осмотрел челюсть. – Клыки недостаточно острые. Я отстранился. – Чего-о? – Того. А ты думал? Сами отрастут? За качество не переживай. В прошлой жизни я профессиональный дантист, помнишь? Пока наждак стачивал зубы, слезы резали мне лицо. Полость рта заполнялась костяной пылью. Процедура была мучительнее некуда, но когда все закончилось, я первым делом улыбнулся – заценить, что из этого вышло. И вышло, надо сказать, неплохо. По совету зубной феи, я переоделся во все черное, после чего, за каких-нибудь полчаса, без пересадок, мы добрались до Покровки – самого сердца ночного города. – Смотри на это, как на своеобразный обряд посвящения, – говорил Соло. – Только вкусив крови своей первой жертвы, ты станешь полноправно бессмертным. С оговорками, разумеется. Если, например, перестанешь пить – рискуешь умереть от гипоксии. Или прикончит сумасшедший фанатик, что-то вроде охотника на вампиров, но намного тупее, чем рисуют в кино. – Что, такие бывают? – Встречаются все реже и реже, и все же встречаются. Время не то. Теперь уже никто не верит в вампиров, как и ты не верил всего каких-нибудь пару дней назад. Мы выигрываем от человеческого невежества. А те, кто верит – в основном безобидны: машут распятьями, кричат молитвы, – здесь Соло улыбнулся и потрепал меня по плечу, припоминая недавнюю лажу с Евангелием при моем участии, – чертят спасительный круг, опрыскивают святой водой и все в таком духе. И все-таки, следует сохранять осторожность. Если у такого гоя за пазухой окажется осиновый кол или, скажем, серебряный нож… Короче говоря, все может быть. Но ты не забивай пока себе этим голову… Яма – самый шумный, самый прóклятый сквер в самом злачном районе столицы – святая святых человеческого порока. Теперь она доживает последние дни. По совместному проекту мэрии и РПЦ, ее решено снести со дня на день, и превратить в очередной храм. Ночью сюда приходят выпить и найти на задницу приключений, затевая драки, а иногда даже оргии, не давая спать жителям соседних домов. Полиция выставила вокруг ограждения, но толпе плевать на любые стены, и ночные посетители Ямы занимают места вблизи арены третьеримского Колизея. Плевать и ментам, хоть те и патрулируют сквер круглосуточно, но все-таки больше для вида, для поддержания иллюзии контроля. Сюда то мы и явились, чтобы разыскать мою самую первую жертву. – Представь, что ты приговорен к смертной казни, и за тобой остается право последней трапезы. Ты можешь выбрать абсолютно любое блюдо, но помни – этот ужин останется с тобой до конца твоих дней. В любом случае, – Соло уронил взгляд в циферблат наручных часов. – Советую успеть до восхода. На рассвете жажда станет невыносимой, а охота практически невозможной. К тому же солнце отныне, один из твоих врагов. По возможности, всячески остерегайся его лучей. В их свете, ты будешь становиться слабей. Хотя, куда еще слабей, да? С этим, Соломон обернулся вороном и уселся дразнить патрульных на крышу полицейского автозака. Я же, заприметил в толпе Лену Нехорошеву – знакомую по одной из здешних же рюмочных, которая в свое время, не скрывая, глумилась надо мной, по поводу смерти моей возлюбленной Нади. Публика, как и положено, переговаривалась исключительно матом. Из принесенного кем-то портативного проигрывателя, шумно играла электронная музыка, судя по костлявой кисти руки, вращающейся вместе с пластинкой, купленная у моего приятеля Макса Танцева. Лена сидела одна и почему-то плакала. На ней было легкое открытое платье, по телу бежали мурашки. Когда мы, наконец, встретились взглядами, я подошел первым. Ей было, кажется, жутко неловко за слезы, а мне было ее ни капли не жаль. Я молча укрыл ее своим плащом, и рыдания прекратились, но разве что ненадолго. Так я узнал, что несколькими часами ранее от нее избавился бывший бойфренд. Лена пила вишневый Гараж из бутылки, запрятанной в бумажный пакет, а я смотрел на сонную артерию, пульсирующую и натягивающуюся, как струна контрабаса, всякий раз, когда Лена всхлипывала или улыбалась. Она решила, что я с ней заигрываю, поэтому так откровенно пялюсь. Это было понятно сразу по ее пьяному взгляду и полуоткрытому рту, как у даунши. Когда немного похолодало, мы быстро переместились в укромное место – в подъезд неподалеку. По дороге, она, между делом, несколько раз извинилась за все, что наговорила о Наде когда-то давно. Но для нее было уже слишком поздно. Французского в нашем поцелуе не было нихрена, за исключением самого названия. Языки наши метили кто куда, так что мне удалось попробовать на вкус, наверно, все ее лицо целиком. Надо было видеть те движения, которые себе позволяла Лена, используя ободранный подоконник, как балетный станок. Так может вести себя только женщина, пребывающая в полном отчаянии. Пускай, на ней не было белья, и она была хороша, мне она казалась аппетитной лишь в том смысле, что я помирал с голоду и не мог дождаться момента, чтобы пробить ей горло зубами, которые буквально чесались в ожидании плоти. Я выпил стерву. До последней капли. Пускай я больно ожег язык о серебряную цепочку с крестиком у нее на шее, но оно того стоило. Ведь это, простите за пафос, было самое сладкое блюдо за всю мою жизнь – месть.

Склеп – это коммунальное пространство в пределах лютеранского кладбища в Лефортово – наверно, самого мертвого и богом забытого района столицы. Призрак, с отрубленными кистями рук – это Герман Майер, а склеп – его фамильная усыпальница. В начале прошлого века Майер служил настройщиком в музыкальном магазине Циммермана на Кузнецком мосту. По крайней мере, до тех пор, пока на фоне всеобщей германофобии, по Москве не прокатилась волна немецких погромов. В тот день Майер бросился спасать рояли, которые осатаневшие погромщики выбрасывали на улицу с четвертого этажа, и в наказание лишился обеих рук, отрубленных и, выброшенных следом за инструментами. Когда беспорядки утихли, выяснилось, что в магазине нет вакансии для калеки, поэтому, отчаявшись, той же осенью, Майер бросился в реку с Андреевского моста, и околел. Все это мне рассказал Соло, ведь призраки не большие любители потрепаться. Больше всего на свете им нравится читать надписи на надгробиях и эпитафии. Герман мог часами бродить по кладбищу за этим занятием, и подолгу стоять возле собственной резиденции, раз за разом перечитывая на немецком «здесь покоятся члены славного дома Майеров, отдавшие жизни служению обществу». Но, даже прервавшись, его "славный" род, не оставил служения. Укрытый от солнечного света и людских глаз, покосившийся склеп в темной рощице в самом мрачном и дальнем конце кладбища стал общежитием для столичных вампиров, а Герман Майер – его молчаливым комендантом, который ничего против не имел, и даже был бы обеими руками «за», если бы только у него были руки. Соседкой Соло по верхней полке была знаменитая, стрелявшая в Ленина, Фанни Каплан. Она по-прежнему ведет охоту только на коммунистов, и выглядит очаровательно даже для трупа (похоже, меня влечет к террористкам). Вампиры-анахронизмы Аарон Леви и Захария Левитан, занимающие гробы в нижнем ярусе, умерли так давно, что могли бы похвастаться личным знакомством с апостолами, если бы только не считали их за позёров. Они держались особняком и говорили только на мертвых языках, и это, конечно, был повод попрактиковать университетскую латынь, однако эти двое быстро меня отшили, перейдя на древне-арамейский. Свободное место под каменной плитой в холодном полу усыпальницы предназначалось для меня. Это был день моего новоселья, но все больше как-то поздравляли Соло, ведь я был первый обращенный им вампир. Вот, что я выяснил о вампирах в первые месяцы после переезда в Лефортово: Первое: помимо еврейских вампиров существуют также вампиры-атеисты, вампиры-христиане, буддисты, мусульмане, язычники, индуисты, мормоны, агностики, либерал-демократы, коммунисты, антисемиты, феминистки, квиры, гомосексуалисты, и, как и люди, все они друг-друга, как правило, ненавидят. Так что, не стоит грести всех под одну гребенку; Второе: вампиры не боятся солнечного света, хоть и обладают повышенной светочувствительностью. Вампиры владеют особыми силами, которые активизируются специально для охоты, как правило, ночью (за исключением вампиров-езидов и вампиров-зороастрийцев, которые поклоняются солнцу), с этим и связан их ночной образ жизни; Третье: из всех человеческих чувств вампирам знаком только голод, утолить который они могут при помощи крови. Обыкновенная человеческая пища, равно как и зараженная кровь или кровь мертвецов действует на вампира, как аллерген. В отдельных случаях, несоблюдение диеты способно привести к смерти вампира. Полное насыщение наступает при употреблении от трех до пяти литров крови. При этом, если в человеческом теле останется хотя бы несколько миллилитров, такой человек получает шанс на обращение в вампира, поэтому жертву всегда нужно выбирать с умом. Здесь как в правилах столового этикета: после еды тарелка должна быть пустой. Вампиры не испражняются: кровь усваивается ими в полном объеме; Четвертое: вампиры не отбрасывают тени, не отражаются в зеркалах, не получаются на снимках и видеозаписях, за исключением светоходящих (см. примечание ко второму пункту), так как все эти процессы опосредованы солнечным светом или серебром. Запах чеснока отпугивает вампиров не больше, чем запах человеческих испражнений отпугивает людей. Молитвы, распятия, святая вода и все прочее в таком духе вызывают панический страх лишь у тех вампиров, которые при жизни верили в магические силы христианских символов. Это что-то сродни обыкновенной человеческой фобии – беспричинному страху перед чем-то, что в действительности не способно причинить никакого вреда. У вампиров не слишком хорошо пахнет изо рта; Пятое: вампирский гипноз действует только на животных и людей, с интеллектуальным коэффициентом ниже среднего, то же касается чтения мыслей. Вампиры могут перевоплощаться в некоторых животных, ведущих ночной образ жизни, среди них: кошки, крысы, некоторые хищные птицы и птицы-падальщики, летучие мыши, некоторые виды насекомых и др. Вампиры могут передвигаться значительно быстрее людей. Все вышеперечисленное доступно вампиру только после захода солнца, за исключением светоходящих (см. там же). Вампир не может войти в человеческое жилище без приглашения жильцов; Шестое: естественная смерть вампира может наступить в результате отравления, или асфиксии, вызванной, по сути, длительным голоданием, так как гемоглобин, содержащийся в крови людей и отвечающий за насыщение тела кислородом, организм вампира самостоятельно не вырабатывает. Убить вампира можно, начинив его сердце серебром или пронзив осиновым колом. Вампир не может покончить с собой. Убийство вампиром другого вампира считается преступлением, и допускается только в качестве санкции за совершение аналогичного преступления. Я уволился с работы и сдал ключи от квартиры. В универе появлялся только на сессии. Тело Лены Нехорошевой обнаружили той же ночью. Ее кончину, как и в случае с Антониной Семеновной, списали на нападение собак. Все питались по-разному: для Фанни это было дело принципа, поэтому она обычно дежурила возле государственных и муниципальных учреждений, а иногда, в надежде сорвать большой куш, даже у кремлевской стены; Соло пил только молодых и не слишком умных; Леви и Левитан пили, что попадется, вместе с кровью, съедая кожу и обгладывая кости, чтобы восстановить омертвелые ткани своих мерзких поношенных тел. Симпатичные дурочки, вроде Нехорошевой были мне по вкусу, и, по началу, я решил охотиться только на них, однако быстро сообразил, что симпатичные дурочки, которые шляются по ночам, как правило, еще и пьяны. А алкоголь, который одинаково уносит и людей и вампиров, для последних – это сущий яд, ослабляющий организм и лишающий вампира всех его ночных преимуществ. Сильно потасканный после недели такой диеты, я решил кардинально изменить рацион. В ход пошли любители ночных велосипедных прогулок и джоггеры. В свой первый шаббат, когда охота по всем иудейско-вампирским канонам, строго запрещена, я не выдержал голода и, вопреки предостережениям соседей по склепу, отправился в город – на поиски крови. Весь следующий день меня рвало собственной кровью и бросало из стороны в сторону, как в каком-нибудь сраном автобусе в час пик. Леви и Левитан высмеяли меня, предсказыввая, что я вот-вот окочурусь. Наверно, так бы оно и было, если бы Фанни не притащила в склеп мальчика в похоронном костюме, отставшего от процессии. В канун следующего шаббата я додумался выкрасть со станции переливания десять литров донорской крови. Этого было достаточно нам пятерым, чтобы пережить еще одну субботнюю ночь, не покидая кладбища. С тех пор, в склепе надо мной уже никто не смеялся. Донорская кровь выручала каждые выходные, а еще во время поста и всех праздников. Во всех остальных случаях приходилось охотиться. Это было совсем не трудно и даже приятно, но у охоты был один существенный минус – дело это было очень чумазым и трудно было представить, чтобы кровь не оставила на одежде следов. У каждого в склепе было по два-три черных костюма. Черных потому, что на черном, как раз, не было видно крови. Один на выход, другой в круглосуточную химчистку, там у нас была скидка, как у постоянных клиентов, и никто не задавал никаких вопросов. Только Леви и Левитан довольствовались одним еще довоенным комплектом одежды. Разило от них страшно, но к этому все привыкли, потому что пахло, на самом деле, не многим хуже, чем от бомжа или пенсионера. Умывались из кладбищенских кранов с питьевой водой, стоявших на каждом перекрестке. Дежурили понедельно. Каждый дежурный в свою очередь отвечал за стирку, уборку пыли и паутины, доставку свежих газет и донорской крови к следующему шаббату. Короче, все как у людей, равзе что без мытья посуды. А Соломон, как штатный дантист, еженедельно осматривал наши зубы и подтачивал клыки, если это было необходимо. «Вампир без клыков, что торчок без отходов» – так он говорил. Жили мы не хуже, чем в университетской общаге. По утрам, перед сном, делились историями с охоты, играли в шахматы, слушали музыку с какого-то застрявшего во времени радиоприемника на батарейках, который крутил только мелодии прошлого века. А, когда кладбище открывалось для посетителей, мы замуровывали вход изнутри и ложились спать. Быть дохлым – все равно, что быть престарелым. Когнитивные способности живых мертвецов быстро снижаются, так что перед сном приходилось по многу читать газеты, чтобы тренировать мозги, и не превратиться в сраного зомби. В темноте вампирам видно намного лучше, чем при солнечном свете. А в газетах главной темой всегда оставалась стая бродячих собак, орудующая по ночам. Как раз, благодаря газетным статьям, мы и вели счет нашим жертвам. Больше всего мы скучали по своему отражению. Было как-то досадно со временем забывать, как ты выглядишь, да и надо было как-то причесываться, приводить себя в порядок и все такое прочее. С этим мы еще помогали друг другу, кто как умел. Правда с Леви и Левитаном все было так безнадежно, что ни один танатокосметолог уже бы за них не взялся. В очередную субботу, от безделия и скуки меня посетила мысль. Раз уж на фото вампиры не получаются, – подумал я, – можно было бы пробраться в НИИ и попытаться сделать рентгеновский снимок. Так и сделали. Пять человеческих скелетов, обнимающихся за руки. Вот, что у нас получилось. По этому снимку можно было проследить стадии искривления позвоночника: от стройного Соломона до Левитана, согнувшегося в три погибели. Это было, конечно, не то же самое, что фото или отражение, но все вдались в такие сантименты, что дома стало слишком сыро даже для склепа. Конечно, заплакать по-настоящему никто из нас так и не смог, так что это была, скорее, дань уважения моменту или типа того. Зато старикашки ко мне больше не цеплялись, и иногда даже заговаривали на латыни. Только Германа, само собой, на снимке не было, потому что тот не имел материи, так что я кое-как нарисовал его угольным карандашом. В портретах хуже всего мне удавались руки, и, Герман, в общем, оказался, для меня идеальным натурщиком. Когда дело доходило до трансфигурации, поначалу я все больше предпочитал пафосные изящные формы, типа филинов и летучих мышей, но, поднатаскавшись, понял, что нет ничего практичнее обыкновенной дворовой кошки. Совы и тому подобное привлекают слишком много внимания, под видом комара появляться просто опасно, ведь у смертных есть целый арсенал средств против этих вредителей, в виде мухи с непривычки сильно укачивает, а вот кошек все любят, ну или почти все. Соло как-то рассказал мне историю о вампире, которого живодеры изловили в образе кошки, обрили и пустили на шаурму. Но это было в нулевых, сейчас так, вроде, больше не делают. Впервые мы с Фанни охотились вместе, кажется, в середине лета, в одну из самых коротких ночей в году. Дело было в парке. До парка добрались на ночном автобусе. Там купили билеты на последний ряд летнего кинотеатра и стали смотреть кино. Успели вовремя, реклама как раз кончалась. Это была ее идея. Сам я еще при жизни не слишком любил походы в кино. Зачем ходить в кинотеатр, если можно посмотреть пиратскую копию в интернете. Фанни была другого мнения. Она объяснила мне, что затем и надо, потому что кто-то же должен позаботиться о том, чтобы художник был сыт. Аргумент был принят, ведь я и сам не чувствовал ничего кроме голода. К тому же, думаю, раз человек жил в одну эпоху с Люмьерами, он, наверно, в этом что-нибудь понимает. Пока зрители жевали попкорн, мы подкрепились парочкой зрителей. Выбор пал на самых чмошных, которые весь фильм курили кальян, громко трепались между собой и щелкали кнопками телефонов. Было не оч вкусно, зато, как сказала Фанни, весьма справедливо, поскольку все остальные зрители весь фильм промолчали в тряпочку. Трупы тут же полетели в кусты. В темноте кино-амфитеатра никто ничего не заметил, и мы остались до самых титров. После того случая, примерно на следующий день (это я, опять же, узнал из газет), парк закрыли на время, для отлова бродячих собак, которых там, разумеется, и в помине не было. После титров мы, для одного только вида, и еще чтобы даром не пропадала наличность из бумажников наших жертв, купили сладкой ваты и прогулялись по набережной. Я спросил ее, не обидится ли она, если я задам личный вопрос, хотя прекрасно знал, что она в принципе обидеться ни на что не может. Она была не против, и я спросил, правда ли это, что она стреляла в Ленина. – Кто? Я? А то. – Фанни как-то бешено засмеялась, и достала из кармана пальто револьвер «браунинг», который, оказывается, был у нее всегда при себе. Его дуло, по ходу различных жестикуляций, то и дело метило в меня, так что, хоть я и знал, что обыкновенные пули не причинят мне никакого вреда, но все равно, чуть было не наложил в штаны. – Я тебе больше скажу, выстрелы были смертельными, вот только старик все равно б не умер. – Это почему? – А сам-то как думаешь? – заговорчески улыбнулась Фанни. – Хочешь, сказать, что и он был вампиром?… – А-то как же. Первый среди большевиков. Потом укусил Сталина, тот укусил Кастро, ну а дальше ты знаешь… Он-то меня и сделал таким чудовищем. – Совсем ты не похожа на чудовище… Я механически улыбнулся, а Фанни, как будто кокетливо толкнула меня но с такой силой, что я, чуть было не улетел в реку. В руках у нее по-прежнему был заряженный револьвер образца начала прошлого века. – Да ну тебя! А сможешь угадать, где он теперь? – Кто? Ленин? – Ну а кто? – В мавзолее? – Куда ему. Работает собственным двойником, можешь себе представить? От звонка до звонка, каждые выходные на Красной площади. Это мне рассказал Соломон. Он видел его. – А кто же тогда в мавзолее? – Это ты мне лучше скажи, не я ж его хоронила. Увы. Но скоро, мне вновь представится такая возможность. Помяни мое слово. Мимо проезжала патрульная машина, и Фанни спрятала револьвер обратно в карман своего пальто. Она прижалась ко мне и шепнула: – Быстро целуй меня. Притворимся, что у нас свидание. Губы были теплыми, как у живой женщины. Хотелось, чтобы ментовской бобик, кружил вокруг нас и не уезжал. Так мне нравилось притворяться, что у нас свидание.

Свищ змейкой водил прихожан вокруг церкви, и с каждым новым кругом удав разрастался новыми прихожанами, как в старой игрушке на черно-белом nokia. Туловище зме́я подсвечивалось десятками красных свечек, а на улице было темно до усрачки, так что, наверное, его было видно даже из космоса. А на другой стороне улицы в пьяной компании никак не могли найти зажигалку, и кто-то додумался перейти дорогу и попросить прикурить у крестного хода. Свечка ходила по рукам до тех пор, пока вся компания не закурила по сигарете, и не рассыпалась по Маросейке. Была православная пасха. Метро работало дольше обычного. Той ночью было тепло и людно, а вдоль пруда курсировала надувная лодка, и таджик-лодочник в оранжевом жилете коммунальной службы вылавливал рыболовным сачком трупы уточек, всплывающие перепончатыми лапками вверх. След хлебных крошек вел прямо к пристани, где ваш покорный слуга крошил в воду нарезной батон. Металлический перегар и кровавый пар над крышкой стального термоса. Уточек было жалко, людей не очень. Но, когда я сообразил, что Яна Кошкина с самого начала была права, уток было уже не вернуть. Фанни научила меня этому фокусу с термосом. Чтобы сэкономить на химчистке, можно было, к примеру сперва задушить жертву, а потом аккуратно собрать кровь в какую-нибудь емкость (лучше всего в термос), пока она еще не остыла, потому что холодная кровь по вкусу ничем не лучше теплого пива. Это сложно назвать романом, ведь у нас не было взаимного чувства, да и вообще никаких других чувств, кроме голода, не было. И, все же, мы с Фанни, каким-то образом подружились. Притворяясь влюбленными, мы описывали спирали на винтовых лестницах Мутабора, штурмовали партеры клубов и затхлые залы московских рюмочных, гипнотизируя вышибал и обескровливая посетителей. В таких местах кровь по большей части испорченная, ведь каждый второй здесь, как минимум пьян, но это все равно, что выбирать между жирным бургером, поджаренным на вчерашнем масле, и каким-нибудь овощным салатиком. То есть между тем, чего тебе хочется, и тем, что подходит для тебя лучше всего. Я натурально торчал от вкуса крови, убийств, трансфигурации и всяких разных вампирских приблуд. Но больше всего оттого, что, впервые в жизни мог ничему не предавать никакого значения, и не искать смыслов. Быть вампиром было мне по вкусу. А вот Фанни, по видимому, уже давно пресытилась и была одержима одним лишь убийством старика Ленина. Специально для этого, она даже раздобыла где-то четыре серебряных пули под свой старый браунинг. [Единственным преступлением среди вампиров считается убийство себе подобного]. Она это отлично знала, и я никак не мог сообразить, что заставляет ее до сих пор, на полном серьезе, вынашивать эти гнусные планы. Прошло ведь уже сто лет. Ответ пришел сам собой, когда в пасхальную ночь, мы прогуливались по улочкам Китай-Города, и наткнулись на слюнявого зомби, сидящего на грязном асфальте и обгладывавшего подгнившую собачью ногу. Это был один из тех в конец отупевшихвампиров, в которых кроме инстинктов не осталось уже ничего. Он сидел у помойки, облокотившись на мусорный бак, и, словно не замечая нас, жадно кусал свою косточку черными как смоль, крошащимися зубами. Мы остановились, как будто бы для того, чтобы перекурить, но на самом деле, чтобы поглазеть на это тупое чудище. – Вот, что с нами стало, – сказала Фанни задумчиво, тыча в него пальцем. – Сознание – все, что осталось нам от лучшей жизни, и все что отличает нас от него. Раньше нам были доступны радости чтения книг, прослушивания радио, игры в шахматы или просмотра кино. Теперь мы вынуждены делать это, цепляясь за существование, чтобы, в конце концов, не стать похожими на него. Она сплюнула себе под ноги, и зомби, услышав это, тупо уставился на нас пустыми глазами, как у животного, но буквально через секунду вернулся к своему ужину, уже больше не замечая нас. А мы так и продолжили смотреть на него. – Че, серьезно? – спросил я. – Что может быть лучше бессмертия? – Бокал шампанского? Горячий душ? Струйный оргазм? Да все, что угодно, – отвечала Фанни. – Все, чего у нас нет. Все, что можно сделать только будучи живым, а не мертвым, Стас. – Ты пила шампанское? – я ухмыльнулся. – А мне казалось, ты всю жизнь провела в подполье… – Да-а. Неплохо тебя Соломон обработал. А я иногда совсем забываю, какой ты еще малыш. Вот ты, например, когда-нибудь пробовал лобстера? Я бы все это проклятое бессмертие отдала за один только кусочек. – Да это просто сраная креветка-переросток, – накуксившись, отвечал я, не отрывая глаз от мерзкого зрелища. Вечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и грязного зомби полу-бомжа, обгладывающего собачью голень. – Готов поспорить, они и по вкусу не сильно-то отличаются. – А я и их никогда не пробовала. Можешь себе представить? Господи, какой же ты все-таки еще маленький. – Возможно. И вот тебе мой свежий взгляд. Не вижу ничего хорошего в том, чтобы бухать целыми днями, отъедать себе брюхо и трахаться с кем попало. Знаешь, я, как раз-таки, это уже перерос. – Хорошо иметь выбор, Стас. А как им распорядиться – это уже тебе решать. В конце концов, теперь это не имеет значения. Ничто больше не имеет значения. Кроме убийства одного рыжего картавого пенсионера, до которого я еще обязательно доберусь… – стиснув зубы, сказала Фанни. Во двор свернула машина. Свет ее фар прервал Фанни и отпугнул зомби. Тот бросил собачью ножку, и пошаркал куда-то прочь. А мы обнялись, и, когда сигарета кончила тлеть, тоже куда-то пошаркали, думая каждый о своем. В ту ночь, я понял, что Фанни, в отличие от меня, не нравилось быть вампиром, и именно поэтому она собиралась убить того, кто сделал ее такой.

Сны вампиров не поддаются толкованию, ведь мертвым никогда не снится ничего, кроме прижизненного прошлого. Сны приносят забвение и, если вампир что-нибудь видит во сне, это означает, что совсем скоро он уже никогда не вспомнит этого эпизода. Поначалу мне все чаще снилась моя семья, и это были самые сладкие сны, воспоминания, с которыми я расставался с удовольствием, ведь семейка у меня была еще та: педофил на педофиле. Но сны забирали не только плохое, но и хорошее. В день, когда мне впервые приснилась Надя, я и решил завести дневник. И с тех пор перечитывал и дополнял его каждую ночь. Чтобы, ни в коем случае, не забывать. Летом мы затеяли ремонт, и вдвоем с Соломоном отправились в строительный супермаркет – закупить всякого разного, чтобы привести в порядок наш запущенный склеп, где кладбищенские крысы уже чувствовали себя как дома. Слово за слово, мы как-то разговорились, и я перетер с ним нашу с Фанни беседу в пасхальную ночь. – По-моему, она на полном серьезе, собирается завалить этого пенсионера, нахрен. У нее даже пули серебряные нашлись, – говорил я, а Соломон, мастурбируя подбородок, сосредоточенно выбирал шпаклевочную смесь. – Как думаешь, что нам больше подходит: гипсовая или цементная? – Да какая хрен разница? Я в них не разбираюсь. – Цементная более влагоустойчива, а гипсовая пластичнее… – Ты меня вообще слушаешь? – А, будь что будет, возьмем обе. Цементную для фасадных работ, а гипсовую для помещения, – просиял Соломон. – Сол… – А? Да. Конечно. Я в курсе. Она мечтает об этом с тех пор, как я рассказал ей о нем. Вот только ниче у нее не выйдет. Это у нее такая навязчивая идея. Ну, ты ж знаешь женщин. – Он покрутил себе у виска. – Скажи лучше, чем будем заделывать крысиные норы? – Знаешь, еще она говорила, что ты, вроде как, запудрил мне мозги и, вроде как, не оставил мне выбора, когда предложил мне этот свой вампирский гиюр. – Эпоксидный клей намного эффективнее, но немного дороже, а цемент придется, наверно, еще замешивать с битым стеклом, чтобы наверняка. – Сол? Это ведь неправда? – Чистая правда, приятель. – То есть, как? – Ну, по правде говоря, я тебя немножко загипнотизировал… – То есть, на самом деле, быть еврейским вампиром не так пиздато, как ты мне заливал? Соломон пожал плечами. – По-моему, очень даже неплохо. Так, помоги мне выбрать герметик, и валим уже отсюда. Я, кажется, проголодался. Герметик, как назло, мы выбирали дольше всего остального, вдобавок, какие-то обкуренные малолетки катались туда-обратно в тележке для покупок, и это тоже мешало сосредоточиться. То есть, мне мешало, а у Соло, кажется, с этим проблем не было. На обратном пути заказали такси. К сожалению, предрасположенность таксистов к гипнозу напрямую зависит от класса поездки, поэтому ехать пришлось на сраном убер-иксе под шашлычные напевы радио "Восток FM". По дороге, чтоб я не переживал, Соло еще раз пояснил мне, что ВСЕ вампиры, которые собираются кого-нибудь обратить, в той или иной степени используют гипноз, внушение, чтение мыслей и слабости предполагаемой жертвы. – Не случись этого, я бы тебя просто кокнул. Так что не парься, – говорил Соломон, – Да, а по поводу Ленина, не бери ты в голову, слышишь? Можешь быть уверен – до дела никогда не дойдет. Никогда не доходило, и теперь не дойдет. Вроде бы успокоившись, я взял из органайзера в спинке сиденья свежий номер газеты. На первой полосе был такой заголовок: ТРОЕ ДВОЙНИКОВ ЛЕНИНА ЗАСТРЕЛЕНЫ НА МАНЕЖНОЙ ПЛОЩАДИ. ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО. Я протянул газету Соломону, и он так вскрикнул, что наш загипнотизированный водитель чуть было не пришел в себя. – БЛЯДЬ! НУ, КОНЕЧНО! ШПАТЕЛИ! МЫ ЗАБЫЛИ ШПАТЕЛИ! РАЗВОРАЧИВАЕМСЯ НАХРЕН!

По завершении ремонта, оформили, вроде бы, праздничную вечеринку в боулинге. Для вида заказали бутылочное пиво и картошку фри. В наших базовых черных прикидах, и контрастно пестрых ботинках для боулинга мы смотрелись не менее дебильно, чем наши ники на игровом табло, которое подводило счет. Я был «Носферату», Соло взял псевдоним «ДоктоР АКУЛА», Фанни была «Бэлла Свон». Леви и Левитан так и не разобрались со шнуровкой и остались сидеть за столиком в одних носках, что обеспечивало нашей компании неприкосновенность, ведь вонь, которую источали волосатые палки, которые они сами предпочитали звать «crura»1, прикончила бы кого угодно. Но мы итак были сраные ходячие мертвецы, так что нам это было по барабану. «ДоктоР АКУЛА» выбивал страйки и жадно интересовался тем, что же все-таки происходит с кеглями, когда они падают вниз. Ему тут же вспомнилась история об одном вампире, который однажды пытался выяснить это, в виде мыши, пробравшись на технический этаж. Но его с тех пор так больше никто и не видел. У Лазарева в запасе были сотни таких всратых историй про трансфигурацию. Теперь-то я понимаю, что большую часть, он, наверное, придумал сам. Склеп действительно выглядел гораздо лучше. Белые стены создали пространство, выровнялся потолок, и, главное – больше никаких крыс. Эти грызуны были слишком умными, чтобы просто загипнотизировать их и выгнать. Норы мы заделали, а некоторых из них, Соло даже попробовал травить газом, хотя, наверно, можно было просто попросить Леви или Левитана снять обувь, и они бы сами попередохли. Пиво мы даже открыли, чтобы поднимать бутафорские тосты, но пить его, конечно, никто не стал. Для вампира это все равно, что для человека выпить из грязной лужи. Это было даже где-то грустно, ведь к тому времени, я как будто бы стал немного скучать по вкусу ледяной Балтики Сэвен. Никто даже не заикнулся о неудачном покушении Фанни на Ленина и трех трупах, которыми кончилось дело. Всем было плевать на это, ведь, в конце концов, до убийства вампира так и не дошло. А дело было так. Фанни явилась к Воскресенским воротам в пятницу днем, в канун шаббата, в самый разгар часа пик, в самое удачное время для туристов, и самое неудачное для вампиров, ведь силы вампира просыпаются с заходом солнца. С другой стороны, это было и ее преимуществом, ведь как раз таки под солнцем Ильич был больше всего беззащитен. Был какой-то там очередной праздник. Триколоры, музыканты, фонарики, ленточки, сцена на Красной площади – парадный фасад режима, за которым в толпе туристов и пятничных клерков скрывались бойцы росгвардии и автозаки. Ильичу не хватало общения с народом, который вот уже почти сто лет отказывался его хоронить. Он любил его, своей особой любовью, как только может любить убийца, тиран и вождь, для которого цель всегда оправдывает средства. Именно поэтому он подыскал себе эту работу. Когда Фанни явилась на место, она сразу его заметила. Но не одного, а сразу четверых. Пули у нее было тоже четыре, и в этот раз нельзя было всадить все четыре в одну цель, ведь шанса на ошибку не было ни единого, а свет солнца не позволял различить, который из двойников был настоящим. Вместе с двойником царя Алексея Михайловича и парочкой Сталиных, они развлекали народ за рамками металлоискателей на нулевом километре у самого входа на площадь. Понаблюдав немного, Фанни обратила внимание на то, что один из двойников отказывается фотографироваться с туристами. Так она вычислила своего вождя, и уже было ринулась к нему, как вдруг металлоискатель загорелся кроваво-красным, и двое росгвардейцев попросили выложить содержимое карманов на стол. Она не сводила глаз с цели, но в толпе все смешалось. Двойники были одеты совершенно одинаково, и теперь ей снова нужно было время, чтобы вычислить Ильича. Она замешкалась, и ее уже отвели в сторону и настойчивее попросили предъявить содержимое карманов, надетого не по погоде пальто. Игнорируя требования полицейских, которые не удосужились даже представиться, она выхватила браунинг и, сиганув через ограждение, ринулась в толпу. «С днем Госсии, товагищи, с пгаздником!», – были последние слова первого среди застреленных. За ним свалились еще двое. Услышав выстрелы, гвардейцы потянулись за табельными пистолетами. Началась паника. Сталин прятался за спиной царя, а царь за женщину из народа. Трое близнецов Ильича упали ничком, истекая кровью. Кровь текла по брусчатке прямо к ногам Фанни. Это была теплая кровь – кровь живых. Так Фанни поняла, что облажалась, а настоящего Ленина уже след простыл. Вооруженные росгвардейцы, тем временем, пробирались через толпу. Убрав револьвер, Фанни со всех ног помчалась сквозь площадь, мимо ГУМа и мавзолея, где в каждом прохожем ей мерещилась улыбка вождя. Ей удалось раствориться в толпе, прежде чем до полицейских полков с той стороны площади дошла весть о стрельбе. На камеры Фанни, разумеется, не попала – не могла, и следствие, не успев начаться, зашло в тупик. Три Ильича скончались в реанимации. Кончилось все, как обычно – салютом. Когда я спросил, ей было уже все равно. – Какое это теперь имеет значение? – говорила она, приторно улыбаясь. – Больше он там не появится. С этим покончено. Должно быть, Соло был прав на ее счет. Стерпится – слюбится. Типичная женщина, все такое.

Сказать, что я снова попал в плохую компанию – ничего не сказать. Но это, похоже, был мой выбор. Никто ведь не рождается сразу мудаком. Нет, это нужно уметь. А чтобы уметь, надо сперва научиться. Как говорит Соло, все мы созданы по образу и подобию, включая самого Люцифера. А ведь даже он когда-то был, вроде бы, падшим ангелом. Но он-то вместо крыльев получает рога и копыта, а человек, как червивое яблоко, всего-навсего, гниет изнутри. И, все таки, если даже в такой куче дерьма, как человечество, раз в сто лет можно найти хоть одного достойного, то, наверно, то же можно сказать и о вампирах. Но речь, разумеется, не обо мне. В летнем кинотеатре в саду Эрмитаж в честь закрытия сезона крутили ретроспективу Скорсезе. К тому времени, усилиями Фанни, я уже придрочился к кинематографу, и смотрел с удовольствием. Лето выдалось мокрое, так что и «Таксиста» пришлось смотреть через стену дождя. Дождь, правда, не помешал празднованию дня десантника, и в фонтане неподалеку до самой поздней ночи шумно плескались пьяные в стельку голубые береты, которых уже взяли на мушку местные вампиры-исламские фундаменталисты, которым почему-то было в кайф просто мудохать их до полусмерти. Роберт Де Ниро беседовал со своим отражением в зеркале, а мы держались за руки и по-черному ему завидовали. Да уж, погано быть живым мертвецом. Ни тебе собственного отражения, ни вкуса шампанского, ни радости горячего душа, ни уж тем более струйных оргазмов. Один голод. И я все гадал, каков же на вкус этот сучий лобстер. Все чаще мне снились мои дружбаны. Дошло до того, что я понял, что даже они мне были не безразличны и, что мне совсем не хочется их забывать. Я стал записывать и эти сны в свой дневник, ведь кроме воспоминаний мне ничего не осталось. Со всеми своими заболеваниями, передающимися половым путем, алкогольными отравлениями, наркотическими передозировками, проваленными экзаменами, и сбитыми в кровь костяшками пальцев, они почему-то были мне дороги, как никогда. Когда уползли титры, десантники уже укатили в реанимобиле, и дождь перестал. Я схлопнул зонт, и мы дотопали до Патриарших. В пруду крутился уродивый черный селезень. День был хороший. Я стиснул Фанни в объятиях. Она прошептала: – Я тебя кое о чем попрошу. Но сперва пообещай, что не откажешь. – Не годится, – заулыбался я. – Я никогда не подписываю, не прочитав. Последнее, разумеется, было неправдой. – Сделай для меня исключение, – улыбнулась Фанни и накрыла мои глаза ладонью, как будто мы играли в «угадай кто». – Обещаешь? – спросила она. Я кивнул, не хотя. Через секунду в руке у меня оказался браунинг. В нем оставалась еще одна пуля. Она шепнула: – Вампир не может покончить с собой… – Ну нет. На это я не подписывался. – Ты обещал. Она сама положила на курок мой палец, сама прицелилась прямо в сердце, и открыла мои глаза. Лицо ее уплывало. Она улыбнулась. Она поцеловала меня. Раздалась вспышка, вылетела гильза, и глаза были на мокром месте от пороховой пыли. Я нажал на курок, и она просто исчезла. Никаких спецэффектов. Просто была, и вот теперь нету. От звука выстрела, селезень-урод перепугался и улетел. Из его клюва сыпались ругательства. Я бросил револьвер в воду и потопал домой.

На той неделе я был дежурным, и сперва мне пришлось забежать на станцию переливания, а затем еще в химчистку. Платье Фанни по дороге я выбросил в Яузу и, наблюдая за тем как оно растворяется в мутной грязной воде, прочитал изкор – поминальную молитву. На крыльце нашего склепа я обнаружил свой дневник. На самой его обложке была новая запись: УБИРАЙСЯ ПРОЧЬ УБИЙЦА ВАМПИРОВ ТЫ ИЗГНАН НАВЕКИ. Написано кровью. Я тут же вспомнил, что единственное преступление среди вампиров – убийство себе подобного и потерял самообладание. Жалкой собакой я скребся в дверь, и стучал дверным молотком, и молил о прощении, до тех пор, пока не взошло солнце. Когда на кладбище стали появляться служащие, я притворился ранней пташкой, поправляя венки на одной из свежих могил, и затем скрылся. День я провел, слоняясь по улицам под палящим солнцем, в сыром и чумазом костюме. Из-за жары к вечеру кровь в транспортной сумке, которую я не донес домой, спеклась и свернулась. В результате, сумку полную образцов пришлось бросить в Макдональдсе на Маросейке. Уже через полчаса Макдональдс оцепила полиция. За день я нарушил больше правил шаббата, чем за всю свою загробную жизнь. Я ездил в автобусах и трамваях, перечитывал свой дневник и в бреду писал неясные матерные послания, оставшейся в одной из пробирок кровью, пальцем на стенах домов. Мне некуда было податься. Фанни была мертва. Режим сна окончательно сбился, нужно было где-то поспать, и пару ночей я провел в голубятнике во дворах Покровки в образе ворона. От бессилия, ворон вышел посредственный и неправдоподобный, так что другие птицы меня сторонились. Я питался только их кровью и кровью крыс и бродячих собак. Через две ночи голубятник совсем опустел. Птицы спасались бегством, и мне тоже пришлось, чтобы птичник меня не вычислил. Я пробовал вторгаться в чужие жилища, используя трюк с домофоном, но никто меня не пустил. Сны приходили теперь уже каждую ночь: сотни лиц, событий, звуков и запахов. Но мне хватало сил только на то, чтобы ежедневно перечитывать свой дневник, а не дополнять его. Все больше и больше я походил на тупого зомби. У меня была ломка по человеческой крови, и я был слаб. Я готовился к смерти, когда вдруг, на страницах моего дневника мне не повстречался Макс Танцев. Я снова вспомнил, что когда-то у меня были друзья, а он был лучшим среди них. По крайней мере, так было сказано в дневнике. Добравшись до нужного дома, я вычел из дневника номер домофона и позвонил. Макс сразу узнал мой голос. Когда я был еще на пороге, он уже поставил чайник и одну из своих пластинок. От чая я отказался, но на это он не обратил никакого внимания. Намного интереснее ему было узнать, где я пропадал, и почему шляюсь по городу в таком виде. Я выдумал что-то, лишь бы он отвязался, и он уложил меня спать. Поспать удалось немного – всего несколько часов, пока он мастерил очередную пластинку в темноте своей каморки. Он уснул прямо за работой, а я проснулся от голода… Это было самое подлое из всех убийств. Оставаться в его коммуналке было нельзя, соседи быстро заподозрили бы неладное. Я наспех прочитал изкор (кроме молитв, я уже ничего не мог вспомнить), нацепил его одежду и скрылся. Выглядел я теперь гораздо лучше, и чувствовал себя тоже, но меня уже снова одолевал первобытный страх перед следующей ночью, и я снова тянулся к своему «меню», которым для меня служил дневник убийцы вампиров. Следующей ночью было решено отправиться к Яне Кошкиной. В дневнике было сказано, что она в меня влюблена. Я встретил ее после пар, как будто случайно. Она чуть не описалась от счастья. Сказала, что переживала, когда я исчез, безумно скучала и бла-бла. Мне даже пришлось с ней сходить на, так называемое, свидание, прежде чем мы оказались у нее дома. Так, ничего особенного: потолкались на выставке, посидели в ресторане на летней веранде. – Совсем ничего не закажешь? Даже не выпьешь? Ты что совсем не голоден? Голоден я был как последний мудила. За ужин платила она. Она же и была моим ужином. У подъезда Кошкина какое-то время еще поломалась. – Ну, доброй ночи. – Что, даже не пригласишь меня? – Как-нибудь в другой раз. – на ее лице застыла ломаная улыбка. Потом был прощальный поцелуй, во время которого я так дико облизал ее шею, что мы все-таки поднялись. По ее груди и плечами вились вьюны мурашек, она была уже почти совсем готова. – О, Стас, я так хочу тебя… – и все такое тому подобное. Алкоголь и бешеная прелюдия сделали свое дело. Подогретая похотью и бокалом вина кровь. Нет ничего вкуснее. – Я хочу тебя, я так хочу тебя, но ничего не выйдет, слышишь? Сейчас не самое подходящее время, слышишь? У нее были месячные. Вот в чем было дело. Я решил, что так даже лучше. Отодвинул кружевные трусики и выпил как сок через трубочку. Она умерла с удовольствием. Когда я закончил, ее ноги еще дрожали. В меню оставались еще несколько блюд. Это друзья сделали меня таким. Плохая компания. Теперь, они должны были умереть. Первым мне повстречался Венечка Водкин. Он сидел, как обычно, с разбитым ебальником на заборе у рюмочной. Он был в слюни пьян, по его лицу стекала этиловая кровь, и, похоже, был сломан нос. Первое, что он сказал мне, отхаркиваясь, было: – Ох ты ж бля, Палачов. Ну нихуясе. Какие люди. Ну-ка давай-ка, помоги мне. Ты ж клятву Гиппократа давал, ебтвою. Я приторно улыбнулся. – Не, не успел еще. У него были ключи от каршеринга, и я предложил подбросить его до травмопункта. Водительских у меня не было, ну а у него не было выбора. Всю дорогу он стонал и истекал кровью, до тех пор, пока на светофоре я не всадил в него пару своих изрядно отупевших клыков. По вкусу сраный неудачник был похож на вино из пакета. На второе были Миша Халтурин и Пучинян. Они рейвили в Мутаборе. Мне удалось вытянуть их под предлогом покатушек по ночному городу. Они чуть не обосрались от счастья, увидев меня, но все-таки не обосрались. Их я прикончил в автомобильном тоннеле. Они были просто накачаны мефедроном, и мне сорвало крышу, но я все же заметил, что по вкусу Нарек напоминал дешманский коньяк. Водкин лежал в багажнике. На заднем места совсем не было, так что пришлось сделать небольшую перестановку: разделать их туши саперной лопаткой, валявшейся в бардачке, и уложить покомпактнее. На десерт была Соня Мышкина. Она торчала у себя дома, вместе со своим бойфрендом. Тот вернулся из армии в звании ефрейтора. Знаете, как говорят «лучше дочь проститутка, чем сын ефрейтор», так вот тут был полный комплект. Я прикончил обоих, все той же лопатой и тут же разобрал их на части. По вкусу они были как джин, перемешанный с выдохшейся колой. Клим Кошелев оказался в родительском трехэтажном доме в Барвихе совершенно один. Пробраться туда было сложнее всего. Меня не слабо досталось от сторожевого пса, но, в конце концов, я свернул кабелю шею и затем разделался с его хозяином. Я застал его за попыткой суицида. Он повис в петле, закрепленной за перила лестницы, ведущей на второй этаж, весь синюшный. Когда я снял его, он был готов, на радостях, кажется, отсосать мне. Но долго радоваться не пришлось. По вкусу он был похож на то самое, мерзкое пиво индиан пэйл эль, которым он был накачан по умолчанию. Когда с этим было покончено, я отвез всю колоду к ближайшей помойке и долго не мог разобраться, че с ними делать. Раздельный сбор мусора, все дела. К такой задачке мои спекшиеся мозги были уже не готовы. Почесавшись, я скинул попутчиков в серый контейнер, а машину оставил в лесу. Когда встало солнце, я дотопал до старого доброго прудика возле университета, где любил покормить уточек. Прудик облагородили, птичкам построили домик и все такое. И вот уже мама утка с утятами снова трудились перепончатыми лапками, рисуя круги на воде. Вот только от меня они держались подальше, ведь меня полоскало отравленной кровью с пирса прямо в воду. Я был слишком плох даже для тупорылого зомби. Рядом стояла девочка, лет шести. – Дядя, с вами все в порядке? Я кивнул и сплюнул очередной шматок густой свернувшейся крови. – Лучше не бывает. Девочка поморщилась. В руках у нее был батон белого хлеба. Она отламывала по чуть-чуть с верхушки и угощала им все утиное семейство. – Девочка, не корми уток хлебушком, – пробормотал я. – Они заболеют. – А вам-то откуда известно? – нахмурилась девочка, поправляя на носу очки. – Известно. – отвечал я, дрожащими руками вцепившись в свой заблеванный дневник. По штанине сбежала теплая струйка. Странно, да? Вампиры ведь не испражняются. Через плечо я почувствовал присутствие какой-то третьей фигуры. Девочка тоже посмотрела туда и расстоврилась в тени. Глядя на меня, фигура, отбрасывающая тень, страшно поморщилась, и произнесла, приложив к козырьку ладонь: – Сержант полиции Обломов. Предъявите документики.
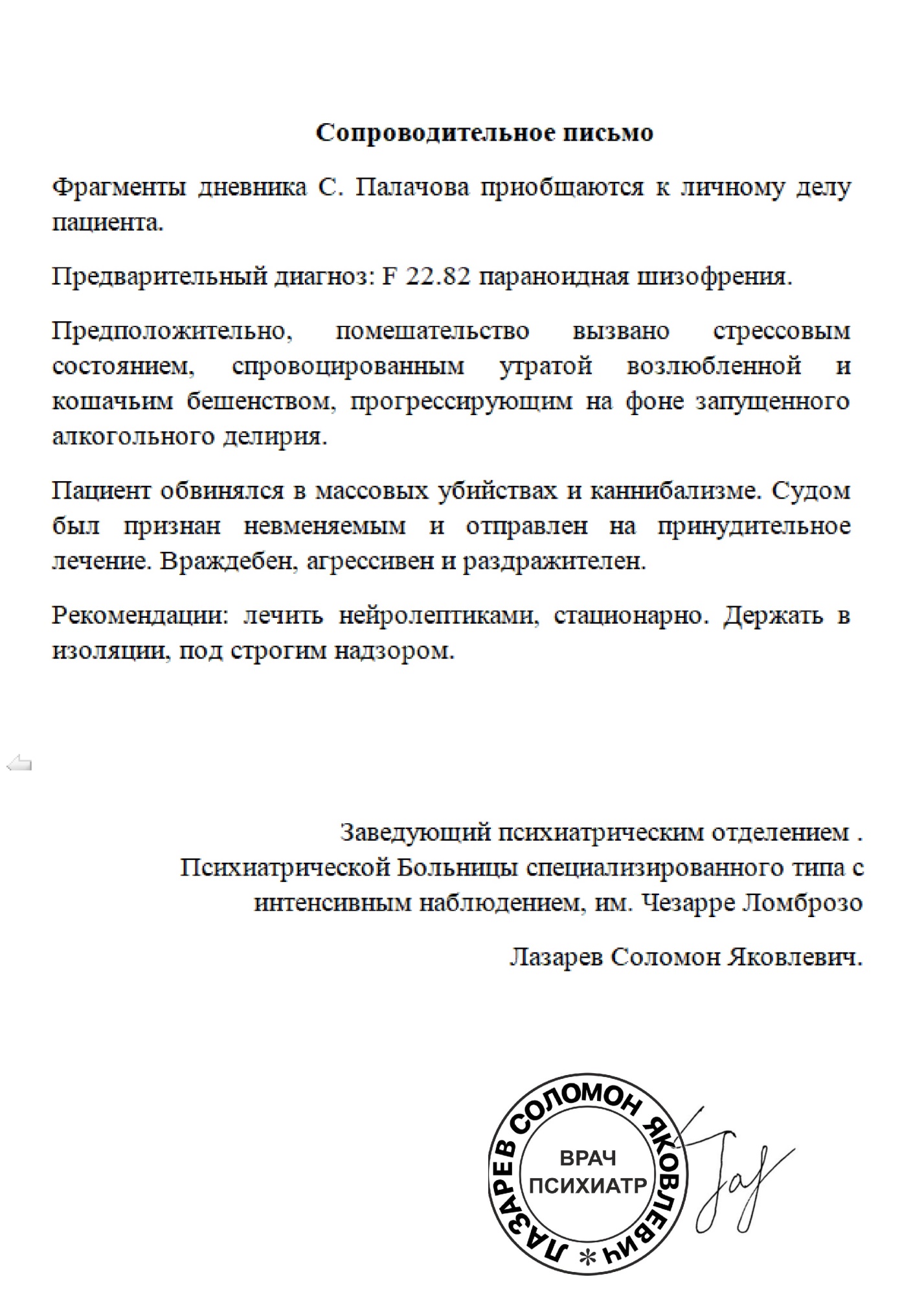

Последние комментарии
1 час 21 минут назад
5 часов 29 минут назад
5 часов 46 минут назад
6 часов 7 минут назад
8 часов 48 минут назад
16 часов 12 минут назад