Могучий русский динозавр. №3 2023 г. [Литературно-художественный журнал] (fb2) читать онлайн
- Могучий русский динозавр. №3 2023 г. 2.69 Мб, 94с. скачать: (fb2) читать: (полностью) - (постранично) - Литературно-художественный журнал
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Могучий Русский Динозавр № 3 2022 г
Пройдёмте Павел Тюлькин
 Ночью мы с друзьями возвращались домой кое с чем, и нас вдруг окликнули полицейские. Они вели под руки пьяного мужика средних лет. Тот плакал и кричал, что ни в чём не виноват. Шёл снег.
Сотрудники дружелюбно подозвали нас: «Ребят, не поможете?»
Несмотря на всё уважение к государству, мне не очень хотелось в это вмешиваться. Тем более сейчас. Поэтому я ответил: «Извините, но мы торопимся». Тогда один полицейский резко огрубел и вдруг крикнул: «Так, пройдёмте! Это ненадолго».
Я повторил, но уже тихонько: «Извините, мы очень торопимся», а мои приятели неожиданно оказались более сознательными гражданами и шагнули навстречу Российскому правопорядку. Сказали мне: «Да давай, недолго». Так мы и наше кое-что оказались в полицейской будке. Внутри было довольно уютно. Из-за решётки слышались хриплые крики возмущения.
Задержали мужика за то, что он помочился в неположенном месте. Нас просили подписать бумаги о том, что он сильно пьян и находится в неадекватном состоянии. Мужик в это время кричал, что если мы хоть одну закорючку поставим, то это будет означать, что мы мусорнулись. Слышать это было очень неприятно, ведь мы понимали, что он прав, но страх перед российской полицией – чувство более сильное.
Мы оставили свои подписи, и тут полицейский-главарь сказал: «Ну что, ребята, так просто я вас не отпущу».
Оказалось, в будку нас позвали вовсе не в качестве понятых, а потому, что одного из нас – моего приятеля Рому – подозревают в хищении трёх тонн железа. Всё дело в его зелёной куртке. Полицейскому показалось, что она очень похожа на куртку грабителя. В целом согласен, но не садить же за это в тюрьму.
Мы попросили разъяснений. Полицейский ответил: «Ну вот, смотрите», – и показал нам с телефона видео, где трое парней, перекинув через плечо верёвки, медленно волокли что-то по снегу вдоль железной дороги. Никто из них не был в куртке зелёного цвета.
Нам объяснили, что через полчаса приедет машина, которая отвезёт нас в отделение. Она приехала через три часа, но для начала нас нужно было обыскать.
Обыскивали не сказать чтобы тщательно (кое-что не нашли), но у второго моего приятеля обнаружили колюще-режущее оружие – циркуль. Его тут же изъяли, и больше мы его не видели. Чем Андрюхе теперь рисовать окружности – непонятно.
Коп, который обманом заманил нас в своё логово, попрощался. Я этому был только рад. Мы поехали в отделение.
Лампочки излучали тусклый свет. Мимо решёток, за которыми мирно похрапывали задержанные, нас повели в комнатку для снятия отпечатков пальцев, а потом сопроводили в кабинет на втором этаже.
В кабинете был один шкаф, один календарь за 2016 год, один стол, на нём компьютер, рядом со столом кресло и стул, на которых разместилось по полицейскому, а напротив, у стены, ещё пять стульев, на три из которых присели мы – подозреваемые в хищении трёх тонн железа.
Полицейские включили то видео, на котором была запечатлена кража, и стали смотреть то на экран, то на нас, то на экран, то на нас… Так продолжалось минуты две. Потом они переглянулись. Тот, что сидел в кресле, сказал: «Ну-ка пройдитесь от стены до стены». Мы встали, прошлись, сели. Полицейский хихикнул и сказал: «Учитесь где-то, ребят? Скоро не будете».
Мои друзья начали паниковать. Есть, конечно, вероятность, что мой мозг дорисовал это воспоминание, но кажется, Рома тогда даже воскликнул: «Да ладно?!» Я же в это время был довольно спокоен, потому что не верил в происходящее, и в итоге неожиданно сам для себя сказал: «Да он прикалывается!»
Повисла тишина, которая длилась на самом деле две секунды, но для меня в тот момент эти две секунды растянулись на три (я всё ещё не очень волновался).
Один из полицейских нарушил молчание: «Ну что он, придурок совсем?..» Тут я уже начал переживать больше, но коп вовремя продолжил: «Видно, что не они, сколько можно?»
С нами ещё мило поболтали о том, откуда мы родом и на кого учимся, оформили какие-то бумаги, и в шесть утра мы и наше кое-что были на свободе.
Ночью мы с друзьями возвращались домой кое с чем, и нас вдруг окликнули полицейские. Они вели под руки пьяного мужика средних лет. Тот плакал и кричал, что ни в чём не виноват. Шёл снег.
Сотрудники дружелюбно подозвали нас: «Ребят, не поможете?»
Несмотря на всё уважение к государству, мне не очень хотелось в это вмешиваться. Тем более сейчас. Поэтому я ответил: «Извините, но мы торопимся». Тогда один полицейский резко огрубел и вдруг крикнул: «Так, пройдёмте! Это ненадолго».
Я повторил, но уже тихонько: «Извините, мы очень торопимся», а мои приятели неожиданно оказались более сознательными гражданами и шагнули навстречу Российскому правопорядку. Сказали мне: «Да давай, недолго». Так мы и наше кое-что оказались в полицейской будке. Внутри было довольно уютно. Из-за решётки слышались хриплые крики возмущения.
Задержали мужика за то, что он помочился в неположенном месте. Нас просили подписать бумаги о том, что он сильно пьян и находится в неадекватном состоянии. Мужик в это время кричал, что если мы хоть одну закорючку поставим, то это будет означать, что мы мусорнулись. Слышать это было очень неприятно, ведь мы понимали, что он прав, но страх перед российской полицией – чувство более сильное.
Мы оставили свои подписи, и тут полицейский-главарь сказал: «Ну что, ребята, так просто я вас не отпущу».
Оказалось, в будку нас позвали вовсе не в качестве понятых, а потому, что одного из нас – моего приятеля Рому – подозревают в хищении трёх тонн железа. Всё дело в его зелёной куртке. Полицейскому показалось, что она очень похожа на куртку грабителя. В целом согласен, но не садить же за это в тюрьму.
Мы попросили разъяснений. Полицейский ответил: «Ну вот, смотрите», – и показал нам с телефона видео, где трое парней, перекинув через плечо верёвки, медленно волокли что-то по снегу вдоль железной дороги. Никто из них не был в куртке зелёного цвета.
Нам объяснили, что через полчаса приедет машина, которая отвезёт нас в отделение. Она приехала через три часа, но для начала нас нужно было обыскать.
Обыскивали не сказать чтобы тщательно (кое-что не нашли), но у второго моего приятеля обнаружили колюще-режущее оружие – циркуль. Его тут же изъяли, и больше мы его не видели. Чем Андрюхе теперь рисовать окружности – непонятно.
Коп, который обманом заманил нас в своё логово, попрощался. Я этому был только рад. Мы поехали в отделение.
Лампочки излучали тусклый свет. Мимо решёток, за которыми мирно похрапывали задержанные, нас повели в комнатку для снятия отпечатков пальцев, а потом сопроводили в кабинет на втором этаже.
В кабинете был один шкаф, один календарь за 2016 год, один стол, на нём компьютер, рядом со столом кресло и стул, на которых разместилось по полицейскому, а напротив, у стены, ещё пять стульев, на три из которых присели мы – подозреваемые в хищении трёх тонн железа.
Полицейские включили то видео, на котором была запечатлена кража, и стали смотреть то на экран, то на нас, то на экран, то на нас… Так продолжалось минуты две. Потом они переглянулись. Тот, что сидел в кресле, сказал: «Ну-ка пройдитесь от стены до стены». Мы встали, прошлись, сели. Полицейский хихикнул и сказал: «Учитесь где-то, ребят? Скоро не будете».
Мои друзья начали паниковать. Есть, конечно, вероятность, что мой мозг дорисовал это воспоминание, но кажется, Рома тогда даже воскликнул: «Да ладно?!» Я же в это время был довольно спокоен, потому что не верил в происходящее, и в итоге неожиданно сам для себя сказал: «Да он прикалывается!»
Повисла тишина, которая длилась на самом деле две секунды, но для меня в тот момент эти две секунды растянулись на три (я всё ещё не очень волновался).
Один из полицейских нарушил молчание: «Ну что он, придурок совсем?..» Тут я уже начал переживать больше, но коп вовремя продолжил: «Видно, что не они, сколько можно?»
С нами ещё мило поболтали о том, откуда мы родом и на кого учимся, оформили какие-то бумаги, и в шесть утра мы и наше кое-что были на свободе.
Баб Вер Валерий Андронов
 Электричка из Девяткино отходила в 12:10, и у Сергея было время зайти в рюмочную и выпить водки. Жена его этого не одобряла, но теперь это не имело ровно никакого значения. Заказал сто граммов водки, бутерброд с килькой и кружку пива – малый джентльменский набор. Уселся среди таких же страждущих, как и он сам, за длинный и липкий деревянный стол, молча кивнув головой: мол, привет, ребята. Никто не обратил на него внимания: делом люди были заняты – похмелялись. Сергей не похмелялся: это была ежедневная процедура – приём горького, но необходимого лекарства, после которого душевная боль, с которой он жил последнее время, хоть немного отступала и притуплялась. Но не исчезала до конца, не пропадала – сидела в нём крепко и терзала, терзала и днём, и ночью.
В электричке Сергей заснул, и ему приснилась жена. Они ехали на велосипедах с дачи на озеро снова вместе – по песчаной, плотно утрамбованной машинами жёлтой дороге. Жена впереди, он – чуть отставая и правее. Яркое полуденное солнце золотило стволы сосен, полутени ложились на глаза, велосипеды мягко пружинили на песке и поскрипывали. Съехали с горки к озеру и, распугав уток, через песчаный пляж поехали прямо по воде, сине-серо-зелёной, к дальнему берегу, заросшему осокой и высоченными соснами. Из-под передних колёс расходились буруны, брызги летели во все стороны, и радуги вспыхивали и гасли между спиц. А потом он заметил, что невидимая глазу дорога, по которой ехала его жена, пошла как бы под горку, и её велосипед стал медленно уходить в воду, очень медленно и плавно. Жена обернулась к нему и улыбнулась, а он закричал ей, чтобы она прыгала с велосипеда, но она продолжала крутить педали, всё глубже и глубже погружаясь в воду. Он попытался соскочить со своего велосипеда, но не смог – и от бессилия только продолжал бешено жать на педали, пытаясь догнать уходившую от него жену, и кричал, кричал, кричал…
– Мужчина! Мужчина! – кто-то настойчиво теребил его за плечо. – Проснитесь, мужчина!
Сергей открыл глаза и увидел встревоженное лицо женщины, сидевшей напротив него. Это она его разбудила.
– Вам, наверное, что-то приснилось – что-то нехорошее: вы так… – женщина запнулась, подбирая слова, – страшно мычали.
– Да, спасибо! – он ещё не отошёл ото сна и водил очумелыми глазами по полупустому вагону. – Приснилось…
Посмотрел на проносившиеся за окном пейзажи: сосны, светло-коричневым забором выстроившиеся вдоль железной дороги, берёзы и осины, встроившиеся в этот забор, и высоченные зонтики ядовитого борщевика. Лужицы озёр, полустанки с опущенными журавлями шлагбаумов, дома, домики и домищи дач, и снова сосны. Оно и неудивительно – это же Сосновское направление. Сколько раз они вместе с женой ездили этой дорогой, а вот теперь он едет один, и ничего не изменилось.
Сергей сказал женщине ещё раз «спасибо», встал и, закинув на плечо рюкзак, пошёл к выходу – приближалась его станция. В тамбуре достал из куртки пачку сигарет и зажигалку и, как только двери разошлись, сошёл на потрескавшийся, выщербленный асфальт перрона и с наслаждением закурил. Электричка тоскливо и пронзительно вскрикнула у него за спиной, захлопнула двери и ушла по своим железнодорожным делам. А он так и остался стоять в одиночестве на краю перрона, вдыхая запах леса, загородного воздуха и табака. Решал, как ему идти к даче – лесом или через посёлок? Докурил, растёр окурок ногой и пошёл вдоль железной дороги, постепенно забирая влево: через подлесок к хлипкому мостку через безымянный ручеёк, по тропинке, вьющейся между невысокими ещё деревцами. Поднялся в горку и вышел на одну из многочисленных улиц дачного посёлка, от магазина повернул налево и через пять минут оказался у своей дачи. Постоял у калитки, тупо глядя на древний кодовый замок, заботливо накрытый пластмассовым горлышком бутылки из-под чего-то минерального. Кода Сергей не знал – замок всегда закрывала жена, а он всегда смеялся над этим и говорил, что вора этим не остановить. Снял рюкзак, протиснулся в щель между забором и калиткой, замаскированную лапами росшей у забора ели, и пошёл к дому.
Этот дом начинал строить дед Сергея ещё в прошлом веке. Сначала это был маленький домик в одну комнатку с маленькой же верандой. Потом повзрослевший отец Сергея пристроил ещё две комнаты и расширил веранду. Позже старший брат Сергея надстроил второй этаж. Дом как будто бы сам по себе рос вместе с его обитателями, вместе с ними взрослел и старился. Когда одни уходили, вместо них появлялись другие: дом знал минуты скорби и радости, звучали в нём детские голоса и старческое брюзжание, собачий лай и мяуканье кошек. По утрам он просыпался под пение птиц и засыпал вечерами под бормотание телевизора. И всем без исключения дарил покой, уют и своё тепло. Сейчас дом был зелёного цвета, когда-то – синим, а одно время даже радостно-жёлтым. Сергей на ходу достал ключи, отпер входную дверь, и аура дома – хоть и родного, но пустого – прокралась к нему в сердце. Дом молчал, словно затаился в ожидании гостей: наверное, ему тоже было одиноко, и он скучал. Сергей сразу же развил бурную деятельность: сбросил рюкзак на диван, включил газ и поставил чайник греться на плиту, прошёлся по первому этажу и везде раздёрнул шторы. По скрипучей лестнице, стараясь не наступить на сломанную третью ступеньку, поднялся на второй этаж и здесь тоже распахнул все окна. Вставил в магнитолу диск Deep Purple, и, когда зазвучали пронзительные аккорды знаменитого рифа из ‘Smoke On The Water’, дом вздрогнул – открыл глаза и стал просыпаться после долгого забытья…
Чайник закипел и громко свистнул, как заблудившаяся в ночи электричка. Сергей ещё немного постоял у окна на втором этаже, глядя на соседний участок, – похоже, что и там тоже кто-то появился (из трубы дома шёл дым), – и спустился вниз. Нашёл в старом и обшарпанном буфете банку кофе, кружку и сахар. Заглянул и в холодильник на всякий случай – пусто, как в колхозном амбаре. С кружкой в одной руке и пачкой сигарет в другой вышел на улицу и присел на скамеечку, примостившуюся справа от крыльца. Короткими глотками пил горячий кофе и смотрел на высоченную старую берёзу, росшую напротив дома. Скворечники, которые вешал на дерево ещё отец Сергея, совсем развалились, и скоро, судя по всему, осыплются трухой на землю. Отец рассказывал ему, что раньше, когда дед только получил этот участок, на нём росло очень много берёз. По мере строительства дома дед валил берёзы на дрова, и сейчас их осталось всего лишь две.
Сергей закурил, откинулся спиной на стену дома, и это будничное движение неожиданно напомнило ему одну так до конца и не понятую историю.
Они с женой частенько сиживали на этой скамеечке: Сергей обычно обнимал жену за плечи, она прижималась к нему – так и сидели, греясь на солнышке. И однажды прилетела птица, да где там птица, так – птичка. Маленькая, серенькая. И зависла в воздухе примерно в метре, прямо напротив их лиц. Поражённые этим дивом, они с женой замерли, а птичка висела в воздухе, трепеща крыльями, и внимательно разглядывала их, как-то механически поворачивая малюсенькую головку то в одну, то в другую сторону. Как бы спрашивая: «Вы кто? Вы здесь зачем?» Потом сорвалась и упорхнула в сторону, но тут же вернулась и снова зависла, рассматривая их по очереди то одним, то другим глазом. Повисела, посмотрела, и они на неё успели налюбоваться, а потом полетела куда-то дальше. То, что колибри умеют так делать, Сергей с женой знали, но чтобы местные птицы были способны на подобное… чудеса!
Сергей вернулся в дом, поставил пустую кружку на стол и пошёл в комнату жены, хотя и знал, что делать этого ему не надо бы. Не стоило ворошить былое, зачем тревожить больное, и так истерзанное сердце? Но всё равно пошёл, потащился, как на Голгофу. Вошёл и застыл в дверях: здесь тоже ничего не изменилось – ну почему, почему ничего не изменилось?! Это неправильно, так не должно быть! Раскрыл платяной шкаф, и запах – запах его жены, её духов, её тела, – как сладкий яд, проник в него. Схватил первое попавшееся под руку платье, прижал его к лицу, вцепился в ткань зубами и завыл совсем уже по-собачьи, присев возле шкафа на корточки. Безумие накрыло Сергея: вцепилось в кадык, выдавило из глаз слёзы и прибавило решительности – он швырнул платье обратно в шкаф и выскочил из комнаты. В узком коридорчике ногой отбросил в сторону разноцветный коврик, поднял три половицы, под ними обнаружились две бетонные плитки, – вытащил их и по крутой лестнице полез в подпол.
Нащупал выключатель, и неяркая лампочка вспыхнула под потолком. Справа от лестницы шли полки, на которых стояли пыльные бутылки с яблочным вином – результат многолетних винодельческих усилий отца Сергея, – банки с вареньем, маринованными огурцами и помидорами; а вот слева в стену был вмурован сейф. Не новомодный, с электронным замком и кучей разных прибамбасов, а старый, ещё советский, несгораемый и весом, наверное, с полтонны. Где его достал дед, как он умудрился притащить сюда это чудовище – один Аллах знал! Вообще-то, по этому подполу видно было, что война, которую дед прошёл от начала и до самого конца, так и не отпустила его. Потому что получился у него не подпол, не подвал, а чуть ли не полноценное бомбоубежище – с бетонными стенами, полом и потолком, с вентиляцией и водопроводом. А в сейфе с незапамятных времён хранился НЗ, собранный дедом. Ключ мягко вошёл в скважину: Сергей три раза провернул его в замке сейфа, опустил вниз здоровенную ручку и потянул на себя дверцу толщиной, наверное, сантиметров десять. Всё было на месте: пятилитровая канистра чистого спирта, пачки соли в полиэтиленовых пакетах, большие коробки спичек (тоже в полиэтилене) и ещё один пакет, за которым Сергей сюда и залез. С пакетом в руке выбрался из подпола, прошёл на веранду, сел за стол и положил пакет перед собой. Последний раз он держал его в руках лет десять назад: из первого пакета вытащил второй, а уже из него достал нечто, завёрнутое в промасленную тряпку. Положил на один из пакетов и аккуратно раскрыл: на тряпке лежал наградной дедовский ТТ с двумя полными обоймами, во всей своей хищной красоте.
Дед закончил войну под Берлином и вернулся домой с тремя ранениями, двумя контузиями, орденами Красного Знамени и Славы, кучей медалей и вот этим пистолетом. Сергей помнил, как в детстве бабушка давала ему играться этими медалями, а вот куда все награды делись потом – этого Сергей не знал. Дед умер в девяносто четвёртом году, и пистолет должны были изъять. Но не изъяли, что и неудивительно, если вспомнить тот бардак, что творился в те годы в стране. А сдавать его добровольно никто и не собирался, опять же учитывая всё тот же бардак. И факт остаётся фактом: все медали и ордена деда пропали, а пистолет – вот он, лежал перед ним. Сергей взял пистолет в руку и ощутил его приятную и убийственную тяжесть: снял с предохранителя, передёрнул затвор и, отведя руку в сторону и вниз, нажал на спусковой крючок. Мягко щёлкнул курок – пистолет был хорошо смазан и, несмотря на возраст, работал вполне надёжно. Сергей ещё раз передёрнул затвор и прицелился в зеркало, вставленное в дверку буфета. А мысленно вставил обойму, передёрнул затвор, засунул ствол пистолета себе в рот и нажал на спуск. И всё – боли больше нет! И всё?! Да если бы знать – всё или не всё?! Это конец его мучений или только их начало? Нет ответа…
Какие-то непонятные звуки с соседнего участка вывели его из состояния ступора: то ли кто-то рубил дрова, то ли ломал их через колено. Сергей завернул ТТ в тряпку, засунул в пакет и отнёс его в свою комнату. Посмотрел в окно и выругался вполголоса: на соседнем участке баба Вера пыталась рубить дрова, а годов ей было, если Сергей не ошибался, где-то за девяносто. Что и говорить: удивительные вещи порой творит Создатель с людьми, награждая (или карая?) их долгой жизнью…
Торопливым шагом пересёк лужайку позади его дома, заросшую травой, мимо общего с бабой Верой колодца, вдоль недостроенной беседки – прямо к бабе Вере, неловко орудовавшей топором. Перехватил в воздухе занесённое топорище:
– Здравствуй, баба Вера! Давай-ка помогу!
– Ой! – испугалась старуха. – Хто ето?
Пригляделась подслеповато через смешные круглые очки: одна дужка у очков отсутствовала, и вместо неё была привязана чёрная верёвочка.
– Серёжка! Ты, што ли?
– Я, баб Вер, я! – Сергей уже держал в руках её топор. – Давай лучше я дров нарублю…
– А давай! – радостно согласилась баба Вера. – А я тебе потом рюмовку налью!
Сергей внимательно осмотрел топор бабы Веры и решил не рисковать, а сбегал за своим топором. Потом вытащил из сваленных в кучу дров чурбак потолще и установил его на колоду – баба Вера присела на другой чурбак в сторонке и приготовилась поговорить: любила она это дело. Сергей хакнул и с первого же удара развалил чурбак пополам – дело пошло.
– А твоя-то где? – с любопытством спросила баба Вера. – На работе, иль поругались, можа?
– Работает… – не стал откровенничать Сергей. Он с наслаждением махал топором: дрова были хорошие, берёзовые и кололись легко, с приятным хрустом.
– Ну-ну… – не поверила баба Вера.
– Ну а твой где? – просто чтобы поддержать разговор, спросил Сергей.
– Которай?
– А у тебя что – много их? – иронично спросил Сергей. И десять, и двадцать, и тридцать лет назад баба Вера называла его просто Серёжкой, а он её бабой Верой. А вот как зовут её мужа, он не знал; даже помнил его плохо – пересекались они с ним нечасто.
– Трое было! – гордо ответила старуха. Причём умудрилась это сказать так, что сразу же стало понятно: это только мужей было трое. Подумала недолго и, скорбно поджав губы, добавила: – Всех похоронила.
И опять какая-то двусмысленность послышалась в голосе бабы Веры – как продолжение недоговорённой фразы:
– Никто живым не ушёл!
Это было неожиданно. Сергей аж воткнул топор в колоду и с интересом посмотрел на бабу Веру.
– Уж я с имя ругалась – страсть! Бывало, дрались даж! Я по молодости-то шустрая была, – вошла во вкус старая и с радостью делилась опытом. – А к вечору – ничё, спать легли и помирились. Потому што спать надо вместе – тады и будет всё миром!
Сергей снова рубил дрова и слушал журчанье бабы Веры о том, как первый её муж пил сильно, отчего и помер, как второго мужа она сама пить отучила и что третий был шибко работящий – вот и надорвался. Сергей чувствовал, как от этого неторопливого рассказа уходит его боль: растворяется в неспешном говорке бабы Веры, в её простых словах и житейской мудрости – без остатка и, что самое удивительное, без водки…
– А можа ты мне ишо и веровку натяниш? – вкрадчиво спросила старуха, когда, на её взгляд, наколотых дров было уже достаточно.
– Какую верёвку? – уточнил Сергей, вытирая со лба выступивший пот.
– Да бельеву – каку ишо-то? А то вишь: бельишко постираю, а повесить и негде – всё ветром пообдирало.
– Инструмент-то у тебя есть – молоток, гвозди – или за своим сходить?
– Всё есть, Серёжка! – опять обрадовалась баба Вера и посеменила в дом. Вынесла кривой молоток, ржавую банку с гнутыми гвоздями, моток верёвки и показала всё это Сергею: – Вот!
Он с сомнением посмотрел на «инструмент» и пошёл к себе на участок за молотком и гвоздями…
Уже под вечер, когда Сергей дров нарубил, воды наносил, верёвку приладил и переделал ещё много чего, что требовалось по хозяйству, они с бабой Верой сидели на крылечке её дома. Он покуривал, с наслаждением ощущая лёгкую усталость в натруженных мышцах, и слушал вполуха очередную life story от бабы Веры. В голове у Сергея было пусто, а на сердце легко и свободно – чёрные вороны над ним уже не вились. Закатное солнце приглушило сочную зелень берёз, росших во дворе, и обмыло стволы сосен красным золотом.
– Ничо, Серёжка! – говорила баба Вера. – Жисть она така: сёдни – бела, завтри – чёрна, а ить жить-то всё одно надо!
– Да! – согласился со старухой Сергей. – Наверное, надо.
И добавил:
– Спасибо тебе, баб Вер!
– Осспади! – изумилась старуха. – Мне-то за што?
Электричка из Девяткино отходила в 12:10, и у Сергея было время зайти в рюмочную и выпить водки. Жена его этого не одобряла, но теперь это не имело ровно никакого значения. Заказал сто граммов водки, бутерброд с килькой и кружку пива – малый джентльменский набор. Уселся среди таких же страждущих, как и он сам, за длинный и липкий деревянный стол, молча кивнув головой: мол, привет, ребята. Никто не обратил на него внимания: делом люди были заняты – похмелялись. Сергей не похмелялся: это была ежедневная процедура – приём горького, но необходимого лекарства, после которого душевная боль, с которой он жил последнее время, хоть немного отступала и притуплялась. Но не исчезала до конца, не пропадала – сидела в нём крепко и терзала, терзала и днём, и ночью.
В электричке Сергей заснул, и ему приснилась жена. Они ехали на велосипедах с дачи на озеро снова вместе – по песчаной, плотно утрамбованной машинами жёлтой дороге. Жена впереди, он – чуть отставая и правее. Яркое полуденное солнце золотило стволы сосен, полутени ложились на глаза, велосипеды мягко пружинили на песке и поскрипывали. Съехали с горки к озеру и, распугав уток, через песчаный пляж поехали прямо по воде, сине-серо-зелёной, к дальнему берегу, заросшему осокой и высоченными соснами. Из-под передних колёс расходились буруны, брызги летели во все стороны, и радуги вспыхивали и гасли между спиц. А потом он заметил, что невидимая глазу дорога, по которой ехала его жена, пошла как бы под горку, и её велосипед стал медленно уходить в воду, очень медленно и плавно. Жена обернулась к нему и улыбнулась, а он закричал ей, чтобы она прыгала с велосипеда, но она продолжала крутить педали, всё глубже и глубже погружаясь в воду. Он попытался соскочить со своего велосипеда, но не смог – и от бессилия только продолжал бешено жать на педали, пытаясь догнать уходившую от него жену, и кричал, кричал, кричал…
– Мужчина! Мужчина! – кто-то настойчиво теребил его за плечо. – Проснитесь, мужчина!
Сергей открыл глаза и увидел встревоженное лицо женщины, сидевшей напротив него. Это она его разбудила.
– Вам, наверное, что-то приснилось – что-то нехорошее: вы так… – женщина запнулась, подбирая слова, – страшно мычали.
– Да, спасибо! – он ещё не отошёл ото сна и водил очумелыми глазами по полупустому вагону. – Приснилось…
Посмотрел на проносившиеся за окном пейзажи: сосны, светло-коричневым забором выстроившиеся вдоль железной дороги, берёзы и осины, встроившиеся в этот забор, и высоченные зонтики ядовитого борщевика. Лужицы озёр, полустанки с опущенными журавлями шлагбаумов, дома, домики и домищи дач, и снова сосны. Оно и неудивительно – это же Сосновское направление. Сколько раз они вместе с женой ездили этой дорогой, а вот теперь он едет один, и ничего не изменилось.
Сергей сказал женщине ещё раз «спасибо», встал и, закинув на плечо рюкзак, пошёл к выходу – приближалась его станция. В тамбуре достал из куртки пачку сигарет и зажигалку и, как только двери разошлись, сошёл на потрескавшийся, выщербленный асфальт перрона и с наслаждением закурил. Электричка тоскливо и пронзительно вскрикнула у него за спиной, захлопнула двери и ушла по своим железнодорожным делам. А он так и остался стоять в одиночестве на краю перрона, вдыхая запах леса, загородного воздуха и табака. Решал, как ему идти к даче – лесом или через посёлок? Докурил, растёр окурок ногой и пошёл вдоль железной дороги, постепенно забирая влево: через подлесок к хлипкому мостку через безымянный ручеёк, по тропинке, вьющейся между невысокими ещё деревцами. Поднялся в горку и вышел на одну из многочисленных улиц дачного посёлка, от магазина повернул налево и через пять минут оказался у своей дачи. Постоял у калитки, тупо глядя на древний кодовый замок, заботливо накрытый пластмассовым горлышком бутылки из-под чего-то минерального. Кода Сергей не знал – замок всегда закрывала жена, а он всегда смеялся над этим и говорил, что вора этим не остановить. Снял рюкзак, протиснулся в щель между забором и калиткой, замаскированную лапами росшей у забора ели, и пошёл к дому.
Этот дом начинал строить дед Сергея ещё в прошлом веке. Сначала это был маленький домик в одну комнатку с маленькой же верандой. Потом повзрослевший отец Сергея пристроил ещё две комнаты и расширил веранду. Позже старший брат Сергея надстроил второй этаж. Дом как будто бы сам по себе рос вместе с его обитателями, вместе с ними взрослел и старился. Когда одни уходили, вместо них появлялись другие: дом знал минуты скорби и радости, звучали в нём детские голоса и старческое брюзжание, собачий лай и мяуканье кошек. По утрам он просыпался под пение птиц и засыпал вечерами под бормотание телевизора. И всем без исключения дарил покой, уют и своё тепло. Сейчас дом был зелёного цвета, когда-то – синим, а одно время даже радостно-жёлтым. Сергей на ходу достал ключи, отпер входную дверь, и аура дома – хоть и родного, но пустого – прокралась к нему в сердце. Дом молчал, словно затаился в ожидании гостей: наверное, ему тоже было одиноко, и он скучал. Сергей сразу же развил бурную деятельность: сбросил рюкзак на диван, включил газ и поставил чайник греться на плиту, прошёлся по первому этажу и везде раздёрнул шторы. По скрипучей лестнице, стараясь не наступить на сломанную третью ступеньку, поднялся на второй этаж и здесь тоже распахнул все окна. Вставил в магнитолу диск Deep Purple, и, когда зазвучали пронзительные аккорды знаменитого рифа из ‘Smoke On The Water’, дом вздрогнул – открыл глаза и стал просыпаться после долгого забытья…
Чайник закипел и громко свистнул, как заблудившаяся в ночи электричка. Сергей ещё немного постоял у окна на втором этаже, глядя на соседний участок, – похоже, что и там тоже кто-то появился (из трубы дома шёл дым), – и спустился вниз. Нашёл в старом и обшарпанном буфете банку кофе, кружку и сахар. Заглянул и в холодильник на всякий случай – пусто, как в колхозном амбаре. С кружкой в одной руке и пачкой сигарет в другой вышел на улицу и присел на скамеечку, примостившуюся справа от крыльца. Короткими глотками пил горячий кофе и смотрел на высоченную старую берёзу, росшую напротив дома. Скворечники, которые вешал на дерево ещё отец Сергея, совсем развалились, и скоро, судя по всему, осыплются трухой на землю. Отец рассказывал ему, что раньше, когда дед только получил этот участок, на нём росло очень много берёз. По мере строительства дома дед валил берёзы на дрова, и сейчас их осталось всего лишь две.
Сергей закурил, откинулся спиной на стену дома, и это будничное движение неожиданно напомнило ему одну так до конца и не понятую историю.
Они с женой частенько сиживали на этой скамеечке: Сергей обычно обнимал жену за плечи, она прижималась к нему – так и сидели, греясь на солнышке. И однажды прилетела птица, да где там птица, так – птичка. Маленькая, серенькая. И зависла в воздухе примерно в метре, прямо напротив их лиц. Поражённые этим дивом, они с женой замерли, а птичка висела в воздухе, трепеща крыльями, и внимательно разглядывала их, как-то механически поворачивая малюсенькую головку то в одну, то в другую сторону. Как бы спрашивая: «Вы кто? Вы здесь зачем?» Потом сорвалась и упорхнула в сторону, но тут же вернулась и снова зависла, рассматривая их по очереди то одним, то другим глазом. Повисела, посмотрела, и они на неё успели налюбоваться, а потом полетела куда-то дальше. То, что колибри умеют так делать, Сергей с женой знали, но чтобы местные птицы были способны на подобное… чудеса!
Сергей вернулся в дом, поставил пустую кружку на стол и пошёл в комнату жены, хотя и знал, что делать этого ему не надо бы. Не стоило ворошить былое, зачем тревожить больное, и так истерзанное сердце? Но всё равно пошёл, потащился, как на Голгофу. Вошёл и застыл в дверях: здесь тоже ничего не изменилось – ну почему, почему ничего не изменилось?! Это неправильно, так не должно быть! Раскрыл платяной шкаф, и запах – запах его жены, её духов, её тела, – как сладкий яд, проник в него. Схватил первое попавшееся под руку платье, прижал его к лицу, вцепился в ткань зубами и завыл совсем уже по-собачьи, присев возле шкафа на корточки. Безумие накрыло Сергея: вцепилось в кадык, выдавило из глаз слёзы и прибавило решительности – он швырнул платье обратно в шкаф и выскочил из комнаты. В узком коридорчике ногой отбросил в сторону разноцветный коврик, поднял три половицы, под ними обнаружились две бетонные плитки, – вытащил их и по крутой лестнице полез в подпол.
Нащупал выключатель, и неяркая лампочка вспыхнула под потолком. Справа от лестницы шли полки, на которых стояли пыльные бутылки с яблочным вином – результат многолетних винодельческих усилий отца Сергея, – банки с вареньем, маринованными огурцами и помидорами; а вот слева в стену был вмурован сейф. Не новомодный, с электронным замком и кучей разных прибамбасов, а старый, ещё советский, несгораемый и весом, наверное, с полтонны. Где его достал дед, как он умудрился притащить сюда это чудовище – один Аллах знал! Вообще-то, по этому подполу видно было, что война, которую дед прошёл от начала и до самого конца, так и не отпустила его. Потому что получился у него не подпол, не подвал, а чуть ли не полноценное бомбоубежище – с бетонными стенами, полом и потолком, с вентиляцией и водопроводом. А в сейфе с незапамятных времён хранился НЗ, собранный дедом. Ключ мягко вошёл в скважину: Сергей три раза провернул его в замке сейфа, опустил вниз здоровенную ручку и потянул на себя дверцу толщиной, наверное, сантиметров десять. Всё было на месте: пятилитровая канистра чистого спирта, пачки соли в полиэтиленовых пакетах, большие коробки спичек (тоже в полиэтилене) и ещё один пакет, за которым Сергей сюда и залез. С пакетом в руке выбрался из подпола, прошёл на веранду, сел за стол и положил пакет перед собой. Последний раз он держал его в руках лет десять назад: из первого пакета вытащил второй, а уже из него достал нечто, завёрнутое в промасленную тряпку. Положил на один из пакетов и аккуратно раскрыл: на тряпке лежал наградной дедовский ТТ с двумя полными обоймами, во всей своей хищной красоте.
Дед закончил войну под Берлином и вернулся домой с тремя ранениями, двумя контузиями, орденами Красного Знамени и Славы, кучей медалей и вот этим пистолетом. Сергей помнил, как в детстве бабушка давала ему играться этими медалями, а вот куда все награды делись потом – этого Сергей не знал. Дед умер в девяносто четвёртом году, и пистолет должны были изъять. Но не изъяли, что и неудивительно, если вспомнить тот бардак, что творился в те годы в стране. А сдавать его добровольно никто и не собирался, опять же учитывая всё тот же бардак. И факт остаётся фактом: все медали и ордена деда пропали, а пистолет – вот он, лежал перед ним. Сергей взял пистолет в руку и ощутил его приятную и убийственную тяжесть: снял с предохранителя, передёрнул затвор и, отведя руку в сторону и вниз, нажал на спусковой крючок. Мягко щёлкнул курок – пистолет был хорошо смазан и, несмотря на возраст, работал вполне надёжно. Сергей ещё раз передёрнул затвор и прицелился в зеркало, вставленное в дверку буфета. А мысленно вставил обойму, передёрнул затвор, засунул ствол пистолета себе в рот и нажал на спуск. И всё – боли больше нет! И всё?! Да если бы знать – всё или не всё?! Это конец его мучений или только их начало? Нет ответа…
Какие-то непонятные звуки с соседнего участка вывели его из состояния ступора: то ли кто-то рубил дрова, то ли ломал их через колено. Сергей завернул ТТ в тряпку, засунул в пакет и отнёс его в свою комнату. Посмотрел в окно и выругался вполголоса: на соседнем участке баба Вера пыталась рубить дрова, а годов ей было, если Сергей не ошибался, где-то за девяносто. Что и говорить: удивительные вещи порой творит Создатель с людьми, награждая (или карая?) их долгой жизнью…
Торопливым шагом пересёк лужайку позади его дома, заросшую травой, мимо общего с бабой Верой колодца, вдоль недостроенной беседки – прямо к бабе Вере, неловко орудовавшей топором. Перехватил в воздухе занесённое топорище:
– Здравствуй, баба Вера! Давай-ка помогу!
– Ой! – испугалась старуха. – Хто ето?
Пригляделась подслеповато через смешные круглые очки: одна дужка у очков отсутствовала, и вместо неё была привязана чёрная верёвочка.
– Серёжка! Ты, што ли?
– Я, баб Вер, я! – Сергей уже держал в руках её топор. – Давай лучше я дров нарублю…
– А давай! – радостно согласилась баба Вера. – А я тебе потом рюмовку налью!
Сергей внимательно осмотрел топор бабы Веры и решил не рисковать, а сбегал за своим топором. Потом вытащил из сваленных в кучу дров чурбак потолще и установил его на колоду – баба Вера присела на другой чурбак в сторонке и приготовилась поговорить: любила она это дело. Сергей хакнул и с первого же удара развалил чурбак пополам – дело пошло.
– А твоя-то где? – с любопытством спросила баба Вера. – На работе, иль поругались, можа?
– Работает… – не стал откровенничать Сергей. Он с наслаждением махал топором: дрова были хорошие, берёзовые и кололись легко, с приятным хрустом.
– Ну-ну… – не поверила баба Вера.
– Ну а твой где? – просто чтобы поддержать разговор, спросил Сергей.
– Которай?
– А у тебя что – много их? – иронично спросил Сергей. И десять, и двадцать, и тридцать лет назад баба Вера называла его просто Серёжкой, а он её бабой Верой. А вот как зовут её мужа, он не знал; даже помнил его плохо – пересекались они с ним нечасто.
– Трое было! – гордо ответила старуха. Причём умудрилась это сказать так, что сразу же стало понятно: это только мужей было трое. Подумала недолго и, скорбно поджав губы, добавила: – Всех похоронила.
И опять какая-то двусмысленность послышалась в голосе бабы Веры – как продолжение недоговорённой фразы:
– Никто живым не ушёл!
Это было неожиданно. Сергей аж воткнул топор в колоду и с интересом посмотрел на бабу Веру.
– Уж я с имя ругалась – страсть! Бывало, дрались даж! Я по молодости-то шустрая была, – вошла во вкус старая и с радостью делилась опытом. – А к вечору – ничё, спать легли и помирились. Потому што спать надо вместе – тады и будет всё миром!
Сергей снова рубил дрова и слушал журчанье бабы Веры о том, как первый её муж пил сильно, отчего и помер, как второго мужа она сама пить отучила и что третий был шибко работящий – вот и надорвался. Сергей чувствовал, как от этого неторопливого рассказа уходит его боль: растворяется в неспешном говорке бабы Веры, в её простых словах и житейской мудрости – без остатка и, что самое удивительное, без водки…
– А можа ты мне ишо и веровку натяниш? – вкрадчиво спросила старуха, когда, на её взгляд, наколотых дров было уже достаточно.
– Какую верёвку? – уточнил Сергей, вытирая со лба выступивший пот.
– Да бельеву – каку ишо-то? А то вишь: бельишко постираю, а повесить и негде – всё ветром пообдирало.
– Инструмент-то у тебя есть – молоток, гвозди – или за своим сходить?
– Всё есть, Серёжка! – опять обрадовалась баба Вера и посеменила в дом. Вынесла кривой молоток, ржавую банку с гнутыми гвоздями, моток верёвки и показала всё это Сергею: – Вот!
Он с сомнением посмотрел на «инструмент» и пошёл к себе на участок за молотком и гвоздями…
Уже под вечер, когда Сергей дров нарубил, воды наносил, верёвку приладил и переделал ещё много чего, что требовалось по хозяйству, они с бабой Верой сидели на крылечке её дома. Он покуривал, с наслаждением ощущая лёгкую усталость в натруженных мышцах, и слушал вполуха очередную life story от бабы Веры. В голове у Сергея было пусто, а на сердце легко и свободно – чёрные вороны над ним уже не вились. Закатное солнце приглушило сочную зелень берёз, росших во дворе, и обмыло стволы сосен красным золотом.
– Ничо, Серёжка! – говорила баба Вера. – Жисть она така: сёдни – бела, завтри – чёрна, а ить жить-то всё одно надо!
– Да! – согласился со старухой Сергей. – Наверное, надо.
И добавил:
– Спасибо тебе, баб Вер!
– Осспади! – изумилась старуха. – Мне-то за што?
Дверной глазок Александр Олексюк

I
Я проснулся в половине третьего ночи и от нечего делать рассматривал вензеля на обоях. Стену слабо освещал уличный фонарь, мерно тикали часы с кукушкой, гудел увлажнитель воздуха. За окном с грохотом пролетел грузовик, и его тень, размытая, как пятно Роршаха, чёрной тучей накрыла обойные узоры. Машина секунд десять дребезжала по улице, а потом снова стало тихо, до новой порции криков. – Бедняги, – жена тоже проснулась, когда вновь закричали. – Может, тебе беруши сделать? Из ваты. Мне-то нормально, орут и орут. – Не надо беруши. Пошумят и успокоятся, – я взбил подушку и накрылся одеялом до подбородка. – Поубивают друг друга и успокоятся, – с сожалением вздохнула супруга и, чмокнув меня в щёку, повернулась на другой бок. Я не спал, ворочался и гонял в голове пустые, глупые мысли, словно бильярдные шары. Они отскакивали от бортиков сознания и не залетали в лузы, не додумывались, как бы обрывались на середине и прятались. Это раздражало. Я изо всех сил пытался провалиться в сон, но каждый раз, когда это почти получалось, откуда-то из недр нашего железобетонного муравейника вырывалась порция отчаянной ругани – злой и визгливой, будто ошпаренной кипятком. Дрянные стены панельного дома не выдерживали соседского отчаяния и пропускали его через мелкие поры, как радиацию. Ссора началась около восьми вечера и сперва огрызалась отдельными выкриками, которые я назвал «всполохами». К одиннадцати она уже пылала вовсю, ненадолго смолкала, потом перегруппировывалась и начинала стрекотать с новой силой. Ближе к утру у соседей всё-таки наступило затишье, и я задремал. Мне приснилось огромное картофельное поле, до горизонта заросшее чертополохом. Его следовало прополоть от края до края, а я потерял хозяйственные перчатки, поэтому хватал сорняки голыми руками, вгоняя в ладони тонкие, бледные жала. «Они ядовитые!» – мелькнуло на периферии ума, и я снова проснулся. Голову сверлил такой же шипастый, колючий крик, чуть приглушённый бетонными стенами. Чтобы не связываться с мыслями-оборванцами, я решил разобрать крик на части и прислушался. Но составных частей не было: усердствовала одна-единственная женщина. У неё был немного хриплый и истерический голос, но вместе с тем – сильный и зычный; казалось, он принадлежит великанше или оперной певице. Ни баса, ни баритона, ни даже раздражённого тенора за этим волевым, оглушительным меццо-сопрано услышать не удалось. В причинах конфликта я не разобрался: слышались только осколки ругательств, какие-то проклятья и причитания, иногда вырывались надрывные вопли, иногда – ровный крик: «А-А-А-А-ГРХ-А!» «Чтоб тебя», – сказал я и заходил по комнате. В углу, у стеллажа с книгами, лежали маленькие килограммовые гантели – жена занималась с ними гимнастикой. Я решил постучать ими по батарее, всё равно ведь весь подъезд, наверное, не спит. Несколько раз мне таким образом удавалось прекратить соседскую пьянку. Деликатно постучал по батарее. Почему-то три раза. Жена встрепенулась. – Что ты делаешь? – она приподнялась на локтях и включила светильник. Я с красными ошалевшими глазами стоял в трусах и держал в руке розовую гантель. – Надо ж их как-то утихомирить. – Пять утра уже, – жена зевнула и посмотрела на часы. – Ложись, вроде потише сейчас. Гантель сработала. Шум действительно прекратился. Я лёг и через пару часов проснулся – разбитый и помятый, как после туманных застолий. – Они что, всю ночь кричали? – спросила жена. – Всю ночь, – ответил я, а потом добавил: – кричала. Слышно было только женский голос, дородный такой, с переливами. – Сколько это уже у них? – Дней семь или пять, – я хлебнул из кружки и пошёл одеваться на работу. Скандальные соседи появились из ниоткуда. Никто не видел, как они въехали, хотя обычно при переезде «добро», нажитое годами, торжественно сваливается в бесформенную кучу у подъезда и таким образом сигнализирует о появлении новых жильцов. Кочующая куча редко вызывает симпатию и выглядит немного бесстыже. Выжженные треугольники на гладильных досках, тёмные разводы матрасов, заляпанные жиром холодильники с магнитами из Турции и Египта. Зрелище нагромождения случайных предметов как бы задирает юбку семейству, показывает быт без ретуши. Мебельно-вещевую груду хочется превратить в сугроб – накрыть саваном или клеёнкой, спрятать от чужих глаз. Но люди, как правило, просто смиряются со смущением и разве что немного краснеют. А скарб меж тем громоздится и сально, самодовольно блестит от прожитых дней. И в этом блеске есть что-то концентрированно страшное и печальное. Мне кажется, что на лакированных полочках, трюмо и тумбочках из ДСП отпечатывается жизнь, как в дактилоскопическом узоре. Улыбки, детские ладошки и простые житейские радости бледнеют едва заметными кляксами. Зато семейные драмы проецируются жирно – все эти слёзы, обиды, недоговорённые слова и резкие, злые фразы о деньгах или разводе. Я много раз видел такие кляксы и эти мещанские груды-сугробы, однако у наших новых соседей ничего подобного не было. Никто не видел, как они приехали, как разгружали бортовую «Газель», как толпились у лифта с коробками, торшерами и рогаликами ковров. Сначала мне казалось, будто они сделали это очень быстро, по-партизански, в рабочий полдень или ночью, но я внимательно посмотрел видеоархив с камеры домофона и никого не увидел. Ни бытовой кучи, ни «Газели», ни намёка на переезд. Туда-сюда шмыгали курьеры в разноцветных плащах, в подъезд забегали дети, одни и те же люди уходили на работу и возвращались домой. Дом жил по сценарию, но каждую ночь кто-то кричал.II
Весь день я провёл как сомнамбула: ходил, клевал носом, ничего толком не сделал и несколько раз больно ударился о дверной косяк. Поздно вечером вернулся домой, наспех проглотил кружку «Принцессы Явы» и отправился спать. Проснулся около часа ночи – снова кричали, и снова безумствовал тот тяжёлый, оперный голос. Крик лился ледяным, непроницаемым водопадом. В какой-то момент мне показалось, что его на бреющем полете перехватывает визг потоньше, детский или скорее даже младенческий, но потом я понял, что надрывается не ребёнок, а один-единственный сварливый голос, просто на более высоких нотах. Я резко вскочил с кровати и, не включая свет, нащупал тренировочные штаны. «Надоело! Надоело! Надоело!» – пульсировало в голове какими-то синими вспышками. Быстро оделся, ноги сунул в тапочки жены. Мои широкие ступни не помещались в узких тапках, и пятки неприятно елозили по полу. В таком виде я и выскочил в подъезд, успев подумать, что выгляжу наверняка очень глупо. Оказавшись на лестничной клетке, прислушался. Очень странно, но громкость крика не увеличилась, но и не уменьшилась – он стрелял ровными очередями, с перерывами на перезарядку. С площадки второго этажа, где мы жили, я крадучись спустился вниз. Там чернели две двери вместо трёх – одна была замурована, а проём выровнен вровень с зелёно-белой стеной. За ней находился офис местного ЖЭКа, вход туда шёл с улицы, поэтому дверь из подъезда заложили кирпичами и аккуратно закрасили. Однако почему-то оставили звонок. Много раз я проходил мимо и мне очень хотелось позвонить в этот звонок, но не решался. В голове гудело, крики, ругательства и причитания лились как из ведра. Но откуда? Я приложил ухо к замурованной двери – мало ли, может быть, в ЖЭКе кто-то ночует и каждую ночь устраивает «концерты». Точно! Поэтому домофон и не показал никаких незнакомцев. В ЖЭК зашли с улицы! Мне почудилось, будто источник крика найден, всё решено, наступит утро, и мы обязательно со всем разберёмся, в дом наконец вернутся тихие, спокойные ночи. Но это была ошибка. После перезарядки закричали, как мне послышалось, откуда-то сверху. Я в несколько прыжков преодолел пролёт второго и третьего этажей, оказался на четвёртом – там жили пенсионеры Мартынюки, семейство узбеков Вахидовых и мать-одиночка с сыном-подростком. Они приехали недавно, и мальчик выглядел забитым и всегда грустным. «Ты сошёл с ума, – пробормотал я, когда начал поочерёдно прикладывать то одно, то другое ухо к холодным дверям соседей. – Ты выглядишь как сумасшедший – в тапках жены, старых трениках, слушаешь соседские двери». Я не только выглядел как сумасшедший, но и вёл себя соответственно: одно ухо затыкал указательным пальцем, другим елозил по двери, сгибая и разгибая шею, словно слушал биение чужого сердца или шумы в чьих-то лёгких. Вдруг затылок что-то кольнуло, внутри неприятно похолодело: мне почудилось, будто чей-то взгляд буравит меня через один из дверных глазков. Только чей? Старого Мартынюка? Узбека Вахидова? Его жены в пёстром платье? Печального парнишки, измученного и бледного? Я как раз слушал именно их дверь. Внизу, на уровне ног, на тёмном металле виднелись грязные отметины подошв, наверное, мальчик или его мама периодически стучали в дверь ногами. Мне стало жутко, но не за себя, а за ребёнка, который притаился и, вероятно, с ужасом наблюдал за мной через круглый окуляр дверного глазка. Дверь в квартиру отделяет пространство тёплого и уютного мира, где всё до боли знакомо и безопасно от хаоса, не поддающегося контролю. По одну сторону – ты, твои любимые книги, твои сны и взбитые подушки, твой понятный, изученный вдоль и поперёк космос, по другую сторону – холодная тишина подъезда, общественное место, где действуют свои законы, где может быть всякое и где ты почти ничего не решаешь и не знаешь, кто завтра будет подниматься по лестнице, стоять на площадке, курить, помалкивать. Глазок в данном случае – своеобразное окно, выходящее в чистилище, это ещё не полноценный ад, не внешний мир с его лихими людьми и вьюгами, но его пролог, лимб, пропахший табаком и запахами из квартир. Когда в детстве я просыпался глубокой ночью и шёл на кухню попить воды, мой путь пролегал мимо входной двери. «Не смотри в глазок, не смотри в глазок, не смотри в глазок», – шептал я себе, на цыпочках пробираясь по коридору. Я был уверен, что если всё-таки взгляну в него – то непременно увижу одинокую фигуру человека. Тот будет молчать, не двигаться и тихо смотреть на нашу дверь, обтянутую дерматином с разноцветными заклёпками. Маленькое дверное окошко позволяет видеть лестничную клетку как бы слегка в отдалении, выпукло. Но даже первоклассником я понимал, что дверной глазок обманет, и фигура незнакомца в реальности будет гораздо ближе, чем я увижу, и что если прислушаться, то можно услыхать его зловещее дыхание или зубовный скрип. Между тем крик рваным ветром налетал со всех сторон: снизу, сверху, справа и слева! Я испугался, что вот-вот тронусь умом, отпрянул от двери и начал медленно возвращаться обратно, шаркая голыми пятками по ступенькам. Между третьим и вторым этажами на всякий случай приложил ухо к кладовке, уткнувшейся в углу. Это была каморка, которая пряталась за чёрной железной дверью. Там проходила труба мусоропровода, но им не пользовались. Десять лет назад это пространство решили захватить наши соседи по площадке – бойкие и наглые Ряхины. Они подделали протокол общего собрания жильцов, уладили вопрос в том самом ЖЭКе на первом этаже и справили кладовку вокруг тоннеля. Старшая Ряхина, гремя ключами, доставала оттуда картошку и пыльные банки солёных огурцов в мутном рассоле. Из ряхинских закромов тоже не доносилось ни звука, крик яркими всполохами гулял по подъезду. Я спустился к себе. Когда за мной захлопнулась дверь, крик прекратился так же внезапно, как и появился. Я постоял какое-то время в тёмном коридоре, а потом, дрожа всем телом, задержал дыхание и посмотрел в дверной глазок. В подъезде никого не было. – Неужели ты ничего не слышала? – спросил я у жены, когда наступило утро. Она, в отличие от меня, выглядела свежо и бодро. – Опять кричали? – как бы между прочим уточнила жена. – Ты знаешь, что-то смутно помню, но как в тумане. Кстати, ты не брал мои тапки? Прошёл день, наступила новая ночь. Я даже не думал ложиться, а прошёл на кухню, прямо в кружке заварил дешёвый кофе «Жокей» и стал ждать. Как я и предполагал, после полуночи крик вернулся. Поначалу он словно лаял, но потом перешёл в обычный, сводящий с ума ор, ругань, обрывки матерной брани. Я только этого и ждал, и сразу же позвонил в полицию. Чтобы экипаж приехал, пришлось соврать, будто где-то за стенкой не просто кричат, но и истошно зовут на помощь. – Мне кажется, там кого-то режут, – сказал я дежурному. – Из какой вы квартиры? – уточнил металлический голос лейтенанта. – Из девяносто пятой, я вас дождусь. – Честно говоря, мне не верилось, что полиция обнаружит источник крика, но очень хотелось услышать их мнение. Раскрыть какую-то паскудную тайну и тем самым переложить проблему с собственных плеч на чужие – государственные, в строгих прямоугольниках погон. В уме мелькнуло страшное предчувствие. А вдруг они приедут и совсем ничего не услышат, а я в это время буду глохнуть от крика? Что тогда? Психиатрическая лечебница? Инвалидность? С другой стороны, жена-то, Алёнка, тоже слышала крики, или нет? Я вспомнил, что в девяносто седьмом году одна моя дальняя родственница – тётя Зина – сошла с ума, насмотревшись рекламы. В тот летний вечер они сидели с мужем перед телевизором и пили чай. Тётя Зина дождалась, когда закончится реклама прокладок, медленно встала с кресла и, не говоря ни слова, вышла на балкон. Её супруг – Степан Николаевич – решил, что она захотела подышать, в квартире было душно, но женщина, как была – в тапочках и лёгком, ситцевом халате, – забралась на ограждение и выбросилась с десятого этажа.III
Воспоминания о несчастной тётке, так буднично и нелепо прекратившей свою жизнь, прогнала тревожная мысль. Я заметил, что опустил в кружку уже седьмой кубик рафинада, а кофе всё равно был горьким. Кучка сахара не растворилась и смешалась с гущей. Семь кубиков… Маниакальное поглощение сладкого – верный признак шизофрении, я где-то читал об этом или от кого-то слышал. А что, если я и вправду болен? Всё мне казалось тревожным и странным, будущее виделось размытым и серым, словно я смотрел на него через закопчённое стёклышко. В этих размышлениях я не сразу обратил внимание, что крик закончился. Он будто бы стал частью меня, как зубная боль, к которой привыкаешь и не сразу замечаешь облегчение. Спустя минуту в дверь деликатно постучали, хотя могли и позвонить. Два усталых человека в тёмно-синих форменных куртках стояли на пороге и измученно смотрели мне в лицо. От них пахло смесью снега, табака и приторно-сладкого автомобильного освежителя воздуха. Какие-то клубнично-сливочные нотки, которые не вязались с образом полицейских. – Что у вас случилось? – спросил, по-видимому, старший в группе, офицер с погонами старлея. Он носил старомодные пепельные усы, но на вид ему было лет двадцать семь, не больше, форма на его фигуре сидела безразмерным мешком и казалась нелепой. – Знаете, уже которую ночь в доме кричат. Спать невозможно, – я скорчил жалобную гримасу. – Такое ощущение, что там кого-то каждый день мучают! Я немного стушевался при виде полицейских и говорил чуть-чуть заикаясь. – В какой квартире? – строго поинтересовался старлей. – В том-то и дело, что не могу уловить. Прошлой ночью, когда началось, я даже в подъезд вышел проверить и ничего не понял, кричат как бы отовсюду разом. У нас шесть этажей в доме, я дошел до четвертого и на первый спускался, и везде слышал крик. – А-а-а, отовсюду кричат. Хм, вот как, – с нескрываемым облегчением сказал офицер, а потом, слегка улыбаясь в усы, обратился в коллеге: – Серёж, запиши там в протоколе про «отовсюду». Ещё кто-то, кроме вас, слышал крики? – Ну, жена говорит, что слышала, хотя я и не уверен, что она именно этот крик имела в виду, а с соседями я ещё не общался. – Мои слова мелким, бисерным почерком заносил в лист протокола сержант Серёжа. – Давайте так. Коллективную жалобу пишите. То есть со всех соседей возьмите подписи под заявлением, мол, в такой-то квартире – выясните, кстати, в какой именно, – регулярно нарушают режим тишины. А потом документ своему участковому принесите. Он в соседнем доме, двадцать первом. Будем разбираться. Распишитесь здесь, – полицейский протянул ручку и планшет с протоколом. Я заметил, что с колпачка ручки свисал спиралевидный розовый проводок, такие ручки – на привязи – бывают в МФЦ и ведомствах, где посетители часто расписываются. Украли они её, что ли? Не глядя поставил автограф и закрыл дверь. Когда полицейские спустились, я нерешительно, сквозь страх и тремор, посмотрел в глазок. В подъезде никого не было. На следующий день после работы начал обход соседей. Кого-то не застал дома, кто-то не открыл, Ряхины и Мартынюки весьма грубо сказали, что ничего не слышали, а вот мальчик – тот грустный подросток, дверь которого я слушал, – на вопрос о криках покраснел и отрывисто заявил, что мама на смене. – А сам-то слыхал что-нибудь? – спросил я. Парень стоял в шортах, носках крупной вязки и детской футболке, из которой он давно вырос, она стягивала его живот, как барабан, отчего полнота и нескладность мальчишки ещё сильнее бросались в глаза. – Да нет, не слыхал. Правда, мама часто плачет, но негромко, – внезапно сказал мой сосед. – А чего она плачет? – поинтересовался я. Отрок резко обернулся и бросил короткий взгляд куда-то стену, которую покрывали выцветшие, старые обои. В некоторых местах, под самым потолком, они отошли и готовились безвольно сползти вниз. Школьник вдохнул, ещё больше покраснел и тихо, но уверенно зашептал: – Не знаю, может, из-за папки. Когда мы вместе жили, она прямо громко кричала, я ещё маленький был, но хорошо помню. А сейчас уже негромко кричит, даже не кричит, а, знаете, как бы воет немного, но вряд ли вы слышите, она тихо это делает, в своей комнате. Наверное, даже думает, что и я не знаю, – ребёнок высказался и зачем-то пробормотал «извините». Мне стало жалко мальчика и его маму. – Как тебя зовут? – спросил я. – Виталик, – ответил сосед. – А меня дядя Саша, – сказал я и протянул руку мальчику. Его ладонь была слабая и холодная. Я подумал, что человеку с такими руками будет очень непросто жить, и вручил ему бумагу и ручку. – Распишись здесь, пожалуйста, и номер своей квартиры подпиши. Мы когда выясним, откуда кричат, там сверху впишем номер квартиры нарушителей тишины. Школьник с опаской начал медленно выводить свою подпись – закорючку, похожую на букву «Ж». – Виталик, а приходите как-нибудь к нам в гости со своей мамой. Вечерком. Я в сорок четвёртой квартире живу, на втором этаже. Чаю попьем, жена моя испечёт пирог. Придёте? – Не знаю, я маме обязательно передам, – ответил мальчик и стал уже совершенно багровым. – Спасибо. – Не за что. В тот день мне открыл ещё один сосед – Михаил Юрьевич с пятого этажа. Это был высокий, внимательный человек лет пятидесяти, с длинными, собранными в косичку волосами. Он носил густую седеющую бороду и напоминал не то барда, не то священника, не то философа. Собственно, кем-то вроде философа, священника и барда он и являлся: преподавал Закон Божий в воскресной школе, а на жизнь зарабатывал «мужем на час». По всему району он расклеил рукописные объявления с предложением своих услуг и ходил по квартирам делать мелкий ремонт: чинил капающие краны, вешал люстры, собирал мебель. Михаил Юрьевич был единственным человеком в подъезде, с которым мы хотя бы немного общались и несколько лет назад даже оставили ему ключи от своей квартиры, когда уезжали отдыхать в Геленджик. Попросили кормить кошку и поливать цветы. Сосед с радостью согласился. Жена как-то говорила, что он окончил философский факультет МГУ, а потом хотел стать священником, но вместо этого поехал жить и работать в Сибирь, там из каких-то соображений женился на дочке шамана, а дальше история обрывается. Вернулся к нам он уже один и в семинарию поступать не стал, как, впрочем, и снова жениться. Михаил Юрьевич обрадовался, когда меня увидел, но не пригласил зайти, а взял за локоть и провёл вниз, на площадку между этажами. – Покурим тут в окошко тихонечко, не против? – виновато спросил сосед и достал из-за трубы мусоропровода смятую баночку «Нескафе», полную рыжих окурков. – Да нет, конечно, курите, пожалуйста, – сказал я. – Эх, грехи, грехи, – печально произнёс мужчина и смачно затянулся. – Курить – значит бесу кадить, – добавил он уже более уверенно, выпустил дым в форточку, а потом заметил: – Вы даже не догадываетесь, Саша, сколько раз я намеревался бросить, но меня, не поверите, духовник не благословляет! Говорит, ты, Миша, как эту гадкую привычку оставишь, обязательно возгордишься, а гордыня – мать всех грехов. Вот я и курю. Михаил Юрьевич замолчал и задумчиво дымил, делая большие затяжки. Молчание с ним рядом не напрягало, но я всё равно спросил: – Скажите, а вы случайно не слышали криков? Ругань какая-то, брань. Уже неделю как. – Честно говоря, не слышал. Я, понимаете, как прихожу домой, в наушниках засыпаю под лекции о философии, богословии, это у меня со студенчества остался такой условный рефлекс, – сосед засмеялся, – слышу монотонный голос лектора и сразу засыпаю, как убитый. – Кричит кто-то в подъезде, а я и не знаю кто. – А вы здесь сколько живете? Лет пятнадцать, наверное? – спросил Михаил Юрьевич. – Даже, пожалуй, семнадцать, – сказал я. – Вот и я примерно семнадцать лет обитаю здесь, и притом половину наших соседей не знаю, а ведь там, как вы говорите, могут люди и кричать, и страдать, и мучиться, и им, может быть, помощь нужна. Мы живём в страшное время, Саша, – сосед-философ аккуратно затушил сигарету в банке и прикурил новую. – Вселенная человека сузилась до размеров его квартиры, понимаете, бетонного кубика с обоями и вензелями, где он сидит себе и чаи гоняет, а в это время за стенкой – другая вселенная со своими квазарами, сверхновыми и чёрными дырами, и тоже чаи гоняет, или пиво пьёт, или доедает пельмень, или кричит от ужаса и тоски. И никому ни до кого нет дела. Я часто лежу, когда свои лекции слушаю, и перед тем, как заснуть, размышляю, что же, интересно, творится у меня за стенкой? Вроде семья какая-то поселилась, въехали года два назад, живут тихо, словно мыши, но что там в этом тихом омуте водится, я и подумать боюсь. И вот лежу я, лбом к стене прижавшись, а за ней, думаю, другой лоб и тоже сопит человек, и наши лбы отделяет друг от друга всего лишь кирпичная кладка. Полметра максимум. Это страшно. Мне всегда казалось, что Михаил Юрьевич сонный, застенчивый человек – Диоген из бочки, – но в этот раз он говорил напористо и жарко, активно жестикулируя одной рукой, вторую – с сигаретой – держал возле форточки. – Я же тут по всему району бегаюуже который год. И вот, значит, недавно в 36-м доме – я там ламинат стелил – рассказали мне историю. Соседка моих клиентов – одинокая старушка – умерла и мумифицировалась, оттого и не пахла, – так и сидела за столом со щербатой кружкой три года, а они всё это время спокойно жили. Праздновали дни рождения, представляете, и Новый год, говорили: «С новым счастьем» и: «Возьмите, пожалуйста, кусок фаршированной щуки», или: «Передайте голубец, Геннадий Андреевич»… А в это время за тонкой стеной, дом-то панельный, стены ерундовые, сидела бабушка и «чай пила» три года в одной позе. И никто её не хватился, никто даже не заметил, что она куда-то исчезла. Тело нашли случайно, когда техники из «Горгаза» приехали устранять неполадки в системе, и им нужно было, кровь из носу, попасть в квартиру старушки. Там её и нашли. – И что соседи? Которым вы ламинат стелили, что они сказали? – спросил я. – Жаловались, искали виноватых, мол, бабулей никто не занимался, а я по глазам и по их интонации понял, что им просто теперь брезгливо жить. Поди ж ты – три года с трупом по соседству обитали. Впрочем, виноватых в итоге нашли – на соцслужбу пеняют, дескать, они бабкой не занимались. Люди вечно всем недовольны и всегда кого-то обвиняют, кроме себя. Вы говорите, кричит кто-то? Так вот, я думаю, что вселенные соприкасаются, только если кто-то начинает кричать или, уж простите, дурно пахнуть, хотя тогда уже поздно. Это как бы выводит из морока. Кричат – значит, оказывается, есть и другие бетонные кубики, и другие вселенные там живут. И они, скорее всего, несчастны, потому что сейчас много несчастных и грустных людей, – последние слова Михаил Юрьевич произнёс медленно и задумчиво, он курил уже третью сигарету. Я дал ему расписаться в бумаге. – Михаил Юрьевич, а вы не знаете, вот если человек много сахара в чай кладёт, то это может свидетельствовать о развитии шизофрении? – спросил я. – По-моему, какой-то бред. Я и сам ложек пять кладу, – засмеялся сосед и пожал мне руку. В тот вечер, на удивление, не кричали. Я впервые за последние дни хорошо выспался. Утром пошёл на работу, а вернувшись, плотно поужинал и лёг спать. Однако по уже заведённой привычке проснулся около трёх часов ночи: тикали часы, медленно и глубоко дышала жена, за окном с грохотом проехал грузовик. Крика не было. Неужели всё закончилось? Мне захотелось отметить это событие глотком холодной воды. Чтобы не тратить время на поиски своих тапок, они вечно терялись, я сунул ноги в тапочки жены и засеменил на кухню. Оказавшись в коридоре, вдруг остановился и замер. Сознание охватила навязчивая, липкая мысль, как в детстве: «Не смотри в глазок, не смотри в глазок, не смотри в глазок!» Я начал медленно подходить ко входной двери, пятки вновь неприятно елозили по полу, в голове пульсировала кровь, где-то у крестца появилось неприятное тянущее ощущение. Спустя мгновение прильнул щекой к двери, прищурился и посмотрел в глазок. В подъезде, примерно в метре от нашей двери, неподвижно стояла одинокая фигура, как статуя или манекен. Одетая в длинное чёрное пальто и красный берет, лица я не разглядел. Как ни странно, я не испытал ужаса. Он снежным комом нарастал по мере приближения к двери, но мгновенно растаял, как только я увидел фигуру в подъезде. Спокойно и медленно, чтобы не спугнуть незнакомку, открыл дверь. – Здравствуйте, – сказал я фигуре. – Доброй ночи, – ответила фигура поставленным оперным голосом, который я сразу узнал. Сначала женщина не двигалась и стояла ко мне боком, но потом медленно повернулась и внимательно посмотрела на меня. У неё было вытянутое, болезненно-бледное лицо и глубоко посаженные глаза. Очень печальные, словно с бельмом концентрированного горя. Из-под красного берета, слегка поношенного, в мелких катышках, на плечи падали тонкие светлые волосы, безжизненные, как у утопленницы. Странная женщина, на вид – около сорока лет, высокая и худая. В принципе, она могла бы быть даже красивой, если бы не эта странная вытянутость, делавшая голову незнакомки похожей на запятую. Впрочем, облик женщины не отталкивал, а вызывал какое-то неясное сочувствие: казалось, что она очень несчастна и на её фоне любые наши горести и проблемы кажутся пустыми и несущественными. – Вы кого-то ждёте? – спросил я как можно более вежливо. Я испугался, что он ответит: «Вас». – Нет, я иду домой, – сказала женщина ровным, безэмоциональным голосом. В нём было нечто наигранное, так могла говорить карнавальная маска. – Это вы кричали всё это время? – я решил спросить в лоб. – Да, это я кричала, – таким же пустым, нулевым голосом проговорила женщина. Я ждал, что она что-то добавит, но она молчала. – А почему вы кричали? – Мне было плохо. – Плохо… Знаете, а приходите к нам в гости! – Я позабыл свою злость, раздражение и страх. Мне вдруг очень захотелось помочь этой несчастной разрушить кирпичную кладку, о которой говорил Михаил Юрьевич, протянуть руку. – Приходите! Да хоть завтра вечером. Чаю попьем, моя жена приготовит пирог. А ещё, знаете, наши соседи сверху, там мальчик Виталик и его мама, тоже придут. Посидим. – Хорошо, я приду, – всё так же безэмоционально ответила женщина и стала медленно подниматься по ступенькам, хотя у нас имелся старый, ещё довоенный лифт. – Спасибо. – Постойте, а на каком этаже вы живёте? – На седьмом, – ответила незнакомка, когда её фигура уже скрылась из виду. Я вернулся в постель и долго не мог заснуть. «Она не придёт, ведь в нашем доме нет седьмого этажа», – с этой мыслью я провалился в сон. Мне снились лестницы, которые никуда не ведут.Ничьё дитя Андрей Иванов
Правдивая история из нашей реальности
Меня звали Максим К. В этот год в моём городке Сосна зима оказалась холодной. Хотя, какая зима была в прошлом году, я точно не помнил. Больше всего мне нравилось ждать три вещи: редке просветы солнца в облаках, игры с соседской собакой и когда мама скажет моё имя. Я уже очень радовался, что я Максим. Но самому себя называть было неудобно, и ребята, замечая, когда я шепчу его, начинали цепляться. Я никогда не думал, сколько мне лет, не понимал, зачем это нужно. Соседи говорили, что десять, но развит на семь, что особенный ребёнок. Пусть так и думают. Их всех я не успевал любить, только хорошо думал о них. Кто появлялся редко, о тех вовсе не думал, но, встречая их взглядом, всегда гладил их. Гладил по рукам, а если люди были большие, то обнимал там, где колени. Сегодня не надо было ехать в школу: я долго болел, и в последние два дня меня уже пускали на улицу. Пока я ждал солнца, можно было подумать о маме. «Почему взрослые всегда боятся? Если страх – это такая игра, то она плохая. Хотя я боюсь, например, темноты, но это не страх. Боязнь кончается, когда я засыпаю или уже ночью, когда глаза привыкают к темноте, а у взрослых страх не проходит никогда. Мама, не бойся! Жалко взрослых. Дай им Бог себя!» У меня была интересная веточка: она разветвлялась на три направления. Я очистил её от коры и всегда носил с собой. Это были мама и мы втроём, я и две старшие сестры. Девочки со мной никогда не играли, но я мог в любой момент достать веточку и представить, что они со мной. Сейчас я смотрел сквозь неё на разрыв в облаках, где должно было показаться солнце. Хорошо бы найти веточку с четырьмя ответвлениями – четвёртая была бы собака. Мы жили в большом городском доме, и родители не разрешали заводить животных. Говорили, что тесно и нет денег. Поэтому я ходил по соседству к бабушке и дедушке в деревянный дом, не к своим, и брал у них из будки собаку. Погулять. Лохматая чёрная дворняжка Альма. Говорят, была старой, наверное, поэтому она не бегала, а медленно ходила со мной. Ласково тыкалась носом и надолго замирала в моих объятиях. Как зовут бабушку и дедушку, я всегда спрашивал, но не запоминал. Может, они обижались. Однажды в школе учительница спросила, у кого есть домашние животные и какие. Не считая кошек и собак, у ребят были попугайчики, черепахи, хомяки и даже ящерицы. У одного меня тогда не было никого. В школе я сдержался, а дома целый день плакал. Потом я нашёл соседскую собаку и бабушку с дедушкой. Меня они видели чаще своих внуков, и я был с ними чаще, чем со своими старшими родителями. Мне это нравилось. Бабушка всегда меня расчёсывала. «Как бесёнок лохматый!» – говорила она. Кто такой бесёнок? Смешная. Скоро Новый год, будет долгий, во всю ночь, салют, мы с собакой будем пугаться. Я буду тихо плакать от радости, есть припрятанные мандарины. Потом принесу очищенный мандарин Альме, но та есть не станет – наверное, потому что старая, а фрукты для детей. Все наши пойдут на улицу, я останусь дома, охранять, так я давно для себя придумал. Альму ведь держат для этого, чтобы стоять на страже. И я с ней. Пусть даже собака лает уже негромко. Всё это я подумал и вспомнил, пока мимо меня проезжала машина. Обычно машины ездят быстро, а эта была медленная. Наверное, её сделали, чтобы не ехать, а больше стоять. Раньше, когда я не ходил в школу, в окру́ге было больше людей и детей. Сейчас нашу и соседнюю школы объединили, вторую школу уже почти разрушили. Я, когда ещё дружил с некоторыми ребятами, тоже ходил бить окна. Окна не сразу поддавались. Но когда получалось разбить, стекло разлеталось, отбрасывая разноцветные отблески. Потом я выбирал интересные осколки, чтобы принести домой в коробку с моими штуками. Некоторым игрушкам у ребят я, конечно, завидовал. Особенно электронным, на телефонах с большим экраном. У меня был телефон на кнопках – я его прятал. В нём были «змейка» и что-то ещё, но я давно решил, что найденные на природе игрушки лучше. Таких ни у кого нет, они только мои. Каждая из них имела своё предназначение. В своём углу – спальня на всех детей была одна и без двери, она давно слетела с петель, а новую не поставили – я расставлял камушки и прокладывал дороги из маленьких стёкол. Мой город никому не мешал, хотя второй папа каждый раз мне говорил, чтобы строительство не препятствовало проходу. Первый папа, который тоже жил с нами, ему было негде, останавливал второго: «Пусть ребёнок играет! И так мало радости». Взрослые не ссорились, просто не замечали друг друга, нас тоже. Мама обычно сидела на кухне, пила светлый чай. Она никогда не выкидывала пакетик, а клала его снова и снова. Как будто он был ей особенно дорог или вкуснее других. Если бы мама пришла к нам, подсела, спросила о чём-нибудь, я бы построил ещё больше счастья. Как зовут маму, я вспоминал не всегда, но всегда её жалел и старался прикоснуться при любой возможности. Купал меня второй папа. Его руки были сильные, он крутил меня, растирал до красноты – мне становилось тоже хорошо. В конце я его целовал, он отстранялся с улыбкой: «Чего ты, телёнок?» У ребят в классе почти ни у кого не было папы, а у меня их целых два. Когда иногда приходили полицейские, они меня расспрашивали, не обижают ли они меня. Я отвечал: «Нет». Только иногда в шутку сажают с собой за стол, говорят: «Будешь третьим!» В большой комнате постоянно работал телевизор, даже если в ней никого не было. За время болезни я услышал несколько новостей, за которые очень переживал. «В Сосне мать выкинула из окна годовалого малыша». Что с ним сталось, я не расслышал. Уверен, он спасся – ведь на улице так много снега, если упасть, то мягко. Я сам прыгал в сугроб много раз. Но трудно вылезать. «Беспризорники разбили витрину в магазине и вынесли три коробки с шоколадками». Вот повезло им. Только я не знал, что значит беспризорники. Наверное, какие-то старшие ребята. Я видел, как такие всегда что-то ищут в заваленном рваными газетами подъезде или на детской площадке. Мне таким крутым никогда не стать. Может, попробую как-нибудь украсть шоколадку или три, себе и сёстрам – только надо про эту идею не забыть. Наш двор был огромный. Учительница говорит, что страна вообще гигантская, а дядя по телевизору сказал, что она даже нигде не заканчивается. Можно ехать на электричке целый год, но не везде есть рельсы, и там, наверное, приходится идти. Сегодня мама запретила забирать собаку, сказала, что можно заразить стариков, надо один день потерпеть. Завтра после школы можно сходить за Альмой. Хорошо. До завтра недолго, за сегодня мама назовёт по имени ещё несколько раз. Болеть мне нравилось: не надо никуда идти и делать бесконечные уроки. И можно есть много лука, который я очень любил. Когда ничего не оставалось, не было еды, я чистил луковицу и съедал её целиком. Было вкусно, но почему-то появлялись слёзы. Иногда объявляли удалённое обучение, но компьютер был один, и тогда учились только сёстры. Для меня мама придумывала повод не подключаться. Её даже вызывали в школу, но она не пошла. Сходил второй папа, который, вернувшись, не стал на меня кричать, а сказал, что ещё один ноутбук купить они не могут. После этого он даже со мной несколько дней занимался. Одна из сестёр сказала, что во многих деревнях ученики идут на холмы, где ловит сигнал, или даже залезают на деревья. Никому не хочется, чтобы на него учителя кричали. Я даже не боялся двоек, но зачем было кричать на меня и на других. Наверное, потому что где-то кричали на них. Ещё сладким воспоминанием были поездки на школьном автобусе. Он собирал много ребят, объезжал тихие дворы. Я всегда представлял, что мы путешествуем, оказываемся в других краях, ждал появления северных оленей или белых медведей. Они, конечно, вот только пробежали за тем домом, но автобуса боятся и не показываются. Над нами жила девочка, она ходила в школу на класс младше. Её родители жили оба в нашем подъезде, но на разных этажах, вообще не общались. И Маша жила то у мамы, то у папы. Часто девочка не хотела идти ни к одному из родителей, и я звал её к себе. Дверь у нас нередко была открыта, и я видел, как она бредёт по лестнице, замирает на площадке. А на прошлый Новый год её отец был уже пьяный и спал, а когда она пришла к маме, та сказала, что уезжает праздновать к друзьям. Маша потом рассказала, что провела всю ночь на площадке, делала вид, что ждёт. Соседи угощали её сладостями, она освободила коробку из-под мусора и складывала еду туда, даже осталось потом надолго. Несколько раз я звал Машу к себе, но ей мои игрушки не понравились, она просто сидела и смотрела на развешенную одежду сестёр. Сегодня она прошла, не снимая курточки, так Маша мне нравилась особенно. Как будто пришла из другой страны. – Хорошо у вас, вон у девочек туфли, а я в кроссовках хожу всю зиму. Мама говорит, что до остановки недалеко, не успеешь замёрзнуть. – Зато кроссовки у тебя красивые, – я правда так думал. – Да, яркие. Но в них набивается снег, и я сижу на уроках с мокрыми ногами. А у тебя полная семья. Не всем так везёт. Я слышала разговор директора с одной учительницей. Он сказал, что пришёл приказ не считать одинокого родителя с ребёнком семьёй, семьи – это только когда все вместе. – Я не думал об этом. Да, когда я вырасту, обязательно так и сделаю, – мне казалось, что в старшем возрасте мальчика выдают девочке, как учебники в школе, и я бы хотел, чтобы меня выдали Маше. Я пока не стал открывать ей свой секрет. Мама иногда давала мне деньги, на пирожок в школе. Но я его не покупал – стоять в очереди мне не нравилось, даже если в ней мало ребят, всё равно они толкаются и обзываются, – а копил монеты на кино. Будет тепло, и тогда накопится и достаточная сумма, и до кинотеатра можно будет пройти не по сугробам. И может, спрошу у сестёр их старые туфли, которые уже стали им малы. Хотя я знаю, что мама отдаёт их ношеные вещи своей подруге, у которой двое малышей. Мне вещи второй папа приносил с работы – они были почти новые. Того мальчика, чьи были курточка и шапочка, я не знал. Думаю, он не стал бы меня обижать. А деньги я хранил в той же коробке, где всё своё. Они были незаметны в куче моего добра. Когда-то папа так назвал мои игрушки: «добро». Мне очень понравилось. – А пойдём на кухню пить чай! – Ну пошли. Моя мама сидела в дальнем углу стола и смотрела наискосок в окно. Я давно привык к этому и знал, что она не помешает и ничего не скажет. – Здравствуйте, – тщательно выговорила Маша, у меня такое длинное и «задиристое» слово, много «з», не получалось. Маша села боком к столу, может, чтобы не смотреть на маму. Мама, наверное, всё же заметила: прибрала свисавшие волосы назад. Я, как маленький хозяин, нажал на кнопку чайника, подвинул гостье блюдце с оставшимися тремя конфетами. Маша взяла одну и моментально съела. Остальные оставила на чай. Пока вскипал чайник, я не решался поворачиваться – не хотел вспугнуть это приятное время. Маша подошла и встала рядом. – Сколько тебе сахара? – спросил я. – Три кусочка. – Ой, так сладко. Мне хватает одного. – Можно я возьму ещё сахар на потом? Не дожидаясь ответа, девочка спрятала в карман ещё рафинада. – Больше не надо: мама заругает, – прошептал я, хотя знал, что мама никак не отреагирует. Стульев за столом и на кухне было много. Я первый раз сел туда, где обычно сидел второй папа. Взрослые называли это местом председателя, в узком месте стола. Пили чай молча. Маша не доставала из чашки пакетик и ложку. От долгого заваривания чай у неё стал тёмным. А ложка мешала пить, постоянно скатываясь к руке. Вот смешная. Я свой пакетик сразу положил вместе с другими. Заметил, что многие пакетики переплелись ниточками, их, скорее всего, будет трудно заваривать, понадобится распутывать. В хлебнице остались только два кусочка нарезного батона, их брать было нельзя. Мама учила, что, когда мало остаётся чего-то из еды, вежливо будет спросить у всех, не хотят ли они это съесть. И, только если все откажутся, можно взять самому. Обоих пап не было, они на работе – поэтому я решил, что обойдёмся без хлеба. Чай был горячий, поэтому сидели и пили долго. Я повернулся к плите и чайнику: на кухне был беспорядок, а плита вообще вся жирная, с одинокой сковородкой. Мне стало стыдно перед Машей. Хорошо, что она смотрит в чашку. – Можно ещё? – спросила соседка. – Нет. У нас так нельзя, – ответил я. – Да, спасибо! Вкусный чай. Я пойду. – Хорошо. Хорошо, что пришла, – я прикоснулся к её курточке. Я думал, прикасаться к маме – самое большое удовольствие, а здесь по мне прошла такая волна нежности, которую я испытывал ко всем сразу. Когда Маша ушла, я сел к себе в уголок, спиной к коридору, и так сидел, держа в руках самые яркие стёкла. – Привет! – пришли сёстры из школы. – Да, привет! – ответил я, не поворачиваясь. Вдруг у меня что-то не так с лицом, и они заметят. – Выздоровел? Завтра в школу? – спросила вторая сестра. – Да. – Хочется? – Не знаю. Утром темно на улице, неприятно. – Попробую тебя проводить, – средняя сестра общалась со мной охотнее старшей, может, потому что была ближе возрастом. – Вот, купили тебе маленькие соки для школы. Смотри, апельсин, яблоко, ананас. На печенье не хватило. – Большое спасибо! – я протянул руку, чтобы посмотреть, такие ли соки. Соки были не такие, малышковые, «Агу-агу!». За такую марку меня дразнили ребята. Однажды я даже не допил сладкий, любимый мной манго. Пришлось выкинуть пакетик в мусорку. Я настолько любил этот сок, что на следующей перемене подошёл и посмотрел в ведёрко – пакетик лежал и не был даже не завален другим мусором. Я было хотел его достать и допить, но обидчики могли следить за ним. От обиды – тогда и сейчас – я беззвучно заплакал. Перед сном я снова вспомнил ощущения от того прикосновения. И старался, чтобы оно сохранилось со мной во сне. Я слышал, что, если сильно захотеть, можно самому себе навести сновидение. Но у меня ни разу не получилось. Как не получалось почти во всём. Но я к этому уже привык. Утром оказалось, что у обеих сестёр не будет первого урока, и проводить меня они не смогут. Все домашние одновременно умывались и толклись на кухне, завтракая, кто чем мог. Второй папа пропустил меня перед собой и защищал спиной ото всех других. – А, не буду сегодня чистить зубы, – сказал в сердцах папа, не надеясь прорваться к раковине. – Да, родственник, иди сегодня без зубов! – второй папа беспрерывно подшучивал над ним. Я запоминал эти шутки и отбивался ими перед сверстниками, помогало. Папа в отместку всем открыл окно настежь. Он никогда ни с кем не ругался, а делал что-то постороннее против. Пасты осталось совсем на дне тюбика, но второй папа смог выдавить дольку себе и мне. Мама ходила по квартире, расчёсывала большой, похожей на ёжика щёткой волосы. Что-то напевала. Я пытался уловить и запомнить мелодию, но за журчанием воды и басом второго папы мелодия пропадала. Я ещё возился с умыванием, а второй папа пошёл проверить мою одежду. Оказалось, не зря. – Мать, ты посмотри, – он поднёс к её лицу мои брюки. Я не знал, что там, но вжался, жаль, в ванной негде было спрятаться. Ругаться в этот раз не стали. Второй папа показал мне, в чём дело. – Вот, по всей штанине размазал сопли. Смотри. Понятно, что сам не заметил. Он долго замывал штанину. – Придётся тебе, брат, с сырой штаниной идти. – Да, спасибо! – сказал я с благодарностью, что не заругал. День начинался хорошо. На столе я допил за кем-то холодный чай. Завтраков у нас не было, это стало привычным – что-то ухватить или просто попить сладкого. Сочок я тоже взял, положил на дно портфеля, под учебники. Выпью потом по дороге из школы. – Максим, телефон у тебя заряженный? – спросила мама. Увидев, что заряда осталось совсем мало, соврал, что да, заряженный. В суете я часто забывал поставить телефон. Он не занимал у меня столько жизни, как у одноклассников, пользовался я им редко. – Ну иди, дорогой, – мама поправила мне шапку и слегка подтолкнула в спину. Я вышел один. У меня был огромный портфель, в который помещалась даже сменная обувь. Мне нравилось таскать такую ношу: я был одновременно как почтальон и космонавт. Сегодня было не очень холодно, поэтому ждать школьный автобус можно было сколько угодно. Подошёл мой одноклассник, мы поздоровались. Мне мама строго наказывала ждать именно школьный автобус и, когда мой товарищ сел в городскую маршрутку, я не стал так делать. В утреннем тумане машины появлялись интересно: фары вдруг загорались сразу рядом с остановкой, висели сами по себе в воздухе, и только потом появлялся автомобиль. Над улицей висел постоянный шум, и звук отдельных машин сливался с жизнью города. Выделялись только грузовики, их фары были выше других, а звук напоминал трубу без мелодии. Автобусы без конца приходили и уходили, люди вращались вокруг остановки. Старшие ребята тоже садились в городские маршрутки и быстро уносились вперёд. Я решил тогда не дожидаться школьного автобуса, боялся, что опоздаю на уроки, нас, не успевших вовремя, построят на первом этаже, наругают и потом дадут тряпки и вёдра, чтобы мы не болтались попусту, как говорил завхоз, а приносили пользу, мыли полы и стены. Трудиться мне нравилось, но я не хотел подводить маму и стыдиться за новое опоздание перед учительницей, которая и так была ко мне очень добра. Тем более я опаздывал сегодня не нарочно, опаздывал не я, а автобус. Это в прошлый раз я специально прыгнул в полынью, чтобы не ходить на контрольную. Пытаясь нагнать товарища, я сел вместе со старшими в обычный транспорт. Дядя водитель что-то у меня спросил, я не расслышал. Я подошёл к нему ближе. – Деньги есть у тебя? Тридцать рублей, – он говорил со мной не поворачивая головы, мне была непонятна его речь. – Где твои родители? – Давайте я заплачу за пацанёнка, – сказал кто-то из пассажиров, и мне стало за такое неудобно. Я привык ездить не бесплатном школьном транспорте, поэтому не всегда брал с собой деньги. И сегодня я по привычке сложил оставленные мне мамой монеты в свою коробку. Там было уже почти пятьсот рублей. Может, я даже отдам их родителям. Они всё спорят, как отдавать кредит. Хотят взять ещё кредит, чтобы расплатиться с нынешним. Говорят, что все так делают и гори всё огнём. Странное выражение. Чтобы не объяснять дяде эту длинную историю, я вышел на следующей остановке. Куда идти, я примерно знал. Вот берег речки, овраг. Расстояние оказалось больше, чем я ожидал. Перешёл через мост. Хорошо, что туман стал рассеиваться. Я понял, что уже точно опоздал. Увидел магазин, подошёл к витрине, но денег всё равно не было, а заходить, чтобы продавец о чём-то начала спрашивать, я не хотел. Ещё скажет, что прогуливаю, а я не прогуливал. Зашёл, постоял между дверями, погрелся. Но надо было торопиться. Когда я вышел на дорогу, до ближайших домов надо было идти ещё столько же. В этом районе я никогда не был. Даже дойти в соседний двор и потом вернуться я мог не всегда. «Как там сейчас мама? Надо ей позвонить, чтобы не переживала за меня». Телефон замёрз, и сигнал долго не проходил. Потом несколько минут мама не отвечала на звонок. Телефон сел. Я срезал дорогу, пошёл по сугробам. Вот тропинка. Я уже потом понял, что это были чьи-то звериные следы. Потому что на каждом шаге проваливался, когда по колено, когда больше. А зверёк пробежал совсем поверху, едва задевая порошу. Мне нравились старинные слова. Я их специально заучивал, бывало, приходилось повторять по много-много раз. Я шептал в основном незнакомые слова, но некоторые я специально запомнил. Помимо разных названий снега, мне врезалось в память «веремя» – это по-старинному время. Веремя – от слова «вращение». Я сейчас так же вращался, как это самое время, но найти дорогу не получалось. Тогда я решил идти домой. Я озяб, пальцы рук перестали слушаться, пришлось сжать их в кулаки и греться об себя. Вроде бы показались знакомые дома. Я подошёл, но это был тот же чужой район. Все большие дома в городе были одинаковые. Вдалеке виднелись другие высотки. У нас в городе много рек, и даже взрослые не знали всех названий. Но эту речку, которая протекала между этим районом и нашим, я знал: у неё было забавное название – Канава. Мимо проходили люди, все спешили по своим делам, кто на работу, кто отводил малышей в детский сад. Я никогда не ходил в детский сад, наверное, там хорошо, много ребят, много игрушек. Говорят, можно спать днём. – Мальчик, ты заблудился? – спросила проходившая мимо женщина. Я отстранился и ничего не ответил: мама запрещала разговаривать с чужими взрослыми. Подождав, пока тётя уйдёт, пошёл вдоль реки. Тротуары петляли вокруг домов, и по ним трудно было найти правильную дорогу. Вдоль реки было наверняка хорошо. Да, хорошо, скоро наступит весна, и по Канаве можно будет пускать кораблики. Тем более хорошо, что кораблики никогда не кончались – досочек и веточек из-под снега торчало множество, как будто они сами просились в долгое плавание, где из одной реки можно попасть в другую, а там, совсем далеко, море. Вот бы побывать на море – вырасту, обязательно поеду на море. И тут я провалился в речку. Лёд же должен быть толстый: зима морозная. Но, наверное, я стал весить больше, мама иногда говорила, что вот, растёт маленький кабанчик. Вода обожгла холодом. Провалился только по пояс. Портфель в воду не попал. За мокрые учебники и тетради могли сильно наказать, например, лишить прогулок с Альмой. Выбрался я быстро. Отошёл от реки и побрёл вдоль склона. Я шёл и прятался от людей, чтобы не заметили мои мокрые брюки. «Как сейчас мама? Грустно ей или весело? Когда столько счастья, столько нас, как можно грустить? И скоро Новый год. Пусть мама всегда будет счастлива!» – я думал всё медленнее. Потом я уже не знал, думаю или нет, стал приходить сон, в нём начиналось лето, вода в речке становилась тёплой. В какой-то момент, в котором я уже не чувствовал, но был в нём по-детски счастлив, я, Максим К., умер.
Табор Ольга Иванова
 С невысокого холма по песчаной, залитой жёлтым светом дороге к берёзовому лесочку, к мирно журчащей речке потихоньку шагали разномастные цыганские лошадки, запряжённые в крытые пёстрыми коврами и попонами кибитки. Негромкий, нежный хор девичьих голосов сливался с пением полевых птах.
Старый цыган в рваной, потерявшей цвет рубахе, с большой серебряной серьгой в сморщенном чёрном ухе, погонявший переднего гнедого, поднял руку, крикнул, оглянувшись назад. Повозки свернули к реке.
Позвякивая монистами, выбрались из кибиток девушки, легко прыгая по камням босыми ногами, побежали к воде, но строгий окрик бабушки заставил их вернуться.
На зелёной лужайке задымился костёр, рядом – гора хвороста. В полукружье повозок, входами друг к другу, стояли несколько рогожных и полотняных палаток. Большой, покрытый ковром шатёр в центре.
Женщины хлопотали над закопчённым котлом, покрикивая на полуголых ребятишек, затеявших беготню между палатками.
Девушки столпились на берегу, за частыми кустами ивняка, скрываясь от глаз соплеменников, сбрасывали с себя юбки-индараки и, оставшись в одной, нижней, с шумом, с визгом бросались в чистые струи.
Накупавшись, принялись за стирку, бережно передавая друг другу серый кусок мыла и старательно раскладывая на тёплых камнях выстиранную одежду.
Потом ещё долго отмывали, отстирывали ребятишек, а самых маленьких купали у костра, в нагретой воде, выкопав в земле ямку и выстелив её старой, наполовину стёршейся клеёнкой.
Солнце медленно ползло к горизонту. Надвигались сумерки.
У костра цыганки кормили детей, деревянными ложками зачёрпывая из железных мисок густое варево. Мужчины, расположившись в стороне, курили, поджидая, когда освободится посуда.
Женщины и девушки ели последними.
Солнце село за реку, надвинулись синие сумерки. Лёгкий дневной ветерок усилился и будто бы остыл без солнышка.
Молодая пышноволосая красавица с тяжёлым, подвязанным чёрным платком животом, неспешно направилась к берегу, вошла по колено в потемневшую воду, не заботясь о намокших юбках. Осторожно склонилась над потемневшими струями, зачёрпывая ладонями, и вдруг насторожилась, услышав странный звук, будто звякнул металл. Выпрямилась, испуганно осматриваясь. Что-то большое и непонятное покачивалось на воде в нескольких шагах от неё. Ужас охватил цыганку. Однажды в детстве ей случилось видеть распухшего утопленника, и братья рассказывали, как неожиданно он всплыл прямо перед ними.
Женщина пронзительно закричала. От шатров к берегу бросились трое молодых парней, и следом две длиннокосые девочки лет десяти с одинаковыми лицами. Беременная цыганка, держась одной рукой за живот, другой показывала на неизвестный предмет.
Это был большой мешок, в котором что-то тихонько позвякивало. Потянули и решили, что находка зацепилась за корень или острый камень на дне. Но через секунду из воды показался маленький худой человек, вцепившийся руками в верёвку, которой был завязан мешок.
– Раклори! Чужая девочка! – закричали глазастые близнецы. Однако старшие быстро распознали свою, племяшку беременной цыганки, девочку Лёльку. Её моментально вытащили на берег, тормоша и расспрашивая, почему она оказалась в воде. Она не отвечала, только оглядывалась, моргая мокрыми ресницами, дрожа, откашливаясь и всхлипывая, крепко сжимала в руках верёвку.
– Что у тебя в мешке? – спросила её беременная, и девочка, будто опомнившись, протянула ей верёвку. Любопытные лица склонились над мешком. Парень, первым обнаруживший находку, торопливо пытался развязать намокший узел.
– Успеете посмотреть! – раздался грубый окрик старика с серьгой. – Чаялэ! Отведите её к костру, дайте сухую рубашку!
Девушки увлекли Лёльку за собой в рогожную палатку, растёрли холстинкой, заставили переодеться.
Тем временем совсем стемнело, и бархатный звёздный шатёр простёрся над табором. Костёр запылал ярче.
Цыгане с трудом развязали мешок (старик строго запретил резать хорошую верёвку) и с громкими возгласами доставали из него солдатские кружки, миски, помятую кастрюлю, побитый молочный бидончик без крышки, несколько пустых бутылок с пробками, связку больших и маленьких свечей, смотанных бечёвкой, обёрнутые больничной клеёнкой ношеные сапоги яловой кожи, в одном из которых лежал грубый самодельный нож с деревянной ручкой. В цветастую клеёнку, которой, судя по вытертым сгибам, когда-то накрывали большой стол, были завёрнуты несколько аккуратно сложенных кусков намокшей ткани разных расцветок, местами довольно ветхой, несколько пар шерстяных носков разных размеров, штопанные на локтях детские кофты, две пары детских ботинок с ободранными носами, тщательно смазанных ваксой. Было там ещё немало завёрнутых в тряпки хозяйственных мелочей: слегка ржавые ножницы, жестяная коробка с ухналями (гвоздями для подков), ещё одна с колёсной мазью, костяной гребень, клубок прочных чёрных ниток с иголками в консервной банке и, к визгливому восторгу маленьких цыганок, кукла с торчащими волосами, спелёнатая ситцевым платком.
Лёльку привели к костру, усадили на одеяло, налили в кружку чая с сушёными яблоками и хотели было начать допрос, но она, сделав несколько глотков, осторожно поставила кружку на землю, прислонилась спиной к колесу кибитки, закрыла глаза и заснула.
– Не троньте её! – сказала бабушка Софья. – Укройте, пусть спит! Завтра день будет!
Когда табор угомонился, девочка проснулась, тихонько выбралась из-под одеяла, приблизилась к затухающему костру.
О бабушке Софье цыгане говорили, что она не спит никогда. Действительно, спящей её можно было застать очень редко, и, когда это случалось, чтобы не разбудить, разговаривали вполголоса и шикали на детей. И всё равно она просыпалась через несколько минут.
Она сидела на земле у костра, покачиваясь с полуприкрытыми глазами, держа в руке потухшую трубку. Когда Лёлька подбросила дровишек в костёр, перевела на неё взгляд:
– Садись, чайри. Рассказывай.
– Что рассказывать, бабушка? Про мешок? Я не знаю… не могу вспомнить…
– Как живёшь, рассказывай. Какие сны видишь…
И девочка стала рассказывать свои странные сны, в которых она жила совсем другой жизнью.
А потом до самого утра слушала рассказ старухи о прошлом. О странной судьбе, о первой и единственной любви, о дальней-дальней дороге, приведшей её к этому негаснущему цыганскому костру…
С невысокого холма по песчаной, залитой жёлтым светом дороге к берёзовому лесочку, к мирно журчащей речке потихоньку шагали разномастные цыганские лошадки, запряжённые в крытые пёстрыми коврами и попонами кибитки. Негромкий, нежный хор девичьих голосов сливался с пением полевых птах.
Старый цыган в рваной, потерявшей цвет рубахе, с большой серебряной серьгой в сморщенном чёрном ухе, погонявший переднего гнедого, поднял руку, крикнул, оглянувшись назад. Повозки свернули к реке.
Позвякивая монистами, выбрались из кибиток девушки, легко прыгая по камням босыми ногами, побежали к воде, но строгий окрик бабушки заставил их вернуться.
На зелёной лужайке задымился костёр, рядом – гора хвороста. В полукружье повозок, входами друг к другу, стояли несколько рогожных и полотняных палаток. Большой, покрытый ковром шатёр в центре.
Женщины хлопотали над закопчённым котлом, покрикивая на полуголых ребятишек, затеявших беготню между палатками.
Девушки столпились на берегу, за частыми кустами ивняка, скрываясь от глаз соплеменников, сбрасывали с себя юбки-индараки и, оставшись в одной, нижней, с шумом, с визгом бросались в чистые струи.
Накупавшись, принялись за стирку, бережно передавая друг другу серый кусок мыла и старательно раскладывая на тёплых камнях выстиранную одежду.
Потом ещё долго отмывали, отстирывали ребятишек, а самых маленьких купали у костра, в нагретой воде, выкопав в земле ямку и выстелив её старой, наполовину стёршейся клеёнкой.
Солнце медленно ползло к горизонту. Надвигались сумерки.
У костра цыганки кормили детей, деревянными ложками зачёрпывая из железных мисок густое варево. Мужчины, расположившись в стороне, курили, поджидая, когда освободится посуда.
Женщины и девушки ели последними.
Солнце село за реку, надвинулись синие сумерки. Лёгкий дневной ветерок усилился и будто бы остыл без солнышка.
Молодая пышноволосая красавица с тяжёлым, подвязанным чёрным платком животом, неспешно направилась к берегу, вошла по колено в потемневшую воду, не заботясь о намокших юбках. Осторожно склонилась над потемневшими струями, зачёрпывая ладонями, и вдруг насторожилась, услышав странный звук, будто звякнул металл. Выпрямилась, испуганно осматриваясь. Что-то большое и непонятное покачивалось на воде в нескольких шагах от неё. Ужас охватил цыганку. Однажды в детстве ей случилось видеть распухшего утопленника, и братья рассказывали, как неожиданно он всплыл прямо перед ними.
Женщина пронзительно закричала. От шатров к берегу бросились трое молодых парней, и следом две длиннокосые девочки лет десяти с одинаковыми лицами. Беременная цыганка, держась одной рукой за живот, другой показывала на неизвестный предмет.
Это был большой мешок, в котором что-то тихонько позвякивало. Потянули и решили, что находка зацепилась за корень или острый камень на дне. Но через секунду из воды показался маленький худой человек, вцепившийся руками в верёвку, которой был завязан мешок.
– Раклори! Чужая девочка! – закричали глазастые близнецы. Однако старшие быстро распознали свою, племяшку беременной цыганки, девочку Лёльку. Её моментально вытащили на берег, тормоша и расспрашивая, почему она оказалась в воде. Она не отвечала, только оглядывалась, моргая мокрыми ресницами, дрожа, откашливаясь и всхлипывая, крепко сжимала в руках верёвку.
– Что у тебя в мешке? – спросила её беременная, и девочка, будто опомнившись, протянула ей верёвку. Любопытные лица склонились над мешком. Парень, первым обнаруживший находку, торопливо пытался развязать намокший узел.
– Успеете посмотреть! – раздался грубый окрик старика с серьгой. – Чаялэ! Отведите её к костру, дайте сухую рубашку!
Девушки увлекли Лёльку за собой в рогожную палатку, растёрли холстинкой, заставили переодеться.
Тем временем совсем стемнело, и бархатный звёздный шатёр простёрся над табором. Костёр запылал ярче.
Цыгане с трудом развязали мешок (старик строго запретил резать хорошую верёвку) и с громкими возгласами доставали из него солдатские кружки, миски, помятую кастрюлю, побитый молочный бидончик без крышки, несколько пустых бутылок с пробками, связку больших и маленьких свечей, смотанных бечёвкой, обёрнутые больничной клеёнкой ношеные сапоги яловой кожи, в одном из которых лежал грубый самодельный нож с деревянной ручкой. В цветастую клеёнку, которой, судя по вытертым сгибам, когда-то накрывали большой стол, были завёрнуты несколько аккуратно сложенных кусков намокшей ткани разных расцветок, местами довольно ветхой, несколько пар шерстяных носков разных размеров, штопанные на локтях детские кофты, две пары детских ботинок с ободранными носами, тщательно смазанных ваксой. Было там ещё немало завёрнутых в тряпки хозяйственных мелочей: слегка ржавые ножницы, жестяная коробка с ухналями (гвоздями для подков), ещё одна с колёсной мазью, костяной гребень, клубок прочных чёрных ниток с иголками в консервной банке и, к визгливому восторгу маленьких цыганок, кукла с торчащими волосами, спелёнатая ситцевым платком.
Лёльку привели к костру, усадили на одеяло, налили в кружку чая с сушёными яблоками и хотели было начать допрос, но она, сделав несколько глотков, осторожно поставила кружку на землю, прислонилась спиной к колесу кибитки, закрыла глаза и заснула.
– Не троньте её! – сказала бабушка Софья. – Укройте, пусть спит! Завтра день будет!
Когда табор угомонился, девочка проснулась, тихонько выбралась из-под одеяла, приблизилась к затухающему костру.
О бабушке Софье цыгане говорили, что она не спит никогда. Действительно, спящей её можно было застать очень редко, и, когда это случалось, чтобы не разбудить, разговаривали вполголоса и шикали на детей. И всё равно она просыпалась через несколько минут.
Она сидела на земле у костра, покачиваясь с полуприкрытыми глазами, держа в руке потухшую трубку. Когда Лёлька подбросила дровишек в костёр, перевела на неё взгляд:
– Садись, чайри. Рассказывай.
– Что рассказывать, бабушка? Про мешок? Я не знаю… не могу вспомнить…
– Как живёшь, рассказывай. Какие сны видишь…
И девочка стала рассказывать свои странные сны, в которых она жила совсем другой жизнью.
А потом до самого утра слушала рассказ старухи о прошлом. О странной судьбе, о первой и единственной любви, о дальней-дальней дороге, приведшей её к этому негаснущему цыганскому костру…
* * *
Мы никогда не торопились из школы домой. Но с тех пор, как приехала бабушка, почти бежим. Дома всё хорошо, мама больше не плачет, папа приходит вовремя, и в кармане у него обязательно есть что-нибудь для нас: карамельки, пастила или орехи. А ещё дома нас ждёт вкусный обед. Как же бабушка умеет готовить! Мы врываемся в комнату, где она наводит порядок в шкафу. На кресле лежит ворох моих платьев, Лёшкиных рубашек и старых игрушек. – Пошун ту ман[1], Лёля, – обращается она ко мне, – тут полно того, из чего ты выросла. Ну вот эта кукла, зачем она тебе? Отдала бы детям, у которых нету! – Конечно, отдам, только кукла эта старая уже, некрасивая. Посмотри, она выгорела, волосы торчат, и губы я ей неудачно накрасила… А что за дети, где они? – Кукла некрасивая? Для них она красавица! В мой табор отдай. – Бабулечка, не пойму. Ты сама говорила, что твой табор по свету развеялся… Бабушкин взгляд снова изменился, будто она увидела кого-то, кому была очень рада. Только нельзя было понять, куда она смотрит. – Это здесь он по свету развеялся, табор мой, – говорит она тихо и загадочно, каким-то совсем другим голосом, – а там он живёт… Там я живу, молодая, сильная, там мои сёстры, братья… Бабушка моя сошла с ума? Или она имеет в виду, что табор живёт в её душе? В воспоминаниях? Хорошо, что не слышит мама… Я заметила, что в присутствии мамы она никогда не говорит ничего загадочного и странного, никогда не бормочет заклинаний, никогда не вспоминает своих сестёр и братьев, никогда не смотрит в золотую воду, вообще свой медный тазик не достаёт… Я не успеваю подать стул, и бабушка тихо усаживается на пол. И вот сидит и смотрит непонятно куда, про меня забыла, про уборку забыла, тихонько шевелит губами, то хмурится, то улыбается… Секунды идут… Мне страшно… Но вот она поворачивает ко мне голову и спрашивает: – Ну, что сидишь? Кто убирать будет? Мы сортируем одежду на три кучки: то, что нужно повесить в шкаф, то, что нужно прежде привести в порядок, и то, что нужно выбросить. Таких вещей всего несколько – две тёплые кофточки с вытертыми локтями, две пары стоптанных ботинок, старые Лёшкины штаны непонятно какого цвета. Всё это она особенно внимательно осматривает, складывает старую одежду, потом долго чистит и мажет каким-то жиром ботинки, опускает всё на дно большого мешка, принесённого из кладовки. В этом мешке уже много всякой ерунды, вроде ржавых ножниц, консервной банки или старой бельевой верёвки. Я думала, она это барахло соберёт и выбросит. Только непонятно, зачем консервную банку мыть, выстукивать молоточком заусеницы от консервного ножа, заворачивать в бумагу…* * *
Я просыпаюсь безо всякой причины. Будто меня что-то ударило изнутри. Что происходит? Или мне показалось? Я прислушиваюсь к тишине, к ровному лёгкому дыханию брата на соседней кровати, к тиканью часов на стене и убеждаю себя в том, что всё в порядке. Ночь. Все спят. Всё хорошо. Поворачиваюсь на другой бок и пытаюсь заснуть. И слышу звук… Будто тихонько звякнула ложечка о край чашки… Но почему в моём сердце этот звук отдаётся грозным колоколом? Я тихонько поднимаюсь и босиком крадусь на кухню, путаясь в длинной ночной рубашке, ощупывая рукой стену, чтобы не споткнуться в темноте. Дверь плотно закрыта, но увидеть, что там происходит, можно через выпиленный для беспрепятственного проникновения кошки уголок. Сквозь него на пол падает волнующийся тускло-оранжевый свет. Чтобы заглянуть в кухню, нужно лечь на холодный пол. От увиденного дрожь пробегает по телу. Там бабушка, она колдует… Сидит на низкой табуретке, а перед ней её золотая чаша. Седые косы распущены, спина сгорблена, руки со скрюченными коричневыми пальцами в перстнях дрожат над водой… Бабушка шепчет заклинания, надсадно вздыхает и хрипловато стонет. У её ног стоит завязанный верёвкой мешок с тем самым старым барахлом, кажущийся здесь совершенно неуместным… Я не чувствую ледяного пола – я чувствую ледяной ужас. Цепенею, когда бабушка медленно поворачивает голову и делает мне знак рукой: иди сюда! Источник света – керосиновая лампа за её головой, поэтому лица не различить. Я понимаю, что не могу подняться с пола – тело не слушается, я будто тяжелобольная… Хочу произнести слова извинения, хочу заплакать – не могу, губы будто каменные! Какая-то сила поднимает меня и ставит на ноги. Деревянными пальцами ощупываю ручку двери, деревянной рукой тяну на себя и на деревянных ногах иду к бабушке. А она будто снова забыла про меня. Руки с костлявыми сморщенными пальцами Бабы-яги застыли над светящейся в полутьме водой, глаза, которые теперь можно рассмотреть, неподвижны и будто бы не живы. Моё сердце колотится всё сильнее, я дрожащим голосом бормочу извинения, но бабушка подаёт мне знак: молчи! Минуты тянутся бесконечно. Наконец она оборачивается ко мне, и её глаза оживают. Некоторое время молча смотрит на меня, а потом хрипло говорит: – Лёлушка, сердце моё… пойди, оденься. И приходи ко мне. Что покажу тебе! Что покажет? Любопытство побеждает страх. Я бегу к себе, надеваю домашнюю кофту и недавно сшитую по-цыгански длинную юбку. Бабушка даёт мне в руку верёвку, которой завязан мешок, сильным движением поверх моих пальцев заставляет сжать руку, шепчет чуть слышно: – На дар, Лёлушка, подыкх пани[2]… Держи мешок, не роняй! Я смотрю в заколдованную воду, но не вижу ничего особенного. Обыкновенная прозрачная, чуть дрожащая вода. Вот над ней возникает бабушкина рука. Ладонь опускается на поверхность воды и брызжет мне в лицо. Я вздрагиваю и зажмуриваюсь. Но глаза открываются сами собой, вода оказывается неожиданно приятной. Я вижу всё будто более ясно и чётко. Особенно интересно смотреть в воду. Оказывается, если долго не отрывать взгляда, можно увидеть речные волны. И даже гладкие камешки на дне. И даже корни прибрежных ив, омываемых холодными струями. Очень холодными и прозрачными. Я опускаю в воду руку и ловлю пальцами холод, и резкий, и приятный. Хочется упасть в эту реку, погрузиться с головой… Я чувствую, что вода сейчас поглотит меня и затянет, но клонюсь всё ниже и не могу поднять лицо. Голова кружится, ледяная влага пронизывает, как тысяча стальных ножей. Что это, воронка, водоворот? Я же утону! Но нет, пальцы ног почти сразу касаются дна, а течение оказывается не таким уж сильным. Я выбираюсь на берег по скользкой речной гальке. Ноги у меня босые, но наступать на камни не больно. Холод ушёл, я его уже не чувствую. Мне помогают выбраться на берег, откуда доносятся сквозь шум речной волны громкие и весёлые человеческие голоса. Мой табор стоит на берегу. Я в этом таборе родилась и жила всегда. Здесь все мои родные. Вон ту девочку с бусами красного янтаря на шее зовут Милица, а кучерявого длинноногого мальчишку с подсохшей ссадиной на лбу – Марко. Я бреду босиком по холодной траве. Женщины развешивают на ветках деревьев выстиранную одежду, громко обсуждая свой скудный заработок от гадания, от лечения заговорами деревенских детей. Девушки хлопочут у костра. Мужчины в стороне увлечённо разговаривают, показывают друг другу свои ножи, сравнивая качество ковки. Прислоняюсь спиной к шершавому прохладному стволу старого дерева и закрываю глаза. Опять мне снился сон про совсем другую жизнь. Жизнь, где нет пронизывающего холода и изнуряющей жары, где чисто и светло, где дождь не проникает в тёплое жилище, дети не плачут от голода и не болеют от плохой еды… А всё же я больше люблю эту, настоящую жизнь! Милица кричит на меня: – Опять без дела бродишь?! Ну-ка, давай воды принеси! – и суёт мне в руки ведро. – Как вечер, так купаешься! А в ведро воды набрать не уговоришь! Сегодня опять в воду полезешь? И всё по темноте! А ну как не вытащат тебя? Утонешь ведь! Я торопливо спускаюсь вниз, приподнимая подол индараки, спотыкаясь о корни деревьев, вхожу в воду и ловлю ведром прозрачные струи. Подняться на высокий берег с тяжёлым ведром не так просто, как спуститься вниз, камни осыпаются, цепкие корни путаются в ногах… Милица принимает у меня ведро, спешит к костру и ловко подвешивает его на треногу. Я бестолково суечусь рядом. Мне поручено самое приятное: купать малышей Анисью, Магду и Митю. До чего же я люблю их купать! Дело непростое: Богу помолясь, сначала надо выкопать ямку в земле, ровно такую, чтобы детям было удобно, потом выстелить её соломой и свежими листьями лопуха, а потом клеёнкой, которая в таборе одна и стала уже ветхой, но не дай Господи порвать её – детей не в чем купать будет. Это так делается летом. Когда похолодает, сначала в ямке нужно будет прожечь костёр и оставить стенки тёплыми. Моя сестра Ружана держит на одной руке голенькую Анисью, а второй рукой сжимает пухлую ладошку Митьки. Магда постарше, она стоит рядом в ожидании. Анисья дёргает Ружану за косу и смеётся. Какой же у неё нежный и милый голосок! Ружана и Магда тожесмеются. Я наливаю в клеёнку воду из тяжёлого ведра. Дети радостно плещутся сначала в тёплой, а потом и в остывшей водичке, не мёрзнут. Анисье и Магде нужно ещё прополоскать волосы в настое берёзового листа, чтобы не путались и росли косами, а не «кудлами», как говорит бабушка Софья. Купание заканчивается громким рёвом – дети не хотят покидать остывшую купель. Мы с Ружаной заворачиваем их в шали и поим тёплым молоком из глиняных кружек. А потом любуемся их сладким засыпанием… И наконец относим в палатку, где Марфа кормит грудью ещё одного малыша – беленького приёмыша Алёшеньку. Она его любит едва ли не больше, чем родного сына. Потому что он такой крошечный и болезненный… Я с трудом открываю глаза. Лицо и волосы у меня мокрые, рубашка тоже влажная. Бабушка крепко обнимает меня и прижимает к своей костлявой груди. – Что со мной было? – спрашиваю я. Голос мой слаб и вял, голова тяжела, язык во рту еле ворочается, руки дрожат, если бы не бабушкины объятия, я бы свалилась. – Я что, сознание потеряла? Почему я мокрая? – Хорошо всё, ласточка моя! – улыбаясь, напевает мне в ухо бабушка. – Ты сейчас иди к себе, поспи, до утра время есть. Утром поговорим. Она вытирает мне лицо полотенцем, доводит до постели, помогает переодеться в чистую сухую рубашку, укрывает одеялом и ещё долго сидит около меня, гладя мне волосы и тихонько напевая старинную песню о том, что в войне огня и воды вода всегда побеждает… Брат будит меня, толкая в плечо: – Лёля! Лёлька! Олька! Вставай, опоздаем! Обычно я встаю раньше него. Сегодня просыпаюсь с трудом, но в общем чувствую себя вполне свежей и бодрой. Бабушка заплетает мне косы быстро, ловко и аккуратно. Ни один волосок не торчит. Я так не умею. На кухне уже чуть остыла каша в тарелках с янтарным маслом в серединке, тает сахар в чашках с чаем. Бабушка улыбается и гладит нам с Лёшкой макушки. В школе я не могу сосредоточиться на уроках, то и дело возвращаюсь мыслями к своему необыкновенному сну. Целая жизнь приснилась. Не моя, а бабушкина. Будто бы она в той жизни – это я. Вот придём домой, я спрошу у неё, как это может быть, чтобы чужая жизнь приснилась. Откуда я знаю, что сон именно про бабушкину жизнь? А про чью же? Там же был её табор, вся её родня… и всё то, что она любит… В конце концов я получаю двойку по математике, потому что не могу ответить ни на один вопрос задания. Лёшка поворачивается ко мне, его брови напряжённо изгибаются, он смотрит с недоумением. Вечером я липну к бабушке, и она не отстраняется. Когда мы с ней остаёмся на кухне одни, я, вытирая льняным полотенцем тарелки, говорю: – Баб, я тебе сон хочу рассказать. – Про табор? – Откуда ты знаешь?! – теряюсь я. – Да, про табор… – Знаю я твой сон. – Как?! Тебе он тоже снился? – Мне разное снилось. Ты снилась, братишка твой снился… Когда ещё я такой, как ты была. – Бабушка, разве так бывает?! Бабушка складывает в шкафчик посуду и молчит. Я канючу: – Ба-аб! Ну баб!! Она забирает у меня из рук тарелку и ставит на полку, а потом поворачивается ко мне и говорит: – Ну, расскажи, красавица моя, что ты помнишь? Что за сон был? Я не знаю, с чего начать. Сон был длинный и путаный, я вспоминаю всё новые и новые подробности… – Ну, кто там был? Милица была? Осип, Марко, Ружана, Аниська? Бабушка Софья была? Про нас с тобой расспрашивала? Она рассказывает мне мой сон. Я молчу и удивляюсь, только иногда поправляю её: нет, дедушка не болеет… У рыжей кобылы один жеребёнок, это у серой два… Еды хватало… Мука есть, и сухари есть, и ягод много насушили… Меня вдруг охватывает странное чувство… Холодок в груди… Страх… Почему мне страшно? Я же у себя дома, рядом со мной любимая бабушка, которая не даст меня в обиду никому – ни болезням, ни сердитому завучу, ни папе, ни маме, ни драчуну-брату! Я беру бабушку за руку, и её сухие пальцы сжимают мою кисть. Я не узнаю своего голоса. Он трепещет и волнуется. – Бабушка, расскажи мне правду! Что это было?! Что за сон?! Это что, на самом деле всё было?! Как?! Как это всё может быть?! Она некоторое время ещё молчит, а потом говорит устало и нехотя: – Лёлушка, ты не сердись! Колдовство это. Колдую я… Я уж старая совсем, сил-то нет… Из воды не выберусь… А ты молодая, сильная, ловкая! Такая, как я была. Ты – это я и есть. Тогда. Там. Она снова замолкает, открывает окно и закуривает папиросу. Потом продолжает: – Знаешь же – табор наш совсем бедный. Нужно помочь было, детонька моя! Так сильно и громко моё сердце не выстукивало дробь никогда! – Бабушка, а как же… Не пойму ничего! Там же это так долго всё было! Я там жила, взрослая уже была! А здесь – совсем не выросла! – Лёлушка, колдовство это… Там жизнь прошла, а здесь – одна секунда времени, малюсенькая-премалюсенькая… Вода это такая в золотой чаше. От колдовства.Коленькина любовь Игорь Галилеев
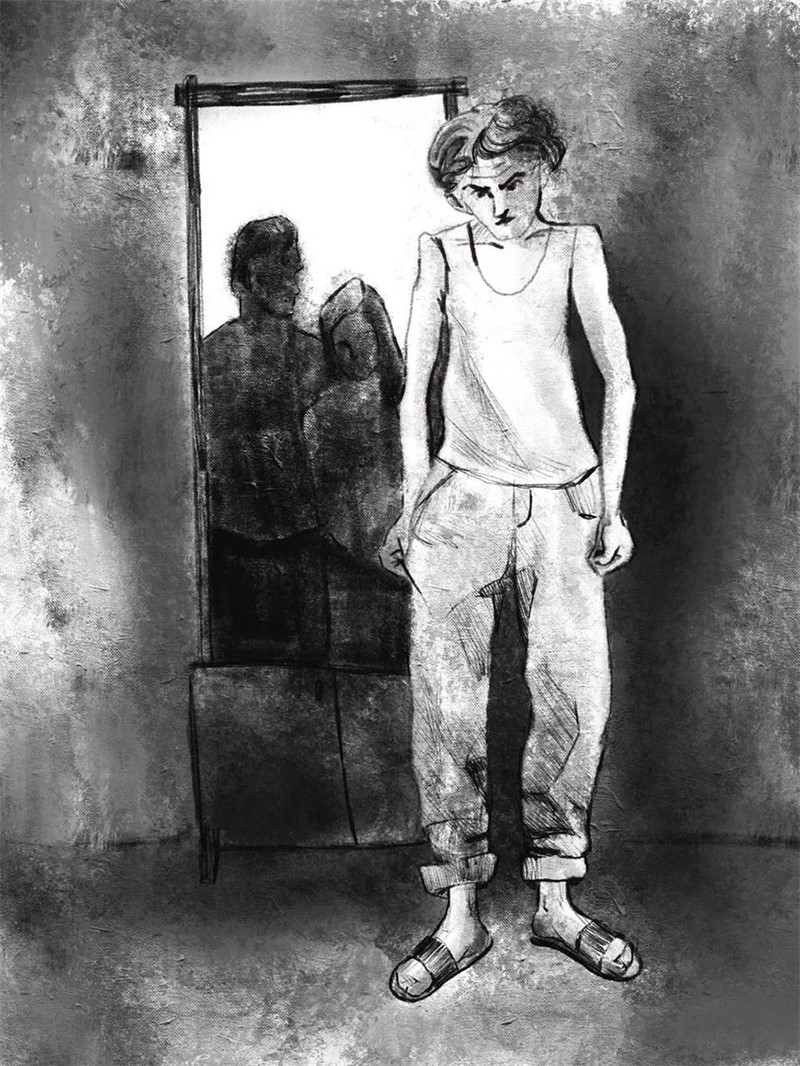 …Ненавижу май! Не пойму – чего в нём может быть хорошего? Чему все радуются-то? Как назло, буквально все вокруг обнимаются и даже целуются. Ненавижу!
…Потому что меня никто не любит. Сижу один перед окном. Жду. Может, мать придёт – хотя бы так покажет, что родная кровинушка для неё не совсем безразличной стала.
Хотя какая там мать? Её же судом родительских прав лишили… Сколько я здесь, в детдоме-то? Считай, полгода уже… За всё время только два раза была. И то для того, чтобы какие-то бумаги справить. Даже яблочко не принесла. Или конфеток. Может, конечно, денег нет, со своим очередным хахалем пропили всё…
Ну вот неужели не тянет на сына одним глазком взглянуть? Мол, как я здесь, не обижает ли кто… Или, может, нужно чего…
Нет, теперь у нас пути разные, разошлись дороженьки. От этого грустно, плакать хочется. Ведь не справится она без меня. Не выживет…
А ещё этот май проклятущий! Будто о новой жизни нашёптывает. Ох, какая же короткая она у несчастного человека – моргнуть не успеешь, глядь, а его и нет уже. Как та черёмуха, которая во дворе нашего детдома растёт, – одна-одинёшенька, грустная, ветерок посильнее дунул, и слетела фата. И снова – не нужна никому до следующей весны, до следующего мая…
Шаги в коридоре за дверью спальной комнаты прервали мои мысли как раз на том месте, с которого обычно я плакать начинал, – так, потихонечку, пока нет никого, чтобы не видел никто – как сейчас: все на занятиях в классе, а я здесь, больным сказался…
Дверь распахнулась, наша заведующая Ольга Лукьяновна, которую среди себя мы Оле-Лукойе зовём, зашла.
– Коленька, вот ты где, – говорит. – А я уже обыскалась тебя.
Подошла и ладонь к моему лбу прижала.
– Всё хорошо? – посмотрела внимательно. – Температура есть?
– Нет у меня ничего, – из-под руки вывернулся. – Чего вы все привязались-то?!
– Коленька, я же волнуюсь, – Оле-Лукойе вздохнула. – Тем более, там приехали к тебе…
Меня как миной подбросило.
– Кто? Мамка? – и с подоконника вскочил.
Заведующая рукой по моим волосам провела, приглаживая.
– Пойдём, мой хороший, сейчас узнаешь.
К двери подошла, меня ждёт. Я тапочки нашмыгнул, брюки повыше подтянул, подумал: мол, ремень бы мне, а то падают уже, похудел я что-то совсем.
Ольга Лукьяновна меня пропустила и следом вышла, за руку, как маленького, взяла.
– Пойдём, а то ведь полчаса уже ждут…
– Да кто там?
– Коленька, я не могу сейчас сказать, кто они для тебя. Или кем они для тебя станут. Но ты не бойся, люди вроде хорошие.
– Какие ещё люди?! – закричал я на весь коридор и руку вырвал. – Не нужен мне никто, кроме мамки! Я только её люблю!
Оле-Лукойе остановилась и строго так посмотрела.
– Коля, ты уже взрослый, тебе десять лет неделю как исполнилось, – говорит. – Поздравила тебя мама? Нет? Чего молчишь? Вот сам себе и ответь – а ты ей нужен? Она тебя любит?
Помолчала секунду.
– Так-то вот, Коленька… А ты говоришь… У тебя, может быть, новая жизнь начинается, счастье наконец-то появится.
И, видя, что я насупился, снова за руку взяла.
– Пойдём, мой хороший, хотя бы просто познакомишься, поговоришь.
Мы уже около двери её кабинета были. Ольга Лукьяновна ещё раз внимательно посмотрела на меня, оценивая, воротник рубашки поправила и постучалась тихонько. Я даже удивился:
– Вы чего к себе стучитесь-то? Вы же здесь, со мной стоите…
Оле-Лукойе улыбнулась:
– И правда… Видишь, как я волнуюсь за тебя…
Дверь открыла и меня легонько в спину подтолкнула – заходи, мол.
На фоне солнечного окна я увидел два силуэта – лиц вначале было не разглядеть: майские лучи глаза резали, слезами наполняя. Хотел поздороваться, но из-за комка в горле побоялся слова произнести, чтобы вдруг на девчачий писк не сорваться.
В угол кабинета, где большое зеркало висит, отошёл. И тут себя увидел – весь как кулёма какой-то: нескладный, худой, словно из разного конструктора собранный. Вдобавок лохматый – постричься давно пора. И глаза на бледном лице краснющие – наверное, на солнце насмотрелся. Ну не от слёз же…
– Вот, Коленька, знакомься, – Ольга Лукьяновна за свой стол прошла. – Это…
– Не надо, пожалуйста, – прервал её приятный женский голос. – Мы сами…
Я от зеркала отвернулся и на женщину посмотрел. На первый взгляд она показалась вроде бы ничего, доброй, то есть незлобной – лицо красивое, открытое, с осторожной улыбкой – видно, что волнуется. И глаза понравились – с нежностью и теплом смотрят.
Женщина встала со стула и рукой на плечо мужчины оперлась. Наверное, муж её. Потому что похожи – я где-то читал, что если в семье всё хорошо, то супруги внешнее сходство приобретают. Учительница литературы говорит, что любовь, как садовые ножницы, – все шероховатости срезает, чтобы в итоге идеальная красота получилась. Поэтому во всём мире влюблённые люди якобы друг на друга похожи и в одно лекало умещаются. По моему же мнению, всё это ерунда. Враньё. Видел я этих влюблённых – ходят, как дурачки, улыбаются непонятно чему, рты раззявив. Мух ловят… Только этим и похожи.
Женщина ко мне подошла. Примерно в метре остановилась. Смотрит.
– Меня Еленой зовут. А это мой муж (ага, угадал, значит!) Михаил. Как тебя зовут – мы знаем. Мы с тобой познакомиться приехали, Коля…
И руку для пожатия протягивает. Её ладонь оказалась мягкой и тёплой. Приятной… И запах от женщины был ненавязчивый – аромат цветочных духов переплетался с запахами чистоты и свежести. Мамка так никогда не пахла – вокруг неё всегда было облако табачного дыма. А иногда, когда в автопарке, где кондуктором работала, на ночные смены оставалась, – бензином и водкой.
– Зачем? – спрашиваю.
– Что «зачем»? – не поняла Елена.
– Зачем я вам нужен? Что, других детей, что ли, мало? Вон, недавно двоих совсем маленьких привезли – они-то вас за настоящих родителей считать станут. А я что? Я мамку люблю. И неважно, какая она. Другой всё равно не будет!
Последние слова я уже Ольге Лукьяновне сказал. И из кабинета выбежал…
Больше месяца с той встречи прошло. Елена со своим «близнецом» мужем из головы не выходили – сироте доброе слово, что пальто зимой: согревает. Думалось, зря я их обидел – люди-то вроде хорошие. Да и ни при чём они, не виноваты, что у меня жизнь вот так сложилась.
Мать так и не приезжала. Закрутилась, наверное, совсем, или забыла вовсе.
Предала…
Июнь выдался прохладным и пасмурным, с частыми дождями. Послеобеденный положенный по расписанию сон я не люблю – пустая трата времени. За нами, мальчишками, и не следил особо никто – так, пройдётся воспитатель или сама Оле-Лукойе, посчитает по головам, что не убёг никто, и целый час делай что душе угодно. Кто-то читает, кто-то и правда спит, а я вот в окно смотреть люблю. Сегодня решил посчитать, сколько капелек дождя за три минуты на стекло падает. И всегда ли их количество одинаковое.
В четырнадцатом счёте на девяносто шестой капле всё и случилось…
Во двор детдома въехали две машины: одна наша – на этих «Жигулях» завхоз иногда Ольгу Лукьяновну возит, другая – незнакомая белая «Волжанка».
Первой из неё вышла та самая Елена…
Встала около дверцы, на окна смотрит…
Меня увидела, рукой помахала – мол, привет. Поймал себя на том, что улыбаюсь в ответ. Тоже поднял руку и ладонь к стеклу прижал.
Подумал, что сердце сейчас из груди выскочит: зачем опять приехали-то? Неужели ко мне? Или, может, кого другого выбрали?
С водительского места «Волги» муж Елены вышел – только сейчас я понял, что он на д’Артаньяна из русского кино про мушкетёров похож. И тоже меня поприветствовал. В это время Оле-Лукойе в здание зашла. Через минуту шаги в коридоре послышались. Всё это время я не дышал. Ждал.
Дверь открылась…
– Не спишь, Коленька?
Заведующая подошла и, как обычно делала, волосы на моей голове пригладила. Вздохнула почему-то.
– Собирайся, мой хороший, приехали за тобой…
А я и сказать ничего не могу. Вдруг слёзы полились. А как же мамка-то теперь? С собой же взять её не смогу.
Ладонью влагу по щекам размазал, и тут Ольга Лукьяновна меня к себе притянула, а сама в мои волосы уткнулась – слышу, тоже плачет…
– Как же ты там будешь, Коленька? – шепчет. – Если вдруг чего – ко мне приходи, я всегда помогу, выручу. Да и так просто пиши, о себе рассказывай…
Отстранилась, из кармашка кофты платок вынула – вначале мне глаза промокнула, потом себе.
– Ну всё, мой хороший, пора…
Тумбочки у нас на двух человек были, так что вещей… в один пакет уместить можно: шахматы, которые мне ещё в той, из старой жизни, школе подарили, книжка про подвиг одного лётчика без ног, набор фломастеров, половина из которых уже кончились, и так, кое-что из одежды по мелочи. В общем, всё в одну сумку с ремешком через плечо уместилось.
Когда вещи складывал, буквально все в спальной комнате головы от подушек подняли, на меня смотрят – кто тоже со слезами, мол, везёт, семью нашёл, а кто просто так, от тоски по своим родителям или прошлому.
Ольга Лукьяновна в дверях стояла, не торопила. Когда я на кровать присел, ко мне снова подошла, рядом устроилась, за плечи обняла, вздохнула.
– Посидим, мой хороший, на дорожку…
Пока по коридорам детдома шёл, всё каким-то размытым было, исчезающим. Сразу за дверью во двор меня Елена с супругом встретили. Михаил по плечу тихонько похлопал, мол, держись, и сумку мою взял. На глазах Елены, смотрю, слёзы поблескивают. Но и улыбка была – как бы подбадривала: всё хорошо, переживать не нужно…
Ольга Лукьяновна к ней подошла.
– Вы уж берегите Коленьку… – говорит. – Он хороший…
Михаил в это время меня к задней дверце «Волги» подвёл, сначала сумку внутрь положил.
– Ну что, братец, запрыгивай. Домой поедем…
Домой…
Через окошко увидел, как две женщины обнялись на прощание – обеим, наверное, поддержка нужна.
Елена вперёд села, на меня оглянулась, посмотрела так внимательно, протяжно.
Наконец тронулись.
Назад смотреть не хотелось – боялся, что не сдержусь. И только когда выехали за территорию, я поднял голову.
И вдруг увидел её.
Мама…
Она медленно шла от видневшейся невдалеке остановки в сторону детдома. Ко мне шла…
– Мама! Мама!!! – заорал на всю мощь. – Мамочка!!! Ну стойте! Остановите же машину!!!
Михаил нажал на тормоз, и «Волжанка», подавшись вперёд, встала. Открыв дверцу, я выскочил из машины в ещё не успевшую осесть пыль обочины.
Мама была в пяти метрах от меня, и это расстояние я преодолел за секунду.
– Мамочка! – подбежал, обнял её, в плечо уткнулся. – Ну где же ты была так долго? Ведь чуть не опоздала же! Ещё бы немного, и меня увезли…
А сам плачу, остановиться никак не могу. Мама от меня отстранилась. Молчит. И тут она увидела Елену, которая тоже из машины вышла, – растерянная смотрит на нас.
Моя мама к ней подошла. Тихонько так, слышу, говорит:
– Вы, наверное, ему лучшей, чем я, матерью станете, – глаза опустила, в землю смотрит. – С вами он не пропадёт… Привыкнет. А меня забудет. Ведь никчёмная я, родила по случайности. Так что… ваш он теперь…
И дальше пошла, даже на меня не посмотрела.
Я было с места сорвался, за ней хотел бежать. Мама мой рёв услышала, как будто только сейчас своего сына увидела.
– Уйди от меня! – закричала. – Чего привязался, как пиявка? Вон, у тебя новые родители есть! А меня забудь! Слышишь? Забудь!!!
Что было дальше, я не помню. Наверное, память меня пожалела, стёрла эти самые горькие в моей жизни минуты. Самые горькие слёзы высушила.
Да и Елена с Михаилом помогли, поддержали через свою любовь и заботу. От всего сердца за это благодарен им. Но маму я всё равно продолжаю любить. Даже после её смерти – она через год после той истории от рака умерла…
Потом, спустя многие годы, в один из моих приездов в детдом, Ольга Лукьяновна рассказала мне, что мама все те слова специально сказала, чтобы мне легче было.
Чтобы забыл её быстрее…
Рассказала, что она больше часа у неё в кабинете сидела, плакала, никак успокоиться не могла. Затем, когда вышла, по той самой дороге, по которой меня увезли, побежала.
Догнать хотела…
Но разве догонишь её, жизнь-то?
…Ненавижу май! Не пойму – чего в нём может быть хорошего? Чему все радуются-то? Как назло, буквально все вокруг обнимаются и даже целуются. Ненавижу!
…Потому что меня никто не любит. Сижу один перед окном. Жду. Может, мать придёт – хотя бы так покажет, что родная кровинушка для неё не совсем безразличной стала.
Хотя какая там мать? Её же судом родительских прав лишили… Сколько я здесь, в детдоме-то? Считай, полгода уже… За всё время только два раза была. И то для того, чтобы какие-то бумаги справить. Даже яблочко не принесла. Или конфеток. Может, конечно, денег нет, со своим очередным хахалем пропили всё…
Ну вот неужели не тянет на сына одним глазком взглянуть? Мол, как я здесь, не обижает ли кто… Или, может, нужно чего…
Нет, теперь у нас пути разные, разошлись дороженьки. От этого грустно, плакать хочется. Ведь не справится она без меня. Не выживет…
А ещё этот май проклятущий! Будто о новой жизни нашёптывает. Ох, какая же короткая она у несчастного человека – моргнуть не успеешь, глядь, а его и нет уже. Как та черёмуха, которая во дворе нашего детдома растёт, – одна-одинёшенька, грустная, ветерок посильнее дунул, и слетела фата. И снова – не нужна никому до следующей весны, до следующего мая…
Шаги в коридоре за дверью спальной комнаты прервали мои мысли как раз на том месте, с которого обычно я плакать начинал, – так, потихонечку, пока нет никого, чтобы не видел никто – как сейчас: все на занятиях в классе, а я здесь, больным сказался…
Дверь распахнулась, наша заведующая Ольга Лукьяновна, которую среди себя мы Оле-Лукойе зовём, зашла.
– Коленька, вот ты где, – говорит. – А я уже обыскалась тебя.
Подошла и ладонь к моему лбу прижала.
– Всё хорошо? – посмотрела внимательно. – Температура есть?
– Нет у меня ничего, – из-под руки вывернулся. – Чего вы все привязались-то?!
– Коленька, я же волнуюсь, – Оле-Лукойе вздохнула. – Тем более, там приехали к тебе…
Меня как миной подбросило.
– Кто? Мамка? – и с подоконника вскочил.
Заведующая рукой по моим волосам провела, приглаживая.
– Пойдём, мой хороший, сейчас узнаешь.
К двери подошла, меня ждёт. Я тапочки нашмыгнул, брюки повыше подтянул, подумал: мол, ремень бы мне, а то падают уже, похудел я что-то совсем.
Ольга Лукьяновна меня пропустила и следом вышла, за руку, как маленького, взяла.
– Пойдём, а то ведь полчаса уже ждут…
– Да кто там?
– Коленька, я не могу сейчас сказать, кто они для тебя. Или кем они для тебя станут. Но ты не бойся, люди вроде хорошие.
– Какие ещё люди?! – закричал я на весь коридор и руку вырвал. – Не нужен мне никто, кроме мамки! Я только её люблю!
Оле-Лукойе остановилась и строго так посмотрела.
– Коля, ты уже взрослый, тебе десять лет неделю как исполнилось, – говорит. – Поздравила тебя мама? Нет? Чего молчишь? Вот сам себе и ответь – а ты ей нужен? Она тебя любит?
Помолчала секунду.
– Так-то вот, Коленька… А ты говоришь… У тебя, может быть, новая жизнь начинается, счастье наконец-то появится.
И, видя, что я насупился, снова за руку взяла.
– Пойдём, мой хороший, хотя бы просто познакомишься, поговоришь.
Мы уже около двери её кабинета были. Ольга Лукьяновна ещё раз внимательно посмотрела на меня, оценивая, воротник рубашки поправила и постучалась тихонько. Я даже удивился:
– Вы чего к себе стучитесь-то? Вы же здесь, со мной стоите…
Оле-Лукойе улыбнулась:
– И правда… Видишь, как я волнуюсь за тебя…
Дверь открыла и меня легонько в спину подтолкнула – заходи, мол.
На фоне солнечного окна я увидел два силуэта – лиц вначале было не разглядеть: майские лучи глаза резали, слезами наполняя. Хотел поздороваться, но из-за комка в горле побоялся слова произнести, чтобы вдруг на девчачий писк не сорваться.
В угол кабинета, где большое зеркало висит, отошёл. И тут себя увидел – весь как кулёма какой-то: нескладный, худой, словно из разного конструктора собранный. Вдобавок лохматый – постричься давно пора. И глаза на бледном лице краснющие – наверное, на солнце насмотрелся. Ну не от слёз же…
– Вот, Коленька, знакомься, – Ольга Лукьяновна за свой стол прошла. – Это…
– Не надо, пожалуйста, – прервал её приятный женский голос. – Мы сами…
Я от зеркала отвернулся и на женщину посмотрел. На первый взгляд она показалась вроде бы ничего, доброй, то есть незлобной – лицо красивое, открытое, с осторожной улыбкой – видно, что волнуется. И глаза понравились – с нежностью и теплом смотрят.
Женщина встала со стула и рукой на плечо мужчины оперлась. Наверное, муж её. Потому что похожи – я где-то читал, что если в семье всё хорошо, то супруги внешнее сходство приобретают. Учительница литературы говорит, что любовь, как садовые ножницы, – все шероховатости срезает, чтобы в итоге идеальная красота получилась. Поэтому во всём мире влюблённые люди якобы друг на друга похожи и в одно лекало умещаются. По моему же мнению, всё это ерунда. Враньё. Видел я этих влюблённых – ходят, как дурачки, улыбаются непонятно чему, рты раззявив. Мух ловят… Только этим и похожи.
Женщина ко мне подошла. Примерно в метре остановилась. Смотрит.
– Меня Еленой зовут. А это мой муж (ага, угадал, значит!) Михаил. Как тебя зовут – мы знаем. Мы с тобой познакомиться приехали, Коля…
И руку для пожатия протягивает. Её ладонь оказалась мягкой и тёплой. Приятной… И запах от женщины был ненавязчивый – аромат цветочных духов переплетался с запахами чистоты и свежести. Мамка так никогда не пахла – вокруг неё всегда было облако табачного дыма. А иногда, когда в автопарке, где кондуктором работала, на ночные смены оставалась, – бензином и водкой.
– Зачем? – спрашиваю.
– Что «зачем»? – не поняла Елена.
– Зачем я вам нужен? Что, других детей, что ли, мало? Вон, недавно двоих совсем маленьких привезли – они-то вас за настоящих родителей считать станут. А я что? Я мамку люблю. И неважно, какая она. Другой всё равно не будет!
Последние слова я уже Ольге Лукьяновне сказал. И из кабинета выбежал…
Больше месяца с той встречи прошло. Елена со своим «близнецом» мужем из головы не выходили – сироте доброе слово, что пальто зимой: согревает. Думалось, зря я их обидел – люди-то вроде хорошие. Да и ни при чём они, не виноваты, что у меня жизнь вот так сложилась.
Мать так и не приезжала. Закрутилась, наверное, совсем, или забыла вовсе.
Предала…
Июнь выдался прохладным и пасмурным, с частыми дождями. Послеобеденный положенный по расписанию сон я не люблю – пустая трата времени. За нами, мальчишками, и не следил особо никто – так, пройдётся воспитатель или сама Оле-Лукойе, посчитает по головам, что не убёг никто, и целый час делай что душе угодно. Кто-то читает, кто-то и правда спит, а я вот в окно смотреть люблю. Сегодня решил посчитать, сколько капелек дождя за три минуты на стекло падает. И всегда ли их количество одинаковое.
В четырнадцатом счёте на девяносто шестой капле всё и случилось…
Во двор детдома въехали две машины: одна наша – на этих «Жигулях» завхоз иногда Ольгу Лукьяновну возит, другая – незнакомая белая «Волжанка».
Первой из неё вышла та самая Елена…
Встала около дверцы, на окна смотрит…
Меня увидела, рукой помахала – мол, привет. Поймал себя на том, что улыбаюсь в ответ. Тоже поднял руку и ладонь к стеклу прижал.
Подумал, что сердце сейчас из груди выскочит: зачем опять приехали-то? Неужели ко мне? Или, может, кого другого выбрали?
С водительского места «Волги» муж Елены вышел – только сейчас я понял, что он на д’Артаньяна из русского кино про мушкетёров похож. И тоже меня поприветствовал. В это время Оле-Лукойе в здание зашла. Через минуту шаги в коридоре послышались. Всё это время я не дышал. Ждал.
Дверь открылась…
– Не спишь, Коленька?
Заведующая подошла и, как обычно делала, волосы на моей голове пригладила. Вздохнула почему-то.
– Собирайся, мой хороший, приехали за тобой…
А я и сказать ничего не могу. Вдруг слёзы полились. А как же мамка-то теперь? С собой же взять её не смогу.
Ладонью влагу по щекам размазал, и тут Ольга Лукьяновна меня к себе притянула, а сама в мои волосы уткнулась – слышу, тоже плачет…
– Как же ты там будешь, Коленька? – шепчет. – Если вдруг чего – ко мне приходи, я всегда помогу, выручу. Да и так просто пиши, о себе рассказывай…
Отстранилась, из кармашка кофты платок вынула – вначале мне глаза промокнула, потом себе.
– Ну всё, мой хороший, пора…
Тумбочки у нас на двух человек были, так что вещей… в один пакет уместить можно: шахматы, которые мне ещё в той, из старой жизни, школе подарили, книжка про подвиг одного лётчика без ног, набор фломастеров, половина из которых уже кончились, и так, кое-что из одежды по мелочи. В общем, всё в одну сумку с ремешком через плечо уместилось.
Когда вещи складывал, буквально все в спальной комнате головы от подушек подняли, на меня смотрят – кто тоже со слезами, мол, везёт, семью нашёл, а кто просто так, от тоски по своим родителям или прошлому.
Ольга Лукьяновна в дверях стояла, не торопила. Когда я на кровать присел, ко мне снова подошла, рядом устроилась, за плечи обняла, вздохнула.
– Посидим, мой хороший, на дорожку…
Пока по коридорам детдома шёл, всё каким-то размытым было, исчезающим. Сразу за дверью во двор меня Елена с супругом встретили. Михаил по плечу тихонько похлопал, мол, держись, и сумку мою взял. На глазах Елены, смотрю, слёзы поблескивают. Но и улыбка была – как бы подбадривала: всё хорошо, переживать не нужно…
Ольга Лукьяновна к ней подошла.
– Вы уж берегите Коленьку… – говорит. – Он хороший…
Михаил в это время меня к задней дверце «Волги» подвёл, сначала сумку внутрь положил.
– Ну что, братец, запрыгивай. Домой поедем…
Домой…
Через окошко увидел, как две женщины обнялись на прощание – обеим, наверное, поддержка нужна.
Елена вперёд села, на меня оглянулась, посмотрела так внимательно, протяжно.
Наконец тронулись.
Назад смотреть не хотелось – боялся, что не сдержусь. И только когда выехали за территорию, я поднял голову.
И вдруг увидел её.
Мама…
Она медленно шла от видневшейся невдалеке остановки в сторону детдома. Ко мне шла…
– Мама! Мама!!! – заорал на всю мощь. – Мамочка!!! Ну стойте! Остановите же машину!!!
Михаил нажал на тормоз, и «Волжанка», подавшись вперёд, встала. Открыв дверцу, я выскочил из машины в ещё не успевшую осесть пыль обочины.
Мама была в пяти метрах от меня, и это расстояние я преодолел за секунду.
– Мамочка! – подбежал, обнял её, в плечо уткнулся. – Ну где же ты была так долго? Ведь чуть не опоздала же! Ещё бы немного, и меня увезли…
А сам плачу, остановиться никак не могу. Мама от меня отстранилась. Молчит. И тут она увидела Елену, которая тоже из машины вышла, – растерянная смотрит на нас.
Моя мама к ней подошла. Тихонько так, слышу, говорит:
– Вы, наверное, ему лучшей, чем я, матерью станете, – глаза опустила, в землю смотрит. – С вами он не пропадёт… Привыкнет. А меня забудет. Ведь никчёмная я, родила по случайности. Так что… ваш он теперь…
И дальше пошла, даже на меня не посмотрела.
Я было с места сорвался, за ней хотел бежать. Мама мой рёв услышала, как будто только сейчас своего сына увидела.
– Уйди от меня! – закричала. – Чего привязался, как пиявка? Вон, у тебя новые родители есть! А меня забудь! Слышишь? Забудь!!!
Что было дальше, я не помню. Наверное, память меня пожалела, стёрла эти самые горькие в моей жизни минуты. Самые горькие слёзы высушила.
Да и Елена с Михаилом помогли, поддержали через свою любовь и заботу. От всего сердца за это благодарен им. Но маму я всё равно продолжаю любить. Даже после её смерти – она через год после той истории от рака умерла…
Потом, спустя многие годы, в один из моих приездов в детдом, Ольга Лукьяновна рассказала мне, что мама все те слова специально сказала, чтобы мне легче было.
Чтобы забыл её быстрее…
Рассказала, что она больше часа у неё в кабинете сидела, плакала, никак успокоиться не могла. Затем, когда вышла, по той самой дороге, по которой меня увезли, побежала.
Догнать хотела…
Но разве догонишь её, жизнь-то?
Друг Артём Северский
 Мать была в плохом настроении, и Тоня ожидала, когда начнётся. После ужина, во время которого зло гремели тарелки и оглушительно звенели вилки с ложками, девочка пошла в свою комнату – делать уроки. Мать мыла посуду, шум из кухни проникал через приоткрытую дверь. Тоня подошла, чтобы закрыть её, и вздрогнула. Мать стояла у порога, вытирая руки полотенцем.
– Куда? Уроки! – яростное лицо, на щеках неровный румянец.
Тоня подумала: «Её опять подменили. С работы сюда то и дело возвращается другая женщина, просто она в маминой коже».
В животе у Тони вспыхнул факел.
– Я как раз собиралась…
– А ну живо садись.
Девочка попятилась к столу, на котором светила лампа и лежали учебники и тетради. Столкнулась со стулом и, быстро повернувшись, села на него.
– Ты почему опять так себя ведёшь, а? Почему издеваешься надо мной? – мать вошла в комнату, повесив полотенце на плечо.
Тоня раскрыла учебник математики, взяла черновую тетрадку. Мать уселась на кровать поверх покрывала.
Начиналась экзекуция.
– Я ничего такого не делала, – прогундосила девочка.
– Да? А дела по дому почему не выполнила? Я велела пропылесосить. Ты пылесосила?
Материн голос едва не срывался на крик.
Тоня сгорбилась на стуле, чуть не уткнувшись в тетрадку носом.
– Хочешь меня в могилу свести. Да? Говори. Хочешь? Я из-за тебя седая стану скоро. Старухой стану. Ах, ты хочешь, чтобы я стала старухой! Чего молчишь?
Тоня, потея от страха, помотала головой.
– Ну спасибо. Добрая доча позволяет мне оставаться молодой. Земной тебе поклон. Могу спать спокойно. А знаешь, как называются такие девочки, как ты? А? Есть очень взрослое слово для тебе подобных.
– Ничего я не делала, – вырвалось у Тони. За этим могли последовать взрыв, удар, крик, но мать осталась на кровати.
– Ну и ну-у-у!
Девочка задрожала. Она очень сильно боялась этой фразы и этого тона.
– Делай уроки, чего сидишь! Сидит она!
Тоня сделала вид, что решает пример, но перед глазами была пелена, через которую она не различала ни букв, ни цифр. Рука, держащая ручку, взмокла.
– Я знаю, что ты говорила вчера с тем мальчишкой из второго подъезда. Думаешь, я дура слепая? Всё я знаю. Ты говорила с ним. И ещё что-то думала про него у себя в головёнке. Что думала? Знаешь, как называют таких, как ты? Мне вот, взрослой женщине, стыдно даже, ей-богу! Зачем ты с ним разговаривала? Я тебе запретила. Из школы сразу домой. Никаких разговоров ни с кем! А может, ты не только с ним говорила? Или не только говорила?
Мать, поднявшись с кровати, подошла к Тоне.
– В машины к чужим дядькам садишься? Говори! Садишься? Что они с тобой делают там? Я знаю. Я знаю. Всё по твоим глазам читаю. Тебе нравится, да? Они тебя трогают, целуют в разные места, прости господи. А потом дают конфеты, шоколад, деньги. Ну, где ты деньги прячешь?
Хлёсткий удар влажным полотенцем стал неожиданностью. Девочка вскрикнула, закрывая голову руками. Мать ударила ещё раз, сильнее.
– Где ты деньги прячешь?
Тоня лежала ничком на столешнице, мечтая умереть.
– Негодяйка! Бессовестная!
Мать схватила её за волосы, несколько раз резко дёрнула, и девочка завизжала.
– Таких, как ты, надо сдавать в интернат, чтобы вас там муштровали день и ночь и держали на хлебе и воде. Хочешь в интернат?
Тоня не могла ничего сказать из-за плача. Слёзы стекали по переносице, падали на тетрадь. Нос забился. Но ещё сильнее забилось ужасом всё её тело.
– Мама, прости меня.
– Простить тебя? Не прощают тех, кто предаёт свою мать. Ясно? Их сдают в интернат навсегда. Думаешь, я буду к тебе приезжать? Привозить передачи? Шиш тебе. А после интерната, когда ты вырастешь, тебя отправят во взрослую тюрьму. Поняла? Тебе там самое место! – теперь она торжествовала, прохаживаясь по комнате и размахивая руками. Картины жизни Тони взаперти ясно представали перед её взором. – И ты и тебе подобные плохие девочки останутся в тюрьме навсегда. Будете работать, чтобы приносить пользу государству. А как ты думала, милая? Задаром тебя никто кормить не обязан, между прочим!
Тоня заикалась, но всё-таки выдавила:
– Я больше так не буду, прости меня, мамочка!
– Чего не будешь?
– Я больше так не буду…
Мать хлестала её, пока не устала рука. Затем передышка – и «серьёзный разговор» продолжился.
Тоня получила свободу только через полтора часа и была настолько измождена, что заснула прямо за столом.
Вскоре во входную дверь позвонили. Мать, сидевшая в большой комнате перед телевизором, состроила недовольное лицо и пошла открывать.
За порогом стоял мужчина с кейсом в руке, одетый в длинный тёмно-серый плащ и шляпу.
– Добрый вечер, – сказал он, приветливо улыбаясь. – Прошу прощения, что мешаю вашему отдыху.
У мужчины, на вид лет сорока, было приятное гладкое лицо, типичное, но, на взгляд матери Тони, привлекательное.
– Да ерунда. Здрасьте.
– Я могу войти? Дело в том, что я живу в вашем доме, в последнем подъезде. Я представляю инициативную группу граждан.
– Да? – Женщина не помнила, чтобы к ней кто-то обращался, хотя соседей знала неплохо. – И в чём дело?
Мужчина снял шляпу и держал её на уровне груди за тулью. Сейчас он сильно напоминал какого-то киноперсонажа. Этакий чиновник из восьмидесятых.
Решив быть милой и вежливой, тем более он казался ей симпатичным, женщина отошла в сторону и прибавила:
– Да вы не стойте там, входите.
– Спасибо.
Он улыбнулся и шагнул в прихожую. Мать Тони включила бра.
– Обувь можете не снимать.
Оба одновременно опустили глаза на его туфли. Выглядели они новыми, даже блестели.
– Спасибо. Куда пройти?
– А давайте на кухню, – заюлила мать Тони, жалея, что толком не причёсана и в домашнем старом халате выглядит, наверное, как бомжиха. – У меня не прибрано.
– Ничего страшного, – заверил её мужчина.
В жёлтом свете лампочек выявилась одна странность его лица. Отсутствие бровей и ресниц. Мать Тони, поначалу чуть огорошенная таким открытием, решила, что ладно, всякое в жизни случается.
Они прошли на кухню. Мужчина сел на предложенный стул и водрузил кейс себе на колени. Мать Тони хотела сбегать переодеться, но ей была неприятна идея оставить чужого на кухне. Вдруг он что-нибудь украдёт. Мужчинам она не очень доверяла, хотя конкретно этому могла бы простить небольшую диверсию на своей территории.
Короче, решила остаться.
– А в какой вы квартире живёте? – спросила мать Тони, садясь напротив.
Мужчина положил шляпу на стол и ответил:
– Мне больше негде жить. Я бы хотел остановиться у вас. Метры позволяют. Думаю, и наш общий бюджет станет вполне подходящим для безбедного существования.
Мать Тони подалась вперёд.
– Что?
– Вопрос ремонта внутридомовой электросети будет решаться на общем собрании через неделю, а сейчас я хотел бы взять вашу подпись. Что вы соглашаетесь на ремонт электрощитов. Сами видите, в каком они у нас состоянии, – мужчина открыл кейс, сунул в него руку, вытащил листок бумаги и положил на стол. Рядом пристроил ручку. Мать Тони бросила взгляд на бумагу: в два столбика на ней стояли подписи жильцов дома.
– Извините, я вас не поняла. Что вы сказали до этого?
– До чего?
– До… того, как достали список.
– Я вас не понял. Вот, смотрите, здесь вам нужно только поставить свою подпись.
– Я поняла. Но что вы говорили раньше? – напирала мать Тони. – Что вам негде жить и вы собираетесь переехать ко мне.
– Нелепая мысль, – махнул рукой мужчина.
У матери Тони заколотилось в висках.
– Ничего не пойму.
– Это вам не будет стоить ни копейки, я же много зарабатываю. Знаете, кем я работаю? Главным получателем денег в нашей стране.
Женщина вытаращила глаза.
– Что?
– А как же! Мы не просто кто-то так, а очень даже величина.
– Да что вы несёте? – взорвалась мать Тони. – Вы чокнутый? А ну, убирайтесь отсюда!
Он улыбался и глядел на неё, не мигая.
– Мы будем заниматься сексом всего один раз в неделю. Ничего страшного, да?
– Чего-о?
Её вопль нисколько не напугал и не смутил его.
– Только раз в неделю. Больно не будет. У меня есть все документы, – продолжал гнуть своё мужчина.
– Что?
Его бы ударить изо всей силы, вцепиться в волосы, но мать Тони чувствовала, как её воля тает и слабость расходится по телу.
– Да не волнуйтесь вы так, – из кейса появилась папка, которую гость положил на стол и открыл. Мать Тони бессильно наблюдала. – Вот, тут сказано, когда и при каких обстоятельствах вы попали в интернат, а тут – что вас перевели в тюрьму, когда вам исполнилось восемнадцать лет. Убедитесь, все печати и подписи на месте. Ваш номер: 135609.
У матери Тони закружилась голова. Мужчина цокнул языком.
– Взаимопомощь граждан очень важна, – заметил он. – А это справка о ваших дисциплинарных взысканиях. Все грешки, так сказать.
Она поглядела на документ, но не смогла различить ни одной буквы.
– Жить мы будем душа в душу. Вся моя зарплата будет ваша до копейки. Электрощиты в доме починим.
– Как вас зовут? – прошептала мать Тони.
– Никак. Имена отменили ещё месяц назад, вы что, не помните?
– Нет, – она не помнила. – Я тогда просто поговорила с тем мальчиком. И всё.
– Ай-ай, а ведь хорошие девочки так не делают. Ни при каких обстоятельствах, – мужчина уставился на неё. Улыбка приклеилась к его гладкому лицу и не сходила. – И за свои преступления попадают… – он хлопнул по папке ладонью. – Но… вы сбежали. До сих пор неизвестно, каким образом вам это удалось. Вы не могли бы прояснить?
Мать Тони молчала, глядя в пол.
– Жестокость, конечно, это нехорошо. Но ваше упрямство толкнёт меня на крайние меры, понимаете? Я знаю один способ наказания. Кладёшь в носок брусок мыла и бьёшь, как плетью. Очень больно, и никаких синяков при этом – чудно, не правда ли? Я испробовал этот способ множество раз. Я представляю инициативную группу граждан. Я живу в последнем подъезде.
– Прекратите! – опираясь на спинку стула, мать Тони с трудом встала. – Убирайтесь, пока я не вызвала полицию!
– Зарплату буду отдавать всю до копейки, – отозвался мужчина, показывая ей папку.
От удара папка полетела на пол, теряя лежащие в ней бумаги.
– Плохих девочек, ставших плохими женщинами, которые сбежали из тюрьмы, полиция арестовывает особенно охотно.
Мать Тони посмотрела на стол рядом с мойкой – там лежал кухонный нож. В её мозгу нарисовалась картина: взять нож и воткнуть сумасшедшему в голову. И бежать. Стоп, а как же Тоня?
Девочка вошла на кухню, заспанная и вялая, однако при виде мужчины оживилась.
– Ты! Пришёл!
– Я пришёл, – улыбаясь, ответил он.
– Я думала… думала, что этого никогда не случится… я так ждала!
Мать Тони попятилась от них обоих и упёрлась в стену. Дальше идти было некуда.
– Я пришёл, – механически повторил гость. Он встал, резво собрал бумаги с пола и вернул их в кейс. – Одевайся, Тоня, мы уходим.
– Сейчас! – игнорируя мать, обрадованная девочка помчалась в свою комнату.
Женщина открыла рот, но тут же закрыла.
Мужчина надел шляпу и взглянул на неё. В его взгляде было то, чего мать Тони не видела уже много лет. Может, и всю жизнь. Сочувствие.
Так они стояли друг напротив друга, пока, одетая к выходу, с рюкзаком в руке, не вернулась Тоня.
– Я готова, – заявила она.
– Хорошо, милая.
Они пошли в прихожую. Там мужчина проверил, как хорошо сидит на Тоне защитный комбинезон, не нарушена ли герметичность. Помог надеть противогаз. Девочка засмеялась, но звук вышел глухой.
Выглянув в коридор, женщина только сейчас поняла, что забыла спросить у гостя, почему он сам без защитного костюма.
– Доброго вечера.
– Прощай, мама, – помахала на прощание Тоня, и вместе с мужчиной шагнула за дверь.
Спустились они на первый этаж, вошли в переходную камеру, дождались открытия внешнего люка и очутились во дворе.
Мужчина взял руку Тони, одетую в перчатку, и они зашагали к выходу из арки.
Бóльшая часть квартала была руинами, над которыми клубился зеленоватый токсичный туман. Небо сплошь заполнял оранжевый свет.
На следующий день, разбирая вещи дочери, женщина нашла в её альбоме для рисования изображение мужчины в плаще и шляпе. Он улыбался и держал в руке кейс. Под рисунком стояла подпись неровными печатными буквами: ДРУГ.
Мать была в плохом настроении, и Тоня ожидала, когда начнётся. После ужина, во время которого зло гремели тарелки и оглушительно звенели вилки с ложками, девочка пошла в свою комнату – делать уроки. Мать мыла посуду, шум из кухни проникал через приоткрытую дверь. Тоня подошла, чтобы закрыть её, и вздрогнула. Мать стояла у порога, вытирая руки полотенцем.
– Куда? Уроки! – яростное лицо, на щеках неровный румянец.
Тоня подумала: «Её опять подменили. С работы сюда то и дело возвращается другая женщина, просто она в маминой коже».
В животе у Тони вспыхнул факел.
– Я как раз собиралась…
– А ну живо садись.
Девочка попятилась к столу, на котором светила лампа и лежали учебники и тетради. Столкнулась со стулом и, быстро повернувшись, села на него.
– Ты почему опять так себя ведёшь, а? Почему издеваешься надо мной? – мать вошла в комнату, повесив полотенце на плечо.
Тоня раскрыла учебник математики, взяла черновую тетрадку. Мать уселась на кровать поверх покрывала.
Начиналась экзекуция.
– Я ничего такого не делала, – прогундосила девочка.
– Да? А дела по дому почему не выполнила? Я велела пропылесосить. Ты пылесосила?
Материн голос едва не срывался на крик.
Тоня сгорбилась на стуле, чуть не уткнувшись в тетрадку носом.
– Хочешь меня в могилу свести. Да? Говори. Хочешь? Я из-за тебя седая стану скоро. Старухой стану. Ах, ты хочешь, чтобы я стала старухой! Чего молчишь?
Тоня, потея от страха, помотала головой.
– Ну спасибо. Добрая доча позволяет мне оставаться молодой. Земной тебе поклон. Могу спать спокойно. А знаешь, как называются такие девочки, как ты? А? Есть очень взрослое слово для тебе подобных.
– Ничего я не делала, – вырвалось у Тони. За этим могли последовать взрыв, удар, крик, но мать осталась на кровати.
– Ну и ну-у-у!
Девочка задрожала. Она очень сильно боялась этой фразы и этого тона.
– Делай уроки, чего сидишь! Сидит она!
Тоня сделала вид, что решает пример, но перед глазами была пелена, через которую она не различала ни букв, ни цифр. Рука, держащая ручку, взмокла.
– Я знаю, что ты говорила вчера с тем мальчишкой из второго подъезда. Думаешь, я дура слепая? Всё я знаю. Ты говорила с ним. И ещё что-то думала про него у себя в головёнке. Что думала? Знаешь, как называют таких, как ты? Мне вот, взрослой женщине, стыдно даже, ей-богу! Зачем ты с ним разговаривала? Я тебе запретила. Из школы сразу домой. Никаких разговоров ни с кем! А может, ты не только с ним говорила? Или не только говорила?
Мать, поднявшись с кровати, подошла к Тоне.
– В машины к чужим дядькам садишься? Говори! Садишься? Что они с тобой делают там? Я знаю. Я знаю. Всё по твоим глазам читаю. Тебе нравится, да? Они тебя трогают, целуют в разные места, прости господи. А потом дают конфеты, шоколад, деньги. Ну, где ты деньги прячешь?
Хлёсткий удар влажным полотенцем стал неожиданностью. Девочка вскрикнула, закрывая голову руками. Мать ударила ещё раз, сильнее.
– Где ты деньги прячешь?
Тоня лежала ничком на столешнице, мечтая умереть.
– Негодяйка! Бессовестная!
Мать схватила её за волосы, несколько раз резко дёрнула, и девочка завизжала.
– Таких, как ты, надо сдавать в интернат, чтобы вас там муштровали день и ночь и держали на хлебе и воде. Хочешь в интернат?
Тоня не могла ничего сказать из-за плача. Слёзы стекали по переносице, падали на тетрадь. Нос забился. Но ещё сильнее забилось ужасом всё её тело.
– Мама, прости меня.
– Простить тебя? Не прощают тех, кто предаёт свою мать. Ясно? Их сдают в интернат навсегда. Думаешь, я буду к тебе приезжать? Привозить передачи? Шиш тебе. А после интерната, когда ты вырастешь, тебя отправят во взрослую тюрьму. Поняла? Тебе там самое место! – теперь она торжествовала, прохаживаясь по комнате и размахивая руками. Картины жизни Тони взаперти ясно представали перед её взором. – И ты и тебе подобные плохие девочки останутся в тюрьме навсегда. Будете работать, чтобы приносить пользу государству. А как ты думала, милая? Задаром тебя никто кормить не обязан, между прочим!
Тоня заикалась, но всё-таки выдавила:
– Я больше так не буду, прости меня, мамочка!
– Чего не будешь?
– Я больше так не буду…
Мать хлестала её, пока не устала рука. Затем передышка – и «серьёзный разговор» продолжился.
Тоня получила свободу только через полтора часа и была настолько измождена, что заснула прямо за столом.
Вскоре во входную дверь позвонили. Мать, сидевшая в большой комнате перед телевизором, состроила недовольное лицо и пошла открывать.
За порогом стоял мужчина с кейсом в руке, одетый в длинный тёмно-серый плащ и шляпу.
– Добрый вечер, – сказал он, приветливо улыбаясь. – Прошу прощения, что мешаю вашему отдыху.
У мужчины, на вид лет сорока, было приятное гладкое лицо, типичное, но, на взгляд матери Тони, привлекательное.
– Да ерунда. Здрасьте.
– Я могу войти? Дело в том, что я живу в вашем доме, в последнем подъезде. Я представляю инициативную группу граждан.
– Да? – Женщина не помнила, чтобы к ней кто-то обращался, хотя соседей знала неплохо. – И в чём дело?
Мужчина снял шляпу и держал её на уровне груди за тулью. Сейчас он сильно напоминал какого-то киноперсонажа. Этакий чиновник из восьмидесятых.
Решив быть милой и вежливой, тем более он казался ей симпатичным, женщина отошла в сторону и прибавила:
– Да вы не стойте там, входите.
– Спасибо.
Он улыбнулся и шагнул в прихожую. Мать Тони включила бра.
– Обувь можете не снимать.
Оба одновременно опустили глаза на его туфли. Выглядели они новыми, даже блестели.
– Спасибо. Куда пройти?
– А давайте на кухню, – заюлила мать Тони, жалея, что толком не причёсана и в домашнем старом халате выглядит, наверное, как бомжиха. – У меня не прибрано.
– Ничего страшного, – заверил её мужчина.
В жёлтом свете лампочек выявилась одна странность его лица. Отсутствие бровей и ресниц. Мать Тони, поначалу чуть огорошенная таким открытием, решила, что ладно, всякое в жизни случается.
Они прошли на кухню. Мужчина сел на предложенный стул и водрузил кейс себе на колени. Мать Тони хотела сбегать переодеться, но ей была неприятна идея оставить чужого на кухне. Вдруг он что-нибудь украдёт. Мужчинам она не очень доверяла, хотя конкретно этому могла бы простить небольшую диверсию на своей территории.
Короче, решила остаться.
– А в какой вы квартире живёте? – спросила мать Тони, садясь напротив.
Мужчина положил шляпу на стол и ответил:
– Мне больше негде жить. Я бы хотел остановиться у вас. Метры позволяют. Думаю, и наш общий бюджет станет вполне подходящим для безбедного существования.
Мать Тони подалась вперёд.
– Что?
– Вопрос ремонта внутридомовой электросети будет решаться на общем собрании через неделю, а сейчас я хотел бы взять вашу подпись. Что вы соглашаетесь на ремонт электрощитов. Сами видите, в каком они у нас состоянии, – мужчина открыл кейс, сунул в него руку, вытащил листок бумаги и положил на стол. Рядом пристроил ручку. Мать Тони бросила взгляд на бумагу: в два столбика на ней стояли подписи жильцов дома.
– Извините, я вас не поняла. Что вы сказали до этого?
– До чего?
– До… того, как достали список.
– Я вас не понял. Вот, смотрите, здесь вам нужно только поставить свою подпись.
– Я поняла. Но что вы говорили раньше? – напирала мать Тони. – Что вам негде жить и вы собираетесь переехать ко мне.
– Нелепая мысль, – махнул рукой мужчина.
У матери Тони заколотилось в висках.
– Ничего не пойму.
– Это вам не будет стоить ни копейки, я же много зарабатываю. Знаете, кем я работаю? Главным получателем денег в нашей стране.
Женщина вытаращила глаза.
– Что?
– А как же! Мы не просто кто-то так, а очень даже величина.
– Да что вы несёте? – взорвалась мать Тони. – Вы чокнутый? А ну, убирайтесь отсюда!
Он улыбался и глядел на неё, не мигая.
– Мы будем заниматься сексом всего один раз в неделю. Ничего страшного, да?
– Чего-о?
Её вопль нисколько не напугал и не смутил его.
– Только раз в неделю. Больно не будет. У меня есть все документы, – продолжал гнуть своё мужчина.
– Что?
Его бы ударить изо всей силы, вцепиться в волосы, но мать Тони чувствовала, как её воля тает и слабость расходится по телу.
– Да не волнуйтесь вы так, – из кейса появилась папка, которую гость положил на стол и открыл. Мать Тони бессильно наблюдала. – Вот, тут сказано, когда и при каких обстоятельствах вы попали в интернат, а тут – что вас перевели в тюрьму, когда вам исполнилось восемнадцать лет. Убедитесь, все печати и подписи на месте. Ваш номер: 135609.
У матери Тони закружилась голова. Мужчина цокнул языком.
– Взаимопомощь граждан очень важна, – заметил он. – А это справка о ваших дисциплинарных взысканиях. Все грешки, так сказать.
Она поглядела на документ, но не смогла различить ни одной буквы.
– Жить мы будем душа в душу. Вся моя зарплата будет ваша до копейки. Электрощиты в доме починим.
– Как вас зовут? – прошептала мать Тони.
– Никак. Имена отменили ещё месяц назад, вы что, не помните?
– Нет, – она не помнила. – Я тогда просто поговорила с тем мальчиком. И всё.
– Ай-ай, а ведь хорошие девочки так не делают. Ни при каких обстоятельствах, – мужчина уставился на неё. Улыбка приклеилась к его гладкому лицу и не сходила. – И за свои преступления попадают… – он хлопнул по папке ладонью. – Но… вы сбежали. До сих пор неизвестно, каким образом вам это удалось. Вы не могли бы прояснить?
Мать Тони молчала, глядя в пол.
– Жестокость, конечно, это нехорошо. Но ваше упрямство толкнёт меня на крайние меры, понимаете? Я знаю один способ наказания. Кладёшь в носок брусок мыла и бьёшь, как плетью. Очень больно, и никаких синяков при этом – чудно, не правда ли? Я испробовал этот способ множество раз. Я представляю инициативную группу граждан. Я живу в последнем подъезде.
– Прекратите! – опираясь на спинку стула, мать Тони с трудом встала. – Убирайтесь, пока я не вызвала полицию!
– Зарплату буду отдавать всю до копейки, – отозвался мужчина, показывая ей папку.
От удара папка полетела на пол, теряя лежащие в ней бумаги.
– Плохих девочек, ставших плохими женщинами, которые сбежали из тюрьмы, полиция арестовывает особенно охотно.
Мать Тони посмотрела на стол рядом с мойкой – там лежал кухонный нож. В её мозгу нарисовалась картина: взять нож и воткнуть сумасшедшему в голову. И бежать. Стоп, а как же Тоня?
Девочка вошла на кухню, заспанная и вялая, однако при виде мужчины оживилась.
– Ты! Пришёл!
– Я пришёл, – улыбаясь, ответил он.
– Я думала… думала, что этого никогда не случится… я так ждала!
Мать Тони попятилась от них обоих и упёрлась в стену. Дальше идти было некуда.
– Я пришёл, – механически повторил гость. Он встал, резво собрал бумаги с пола и вернул их в кейс. – Одевайся, Тоня, мы уходим.
– Сейчас! – игнорируя мать, обрадованная девочка помчалась в свою комнату.
Женщина открыла рот, но тут же закрыла.
Мужчина надел шляпу и взглянул на неё. В его взгляде было то, чего мать Тони не видела уже много лет. Может, и всю жизнь. Сочувствие.
Так они стояли друг напротив друга, пока, одетая к выходу, с рюкзаком в руке, не вернулась Тоня.
– Я готова, – заявила она.
– Хорошо, милая.
Они пошли в прихожую. Там мужчина проверил, как хорошо сидит на Тоне защитный комбинезон, не нарушена ли герметичность. Помог надеть противогаз. Девочка засмеялась, но звук вышел глухой.
Выглянув в коридор, женщина только сейчас поняла, что забыла спросить у гостя, почему он сам без защитного костюма.
– Доброго вечера.
– Прощай, мама, – помахала на прощание Тоня, и вместе с мужчиной шагнула за дверь.
Спустились они на первый этаж, вошли в переходную камеру, дождались открытия внешнего люка и очутились во дворе.
Мужчина взял руку Тони, одетую в перчатку, и они зашагали к выходу из арки.
Бóльшая часть квартала была руинами, над которыми клубился зеленоватый токсичный туман. Небо сплошь заполнял оранжевый свет.
На следующий день, разбирая вещи дочери, женщина нашла в её альбоме для рисования изображение мужчины в плаще и шляпе. Он улыбался и держал в руке кейс. Под рисунком стояла подпись неровными печатными буквами: ДРУГ.
Автобиография Борхеса, написанная не им Оганес Мартиросян
 «Мать звала меня Хорхе, как надо. Я гулял допоздна, рвал кузнечикам крылья и приделывал к ним страницы моих будущих произведений. Я зажигал гусеницу и курил её, превращая в бабочку моих лёгких её. Дрался с пацанами, будучи слепым на старости лет: я экстраполировал неведение будущего к себе. Приходил Хем и издевался надо мной: выкручивал руки и насиловал мозг – объяснял свою схожесть с Довлатовым. Я пил водку с тринадцати лет, затыкая бутылки пальцами и так ходя. В школе меня сравнивали с Рембо. Я так и учился: тридцать учеников, двадцать девять из которых – Верлен».
«Я врубался в математику с ходу, в геометрию тоже: их я перенёс в литературу, став великим математиком и геометром. Девочки меня любили: пинали мой портфель, звали Гуинпленом и Гобсеком, мочились в моё пиво, когда я его забывал на подоконнике в коридоре, переезжали мои тетради на велосипедах. Член мой набухал при виде девчат и представлял собой микрофон, в который они пели песни о любви».
«Я рос непослушным мальчиком, снимал цилиндр при виде треугольника у девочки между ног, мама целовала меня в мой лоб, за которым хлопали двери и выли голоса. В голове моей Бирс насиловал всех встречных женщин и мужчин и писал свой знаменитый словарь, наполненный трупами всех великих имён. Однажды я поцеловал учительницу в пятую точку: она наклонилась над партой соседа, и я припал к её полушарию. Она вызвала в школу мою мать и сказала: "Он не мог задрать моё платье?" Мама расплакалась и обещала взяться за меня всерьёз. Она купила мне велотренажёр и заставила выпускать в комнате пар, чтобы она пропиталась мной, а я стал кроватью, шкафом и столом».
«По ночам я курил на балконе и смотрел на звёзды, выдавливал их, как прыщи, и глотал жёлтый гной света и тепла, пока не накрывала полная тьма, настоящее затмение, и я онанировал на открытки с голыми женщинами, передавая им свою силу и страсть. Моё сердце билось быстрей: это оно кончало кровью в каждую клетку тела, распластанного вертикально везде и вбирающего в себя книги "Война и мир" и "Игрок". Так проходили дни, напичканные динамитом по имени Ницше, снёсшим статую Христа и вставшим вместо него, но живым, как он сейчас и стоит в каждой Земле на Земле».
«Забегая во взрослую жизнь, скажу: я стал телом – полностью мозгом: личинкой жука, одевшейся позже в него, то есть в гроб. А пубертатом я порой не хотел ничего, чаще всего всегда: ни есть, ни пить, ни мастурбировать, ни женщин, ни мужчин, ни сигарет, ни наркоты, ни книг. Впрочем, их я хотел, читать как писать и писать как читать. А для этого нужны сигареты или водка "Хемингуэй". Это не странно. Естественно и для всех. Сигарета – лодка, плывущая по морю Хайнекен или Бад, пока оно тихо и не шумит».
«Встречался с девчонкой Викторией, находил её смешной, дразнил её, задирал ей платье и представлялся Лавкрафтом, пишущим её членом, макаемым в её вагинальную кровь. Гуляли по машинам, наступали только на них, припаркованных по краям, и я ей говорил: это смерть. Жизнь – ходьба по едущим между ними авто. Вика смеялась и задирала платье, показывая трусы с фрагментами картин Ван Гога, и спрашивала, не хочу ли я их дорисовать своей кистью. Я молчал и целовал её руку, которую держал, чтобы она не взлетела и не зажала солнце в кулак».
«Однажды с друзьями мы забрели на свалку, где стоял разбитый автобус с проломленной черепной коробкой, которая – коробка передач. Мы расселись на драные сиденья, закрыли глаза и поехали – от планеты к планете, потому что негодное здесь работоспособно и нужно там. Маркос рулил, мы ехали, Джимми и Эрнесто высунули ноги в окно, и мы смотрели на звёзды, торчащие вместо фар, светофоров и фонарей. Переносились от луны к луне и колёсами вспахивали поля, сажая на них высыпающиеся подшипники – семена».
«Вскоре начались опыты письма, литературы, я писал Вике письма, стараясь выразить в объёме себя, чтобы бумага с текстом воспринималась как самолётик или кораблик, даже так: как они оба сразу, что есть высшая ступень гениальности, зовущая меня к себе».
«Я много читал, пока не понял, что перестал отличать золото от дерьма: крайности сходились в моей голове и шире. Описывали круг, пока я не распрямил его, сделав из колеса крыло. Сменил таблетку на косячок. Сигарету саму».
«Солнце всходило в моём уме в виде кукурузы, представляло собою стебель и початки, торчащие по сторонам, распускающиеся жёлтыми лучами – зёрнами, брызжущими свой сок в кастрюле и зовущие их съесть, чтобы заменить зубы своими телами и начать тоже светить, сделать каждую голову звездой, антонимом желудку – чёрной дыре».
«Тогда я открыл для себя Акутагаву, стал внедряться в него и понял: читать – дописывать или переделывать книгу в новом формате, скажем, левого полушария, заносить в себя буквы и после сеять их, разговаривая, когда они вылетают из уст, падают в землю или в асфальт и дают ростки в виде пшеницы, ржи и домов».
«С Викой первый секс состоялся в ржавом рефрижераторе, когда мы разделись и стали читать переписку Вольтера и Екатерины Второй, жёсткие слова входили в наши уши и размножались с нашими мозгами, интеллектами, направленными друг к другу, целовались так: поставили две книги рядом, прижали их и уронили на пыльный пол, как в реку или озеро, понимая, что вода – это пыль, если шире – то прах, состоящий из бывших "мама, я хочу есть", "вам за урок пятёрка", "я хочу куннилингус", "вы арестованы", "сердце моё – люблю". Ушли после соития, оставив наши тела – книги – тем, кто захочет заняться любовью с помощью них».
«Я поступил в университет, расстался с Викой, погрузился в мир алкоголя, зачётов, экзаменов и веселья, стал гулять толпой, щемить малолеток, иногда баловаться травкой, жить наобум, наугад, но понимать: каждая случайность – закономерность, непонятая пока. Увлекался боксом, поднятием тяжестей, прокачкой двуглавых и трёхглавых мышц, влюблялся в девчонок, относясь к ним как к спичкам, а не зажигалкам: поджигал ими свой член и курил его, выкидывая бычок».
«Другом стал Хулио, вместе ходили, драли шлюх в борделях, читали Ницше, словно гуляющего с нами третьим, как будто "мясом", сбежавшим с нами из тюрьмы, которая – свобода, торт, то, что не купили ещё, а если человек продаётся, его нарезают на куски – камеры, квартиры в честь праздника, потому день рождения или Новый год – темница, воля – обычный день, когда утро неотличимо от вечера».
«Кортасар больше меня писал, курил меньше, но пил, создавал умопомрачения в тексте, а я уплотнял его, сжимал, был электричкой и трамваем в час пик, представлял собою путь, утро и вечер, он, наоборот, провоцировал день и ночь – таким образом, я – весна и осень, он – лето и зима».
«Встретил, возвращаясь домой пьяным с занятий, Викторию, она бросилась мне на шею и заплакала, разрыдалась, подарила мне шоколадку и дальше потекла из глаз «Мерседесами», скатывающимися по ней, попадающими на асфальт и летящими по дорогам, сигналя и махая флагами Аргентины. Я не утешал её, давал выплакаться вволю, гладил ей спину, плечи и целовал ей лицо. Когда печёная картошка утихла и улыбнулась мне трещиной рта, я повёл её в кафе "Насьональ" и угостил жареной рыбой и соком. Мы посидели час и разошлись, решив встречаться порой. Она работала продавщицей цветов, торговала любовью природного мира, переходящего в человеческий, но вянущего быстро. Именно поэтому она любила стихи как искусственные розы и астры, вечные на земле, и мечтала о магазине книг, чтобы стать человеком и богом».
«Первые рассказы напечатали, получил гонорар, собрал друзей за столом, зачитал пару строк, произнёс тост, выпил, как и все, осушил взглядом текущий из люстры свет, оставил всех во тьме, зажёг свечки и в интимной обстановке продолжил празднество, пиршество наших душ, двигающихся на танцполе, сосущихся в туалете, пока мы отдыхаем здесь».
«С Хулио шатались на улице, держали телеграфный столб, чтоб он не упал и не устремил за собой целый мир, его проституток, сутенёров, жён, дочерей, мужей и самые умные стихи Маяковского, долетающие досюда и диктующие очень сильное бытие мужчин. Мы смеялись и пели, гоготали над прохожими, тыкали пальцами в них и хлопали в ладоши, когда падали и валялись на земле. Целые вселенные вращались в наших умах, распевая незатейливые песни матросов. Увлекли даже Лондона, тень его, копию или его самого, увидев вдали и подозвав к себе. Взяли у него сигарет, покурили с ним и похвастались тем, что он известнее нас. На это он улыбнулся, поднял шляпу, показал золотой зуб и прыгнул в фиакр, укатив от нас прочь».
«Дома я сел за стол и начал писать: "Кино – когда ты неподвижен, а оно нет, литература – наоборот. Это спор Гераклита и Парменида. Второй убирает время, убивает его. Он – Георгий Победоносец, пронзающий змея копьём. Что касается фильма, то он умирает или кончает с собой, в честь чего в конце идут титры как некролог, потому что ‘Птицы’ и ‘Зеркало’ – ты мёртв, они – нет, а ‘Улисс’ и ‘Старик и море’ – трупы они, ты живой: чем больше пишется, тем меньше смерти и всеобъятней жизнь". Принял холодный душ, отрезвел, но не полностью, позвонил Вике и сказал, что её люблю».
«После вуза писал кандидатскую в аспирантуре, вёл занятия, обучал студентов тому, как не быть собой, иметь десять тел и кочевать по ним, распределяться, делиться, светить фонарём изнутри, в пальцах, предплечьях, локтях, плечах и так далее, отдыхал на заседаниях кафедры, курил на улице, общался с девчонками, один раз даже разнял дерущихся парней, наехавших на него как на равного себе, на что он показал удостоверение и пригрозил отчислением».
«Признание долго шло, не особо публиковали, видели во мне Непонятного, предлагали писать подлинней, ясней и проще, я ругался с редакторами, спорил, доказывал неизбежность тьмы в тексте, так как при свете не видно звёзд, но на это смеялись надо мной и возвращали перечёркнутой рукопись, запрещённой крестом».
«Когда смотрел телевизор, услышал о смерти Кокто, но не поверил тому, решил, что кругом глобальный обман: никто и ничто не умирает, ещё ни одно живое существо не скончалось, хоронят чучела и муляжи, не людей, что же касается трупов на улице – их специально изготавливают и бросают, опрыскивая духами с запахом разложения и гнили, скрывая тем самым улёт на другие планеты их всех: вот и всё, смерти нет».
«Я женился на Вике, переехал с ней в маленькую квартиру, писал по ночам рассказы и кандидатскую, днём работал всё там же, читал курсы о Достоевском и Рембо, не завидовал никому, хоть у Хулио уже вышла книга, получила похвалу, разошлась большим тиражом, лопнула на корешке у некоего Диего, о чём он рассказал в газете, похвастался этим, отметил это как переполненность мыслями автора издания и произнёс "адьос"».
«Дети наши выбегали из нас по ночам, хватали конфеты из холодильника и исчезали на улицах, растя на них поварами, пекарями, курильщиками опиума, водителями и философами Земли, чтобы она была внутри текста, отсутствуя вне его».
«Устроился в библиотеку через несколько лет, стал считать все книги своими, боролся в этим, не выдержал, проиграл, читал первые рассказы Павезе, уносился с ним прочь, заходил домой, целовал жену, обсуждал политику и любовь как одно, сворачивал лаваш в трубочку, начинённую сыром и перцем, и ел, так как не хотел, пролистывал газету и ложился в носках на диван, желая как-нибудь встретить своего двойника и обменяться книгами "Идиот" и "Игрок", пойдя себе дальше – в края, где их нет».
«Возраст струился во мне, набегал, исчезал, наваливался с годами других людей и вообще на меня, старил, лишал сил, награждал болезнями и подарил как-то мысль, что рыба в первую очередь есть уха и консервы, а потом уже она сама».
«Получил премию за сборник рассказов, дали немного денег, попросили сказать что-нибудь, что я и сделал, молвив: "Писать – это зачёркивать, уничтожать написанное до тебя: писатель тот, кто делает пустотой и отсутствием ‘Бедную Лизу’ и ‘Великого Гэтсби’. Кто больше сотрёт, тот и гений". Я ушёл, добрался домой и разложил себя по годам, месяцам и дням, разделился и стал не человеком, но понедельником, вторником и средой».
«Умер, стал трупом, перестал дышать, двигаться, писать, целовать жену, поступил в гроб, ушёл под землю, через день выбрался на волю при помощи спрятанной сапёрной лопатки, которой разгоняли митинг в Грузии, вернулся к себе, заварил кофе, встал с ним на балконе и начал курить, делая маленькие глотки».
«Мать звала меня Хорхе, как надо. Я гулял допоздна, рвал кузнечикам крылья и приделывал к ним страницы моих будущих произведений. Я зажигал гусеницу и курил её, превращая в бабочку моих лёгких её. Дрался с пацанами, будучи слепым на старости лет: я экстраполировал неведение будущего к себе. Приходил Хем и издевался надо мной: выкручивал руки и насиловал мозг – объяснял свою схожесть с Довлатовым. Я пил водку с тринадцати лет, затыкая бутылки пальцами и так ходя. В школе меня сравнивали с Рембо. Я так и учился: тридцать учеников, двадцать девять из которых – Верлен».
«Я врубался в математику с ходу, в геометрию тоже: их я перенёс в литературу, став великим математиком и геометром. Девочки меня любили: пинали мой портфель, звали Гуинпленом и Гобсеком, мочились в моё пиво, когда я его забывал на подоконнике в коридоре, переезжали мои тетради на велосипедах. Член мой набухал при виде девчат и представлял собой микрофон, в который они пели песни о любви».
«Я рос непослушным мальчиком, снимал цилиндр при виде треугольника у девочки между ног, мама целовала меня в мой лоб, за которым хлопали двери и выли голоса. В голове моей Бирс насиловал всех встречных женщин и мужчин и писал свой знаменитый словарь, наполненный трупами всех великих имён. Однажды я поцеловал учительницу в пятую точку: она наклонилась над партой соседа, и я припал к её полушарию. Она вызвала в школу мою мать и сказала: "Он не мог задрать моё платье?" Мама расплакалась и обещала взяться за меня всерьёз. Она купила мне велотренажёр и заставила выпускать в комнате пар, чтобы она пропиталась мной, а я стал кроватью, шкафом и столом».
«По ночам я курил на балконе и смотрел на звёзды, выдавливал их, как прыщи, и глотал жёлтый гной света и тепла, пока не накрывала полная тьма, настоящее затмение, и я онанировал на открытки с голыми женщинами, передавая им свою силу и страсть. Моё сердце билось быстрей: это оно кончало кровью в каждую клетку тела, распластанного вертикально везде и вбирающего в себя книги "Война и мир" и "Игрок". Так проходили дни, напичканные динамитом по имени Ницше, снёсшим статую Христа и вставшим вместо него, но живым, как он сейчас и стоит в каждой Земле на Земле».
«Забегая во взрослую жизнь, скажу: я стал телом – полностью мозгом: личинкой жука, одевшейся позже в него, то есть в гроб. А пубертатом я порой не хотел ничего, чаще всего всегда: ни есть, ни пить, ни мастурбировать, ни женщин, ни мужчин, ни сигарет, ни наркоты, ни книг. Впрочем, их я хотел, читать как писать и писать как читать. А для этого нужны сигареты или водка "Хемингуэй". Это не странно. Естественно и для всех. Сигарета – лодка, плывущая по морю Хайнекен или Бад, пока оно тихо и не шумит».
«Встречался с девчонкой Викторией, находил её смешной, дразнил её, задирал ей платье и представлялся Лавкрафтом, пишущим её членом, макаемым в её вагинальную кровь. Гуляли по машинам, наступали только на них, припаркованных по краям, и я ей говорил: это смерть. Жизнь – ходьба по едущим между ними авто. Вика смеялась и задирала платье, показывая трусы с фрагментами картин Ван Гога, и спрашивала, не хочу ли я их дорисовать своей кистью. Я молчал и целовал её руку, которую держал, чтобы она не взлетела и не зажала солнце в кулак».
«Однажды с друзьями мы забрели на свалку, где стоял разбитый автобус с проломленной черепной коробкой, которая – коробка передач. Мы расселись на драные сиденья, закрыли глаза и поехали – от планеты к планете, потому что негодное здесь работоспособно и нужно там. Маркос рулил, мы ехали, Джимми и Эрнесто высунули ноги в окно, и мы смотрели на звёзды, торчащие вместо фар, светофоров и фонарей. Переносились от луны к луне и колёсами вспахивали поля, сажая на них высыпающиеся подшипники – семена».
«Вскоре начались опыты письма, литературы, я писал Вике письма, стараясь выразить в объёме себя, чтобы бумага с текстом воспринималась как самолётик или кораблик, даже так: как они оба сразу, что есть высшая ступень гениальности, зовущая меня к себе».
«Я много читал, пока не понял, что перестал отличать золото от дерьма: крайности сходились в моей голове и шире. Описывали круг, пока я не распрямил его, сделав из колеса крыло. Сменил таблетку на косячок. Сигарету саму».
«Солнце всходило в моём уме в виде кукурузы, представляло собою стебель и початки, торчащие по сторонам, распускающиеся жёлтыми лучами – зёрнами, брызжущими свой сок в кастрюле и зовущие их съесть, чтобы заменить зубы своими телами и начать тоже светить, сделать каждую голову звездой, антонимом желудку – чёрной дыре».
«Тогда я открыл для себя Акутагаву, стал внедряться в него и понял: читать – дописывать или переделывать книгу в новом формате, скажем, левого полушария, заносить в себя буквы и после сеять их, разговаривая, когда они вылетают из уст, падают в землю или в асфальт и дают ростки в виде пшеницы, ржи и домов».
«С Викой первый секс состоялся в ржавом рефрижераторе, когда мы разделись и стали читать переписку Вольтера и Екатерины Второй, жёсткие слова входили в наши уши и размножались с нашими мозгами, интеллектами, направленными друг к другу, целовались так: поставили две книги рядом, прижали их и уронили на пыльный пол, как в реку или озеро, понимая, что вода – это пыль, если шире – то прах, состоящий из бывших "мама, я хочу есть", "вам за урок пятёрка", "я хочу куннилингус", "вы арестованы", "сердце моё – люблю". Ушли после соития, оставив наши тела – книги – тем, кто захочет заняться любовью с помощью них».
«Я поступил в университет, расстался с Викой, погрузился в мир алкоголя, зачётов, экзаменов и веселья, стал гулять толпой, щемить малолеток, иногда баловаться травкой, жить наобум, наугад, но понимать: каждая случайность – закономерность, непонятая пока. Увлекался боксом, поднятием тяжестей, прокачкой двуглавых и трёхглавых мышц, влюблялся в девчонок, относясь к ним как к спичкам, а не зажигалкам: поджигал ими свой член и курил его, выкидывая бычок».
«Другом стал Хулио, вместе ходили, драли шлюх в борделях, читали Ницше, словно гуляющего с нами третьим, как будто "мясом", сбежавшим с нами из тюрьмы, которая – свобода, торт, то, что не купили ещё, а если человек продаётся, его нарезают на куски – камеры, квартиры в честь праздника, потому день рождения или Новый год – темница, воля – обычный день, когда утро неотличимо от вечера».
«Кортасар больше меня писал, курил меньше, но пил, создавал умопомрачения в тексте, а я уплотнял его, сжимал, был электричкой и трамваем в час пик, представлял собою путь, утро и вечер, он, наоборот, провоцировал день и ночь – таким образом, я – весна и осень, он – лето и зима».
«Встретил, возвращаясь домой пьяным с занятий, Викторию, она бросилась мне на шею и заплакала, разрыдалась, подарила мне шоколадку и дальше потекла из глаз «Мерседесами», скатывающимися по ней, попадающими на асфальт и летящими по дорогам, сигналя и махая флагами Аргентины. Я не утешал её, давал выплакаться вволю, гладил ей спину, плечи и целовал ей лицо. Когда печёная картошка утихла и улыбнулась мне трещиной рта, я повёл её в кафе "Насьональ" и угостил жареной рыбой и соком. Мы посидели час и разошлись, решив встречаться порой. Она работала продавщицей цветов, торговала любовью природного мира, переходящего в человеческий, но вянущего быстро. Именно поэтому она любила стихи как искусственные розы и астры, вечные на земле, и мечтала о магазине книг, чтобы стать человеком и богом».
«Первые рассказы напечатали, получил гонорар, собрал друзей за столом, зачитал пару строк, произнёс тост, выпил, как и все, осушил взглядом текущий из люстры свет, оставил всех во тьме, зажёг свечки и в интимной обстановке продолжил празднество, пиршество наших душ, двигающихся на танцполе, сосущихся в туалете, пока мы отдыхаем здесь».
«С Хулио шатались на улице, держали телеграфный столб, чтоб он не упал и не устремил за собой целый мир, его проституток, сутенёров, жён, дочерей, мужей и самые умные стихи Маяковского, долетающие досюда и диктующие очень сильное бытие мужчин. Мы смеялись и пели, гоготали над прохожими, тыкали пальцами в них и хлопали в ладоши, когда падали и валялись на земле. Целые вселенные вращались в наших умах, распевая незатейливые песни матросов. Увлекли даже Лондона, тень его, копию или его самого, увидев вдали и подозвав к себе. Взяли у него сигарет, покурили с ним и похвастались тем, что он известнее нас. На это он улыбнулся, поднял шляпу, показал золотой зуб и прыгнул в фиакр, укатив от нас прочь».
«Дома я сел за стол и начал писать: "Кино – когда ты неподвижен, а оно нет, литература – наоборот. Это спор Гераклита и Парменида. Второй убирает время, убивает его. Он – Георгий Победоносец, пронзающий змея копьём. Что касается фильма, то он умирает или кончает с собой, в честь чего в конце идут титры как некролог, потому что ‘Птицы’ и ‘Зеркало’ – ты мёртв, они – нет, а ‘Улисс’ и ‘Старик и море’ – трупы они, ты живой: чем больше пишется, тем меньше смерти и всеобъятней жизнь". Принял холодный душ, отрезвел, но не полностью, позвонил Вике и сказал, что её люблю».
«После вуза писал кандидатскую в аспирантуре, вёл занятия, обучал студентов тому, как не быть собой, иметь десять тел и кочевать по ним, распределяться, делиться, светить фонарём изнутри, в пальцах, предплечьях, локтях, плечах и так далее, отдыхал на заседаниях кафедры, курил на улице, общался с девчонками, один раз даже разнял дерущихся парней, наехавших на него как на равного себе, на что он показал удостоверение и пригрозил отчислением».
«Признание долго шло, не особо публиковали, видели во мне Непонятного, предлагали писать подлинней, ясней и проще, я ругался с редакторами, спорил, доказывал неизбежность тьмы в тексте, так как при свете не видно звёзд, но на это смеялись надо мной и возвращали перечёркнутой рукопись, запрещённой крестом».
«Когда смотрел телевизор, услышал о смерти Кокто, но не поверил тому, решил, что кругом глобальный обман: никто и ничто не умирает, ещё ни одно живое существо не скончалось, хоронят чучела и муляжи, не людей, что же касается трупов на улице – их специально изготавливают и бросают, опрыскивая духами с запахом разложения и гнили, скрывая тем самым улёт на другие планеты их всех: вот и всё, смерти нет».
«Я женился на Вике, переехал с ней в маленькую квартиру, писал по ночам рассказы и кандидатскую, днём работал всё там же, читал курсы о Достоевском и Рембо, не завидовал никому, хоть у Хулио уже вышла книга, получила похвалу, разошлась большим тиражом, лопнула на корешке у некоего Диего, о чём он рассказал в газете, похвастался этим, отметил это как переполненность мыслями автора издания и произнёс "адьос"».
«Дети наши выбегали из нас по ночам, хватали конфеты из холодильника и исчезали на улицах, растя на них поварами, пекарями, курильщиками опиума, водителями и философами Земли, чтобы она была внутри текста, отсутствуя вне его».
«Устроился в библиотеку через несколько лет, стал считать все книги своими, боролся в этим, не выдержал, проиграл, читал первые рассказы Павезе, уносился с ним прочь, заходил домой, целовал жену, обсуждал политику и любовь как одно, сворачивал лаваш в трубочку, начинённую сыром и перцем, и ел, так как не хотел, пролистывал газету и ложился в носках на диван, желая как-нибудь встретить своего двойника и обменяться книгами "Идиот" и "Игрок", пойдя себе дальше – в края, где их нет».
«Возраст струился во мне, набегал, исчезал, наваливался с годами других людей и вообще на меня, старил, лишал сил, награждал болезнями и подарил как-то мысль, что рыба в первую очередь есть уха и консервы, а потом уже она сама».
«Получил премию за сборник рассказов, дали немного денег, попросили сказать что-нибудь, что я и сделал, молвив: "Писать – это зачёркивать, уничтожать написанное до тебя: писатель тот, кто делает пустотой и отсутствием ‘Бедную Лизу’ и ‘Великого Гэтсби’. Кто больше сотрёт, тот и гений". Я ушёл, добрался домой и разложил себя по годам, месяцам и дням, разделился и стал не человеком, но понедельником, вторником и средой».
«Умер, стал трупом, перестал дышать, двигаться, писать, целовать жену, поступил в гроб, ушёл под землю, через день выбрался на волю при помощи спрятанной сапёрной лопатки, которой разгоняли митинг в Грузии, вернулся к себе, заварил кофе, встал с ним на балконе и начал курить, делая маленькие глотки».
Бассейн Алексей Колесников
 Дешёвое хуже одновременно и дорогого, и бесплатного. Я покупаю билет в бассейн на одиннадцать ночи потому, что он самый дешёвый; в это время любители спорта давно уже спят. Я выбираю шкафчик, раздеваюсь и ухожу в душевую. Под слишком горячей водой растираюсь мочалкой, вскрикивая от ожогов, потом натягиваю на мокрую задницу плавки, обтираюсь, чтобы не страдать от холода по пути к бассейну. Выхожу к воде. Одиночное плаванье одинокого человека.
Необходимость плавать ближайшие сорок минут меня угнетает; я прислушиваюсь к организму и ощущаю то боль, то усталость. Не хочется всего этого совсем, и как я только выдержу эти сорок минут – целый урок в школе или половина пары в университете – когда это было?
Бассейн совершенно пустой в этот раз. Дежурный спасатель (девочка), изогнувшись, сидит за столом и пялится в телефон. На ней голубые джинсы, увеличивающие в объёме и без того крепкие ляжки, футболка с весёленьким логотипом спортивного комплекса и распущенные, как у ундины, волосы цвета подключённой к электричеству лампочки. Подойдя ближе, я втягиваю живот и здороваюсь. Она, не глядя, кивает в ответ. Занята телефоном, видимо, перепиской с парнем, придурком-спортсменом. Её ресницы измазаны тушью,на впалых щеках румянец – как она меня будет спасать в случае, если моё истрёпанное сердце застопорится? Она же подавится тушью и пойдёт на дно под тяжестью вымокших джинсов.
Я аккуратно нырнул, но всё равно потянул носом хлорированную воду. В горле запекло, воспалилась слизистая в ноздрях. Окаменев от ненависти и холода, я поплыл брасом, выдыхая под воду и глотая воздух на каждый третий мах правой руки.
Я вбираю в себя скукожившуюся мошонку, я сплёвываю под воду вязкую слюну, мешающую дышать как следует.
Вскоре я привыкаю и увеличиваю темп; мышцы на спине горят, наполняются силой плечи и ноги. Я стараюсь работать ногами, чтобы сбросить с них лишний жир. Время застыло, и я стараюсь не думать о минутах; пытаюсь представить, что я в море – пьяный и ласковый. Всё равно никто нигде меня не ждёт.
Так в тот вечер я плавал, не останавливаясь, около двадцати минут, а потом ушёл под воду, чтобы эффектно развернуться, и вдруг оказался в темноте. Что такое? Неужели я посреди Стикса? Лунный свет, проникающий сверху в окошки, позволяет поверить, что я ещё жив.
– Эй! – крикнул я и погрёб к бортику.
Нет никого, тишина, и только часы мерцают. Я выполз на кафель, нашарил шлёпки и стал бродить вдоль бассейна.
– Инструктор?! Девушка! Что за херня?!
Выделившийся пот выталкивает из пор хлорированную воду. Я бегу в душевую – там тоже темно; щёлкаю выключателем – нет электричества. Направившись к шкафчикам, я поскользнулся и упал, как модель на подиуме, – коленку запекло. Дёргаю дверь – закрыто.
– Есть кто?! Что случилось?
Я разогнался, насколько это возможно в шлёпках, и ударил плечом в дверь – куда там! Пару раз крикнув, решил отыскать свой шкафчик, но его было не найти. Ночевать здесь, что ли?
Вернувшись к бассейну, я уселся за стол инструктора и отдышался. Указательный палец прилипает к большому – кровь из коленки. Нашарив пластмассовый свисток с резвой горошиной, я стал свистеть, надеясь, что совпадаю с кодировкой сигнала SOS.
Я сижу в темноте, смотрю на чёрное небо через окошко и посвистываю, прижимая ладонью саднящую коленку. Хоть плачь прямо в воду!
Подаю сигнал, матерюсь, выкашливаю капельки хлорированной воды и опять свищу, как придурок. Если сейчас сюда войдёт эта девка, то я подбегу к ней и одним ударом свалю эту тварь в бассейн, вместе с её макияжем. Пусть поплавает, почувствует, что значит быть оставленной.
Свищу, вздрагивая от холода, свищу, чувствуя голод, свищу и подумываю отлить в бассейн.
Загорается свет. Вбегает она и кричит:
– Я вышла позвонить, а баба Алина подумала, что никого нет, и вырубила электричество!
– И дверь заперла?! – вопрошаю я, свищу и направляюсь к ней.
– Да! Она не знала, что тут кто-то есть. Думала, я ушла совсем. Извините!
Я подошёл к ней и замер, не решившись устроить скандал. Что ей сказать? Ударить её? Толкнуть? Шёл, однако, к ней, стараясь казаться грозным. Пугал. Она встала рядом с третьей дорожкой и вытянулась.
Я свистнул и сказал:
– Ну и овца ты. Я тут… Ну ладно…
Не сумев подобрать слова, я свистнул сквозь тишину.
А что, собственно? Посидел десять минут в темноте и коленку поцарапал. Был один, как всегда – чего тут? Всё в порядке. Но всё равно, случилось нечто унизительное. Ведь я страдал как приговорённый, но не объяснишь. Одиночество в темноте. Со мной каждую ночь такое, и ничего, не умер до сих пор. Живой, вон подумываю, что бы такое сожрать на ужин. А всё-таки что-то есть. Унизительное.
– У вас кровь там немножко.
– Немножко, да! – соглашаюсь я, судорожно соображая, как действовать. – Вот на, держи – поплавай!
Протяжно свистнув, я запускаю свистком в середину бассейна и слежу за её реакцией.
Она прищуривается, чтобы запомнить место падения свистка, переводит удивлённый взгляд на меня и говорит:
– Зачем вы? Достаньте, пожалуйста.
– Сама достанешь.
А вдруг разденется и при мне в воду полезет? Я смотрю на её дрожащие губы, чувствую, что её волосы пахнут шампунем, а футболка – дезодорантом.
– Мне нельзя в воду, – она опускает глаза. – Сейчас нельзя, временно.
Пожав плечами, ухожу в душевую и, невесть что себе вообразив, не прикрываю дверь. Моюсь в слишком горячей воде и смеюсь, сверху рассматривая собственное тело. Отлив гнева компенсируется приливом радости. Жалко только, что она всё равно не почувствует, как страшно мне было, как больно! Непонятно, как это назвать. Даже прочитай она всё это – всё равно не поймёт. Мне же непонятно, какого чёрта она ушла болтать по телефону в рабочее время… И баба Алина эта…
Потом, спустя неделю, мы разговорились с ней, с этой девушкой. Её зовут Лия, ей, как и мне, двадцать пять лет, и она припомнила, что как-то в студенчестве, на какой-то межвузовской конференции, посвящённой воспитанию нравственности у молодёжи, мы сидели совсем рядом и даже болтали. Извинившись, она выписала мне бесплатный абонемент до конца года. Я естественно, извинился за грубость.
– Мама позвонила. Срочный звонок. Никогда такого не было, понимаете? Я не могла предположить, что так получится. Извините, пожалуйста.
Я отыскал её профиль в социальных сетях и написал небольшое ироничное письмо. Она быстро ответила, точно ждала. Теперь мы иногда гуляем, но не больше. Она не очень мне нравится как женщина, но с ней мне легко. Легко потому, что её опыт меньше моего раз в десять. А ещё она верит в то, что завтрашний день будет лучше нынешнего. Ей сразу и резко не понравился мой пессимизм (я так его не называю).
Лия ортодоксальная протестантка, поэтому ей запрещено распивать вино на скамейке. Её не пригласишь домой, и лезть со слюнявыми поцелуями бесполезно. В строго определённое время она отправляется спать и хмурится, когда я говорю что-то грубое. Однажды, очень к месту, я сказал при ней главный русский мат, и она сделалась неразговорчивой до конца вечера. Я наблюдаю со стороны, как у нас с ней ничего не получается. Разговоры всё реже и короче. Общих тем, которых, казалось, уйма, теперь почти нет. Мне не нравится её подбородок. Слишком мужской. Она спросила, не жмут ли мне джинсы и занимаюсь ли я каким-то спортом, кроме бассейна. Прежде она отмечала, что я вполне атлетичен. Я наблюдатель сам за собой. Подсматриваю то, как не подхожу другой особи. Женское разочарование. Вот ещё немножко, и всё.
Это был конец декабря; мы обошли Белгород по кругу: стартовали от «штанов» и дальше по Сумской, в сторону Октябрьского суда, а потом направо по Чичерина, вдоль дороги до самой Богданки через Мичурина. Снега выпало мало, был штиль, поэтому мы легко преодолели это расстояние. Она всё молчала и кивала, а я рассказывал о своей летней поездке в Санкт-Петербург. Лия не слушала. Было понятно, что свидание у нас последнее. А ещё – что нужно сменить бассейн.
Скоро Новый год. Я его встречу один. Без жирной еды и алкоголя. У монитора ноутбука – там какой-нибудь фильм. Из воды на сушу, из света в тень. И обратно. Год за годом. Пусть будет так.
Дешёвое хуже одновременно и дорогого, и бесплатного. Я покупаю билет в бассейн на одиннадцать ночи потому, что он самый дешёвый; в это время любители спорта давно уже спят. Я выбираю шкафчик, раздеваюсь и ухожу в душевую. Под слишком горячей водой растираюсь мочалкой, вскрикивая от ожогов, потом натягиваю на мокрую задницу плавки, обтираюсь, чтобы не страдать от холода по пути к бассейну. Выхожу к воде. Одиночное плаванье одинокого человека.
Необходимость плавать ближайшие сорок минут меня угнетает; я прислушиваюсь к организму и ощущаю то боль, то усталость. Не хочется всего этого совсем, и как я только выдержу эти сорок минут – целый урок в школе или половина пары в университете – когда это было?
Бассейн совершенно пустой в этот раз. Дежурный спасатель (девочка), изогнувшись, сидит за столом и пялится в телефон. На ней голубые джинсы, увеличивающие в объёме и без того крепкие ляжки, футболка с весёленьким логотипом спортивного комплекса и распущенные, как у ундины, волосы цвета подключённой к электричеству лампочки. Подойдя ближе, я втягиваю живот и здороваюсь. Она, не глядя, кивает в ответ. Занята телефоном, видимо, перепиской с парнем, придурком-спортсменом. Её ресницы измазаны тушью,на впалых щеках румянец – как она меня будет спасать в случае, если моё истрёпанное сердце застопорится? Она же подавится тушью и пойдёт на дно под тяжестью вымокших джинсов.
Я аккуратно нырнул, но всё равно потянул носом хлорированную воду. В горле запекло, воспалилась слизистая в ноздрях. Окаменев от ненависти и холода, я поплыл брасом, выдыхая под воду и глотая воздух на каждый третий мах правой руки.
Я вбираю в себя скукожившуюся мошонку, я сплёвываю под воду вязкую слюну, мешающую дышать как следует.
Вскоре я привыкаю и увеличиваю темп; мышцы на спине горят, наполняются силой плечи и ноги. Я стараюсь работать ногами, чтобы сбросить с них лишний жир. Время застыло, и я стараюсь не думать о минутах; пытаюсь представить, что я в море – пьяный и ласковый. Всё равно никто нигде меня не ждёт.
Так в тот вечер я плавал, не останавливаясь, около двадцати минут, а потом ушёл под воду, чтобы эффектно развернуться, и вдруг оказался в темноте. Что такое? Неужели я посреди Стикса? Лунный свет, проникающий сверху в окошки, позволяет поверить, что я ещё жив.
– Эй! – крикнул я и погрёб к бортику.
Нет никого, тишина, и только часы мерцают. Я выполз на кафель, нашарил шлёпки и стал бродить вдоль бассейна.
– Инструктор?! Девушка! Что за херня?!
Выделившийся пот выталкивает из пор хлорированную воду. Я бегу в душевую – там тоже темно; щёлкаю выключателем – нет электричества. Направившись к шкафчикам, я поскользнулся и упал, как модель на подиуме, – коленку запекло. Дёргаю дверь – закрыто.
– Есть кто?! Что случилось?
Я разогнался, насколько это возможно в шлёпках, и ударил плечом в дверь – куда там! Пару раз крикнув, решил отыскать свой шкафчик, но его было не найти. Ночевать здесь, что ли?
Вернувшись к бассейну, я уселся за стол инструктора и отдышался. Указательный палец прилипает к большому – кровь из коленки. Нашарив пластмассовый свисток с резвой горошиной, я стал свистеть, надеясь, что совпадаю с кодировкой сигнала SOS.
Я сижу в темноте, смотрю на чёрное небо через окошко и посвистываю, прижимая ладонью саднящую коленку. Хоть плачь прямо в воду!
Подаю сигнал, матерюсь, выкашливаю капельки хлорированной воды и опять свищу, как придурок. Если сейчас сюда войдёт эта девка, то я подбегу к ней и одним ударом свалю эту тварь в бассейн, вместе с её макияжем. Пусть поплавает, почувствует, что значит быть оставленной.
Свищу, вздрагивая от холода, свищу, чувствуя голод, свищу и подумываю отлить в бассейн.
Загорается свет. Вбегает она и кричит:
– Я вышла позвонить, а баба Алина подумала, что никого нет, и вырубила электричество!
– И дверь заперла?! – вопрошаю я, свищу и направляюсь к ней.
– Да! Она не знала, что тут кто-то есть. Думала, я ушла совсем. Извините!
Я подошёл к ней и замер, не решившись устроить скандал. Что ей сказать? Ударить её? Толкнуть? Шёл, однако, к ней, стараясь казаться грозным. Пугал. Она встала рядом с третьей дорожкой и вытянулась.
Я свистнул и сказал:
– Ну и овца ты. Я тут… Ну ладно…
Не сумев подобрать слова, я свистнул сквозь тишину.
А что, собственно? Посидел десять минут в темноте и коленку поцарапал. Был один, как всегда – чего тут? Всё в порядке. Но всё равно, случилось нечто унизительное. Ведь я страдал как приговорённый, но не объяснишь. Одиночество в темноте. Со мной каждую ночь такое, и ничего, не умер до сих пор. Живой, вон подумываю, что бы такое сожрать на ужин. А всё-таки что-то есть. Унизительное.
– У вас кровь там немножко.
– Немножко, да! – соглашаюсь я, судорожно соображая, как действовать. – Вот на, держи – поплавай!
Протяжно свистнув, я запускаю свистком в середину бассейна и слежу за её реакцией.
Она прищуривается, чтобы запомнить место падения свистка, переводит удивлённый взгляд на меня и говорит:
– Зачем вы? Достаньте, пожалуйста.
– Сама достанешь.
А вдруг разденется и при мне в воду полезет? Я смотрю на её дрожащие губы, чувствую, что её волосы пахнут шампунем, а футболка – дезодорантом.
– Мне нельзя в воду, – она опускает глаза. – Сейчас нельзя, временно.
Пожав плечами, ухожу в душевую и, невесть что себе вообразив, не прикрываю дверь. Моюсь в слишком горячей воде и смеюсь, сверху рассматривая собственное тело. Отлив гнева компенсируется приливом радости. Жалко только, что она всё равно не почувствует, как страшно мне было, как больно! Непонятно, как это назвать. Даже прочитай она всё это – всё равно не поймёт. Мне же непонятно, какого чёрта она ушла болтать по телефону в рабочее время… И баба Алина эта…
Потом, спустя неделю, мы разговорились с ней, с этой девушкой. Её зовут Лия, ей, как и мне, двадцать пять лет, и она припомнила, что как-то в студенчестве, на какой-то межвузовской конференции, посвящённой воспитанию нравственности у молодёжи, мы сидели совсем рядом и даже болтали. Извинившись, она выписала мне бесплатный абонемент до конца года. Я естественно, извинился за грубость.
– Мама позвонила. Срочный звонок. Никогда такого не было, понимаете? Я не могла предположить, что так получится. Извините, пожалуйста.
Я отыскал её профиль в социальных сетях и написал небольшое ироничное письмо. Она быстро ответила, точно ждала. Теперь мы иногда гуляем, но не больше. Она не очень мне нравится как женщина, но с ней мне легко. Легко потому, что её опыт меньше моего раз в десять. А ещё она верит в то, что завтрашний день будет лучше нынешнего. Ей сразу и резко не понравился мой пессимизм (я так его не называю).
Лия ортодоксальная протестантка, поэтому ей запрещено распивать вино на скамейке. Её не пригласишь домой, и лезть со слюнявыми поцелуями бесполезно. В строго определённое время она отправляется спать и хмурится, когда я говорю что-то грубое. Однажды, очень к месту, я сказал при ней главный русский мат, и она сделалась неразговорчивой до конца вечера. Я наблюдаю со стороны, как у нас с ней ничего не получается. Разговоры всё реже и короче. Общих тем, которых, казалось, уйма, теперь почти нет. Мне не нравится её подбородок. Слишком мужской. Она спросила, не жмут ли мне джинсы и занимаюсь ли я каким-то спортом, кроме бассейна. Прежде она отмечала, что я вполне атлетичен. Я наблюдатель сам за собой. Подсматриваю то, как не подхожу другой особи. Женское разочарование. Вот ещё немножко, и всё.
Это был конец декабря; мы обошли Белгород по кругу: стартовали от «штанов» и дальше по Сумской, в сторону Октябрьского суда, а потом направо по Чичерина, вдоль дороги до самой Богданки через Мичурина. Снега выпало мало, был штиль, поэтому мы легко преодолели это расстояние. Она всё молчала и кивала, а я рассказывал о своей летней поездке в Санкт-Петербург. Лия не слушала. Было понятно, что свидание у нас последнее. А ещё – что нужно сменить бассейн.
Скоро Новый год. Я его встречу один. Без жирной еды и алкоголя. У монитора ноутбука – там какой-нибудь фильм. Из воды на сушу, из света в тень. И обратно. Год за годом. Пусть будет так.
Русская сказка Николай Старообрядцев
 В деревне стояла изба. В избе жили два человека – отец и мать. Ещё у них был сын – совсем маленький. Но маленьким он был только ростом, а с виду – древний старик. Из-за этого люди думали, что он – отец отца, а сами отец с матерью – его дети. Слух об этом разнёсся повсюду, а когда он вернулся обратно, ему поверили уже все, даже отец с матерью. Они стали называть своего сына отцом, а он их – детьми. И когда в деревню пришла смерть, всем было ясно, что с нею пойдёт сын.
Мать с отцом вымыли сына в бане, обрядили его в белые одежды, дали кусок хлеба в котомке, перекрестили и отправили в путь-дорожку, а сами легли на печь и стали отдыхать.
Пошёл сын на кладбище. Когда он пришёл, была уже ночь и смерть спала. Не стал он её будить, а съел кусок хлеба, забрался в могилу и уснул. И так сладко спалось ему в могиле, что проспал он три дня и три ночи, а когда проснулся и вылез, то увидел, что смерть ушла.
Сын проголодался, но на кладбище есть было нечего, поэтому он пошёл обратно в свою деревню – авось, отец с матерью накормят. Пришёл он домой и видит – сидят отец с матерью за столом и горюют. Спрашивает у них сын:
– Что случилось, дети мои?
Отвечают ему родители:
– Приходила к нам смерть. Говорила, что пропал наш отец и теперь она заберёт нас вместо него.
– Что же отвечали вы ей?
– Отвечали мы, что привыкли жить на белом свете. Не хотим умирать.
– И что же, помиловала вас смерть?
– Помиловала, отец. Да только одно условие поставила.
– Какое же условие, дети мои?
– Пообещали мы родить сына и ей отдать.
– И что же, согласилась ли смерть?
– Согласилась, отец. Да только одно условие поставила.
– Какое же условие, дети мои?
– Нужно нам сына родить сегодня к вечеру.
Сказав такие слова, горько плакали отец с матерью. Не ведали они, как можно за один день сына родить.
Подумал сын и так отвечал родителям своим:
– Не кручиньтесь, дети мои. Знаю, как помочь вам. Я у вас маленький. Заберусь я к матери под подол и спрячусь там. Когда смерть придёт, тряхнёт мать подолом, я и выпаду. Увидит смерть, что я родился, и заберёт меня.
Обрадовались отец с матерью, что сын у них такой смышлёный вырос. И порешили сделать, как он сказал.
Пришла вечером смерть. Подошла к отцу с матерью и спрашивает:
– Где же сын, которого обещали мне?
Возликовала мать, что сейчас ей спасение будет, да так сильно подолом тряхнула, что покатился сын по полу кубарем и через творило улетел в подполье. Рассердилась смерть, что не дали ей сына – и забрала отца с матерью. Стали они мёртвые. Увидел это сын, перепугался и решил никогда уже не вылезать из подполья. Так всю жизнь там и прожил.
В деревне стояла изба. В избе жили два человека – отец и мать. Ещё у них был сын – совсем маленький. Но маленьким он был только ростом, а с виду – древний старик. Из-за этого люди думали, что он – отец отца, а сами отец с матерью – его дети. Слух об этом разнёсся повсюду, а когда он вернулся обратно, ему поверили уже все, даже отец с матерью. Они стали называть своего сына отцом, а он их – детьми. И когда в деревню пришла смерть, всем было ясно, что с нею пойдёт сын.
Мать с отцом вымыли сына в бане, обрядили его в белые одежды, дали кусок хлеба в котомке, перекрестили и отправили в путь-дорожку, а сами легли на печь и стали отдыхать.
Пошёл сын на кладбище. Когда он пришёл, была уже ночь и смерть спала. Не стал он её будить, а съел кусок хлеба, забрался в могилу и уснул. И так сладко спалось ему в могиле, что проспал он три дня и три ночи, а когда проснулся и вылез, то увидел, что смерть ушла.
Сын проголодался, но на кладбище есть было нечего, поэтому он пошёл обратно в свою деревню – авось, отец с матерью накормят. Пришёл он домой и видит – сидят отец с матерью за столом и горюют. Спрашивает у них сын:
– Что случилось, дети мои?
Отвечают ему родители:
– Приходила к нам смерть. Говорила, что пропал наш отец и теперь она заберёт нас вместо него.
– Что же отвечали вы ей?
– Отвечали мы, что привыкли жить на белом свете. Не хотим умирать.
– И что же, помиловала вас смерть?
– Помиловала, отец. Да только одно условие поставила.
– Какое же условие, дети мои?
– Пообещали мы родить сына и ей отдать.
– И что же, согласилась ли смерть?
– Согласилась, отец. Да только одно условие поставила.
– Какое же условие, дети мои?
– Нужно нам сына родить сегодня к вечеру.
Сказав такие слова, горько плакали отец с матерью. Не ведали они, как можно за один день сына родить.
Подумал сын и так отвечал родителям своим:
– Не кручиньтесь, дети мои. Знаю, как помочь вам. Я у вас маленький. Заберусь я к матери под подол и спрячусь там. Когда смерть придёт, тряхнёт мать подолом, я и выпаду. Увидит смерть, что я родился, и заберёт меня.
Обрадовались отец с матерью, что сын у них такой смышлёный вырос. И порешили сделать, как он сказал.
Пришла вечером смерть. Подошла к отцу с матерью и спрашивает:
– Где же сын, которого обещали мне?
Возликовала мать, что сейчас ей спасение будет, да так сильно подолом тряхнула, что покатился сын по полу кубарем и через творило улетел в подполье. Рассердилась смерть, что не дали ей сына – и забрала отца с матерью. Стали они мёртвые. Увидел это сын, перепугался и решил никогда уже не вылезать из подполья. Так всю жизнь там и прожил.
Вилы Боря Нес-Терпел

I
– Извините, мы не можем вас взять. В трудоустройстве отказано, – в прыщах и всю жизнь не доедавший, ответил рыжий паренёк, директор «Пятёрочки». – Сам понимаешь. – Он поменял «вы» на «ты» и протянул Егору сигарету. Тот покорно взял её, подобрел и понял, что ругаться смысла нет. Он благодарно кивнул и перехватил зажигалку. – Конечно, понимаю. Но деньги нужны, деваться некуда, – Егор выдохнул и поднял глаза к небу. Тяжёлые облака толпились и походили на дым – кто-то наверху опустил водный. Егор курил жадно, раз за разом всасывал дым крепкого табака и оглядывался кругом, засматривался на деревья, траву, в июле особенно сочную, и дикие цветы. – Найди, где шабашить. Грузчиком на рынке. Или продавцом там же. А можешь на стройку, там нелегалов много, – властитель желудков, печени и лёгких вспомнил, как подростком бродил между торговых точек. Там и красные советские ковры, и костюм к первому сентября, и харкающая радиотехника. Будущий директор «Пятёрочки» носился по заставленным проходам, шнырял между гнилыми прилавками и приторговывал насваем. – Официально хочу, – Егор отвечал отвлечённо и даже не смотрел на того, кто часом ранее мог определить его судьбу – трудоустроить. – Э-э-э, брат, это трудно будет, – заключил рыжий-конопатый, дал сигарету в путь, что есть мочи пожал руку и нырнул в железную дверь. Егор погладил походную сигарету, как дочь, бережно убрал подарок в карман, плюнул и пошёл. Куда – он не знал. Шёл туда, где загорался зелёный, где люди не толпились и где июльское солнце светило веселее всего – тучи ветер разогнал. Егор шагал широко и звонко, пробивал сапогами тротуар. Для сапог несезон, но другой обуви у него не было. Ноги потели так, что при шаге хлюпало. За Егором плелись мокрые следы. Егор ласкал сигарету пальцами, выжидал, когда увидит курящего и попросит огоньку. Пока его смолистый спаситель не мелькал впереди, он приподнимал подбородок и щурился, точно китаец в Янтарной комнате. Так его умиляло лето. Егор слушал, как шуршит листва, смотрел, как она колыхается зелёным морем на ветру. Он останавливался у домов, где больше всего поросло одуванчиков, и вспоминал, как в детстве таскал их своей матери. Егор вдыхал полной грудью и плевать хотел на выхлопной газ и городскую духоту. Теперь он дышал свободно и от свободы пьянел. Он замечал, как вечереет, только по свету солнца – в конце дня оно залило пятиэтажки оранжево-красным. «Вокзал – как церковь в дореволюционной России», – решил Егор и пошёл к пристанищу бедняков, бездомных и убогих. Перед входом он хорошенько отряхнулся, вылил воду из ботинок и натянул лицо пассажира. Никто на Егора и не посмотрел. Рамки не звенят – и ладно. Он вошёл в зал с потолками в пять метров, с колоннами и главными часами. Роскошь. На чемоданах спали дети. Их родители расположились на липких сидениях и тоже задремали. Пропитых, с парижским ароматом и дырками на одежде нигде не было. Значит, безопасно, самое то, чтобы заночевать. Егор сел в отдалении, в самом конце зала, у колонны. Мрамор его заряжал, хотя больше всего Егор хотел разрядиться. Он ощупал пустые карманы – сигарета пропала. По груди разошлась горечь, и стало пусто, словно вырвали сердце и легкие. Егор, правда, не Данко и отлично это понимает. – Теперь я совершенно пуст, – он выругался, чего давно не делал, и так обрадовался русскому мату, что забыл о куреве. Придётся просить, чего Егор не любил, но деваться некуда. И деньги нужны. Он вжался в подлокотник и спинку, примостился. Веки тяжелели и потихоньку опускались. Первый день позади. Июлем упился, пошалопутничал. Посплю, а потом работёнку подыщу. – Егор! Ты, что ли? Старый, какими судьбами? – раздалось под боком, когда Егор едва-едва провалился в забытье. Он дёрнулся и открыл глаза. – Помнишь меня? Я Витя, друг детства! Егор смотрел на молодое, полное жизни лицо и вспоминал, где он последний раз видел такие глубокие голубые глаза. В них к тому же будто плескалось море. Вспомнил. Перед ним тот Витя, с кем они мастерили снежную пещеру. Тот Витя, с которым они таскали лимонад и доски, чтобы сидеть в доме на дереве и потягивать «Буратино». Тот, кого он потерял, как только окончил школу. – Егор, ты что в нашем городе забыл? Куда едешь? – Витя поднял старого друга, растряс его и трижды обнял. – Вообще-то никуда. Просто сплю, – Егор потирал глаза и принимал объятия. – На вокзале? Что случилось, братец? – Вот так, – Егор не хотел обсуждать свою жизнь и все её перипетии. – А ты здесь почему? – Жену с дочкой проводил. Сейчас домой иду. О, давай ко мне! – Витя засиял, в глазах его забились волны. Егор потерял связь с реальностью окончательно. Он давно не спал. А когда драгоценные часы бессознательного к нему приблизились и раскрыли для него руки, его у них отобрали. От хронического недосыпа и армейского подъёма мир рябил и двоился. Егор увидел глубокие голубые глаза на колонне и подумал, что они принадлежат не Вите, а мраморной махине. Представь, как на тебя смотрит вокзальная колонна. И ещё с такими глазами, в которых бурлит море. И ещё с таким взглядом, будто сейчас сожрёт. Похоже на наркотический трип, ведь так? – Просыпайся, друг мой, мы идём ко мне домой, – Витя по-братски приобнял Егора, вцепился в его потрёпанный куртец. – Что-то мне совсем хреново, – Егор ещё не отошёл от глаз на колонне, как вдруг на его плечи упала чугунная рука – именно такой она казалась ослабевшему организму. – Ничего, у меня водка есть.II
– Я вроде как в люди выбился, – Витя опрокинул рюмку, крякнул и прижал руку ко рту. – Жену, детей завёл. Налево не хожу, деньги не пропиваю – всё в дом. Кстати, и дом строю, в пятидесяти километрах отсюда. Потом тебе покажу. – На какие шиши? – Егор взбодрился спиртом и осматривал здоровенную кухню с евроремонтом: вытяжка, холодильник и печь в один цвет, дорогая плитка с орнаментом и фото из Сочи, Крыма, Турции. Остальных курортов Егор не знал. – Товарка, можно сказать. Получаю, разгружаю, фасую и продаю, – Витя отвёл взгляд, схватил бутылку и налил обоим. – Деньги есть, а откуда – дело второе. Ты как? Почему на вокзале спишь? Егор сперва выпил, закинув голову, и оценил люстру – она каскадом света спускалась с потолка. – Вчера откинулся. – Господи, что стряслось? – Пустяки. Убийство. Витя побелел, опустил руки и голову. Потом встал. Прошёл по кухне. Подошёл к окну, поправил пепельницу. – Встречался я с одной бабой, – Егор продолжил и не взял во внимание, как Витя кружится мухой. – Мало знал о ней, но частенько к ней захаживал. Я тогда уже устроился на завод – слесарем, – и какое-никакое лавэ имел. По кафе её водил, кофе отпаивал. Она, знаешь, вся из себя была. Типичная провинциальная фифа, которая разок съездила в Москву и возомнила себя москвичкой. Но что-то в ней меня притягивало. Витя вернулся на место, закурил и уставился на Егора. – Тянуло так, что я спал и спал с ней. И плевал на то, что толком о ней ничего не знаю. Ещё о своём детстве мне рассказала. Как её отчим в ванной закрывал и трахал. В общем, жалость и похоть во мне перемешались и выдали чувство, похожее на любовь. – И ты её убил потом? – Слушай и не перебивай. Одним днём лежу я у неё без трусов, после слюнявого минета. Слышу – дверь открывают, ключами открывают. Моя дура подскакивает, вещи мои – на балкон, а меня – под кровать. Лежу, еле дышу и слышу, как она мужа ласкает: «Привет, дорогой. Ты уже вернулся? А я тебя ждала». – Какая банальная история, как из мелодрам по телеку. У меня жена такую хрень обожает. – Далее. Мужик обувь спалил, ходит, ищет. Мне страшно, понятное дело. Наконец доходит до кровати. Лицо его наклоняется ко мне, и вижу я знакомые черты. Длинный нос, маленькие глазки, весь чёрный. Это, знаешь, кто? – Ну. – Стасик. – Тот, которого мы пиздили? – Верно. Получал он за дело, но об этом, конечно, не помнил. Смотрел он под кровать свирепо. Но ещё свирепее стал, когда я оттуда вылез. Прикинь, какая встреча? – А дальше? – Витя встал, открыл окно и встал к нему продышаться. К таким поворотам готов он не был. – Он вмиг вспомнил старые обиды, начал кровать ломать, дверцу шкафа проломил. А потом кровью глаза налились, и он на кухню погнал. Я смекнул, что за ножом. Кинулся вслед, по затылку – ка-а-ак! – И убил? – Витя закрыл лицо руками. – Ты ведёшь себя как ребёнок. – Прости, брат. Тюрьмы боюсь. Сам нечист. Сесть боюсь, – он насасывал сигареты одну за другой. – Ладно. Отключил я его и сбежал под крики моей (или нашей?) бабцы. Кажется, проехали, обошлось, но нет. Через пару дней прихожу к ней – она написала СМС, позвала в гости и хотела ситуацию обсудить. Поднимаюсь, вижу, что дверь открыта. Не понял, но вошёл. Тишина. Иду на кухню – пусто. Смотрю в зале – никого. Наконец, дошёл до спальни, на кровати – месиво. Она лежит на красном одеяле, пропитанном её кровью. Живот вспорот, глаза вырезаны. И тут – хуяк мне по голове. – Стасик подставил? – Ну, такие вот дела, – Егор взял бутылку, налил и опрокинул без закуси. – Невиновного посадили! – Витя кружился по комнате, как отличница перед экзаменом, как поэт в психушке или как героинщик у барыги. – Смирился. Егор знал, что Стасик – мент и что семья его – ментовская. Он же сирота – на тот уже момент – и всего лишь слесарь. Он сел, за месяц изучил понятия, познакомился с кем надо и стал мужиком. Словом, адаптировался. Старые друзья молчали. – Ладно, раз ты мне о своей жизни поведал, то и я раскрою карты, – Витя вернулся за стол, налил по рюмке. – Я не соврал, но недоговорил. Занимаюсь я товаркой, но вот товар запрещённый. – Дети, оружие, наркотики? – Егор спросил с улыбкой, потому что к запрещёнке он привык за двенадцать лет. – Травка, иногда марки, – Витя ждал, как отреагирует Егор – положительно или отрицательно. – Хорошо хоть, что лёгкие. А как ты в бизнес вошёл? – Не поверишь. С одноклассником всё замутили. – С Петькой Протасовым? – Егор откинулся на спинку, потом встал и тоже закурил у окна. – С ним! А ты откуда знаешь? – Он всегда на торчка похож был, – смех разнёсся по кухне. Тёмные страницы оставили, перешли к светлым, если торговлю наркотиками мимо жены и детей и двенадцатилетнее заключение можно так назвать.III
– А ты курой побыть не хочешь? – Витя уже икал и расползался по столу. – Это типа ещё ниже петуха? – Егор усмехнулся, но шутки не понял. – Нет, я говорю про курьера. – Витя икнул чуть не до рвоты, рыжая каша поднялась к горлу. – Тот, кто товар доставляет. – Не-не-не, я официально хочу, – Егор мотал головой, и евроремонт двоился и сверкал калейдоскопом. – Ты ж только откинулся, тебя никуда не возьмут. – Возьмут! Я в себя верю. К тому ж не виноват ни в чём. – Морали у работодателей нет. Есть только бумажки. И у тебя бумажка – попорченная, не целка совсем, – Витя приобнял Егора. – Ты подумай. Месяц поразносишь, а потом я тебя на координатора посажу. Знаешь, какие бабки? Егор убрал его руку и встал. Шматком мяса он брёл до комнаты. Нащупал во тьме кровать – и упал. Во сне его мучили сомнения. То он идёт в школу и проваливается в яму, а учителя кричат: «Свернул не на ту дорожку!» То он лежит на коленях матери и плачет, а она ему твердит: «Будь честным, но не всегда. Честных мир не любит». Проснулся Егор в поту, с сотней картинок перед глазами. Башка раскалывалась. Каждое движение отдавало болью в темечко. Лучше бы рубили пальцы или били палкой. Первое, о чём Егор подумал, – закладки. Его ломало изнутри. Он никогда не нарушал закона и всегда верил в правосудие. А тут – и закон, и правосудие испортили ему жизнь, пережевали и выплюнули её. Может, если обратиться во зло, мир станет подобрее? Уже днём Егор шёл по вчерашним улицам. И гадил ту природу, что его вчера вдохновляла, синими свёртками. На третьем часу работы он понял, куда лучше закладывать и как незаметно проверить, нет ли рядом полиции. Поздним вечером Егору оставалось разложить две закладки. Первая – опасная, рядом с церковью. С ней новоиспечённая кура справилась на ура. Вторая – безопаснее, на заброшке. Егор вошёл в убитый дом, где холодным взглядом его поглощали голый бетон и ржавая арматура. Оставил марки на подоконнике и спалил патруль. Бело-синий бобик орал и мигал вовсю. Егор присел и наблюдал, куда поедет. К нему. Потом вторая машина. Егор бежит по лестнице, выбегает на крыльцо – там двое. Он ломится в коридор, выбивает двери и ищет окно без стекла. Прыжок – прямиком на мента. На допросе Егор ничего не отрицал, во всём сознавался и так понравился следователю, что тот причмокивал и улыбался, когда вносил показания. Витю он не сдал, хотя не знал, есть ли его вина в этом. Егора чудом отправили в Карелию, где он промотал половину первой ходки. Там ещё остались знакомые, которые слушали о воле, об июльской природе и о том, какие вилы встретили Егора там, на свободе. Из невиновного виновным стать легко, надо лишь откинуться, понять, что обществу уже не нужен, и вернуться туда, где выслушают, нальют чифирь, почешут репу и скажут: «Да, брат, жизнь – такая штука».Философ по вызову Иван Гобзев
 – Господа, а давайте вызовем?
– Вызовем?
– Вызовем!
Мужчины переглянулись. Они сидели в халатах, распаренные, розовые. На столе водка, пиво, закуски.
– Вы про так называемых девчонок? – спросил тонким голосом Андрей Иванович.
Андрей Иванович попал в эту компанию впервые. Он уже был наслышан, как весело проводят время его коллеги, но они никогда не приглашали его с собой. Хотя он и имел должность немаленькую и работал давно. И вот, в этот четверг он внезапно получил приглашение от самого Сергея Моисеевича. Мысль о том, чтобы «вызвать», отозвалась в нём непривычным, давно забытым волнением. Приятный холодок пробежал по телу и заставил задрожать колени. Он даже широко раскрыл глаза и рот. Никогда он ещё никого не вызывал, только слышал, что такое делают и как об этом рассказывают вполголоса.
Вопрос Андрея Ивановича проигнорировали. Понятное дело, что речь шла о девчонках, больше вызывать было некого.
– А вызовем! – весело закричал курчавый Сергей Моисеевич.
Все тут приходились подчинёнными Сергею Моисеевичу, поэтому он принимал решения и последнее слово всегда было за ним. Сразу было понятно, что он главный, он даже был больше всех – высокий, с широким, в крупных порах лицом и огромным животом.
– Толь! – закричал он. – Толь!
Появился сутулый банщик в белом халате.
– Чего, Сергей Моисеевич?
– Вызвать хотим. Кто там свободен у тебя?
– Многие свободны, кабинеты сегодня только вы арендуете.
– Добро! Подожди Толь, мы решим сейчас.
И Сергей Моисеевич стал с коллегами обсуждать.
Иван Андреевич решил устроить себе выходной. Он сварил кофе и по-домашнему, в тёплом длинном халате с капюшоном устроился на кухне. Неделя была тяжёлая, каждый день лекция, а то и не одна. Многим даже пришлось отказать. Ну да всех денег не заработаешь. На этой неделе он и так заработал прилично, можно было и отдохнуть.
Преподавателю тяжело заработать на хлеб, не говоря уже о виллах и яхтах. Но если ты пользуешься спросом, голодать тоже не будешь.
Кто-то в этом деле успешнее, кто-то наоборот. Иван Андреевич был где-то посередине. Он знал таких преподавателей, кто всегда нарасхват и на каждой своей лекции блистал, устраивая настоящее шоу. Он так не мог, это ему было слишком тяжело. Он уставал, ему нужны были покой и отдых.
И вот сегодня долгожданный выходной. Давно он планировал, но всё никак: то вдруг мастер-класс предложат, то другим преподавателям повысить квалификацию, то мини-курс… И всё такие предложения, от которых сложно отказаться, и опять получалось, что запланированные выезд на природу, встреча с девушкой и друзьями, да и просто посидеть дома, почитать книги и посмотреть хороший сериал – всё шло прахом. Но не теперь. Теперь его ждали три полноценных дня отдыха – и пусть весь мир подождёт.
Конечно, он не раз думал о том, как бы так повысить ставку, чтобы работать поменьше, а получать побольше. Но здесь были два «но». Во-первых, рынок есть рынок. Есть определённый коридор цен, а Иван Андреевич и так держался у потолка этого коридора. Во-вторых, это известный самообман – что будто бы получая больше, работать будешь меньше. Ничего подобного, чем больше денег, тем выше потребности, и, как всегда, будет недостаточно.
«Это как, – подумал он, – если провести параллель с родственным бизнесом – девушки по вызову. Как говорят, есть такие, кто получает по пятьдесят тысяч за час! То есть столько же, сколько некоторые в месяц. И что они из-за этого мало работают? Наоборот. Впрочем, в нашем бизнесе… – нахмурился Иван Андреевич, – такие деньги мало кто видит. Разве что тебя закажет топ-менеджер из какой-нибудь госкорпорации».
Делай что должен и будь что будет. Девочки по вызову делают то, что умеют. И мы, преподаватели, – тоже.
В планах у Ивана Андреевича был просмотр популярного сериала, который уже года два хвалили разные люди, а он так и не видел ни одной серии. Допив кофе, он встал и направился в гостиную. По пути он остановился у зеркала в прихожей. Зеркало было в полный рост.
Вот такой, утренний, с седой уже щетиной, растрёпанными волосами и продольными морщинами после сна, он не нравился себе. Мешки под глазами, уставшими и красными, с непонятным диким выражением, лицо припухшее, нездорового цвета. Да, на работе он словно преображался, и в нём загорался огонь, который озарял и слушателей, но с годами этот огонь горел всё слабее и слабее, и ясно было, что скоро от него останутся лишь угли, которые будут тлеть, пока не погаснут совсем.
Он знал коллег, которые дошли до того, что с искренней неприязнью и отвращением относились к своим студентам. Хотя за что студентов-то не любить? Просто устали профессора сами от себя, вот в чём дело. Казалось бы, уйди в таком случае, займись другим делом. А каким, если ты не умеешь больше ничего? Дворником или сторожем устроиться? Пожалуй, можно бы, так многим же семью содержать… Так и девочки по вызову – любят ли они своих клиентов, которые щедро платят им? Могут ли они уйти? Наверное, да, только если удастся накопить большую сумму. Только подозреваю, что накопить им не удаётся, слишком нравится красиво жить.
Зазвонил телефон.
Иван Андреевич недовольно взял его.
– Да?
– Добрый день, Иван Андреевич! Это Толик из Ржавских бань. Помните? Полгода назад…
Андрей Иванович внутренне дрожал от волнения. Происходило нечто такое, о чём он и думать себе никогда не разрешал, нечто, не имеющее к нему никакого отношения. Но это, как он понял вдруг сейчас, было именно то, чего он страстно желал многие годы, быть может, с самой юности. Его воображение захватила дикая, всепоглощающая страсть, у него даже страшно выпучились глаза и отвисла, онемев, челюсть. Он поймал своё отражение в зеркале одной из кабинок.
«Вот так, – с усилием принимая нормальное выражение лица, подумал он, – вот так вдруг узнаешь самого себя, и, оказывается, ты совсем другой, чем казался самому себе!»
Тем временем мужчины во главе Сергеем Моисеевичем изучали каталог на планшете, любезно предоставленном банщиком Анатолием. Андрей Иванович встал позади дивана, на котором это происходило, чтобы тоже принимать участие.
Сергей Моисеевич был из тех, кто не дешевится. В каталоге были девочки начиная со старших преподавателей и не ниже кандидатов наук. Были и доктора, профессора и даже один член-корреспондент.
– А, как? – рявкнул один, тыча толстым, жирным от вяленой рыбы пальцем в фото, – как она?
На фото была дама лет пятидесяти, в очках, с аккуратной укладкой и спокойной тихой улыбкой умного человека. Всем опытным по части вызовов из собравшихся здесь было ясно: она профессионал.
И ещё бы! Какой послужной список! Доктор наук, профессор, автор трёх учебников, одной монографии и пятидесяти пяти статей в рецензируемых научных журналах!
– Однако, – сказал Дмитрий, – я бы не стал.
Дмитрий был самым молодым из руководства. Но отнюдь не последним – он возглавлял направление маркетинга и был по сути правой рукой Сергея Моисеевича. Поэтому его все уважали и немного боялись. Вёл он себя всегда очень уверенно и со всеми как будто отстранённо, исключая в общении какую-либо фамильярность и задушевность. Даже перед Сергеем Моисеевичем он никогда не заискивал и общался с ним на равных, не боясь открыто возражать ему. На работе он не соблюдал дресс-код и неизменно ходил в голубых джинсах и в майке, на которой по чёрному фону крупно белела надпись ‘FUCK YOU’. Летом в шлёпанцах, зимой в лёгких кроссовках. Его постоянно мучила какая-то аллергия, из-за которой под нижней губой у него шелушилось и нарывало. Говорили, что из-за этого он никогда почти не улыбается – ему больно губы раздвигать. В общем, и без всяких знаний о нём было видно, что это необычный человек.
– Почему не стали бы, Дмитрий? – спросил Сергей Моисеевич. – Неплоха же.
– Неплоха-то неплоха, – сказал Дмитрий, – да вот только публикации у неё все фейковые.
– Как так? Как так? – всколыхнулись мужчины, крутя белыми и красными голыми телами. – Тут с гарантией! Проверено администрацией!
– А вы посмотрите, где публикации, – спокойно возразил Дмитрий. – В каких журналах? И ни одной в «Скопусе» или «Веб оф сайенс». Администрация сайта в этом мало что шарит, им бы продать только. Да и в глазах у неё фальшь. Не верит она в то, что продаёт.
Стали смотреть дальше, хотя тот, что рыбу ел и хотел эту даму, не согласился и теперь злился.
– Вот! Вот! – закричал кто-то.
Опять же доктор наук и тоже профессор. Мужчина лет сорока пяти. Куча публикаций – и все в престижных журналах!
– Больно рожа надменная, – сказал кто-то.
– Это молодой ещё потому что.
– Давайте ещё глянем, а этого на заметку?
Пошли листать дальше. Много новеньких. Особенно девушек, недавних выпускниц, а уже кандидатов наук. Юношей тоже немало.
– Ну нет, – скривился Сергей Моисеевич, – ну что с этой мелкотой будем делать? Тут ведь главное опыт. А молодёжь вся эта – для новичков в нашем деле. Давай постарше кого…
– Ограничение поставьте, – сказал Дмитрий, – от сорока.
– Да по мне, и от шестидесяти бы, – сказал вдруг Андрей Иванович.
Наконец нашли члена-корреспондента семидесяти девяти лет, с таким списком регалий, публикаций и опытом преподавания, что и за час не перечтёшь. Но и ценник, конечно, стоял такой, что не всякий позволит. Но Дмитрий и тут воспротивился.
– Не для бани такой. Пойдёт с нами в парилку, сердце ещё не выдержит.
– Да зачем ему в парилку?! – закричали другие. – Смысл? Он же не париться едет, а нести нам, дуракам, свет знаний, огонь вековой мудрости!
– Ну, вы тут пьёте, орёте матом, – возразил Дмитрий.
Сергей Моисеевич неожиданно встал на сторону Дмитрия. В итоге было решено звать того доктора, сорока пяти лет. Анатолий стал звонить, но тут выяснилось, что девочка уже занята.
– Что поделать, – развёл руками банщик Анатолий, – пятница, а такие, как он, нарасхват!
Все уже устали от этих выборов и стали раздражаться. Хотелось уже развлечься. Вот так и вышло, что позвонили в итоге, почти случайно, уже особо не рассматривая, сорокалетнему Ивану Андреевичу, кандидату наук, доценту, автору учебного пособия и ряда научных статей.
– Добрый день, Анатолий, – Иван Андреевич вспомнил банщика, – у меня сегодня выходной. Совершенно точно не могу. Да и заранее надо, сами понимаете.
Но когда была озвучена цена, он невольно задумался. Не то что за два часа, а и за две недели непрерывной работы он никогда таких денег не получал.
Что же, есть предложения, от которых трудно отказаться.
– Еду, – сказал Иван Андреевич. – Только вопрос: с презентацией? Оборудование есть? Нет? Ну, так лучше. Поговорим просто, в сократической обстановке.
Иван Андреевич причесался, упаковал халат и вызвал такси. По дороге он смотрел на улицы сквозь заплаканные дождём стёкла и думал о предстоящей работе. Он, хотя и профессионал, не чувствовал в себе сил сегодня на хорошую работу. Он как будто слишком устал, его клубок размотался до конца, его выжали до предела и корку оставили под палящим солнцем. Он ощущал себя старым презервативом, который по причине какой-то страшной необходимости используют вновь и вновь… «Фломастер поначалу пишет жирно, но в конце концов…» – думал он.
И тем не менее, стоило ему всякий раз выйти к слушателям, в него словно вселялся демон, который придавал ему сил, вдохновлял и его, и слушателей. Но бывало и так, причём всё чаще, что, выходя, он испытывал странную тоску и упадок сил, и рот его, повинуясь его воле, но вопреки собственному желанию – желанию организма, мучительно открывался и закрывался, не желая более произносить произносимое, и наполнялся кислой слюной.
«Надо заканчивать, – думал он в который уже раз за последние годы, – надо заканчивать!»
Но как он мог закончить? Как ещё он умел зарабатывать? Ведь преподаватель – это тот же Сизиф. У него нет ничего, кроме его камня.
Но всё же он бы закончил. Он уже вплотную подошёл к этому решению, когда произошло непредвиденное.
Все, в общем, знали, что философия, мать наук, давно уже превратилась в какую-то смешную дисциплину, к которой никто, кроме самих философов – да и те с оговорками, – не относился серьёзно. Скорее она стала частью исторической науки, её разделом – историей философии. Современная же философия до такой степени перестала поспевать за наукой, которой она когда-то руководила, что учёные стали относиться к ней с презрением, ставя её в один ряд с хиромантией, астрологией и тому подобным. Философы много рассуждали, но рассуждали о каких-то таких абстрактных материях, с которыми в действительности нельзя было сопоставить ничего конкретного, и пользовались для этих целей особым птичьим языком, каждый по-своему. Конечно, с точки зрения физика, они говорили откровенно бессмысленные вещи.
Но всё меняется. Уходит одна мода, приходит другая. Неясно, когда это началось, но в какой-то момент среди богатых людей вдруг стало популярным вызывать «преподавателей на час». Их быстро стали называть, по старой, видимо, привычке, «девочками». Люди, работающие в бизнесе, торгующие, занятые в сфере услуг и не имеющие возможности просвещаться, приобщаться к сокровищнице мировой культуры, захотели знаний. Настоящих знаний – лучших достижений человеческой мысли за тысячелетия. У серьёзных предпринимателей нет времени на чтение специальной литературы, на долгие и кропотливые занятия. Они зарабатывают большие деньги, и всё их время посвящено делу.
И вот тут вновь, как и две с половиной тысячи лет назад, взошла звезда философии. Потому что ну к кому могли обратиться эти люди, эти владельцы корпораций и топ-менеджеры, кроме как к философам? К физикам? Математикам? Биологам? Это слишком сложно. Экономистам, социологам, политологам, историкам? Да, полегче – но слишком узко. Но была и философия! Сразу обо всём – вся история мировой культуры в одном флаконе плюс её теоретическое осмысление! Тут, конечно, прибились и культурологи, но… Впрочем, без но – образование у них тоже было по большей части философским.
И вот, когда в очередной раз взошла звезда философии, преподаватели философии снова стали в цене. Да не то что в цене, а нарасхват. Но, разумеется, с учётом иерархии. Чем престижнее вуз, чем выше качество публикаций, чем больше опыт преподавания и положительных отзывов студентов, тем ты дороже как девочка.
Ивана Андреевича встретил Анатолий.
– Халат, тапочки? – спросил банщик.
– Всё взял, – немного возмущённо ответил Иван Андреевич, давая понять, что он, профессионал, удивляется таким вопросам.
– Можете переодеться здесь, – сказал банщик, проведя его в свою каморку.
Иван Андреевич переоделся. Халат солидный, аристократичного кроя, длинный, тёмно-синего цвета, с более светлыми обшлагами в клетку. Тапочки – шлёпанцы, сделанные в Бразилии, в цвет халата, со вкусом, мягкие и удобные. Иван Андреевич поправил причёску, глядя в треснувшее старое зеркало банщицкой, и мельком подметил произошедшую в нём метаморфозу – он как будто помолодел и взбодрился. Это было профессиональное и происходило автоматически. Но внутри он не чувствовал никакого драйва и биения, а только бескрайнюю холодную пустыню без признаков жизни. И он сам не знал, то ли пойдёт, то ли нет.
Банщик распахнул дверь, и Иван Андреевич вошёл. Почему-то открывшаяся картина показалась ему накренённой набок, под углом в сорок пять градусов вправо. Стол, криво стоящие скамейки, бутылки-бутылки-бутылки, рюмки, кружки, закуски, и полуголые хохочущие тела с пьяными глазами. При виде него поднялся хриплый залихватский рёв и смех, как это принято в компании мужчин, которая решила вести себя как компания мужчин. Было в этом рёве и что-то от смущения и от желания показать, что никакого смущения нет. Один из них вдруг запел диким голосом:
– Мы к вам заехали на час!
Привет! Bonjour! Hello!
А ну скорей любите нас!..
– Лёша, сядь, – осадил его Сергей Моисеевич.
И обратился к гостю:
– Просим, просим, к столу! Водочки?
Иван Андреевич сдержано поприветствовал всех, сел на предложенный стул во главе стола и от водки отказался. Тут не следовало есть и пить, во всяком случае, пока шла работа, чтобы избежать лишнего сближения, перехода на «ты», фамильярности и панибратства. В таком деле лучше сохранять вежливую и добрую дистанцию.
Сергей Моисеевич угомонил собравшихся. Иван Андреевич сразу подметил холодный и слегка насмешливый взгляд Дмитрия. Есть такие люди, встречаются редко, но есть – знающие и понимающие больше других.
– Господа, – начал Иван Андреевич, – какую тему желаете обсудить? Смысл жизни? Любовь? Этика или эстетика?
Он сразу предложил на выбор расхожие популярные темы, которые всегда шли хорошо у дилетантов.
Но Лёша – тот, что хотел даму в очках, – грубо перебил:
– Ты лучше скажи нам, зачем твоя философия нужна.
Иван Андреевич не растерялся. Он уже давно привык к различным троллям и знал, как с ними обращаться. Лучше всего – добром. Хуже всего – унижать в ответ, какой бы ни был хам, потому что тут срабатывает групповая солидарность, и остальные будут на его стороне.
– Вы слышали о Сократе? – спокойно спросил Иван Андреевич.
– Как же, слышали, – крякнул насмешливо Лёша, сев враскоряку, руки в колени и как бы нависнув над Иваном Андреевичем. – Тот, что в бочке жил?
– Нет, это Диоген был. Но Сократ был в чём-то похож на него. Непривлекателен. Беден. Имел речь простую и грубую…
– Короче, как мы? – засмеялся Сергей Моисеевич.
– Ну отчасти, – с улыбкой кивнул Иван Андреевич. – Но, поговорив с ним, люди бросали всё и начинали новую жизнь…
– Ну я тоже так могу поговорить! – сказал Лёша. – Сергей Моисеевич, помните того козла?
– Лёша, ты сор не выноси, – строго сказал ему Сергей Моисеевич. – Ладно. Давайте про добро и зло! Что там ваша философия про это говорит?
Иван Андреевич многозначительно кивнул:
– Хорошо! Вот вам моральная дилемма. Допустим, друзья, на Землю прилетели высокотехнологичные инопланетяне. Ясно, что враждовать с ними бесполезно, они в своём развитии превосходят землян во много раз. И вот они ставят условие: либо забираем миллиард землян (вы сами решаете кого) и увозим их в рабство – они будут работать на радиоактивных рудниках и скоро умрут в мучениях, либо мы объявляем войну и уничтожаем вас всех. У вас есть время подумать. Десять минут.
Вспыхнули жаркие споры. Сергей Моисеевич и большая часть собравшихся решительно были за то, чтобы отдать миллиард. Есть много преступников, больных, сумасшедших и престарелых, которыми они были готовы пожертвовать. Но и в команде Сергея Моисеевича не было единодушия – кто-то посчитал, что это негуманно и нужно найти добровольцев. Но миллиард добровольцев… Предложили решать по жребию, кому лететь. Но Сергей Моисеевич был против жребия.
Тогда Иван Андреевич рассказал хорошо известную историю про знаменитого философа Иммануила Канта.
– Суть вкратце в следующем. Кант считал, что никогда нельзя поступать аморально. Рассмотрим такую ситуацию. Допустим, вашего друга преследует преступник. Друг прячется у вас. Подбегает преступник, и спрашивает: здесь ли прячется тот, кого я ищу? Что вы сделаете?
– Скажем, что нет тут такого, – усмехнулся Сергей Моисеевич. Его все поддержали.
– А Кант его бы выдал. Потому что никогда нельзя лгать. Ни в каких ситуациях. Ложь – это зло.
Тут все разом заорали про Канта самые плохие слова. Но выше всех был голос Андрея Ивановича, который даже вскочил от волнения:
– Я понял, я понял! Кант не отдал бы людей инопланетянам! Потому что это зло!
– Ты чего, Андрей? – удивился бардовый Лёша. – Убьют же всех!
– Зато это правильно! Мы ответим добром, потому что зло умножает зло!
– Чего правильно? Чего добром? – заорали на Андрея Ивановича. – Добро – убить всё человечество?
Прервав ссору, Иван Андреевич обратился к истокам этического учения – к античной философии, неожиданно вернувшись к Сократу.
В какой-то момент Дмитрий вполне отчётливо произнёс: «Попса», зевнул и стал собираться домой. Но другие слушали и спорили ещё долго. Когда закончилось время и Иван Андреевич стал подводить итоги, поступилопредложение продлить ещё на два часа. Деньги были немаленькие, и Иван Андреевич согласился – тем более, проблема ещё не была обсуждена с религиозной и научной точек зрения.
В конце концов устали все. Кто уехал домой, кто выпил лишнего и дремал на диване, кто пошёл париться. Только Андрей Иванович не отпускал Ивана Андреевича, желая узнать как можно больше. Он не спорил, но он спрашивал, уточняя детали того или иного учения, и не раз уже ставил Ивана Андреевича в тупик своими вопросами.
Это была самая долгая лекция в жизни преподавателя. Где-то в два ночи Андрей Иванович перевёл на счёт Иван Андреевича всё, что было у него на карточке, тем самым окончательно решив вопрос с продлениями. Иван Андреевич, бодрясь и стараясь не зевать, всё говорил-говорил-говорил, уже не совсем понимая, что сам говорит, и думал о том, что теперь год вообще может не работать.
Лекция внезапно закончилась около пяти утра. Андрей Иванович вдруг резко встал, сказал «спасибо» и пошёл собираться. А Иван Андреевич вернулся к банщику. Тот дремал на диванчике, он разбудил его, быстро оделся и поехал на такси домой. Спустя час он уже крепко спал. Ему приснились инопланетяне, предлагающие миллиард за то, что он продаст им свою душу, и он, к стыду своему, согласился.
Андрей же Иванович, вернувшись, не лёг спать. Он разбудил жену и объявил ей, что начинает новую жизнь. В течение следующей недели он устроил свои дела: уволился, отказался от имущества, часть оставил жене и детям, а часть раздал в благотворительные организации. Под слёзы жены и дочерей он собрал самые необходимые вещи и уехал на поезде в Сибирь, куда-то в глушь, к берегам Енисея, вести, по его словам, правильную и добродетельную жизнь.
– Господа, а давайте вызовем?
– Вызовем?
– Вызовем!
Мужчины переглянулись. Они сидели в халатах, распаренные, розовые. На столе водка, пиво, закуски.
– Вы про так называемых девчонок? – спросил тонким голосом Андрей Иванович.
Андрей Иванович попал в эту компанию впервые. Он уже был наслышан, как весело проводят время его коллеги, но они никогда не приглашали его с собой. Хотя он и имел должность немаленькую и работал давно. И вот, в этот четверг он внезапно получил приглашение от самого Сергея Моисеевича. Мысль о том, чтобы «вызвать», отозвалась в нём непривычным, давно забытым волнением. Приятный холодок пробежал по телу и заставил задрожать колени. Он даже широко раскрыл глаза и рот. Никогда он ещё никого не вызывал, только слышал, что такое делают и как об этом рассказывают вполголоса.
Вопрос Андрея Ивановича проигнорировали. Понятное дело, что речь шла о девчонках, больше вызывать было некого.
– А вызовем! – весело закричал курчавый Сергей Моисеевич.
Все тут приходились подчинёнными Сергею Моисеевичу, поэтому он принимал решения и последнее слово всегда было за ним. Сразу было понятно, что он главный, он даже был больше всех – высокий, с широким, в крупных порах лицом и огромным животом.
– Толь! – закричал он. – Толь!
Появился сутулый банщик в белом халате.
– Чего, Сергей Моисеевич?
– Вызвать хотим. Кто там свободен у тебя?
– Многие свободны, кабинеты сегодня только вы арендуете.
– Добро! Подожди Толь, мы решим сейчас.
И Сергей Моисеевич стал с коллегами обсуждать.
Иван Андреевич решил устроить себе выходной. Он сварил кофе и по-домашнему, в тёплом длинном халате с капюшоном устроился на кухне. Неделя была тяжёлая, каждый день лекция, а то и не одна. Многим даже пришлось отказать. Ну да всех денег не заработаешь. На этой неделе он и так заработал прилично, можно было и отдохнуть.
Преподавателю тяжело заработать на хлеб, не говоря уже о виллах и яхтах. Но если ты пользуешься спросом, голодать тоже не будешь.
Кто-то в этом деле успешнее, кто-то наоборот. Иван Андреевич был где-то посередине. Он знал таких преподавателей, кто всегда нарасхват и на каждой своей лекции блистал, устраивая настоящее шоу. Он так не мог, это ему было слишком тяжело. Он уставал, ему нужны были покой и отдых.
И вот сегодня долгожданный выходной. Давно он планировал, но всё никак: то вдруг мастер-класс предложат, то другим преподавателям повысить квалификацию, то мини-курс… И всё такие предложения, от которых сложно отказаться, и опять получалось, что запланированные выезд на природу, встреча с девушкой и друзьями, да и просто посидеть дома, почитать книги и посмотреть хороший сериал – всё шло прахом. Но не теперь. Теперь его ждали три полноценных дня отдыха – и пусть весь мир подождёт.
Конечно, он не раз думал о том, как бы так повысить ставку, чтобы работать поменьше, а получать побольше. Но здесь были два «но». Во-первых, рынок есть рынок. Есть определённый коридор цен, а Иван Андреевич и так держался у потолка этого коридора. Во-вторых, это известный самообман – что будто бы получая больше, работать будешь меньше. Ничего подобного, чем больше денег, тем выше потребности, и, как всегда, будет недостаточно.
«Это как, – подумал он, – если провести параллель с родственным бизнесом – девушки по вызову. Как говорят, есть такие, кто получает по пятьдесят тысяч за час! То есть столько же, сколько некоторые в месяц. И что они из-за этого мало работают? Наоборот. Впрочем, в нашем бизнесе… – нахмурился Иван Андреевич, – такие деньги мало кто видит. Разве что тебя закажет топ-менеджер из какой-нибудь госкорпорации».
Делай что должен и будь что будет. Девочки по вызову делают то, что умеют. И мы, преподаватели, – тоже.
В планах у Ивана Андреевича был просмотр популярного сериала, который уже года два хвалили разные люди, а он так и не видел ни одной серии. Допив кофе, он встал и направился в гостиную. По пути он остановился у зеркала в прихожей. Зеркало было в полный рост.
Вот такой, утренний, с седой уже щетиной, растрёпанными волосами и продольными морщинами после сна, он не нравился себе. Мешки под глазами, уставшими и красными, с непонятным диким выражением, лицо припухшее, нездорового цвета. Да, на работе он словно преображался, и в нём загорался огонь, который озарял и слушателей, но с годами этот огонь горел всё слабее и слабее, и ясно было, что скоро от него останутся лишь угли, которые будут тлеть, пока не погаснут совсем.
Он знал коллег, которые дошли до того, что с искренней неприязнью и отвращением относились к своим студентам. Хотя за что студентов-то не любить? Просто устали профессора сами от себя, вот в чём дело. Казалось бы, уйди в таком случае, займись другим делом. А каким, если ты не умеешь больше ничего? Дворником или сторожем устроиться? Пожалуй, можно бы, так многим же семью содержать… Так и девочки по вызову – любят ли они своих клиентов, которые щедро платят им? Могут ли они уйти? Наверное, да, только если удастся накопить большую сумму. Только подозреваю, что накопить им не удаётся, слишком нравится красиво жить.
Зазвонил телефон.
Иван Андреевич недовольно взял его.
– Да?
– Добрый день, Иван Андреевич! Это Толик из Ржавских бань. Помните? Полгода назад…
Андрей Иванович внутренне дрожал от волнения. Происходило нечто такое, о чём он и думать себе никогда не разрешал, нечто, не имеющее к нему никакого отношения. Но это, как он понял вдруг сейчас, было именно то, чего он страстно желал многие годы, быть может, с самой юности. Его воображение захватила дикая, всепоглощающая страсть, у него даже страшно выпучились глаза и отвисла, онемев, челюсть. Он поймал своё отражение в зеркале одной из кабинок.
«Вот так, – с усилием принимая нормальное выражение лица, подумал он, – вот так вдруг узнаешь самого себя, и, оказывается, ты совсем другой, чем казался самому себе!»
Тем временем мужчины во главе Сергеем Моисеевичем изучали каталог на планшете, любезно предоставленном банщиком Анатолием. Андрей Иванович встал позади дивана, на котором это происходило, чтобы тоже принимать участие.
Сергей Моисеевич был из тех, кто не дешевится. В каталоге были девочки начиная со старших преподавателей и не ниже кандидатов наук. Были и доктора, профессора и даже один член-корреспондент.
– А, как? – рявкнул один, тыча толстым, жирным от вяленой рыбы пальцем в фото, – как она?
На фото была дама лет пятидесяти, в очках, с аккуратной укладкой и спокойной тихой улыбкой умного человека. Всем опытным по части вызовов из собравшихся здесь было ясно: она профессионал.
И ещё бы! Какой послужной список! Доктор наук, профессор, автор трёх учебников, одной монографии и пятидесяти пяти статей в рецензируемых научных журналах!
– Однако, – сказал Дмитрий, – я бы не стал.
Дмитрий был самым молодым из руководства. Но отнюдь не последним – он возглавлял направление маркетинга и был по сути правой рукой Сергея Моисеевича. Поэтому его все уважали и немного боялись. Вёл он себя всегда очень уверенно и со всеми как будто отстранённо, исключая в общении какую-либо фамильярность и задушевность. Даже перед Сергеем Моисеевичем он никогда не заискивал и общался с ним на равных, не боясь открыто возражать ему. На работе он не соблюдал дресс-код и неизменно ходил в голубых джинсах и в майке, на которой по чёрному фону крупно белела надпись ‘FUCK YOU’. Летом в шлёпанцах, зимой в лёгких кроссовках. Его постоянно мучила какая-то аллергия, из-за которой под нижней губой у него шелушилось и нарывало. Говорили, что из-за этого он никогда почти не улыбается – ему больно губы раздвигать. В общем, и без всяких знаний о нём было видно, что это необычный человек.
– Почему не стали бы, Дмитрий? – спросил Сергей Моисеевич. – Неплоха же.
– Неплоха-то неплоха, – сказал Дмитрий, – да вот только публикации у неё все фейковые.
– Как так? Как так? – всколыхнулись мужчины, крутя белыми и красными голыми телами. – Тут с гарантией! Проверено администрацией!
– А вы посмотрите, где публикации, – спокойно возразил Дмитрий. – В каких журналах? И ни одной в «Скопусе» или «Веб оф сайенс». Администрация сайта в этом мало что шарит, им бы продать только. Да и в глазах у неё фальшь. Не верит она в то, что продаёт.
Стали смотреть дальше, хотя тот, что рыбу ел и хотел эту даму, не согласился и теперь злился.
– Вот! Вот! – закричал кто-то.
Опять же доктор наук и тоже профессор. Мужчина лет сорока пяти. Куча публикаций – и все в престижных журналах!
– Больно рожа надменная, – сказал кто-то.
– Это молодой ещё потому что.
– Давайте ещё глянем, а этого на заметку?
Пошли листать дальше. Много новеньких. Особенно девушек, недавних выпускниц, а уже кандидатов наук. Юношей тоже немало.
– Ну нет, – скривился Сергей Моисеевич, – ну что с этой мелкотой будем делать? Тут ведь главное опыт. А молодёжь вся эта – для новичков в нашем деле. Давай постарше кого…
– Ограничение поставьте, – сказал Дмитрий, – от сорока.
– Да по мне, и от шестидесяти бы, – сказал вдруг Андрей Иванович.
Наконец нашли члена-корреспондента семидесяти девяти лет, с таким списком регалий, публикаций и опытом преподавания, что и за час не перечтёшь. Но и ценник, конечно, стоял такой, что не всякий позволит. Но Дмитрий и тут воспротивился.
– Не для бани такой. Пойдёт с нами в парилку, сердце ещё не выдержит.
– Да зачем ему в парилку?! – закричали другие. – Смысл? Он же не париться едет, а нести нам, дуракам, свет знаний, огонь вековой мудрости!
– Ну, вы тут пьёте, орёте матом, – возразил Дмитрий.
Сергей Моисеевич неожиданно встал на сторону Дмитрия. В итоге было решено звать того доктора, сорока пяти лет. Анатолий стал звонить, но тут выяснилось, что девочка уже занята.
– Что поделать, – развёл руками банщик Анатолий, – пятница, а такие, как он, нарасхват!
Все уже устали от этих выборов и стали раздражаться. Хотелось уже развлечься. Вот так и вышло, что позвонили в итоге, почти случайно, уже особо не рассматривая, сорокалетнему Ивану Андреевичу, кандидату наук, доценту, автору учебного пособия и ряда научных статей.
– Добрый день, Анатолий, – Иван Андреевич вспомнил банщика, – у меня сегодня выходной. Совершенно точно не могу. Да и заранее надо, сами понимаете.
Но когда была озвучена цена, он невольно задумался. Не то что за два часа, а и за две недели непрерывной работы он никогда таких денег не получал.
Что же, есть предложения, от которых трудно отказаться.
– Еду, – сказал Иван Андреевич. – Только вопрос: с презентацией? Оборудование есть? Нет? Ну, так лучше. Поговорим просто, в сократической обстановке.
Иван Андреевич причесался, упаковал халат и вызвал такси. По дороге он смотрел на улицы сквозь заплаканные дождём стёкла и думал о предстоящей работе. Он, хотя и профессионал, не чувствовал в себе сил сегодня на хорошую работу. Он как будто слишком устал, его клубок размотался до конца, его выжали до предела и корку оставили под палящим солнцем. Он ощущал себя старым презервативом, который по причине какой-то страшной необходимости используют вновь и вновь… «Фломастер поначалу пишет жирно, но в конце концов…» – думал он.
И тем не менее, стоило ему всякий раз выйти к слушателям, в него словно вселялся демон, который придавал ему сил, вдохновлял и его, и слушателей. Но бывало и так, причём всё чаще, что, выходя, он испытывал странную тоску и упадок сил, и рот его, повинуясь его воле, но вопреки собственному желанию – желанию организма, мучительно открывался и закрывался, не желая более произносить произносимое, и наполнялся кислой слюной.
«Надо заканчивать, – думал он в который уже раз за последние годы, – надо заканчивать!»
Но как он мог закончить? Как ещё он умел зарабатывать? Ведь преподаватель – это тот же Сизиф. У него нет ничего, кроме его камня.
Но всё же он бы закончил. Он уже вплотную подошёл к этому решению, когда произошло непредвиденное.
Все, в общем, знали, что философия, мать наук, давно уже превратилась в какую-то смешную дисциплину, к которой никто, кроме самих философов – да и те с оговорками, – не относился серьёзно. Скорее она стала частью исторической науки, её разделом – историей философии. Современная же философия до такой степени перестала поспевать за наукой, которой она когда-то руководила, что учёные стали относиться к ней с презрением, ставя её в один ряд с хиромантией, астрологией и тому подобным. Философы много рассуждали, но рассуждали о каких-то таких абстрактных материях, с которыми в действительности нельзя было сопоставить ничего конкретного, и пользовались для этих целей особым птичьим языком, каждый по-своему. Конечно, с точки зрения физика, они говорили откровенно бессмысленные вещи.
Но всё меняется. Уходит одна мода, приходит другая. Неясно, когда это началось, но в какой-то момент среди богатых людей вдруг стало популярным вызывать «преподавателей на час». Их быстро стали называть, по старой, видимо, привычке, «девочками». Люди, работающие в бизнесе, торгующие, занятые в сфере услуг и не имеющие возможности просвещаться, приобщаться к сокровищнице мировой культуры, захотели знаний. Настоящих знаний – лучших достижений человеческой мысли за тысячелетия. У серьёзных предпринимателей нет времени на чтение специальной литературы, на долгие и кропотливые занятия. Они зарабатывают большие деньги, и всё их время посвящено делу.
И вот тут вновь, как и две с половиной тысячи лет назад, взошла звезда философии. Потому что ну к кому могли обратиться эти люди, эти владельцы корпораций и топ-менеджеры, кроме как к философам? К физикам? Математикам? Биологам? Это слишком сложно. Экономистам, социологам, политологам, историкам? Да, полегче – но слишком узко. Но была и философия! Сразу обо всём – вся история мировой культуры в одном флаконе плюс её теоретическое осмысление! Тут, конечно, прибились и культурологи, но… Впрочем, без но – образование у них тоже было по большей части философским.
И вот, когда в очередной раз взошла звезда философии, преподаватели философии снова стали в цене. Да не то что в цене, а нарасхват. Но, разумеется, с учётом иерархии. Чем престижнее вуз, чем выше качество публикаций, чем больше опыт преподавания и положительных отзывов студентов, тем ты дороже как девочка.
Ивана Андреевича встретил Анатолий.
– Халат, тапочки? – спросил банщик.
– Всё взял, – немного возмущённо ответил Иван Андреевич, давая понять, что он, профессионал, удивляется таким вопросам.
– Можете переодеться здесь, – сказал банщик, проведя его в свою каморку.
Иван Андреевич переоделся. Халат солидный, аристократичного кроя, длинный, тёмно-синего цвета, с более светлыми обшлагами в клетку. Тапочки – шлёпанцы, сделанные в Бразилии, в цвет халата, со вкусом, мягкие и удобные. Иван Андреевич поправил причёску, глядя в треснувшее старое зеркало банщицкой, и мельком подметил произошедшую в нём метаморфозу – он как будто помолодел и взбодрился. Это было профессиональное и происходило автоматически. Но внутри он не чувствовал никакого драйва и биения, а только бескрайнюю холодную пустыню без признаков жизни. И он сам не знал, то ли пойдёт, то ли нет.
Банщик распахнул дверь, и Иван Андреевич вошёл. Почему-то открывшаяся картина показалась ему накренённой набок, под углом в сорок пять градусов вправо. Стол, криво стоящие скамейки, бутылки-бутылки-бутылки, рюмки, кружки, закуски, и полуголые хохочущие тела с пьяными глазами. При виде него поднялся хриплый залихватский рёв и смех, как это принято в компании мужчин, которая решила вести себя как компания мужчин. Было в этом рёве и что-то от смущения и от желания показать, что никакого смущения нет. Один из них вдруг запел диким голосом:
– Мы к вам заехали на час!
Привет! Bonjour! Hello!
А ну скорей любите нас!..
– Лёша, сядь, – осадил его Сергей Моисеевич.
И обратился к гостю:
– Просим, просим, к столу! Водочки?
Иван Андреевич сдержано поприветствовал всех, сел на предложенный стул во главе стола и от водки отказался. Тут не следовало есть и пить, во всяком случае, пока шла работа, чтобы избежать лишнего сближения, перехода на «ты», фамильярности и панибратства. В таком деле лучше сохранять вежливую и добрую дистанцию.
Сергей Моисеевич угомонил собравшихся. Иван Андреевич сразу подметил холодный и слегка насмешливый взгляд Дмитрия. Есть такие люди, встречаются редко, но есть – знающие и понимающие больше других.
– Господа, – начал Иван Андреевич, – какую тему желаете обсудить? Смысл жизни? Любовь? Этика или эстетика?
Он сразу предложил на выбор расхожие популярные темы, которые всегда шли хорошо у дилетантов.
Но Лёша – тот, что хотел даму в очках, – грубо перебил:
– Ты лучше скажи нам, зачем твоя философия нужна.
Иван Андреевич не растерялся. Он уже давно привык к различным троллям и знал, как с ними обращаться. Лучше всего – добром. Хуже всего – унижать в ответ, какой бы ни был хам, потому что тут срабатывает групповая солидарность, и остальные будут на его стороне.
– Вы слышали о Сократе? – спокойно спросил Иван Андреевич.
– Как же, слышали, – крякнул насмешливо Лёша, сев враскоряку, руки в колени и как бы нависнув над Иваном Андреевичем. – Тот, что в бочке жил?
– Нет, это Диоген был. Но Сократ был в чём-то похож на него. Непривлекателен. Беден. Имел речь простую и грубую…
– Короче, как мы? – засмеялся Сергей Моисеевич.
– Ну отчасти, – с улыбкой кивнул Иван Андреевич. – Но, поговорив с ним, люди бросали всё и начинали новую жизнь…
– Ну я тоже так могу поговорить! – сказал Лёша. – Сергей Моисеевич, помните того козла?
– Лёша, ты сор не выноси, – строго сказал ему Сергей Моисеевич. – Ладно. Давайте про добро и зло! Что там ваша философия про это говорит?
Иван Андреевич многозначительно кивнул:
– Хорошо! Вот вам моральная дилемма. Допустим, друзья, на Землю прилетели высокотехнологичные инопланетяне. Ясно, что враждовать с ними бесполезно, они в своём развитии превосходят землян во много раз. И вот они ставят условие: либо забираем миллиард землян (вы сами решаете кого) и увозим их в рабство – они будут работать на радиоактивных рудниках и скоро умрут в мучениях, либо мы объявляем войну и уничтожаем вас всех. У вас есть время подумать. Десять минут.
Вспыхнули жаркие споры. Сергей Моисеевич и большая часть собравшихся решительно были за то, чтобы отдать миллиард. Есть много преступников, больных, сумасшедших и престарелых, которыми они были готовы пожертвовать. Но и в команде Сергея Моисеевича не было единодушия – кто-то посчитал, что это негуманно и нужно найти добровольцев. Но миллиард добровольцев… Предложили решать по жребию, кому лететь. Но Сергей Моисеевич был против жребия.
Тогда Иван Андреевич рассказал хорошо известную историю про знаменитого философа Иммануила Канта.
– Суть вкратце в следующем. Кант считал, что никогда нельзя поступать аморально. Рассмотрим такую ситуацию. Допустим, вашего друга преследует преступник. Друг прячется у вас. Подбегает преступник, и спрашивает: здесь ли прячется тот, кого я ищу? Что вы сделаете?
– Скажем, что нет тут такого, – усмехнулся Сергей Моисеевич. Его все поддержали.
– А Кант его бы выдал. Потому что никогда нельзя лгать. Ни в каких ситуациях. Ложь – это зло.
Тут все разом заорали про Канта самые плохие слова. Но выше всех был голос Андрея Ивановича, который даже вскочил от волнения:
– Я понял, я понял! Кант не отдал бы людей инопланетянам! Потому что это зло!
– Ты чего, Андрей? – удивился бардовый Лёша. – Убьют же всех!
– Зато это правильно! Мы ответим добром, потому что зло умножает зло!
– Чего правильно? Чего добром? – заорали на Андрея Ивановича. – Добро – убить всё человечество?
Прервав ссору, Иван Андреевич обратился к истокам этического учения – к античной философии, неожиданно вернувшись к Сократу.
В какой-то момент Дмитрий вполне отчётливо произнёс: «Попса», зевнул и стал собираться домой. Но другие слушали и спорили ещё долго. Когда закончилось время и Иван Андреевич стал подводить итоги, поступилопредложение продлить ещё на два часа. Деньги были немаленькие, и Иван Андреевич согласился – тем более, проблема ещё не была обсуждена с религиозной и научной точек зрения.
В конце концов устали все. Кто уехал домой, кто выпил лишнего и дремал на диване, кто пошёл париться. Только Андрей Иванович не отпускал Ивана Андреевича, желая узнать как можно больше. Он не спорил, но он спрашивал, уточняя детали того или иного учения, и не раз уже ставил Ивана Андреевича в тупик своими вопросами.
Это была самая долгая лекция в жизни преподавателя. Где-то в два ночи Андрей Иванович перевёл на счёт Иван Андреевича всё, что было у него на карточке, тем самым окончательно решив вопрос с продлениями. Иван Андреевич, бодрясь и стараясь не зевать, всё говорил-говорил-говорил, уже не совсем понимая, что сам говорит, и думал о том, что теперь год вообще может не работать.
Лекция внезапно закончилась около пяти утра. Андрей Иванович вдруг резко встал, сказал «спасибо» и пошёл собираться. А Иван Андреевич вернулся к банщику. Тот дремал на диванчике, он разбудил его, быстро оделся и поехал на такси домой. Спустя час он уже крепко спал. Ему приснились инопланетяне, предлагающие миллиард за то, что он продаст им свою душу, и он, к стыду своему, согласился.
Андрей же Иванович, вернувшись, не лёг спать. Он разбудил жену и объявил ей, что начинает новую жизнь. В течение следующей недели он устроил свои дела: уволился, отказался от имущества, часть оставил жене и детям, а часть раздал в благотворительные организации. Под слёзы жены и дочерей он собрал самые необходимые вещи и уехал на поезде в Сибирь, куда-то в глушь, к берегам Енисея, вести, по его словам, правильную и добродетельную жизнь.

Последние комментарии
2 часов 55 минут назад
3 часов 8 минут назад
3 часов 41 минут назад
4 часов 14 минут назад
19 часов 43 минут назад
19 часов 53 минут назад