Китайцы. Моя страна и мой народ [Линь Юйтан] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
ЛИНЬ ЮЙТАН КИТАЙЦЫ : МОЯ СТРАНА И МОЙ НАРОД
Перевод с китайского Н. А. Спешнева
Китайцы : моя страна и мой народ / Линь Юйтан ; пер. с китайского и предисл. Н. А. Спешнева. — М. : Вост. лит., 2010. — 335 с. — ISBN 978-5-02-036447-9 (в пер.)
Об авторе этой книги
К многочисленным характеристикам любой цивилизации помимо таких традиционно учитываемых факторов, как этнография, история, материальная и духовная культура, включая философию, язык, литературу и другое, следует отнести также национальную психологию, или психический склад, и этническое сознание нации как определяющие компоненты этнопсихологии. Эти факторы особенно важны там, где мы имеем дело с национальной психологией народов Востока, — по той причине, что именно по условной границе Восток-Запад проходит основная линия соприкосновения существенно различающихся этнопсихологических стереотипов, незнание и непонимание которых затрудняют общение между народами, проживающими по обе стороны этой границы, а порой делают его просто невозможным. Специфические способы восприятия и понимания членами этнической общности различных сторон окружающей действительности, передающиеся из поколения в поколение, зависят в первую очередь от психического склада этноса, в котором, в свою очередь, следует различать этнический характер, этнический темперамент, этнические традиции и обычаи. В характере любого народа представлена совокупность личностных свойств человека как вида, однако структура и степень выраженности этих свойств специфичны, что и отражено в характере этноса. Этнический характер и специфичен и типичен одновременно, поскольку это своеобразное соотношение тесно связанных психологических качеств, каждое из которых по отдельности типично для человека как такового. Специфичность психологических свойств человека проявляется в стереотипах восприятия, чувствования и в его поведении в качестве представителя конкретной этнической общности. Эти стереотипы преобладают в структуре личности большинства представителей этнической общности. В контексте европейской цивилизации личность воспринимается как целостная система. Раздробленность, множественность «я» воспринимается у европейцев как нечто ненормальное, как болезнь, которую надо лечить. В рамках же китайской цивилизации личность воспринимается именно как множественность, как совокупность различных обязанностей, как долг по отношению к обществу, родителям, семье, самому себе. В европейской цивилизации личность оценивается в целом, ее поступки в разных ситуациях считаются проявлением одной и той же сущности. А вот китайцы избегают суждений о человеке в целом, делят его поведение на изолированные сферы, в каждой из которых действуют свои законы и нормы поведения. В европейском обществе объясняют поведение человека личными мотивами его действий, а в Китае — общими для всего социума правилами, нормами. На Востоке люди более интровертны, чем европейцы, и это соответствует ценностным ориентациям их культуры. XX век в истории китайской цивилизации отмечен деятельностью многих выдающихся личностей, сыгравших важную роль в политической и культурной жизни страны. Среди них было немало видных ученых, которые брали на себя тяжелую и ответственную миссию навести мосты между Западом и Востоком, желая познакомить и сблизить совершенно разные цивилизации и культуры. Одним из таких подвижников оказался известный китайский писатель, автор книги «Моя страна и мой народ», переводчик, лингвист, философ и общественный деятель Линь Юйтан, весомый вклад которого в мировую литературу, философию и лингвистику отмечен многими. Линь Юйтан (Линь Хэлэ) родился 10 октября 1895 г. в деревне Баньцзыцунь уезда Лунси провинции Фуцзянь (юго-восток Китая) в семье сельского католического священника. Его отец был весьма начитанным человеком, который придерживался демократических взглядов, занимался самообразованием, изучая многие науки. Ему удалось привить своим детям, воспитывавшимся, однако, в лучших традициях конфуцианства, страстный интерес ко всему новому, что приходило с Запада. Мальчик рано начинает интересоваться западной культурой и сознательно воспринимает ее влияние. В 1900 г. его отдают в местную христианскую школу, а в 9 лет переводят в Сямэньскую христианскую школу, где и происходит его первое настоящее знакомство с европейской культурой и жизнью. В 1907 г. он поступает в среднюю школу, а в 1911 г. в возрасте 16 лет вместе со старшим братом отправляется в Шанхай, где поступает сначала на подготовительные курсы, а затем и в университет Сент-Джонс, частное учебное заведение, ориентированное на восприятие западных культурных ценностей. Именно здесь он принимает имя Юйтан (Яшмовый зал). Вдохновленный примером отца, юноша мечтает стать католическим священником, однако вскоре, ближе познакомившись с теологией, он глубоко разочаровывается в христианской догматике и переходит на гуманитарный факультет. Молодой человек пробует силы на литературном поприще и в 18 лет, на втором курсе, получает главную премию за рассказ, написанный на английском языке. Таким образом, влияние западной цивилизации писатель испытал уже в детские годы. Неутолимая жажда познания всего нового, приходившего из-за границы, передалась от отца к сыну. По воспоминаниям Линь Юйтана, его отец читал все, что попадалось ему под руку: не только христианскую теологическую литературу, но и научные работы, в которых речь шла о достижениях Запада. Вместе с тем юноша вырос в сугубо китайской среде. Основы философии будущего писателя закладывала сама природа Китая. Родные горы наделили его независимостью характера и твердостью убеждений, которые позднее ничто не могло поколебать. Окончив университет в 1916 г., Линь Юйтан начинает преподавать английский язык и литературу в вузах Пекина — Пекинском университете, университете Цинхуа и педагогическом институте. Одновременно с этим он изучает китайскую лингвистику. Хорошо осведомленный в западной литературе и науке, он недостаточно разбирается в китайской классической литературе, и это побуждает его заниматься самостоятельно и консультироваться у специалистов, восполняя пробелы в образовании. По словам Линь Юйтана, жить в то время в Пекине значило оказаться в истинно китайском по духу обществе. Живя и работая невдалеке от гробниц императоров династии Мин и Великой китайской стены, он проник мыслью в глубину прошедших веков, на протяжении которых желтые крыши дворцов и стены храмов столицы оставались неизменными, как и сам дух древнего города. Для него Пекин стал воплощением всего Китая. Впоследствии опыт тех лет и глубокие размышления автора над проблемами китайского общества, над его древним наследием станут основой для написания книги «Моя страна и мой народ». Тогда же он примкнул к радикально настроенной интеллигенции. Летом 1918 г. в Шанхае Линь Юйтан женится на Ляо Цуйфэн, дочери богатого коммерсанта, с которой счастливо проживет всю жизнь. В 1919 г., получив стипендию, Линь Юйтан вместе с женой отправляется в Америку. Там в сентябре того же года он поступает в магистратуру Гарвардского университета по специальности «сравнительное литературоведение». В 1920 г. в связи с лишением стипендии он переезжает во Францию. В те годы потребность Европы в рабочей силе значительно возросла (сказались последствия Первой мировой войны), и Линь Юйтан подает заявление с просьбой отправить его во Францию обучать французскому языку приехавших туда китайских рабочих. В это время китайский историк профессор Ху Ши не оставляет семью друга без поддержки и оказывает молодой паре материальную помощь. Линь Юйтан, работая во Франции, осваивает также немецкий язык, чтобы в дальнейшем продолжить образование в Иенском университете, куда и отправляется в 1921 г. Там он изучает также творчество Шекспира. Лишь в 1922 г. он получает диплом Гарварда и степень магистра. В том же году Линь Юйтан поступает в аспирантуру Лейпцигского университета, занимается фонологией и в 1923 г. получает степень доктора китайской фонологии. Вскоре Линь Юйтан возвращается на родину. Там у него в 1923 г. рождается дочь Фэнжу (Жусы, Adet Lin), а в 1926 г. — вторая дочь писателя — Юйжу (Ушуан, Тайи, Anor Lin). В Пекинском университете он получает должность профессора на факультете английского языка и одновременно ведет занятия в Пекинском педагогическом институте. С этого времени Линь начинает подписывать свои статьи именем Юйтан (Зал лингвистики), омофонным прежнему имени. В них он критикует «коррумпированное правительство, не выполняющее своих функций». Заметим, что у Линь Юйтана было более пяти псевдонимов, в том числе и такой забавный, как Маолюй (Ослик). 23 мая 1924 г. Линь Юйтан опубликовал в приложении к пекинской газете «Чэнь бао» («Morning post») статью, в которой призывал переводить зарубежную прозу и пропагандировать юмор, считая его одним из главных даров человеческой природы, ибо юмор, как он полагал, способен с помощью только ему присущей доброжелательной критики соединить мечту с реальностью. Писатель выступил одним из первых и главных популяризаторов юмора в Китае, именно ему принадлежит китайская фонетическая транскрипция этого европейского понятия — «юмо». Его можно по праву считать основателем жанра юмористических миниатюр (сяопиньвэнь) в Китае. Этот жанр позволял Линь Юйтану напрямую общаться с читателем. Писатель также в течение многих лет активно занимался популяризацией китайской культуры за рубежом и западной культуры в Китае. Анализируя литературное произведение, нельзя рассматривать его в отрыве от исторической эпохи, так как актуальные темы со временем приобретают новые звучания. В Китае в 1925—1927 гг. бушевала революция. Страна жила ожиданиями выхода из многолетнего кризиса, парализовавшего жизнь общества. Настоятельно необходимо было решать больные, волновавшие общественность проблемы. Однако Гоминьдан допустил существенные просчеты. Его ориентация на буржуазию в политике привела к тому, что широкие массы не поддержали пришедшую к власти группировку. Вместе с тем стремление аннулировать неравноправные договоры, навязанные иностранными державами, пользовалось всенародной поддержкой. Обновление Китая предлагалось также осуществить на пути возрождения конфуцианских моральных ценностей. Эти рекомендации вызывали у Линь Юйтана лишь горькую усмешку. Талантливый преподаватель, писатель, лингвист-переводчик и общественный деятель проявил себя в самых разных областях. Зная на собственном опыте все неудобства поиска иероглифов в тогдашних словарях, он пытается усовершенствовать метод поиска, используемый в известном «Словаре Кан-си» (составлен в 1710—1716 гг.). Еще в 1917 г. Линь Юйтан опубликовал исследование «Ханьцзы соинь чжи» («Системный указатель для китайских иероглифов»). Позднее он изобрел способ цифрового индексирования иероглифов («Ханьцзы хаома соинь фа»). В 1924 г. Линь не только активно участвовал в политической жизни страны, но и продолжал заниматься лингвистическими исследованиями. В 1925 г. он вошел в состав комитета по латинизации китайской письменности и одновременно придумал удобный способ печатания иероглифов на машинке. Известный китайский лингвист Чжао Юаньжэнь писал Линь Юйтану: «Мой друг Юйтан, третьего дня дома я воспользовался твоей пишущей машинкой и получил огромное удовольствие. Всего два удара по клавишам и в окошечке появляются 8 иероглифов, из которых выбираешь нужный. Это незаурядное изобретение. Я считаю, что нам нужна именно такая пишущая машинка». К сожалению, в 1945 г. с печатной машинкой его постигла неудача, запустить ее в производство не удалось. С декабря 1924 г. Линь начинает писать заметки в еженедельнике «Юй сы» («Нити слов») и наряду с Лу Синем и Чжоу Цзожэнем становится его постоянным автором. На страницах журнала он выступает против пережитков феодализма, активно поддерживает революционное движение, критикуя некоторых известных интеллигентов за их бесчестные поступки. Политическая позиция Линь Юйтана в ту пору неоднозначна, он часто противоречит самому себе, призывая к поиску компромисса с буржуазией. Пекинское правительство Дуань Цижуя стало угрожать жизни самого писателя, включив его в число 54 радикально настроенных профессоров. Чтобы избежать ареста, Линь Юйтан с семьей бежит из Пекина в Сямэнь, а затем в Ухань. С ними уезжают Лу Синь и несколько профессоров. В 1928—1936 гг. Линь Юйтан живет в Шанхае и продолжает заниматься литературным творчеством, публикует трагикомедию под названием «Цзы цзянь Нань-цзы» («Конфуций встречается с Нань-цзы»). В ней писатель подверг резкой критике консерватизм защитников устоев традиционной феодальной морали, утверждая новую для китайского общества идею равноправия мужчин и женщин. Пьеса вызывает возмущение у потомков Конфуция. В 1929 г. Линь Юйтан занимает должность профессора английского языка в Шанхайском университете, пишет учебники по английскому языку. В 1930 г. выходит его перевод пьесы «Пигмалион» Бернарда Шоу. В Шанхае у него в 1931 г. рождается третья дочь — Сянцзюй (Сянжу). В 1932 г. там же Линь Юйтан основал журнал «Лунь юй» («Суждения и беседы»), заимствуя, не без иронии, название у известного трактата Конфуция. Журнал просуществовал с некоторыми перерывами вплоть до 1949 г. В нем он пропагандирует юмористическую литературу, которая имеет успех у читателей. Журнал принес ему популярность и славу великого мастера юмора. Одним из постоянных авторов этого журнала стал писатель Лао Шэ. В 1934 г. Линь Юйтан учреждает еще один журнал «Жэньцзянь ши» («Мир людей»), в котором пропагандирует «литературу души», эссеистику. В начале 30-х годов значительное влияние на творчество китайских писателей оказывали идеи реформаторского движения, начавшегося еще в конце XIX в. и ставившего целью преобразовать полуфеодальную, полуколониальную страну в современное государство. Передовая интеллигенция Китая развернула борьбу против феодальной морали, за раскрепощение молодого поколения и равноправие женщин. Значительное влияние на творчество писателей оказала прогрессивная иностранная литература. Одной из важнейших задач того времени было обличение порядков старого Китая, поэтому ведущую роль в литературе стала играть критическая тенденция. Это почувствовали писатели, которые, как это и случается обычно во времена перемен, стали рупором эпохи. В 1935 г. Линь Юйтан основал журнал «Юйчжоу фэн» («Ветер вселенной»), дававший слово литераторам, которые стояли на различных гражданских позициях, придерживались различных творческих принципов. Среди них — Чжоу Цзожэнь, Юй Дафу, Го Можо, Лао Шэ, Фэн Цзыкай, Юй Пинбо, Ли Цзяньу. В основном публиковались миниатюры, в которых критиковалось современное общество, пропагандировались демократические свободы. Не впадая в крайности и не требуя полного отказа от всего старого, Линь Юйтан продолжает настойчиво популяризировать все те положительные стороны китайской культуры, в которых, по его мнению, заложено рациональное зерно и которые нельзя заменить никакими заимствованиями с Запада. Он серьезно изучает китайскую историю, философию, литературу, фольклор, все более проникаясь глубоким уважением к древнему наследию своей страны, в присущей ему манере освещает проблемы Китая 30-х годов. Он предоставляет слово обывателям, суждения которых порой наивны и смешны, порой поверхностны и необъективны, но именно обыватели составляют большинство, поэтому часто от их понимания ситуации зависит судьба всей страны. В своих произведениях Линь Юйтан не дает единственно верных ответов на актуальные вопросы, напротив, он осмеивает серьезные рассуждения своих персонажей, тем самым призывая читателя взглянуть на себя со стороны, посмеяться над самим собой. И если на Западе, как считал писатель, принято писать или говорить серьезно о смешном, то сам Линь Юйтан, следуя китайской традиции, говорил смешно о серьезном. В 1935 г. Линь Юйтан переводит с китайского на английский книгу «Фу шэн лю цзи» («Шесть записок о быстротечной жизни») писателя эпохи Цин Шэнь Фу, в которой автор описывает идиллическую жизнь со своей женой Юнь. Книга вызывает широкий интерес у американской публики. Одновременно в Нью-Йорке, в издательстве Reynal & Hitchcoc, выходит книга «Моя страна и мой народ» с предисловием пистательницы Перл Бак. Газета «Нью-Йорк таймс» писала, что книга эта произвела на американского читателя эффект разорвавшейся бомбы. Линь Юйтан сразу стал знаменит в США и Англии. С этого времени он все чаще пишет по-английски. В 1936 г. Линь Юйтан с семьей переезжает в Нью-Йорк, где с небольшими перерывами живет до 1966 г. Здесь он с душевным сокрушением узнает об утрате 52 тетрадей с его разработками нового китайско-английского словаря, плодов многолетнего труда. Не падая духом, писатель во время поездки в Европу, задумал роман «А moment in Peking» («Мгновение в Пекине»). В том же году публикует книгу под названием «The wisdom of Confucius» («Мудрость Конфуция»). В 1940 г. Линь Юйтан приезжает во временную «военную» столицу Китая — Чунцин. В промежутке между 1940 и 1946 гг. его избирают почетным доктором нескольких зарубежных университетов. В 1940 г. Линь Юйтан в Нью-Йорке публикует роман «А leaf in the storm» («Листок во время бури»). В 1943 г. там же выходит еще один его роман под названием «Between tears and laughter» («И смех, и слезы»), критикующий политику США и Англии на Дальнем Востоке, которая, по его мнению, привела к господству Запада над Востоком. В 1944 г. он возвращается в Америку. В 1947 г. Линь Юйтану предлагают пост главы комитета по делам искусств и литературы ЮНЕСКО в Париже. Там он работает недолго и вскоре уходит в отставку, чтобы целиком посвятить себя литературному творчеству. В результате появляется новая книга «The gay genius» («Веселый гений») — о жизни великого китайского поэта Су Дунпо. В 1949 г. Линь Юйтан возвратился в Америку, а в 1952 г. основал журнал «Тянь фэн» («Небесный ветер»), который редактируют его дочь и ее муж Ли Мин. В журнале публикуются статьи китайцев, живущих за рубежом. В 1953 г. выходит роман «The vermillion gate» («Красные ворота»). В том же году Линь Юйтан порывает с издательством John Day Со, которым владела П. Бак. Причина разрыва была связана с проблемой авторских прав и испортившимися личными отношениями: П. Бак отказалась одолжить Линь Юйтану деньги, когда он испытывал материальные трудности. В 1954 г. Линь Юйтан переезжает с семьей в Сингапур и становится ректором Наньянского университета. Через шесть месяцев уходит в отставку, так как его обвиняют в связях с Гоминьданом. В 1957 г. Линь Юйтан едет в Аргентину, где занимается преподаванием. Тогда же переводит на английский язык древний трактат «Чжуан-цзы». В 1959 г. в США выходит его новая книга «The Chinese way of life» («Китайский образ жизни»). В том же году Линь Юйтан публикует свою духовную биографию «From Pagan to Christianity» («От язычества к христианству»), в которой рассказывает о собственных исканиях в религиозной сфере. Он вспоминает об исповедании христианства в детстве и юности, о сомнениях в среднем возрасте и о возврате к христианству в конце жизни. Резко критическое отношение Линь Юйтана к ортодоксальному конфуцианству нашло отражение в его книге «The pleasure of nonconformist» («Радости нонконформиста»), написанной в 1962 г. Книга представляет собой сборник лекций, прочитанных им в одном из американских университетов. В 1966 г. Линь Юйтан переезжает на Тайвань, где становится вице-президентом местного ПЕН-клуба, а год спустя он занимает должность профессора Китайского университета в Сянгане. В 1973 г. он начинает писать книгу «Memoirs of an octogenarian» («Воспоминания восьмидесятилетнего»), которая увидела свет в 1974 г первоначально в университетском журнале «Хуа ган», посвященном его юбилею, а затем в 1975 г. в виде отдельной книги. Тогда же его избирают вице-президентом международного ПЕН-клуба, его кандидатуру выдвигают на получение Нобелевской премии по литературе. В эти годы Линь Юйтан постоянно перемещается между Тайбэем и Сянганом, где предпочла жить его семья. В последние годы жизни Линь Юйтана постигло несчастье — самоубийство старшей дочери. Обезумев от горя после развода с любимым мужем, она в 1971 г. ушла из жизни. Линь Юйтан скончался 26 марта 1976 г. в Сянгане и похоронен на Тайване, в саду своего дома в Тайбэе. Линь Юйтан перевел и адаптировал для англоязычного читателя немало произведений классической китайской литературы. Из большого числа написанных им книг по культурологии наибольшим успехом на Западе (главным образом в США) пользовались изданные в Нью-Йорке «Му country and my people» («Моя страна и мой народ», 1935), «The importance of living» («Искусство жить», 1937), «А moment in Peking» («Мгновение в Пекине», 1939), «Between tears and laughter» («И смех, и слезы», 1943), «The gay genius: The life and times of Su Tungpo» («Веселый гений. Жизнеописание Су Дунпо», 1947). * * * История написания книги «Моя страна и мой народ» такова. Статьи Линь Юйтана, печатавшиеся с октября 1930 г. в «Нью-Йорк таймс», заинтересовали американскую писательницу, лауреата Нобелевской премии по литературе П. Бак, которая, приехав в Китай в 1933 г., встретилась с будущим автором и посоветовала ему написать книгу именно под названием «Моя страна и мой народ». Линь Юйтан с энтузиазмом взялся за дело, на создание книги ушло всего лишь 10 месяцев. В ней он сравнивает Китай с западными странами, делится своими взглядами на Китай, показывая внутренний мир китайцев, идеалы китайского народа, рассказывает о китайском подходе к жизни. Немало китайских писателей по политическим соображениям подвергли книгу резкой критике. Однако Линь Юйтан отверг нападки, подчеркивая, что истинный писатель должен иметь мужество писать правду. Вскоре после выхода в свет книга заняла одно из первых мест среди бестселлеров США в списках «Нью-Йорк таймс». С ее публикацией автор получил признание на Западе. Линь Юйтан взял на себя миссию открыть для Запада истинный Китай. Это была, по сути, одна из первых на Западе работ по психологии китайцев, написанная китайцем по происхождению и дающая сопоставительный анализ характерных черт двух цивилизаций — китайской и западной. В 1937 г. Линь Юйтан поразил читателей новой философской книгой «Искусство жить», по популярности превзошедшей прежние работы. В ней он со свойственным ему юмором описывает отношение китайцев к жизни и излагает собственную философскую концепцию устройства мира. Написанные на хорошем английском языке, обе книги переиздавались огромными тиражами при жизни писателя. Как и «Моя страна и мой народ», книга «Искусство жить» в течение нескольких недель держала пальму первенства среди бестселлеров США и Англии. В Китае фигура Линь Юйтана, его деятельность оценивались современными ему китайскими учеными по-разному, в особенности его приверженность юмору. Лу Синь в 1933 г. писал: «Я не люблю юмор и считаю, что подобными штучками могут развлекаться только джентльмены, любящие поболтать за круглым столом». Он считал, что юмор сторонников Линь Юйтана состоит в том, чтобы «представить жестокость мясника безобидной шуткой и радоваться по этому поводу». Линь Юйтан стал главным идеологом нового литературного течения, именовавшегося «синь ганьцзюэ» («новое восприятие»). В отличие от Левой лиги (Лига левых писателей Китая, в которую входили китайские пролетарские писатели, существовала в 1930—1936 гг., ее возглавлял Лу Синь. — Н.С.) оно пропагандировало юмористическую «литературу души», что само по себе было новаторским для Китая шагом. Линь Юйтан подчеркивал, что писать нужно не об обществе, а о людях, о том, что они переживают, писать о душе человека, писать честно, не отступая от своих взглядов, писать в своей индивидуальной манере — ради людей, а не абстрактных целей. Он нашел альтернативу дидактизму, преобладавшему в литературе того времени. До 1980-х годов фигура Линь Юйтана, после 1949 г. жившего в США, Сингапуре и на Тайване, мягко говоря, не вызывала энтузиазма у исследователей КНР. На Тайване, напротив, Линь Юйтан изначально считался «своим» писателем и к его творчеству относились с большим уважением. Однако с конца 80-х годов произведения Линь Юйтана как на английском, так и на китайском языке стало возможным приобрести и в КНР. Там книга Линь Юйтана «Моя страна и мой народ» — под названием «Китайцы» («Чжунгожэнь») — вышла на китайском языке в 1988 г., спустя 53 года после первой публикации. Этому способствовала волна интереса к англоязычным работам о китайском менталитете и этническом сознании. Второе, полное издание на китайском языке увидело свет в 1994 г. Обширная коллекция рукописей и писем Линь Юйтана хранится на Тайване в Национальном музее Тугун. Полная библиография произведений писателя, составленная им самим, опубликована в журнале Тайваньского университета культуры. Опубликованы также личные воспоминания старшей дочери писателя Адет Линь под названием «Жизнь Линь Юйтана». Еще в 1937 г. вышел короткий «Биографический очерк Линь Юйтана», который написала П. Бак. Подробная информация о жизни Линь Юйтана содержится в диссертации Д. Дж. Сохиджяна «Жизнь и эпоха Линь Юйтана» (Lin Yutang. «Memoirs of an octogenarian». Chinese culture university journal, 9 (1974): 263—324. Diran John Sohigian. «The life of Lin Yutang» (Ph. D. diss., (1994). Columbia Univ., 1992), а также в четырех монографиях Ши Чэньвэя: «Линь Юйтан в Китае» (1991), «Линь Юйтан за границей» (1992), «Мастер юмора: жизнь Линь Юйтана» (1994), «Юморист сталкивается с миром» (1995). * * * У Лао Шэ есть юмореска под названием «Линь Юйтану, который едет в Америку», опубликованная в свое время в журнале «Лунь юй», где он не без иронии дает любопытную характеристику своего доброго знакомого. Вот несколько отрывков из нее. «Рассказывают еще, что господин Линь Юйтан надел парадную кисейную шапку гражданского чиновника с двумя красными шелковыми помпонами; глаза его прикрывали два темных окуляра из лаошаньского хрусталя, которые в полной мере приближали его к природе и не имели никакого отношения к научному взгляду на их изготовление... На нем был легкий летний халат небесно-голубого цвета с орнаментом в виде свернувшегося дракона, с медными пуговицами, без воротника. Это сделано в пику твердым европейским воротничкам и выражало решимость оголить шею. На ногах у него черные атласные туфли с круглым вырезом, на толстой матерчатой подошве, штаны у щиколоток обтянуты светло-зеленой шелковой тесьмой. В правой руке бумажный веер на восьми спицах из крапчатого бамбука, на одной стороне которого нарисован пейзаж в черно-белых тонах, на другой — отрывок из «Записок о путешествии по горам» Шу Байсяна в прекрасном каллиграфическом исполнении, и возле каждого иероглифа рукою самого господина Линя поставлены по два кружочка в знак восхищения. В левой руке он держит старинный кальян из финифти юньнаньского производства... Иначе говоря, на нем не было ничего, что могло бы вызвать подозрение в его некитайском происхождении... Чтобы изгнать всякую вульгарность и дух иностранщины, господин Линь взял с собой десятилетнего мальчика-слугу, с двумя косичками по бокам головы, перехваченными ярко-красной тесьмой... Располневший господин Линь молча переплывает океан и оказывается в Америке. Пароход подходит к причалу, словно рой пчел, подлетают корреспонденты — и все к господину Линю. Господин Линь велит мальчику-слуге зажечь благовония и, не спеша, идти впереди, неся их в курильнице из перегородчатой эмали. Их окружают корреспонденты, но господин Линь не торопится и медленно изрекает: «Я и есть автор творения „Моя страна и мой народ"! И больше не о чем говорить!» В произведениях, написанных для западного читателя, Линь Юйтан занял благородную позицию защитника китайской культуры и цивилизации. Он сознательно говорил с Западом и Востоком на разных языках, понятных людям обеих цивилизаций. Всемирное признание свидетельствует о его огромном вкладе в мировую культуру. Он не был политически ангажированным писателем, не изменял убеждениям, всегда сохранял свой стиль. И главное — не кривил душой, всегда писал о том, о чем думали многие. Линь Юйтан про себя говорил: «Мои мозги — иностранные, но душа остается китайской». Или, как пишут исследователи его творчества: «Линь Юйтан стоял одной ногой в культуре Востока, другой — в культуре Запада, а душой стремился охватить творчество Вселенной». В мае 1936 г., отвечая на вопрос американского публициста Эдгара Сноу, кто из писателей-эссеистов наиболее заметен в литературной жизни нового Китая, Лу Синь в первую очередь назвал Чжоу Цзожэня, Линь Юйтана, Чэнь Дусю и Лян Цичао. Как отметил профессор И. У. Нельсон из Вашингтонского университета, Линь Юйтан был цельной личностью, упорно шел своим путем сквозь тернии критики злопыхателей. Он никогда не лицемерил в погоне за популярностью. В Китае, когда хотят отметить традиционную творческую манеру письма того или иного автора, обычно говорят: «Голова как у тигра, живот как у свиньи, и хвост как у феникса» (то есть писатель признанный, знающий, обладающий изящным слогом; согласно традиционным китайским представлениям, знания находятся в животе, а у свиньи самый большой живот. — Н.С.). Применительно к творчеству Линь Юйтана это должно было бы звучать так: «Генерал „нитей слов“» (намек на особый стиль языка, в рамках которого вэньянь органично сочетается с разговорной речью), «Великий мастер юмора» и «Несгорающий феникс». Н. СпешневПредисловие автора
В этой книге я просто выразил свою точку зрения. Это итог длительных и мучительных раздумий, прочитанных книг и рефлексий. Я не ставил своей целью вступать с кем-либо в полемику и не прилагал усилий, чтобы доказывать, чем моя позиция отличается от других точек зрения. Однако я приветствую тех, кто выступает в мою защиту, и готов принять в свой адрес критические замечания, подобно Конфуцию, автору летописи «Чунь цю» («Вёсны и Осени»). Китай — такое великое государство, где жизнь граждан настолько сложна, что в отношении него существуют самого разного рода — и порой весьма противоречивые — толкования. И это вполне естественно. Если кто-нибудь думает иначе, я готов в любой момент поддержать его и предоставить ему еще больше материала, чтобы он утвердился в своей правоте. Тем не менее истина есть истина, и она может одолеть все самые умные соображения частного порядка. Моментов, когда люди могут обрести истину, понять ее, не так уж много. Только эти моменты и существуют вечно, а личные мнения улетучиваются очень быстро. Поэтому результаты, которые приносит тяжелейшая работа по сбору доказательств той или иной точки зрения, как правило, могут стать всего лишь наукообразным пустословием. Люди нуждаются в более простой, более деликатной форме изложения разных представлений, так как истина никогда не может быть доказана — ее можно только воспринять. Теперь еще один вопрос — его трудно избежать. Я могу вызвать гнев у немалого числа авторов, пишущих о Китае, в особенности у моих соотечественников и великих патриотов. Эти великие патриоты — у меня нет ничего общего с ними: их бог — не мой бог, их патриотизм — не мой патриотизм. Возможно, я тоже люблю свою страну, но не выношу это на всеобщее обозрение, в то время как иной, в клочья истрепав свой маскарадный костюм патриота, будет до самой своей смерти демонстрировать эти лохмотья на улицах Китая или в любой другой части света. Я могу совершенно искренне об этом говорить, поскольку отличаюсь от этих патриотов. Я вовсе не испытываю стыда за свою страну и могу все ее беды поведать миру, потому что не потерял надежды. Китай намного более велик, чем эти мелкие патриоты, и не нуждается в их приукрашивании. Он сможет еще раз восстановить равновесие и покой, и он все делает для этого. Я написал свою книгу и не для западных патриотов, которых боюсь больше, чем моих соотечественников. Боюсь, что они начнут выборочно меня цитировать, оказывая мне тем самым медвежью услугу. Я писал лишь для простых обывателей. Древний Китай вырос на таких обывательских представлениях, но ныне подобные взгляды не очень-то распространены. Мою книгу следует воспринимать только с таких простых позиций. Для тех, кто еще не растерял высоких человеческих ценностей, — только для них я и писал, ибо только они смогут меня понять. Июнь 1935 г. ШанхайЧасть 1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРОЛОГ
I
Каждый, кто посещает Китай, невольно задумывается о нем — всегда с состраданием, порой с разочарованием и очень редко — с глубоким пониманием. Ибо Китай или любишь, или ненавидишь. А некоторые, даже не побывав в Китае, возможно, представляют его себе древним, великим, огромным государством, которое, как некогда, чуждается остального мира и в известной мере совершенно не принадлежит ему. Такое ощущение придает Китаю некую притягательность. Но если вы приедете в Китай, он настолько поглотит вас, что для размышлений не останется места. Останется лишь сознание того, что Китай существует, существует эта громадина, которую человеческая душа не в состоянии объять; здесь на первый взгляд господствует хаос, ничто ни с чем вроде бы не связано, и жизнь здесь течет по особым законам, подобно величественному театральному действу — то печальному, то радостному, но всегда очень напряженному, преисполненному высоких чувств и искренности. Через некоторое время вы пытаетесь анализировать увиденное, но все вам кажется странным, вы ошеломлены и растеряны и вообще перестаете что-либо понимать. Впечатления разных людей от посещения Китая соотносятся с их характером. Человек либо романтик-интернационалист, либо самый что ни на есть самодовольный и ограниченный господин. Любит он Китай или нет, он все равно многословно рассуждает о нем. В этом нет ничего удивительного. Люди всегда высказывают в отношении Китая те или иные суждения, занимают определенную позицию; в противном случае как им доказать, что они существа с интеллектом. Они всячески стремятся найти повод, чтобы обменяться интересными новостями, всякими пустяками, рассказать о том, кто что сказал в ходе беседы, просто поболтать, заодно и о серьезных вещах. И они начинают чувствовать себя этакими философами, холодными и бесстрастными критиками китайских проблем, считая, что страна эта лишена каких-либо достоинств. Или, наоборот, становятся горячими, романтически настроенными почитателями Китая. Конечно, их выводы и обобщения порой выглядят ужасно глупо. Тем не менее именно так рождается точка зрения, и это происходит всюду в мире, и этого не избежать. И вот люди начинают друг с другом спорить. Одни считают, что их понимание Китая и китайцев единственно верное. Это счастливые люди, которые заняты торговыми делами, снуют по всему миру и правят им. Они уверены, что всегда правы. Другие преисполнены всяческих сомнений, теряются в догадках, пребывают в постоянном беспокойстве. Они испытывают по отношению к Китаю смешанное чувство страха и почтения. Возможно, страх и ощущение чего-то неразгаданного побуждают их вернуться к исходной точке зрения. Однако все понимают, что Китай существует и что в этом существовании есть нечто великое и загадочное... В современном мире Китай — это величайшее явление, таинственное и удивительное, и не только из-за его необъятных просторов и древности китайской нации. Китай — самая древняя страна, в которой культурная традиция никогда не прерывалась. Его население самое многочисленное в мире. Некогда Китай был могущественнейшей и воинственной империей. В Китае сделаны многие важнейшие изобретения. Китай обладал уникальной литературой, философией и жизненной мудростью. Когда империя, распростерши крыла, парила в сфере искусства, многие другие страны еще только учились летать. Однако сегодняшний Китай, без сомнения, самое хаотичное, самое трагическое, слабое, страдающее от тирании государство, которое не способно объединиться и уверенно двигаться вперед. Господь, если Он существует, намеревался сделать так, чтобы Китай на фоне других наций мира оказался на первом плане. А сам Китай в Лиге Наций выбрал себе место в задних рядах и сидит там рядом с Гватемалой. Вся Лига Наций при всех ее самых добрых намерениях не может помочь Китаю навести хоть какой-то порядок в стране, помочь ему прекратить гражданскую войну и освободиться из объятий собственных ученых, милитаристов, революционеров, шэньши[1]-политиканов. Удивляет тот факт, что сама страна совершенно безучастна к делу собственного спасения. Потеряв территорию, равную площади Германии, она, подобно азартному игроку, даже глазом не моргнула. Когда генерал Тан Юйлинь отступал со скоростью, побившей мировой рекорд, и в течение восьми дней потерял территорию в полмиллиона квадратных миль, два генерала — дядюшка и племянник — в провинции Сычуань в это время соревновались в военном искусстве. Мы начинаем гадать, может ли Господь Бог действовать по Своей воле, может ли Он против желания самих китайцев помочь Китаю стать первоклассной страной. Другой вопрос, вызывающий озабоченность, — какова судьба Китая? Сможет ли он, как прежде, с успехом существовать, как до сих пор не способно было ни одно древнее государство мира? Действительно ли Всевышний намеревался сделать его первоклассной страной? Или же это всего лишь выкидыш у матушки-Земли? Некогда перед Китаем открывались прекрасные перспективы. Он был завоевателем. Теперь же Провидение предоставляет Китаю возможность просто выживать, и нельзя не верить, что он способен на это. Особенно когда учитываешь, что он существовал века спустя после того, как прекрасная Греция и славный Рим давно исчезли, когда учитываешь, что он усваивал основы чужих истин, переделывая их на свой лад, и ассимилировал другие народы. Китай выжил и дожил до глубокой старости — этот факт заставляет вас задуматься. Древнюю нацию положено уважать за седую старину, и это уважение надлежит оказывать и всей нации, и отдельным людям. Да, уважение лишь за старость, лишь за выживание. Все это потому, что Китай обладает особым инстинктом самосохранения, некой удивительной, сверхъестественной живучестью. Другие вопросы пока оставим в стороне. Его существование есть победа инстинкта живучести. Он приспособился к разнообразному экономическому, политическому и социальному окружению, и если бы подобные условия жизни предоставить другой нации, не обладающей столь мощным потенциалом выживания, это могло бы привести к большим бедам. Китай воспринял мудрость, дарованную ему природой. Эта мудрость тесно связана с цветами, птицами, известными горами и реками — всем тем, что китайцы сделали источником вдохновения и морали. Одно только это в полной мере гарантирует здоровье и чистоту их души и тела, уберегая всю нацию от городского общества, деградации и упадка. Китай предпочитал жить на широких просторах, греться на солнце, любоваться закатами, ступать по утренней росе, вдыхать аромат сена и влажной земли. Благодаря поэзии — поэзии жизненных привычек и поэзии слов — он научился взбадривать свою, увы, столь часто страдающую от ран душу. Иными словами, Китай изыскивал всевозможные способы дожить до глубокой старости благодаря близости к природе, солнечным лучам и свежему воздуху. Однако он прошел сквозь суровые испытания временем — сотни лет бесконечных войн, эпидемий, природных катаклизмов и тирании жестоких правителей. Все это он вынес благодаря своему сардоническому юмору и крепким нервам. Китаю всегда удавалось приноровиться ко всему. Чего стоит одно только долголетие Китая! Теперь, когда Китай дожил до глубокой старости, страдания тела и души для него не столь уж важны. Китай, вероятно, давно не питает никаких надежд, считая, что панацеи для него нет. Кто-то, возможно, думает так же. Люди недоумевают: такой возраст — это сила или слабость? Он некогда бросал вызов всему миру, а теперь стал бесстрастным, и право на это ему дает его возраст. Что бы ни произошло, жизнь Китая течет, как и прежде, спокойно, как ни в чем не бывало. Он не чувствует ни печали, ни горя, ни унижения, он не лелеет чрезмерных надежд, которые постоянно волнуют молодежь. Его не испугала даже угроза уничтожения, нависавшая над ним в течение последних двух веков. Он больше не задумывается о каких-либо победах и поражениях, любые бедствия и сама смерть теперь не пугают его, потеряла смысл и зловещая тень, затмевавшая жизнь нации в течение нескольких сот лет. Китай подобен морю из афоризма Ницше, которое больше всех рыб, моллюсков и медуз, в нем обитающих, и больше всей грязи и отходов, в него сливаемых. Величие Китая позволяет преодолеть всю напыщенную болтовню, раздражительность и капризы студентов, обучавшихся за границей. Он выше лицемерия, лживости, бесстыдства и казнокрадства мелких чиновников, генералов-дезертиров и революционеров-двурушников, выше всех войн, эпидемий, всякой скверны, бедности и голода. И именно потому, что он возвысился над всем этим, Китай и выжил. Старый добрый Китай вопреки всему — войнам, эпидемиям, нищете детей и внуков — спокойно попивает чай и улыбается, и в этой улыбке я вижу его истинную силу. В его улыбке я порой замечаю леность, нежелание перемен и другие проявления консерватизма и даже высокомерия. Леность? Высокомерие? Что же все-таки? Я и сам не знаю. Но где-то в глубине китайской души таится хитрость старого пса, и это оставляет странное ощущение. Какая странная древняя душа! Какая великая древняя душа!II
Однако какова цена величия? Английский историк Т. Карлайл (1795—1881) как-то сказал, что первое впечатление от действительно великого произведения искусства — это ощущение беспокойства, даже боли. Великим судьбой предначертано быть неправильно понятыми. Такова же участь и Китая. В прошлом он многими был понят крайне неверно. Когда мы чего-либо не понимаем или от чего-то хотим избавиться, мы называем великим это «что-то». Выбирая между стремлением быть понятым и провозглашением его «великим», Китай предпочитает первое, и это лучше для окружающих. Но как понять Китай? Кто будет его истолкователем? У него долгая история, бесчисленное множество императоров и князей, мудрецов, поэтов и ученых, храбрых матерей и талантливых женщин. У него богатая литература и философия, живопись и театр, и все это давало представление о морали, что позволяло простому люду отличать добро от зла. Китай также располагает огромной сокровищницей фольклора. Его язык представляет собой почти непреодолимое препятствие. Можно ли понятьиностранцу Китай с помощью пиджин-инглиш[2]. Должен ли «старый знаток Китая» (old China hand) пытаться понять душу страны, общаясь лишь с поваром и старой няней? Или — с «самым надежным китайцем-слугой»? Или со своим компрадором[3]-счетоводом? Или читая газету «North China daily news»? Все это, разумеется, неосуществимо. В самом деле, не каждому дано понять иную страну с иной культурой, особенно такую, как Китай, который разительно отличается от других стран. Чтобы понять, необходимо проникнуться чувством всеобщего братства, исходя из того, что человечество — это единое целое, и испытывать радость от этого. Все это человек должен не только ощущать биением своего сердца, но и видеть своим внутренним взором. Вместе с тем ему не следует подпадать под влияние своего подсознания, под влияние полученных с детских лет представлений, тем более под влияние навязчивых мыслей, присущих взрослому человеку, под влияние таких пишущихся с прописной буквы слов, как Демократия, Процветание, Капитал, Успех, Религия и Дивиденды. Он должен на время все это отбросить и смотреть на вещи так же просто, как просто мыслил Р. Бернс — один из самых что ни на есть шотландских поэтов и в то же время поэт мирового значения, который обнажил наши души, раскрыл общность устремлений, любовь и печаль, свойственные всему человечеству. Лишь избавившись от всего наносного и научившись мыслить просто, можно по-настоящему понять чужую страну. Кто же все-таки станет истолкователем Китая? Эту проблему почти невозможно разрешить. Конечно же, этого не смогут сделать живущие за границей китаеведы и библиотечные работники, которые видят Китай только сквозь призму конфуцианской классики. Настоящие европейцы, проживающие в Китае, не говорят по-китайски, а настоящие китайцы, в свою очередь, не говорят по-английски. Хорошо говорящие по-китайски европейцы, научившиеся даже думать по-китайски, — диковинка для своих же соотечественников. Китайцы, хорошо говорящие на английском, научившиеся думать как европейцы и «ассимилировавшиеся» таким образом, либо вообще перестали говорить по-китайски, либо говорят на нем с английским акцентом. В результате получается, что истолкователями все же должны быть «старые знатоки Китая». А нам придется познавать Китай в значительной мере так же, как они его познают с помощью пиджин-инглиш. Напишем портрет этого «старого знатока Китая», поскольку он важен для нас как единственный авторитетный источник. А. Рэнсом в книге «Китайская загадка» («The Chinese puzzle»), особенно в главе «Менталитет шанхайцев»[4], описал этот менталитет весьма красочно, и мы считаем, что это живой портрет и каждый может его себе представить. Это либо сын миссионера, либо капитан судна или лоцман, или секретарь консульства, а может быть, и торговец, для которого Китай лишь рынок, на котором он сбывает сардины или апельсины. Это не всегда малообразованный человек, возможно, он известный журналист, который одним глазом следит за своими политическими консультантами, а другим — за комитетом по кредитам. С трудом выговаривая три китайских слова подряд, он, возможно, хорошо осведомленный человек — в известных пределах, — так как информацию он получает от говорящих по-английски китайских друзей. Он не бросает свое рискованное занятие и играет в гольф, чтобы поддерживать здоровье. Он пьет чай «Липтон», читает «North China daily news» и всей душой восстает против утренних сообщений о бандитизме, похищении детей, разгорающейся гражданской войне, которые портят ему завтрак. Он чисто выбрит и одет опрятнее, чем его китайский помощник, а его ботинки начищены лучше, чем в Англии. Правда, это не его заслуга: китайские мальчишки — превосходные чистильщики обуви. Каждый день утром он проезжает три-четыре мили от дома до офиса, чтобы отведать чаю, который ему готовит мисс Смит. В его жилах, возможно, не течет аристократическая кровь, а в его гостиной не висят портреты предков, однако он всегда может обратиться к историческому прошлому и обнаружить, что в древнейшие времена у его предков, которые жили в лесу, текла здоровая кровь. Его это успокаивает, он освобождается от всех забот, чтобы с головой уйти в изучение Китая. Но всякий раз, когда по делам службы приходится идти по китайским улицам, на него таращат глаза, отчего ему становится не по себе. Он достает платок, громко сморкается и смело идет дальше. И все-таки чувство страха трудно сдержать: находясь в потоке людей, одетых во все синее, он едва заметно озирается по сторонам. Глаза китайцев не столь уж узкие и прищуренные, как их изображают на обложках дешевых журналов. Могут ли эти люди вонзить нож в спину? В такой солнечный день — вряд ли. Впрочем, кто может дать гарантию? Вся его храбрость и спортивное мастерство, полученное во время игры в крикет, рассеиваются как дым. Он готов получить по голове удар битой, лишь бы не оказаться еще раз в этих кривых закоулках. Да, это и есть страх, первобытный страх перед Неизведанным. Но это далеко не все. Это еще и его гуманность: он не может выносить страдания человека и нищету в его понимании. Он просто не может спокойно видеть рикшу, который, как вьючное животное, везет его в коляске, — ему нужен автомобиль. А его автомобиль — это не просто автомобиль, а крытый движущийся коридор от дома до офиса, который защищает его от китайцев. Он не расстанется со своим автомобилем и своей цивилизацией. Он скажет мисс Смит за чаем, что автомобиль в Китае не роскошь, а необходимость. Человек, закрытый по характеру, он, сидя в металлической коробке, каждый день проделывает три мили от дома до офиса, и так все 25 лет пребывания в Китае. Он не говорит об этом, когда приезжает домой в Англию, а просто, посылая корреспонденцию в лондонскую «Times», подписывается: «Старожил: 25 лет в Китае». Это производит впечатление. Такой человек, конечно, должен знать, о чем говорит. Между тем его передвижения редко выходят за рамки трехмильного пути, за исключением поездок за город, где порой устраивают верховую езду по полям китайцев, с ориентированием по бумажным вешкам. Но и здесь, на открытом пространстве, он сумеет себя защитить. Хотя вообще-то он не нуждается в охране, и он это знает, но просто любит об этом поговорить. Его никогда не приглашают в гости в китайскую семью, он всячески избегает китайские рестораны и никогда не читает китайских газет. По вечерам он отправляется в бар — тот, что работает дольше других, потягивает там коктейль, слушая обрывки рассказанных португальскими моряками всевозможных историй, которые случались у китайских берегов. Ему жаль, что Шанхай это не Сассекс, но он живет, в общем, так же, как и в Англии[5]. Когда он слышит, что китайцы тоже стали отмечать Рождество и прогрессируют, он радуется и бывает крайне удивлен, когда его не понимают, если он говорит по-английски. Он никого не замечает, идя по улице, а если наступит кому-нибудь на ногу, то не извинится даже по-английски. Да ему просто лень выучить по-китайски такие простые слова, как «спасибо», «пожалуйста», «извините», — слова, которые учит просто из вежливости любой турист. Он против ксенофобии, он разочарован, что китайцы не извлекли урока из страшных бедствий в Пекине после восстания ихэтуаней (1899—1900). Вот он, «старый знаток Китая»! Как жаль, что именно такие люди играют связующую роль в единении человечества! Все это ясно каждому, и не стоило бы говорить об этом, если бы не тесная связь всего изложенного с формированием мнений европейцев о китайцах. А ведь нужно еще учитывать такие факторы, как сложности в изучении языка, написании китайских иероглифов, хаос в политической и культурной жизни сегодняшнего Китая, огромные различия в обычаях и привычках китайцев и европейцев. В сущности, хотелось бы всестороннего понимания Китая на более интеллектуальном уровне. Из одного факта, что «старые знатоки Китая» не умеют читать китайские газеты, нельзя делать вывод, что они не имеют права писать о Китае. Хотя их книги и статьи неизбежно остаются на уровне сплетен. Разумеется, существуют и исключения. Такие люди, как сэр Роберт Харт (1835—1908/1909?; английский колониальный политик и китайский сановник. — Примеч. ред.) и философ Бертран Рассел, способны увидеть особый смысл в образе жизни, который отличается от их собственного, но на одного сэра Роберта Харта приходится десять тысяч Родни Гилбертов, а на одного Рассела — десять тысяч Вудхедов (Р. Гилберт и Г. Вудхед — английские журналисты начала XX в., авторы антикитайских книг и памфлетов. — Примеч. ред.). В результате возник хорошо известный европейцам стереотип китайца, к которому они к тому же постоянно добавляют всякие несуразные детали, скажем «ребяческую лживость». Это все те же россказни португальских моряков, только выражения стали более обтекаемыми. А умственные способности тех, кто рассказывает подобные сказки, остались, в сущности, на том же уровне, что и у моряков стародавних времен. Китайцы порой удивляются, почему их страна притягивает к себе только авантюристов. Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо почитать Морса[6] и проследить, каким образом возникла в древнейшие времена эта традиция, существующая и по сей день, а также проанализировать, что общего в мировоззрении португальских моряков прошлых веков и современных «старых знатоков Китая», каковы их интересы. Сила каких именно обстоятельств выбросила их на чужой берег на другом конце Земли? Что заставляло их в прошлом, да и сейчас заставляет постоянно прибывать в эти дальние края? Золото или любовь к приключениям? Золото и любовь к приключениям побудили Колумба, великого мореплавателя и искателя приключений, отправиться на поиски пути в Китай. Постепенно начинаешь понимать корни этой преемственности, начинаешь понимать, почему получила развитие традиция Колумба-мореплавателя. И тогда возникает нечто похожее на чувство сострадания к Китаю, чувство сожаления, связанное с тем, что не наша человеческая природа, а наше золото и мы сами как существа, имеющие покупательную способность, притягивали европейцев к берегам Дальнего Востока. Золото и успех! Это, по словам английского писателя Генри Джеймса (1843—1916), «золотой телец», который связал европейцев и китайцев, бросив их в водоворот непристойностей, не создав между ними никаких человеческих и духовных связей. Ни китайцы, ни англичане сами этого не признают. Поэтому китайцы спрашивают англичан: раз вы так ненавидите китайцев, почему бы вам не вернуться в свою страну? Англичане же, в свою очередь, спрашивают китайцев с ехидцей: почему вы не хотите уезжать с территории иностранных концессий? И ни те ни другие не знают, что отвечать. Ситуация такова: англичане не обеспокоены тем, понимают ли их китайцы; настоящие же китайцы еще меньше беспокоятся о том, поймут ли их англичане.III
Но понимают ли китайцы самих себя? Являются ли они самыми лучшими истолкователями Китая? Общепризнанно, что самопознание — крайне трудная вещь, в особенности когда нужно беспристрастно и трезво оценить самих себя. У образованного китайца, разумеется, нет трудностей с языком, но ему трудно усвоить всю длительную историю Китая, ему трудно постичь и ясно, четко изложить основы искусства, философии, поэзии, литературы и театра Китая, и ему так же трудно смириться с необразованностью[7] своих соотечественников — будь то попутчик, который едет с ним в трамвае, или бывший одноклассник, ныне претендующий на то, чтобы решать судьбы целой провинции. Все, что бросается в глаза, сбивает с толку как иностранного наблюдателя, так и современного китайца. Возможно, китайцу еще больше недостает должного хладнокровия и беспристрастности, чем иностранцу. В его душе идет ожесточенная борьба — борьба за выбор между идеальным и реальным Китаем, борьба между гордостью за предков и чувством зависти к иностранцам, зависти, граничащей с восхищением. Его душа буквально разрывается в этой борьбе между преданностью древнему Китаю, наполовину романтичной, наполовину эгоистичной, и стремлением к просвещению и мудрости, которые приведут к переменам, помогут раз и навсегда избавиться от коррупции, отсталости, от всего того, что увяло и покрылось плесенью. Иногда это более простой конфликт — конфликт между стыдом и гордостью, безграничной преданностью семье и неудовлетворенностью, стыдом по поводу ее нынешнего состояния. Эти чувства вполне естественны. Однако порой гордость китайца за свой род берет верх, но ведь между обычной гордостью и собственно консерватизмом весьма тонкая грань. Порой начинает преобладать естественное чувство стыда, но между искренним желанием реформ и простым желанием чего-то нового и поклонением «золотому тельцу» — тоже весьма тонкая грань. Постараться избавиться от всех этих противоречий — задача и в самом деле довольно сложная. Что нужно сделать, чтобы чувство гордости за прошлое Китая совместить со стремлениям к реформам? Чтобы и восторгаться реформами, и критиковать их, трезво оценивая эти реформы? Совместить все это крайне непросто, ибо необходимо фактически спасать древнюю культуру, подобно тому как мы порой приводим в порядок свои семейные реликвии. Тут даже знаток антиквариата может ошибиться, нерешительно отбирая лучшее. Такая работа требует смелости, честности и на редкость живого ума, умения постоянно задавать себе вопросы. По сравнению с иностранным наблюдателем у китайца имеются особые преимущества. Будучи китайцем, свои рассуждения он основывает не только на разуме, но и на чувствах. Он знает, что в его жилах течет китайская кровь, в биохимической структуре которой — прошлое и будущее Китая, его гордость и позор, его слава и бесчестье. Получается, что сравнение с приведением в порядок семейных реликвий недостаточно точное, так как национальное наследие давно уже слилось с подсознанием, слилось с самим китайцем, стало его частью. Возможно, он уже научился играть в футбол, но он не любит футбол; возможно, он научился восхищаться деловитостью американцев, но душа его восстает против такой деловитости; возможно, он научился пользоваться за столом салфеткой, но он ненавидит эти салфетки. В мелодиях Шуберта и музыке Брамса он слышит, как обертон, эхо древних народных песен и пасторальной лирики Востока, и оно побуждает китайца вернуться назад. Он глубоко изучил все прелести и все великолепие Запада, но все же вернулся на Восток. Ему было ближе к сорока, когда возобладала восточная кровь. Глядя на портрет отца в китайском традиционном головном уборе, он снимает европейскую одежду и надевает старинного покроя китайский халат и матерчатые туфли. О, какая благодать! Как покойно и удобно! Он больше не в состоянии носить западный «ошейник» — галстук. Порой он удивляется, как мог он так долго терпеть эту удавку. Он перестал играть в футбол и перешел к китайскому здоровому образу жизни, совершая в качестве физической зарядки прогулки по тутовым плантациям и бамбуковым рощам, по берегам рек, заросшим ивами. Это отличается от того, что в английском языке называется «прогулкой на лоне природы». Это — прогулка в китайском стиле, и она весьма полезна для тела и души. Китаец даже возненавидел слова «физическая зарядка». Упражняться ради чего? Это смешное европейское понятие. А респектабельные взрослые люди, гоняющиеся друг за другом на футбольном поле, выглядят крайне несуразно и нелепо. Еще более дико то, что в жаркий летний день после игры они закутываются в теплые фланелевые или шерстяные свитеры. К чему столько хлопот, думает он. Китаец помнит, что прежде ему это нравилось, но то было в молодости, когда он был еще незрелым юнцом и не научился владеть собой. Теперь все рассеялось как туман. У него действительно не было желания заниматься спортом: он следовал моде — и только. Да он ведь родился для другой жизни. Он родился, чтобы отбивать земные поклоны, жить в спокойствии и мире, но никак не для футбола, «ошейников», салфеток, деловитости и т.д. Иногда китаец думает, что, возможно, он — свинья, а западный человек — собака. Собака любит задирать свинью, а та в ответ может только хрюкать. Вполне возможно, что она хрюкает от радости. Почему бы и нет? Китаец даже хочет стать настоящей свиньей: ведь это так комфортно. Он вовсе не завидует собачьему ошейнику, собачьей деловитости и собачьему «золотому тельцу». Ему надо только, чтобы собака оставила его в покое. Вот как современный китаец воспринимает восточную и европейскую культуру. И это для него единственная возможность охватить взором и понять восточную культуру. У него отец китаец и мать китаянка, и каждый раз, когда речь заходит о Китае, он вспоминает родителей, вспоминает их слова, жесты. Их жизнь, исполненная мужества, терпения, страданий, счастья, несгибаемой воли и стойкости, жизнь, не поддавшаяся никаким современным веяниям, величественна и благородна, скромна и искренна. Да, это, пожалуй, единственный способ по-настоящему понять Китай, как, впрочем, и любую иную страну. Понять, не любуясь экзотикой, а изучая общечеловеческие ценности. Чтобы понять, нужно уметь разглядеть за чисто внешним этикетом подлинную учтивость, за изысканной одеждой женщины — подлинную женственность и материнство, нужно внимательно понаблюдать за мальчишескими шалостями, догадаться о девичьих грезах. Шалости и грезы, детский смех и топот детских ножек, плач женщин и скорбь мужчин — они везде похожи, но только по плачу женщин и скорби мужчин можно по-настоящему понять нацию. Разница здесь лишь в форме социального поведения. Все это составляет основу здравой критики, оценки друг друга разными нациями.Глава 1 КИТАЙЦЫ
Север и Юг
При исследовании любого периода истории литературы и собственно истории следует прежде всего серьезно изучить людей того времени, потому что за литературным творчеством и историческими событиями всегда стоят отдельные личности, которые и вызывают наибольший интерес. Говоря об упадке Рима, мы вспоминаем Марка Аврелия или Лукиана, а Средние века ассоциируются у нас с именем Франсуа Вийона. И тогда в одно мгновение эти времена становятся нам дорогими, близкими и понятными. Такое понятие, как «эпоха Джонсона», наполнено большим смыслом, чем просто два слова; «восемнадцатый век». Потому что только сама жизнь Сэмюэля Джонсона (1709—1784; английский поэт и историк литературы), таверна, куда он частенько наведывался, друзья, с которыми он общался, придают той эпохе истинность и достоверность. Возможно, малоизвестный литератор или обыкновенный лондонец эпохи Джонсона в равной степени вызовет у нас ассоциации с тем временем. Однако обыкновенный лондонец, скорее всего, не будет нам столь интересен, поскольку обычные люди во все времена мало чем отличаются друг от друга. Некоторые из них пьют светлое пиво, другие — чай «Липтон», и это всего лишь разные формы социального поведения, а не бог весть какое различие, потому что они — обычные люди. А вот то, что Джонсон курил и частенько посещал таверны, представляет собой нечто важное в историческом плане. Выдающиеся личности по-своему реагируют на общество, в котором живут, и это очень существенно для нас. Им свойственно оказывать влияние на все, с чем они сталкиваются, и, наоборот, воспринимать влияние со стороны своего окружения. На них влияют книги, которые они читают, и женщины, с которыми они общаются; эти люди в полной мере впитывают в себя жизнь своей эпохи, своего поколения, реагируя на все в соответствии со своим весьма тонким и острым видением мира. Однако, анализируя и изучая страну, нельзя игнорировать простых людей. Не все древние греки были Софоклами, а в елизаветинские времена были не только Бэконы и Шекспиры. Если, говоря о Греции, мы будем называть только Софокла, Перикла и Аспасию, то получим неверную картину об афинянах. Дополнить картину помогут, например, персонажи, выведенные в комедиях Аристофана, а также упоминание сына Софокла, который подал в суд иск на отца, обвиняя его в некомпетентности в ведении домашних дел. Не все обычные афиняне были влюблены в красоту, не все стремились к поискам истины. Они часто бывали пьяны, объедались, любили поскандалить, были продажны, переменчивы в настроениях, радовались и гневались. Может быть, эти переменчивые афиняне помогут нам понять причину краха афинской демократии, точно так же как Перикл и Аспасия помогают нам понять величие Афин. Каждый из них в отдельности — ничто, но вместе взятые они в значительной степени оказали влияние на судьбы страны и нации. Сейчас, возможно, трудно воспроизвести облик простого человека ушедших эпох, но мы знаем, что и в наше время такие обыватели всегда среди нас. Только кто этот обыватель? Чем он занимается? Китаец для нас — понятие абстрактное. Китайцев, живущих в южной и северной частях Китая, связала воедино культура, образовав отдельную нацию. Южане по темпераменту, физическим данным и привычкам отличаются от северян, вероятно, так же сильно, как народы Средиземноморья от скандинавских. К счастью, в рамках китайской культуры не было условий для развития национализма; существующий здесь регионализм, возможно, и стал тем важным фактором, который на протяжении многих веков позволял мирно жить всей империи. Общая историческая традиция, единый письменный язык, который фактически стал китайским эсперанто, и однородность культуры — благодаря всему этому многие века шло постепенное мирное проникновение цивилизации в жизнь довольно послушного коренного населения, что привело к всеобщему братству, чего так не хватает современной Европе. Даже разговорный язык не создает столь серьезных помех в общении, с которыми столкнулись ныне европейцы. Уроженец Маньчжурии может, пусть не без труда, объясниться с жителем юго-западной провинции Юньнань. Это лингвистическое чудо стало возможным в результате медленного процесса колонизации и в значительной мере благодаря китайской письменности, ставшей зримым символом единства нации. Подобная однородность культуры порой заставляет нас забывать о том, что расовые различия, различия по крови объективно существуют. Если вдуматься, абстрактное понятие «китаец» исчезает — появляется совокупность народностей, различных по телосложению, темпераменту и складу ума. Если предложить генералу, выходцу с Юга, возглавить войска на Севере, то эти объективные различия сразу обнаружатся. Что касается китайцев-северян, то они непривычны к интеллектуальным изыскам, они тяжелодумы, привыкшие к трудной жизни. Они высокого роста, крепкого сложения, сердечны, обладают чувством юмора, едят лук и любят пошутить. Они — дети природы и во многом похожи на монголов; они более консервативны, чем жители Шанхая и провинции Чжэцзян, и не утратили национального духа. Они — хэнаньские ихэтуани, шаньдунские разбойники из «Речных заводей», основатели всех правивших Китаем ханьских по этнической принадлежности династий. Они — прототипы персонажей китайских военных и приключенческих романов. В юго-восточной части страны, южнее Янцзы — иной человеческий тип. Южане склонны к беззаботной жизни, к изощренным парадоксам, к знаниям вообще, их отличает житейская мудрость, они умственно развиты, но физически деградируют, любят поэзию и комфорт. Это прилизанные и физически малоразвитые мужчины, изящные, но нервозные женщины. Они едят суп из ласточкиных гнезд, семена лотоса, они предприимчивы в бизнесе, талантливые беллетристы, трусливы на поле брани, готовы кататься по земле и кричать «мама» от еще только занесенного над ними кулака. Они — потомки образованных китайских семей, которые в последние годы династии Цзинь со своими книгами и картинами перебрались через Янцзы и потянулись на юг. Север в то время был захвачен варварскими племенами. Для южной провинции Гуандун характерен еще один тип китайцев. Они исполнены национального духа, едят и работают, как настоящие мужчины, они предприимчивы, беспечны, расточительны, драчливы, авантюристы по натуре, агрессивны, вспыльчивы. Под предлогом сохранения китайской культуры здесь упорно соблюдается старинная традиция поедания змей, что, безусловно, свидетельствует о заметной примеси крови древних жителей китайского Юга — юэ. К северу и югу от Ханькоу, в Центральном Китае живут хубэйцы, которые любят громогласно клясться и интриговать. Люди других провинций говорят о них так: «В небе — птицы с девятью головами, а на земле — хубэйцы»[8], которые никогда не признают поражения и считают, что перец не станет достаточно острым, если его не поджарить в масле по-хубэйски. А хунаньцы отличаются воинственностью, упрямством и настойчивостью. Это любимые всеми потомки воинов древнего княжества Чу. Развитие торговли и императорские указы, согласно которым талантливые ученые обязаны занимать чиновничьи должности за пределами родной провинции (а их домочадцы следовали за ними и там оседали), привели к тому, что различия между провинциями уменьшились. Но общая тенденция осталась прежней. Безусловным фактом является то, что северяне в своей основе — завоеватели, а южане — торговцы. Среди всех узурпаторов, кто силой захватил власть и создал свою династию, не было ни одного пришельца с Юга, из-за Янцзы. Так возникло традиционное представление о том, что те, кто ест рис, т.е. южане, не могут взойти на «драконовый трон». Это, согласно традиции, привилегия тех, кто ест лапшу, т.е. северян. И в самом деле, кроме основателей династий Тан и Восточной Чжоу, которые пришли с северо-востока провинции Ганьсу (в связи с этим существует мнение, что они тюрки), все основатели великих династий были выходцами из территориально близких горных местностей, т.е. из того района, где проходит Лунхайская железная дорога и который включает восточную часть провинции Хэнань, юг провинции Хэбэй, запад провинции Шаньдун и север провинции Аньхой. Если взять некую точку в районе Лунхайской железной дороги в качестве центра и провести окружность радиусом в несколько километров, то внутри этой окружности как раз и окажутся места рождения этих императоров. Основатель династии Хань был выходцем из уезда Пэйсянь (современный Сюйчжоу), династии Цзинь — из провинции Хэнань, династии Сун — из уезда Чжосянь в южной части провинции Хэбэй, а Чжу Юаньчжан — основатель династии Мин — был выходцем из Фэнъяна в провинции Аньхой. В наше время, кроме чжэцзянца Чан Кайши (история его рода еще не изучена), большинство генералов — выходцы из провинций Хэбэй, Шаньдун, Аньхой и Хэнань, т.е. опять-таки из района Лунхайской железной дороги. Выходцы из провинции Шаньдун — это У Пэйфу, Чжан Цзунчан, Сунь Чуаньфан, Лу Юнсян; из провинции Хэбэй — Ци Сюэюань, Ли Цзинлинь, Чжан Чжицзян, Лу Чжунлинь; из провинции Хэнань — Юань Шикай, из провинции Аньхой — Фэн Юйсян и Дуань Цижуй. Провинция Цзянсу не произвела на свет великих генералов, но дала нам несколько прекрасных служащих отелей и официантов. Полвека тому назад провинция Хунань, расположенная в центре Китая, произвела на свет Цзэн Гофаня, что является исключением, подтверждающим общее правило. Этому первоклассному ученому и генералу, из-за того что он родился южнее Янцзы и вырос на рисе, а не на лапше, судьба судила стать лишь знатным сановником, а не основателем новой династии. Последнее требует известной удали и размаха, своеобразной привлекательности, характера настоящего авантюриста, требует определенного таланта. Человек, обладающий таким талантом, любит войну и хаос, презрительно относится к честной игре, к знаниям и конфуцианской этике ровно до тех пор, пока сам не сядет прочно на трон, чтобы насаждать конфуцианский монархизм — эту крайне полезную для трона концепцию. Необузданный, грубый Север и деликатный, нежный Юг — эти различия можно обнаружить в языке, музыке и поэзии. Сравнивая мелодии провинции Шэньси и города Сучжоу, можно заметить, что музыкальный ритм в мелодиях Шэньси отмечен ударами деревянных кастаньет. Мелодии здесь звонкие, высокие по регистру, напоминающие песни швейцарских Альп и вызывающие у слушателей ассоциации с завыванием ветра в горах и суховеев в степях. Сучжоуские же мелодии звучат в низком регистре и больше напоминают грустные причитания, нечто среднее между стоном и сопением, в них много гортанных и носовых звуков. Эти мелодии легко могут вызвать ассоциации с затрудненным дыханием астматика. Эти ставшие привычными вздохи и стоны имеют особые тембр и ритм. Пекинскому диалекту свойственны звонкость и четкость ритма, чередование сильной и слабой доли — и это радует слух. У сучжоуских женщин голоса мягкие и нежные, они как бы сладко воркуют, у них много огубленных гласных, ломаных тонов, пафос мелодии выражают не сильные взрывные согласные, а протяжные звуки в конце предложений. Рассказывают, что полковник с Севера, инспектируя солдат из Сучжоу, не мог их сдвинуть с места командой «Шагом марш!». Капитан, который долго жил в Сучжоу, оценив ситуацию, попросил разрешения отдать команду по-своему. Получив согласие, он, вместо того чтобы, как полагается, зычным голосом скомандовать «Шагом марш!», нежно и деликатно, с настоящим сучжоуским акцентом произнес: «Ша-а-а-го-о-ом ма-а-а-а-а-арш, ну, пошли, родимые». И что же? Сучжоуская рота пошла. В поэзии подобное различие становится еще очевидней, особенно в IV-VI вв. В те времена Северный Китай впервые был покорен степными варварскими племенами. Образованная часть китайского населения мигрировала на Юг страны. Именно тогда в южных районах стала популярна сентиментальная любовная лирика. Многие правители Южных династий были незаурядными поэтами-лириками. В народе получили развитие своеобразные любовные напевы цзые гэ («песни полуночи»). Эти печальные стихи сравнивают со свежей, наивной поэзией Севера. Вот что поется в популярной песенке анонимного поэта Юга:Деградация
«Деградация» — термин, который легко может ввести в заблуждение, поскольку его значение имеет относительный характер. С тех пор как изобрели унитаз и пылесос, современному человеку представляется, что мерилом моральных норм людей служит их чистоплотность, и он полагает, что собака — существо более цивилизованное, так как раз в неделю моется, а зимой надевает комбинезон. Я слышал, как один сердобольный иностранец сказал: китайские крестьяне «живут как скоты». И если бы он захотел выручить из беды этих китайцев, то первое, что бы он сделал, так это устроил в их жилищах и отхожих местах всеобщую дезинфекцию. Однако не грязь, а страх перед грязью является показателем человеческой деградации. Весьма опасно судить о степени физической и моральной чистоты человека лишь по внешним, стандартным признакам. На самом же деле европейцы, проживающие в хорошо отапливаемых домах и привыкшие к шикарным автомобилям, менее готовы к борьбе за существование, чем эти китайские крестьяне, которые ютятся в жалких недезинфицированных лачугах. Жестокость, естественная у детей и дикарей, тоже не признак человеческой деградации; наоборот, признак деградации — это страх перед болью и страданиями. Собачка, которая только и знает что лаять, но не кусает, которую любимая госпожа прогуливает по улице, — это деградировавший волк. Даже такой здоровяк, как Джек Демпси[10], не вправе претендовать на известность за пределами боксерского ринга. Только способность работать и прожить жизнь счастливо дают такое право. Даже некое высокоразвитое животное, сложно устроенное, весьма чувствительное, обладающее сверхъестественными способностями и сверхблагородными помыслами, нельзя назвать крепким и здоровым, если речь идет о его жизнеспособности и умении жить счастливо. Независимо от того, человек это или животное, мерилом его физического и душевного здоровья служит умение как следует выполнять свою работу, наслаждаться жизнью и быть готовым к борьбе за выживание. Если говорить просто о физическом состоянии человека, то обнаруживаются явные последствия многотысячелетней цивилизации. Китайцы приноровились к социальному и культурному окружению, а это требует терпения, сдержанности и способности сопротивляться. Они утратили большую часть духовных и физических сил, склонность к завоеваниям и авантюризму, свойственную их предкам, обитавшим в первобытных лесах. Китайцы изобрели порох и решили, что наилучшее его применение — это хлопушки и петарды, используемые для празднования дней рождения предков. Это свидетельствует о юмористическом настрое китайцев, подтверждает их миролюбие и изобретательность. В искусстве они предпочитают изящество, а не динамику, и причина здесь кроется в уменьшении потенциала жизненных сил и появлении более мягких инстинктов; в философии они предпочитают рационализм агрессивному напору — и это заметно по их округлому подбородку и расплывчатым чертам лица. Кроме того, китайцы презирают удаль и подвиги, спорт, им не нравится слишком тяжелая физическая работа, а это связано именно с общим упадком сил, особенно у городской буржуазии. Это легко заметить, наблюдая за европейцами и китайцами в трамвае или на собраниях сотрудников, где они сидят рядом. Нездоровый образ жизни китайского буржуа и переедание сказались и на его внешнем облике — узкие плечи, безразличный взгляд. Очевидна разница и между европейскими и китайскими детьми школьного возраста. На спортивной площадке мальчишки, у которых один из родителей европеец, отличаются живостью, ловкостью, неудержимой энергией, но они редко добиваются успеха в соревнованиях, на которых требуется выносливость, они уступают китайцам в учебе. Человек по фамилии Бородин (главный советник Национального правительства в 1925—1927 гг. — Примеч. ред.) хвастал тем, что в 1927 г. оказывал некоторое влияние на Национальное правительство в Ханькоу, он работал за троих китайских чиновников и умел уговаривать китайских руководителей, пока они не соглашались с ним, лишь бы он оставил их в покое. Этот энергичный русский у себя на родине был лишь второстепенной фигурой. Многие европейцы в Шанхае удивляются, почему их китайские друзья иногда внезапно прерывают общение с ними, не понимая простой истины, что китайцы не выдерживают психологического давления длительных и бурных дискуссий, тем более на иностранном языке. Во многих видах китайско-европейского партнерства, будь оно семейное или в сфере бизнеса, отношения портились из-за того, что европейцев раздражало самодовольство китайцев, а китайцев — отсутствие у европейцев выдержки, их суетливость. Для китайцев, например, в высшей степени нелепа и смешна манера американского дирижера управлять джаз-оркестром с таким жаром, что у дирижера дергаются колени, а равно и поведение или манеры европейцев, прогуливающихся по палубе корабля. Кроме Чан Кайши и Сун Цзывэня (министр иностранных дел Китая в 30-х годах, шурин Чан Кайши. — Примеч. ред.), китайские руководители не «работают как лошади», а трудятся как цивилизованные люди. Они считают, что жизнь не стоит того, чтобы тратить на нее столько усилий, а если Чан Кайши и Сун Цзывэнь и поднялись так высоко, так это из-за их выносливости, способности выполнять самую тяжелую и нудную работу. Сун Цзывэнь, покидая свой пост, заявил, что «здоров как бык», и не стал ссылаться на диабет, цирроз печени или нервное истощение, как это бессовестно делают китайские чиновники, уходящие в отставку. Можно составить длинный перечень физических и душевных заболеваний, которые излечивают в современных клиниках, — от перебоев в работе желудочно-кишечного тракта и почечной недостаточности до нервных расстройств, изменений в работе головного мозга и потери памяти. И когда у чиновников возникают проблемы политического характера, они начинают афишировать свои болячки. Надо признать, что большинство болезней — не плод воображения. Кроме покойного Сунь Ятсена, китайские лидеры, пусть все они первоклассные ученые, не так уж часто заглядывают в книги или что-либо сочиняют. Невозможно себе представить, чтобы китайский руководитель написал такую автобиографию, как это сделал Троцкий. В Китае до сих пор нет никого, кто бы смог написать яркую, популярную биографию Сунь Ятсена, хотя этот великий человек ушел из жизни почти десять лет тому назад. Не увидели свет и биографии Цзэн Гофаня, Ли Хунчжана, Юань Шикая. Создается впечатление, что такие занятия, как постоянные чаепития в ямыне[11], бесконечная болтовня дома и лузгание арбузных семечек, отнимают у этих ученых все время. Подобные факты позволяют понять, почему изящные стишки и искусные очерки, коротенькие предисловия, написанные к произведениям приятелей, немногословные эпитафии на похоронах друзей, а также путевые заметки составляют 95% творчества известных китайских писателей. Когда человеку недостает силы характера, он выбирает утонченное сочинительство. Когда человеку недостает энергии и настойчивости, он провозглашает благоразумие добродетелью. Должно пройти очень много времени, чтобы у нас появились авторы, подобные великому историку Сыма Цяню, Чжэн Цяо или Гу Яньу, чьи удивительные труды вызывают в памяти неутомимых Бальзака и Гюго. Вот до чего привели китайскую нацию два тысячелетия отбивания земных поклонов. Исследование волос и кожи также, видимо, может рассказать о том, как повлияло на человека проживание в течение сотен и тысяч лет взаперти. Характерное следствие этого — полное отсутствие у китайцев усов и бороды или их крайне непритязательный вид. В результате многие китайцы не умеют пользоваться бритвой. Волосы на груди у мужчины — вещь вовсе неизвестная. А усики на верхней губе у китаянки — что встречается не так уж редко у европейских женщин — совершенно исключены. Согласно информации, полученной от авторитетных врачей, отсутствие волосяного покрова на лобке у китаянок — явление нередкое. Кожа у китайцев более тонкая, чем у европейцев, и в целом у китаянок по сравнению с европейскими женщинами более нежный цвет лица, к тому же внешне они очень хрупки — этот идеальный образ дополняет традиция бинтовать ступни ног, что увеличивало сексуальную привлекательность. Китайцы, несомненно, сознательно добивались такого эффекта. В провинции Гуандун, в Синьфэне, хозяева птичьих дворов держат кур в темных клетках до конца их жизни, лишая птиц возможности двигаться[12]. Так мы вывели знаменитых синьфэнских кур, отличающихся особо нежным мясом. У китайцев выделения потовых желез на коже слабо выражены. Поэтому привычку европейцев ежедневно принимать ванну они объясняют тем, что от их тела исходит более сильный запах. Возможно, самое явное отличие от европейцев состоит в потере китайцами таких качеств голоса, как полнота звучания. Хотя я и не располагаю сведениями относительно состояния органов чувств у китайцев, но несомненно, что у них с глазами и ушами все в порядке. Китайцы всегда придавали большое значение органам обоняния, что подтверждается особенностями китайской кухни и тем, что пекинцы не говорят «целовать ребенка», а говорят «понюхать ребенка», и не только так говорят, но именно так делают. В китайском литературном языке существует много эквивалентов французскому l'odeur de femme, например «благоухание плоти», «аромат мрамора (женского тела)»[13]. В то же время китайцы по сравнению с европейцами гораздо менее чувствительны к холоду и жаре, к боли и любому шуму. И к этому они подготовлены всей своей жизнью в тяжелыхбытовых условиях большой китайской семьи. Единственное, чему завидуют европейцы, так это нашим нервам, нашему самообладанию. Итак, с одной стороны, тонкое восприятие и чувствительность, что обычно проявляется во многих специфических сферах, например в китайском прикладном искусстве, а с другой — толстокожесть, невосприимчивость, повышенный порог чувствительности к боли и любым страданиям[14]. Терпение же китайцев поистине безгранично.Вливание свежей крови
Однако китайцы как нация смогли выжить не только благодаря своим крепким нервам и безграничному терпению. На самом деле они выжили потому, что произошла китаизация монголов[15]. Возник некий филогенез, и коль скоро произошел приток свежей крови, то и последовал подъем культуры. Краткое описание психологии и физического состояния китайцев показывает, что они не смогли полностью избежать последствий длительного цивилизованного существования, что у них развились такие, качества, которые делали их совершенно беспомощными перед лицом более молодого, энергичного и более воинственного народа. Жизнь китайцев как будто всегда протекала неторопливо, была спокойной и надежной — не так, как у европейцев, склонных к активным действиям и авантюрам, а в соответствии со свойственными китайцам миролюбием и общей пассивностью. Поэтому периодические завоевания Китая северными народами были неизбежны. В политическом плане наше государство несколько раз погибало от рук захватчиков. Вопрос состоит в том, как в условиях полного политического подчинения нация смогла сохранить свою целостность. И как удалось китайцам, не сумевшим отразить военные вторжения (в отличие от франков, которые в битве под Пуатье в 732 г. остановили мусульман), не только выжить, но даже извлечь из этих вторжений пользу благодаря вливанию свежей крови захватчиков? При всем том китайский народ не утратил национальную индивидуальность и культурные традиции. По-видимому, жизнь нации была устроена по модели, позволяющей сохранить стойкость национального духа и способность к длительному сопротивлению даже при утрате изначальной жизненной силы. Объяснив этот феномен, мы поймем, как Китай сумел выжить. Вливание свежей крови в значительной мере может объяснить национальную жизнестойкость, которую китайский народ проявляет и в наше время. В нашей истории вливание свежей крови происходило с такой поразительной регулярностью — через каждые 800 лет, — что начинаешь думать, что периодическое обновление нации необходимо, потому что именно глубокое разложение самых основ национальной морали привело к этим периодическим потрясениям, а не наоборот. Ли Сыгуан в блестящей статье «Периодичность междоусобных войн в Китае» («The periodic recurrence of internecine wars in China»)[16] провел статистическое исследование этих войн и показал четкую смену периодов мирного времени и хаоса в стране. По его словам, такая периодичность «слишком регулярна, чтобы приписывать ее деятельности простых смертных». Это поразительный факт, но историю Китая действительно очень удобно разделить на циклы по 800 лет. Каждый цикл начинается с недолговечной и сильной в военном отношении династии, которая объединяла Китай после вековых внутренних раздоров. Далее следовал 400—500-летний мирный период, в пределах которого менялась династия, после чего возникал ряд войн. В результате этих перемен столица перемещалась с Севера на Юг. Затем наступал период раскола и все усиливающегося соперничества между Севером и Югом, за которым следовали вторжение извне и безропотное существование под иностранным правлением. На этом цикл заканчивался. Затем история повторялась: Китай вновь объединялся под китайским правлением, и снова расцветала культура. Одинаковые по времени и последовательности события разворачивались в каждом цикле с совершенно невероятной механической точностью. Ли Сыгуан, чтобы показать эту точность, упоминает, например, великие стройки, которые повторялись с неотвратимой регулярностью и на определенной стадии каждого цикла, а именно в самом начале нового расцвета культуры. Первый цикл: Цинь Шихуан строит Великую Китайскую стену, великолепные дворцы, в частности дворец Афангун, который позднее был предан огню и горел целых три месяца. Второй цикл: император династии Суй строит Великий канал и великолепные, роскошные дворцы. Третий цикл: перестройка Великой Китайской стены (именно ее мы видим сейчас), строительство новых каналов, плотин и Пекина минским императором Юнлэ (1403—1425), который стал знаменитым также благодаря энциклопедии «Юнлэ да дянь» («Важнейшие сочинения [периода правления] Юнлэ»). Приведем временные отрезки этих циклов: 1) от династии Цинь до конца Шести династий и нашествия северных варваров (221 г. до н.э. — 588 г. н.э.), т.е. примерно 830 лет; 2) от начала династии Суй до конца правления монголов (589—1367), т.е. примерно 780 лет; 3) современный цикл — от династии Мин по сегодняшний день, — который в течение уже почти 600 лет разворачивается с поразительным соответствием описываемой модели. 500 лет мира, дарованные династиями Мин и маньчжурской Цин, видимо, уже завершены: Тайпинское восстание 1850-х годов отметило первую большую волну междоусобных войн данного цикла. В настоящее время мы как раз находимся на пике беспорядков и внутреннего разлада, когда столица — уже в соответствии с традицией — переместилась в 1927 г. из Пекина в Нанкин. Между тем пока еще не было разрыва между Севером и Югом, который нам пророчат прошлые циклы, подчинения Северного Китая чужеземцам. Не пришли еще и следующие славные 300 лет[17].
Первый цикл (221 г. до н.э. — 588 г. н.э.), около 830 лет

Второй цикл (589—1367), около 780 лет
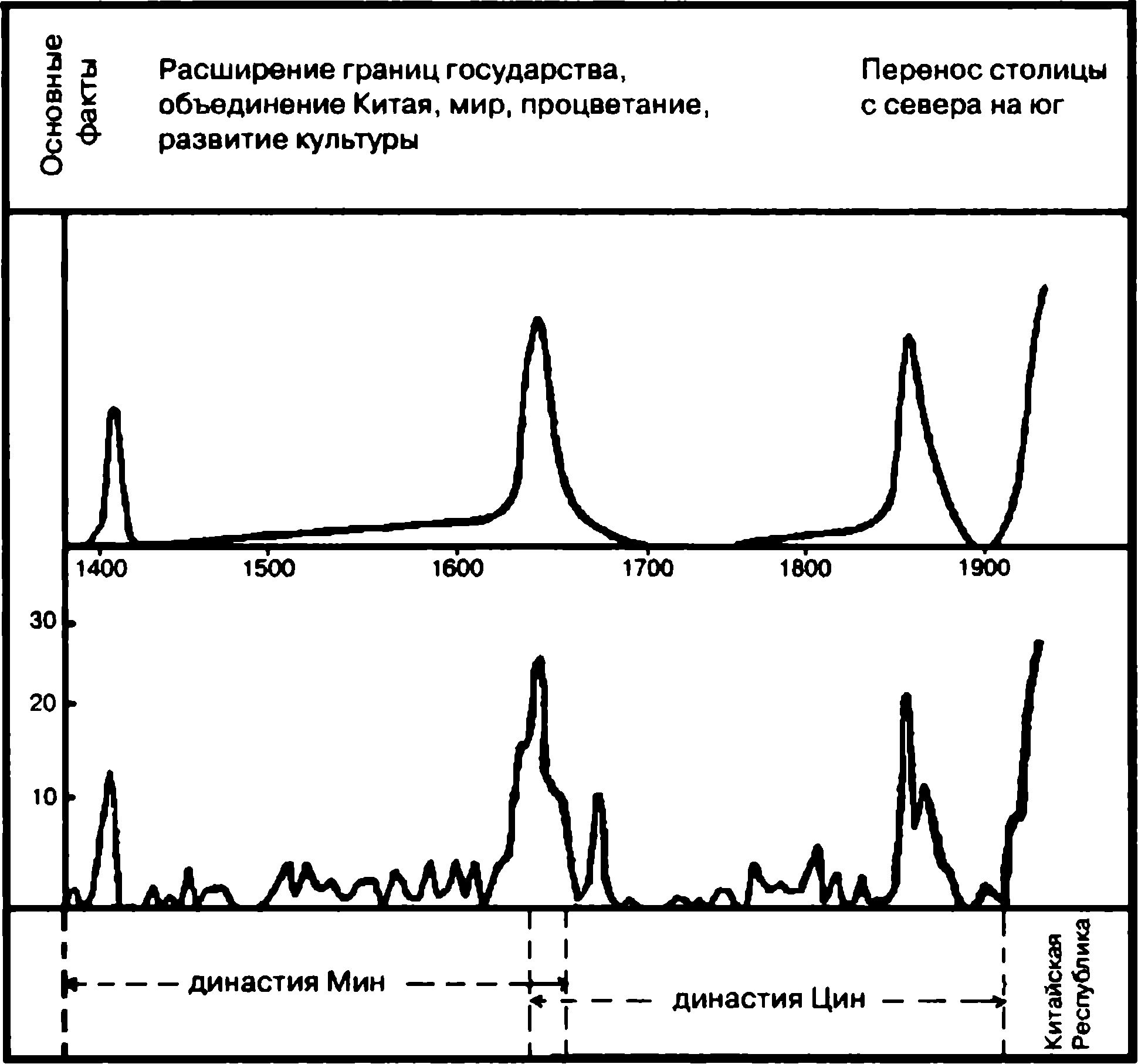
Современный цикл (с 1368 г. по сей день)Приведенные здесь диаграммы интересны и сами по себе, и тем, что в сжатом виде воспроизводят политическую историю Китая более чем за 2000 лет. Эти кривые обозначают частотность войн, вспыхивавших на территории Китая. Ли Сыгуан упоминает также, что подобные события разворачивались еще до первого цикла, а именно при династии Чжоу. Эпоха Чжоу, на время которой пришелся первый расцвет китайской культуры, официально длилась 900 лет начиная с 1122 г. до н.э. Первые 450 лет царил относительный мир и шло расширение этнически китайских земель, подчиненных Чжоу. В 770 г. до н.э. под давлением со стороны народов северо-западной части нынешнего Китая столица переместилась на восток. С тех пор пошли непрекращающиеся распри и войны между вассальными княжествами. Центральное правительство постепенно теряло контроль над удельными князьями. Это были период Чунь-цю («Вёсны и осени»: 722—481 гг. до н.э.), описанный в анналах Конфуция, и последовавший за ним период Чжань-го (Сражающиеся царства: 402—221 гг. до н.э.). В это время царство Чу непрерывно расширяло свои территории, пока не добилось практически полного контроля над южными районами цивилизованного Китая той эпохи. Цикл завершился покорением и объединением Китая под властью племени с сильной примесью варварской крови и чуждыми обычаями — племени, ведомого великим императором Цинь Шихуаном. Все эти факты в равной степени следует рассматривать с позиций этнологии, экономики и климата. Перенаселенность страны обычно достигается за 400—500-летний период мира, и это — важный фактор. Ни одно государство в мире на протяжении своей истории не имело 500-летнего периода мирного и культурного развития, и Китай здесь не исключение. Однако, обратившись к истории китайской литературы, можно обнаружить другое объяснение этой периодичности. Во времена раскола и соперничества Севера и Юга наблюдается падение моральной устойчивости нации, что отражается в поэзии и в прозе; это доказывают стихи, цитированные ранее. Первый цикл — это период вторжения Севера, или так называемая эпоха Шести династий, от Восточной Цзинь до объединения Китая династией Суй; в это время северная часть Китая была захвачена варварскими племенами. Во втором цикле период господства степных племен на севере Китая, а затем и во всей стране длился от династии Южная Сун до монгольской династии Юань включительно. Оба эти периода были временем изнеженности верхов и упадка литературы. Отличительная черта первого периода — напыщенный, цветистый стиль прозы сы лю; второго периода — изнеженная, сентиментальная поэзия. Наблюдалась не бедность слов, а их изобилие, причем отмечены тончайшие нюансы игры слов. Пропал аромат естественности, зато появились элементы искусственности, упадничества и сверхутонченности, аромат придворных благовоний. Китайцы стали проявлять интерес — в духе fin de siecle[18] — к гармонии звуков, к крайней изысканности в критических эссе и других видах прозы, их привлекал аристократический стиль жизни. Именно в эту эпоху стали процветать живопись и каллиграфия. Возродились аристократические семьи, которые из поколения в поколение хранили художественные традиции. Китайская литературная критика впервые ощутила себя в качестве жанра в эпоху Шести династий, и выходец из аристократической семьи Ван Сичжи — первый и величайший каллиграф — жил именно в ту эпоху. Политическая слабость и позор этого периода парадоксальным образом сопровождались утонченностью в литературе и искусстве. Южной частью Китая в эти времена правили монархи, которые умели писать прекрасные стихи, но не могли усидеть на троне. Среди таких императоров-поэтов были лянский У-ди (Сяо Янь), Наньтан Хоу-чжу и чэньский Хоу-чжу. Все они были монархами недолго правивших династий и сочинителями нежной любовной лирики. Хуэй-цзун, император династии Северная Сун, был также известным художником. Однако именно в это время появляются ростки национального возрождения. Ибо северные завоеватели занимали только чиновничьи посты, а простое население оставалось китайским. Правители династии Северная Вэй были сяньби по крови, однако они не только восприняли китайскую культуру, но и свободно вступали в брак с китайцами. Население государства Цзинь (династия основана в XI в. родственными маньчжурам чжурчжэнями; покорила северную половину Китая. — Примеч. ред.) во времена династии Сун было в основном китайским. Шел процесс образования нации. Даже в области культуры это были периоды иноземного влияния, особенно буддизма и индийской скульптуры в конце первого цикла, а также юаньской (от названия монгольской династии Юань) драмы и музыки — во втором цикле. Ярче всего смешение народов проявилось, пожалуй, в языке и телосложении северян. Произошли изменения в тональной системе языка: глухие согласные стали звонкими, у людей увеличился рост, появился веселый, несколько грубоватый юмор. Именно эта примесь иностранной крови в значительной мере сделала возможным длительное существование ханьцев.
Устойчивость культуры
Однако это еще не объясняет всего. Остается вопрос: как нации удалось пережить эти периодически возникавшие нашествия и не быть поглощенной, как Рим был поглощен лангобардами? Откуда взялась эта национальная выносливость и способность впитывать в себя инородную кровь? Лишь глубокое изучение этих проблем позволит по-настоящему понять нынешнюю ситуацию в Китае. Присущая нации выносливость, жизнестойкость, которая, несмотря на реакционный характер китайской буржуазии, позволила китайскому народу выжить в ситуациях политических катастроф и возродиться благодаря притоку чужой крови, обусловлена отчасти натурой китайцев, отчасти их культурой. Одним из культурных факторов, укрепляющих национальную устойчивость, прежде всего является китайская семейная система, которая столь четко организована, что не позволяет человеку забывать свою родословную. Такая форма социального бессмертия, которую китайцы ценят превыше всех земных благ, в какой-то мере носит характер религии, что усиливается ритуалом поклонения предкам. Все это глубоко укоренено в китайской душе. Столь хорошо организованная и обладающая религиозным смыслом семейная система сослужила огромную службу китайскому народу, когда он столкнулся с инородцами с их более размытым пониманием семьи. Варварские племена или дети от смешанных браков всегда стремились войти в рамки семейной системы, чтобы добиться доли семейного бессмертия, теша себя надеждами на то, что после смерти они полностью не умрут — их душа останется жить в великом потоке семейной жизни. Семейная система также создала благоприятные условия для количественного воспроизводства рода. Например, для того чтобы род Линь сохранялся во времени, должно появиться на свет множество младенцев с фамилией Линь. Возможно, именно благодаря семейной системе китайцы смогли ассимилировать евреев провинции Хэнань, которые ныне полностью китаизировались. От их традиции не есть свинину осталось лишь воспоминание. Национальное самосознание евреев было стерто из родовой памяти лишь при контакте с еще более мощным самосознанием ориентированных на семью китайцев. И это было неординарным явлением в области межнациональных отношений. Ясно, что когда речь идет не о таком народе, как евреи, обладающих явно выраженным национальным самосознанием и национальной гордостью, а, например, о степных северных варварах, то коренные жители Китая по сравнению с иноземцами оказываются в еще более выгодном положении. В этом смысле маньчжуры всегда будут китайцами, несмотря на все японские махинации[19]. Может измениться политический порядок, можно поменять правителей, но китайские семьи останутся китайскими семьями. Другой культурологический фактор социальной стабильности — это полное отсутствие в Китае четко оформившихся классов и то, что здесь каждый имел возможность с помощью системы государственных экзаменов повысить социальный статус. Если семейная система обязана своим выживанием плодовитости китайцев, то имперская система экзаменов осуществляла качественный отбор и создала условия воспроизводства и приумножения талантов. Эта система возникла в эпоху Тан и построена на изначальной вере в то, что аристократами не рождаются[20]. Ее зачатки имелись уже в эпоху Хань в форме особого порядка выдвижения на гражданские должности. После династий Вэй и Цзинь (III—IV вв.) система назначения на чиновничьи должности претерпела некоторые изменения, выгодные для влиятельных семей до такой степени, что стали говорить: «Нет бедных ученых в высших сословиях и нет сыновей из знатных семей в низших сословиях»[21]. Это способствовало и росту могущества аристократических семей в эпоху Цзинь. С созданием системы государственных экзаменов при династии Тан (618—907) стал действовать порядок, который (несмотря на все последующие изменения) вплоть до его отмены в 1905 г. оставлял двери открытыми для всех желающих подняться из бедности к власти и славе. Эти экзамены были в известной степени механическим, формальным отбором кандидатов, они были рассчитаны на выявление не подлинных гениев, а просто людей со способностями, поэтому их можно рассматривать как тест на интеллект. Такая система давала возможность талантливым людям из деревни переезжать в города, постепенно восполняя утраченный высшими слоями общества национальный дух и продолжая цикл внутренней регенерации, столь необходимой для здоровья общества. Оглядываясь назад, мы видим, что система государственных экзаменов была весьма эффективна в отборе высококачественных кадров для правящих сословий и тем самым способствовала социальной стабильности в стране. Более важен тот факт, что правящие сословия не только пополнялись людьми из деревни, но и возвращались обратно в деревню, поскольку сельский образ жизни всегда рассматривался как идеал. Такого рода идеалы в искусстве, философии и жизни пустили глубокие корни в сознании простых китайцев и в значительной степени стали причиной нынешнего здоровья нации. Создатели китайской модели жизни поступили весьма мудро, поддерживая в общественном сознании определенное равновесие между цивилизованным укладом существования и сельской идиллией. Что как не здоровый инстинкт побудило их выбрать земледельческую цивилизацию, презирать технические изобретения, любить простую жизнь на лоне природы, создавать различные удобства жизни, при этом не становясь их рабами, и провозглашать из поколения в поколение в живописи и литературе «возвращение в деревню»? Быть близким к природе — значит обладать физическим и нравственным здоровьем. Не крестьяне деградируют, а лишь горожане. Ученые и люди из состоятельных семей, живущие в городе, постоянно слышат зов природы. Семейные письма и наставления известных ученых изобилуют такого рода темами и раскрывают важный аспект китайской цивилизации, который очень тонко, но глубоко объясняет ее долговечность. Из ценнейшей семейной переписки Чжэн Баньцяо[22], которую можно рассматривать как одно из величайших произведений в мире, я выбираю наугад его письмо к младшему брату:Дом, который ты купил, хорошо огорожен и действительно очень удобен, только, по-моему, двор слишком мал, так что небо, когда ты на него смотришь, недостаточно велико. Мне, человеку, не терпящему никаких ограничений, это не нравится. В ста шагах к северу от дома есть Попугаев мост, в тридцати шагах от него стоит Сливовый терем, вокруг которого много свободного пространства. В молодые годы я пил там вино и оттуда любовался поросшими ивами берегами, деревянным мостиком, ветхими лачугами, полевыми цветами на фоне старых городских стен. Я был совершенно очарован всем этим. Если бы ты мог достать пятьдесят тысяч, то мог бы купить для меня большой участок земли и построить там небольшой дом, где я провел бы остаток дней. Мне хотелось бы построить вокруг домика земляную стену, посадить много цветов, деревьев и бамбука. Я хочу, чтобы у меня была вымощенная галькой садовая дорожка, которая вела бы от калитки до дверей дома. В доме будут две комнаты: одна — гостиная, другая — кабинет, где бы я держал книги, картины, кисти, тушечницу, кувшин для вина и чайный сервиз и где бы я мог говорить о поэзии и литературе с моими хорошими друзьями и молодежью. У задней стены домика будут жилые помещения для членов семьи: три комнаты, две кухни и комната для прислуги. Всего будет восемь комнат — все с соломенными навесами, и я буду полностью удовлетворен. Еще до восхода солнца, взглянув на восток, я увижу красный отблеск на утренних облаках, а на закате мне будет видно, как солнце светит из-за крон деревьев. Если встать на самое высокое место во дворе, то можно увидеть мост, и облака, и воды вдали, а когда вечером собираются гости, то видны огни в соседских домах за стеной. И все это будет в тридцати шагах на юг от твоего дома, а от садика на востоке все это будет отделять маленькая речушка. Это было бы идеально. Кто-то может сказать: это действительно удобно, но как быть с ворами. Они не знают, что воры — люди бедные. Я бы открыл им дверь, пригласил войти и обсудить, чем бы я мог с ними поделиться. Они могли бы взять все что им нужно. И если им ничего не подойдет, то пусть они даже унесут старый ковер великого Ван Сяньчжи и заложат его за сотню. Пожалуйста, мой младший брат, помни об этом, поскольку твой глупый брат собирается счастливо провести свою старость. Интересно, смогу ли я осуществить то, чего так желаю.Подобная сентиментальность типична для китайской литературы. Если идеалы сельской жизни Чжэн Баньцяо основаны на его поэтическом чувстве братской любви к бедному крестьянину, что присуще даосскому духу, то идеалы сельской жизни Цзэн Гофаня — на стремлении сохранить семью, а это тесно связано с конфуцианской семейной системой. Поэтому идеалы сельской жизни укрепляют семью как отдельную ячейку, составную часть социальной системы. И деревня тоже становится отдельной ячейкой, составной частью политико-культурной системы. Любопытно, что Цзэн Гофань, способный военачальник и государственный деятель середины XIX в., в письмах детям и племянникам постоянно предостерегал их от любых проявлений расточительности, советовал им сажать овощи, разводить свиней, унавоживать свои поля. И все эти призывы к усердию и бережливости имели единственную цель — дальнейшее процветание семьи. Если неприхотливость, умеренность могут надолго сохранить единство семьи, то эти качества играют ту же роль и в отношении всей нации. Цзэн Гофань недвусмысленно выразил эту мысль: «В семьях сановников, где дети привыкли к расточительности, процветание возможно на протяжении лишь одного-двух поколений; в семьях торговцев, усердных и бережливых, оно растянется на три-четыре поколения; семьи же возделывающих землю и изучающих книги, живущие скромно и незаметно, процветать будут пять-шесть поколений. Пока в семье царят сыновняя почтительность и дружелюбие, процветание может длиться восемь-десять поколений». Теперь совершенно понятно, почему Цзэн Гофань считал, что «разведение рыб, разведение свиней, выращивание овощей и выращивание бамбука — это четыре вещи, которыми нельзя пренебрегать. С одной стороны, — писал он, — тем самым мы продолжаем традиции наших предков, с другой же — заглянув через забор, осознаешь разумность жизни, а войдя во двор, осознаешь причину нашего процветания. Даже если вам придется потратить немного больше денег и нанять нескольких помощников, то эти четыре вещи стоят того. По этим четырем вещам можно определить, процветает семья или приходит в упадок». Так или иначе, судя по семейным наставлениям, начиная от Янь Чжитуя (531—591), Фань Чжунъяня (989—1052) и Чжу Си (1130—1200) вплоть до Чэнь Хунму (1696—1771) и Цзэн Гофаня (1811—1872), прилежная, бережливая, живущая простой жизнью семья оставалась идеалом, общепризнанной основой здорового морального наследия нации. Семейная система настолько слилась с моделью сельской жизни, что их уже невозможно отделить друг от друга. У древних греков «простота» была словом высокого стиля, и у китайцев «простота» была словом высокого стиля. Вроде бы человек знает все выгоды цивилизации, но осознает и опасности, исходящие от нее. Эллины ценили радости жизни, но и сознавали их эфемерность, страшились зависти богов, поэтому и готовы были радоваться тому, что проще, но долговечнее. Китайцы считают, что наслаждаться слишком большим счастьем — это чжэ фу. Такой человек сокращает отпущенное ему для жизни количество счастья. Поэтому, как писал один ученый конца эпохи Мин, «человек должен быть столь же тщателен в выборе удовольствий, насколько он тщательно избегает всяческих бедствий». И его призыв: «Выбирай счастье попроще» каким-то образом нашел отзвук в китайской душе. Человеческое счастье столь шатко, что самой надежной его гарантией является возврат к простоте и природе. Так и должно быть, и китайцы инстинктивно это осознают. Они стремились к выживанию своих семей, и они добились этого для всей нации.
Молодая нация
По-видимому, китайский народ благодаря врожденному недоверию к цивилизации и приверженности простому образу жизни сумел избежать вредных влияний города. Это наводит на мысль, что так называемую китайскую цивилизацию нужно воспринимать не напрямую, не в наивысших ее достижениях, а именно как цивилизацию, предпочитающую традиционный, простой образ жизни и отнюдь не готовую расстаться с ним. Это, конечно, не та цивилизация, которая гарантирует народу мир без периодических кровопролитий и беспорядков, войн, голода и наводнений. То, что страна после 2000 лет относительно цивилизованной жизни все еще предоставляла жизненный материал для известного сюжета из «Шуй ху» («Речные заводи»), если изредка было еще возможно людоедство, в какой-то мере раскрывает нам тайну живучести социальных традиций, противостоящих всеразрушающей цивилизации. Сун Цзян, Ли Куй и другие громилы-разбойники с горы Ляншаньбо хоть и жили спустя 15 веков после Конфуция, но для нас они вовсе не представители одряхлевшей цивилизации, а веселые дети народа на самой заре культуры, когда о гарантиях безопасного существования никто и не помышлял. Итак, китайская нация, не достигнув вместе с Конфуцием полной зрелости, просто радовалась затянувшемуся детству. Это приводит нас к чрезвычайно интересному предположению о фактическом возрасте китайской нации. Являются ли присущие китайцам особенности этнической общности характерными чертами древней нации или китайцы во многих отношениях являются молодой, еще не созревшей нацией? Можно провести следующее разграничение: китайцы в культурном отношении являются древней нацией, а в национальном — молодой. Такой точки зрения придерживаются некоторые современные антропологи. Гриффит Тейлор[23] в соответствии со своей схемой миграционных зон относит китайцев к самому молодому пласту человеческой эволюции. Хэвлок Эллис (1859—1939; английский сексолог и мыслитель. — Примеч. ред.) тоже считает, что азиаты в национальном плане инфантильны: в какой-то степени они сохраняют приспособляемость, гибкость и первородное стремление во всем следовать первозданной простоте, т.е. своей детской природе, прежде чем достичь определенного развития. Возможно, затянувшееся детство — более подходящий термин, поскольку «инфантилизм» и «задержка развития», или «стагнация», и другие термины, вводят в заблуждение. Разговоры о застое в китайской культуре — это результат недоразумения, обусловленного тем, что многие пишущие о Китае наблюдают его издалека, со стороны, практически ничего не зная о его тщательно скрываемой от посторонних жизни. Стоит только напомнить о позднем развитии фарфорового производства, начало которого приходится не на времена Конфуция, как считают многие иностранцы, а на значительно более позднее время (примерно X в.). Производство фарфора затем развивалось медленно, шаг за шагом, а совершенства достигло лишь в годы правления Кан-си и Цянь-луна (1662—1795), т.е. чуть ли не у нас на глазах. Лаковое производство, книгопечатание, живопись тоже развивались довольно медленно, прогрессируя, однако, в эпохи правления каждой новой династии[24]. Знаменитый «китайский стиль» в живописи возник лишь в последнее тысячелетие существования китайцев как нации, т.е. сравнительно поздно для страны древней культуры. Напомним, что такие жанры китайской литературы, как эпическая проза и авантюрный роман, появились относительно поздно, например романы «Шуйху чжуань» («Речные заводи») и «Си ю цзи» («Путешествие на Запад»), которые были завершены позднее XIV в., т.е. почти через 2000 лет после Конфуция и Лао-цзы. Странно, что в древнем Китае не было эпических поэм, но, может быть, они были безвозвратно утеряны, не оставив следа в истории литературы. Драма стала популярной лишь во времена монгольской династии Юань. Несколько ранее под влиянием буддизма появились романы в духе «Путешествия на Запад». Роман как таковой весьма робко начал обретать форму лишь в IX в., стал зрелым литературным явлением только в эпоху Мин (1368—1644), а расцвет его пришелся на начало маньчжурского правления, когда появился знаменитый «Хун лоу мэн» («Сон в красном тереме») — современник и восточный аналог «Клариссы Харлоу» Ричардсона. Расцвети китайская культура веками ранее, а затем, спустя несколько веков после смерти Конфуция, исчезни, подобно тому как это произошло с гением древнегреческой культуры, — и Китай представил бы миру лишь несколько превосходных изречений и народных песен, но никак не выдающиеся произведения живописи и литературы или великие памятники архитектуры. Получается, что мы наблюдаем вовсе не задержку развития нации, которая — подобно Греции и Риму — в юные годы своего «золотого века» достигла наивысшего расцвета, а затянувшееся детство нации, которой для полного развития нужны тысячелетия. И тогда, быть может, она еще отважится на новые открытия в сфере духа.Глава 2 ХАРАКТЕР КИТАЙЦЕВ
Степенность и добродушие
«Характер» — типично английское слово. Не считая англичан, мало кто в своих представлениях об идеале образования и воспитания человека придает столь большое значение формированию характера, как китайцы. Представляется, китайцы столь этим озабочены, что вся их философия не имеет другой цели. Начисто лишенный спекулятивных интересов и не отягощенный какой-либо религиозной чепухой, этот идеал формирования характера был донесен — благодаря литературе, театру и пословицам — до самого последнего крестьянина, который получил от китайских книжников жизненную философию. Слово «характер» подразумевает силу, смелость, выдержку и позволяет демонстрировать мрачность только в моменты негодования или разочарования. Китайское же слово «характер» дает нам представление о зрелом — степенном и добродушном — человеке, который в любой ситуации остается невозмутимым и который полностью понимает не только самого себя, но и других. Для философии эпохи Сун была характерна глубокая вера в силу разума и его превосходство над чувствами, а также чрезмерная убежденность в том, что человек как существо разумное, понимающее и самого себя, и себе подобных, сумеет приспособиться к самым неблагоприятным обстоятельствам и выйти из них победителем. «Да сюэ» («Великое учение»), одно из важных произведений конфуцианского канона и первый учебник для школьников, определяет понятие «великое учение» как воспитание совершенной личности. Это понятие почти невозможно перевести на английский язык, под ним подразумевается способность к осмыслению, которая развивается приобретением все новых знаний. Здравое отношение к жизни и природе человека есть и всегда было сутью идеального характера китайцев. Отсюда происходят и другие особенности характера китайцев, такие как миролюбие, удовлетворенность жизнью, невозмутимость и необычайная живучесть. Согласно конфуцианству, сила характера — это также и сила интеллекта. Когда человек, оттачивая мысли, старается также быть и добродетельным, мы говорим, что он развивает свой характер. Фатализм конфуцианцев часто помогает достижению добродетели. В противоположность распространенному мнению фатализм — великий источник мира и удовлетворенности. Красивая и талантливая девушка может противиться неподходящему замужеству, но, если особые обстоятельства убедят ее в том, что ее союз с женихом предопределен свыше, она с радостью станет его женой. Что касается мужа, то он становится для нее «предначертанным судьбой противником», а китайская пословица гласит: «Те, кому судьбой предопределено стать противниками, непременно встретятся на узкой дорожке». Муж и жена могут любить друг друга и в то же время вступать в яростные споры, зная, что божества всегда присматривают за ними и эти ссоры посланы свыше. Попытаемся выделить наиболее характерные черты китайской нации: 1) здравомыслие, 2) простота, 3) любовь к природе, 4) терпеливость, 5) бесстрастие, 6) хитрость, лукавство, 7) плодовитость, 8) трудолюбие, 9) бережливость, 10) любовь к семейной жизни, 11) миролюбие, 12) удовлетворенность жизнью, 13) юмор, 14) консерватизм и 15) чувственность. В целом эти простые и великие качества могут украсить любую нацию[25]. Некоторые из них можно отнести скорее к недостаткам, чем к достоинствам, иные же нейтральны. Все эти особенности составляют и сильные и слабые стороны китайской нации. Чрезмерное здравомыслие может обрезать крылья фантазии человека, лишив нацию моментов божественного безумия; миролюбие — превратиться в трусость; излишняя терпеливость позволяет мириться со злом; консерватизм временами может стать синонимом медлительности и лени, а плодовитость для нации может быть как добродетелью, так и дурной привычкой индивида. Однако все эти качества можно свести к степенности и добродушию. Они говорят о цивилизации, отличающейся скорее силой и выносливостью, чем стремлением к прогрессу и завоеваниям. Такая цивилизация позволяет человеку в любой ситуации обрести мир и покой, а когда человек живет в мире с самим собой, ему чужд кипучий энтузиазм молодежи, жаждущей прогресса и реформ. Это — древняя цивилизация древней нации, которая постигла смысл жизни и не стремится к тому, что недостижимо. Такое превосходство китайской мысли привело к тому, что китайцы полностью освободились от надежд и желаний, выкинули из головы мысль, будто счастье — это неуловимая синяя птица. Китайцы отказались от погони за ней, следуя поговорке «Отступи на шаг и увидишь беспредельные просторы», т.е. обнаружишь, что птица счастья уже в твоих руках и ее только что чуть не задушили во время стремительной погони за ее воображаемой тенью. Один ученый эпохи Мин сказал: «Теряя пешку, выигрываешь партию». Так называемое добродушие — результат влияния определенной окружающей обстановки. В действительности все национальные черты — это органическое целое, взращенное на определенной социальной и политической почве. Так или иначе, добродушие выросло в китайском окружении, как, например, особый сорт груши вырастает на своей родной почве. Все китайцы, родившиеся в Америке и выросшие в ином окружении, лишены характерных для их нации черт. Своими грубыми носовыми звуками и напористой речью, в которой отсутствуют малейшие нюансы, они приводят в замешательство любое почтенное собрание. Им недостает того уникального добродушия, которое свойственно простым китайцам. Кроме того, молодежь китайских университетов значительно более зрелая, чем американские студенты того же возраста, да и китайцы-первокурсники американских университетов не проявляют интереса к футболу и автомобилям. У них уже другие, более серьезные, свойственные взрослым людям интересы[26]. Скорее всего, они уже женаты. Они должны думать о жене, семье, помнить о родителях, и, возможно, им нужно помогать племянникам, пока те учатся в школе. Чувство ответственности делает людей рассудительными, а национальная культурная традиция помогает им здраво смотреть на жизнь еще до того, как они становятся самостоятельными. Однако их зрелость порождена не чтением книг, а обществом, которое с усмешкой отвергает юношеский энтузиазм. Китайцы испытывают своего рода презрение и к юношеской восторженности, и к «новой метле», которая чисто выметет Вселенную. Смеясь над этой восторженностью и над молодежью, уверенной в том, что все на свете возможно, китайское общество учит ее сызмальства держать язык за зубами, когда говорят старшие. Усвоивший эту премудрость китайский юноша, вместо того чтобы необдуманно поддерживать любой предлагаемый проект или какую-нибудь социалистическую авантюру, станет уклончиво отзываться и о том, и о другой, отделываясь общими фразами, отмечая потенциальные трудности. Тем самым он получает пропуск в общество взрослых. Молодой китаец, возвратившийся из Европы или Америки, начинает производить зубную пасту, называя это «спасением страны с помощью индустриализации», или, переведя несколько американских верлибров, называет это «знакомством с западной культурой». Поскольку у него обычно большая семья, которую нужно содержать, да еще иногда приходится помогать племянникам встать на ноги, он не может довольствоваться участью школьного учителя (если он работает в сфере образования). Он должен думать о том, как подняться выше, может быть, стать деканом и уважаемым членом семьи. Пытаясь сделать блестящую карьеру, он приобретает ценный опыт, дающий знание жизни и человеческой натуры. Если же не получишь такой опыт, то и в 30 лет останешься невинным младенцем с чистым взглядом и горячей головой, по-прежнему жаждущим прогресса и реформ. Такой человек — или вдохновенный идиот, или сбитый с толку гений.Терпение
Рассмотрим три наихудших и в то же время самых поразительных качества китайца: терпение, равнодушие и лукавство; проследим, как они возникли. Я считаю, что все они — результат влияния культуры и социального окружения и не обязательно являются непременными составляющими национальной психологии. Эти качества возникли и существуют, так как мы в течение нескольких тысячелетий жили под воздействием определенной культурной и социальной среды. Естественно предположить, что если это влияние устранить, то названные качества ослабнут и даже исчезнут. Такая черта, как терпение, есть результат приспособления нации к определенным условиям — чрезмерной плотности населения и экономического давления, которые оставляют людям слишком узкое жизненное пространство. Ведущую же роль в формировании этих качеств сыграла наша семейная система, которая представляет собой китайское общество в миниатюре. Люди склонны к равнодушию, показному бесстрастию в основном потому, что личная свобода не ограждена законами и конституционными гарантиями. Лукавство есть влияние даосской жизненной философии. Конечно, каждое из этих качеств — продукт своей среды, и лишь для разъяснения сказанного выше здесь говорится и о следствии, т.е. качестве характера, и о причине его возникновения. Терпение — прекрасное качество. Все, кто знает китайцев, не станут это отрицать. Оно так безгранично, что почти превратилось в дурную привычку. Столько, сколько китайцы претерпели от тирании, анархии и беспорядков, западный человек никогда бы не выдержал. Китайцы считают все эти беды чуть ли не законами природы. В некоторых районах провинции Сычуань с людей собрали налог за 30 лет вперед, а их «решительный» протест вылился лишь в несколько проклятий, высказанных вполголоса, да и то у себя дома. Христианское терпение может показаться простой раздражительностью, если сравнивать его с китайским терпением, которое столь же уникально, как китайский фарфор с синей росписью. Иностранные туристы могли бы вместе с этими изделиями привезти домой хоть немного этого самого китайского терпения, поскольку подлинная индивидуальность не может быть скопирована. Мы готовы мириться с тиранией и вымогательствами подобно маленькой рыбке, плывущей в пасть большой рыбе. Возможно, если бы наша способность к терпению была слабее, то и страданий было бы меньше. Такая способность терпеливо сносить оскорбления получила благородное имя «терпение», и конфуцианцы культивировали его как главную добродетель китайцев. Я вовсе не хочу сказать, что терпение не является важным качеством китайцев. Иисус говорил: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». У меня в этом нет уверенности, но думаю, что китайское терпение позволит нам унаследовать половину Азиатского континента и удержать его. Китайцы, так же как и Иисус, сознательно проповедовали терпение как высшую нравственную добродетель. У нас говорят: «Человек, который не может вытерпеть малые невзгоды, не способен на великие дела». Школой, воспитывающей и развивающей эту добродетель, является, однако, большая семья, в которой множество невесток, зятьев, отцов и сыновей ежедневно терпеливо учатся этой добродетели, стараясь уступать друг другу. В большой семье, где закрытая дверь комнаты — уже проступок и где человек как индивид имеет очень узкое жизненное пространство, каждый с раннего детства учится — в соответствии с необходимостью и родительскими наставлениями — терпимости и готовности к компромиссам в отношениях с окружающими его членами семьи. Это ежедневное — глубокое и надоедливое — воздействие на характер вряд ли можно переоценить. Был такой министр Чжан Гунъи, которому очень завидовали, так как он обрел блаженство еще в земной жизни: все девять поколений его семьи жили с ним под одной крышей. Танский император Гао-цзун спросил его, в чем секрет такой удачи; и министр, попросив кисть и бумагу, сто раз написал иероглиф «терпение». Китайцы не считают этот поступок Чжан Гунъи досадным комментарием к свойствам семейной системы. Наоборот, терпение порой даже вызывает у них зависть, как это видно на примере Чжан Гунъи. Словосочетание «сто терпений» вошло в пословицы о морали, которые в канун Нового года пишут на красной бумаге и наклеивают по обе стороны ворот: «Доброе согласие приносит удачу», «Терпение — лучшее наследие семьи» и т.д. Пока семейная система существует, пока все общество исходит из того, что человек лишен индивидуальности, что он достигает совершенства, только находясь в гармонии с социальной средой, легко понимаешь, почему терпение должно рассматриваться как высшая добродетель и почему оно могло родиться только в таком социальном организме, как наш. Потому что в таком обществе, как наше, терпение существует с полным на то основанием.Бесстрастие
Если китайцы уникально терпеливы, то они еще более знамениты своим бесстрастием. Я считаю это тоже продуктом социального окружения. Полярно различаются материнское напутствие сыну из английского романа Т. Хьюза «Школьные годы Тома Брауна» («Tom Brown’s school-days») и традиционное наставление китайской матери. В первом случае мать перед расставанием с Томом учит его «держать голову высоко и отвечать прямо». Китайская мать, прощаясь с сыном, велит ему «не вмешиваться в чужие дела». Это оттого, что в обществе, в котором права человека не защищены законом, равнодушие и бесстрастие всегда спасительны и имеют привлекательную сторону. Это трудно понять западным людям. Думаю, что бесстрастие — это не врожденное качество, а продукт нашей культуры, обдуманно вырабатывавшийся в особых условиях нашими древними мудрецами. И. Тэн[27] как-то сказал, что добродетель и порок подобны сахару и серной кислоте. Если рассматривать этот вопрос не так буквально, то в известной степени можно согласиться со следующим положением: любая добродетель получит широкую поддержку в обществе и, скорее всего, даже станет частью жизни большинства, как только обнаружится ее польза. Относиться ко всему бесстрастно стало привычкой подобно привычке англичан выходить из дому, взявзонтик, потому что политический климат для тех, кто пытается в одиночку заняться рискованным делом, всегда представляет собой некую угрозу. Иными словами, бесстрастие в Китае определенно можно рассматривать как «цену выживания». Китайская молодежь, как и иностранная, обладает общественным сознанием. Горячая молодежь Китая, как и молодежь других стран, проявляет огромное желание «вмешиваться в чужие дела». Однако в возрасте 25-30 лет она становится благоразумной («послушной», как мы говорим) и равнодушно-бесстрастной, что способствует развитию у нее добродушия и других «продуктов» китайской культуры. Кто-то из молодежи приобретает эти качества благодаря природному уму, иные — потому что пару раз обожглись. Все люди преклонного возраста очень осторожны, ибо все старые лукавцы поняли пользу равнодушия и показного бесстрастия в обществе, где права человека не защищены и где вполне достаточно один раз обжечься. Наше мнение, что бесстрастие — это «цена выживания», основано на следующем факте: при отсутствии защиты прав человека со стороны закона в высшей степени опасно для него проявлять излишний интерес к общественным делам, или «не своим делам», как мы их называем. После того как Шао Пяопин и Линь Бошуй, два самых наших бесстрашных журналиста, в 1926 г. без суда были расстреляны маньчжурскими милитаристами в Бэйпине, другие журналисты, естественно, очень быстро поняли пользу бесстрастия и «поумнели». Самые успешные журналисты в Китае — те, у кого нет собственного мнения. Подобно всем китайским образованным господам и западным дипломатам, они вполне удовлетворены тем, что фактически обязались не иметь собственного взгляда на жизнь вообще и на насущные вопросы современности в частности[28]. Что они еще могут сделать? Можно обладать общественным сознанием, когда существуют гарантии личных прав, т.е. когда достаточно лишь не нарушать уголовный кодекс. Но если такой гарантии нет, инстинкт самосохранения диктует: бесстрастие — лучшая конституционная гарантия личной свободы. Иными словами, бесстрастие вовсе не признак высокой нравственности, добродетели, а общественная позиция, необходимая при отсутствии защиты со стороны закона. Это есть форма самозащиты, и мы используем ее точно так же, как черепаха использует и увеличивает панцирь. Знаменитый китайский бесстрастный, безразличный и в то же время пристальный взгляд — это всего лишь взгляд во имя самосохранения, за которым стоит опыт древней культуры и самодисциплина. Это можно подтвердить таким фактом: китайские разбойники и бандиты, которые никак не зависят от закона и соответственно не развивают в себе такое качество, как бесстрастие, являются, на наш взгляд, самой воинственной, проникнутой рыцарским духом и общественным сознанием категорией людей в Китае. Рыцарский дух в Китае именуется хао ся и всегда ассоциируется с разбойниками из романа «Речные заводи». При чтении таких романов люди получают удовольствие, испытывая те же чувства, что и герои описываемых приключений. Вот почему эти романы популярны у тех, кто веками приучал себя к равнодушию и бесстрастию. Точно так же объясняется популярность книг английской писательницы Элинор Грин у американских старых дев. Сильные обладают общественным сознанием, поскольку могут себе его позволить, кроткие же и послушные, а их большинство, отличаются бесстрастием, поскольку должны себя защищать. В историческом плане это можно убедительно доказать на примере династий Вэй и Цзинь. В те времена ученые вызывали восхищение своим равнодушием к государственным делам, что довольно скоро привело к ослаблению государственной мощи и захвату Северного Китая варварами. Ученые, жившие в эпохи Вэй и Цзинь, предавались модным тогда занятиям: пили вино, вели пустые разговоры (цин тань), мечтали о даосском мире иллюзий и о пилюлях бессмертия. В политическом отношении эта эпоха, на наш взгляд, — самый мрачный период развития китайской нации со времен династий Чжоу и Хань, он довел до логического конца процесс ее постепенного вырождения. Впервые в истории весь Китай оказался под властью варваров. Развился ли этот культ бесстрастия естественным образом? Если нет, то как он возник? История разъясняет нам это весьма недвусмысленно. В конце эпохи Хань китайские ученые вовсе не были равнодушны и бесстрастны. Их политическая активность тогда достигла апогея. Ученые и студенты числом более 30 тыс. человек часто вмешивались в вопросы текущей политики и, рискуя разгневать евнухов и императора, бесстрашно протестовали против политики властей и поведения членов императорского дома. Однако из-за отсутствия защиты со стороны законов и конституции это движение было подавлено чиновниками. Две-три сотни ученых, порой вместе с семьями, были казнены, сосланы или брошены в тюрьмы. Эти события произошли в 166—169 гг. и известны в истории как дан гу (запрещение частных сообществ и тюремное заключение их членов). Расправа была столь радикальной и масштабной, что все движение было пресечено, хотя его отголоски звучали еще более ста лет. Затем наступила реакция — зародился культ бесстрастия и повальное увлечение вином, женщинами, поэзией и даосским оккультизмом. Некоторые ученые до конца своих дней укрывались в горах, где построили глинобитные хижины без дверей, с отверстиями для передачи пищи. Иные ученые принимали облик дровосеков и просили друзей и родственников не приходить к ним, чтобы никто не выследил этих ученых. Затем появляются семь поэтов — «Плеяда [поэтов] бамбуковой рощи»[29]. У Лю Лина, великого поэта, запои продолжались месяцами. Путешествуя в своей повозке, он обычно брал с собой кувшин с вином, лопату и слугу, которому всякий раз перед поездкой наказывал: «Умру — закопаешь меня в любом месте в любое время». Люди восхищались им, называли его мудрецом. Все ученые того времени постоянно впадали в крайности, то удаляясь в деревню, то предаваясь разврату, то занимаясь всякой ерундой. Другой великий поэт, Жуань Сянь, имел недозволенную связь со своей служанкой. Как только во время пирушки он узнал, что жена прогнала эту служанку, он, не мешкая, взял у друга лошадь, ускакал за девушкой и привез ее назад. И все это он проделал в присутствии гостей. Вот такими были люди, умом которых все восхищались. Люди восхищались ими, как маленькая черепашка восхищается толстым панцирем большой черепахи. Здесь, кажется, мы затронули роковую болезнь политической системы и поняли причину бесстрастия, которая заключается в общеизвестном выражении: «У китайцев нет способностей к самоорганизации». Лечение этой болезни, видимо, очень простое — дать гражданским правам человека конституционные гарантии. Однако и ныне никто не смотрит так далеко. Никто их не жаждет. Никто всерьез в этих гарантиях не нуждается.Хитрость, лукавство
Возможно, самым поразительным качеством китайца является — за неимением другого подходящего слова — хитрость, лукавство, умение быть себе на уме. Это качество европейцам понять труднее всего, тем не менее оно глубоко по своему содержанию, так как прямо указывает на жизненную философию, которая отличается от европейской. В сравнении с этой жизненной философией модель западной цивилизации в целом представляется крайне незрелой. Когда молодой человек сентябрьским утром попытается оттащить дедушку от камина, чтобы искупаться с ним в море, и ему это не удастся, то он, возможно, будет удивлен и раздражен; старик же лишь улыбнется. Улыбнется хитроватой улыбкой, и трудно сказать, кто из них прав. Суетливость и неугомонность молодого человека — куда все это ведет? И весь этот энтузиазм, и самоутверждение, и борьба, и война, и пламенный национализм — чем все это кончится? Ради чего все это? Возможно, напрасно искать ответы на эти вопросы, да и трудно заставить другую сторону принять вашу точку зрения. Это вопрос возраста. Старый лукавец — это человек, который много всякого повидал в жизни, он практичен, беспечен и скептически относится к прогрессу. Лучшее, что есть в нем, — это добродушие и покладистый нрав. Нередко такой характер настолько привлекает девушек, что они готовы выйти замуж за старика. Потому что если в жизни и есть что-то стоящее, так это то, что дает уроки доброты. Китайцы пришли к такому мнению не потому, что у них есть некая религиозная заповедь, а потому, что глубоко познали жизнь во всех ее проявлениях. Диалог известных монахов и поэтов эпохи Тан отражает эту чрезвычайно глубокую философию:Однажды Ханьшань спросил Шидэ: «Если кто-то порочит меня, оскорбляет меня, насмехается надо мной, презирает меня, ранит меня, ненавидит меня и обманывает меня — что я должен делать?» Шидэ ответил: «Только мириться, соглашаться, уступать, избегать, терпеть, уважать этого человека и не обращать на него внимания. А через несколько лет достаточно будет просто бросить на него взгляд».В китайской литературе, поэзии и пословицах очень часто отражается эта даосская философия. Такие выражения, как: «Теряя пешку, выигрываешь партию», «Из 36 стратагем[30] лучшая — это бегство», «Настоящий герой никогда не будет рисковать», «Отступи на шаг в своих мыслях», свидетельствуют о восприятии жизненных проблем, свойственном китайскому складу ума. Жизнь предоставляет много возможностей пересматривать те или иные решения благодаря «36 стратагемам», помогающим сглаживать острые углы, в результате чего человек обретает то подлинное добродушие и степенность, которые олицетворяют китайскую культуру. Хуже всего то, что лукавство, высочайшее достижение китайского интеллекта, отвергает приверженность идеалам и любую деятельность. Оно отбило у людей желание что-либо реформировать, оно высмеивает любые человеческие усилия, считая их бесполезным занятием; поддавшись ему, китайцы утратили способность мечтать, желать, действовать. Лукавство удивительным образом сводит человеческую деятельность до уровня работы пищеварительного тракта и других, еще более элементарных потребностей человека. Великим лукавцем был Мэн-цзы, провозгласивший главными потребностями человека пищу и женщин, т.е. утоление голода и размножение. Покойный президент Ли Юаньхун тоже был незаурядным лукавцем, когда произнес крылатое выражение, которое так понравилось китайским политикам и философам, что стало прекрасным рецептом решения споров между всеми китайскими партиями и группировками: «Если есть рис, то пусть его разделят на всех». Президент Ли и не знал, что он сугубый реалист. Он исходил из экономической точки зрения, говоря о современной истории Китая. Он так и не сумел оценить собственный интеллект. Рассмотрение истории Китая с точки зрения экономики, равно как и биологическое толкование законов развития общества, принадлежащее школе Эмиля Золя, — дело не новое и хорошо известно китайцам. Однако толкование Золя — это причуда интеллектуала, а наша позиция в известной мере отражает национальное самосознание. В Китае человеку не нужно учиться, как стать реалистом, потому что он с рождения таков. Ли Юаньхун не был семи пядей во лбу, но как китаец он инстинктивно ощущал, что все политические вопросы — это всего лишь проблема чашки риса. Будучи китайцем, он дал, насколько я понимаю, глубочайшее толкование китайской политики. Такое холодное и прагматичное отношение ко всему основано на весьма трезвом взгляде на жизнь, что характерно только для старых людей и древних наций. Те же, кому еще нет тридцати, равно как и молодые нации Запада, не разделяют подобных взглядов. Возможно, это не простая случайность, что у автора даосской библии «Дао дэ цзин» («Канон Пути и благодати») было имя Лао-цзы, что означает «Старый Ребенок»[31]. Кто-то сказал, что человек после сорока становится хитрецом, плутом. Как бы там ни было, несомненно, что с годами мы теряем стыд. 20-летняя девушка редко выходит замуж по расчету; женщина же 40 лет редко выходит замуж по какой-либо иной причине и объясняет свой шаг словами «надежность», «уверенность», «гарантия». Есть один греческий миф со скрытым смыслом. Икар летел слишком высоко, и жар Солнца растопил воск на его крыльях, и он упал в море, а его старый отец Дедал летел ниже и благополучно вернулся домой. С возрастом у человека развивается склонность к низким полетам. Идеализм сдерживается холодным, уравновешенным, здравым смыслом, как, впрочем, и отношением к деньгам. Таким образом, реалистическое отношение к жизни свойственно старости, а идеалистическое — молодости. Когда человек, которому за сорок, не становится лукавцем, он или слабоумный, или гений. К гениям — этим «большим детям» — относятся Лев Толстой, Роберт Льюис Стивенсон и сэр Джеймс Барри[32], чья природная ребячливость, сочетающаяся с реальным опытом, способствовала их вечной молодости, которую мы называем бессмертием. Все это, однако, есть чистейший даосизм в теории и на практике, поскольку нет более полного описания жизненной философии, столь глубоко пронизанной духом плутовства, чем «Дао дэ цзин» Лао-цзы. Даосизм как в теории, так и на практике предполагает некую хитрость, напускные бесстрастие и безразличие, проклятый и опустошающий скептицизм, насмешку над тщетой усилий всякого, кто пытается вмешаться во что-либо, насмешку над всеми общественными институтами (в том числе над браком) и системой управления, а также неверие в любые идеалы, и не столько из-за недостатка энергии, сколько из-за недостатка веры. Эта философия противоположна позитивизму Конфуция, она призвана сыграть роль предохранительного клапана от последствий несовершенства конфуцианского общества. Конфуцианцы относятся к жизни позитивно, а даосы — негативно (раз уж мы коснулись вопроса о негативном отношении к жизни, то попутно заметим, что буддизм — это просто даосизм, слегка подкрашенный остроумием), и сплав этих двух элементов породил бессмертное явление — китайский национальный характер. Вообще, все успешные китайцы являются конфуцианцами, а неудачники — даосами. Конфуцианство в нас созидает и борется, а даосизм наблюдает и усмехается. Китайский ученый в присутственном месте разглагольствует о морали, а дома пишет стихи, и обычно это хорошая даосская поэзия. Теперь понятно, почему почти все китайские ученые пишут стихи и почему почти во всех собраниях сочинений китайских писателей поэзия занимает лучшую и большую часть. Даосская идеология, подобно морфию, удивительным образом притупляет чувства и, стало быть, успокаивает нервы, улучшает самочувствие при головных болях и сердечных болезнях у китайцев. Романтизм даосов, их поэзия и поклонение природе помогают китайцам во времена волнений и беспорядков переносить горе и печаль, так же как философия конфуцианства приносит пользу во времена мира и покоя. Так, когда страдает тело, даосская философия льет бальзам на душу китайца и предлагает безопасный путь к отступлению. Одна даосская поэзия может сделать строгую жизненную модель конфуцианства вполне сносной. Ее романтизм не дал китайской литературе превратиться в сборник од и гимнов, воспевающих императора. Вся хорошая китайская литература, вся китайская литература, стоящая затраченного на нее времени, все интересные, дающие пищу уму и успокаивающие сердце произведения китайской литературы, в сущности, пропитаны духом даосизма. Даосизм и конфуцианство — это отрицательный и положительный полюсы, инь и ян, китайской мысли, и это делает возможной достойную человека жизнь в Китае. Китайцы по натуре даосы, а по воспитанию — конфуцианцы, притом больше даосы, чем конфуцианцы. Как народ мы достаточно велики, чтобы на основании принципов справедливости создать государственный свод законов, но мы также достаточно велики, чтобы не доверять судейским и судам. 95% конфликтов, требующих судебного разбирательства, улаживаются за пределами суда. Мы достаточно велики, чтобы детально разработать свод церемоний, но мы также достаточно велики, чтобы считать одним из величайших парадоксов тот факт, что погребальные церемонии предписывают во время похорон устраивать пышные и веселые празднества; достаточно велики, чтобы осуждать порок, но мы также достаточно велики, чтобы оставаться безучастными к пороку и не удивляться ему. Мы достаточно велики, чтобы всколыхнуть одну революционную волну за другой, но мы также достаточно велики, чтобы пойти на компромисс и вернуться к прежнему режиму. Мы достаточно велики, чтобы создать совершенную систему импичмента должностному лицу, систему государственной гражданской службы, свод предписаний для работы транспортной системы и правила для библиотек-читален, но мы также достаточно велики, чтобы разрушить все системы, не считаться с ними, обходить различные правила и предписания, нарушать их, наконец, быть выше всех этих систем и правил. Мы не читаем нашим студентам курс государственного права, из которого можно узнать, как правительство должно работать, но мы учим их на повседневных примерах, каковы реальные действия центрального правительства, а также муниципальных и провинциальных правительств. Непрактичный идеализм нам не нужен, потому что у нас не хватило бы терпения для доктринерской теологии. Мы не учим нашу молодежь, как стать сынами Божиими, но мы учим их вести себя как нормальные, трезвомыслящие человеческие существа. Вот почему я верю, что китайцы по своей сути гуманисты, и христианство здесь или должно потерпеть неудачу, или же должно измениться до неузнаваемости, чтобы его приняли в Китае. Единственная часть христианского учения, которую китайцы в состоянии воспринять, это заповедь Христа [апостолам, проповедовавшим Его учение]: «Будьте мудры, как змии, и кротки, как голуби». Именно эти две добродетели — голубиная кротость и змеиная мудрость — свойственны лукавцам. Одним словом, мы понимаем необходимость человеческих усилий, но также допускаем их тщетность. Такой склад ума приводит к развитию пассивной защитной тактики. «Великие дела могут быть сведены к малым, а малые — превратиться в ничто». В соответствии с общим принципом этой пословицы все спорные вопросы у китайцев улаживаются, все их планы подгоняются, все программы реформ сводятся на нет — и так до тех пор, пока будет мир и чашка риса для каждого. «Лучше один раз объявить „пас“, чем один раз сыграть» — гласит другая наша пословица, по смыслу близкая к английским «Let well enough alone» и «Let sleeping dogs lie»[33]. Вот так и живут китайцы — по линии наименьшего сопротивления и наименьшей борьбы. Это способствует душевному спокойствию, невозмутимости, что позволяет им проглатывать обиды и пребывать в гармонии с миром. Это также позволяет разработать некую оборонительную тактику, которая может внушать больший страх, чем тактика нападения. Вы пришли в ресторан, испытываете сильный голод, а блюда не несут. Тогда вы можете повторить заказ официанту. Если он грубит, вы можете пожаловаться в дирекцию и как-то уладить недоразумение. Но если он, изысканнейшим образом изогнув стан, самым вежливым образом ответит: «Бегу, бегу!», но и с места не сдвинется, вам останется только вознести молитву или столь же изысканно выругаться. Вот пример пассивной силы китайцев. Эту силу наиболее высоко ценят те, кто испытал ее на собственном опыте. Это есть сила старых лукавцев.
Миролюбие
До сих пор мы обсуждали три наихудших качества китайцев, которые парализовали их способности самоорганизации. Происхождение этих качеств — в общем отношении китайцев к жизни, которое отличается как проницательностью и зрелым добродушием, так и неким снисходительным безразличием. Очевидно, что подобный взгляд на жизнь не лишен достоинств, и это достоинства старых людей, у которых нет ни честолюбия, ни желания взойти на вершину мира. Однако они многое повидали в жизни, готовы принять от нее все, что заслужили, и в то же время преисполнены уверенности в том, что проживут уготованную им судьбой жизнь пристойно и счастливо. Китайцы — народ искушенный. В отличие от христиан, якобы живущих ради смерти, они не намерены создавать на этой земле некую утопию, как это делают множество западных провидцев. Они знают, что земная жизнь полна боли и печали, и хотят лишь привести ее в такой порядок, чтобы можно было мирно работать, самоотверженно терпеть и жить счастливо. Китайцам недостает таких замечательных качеств западных людей, как великодушие, честолюбие, усердие в деле реформ, развитое общественное сознание, готовность к риску и героизм. Они не проявляют интерес к восхождению на Монблан или к исследованию Северного полюса. В этом мире их крайне интересует самая что ни на есть банальная жизнь. У них есть упорство, безграничное терпение, неутомимое трудолюбие, чувство долга, уравновешенный склад ума, здравый смысл, жизнерадостность, юмор, терпимость, миролюбие, а также бесподобное умение чувствовать себя счастливыми даже в самых тяжелых условиях. Короче, благодаря всем этим качествам они получают удовольствие от обыденной жизни. Самые главные из этих качеств — миролюбие и терпимость, которых так недостает современной Европе. Действительно, при внимательном просмотре спектакля под названием «Жизнь современной Европы» иногда возникает ощущение, что ей в большей мере недостает благожелательной мудрости, чем способных людей или интеллектуального блеска. Порой кажется, что Европа едва ли избавится от опрометчивости, свойственной молодости, и от горделивого сознания своего интеллектуального превосходства. Однако еще одно столетие научного прогресса создаст настолько тесные взаимосвязи во всем мире, что европейцы, под угрозой тотального уничтожения, научатся большей терпимости по. отношению к жизни и людям. Возможно, они научатся быть немного менее блестящими и немного более зрелыми. Я все-таки верю, что такие изменения во взглядах европейцев произойдут, и к ним приведут не какие-то блестящие теории, а инстинкт самосохранения. И вероятно, Запад научится быть менее самоуверенным и более терпимым, а это настоятельно необходимо, когда все в мире окажется прочно взаимосвязанным. Европейцы будут несколько менее стремиться к прогрессу и будут чуть больше стараться понять, что такое жизнь. И тогда станет еще больше людей, которые услышат голос Старого Ребенка с заставы Ханьгугуань. Китайцы считают, что миролюбие обусловлено вовсе не неким «благородством», а обычным здравым смыслом, ведь оно просто полезно. Если эта земная жизнь — единственная, которая нам дана, то нужно постараться жить в мире, раз мы хотим жить счастливо. С этой точки зрения самонадеянность и неугомонность духа Запада — это признаки незрелости, свойственной молодости. Китайцы, проникнутые восточной философией, скорее всего, понимают, что Европа постепенно избавится от незрелости и достигнет совершеннолетия. Может показаться странным, что в философии даосизма, весьма тонко инструментированной, всегда присутствует слово «терпимость». Думаю, терпимость есть величайшее достижение китайской культуры и оно станет величайшим достижением современной мировой культуры, когда эта культура достигнет зрелости. Чтобы научиться терпимости, необходимо в нужно лишь немного чувства сострадания и цинизма даосского толка. Истинные циники, как правило, люди душевные, осознав пустоту, бренность жизни, они выработали своего рода чувство вселенского сострадания. Миролюбие также обусловлено разумом, житейской мудростью. Если бы человек мог научиться быть чуть циничнее, он был бы менее склонен к войне. Вот почему, возможно, все разумные люди трусливы. Китайцы — худшие вояки в мире, потому что они разумная нация, воспитанная даосским цинизмом и конфуцианским стремлением к гармонии как жизненному идеалу. Они не пойдут сражаться, поскольку они самый расчетливый и эгоистичный народ. Самый обычный китайский ребенок знает то, чего не знает убеленный сединами европейский политик: на войне погибает или получает увечья как отдельный человек, так и целая нация. Враждующие между собой китайские партии очень легко привести в чувство. Простой расчет побуждает их не спешить с ссорами, постараться быстрее уладить конфликты. Политическая философия старых лукавцев учит китайцев терпению и пассивному сопротивлению во времена смут, предостерегает их от заносчивости и самоуверенности в моменты успеха. Что касается умеренности, воздержанности, то китайцы советуют: «Когда придет удача, не растрачивай ее всю; когда добьешься выгоды, не используй ее всю в своих интересах». Чрезмерная самоуверенность и постоянное стремление пользоваться всеми преимуществами собственного положения (то, что называется «показывать зубы») на самом деле является признаком вульгарности и предвестником краха. В то время как у англичан правило «не бить упавшего» основано на принципе честной игры, у китайцев сходное выражение «не прижимай человека к стенке» всецело относится к культуре взаимоотношений, которую мы называем ханьян («выдержка, умение владеть собой»). Для китайцев Версальский договор не только несправедлив — он вульгарен, в нем недостает качества ханьян. Если бы у французов в момент их победы было бы хоть что-нибудь от даосского духа, они не стали бы навязывать этот договор и спали бы спокойно. Но Франция еще очень молода, да и от Германии вполне можно ждать чего-то подобного. Трудно понять причины крайней глупости этих двух наций, которые постоянно пытаются подмять под себя друг друга. Но ведь Клемансо не читал Лао-цзы. Не читал его и Гитлер. Так что пусть воюют, а даосы будут в сторонке наблюдать и усмехаться. Миролюбие китайцев объясняется не только их житейской мудростью, но в той же степени и их характером, нравом. Китайские мальчишки дерутся на улице намного реже, чем западные. И хотя у нас идет нескончаемая гражданская война, мы воюем намного меньше, чем должны бы были. Если бы у американского народа оказалось такое же плохое правительство, как у нас, то у них за прошедшие 20 лет произошло бы не три революции, а все тридцать. В Ирландии теперь мир, потому что ирландцы здорово воевали, а мы и сегодня все еще продолжаем воевать, так как воюем недостаточно энергично и упорно. Гражданская война в Китае — это вовсе не война в прямом смысле слова. До сих пор гражданские войны никогда не прославлялись. Призывов на военную службу у нас нет, а солдаты, участвующие в военных действиях, — это бедняки, у которых нет иного способа прокормиться. Их вовсе не прельщает настоящий бой, это генералов интересуют сражения, поскольку они в них не участвуют. В любой значительной военной кампании всегда побеждает серебряный юань, хотя герои-победители триумфально возвращаются в столицу под грохот салютующих орудий. Этот грохот похож на шум битвы, и это не случайно, поскольку и в ссорах простых людей, и во время гражданской войны шум и грохот составляют суть происходящего. В Китае войны не видят — ее только слышат. Я слышал о двух такого рода сражениях: одно произошло в Пекине, другое — в Сямэне. На слух всех все удовлетворяло. Обычно численно превосходящая армия добивается поражения более слабого противника лишь одним своим видом. И то, что в западной стране было бы длительной войной, здесь завершается за месяц. Побежденному генералу в соответствии с китайским принципом честной игры выдадут 100 тыс. долл, на путешествие и отправят «в поездку по Европе для исследований а области промышленности», хорошо понимая, что в следующей войне его услуги могут понадобиться нынешним победителям. Вполне вероятно, что с изменением ситуации мы увидим, как победитель и побежденный едут в одном автомобиле словно названые братья. В этом и есть достоинство ханьян. Народ ко всему этому не имеет никакого отношения. Он ненавидит войну и всегда будет ее ненавидеть. В Китае хорошие люди никогда не воюют: «из хорошего железа не делают гвозди, хороший человек не пойдет в солдаты», гласит пословица.Удовлетворенность жизнью
Путешествующих по Китаю, особенно тех, кто побывал в редко посещаемой глубинке, одинаково поражает как низкий жизненный уровень трудового народа, так и радостное восприятие этими людьми своей жизни и полная удовлетворенность ею, несмотря на плохие условия. Даже в голодающих провинциях, например в Шэньси, эта всеобщая удовлетворенность очевидна. Исключения крайне редки. Крестьяне провинции Шэньси, возможно, и ныне способны улыбаться. Существующее ныне представление о так называемых страданиях китайцев — в немалой степени результат извращенных европейских стандартов. Согласно им, если дома не отапливаются и в них нет радиоприемника, человек не может быть счастливым. Если эти стандарты верны, то до 1850 г. нигде в мире не было счастливой жизни, а счастливых людей в Америке должно было быть больше, чем в уютной Баварии, где очень мало специально регулируемых вращающихся и складывающихся парикмахерских кресел и того меньше кнопок и выключателей. В китайской деревне выключателей и кнопок еще меньше, хотя в передовом Шанхае старомодные парикмахерские кресла — настоящие кресла, которые все еще можно увидеть на Кингзуэй в Лондоне или на Монмартре в Париже, — исчезли полностью. Что до меня, то я склоняюсь к мысли, что человека, который сидит на настоящем стуле и спит на настоящей кровати (а не на диване), можно назвать счастливым. Следует считать ложными стандарты, согласно которым степень цивилизованности определяется числом автоматических кнопок, которые человек нажимает в течение суток. И если такое качество китайцев, как удовлетворенность своей жизнью, представляется чем-то загадочным, то это результат извращенных западных стандартов. И действительно, если китаец и человек с Запада живут в одинаковых условиях и принадлежат к одной и той же прослойке общества, первый будет больше доволен своей жизнью, чем второй. Этот дух радости бытия, удовлетворенности жизнью свойствен как образованным, так и неграмотным китайцам — настолько сильно влияние национальной традиции. Вот, например, веселый и болтливый пекинский рикша. Всю дорогу он балагурит, шутит и готов посмеяться над незадачливым собратом по ремеслу. То же можно сказать и о задыхающихся, потных кули, которые поднимают вас на вершину горы Кулин в особых паланкинах. И о бурлаках, которые волокут вашу лодку через сычуаньские речные пороги. Их скудный заработок позволяет им дважды в день обильно поесть, правда, еда их самая простая. Однако, согласно китайской теории об удовлетворенности человека жизнью, возможность без особых забот дважды в день поесть вволю — это большое счастье, а один китайский ученый сказал: «Наполненный, сытый желудок — великое дело, что сверх этого — роскошь». «Удовлетворенность» подобна таким словам, как «доброта» и «миролюбие», которые пишут на красной бумаге и на Новый год вывешивают на воротах дома. «Удовлетворенность» — это часть понятий «умеренность», «житейская мудрость», выраженных в словах: «Когда приходит удача, не растрачивай ее всю». Это близко к совету одного ученого династии Мин: «Выбирай счастье весом поменьше». Среди высказываний Лао-цзы есть и такой афоризм: «Тот, кто всем доволен, избежит немилости». Вот вариант того же афоризма: «Тот, кто всем доволен, живет счастливо». В литературе эта удовлетворенность обычно находит выражение в воспевании сельской жизни, жизни без забот; этим чувством пронизаны и стихи, и частные письма. Из собрания писем ученых эпохи Мин я наугад выбрал письмо Лу Шэня другу:Этой ночью будет полная луна. Как насчет того, чтобы нанять расписную джонку для увеселительных прогулок и несколько музыкантов?.. Можешь ли ты провести ночь со мной этой ранней осенью? У меня будет готова одежда отшельника, и, когда примут мою отставку, я стану беззаботным старцем, живущим в горах.Если этот китайский ученый настроен таким образом, он будет счастлив и в жалкой лачуге. Человеческое счастье весьма хрупко, потому что божества явно относятся к человеку очень ревниво. И счастья трудно достичь. Тем не менее после всего сказанного о культуре и прогрессе первостепенной задачей мудрецов всего человечества остается решение проблемы счастья. Китайцы с их здравым смыслом прилагают огромные усилия в поисках счастья и как сугубые утилитаристы больше интересуются в жизни счастьем, чем прогрессом. Супруга Бертрана Рассела как-то мудро заметила: «Право быть счастливым — это забытое право, которым никто на Западе не интересуется». Люди Запада озабочены второстепенными правами, например правом голоса, правом принятия цивильного листа королевской семьи, правом объявления войны, правом на судебное разбирательство после ареста. Китайцам и в голову не приходит, что судебное разбирательство после ареста может быть правом, однако они в высшей степени старательно охраняют свое право на счастье, и ничто: ни угроза бедности, ни угроза бесчестья — не лишит их этого права. Люди Запада подходят к проблеме счастья действенно, активно, а китайцы, подобно Диогену, — пассивно, так что проблема счастья у них в конечном счете сводится к проблеме удовлетворения основных потребностей человека. На самом деле мы и сами толком не знаем, чего же все-таки хотим. Вот почему история Диогена, который объявил миру, что он самый счастливый человек, поскольку ему ничего не надо, и который, увидев, как мальчик пьет воду пригоршнями, бросил ему свою чашку, всегда вызывает смех и некоторую зависть у современного человека. Современный человек постоянно озабочен множеством проблем, большинство которых связано с его личной жизнью. Он никак не избавится от чувства глубокой зависти к аскетизму Диогена и в то же время не готов пропустить хороший спектакль или кинофильм. Это и есть так называемая неугомонность современной души. Китайцы не зашли так далеко, как Диоген, да они никогда и ни в чем не уйдут очень далеко. Их пассивный подход к достижению счастья обусловлен философией удовлетворенности. В отличие от Диогена, китайцы хотят только того, что может сделать их счастливыми, но они не станут проявлять настойчивость, если поймут, что не в их силах достичь этой цели. Китаец хочет иметь хотя бы пару чистых рубашек, ибо Диоген в качестве книжного персонажа, может, и источает некий духовный аромат, но Диоген в качестве коллеги или спутника жизни — совсем другое дело. Если китаец настолько беден, что может иметь только одну рубашку, то он не станет по этому поводу беспокоиться. В отличие от Диогена, он хочет посмотреть хороший спектакль и получить от него большое удовольствие. Но если обстоятельства помешают этому, он не будет сильно сожалеть. Он хочет, чтобы вокруг его дома возвышались высокие, старые деревья, но он так же будет радоваться и одному финиковому дереву во дворе. Он хочет иметь много детей и жену, которая сама бы готовила его любимые блюда; если же он богат, то может еще пригласить хорошего повара и хорошенькую молоденькую служанку в нарядных красных штанах, чтобы она воскуряла благовония, пока он читает или рисует. Он хочет иметь несколько хороших друзей и женщину, которая бы его понимала; лучше всего, чтобы это была его жена, но если это не так, сойдет и певичка. Если же он не родился «удачливым в любовных утехах», то и переживать по этому поводу не станет. Он хочет, чтобы его желудок был наполнен — в Китае рисовый отвар и квашеная репа стоят недорого; он хочет иметь кувшин доброго вина — он часто сам делает алкогольный напиток из риса или может за несколько монет выпить чарку в хорошей, старой винной лавочке. Ему хочется досуга, хочется беззаботности, праздности — в Китае это возможно, и он счастлив, как пташка, если
В двенадцатую ночь десятой луны шестого года Юань-фэн я разделся и собрался было лечь спать, как свет луны проник в мою комнату, и я встал с трепещущим от счастья сердцем. Я подумал, что нет никого, кто разделил бы со мной это счастье. И я направился к храму Чэнтянь, чтобы увидеть Хуайминя. Он тоже еще не ложился. Мы стали расхаживать по дворику. Дворик был похож на прозрачный пруд с тенями от ряски, на самом деле это были тени от бамбука и сосен, освещенных луной. Разве бывает ночь без луны? Разве не повсюду растут сосны и бамбук? Мало только беззаботных людей вроде нас с тобой.Твердое решение наслаждаться тем, что уже имеешь, и избегать любых желаний достичь чего-то лучшего, ни в коем случае не сожалеть, если твои ожидания не сбудутся или если ты в чем-то потерпишь неудачу, — вот секрет такого свойства китайцев, как удовлетворенность жизнью.
Юмор
Юмор — это психологическое состояние. А если говорить точнее, это определенная точка зрения, определенный взгляд на жизнь. Юмор расцветает всякий раз, когда развивающаяся нация благодаря избытку интеллекта способна беспощадно критиковать свои собственные идеалы. Ведь юмор — это интеллект, который сам себя бьет. В любой период истории, как только в один прекрасный день человечество начинает понимать свое бессилие и ничтожество, свою глупость и противоречивость, рождается юморист, подобный Чжуан-цзы в Китае, Омару Хайяму в Персии и Аристофану в Греции. Без Аристофана афиняне были бы духовно беднее, без Чжуан-цзы интеллектуальное наследие Китая было бы менее богатым. С появлением Чжуан-цзы и его сочинений политики и разбойники Китая стали большими юмористами, поскольку они так или иначе прониклись учением Чжуан-цзы. Лао-цзы ехидно посмеивался еще до Чжуан-цзы. Он всю жизнь был отъявленным холостяком, иначе не смеялся бы с таким сарказмом. История не сохранила свидетельств, был ли он женат и остались ли у него потомки. Последние отзвуки смеха Лао-цзы подхватил Чжуан-цзы, который был моложе Старого Ребенка, и голос у него был громче, так что все последующие поколения слышали его смех. Мы до сих пор не упускаем случай посмеяться. Правда, порой мы понимаем, что заходим чересчур далеко и смеемся не всегда вовремя. Полное невежество иностранцев в отношении Китая и китайцев выражается и в их вопросах: а у китайцев есть чувство юмора? Это так же поразительно, как если бы какой-нибудь араб из торгового каравана спросил, есть ли песок в Сахаре? Странно, что человек может так мало знать о нашей стране. Хотя бы теоретически китайцы должны же обладать чувством юмора, потому что юмор — порождение самой обыденной реальной жизни, а китайцы — отъявленные реалисты. Юмор — порождение здравого смысла, а его-то у китайцев в избытке. Юмор, особенно азиатский, есть следствие таких особенностей человека, как удовлетворенность жизнью и любовь к досугу, что в высшей степени характерно для китайцев. Юморист — это обычно пораженец, который получает удовольствие, рассказывая о своих собственных неудачах и трудностях, а китайцы частенько и являются здравомыслящими, хладнокровными пораженцами. Китайский юмор терпим к злу и пороку, зачастую их не осуждает, а посмеивается над ними. Китайцы всегда отличались умением терпимо относиться к злу. У любой терпимости есть положительная и отрицательная стороны. То же можно сказать и о терпимости китайцев. Если качества китайцев, о которых мы говорили выше: здравый смысл, терпимость, удовлетворенность и хитрость — действительно существуют, то в Китае не может не быть юмора. Однако юмор китайцев больше проявляется в действиях и меньше в словах. Для различных видов юмора здесь имеются разные названия. Наиболее распространенное — хуацзи, которое, мне кажется, означает «пытаться острить», «пытаться рассмешить». Конфуцианские ученые, устав от слишком строгой классической традиции, иногда позволяли себе удовольствие под псевдонимами прибегать к такому виду юмора. Но юмор как таковой не имел собственного места в литературе, во всяком случае, его роль в литературе и ценность для нее открыто не признавали. Юмор изобилует в китайском романе, но классики никогда не считали роман литературой. Первоклассный юмор есть в стихах «Ши цзина» («Книга песен»), в «Лунь юе» («Суждения и беседы»), в трактате «Хань Фэй-цзы»[34]. Однако конфуцианский совершенномудрый муж-цзюньцзы[35], воспитанный в пуританском духе, просто не позволит себе увидеть что-то смешное в трактате Конфуция, не почувствует удивительную и нежную любовную лирику «Ши цзина», давая стихам фантастическую интерпретацию, подобную трактовке «Песни Песен» христианскими теологами. Произведениям Тао Юаньмина (IV-V вв.), написанным с прекрасным чувством юмора, свойственны спокойная неторопливость изложения и утонченное наслаждение собственным смирением. Лучшим примером этого служит его стихотворение о непутевых сыновьях:Консерватизм
Описывая китайский характер, мы не можем обойти такое качество, как консерватизм, иначе картина будет неполной. Слово «консерватизм» вообще-то не должно содержать в себе упрека. Это определенного вида гордость, которая основана на удовлетворенности жизнью. Поскольку в этом мире у людей обычно весьма редко есть то, что достойно гордости и удовлетворения, консерватизм стал истинным признаком внутреннего богатства, завидным даром судьбы. По сути своей китайская нация — это гордая нация, что становится особенно ясно, если принять во внимание всю ее историю, за исключением последних нескольких сот лет. Хотя в политическом отношении китайцы и в самом деле подвергались унижениям, но в области культуры они были центром великой и гуманной цивилизации, которая прекрасно сознавала свою уникальность, у нее хватало апологетов, располагавших набором разумных аргументов. В сфере культуры у нее был только один равновеликий соперник, представлявший другую точку зрения, — индийский буддизм. Между тем истинные конфуцианцы всегда относились к буддизму с некоторой долей пренебрежения. Ведь конфуцианцы бесконечно гордились своим Учителем и, как следствие, гордились своей нацией, гордились тем, что китайцы постигли нравственную суть жизни, тем, что они поняли сущность человеческой природы, тем, что решили проблемы жизни в ее этическом и политическом аспектах. Здесь в определенном смысле есть своя логика. Потому что конфуцианство, разрешив для себя смысл человеческого существования, давало готовые ответы на вопросы сомневающихся в смысле жизни, и эти ответы удовлетворяли вопрошавших. Эти ответы, аргументированные, ясные и понятные, освободили людей от дальнейших размышлений и желания что-либо менять. Человек, естественно, становится консерватором, когда осознает, что получил то, что приносит ему пользу и имеет истинную цену. Конфуцианство не знало иных форм жизни и не считало их возможными. У людей Запада тоже хорошо организована социальная жизнь, и то, что лондонский полицейский, незнакомый с конфуцианской доктриной об уважении старых людей, поможет старушке перейти улицу, приводит китайцев в состояние шока. Когда китайцы придут к пониманию того, что люди Запада обладают всеми конфуцианскими добродетелями, начиная с учтивости, законопослушания, обязательности, добросердечия, бесстрашия и кончая честным правительством, и что если бы Конфуций был жив, то одобрил бы поведение полицейского и продавца билетов в лондонской подземке, их национальная гордость очень сильно пострадает. В самом деле, многие вещи китайцам не по душе и кажутся им грубыми и варварскими, например: муж и жена идут под руку, отец и дочь целуются, поцелуи на экране, на сцене, на перроне вокзала — везде. Это вселяет в них уверенность, что китайская цивилизация стоит выше других. Но за рубежом есть и другое, например простые люди умеют читать, женщины умеют писать письма, там повсюду чисто (и это не наследие средних веков, как считают китайцы, а завоевание XIX в.), ученики уважают учителей, а английские дети всегда говорят старшим-: «Да, сэр». И это очень сильно впечатляет. А если еще добавить прекрасные шоссе, железные дороги, пароходы, отличную кожаную обувь, французские духи, симпатичных белокожих ребятишек, рентген, фотоаппараты, граммофоны, телефоны и т.п., то национальная гордость китайцев разобьется вдребезги. Благодаря договорам об экстерриториальности и великодушному применению европейских сапог против китайских кули, из-за отсутствия закона, который преследовал бы за такое великодушие, утрата национальной гордости породила инстинктивный страх перед иностранцем. Прежняя гордость, достигавшая небес, развеялась как дым. Что касается криков и воплей иностранных торговцев о том, что китайцы могут-де ворваться на территорию концессий, то они лишь свидетельствуют о слабости этих торговцев и о степени их непонимания современного Китая. По поводу того, что европейцы используют сапоги против китайских кули, китайцы всегда испытывали справедливое возмущение. В этом нет никакого сомнения. Но если иностранцы считают, что китайцы дадут сдачи своим менее качественным сапогом, то они глубоко ошибаются. Если бы китайцы так поступили, они были бы не китайцами, а христианами. На самом же деле восхищение достижениями европейцев и страх перед их агрессией теперь обычное явление. Состояние шока, которое китайцы испытывали не раз, способствовало зарождению ультрарадикализма, что, в свою очередь, привело к провозглашению Китайской Республики. Перемены были столь масштабны, что могли бы воодушевить разве что идиотов или вдохновенных провидцев. Это походило на строительство моста-радуги, по которому, как многие верили, можно попасть прямо на небо. Китайские революционеры 1911 г. и были этими вдохновенными безумцами. После поражения Китая в японо-китайской войне 1894—1895 гг. началась активная пропаганда модернизации страны. В то время были две группировки: сторонники конституции, стоявшие за ограничение прав монарха, и революционеры, которые стояли за республику. Левое крыло возглавлял Сунь Ятсен, правое — Кан Ювэй и его ученик Лян Цичао, который позднее оставил учителя и перешел на левый фланг политического спектра. Долгое время оба крыла вели сражения на страницах эмигрантской печати в Японии, однако вопрос, в конце концов, разрешился не в итоге этих баталий, а ввиду явной беспомощности маньчжурского режима, и китайцы по этому поводу испытывали прилив национальной гордости. За политическим радикализмом 1911 г. последовал литературный радикализм 1916 г., когда Ху Ши положил начало движению за новую китайскую литературу. Затем, в 1926 г., появился на свет идеологический радикализм и образ мыслей учителей почти всех китайских начальных школ обрел коммунистическую окраску. Итак, Китай разделен на два военных лагеря — коммунизм и реакцию. Между молодым и старым поколениями возникла глубокая пропасть, и это достойно сожаления. Молодое поколение, склонное к размышлениям, считает, что в идеологии и во всей политической системе необходимы самые радикальные преобразования, а сторонники консервативно-реакционных взглядов встали на сторону властей. Нынешние консерваторы и реакционеры выглядят неубедительно, поскольку речь в основном идет о милитаристах и политиканах, чья личная жизнь далеко не соответствует конфуцианским идеалам. Вывеска «Консерватизм» служит лишь для маскировки лицемеров, стремящихся к садистской мести, дающей выход их ненависти к молодежи. Ведь, согласно конфуцианскому учению, надо уважать старость и власть. Яркий свет конфуцианской мысли вдохновил и тибетских лам на поиск у Будды защиты от японской агрессии. Смешение конфуцианских банальностей с обращенной к Будде Амитабе (Амитофо) тибетской молитвой «ом мани падме хум» и тибетскими молитвенными барабанами создает впечатление чего-то сверхъестественного и вряд ли вызовет интерес у молодежи. Это только на первый взгляд китайский консерватизм сражается с радикализмом. Результат в значительной степени будет зависеть от политических тенденций в Японии и Европе, и споры в Китае проблемы не решат. Если руководители консерваторов не докажут, что могут вывести Китай из кризиса, то Китай, возможно, повернет к коммунизму. Однако, учитывая истинный темперамент китайской нации и то, что широкие массы или читают только по-китайски, или вообще ничего не читают, консерватизм будет существовать всегда. Более важно, однако, что китайцы не хотят перемен. Несмотря на все внешние изменения в обычаях, женской одежде, способах передвижения, китайцы остаются китайцами и они по-прежнему насмешливо относятся к молодому человеку в европейской одежде, с горячей головой, свободно говорящему по-английски. Молодой человек выглядит всегда таким наивным, простодушным, он как бы стыдится своей прогрессивности. Удивительно, но как только китаец вступает в зрелый возраст, он примыкает к консерваторам. Студент, обучавшийся за границей, по приезде домой надевает халат китайского покроя и возвращается к прежнему, китайскому образу жизни. Он снова становится сдержанным, снова удовлетворен буквально всем, он снова любит праздность и покой. Этот покой его душа обретает в китайском халате. Странное, непонятное очарование, пленяющее в Китае любого иностранца, притягивающее сюда многих европейских чудаков, желающих оставаться в нашей стране до конца своих дней, осознается китайцем только с приходом зрелости. Большинство китайцев упорно держатся за старое. И конечно же, не по убеждению, а по национальному инстинкту. Я считаю, что народные традиции настолько сильны, что основные принципы нашего образа жизни сохранятся навсегда. Даже в случае разрушительных перемен, подобных установлению коммунистического режима, такие традиционные качества китайского характера, как индивидуализм, терпимость, умеренность и здравый смысл, скорее и вернее победят коммунизм, изменят его до неузнаваемости, чем коммунизму с его социалистическим, обезличенным и бескомпромиссным мировоззрением удастся сломить эти древние традиции. Это неизбежно.Глава 3 МЕНТАЛИТЕТ КИТАЙЦЕВ
Интеллект
Прочитав предыдущую главу «Характер китайцев», можно сделать такой общий вывод: мудрость китайцев символизирует превосходство человеческого разума над окружающим миром. Абсолютное преимущество этой мудрости проявляется во многом. Она выражается не только в том, что приходится прибегать к лукавству для переделки полного боли и страданий мира в место, пригодное для жизни, но также в определенном негативном отношении к элементарным храбрости и силе как таковым. Конфуций в беседе с учеником Цзы Лу порицал людей, которые отличаются только храбростью вроде [боксера] Джека Демпси. Я уверен, что он предпочел бы [другого боксера] Джина Танни, среди близких друзей которого были и люди образованные. Мэн-цзы тоже четко разделял умственный труд и физический, разумеется отдавая предпочтение первому. Китайцы никогда не знали такого бессмысленного слова, как «равенство». Уважение к людям умственного труда, или уважение к образованной прослойке общества, — характерная черта китайской цивилизации. Уважение к знаниям следует понимать в несколько ином смысле, чем это принято в Европе. Китайские ученые тоже весьма преданы своим знаниям. Однако преданность западных профессоров изучаемому делу впечатляет сильнее, хотя порой и приобретает черты болезненного любования своим предметом и даже черты ревности к коллегам. Уважение китайцев к образованному человеку имеет другой источник. Уважают именно такую образованность, которая позволяет людям расширить и углубить понимание мира, питает их житейскую мудрость, позволяет трезво смотреть на вещи в критические моменты жизни. Такое уважение образованность, по крайней мере теоретически, может заслужить, если она приносит реальную пользу. Во время местных неурядиц или хаоса в масштабах государства люди обращаются к ученому, чтобы принять здравое решение, которое благодаря его дальновидности позволит предусмотреть возможные последствия тех или иных действий. Люди относятся к такому ученому как к лидеру, а истинный лидер руководит помыслами и душами людей. В условиях неграмотности подавляющего большинства такое лидерство легко завоевать и удерживать, для этого достаточно иногда наговорить кучу необычных, замысловатых фраз, из которых простые люди поймут едва половину, — и эффект будет достигнут. Или можно начать ссылаться на исторические факты и события — ведь неграмотные люди мало что знают в этой области, поскольку их знакомство с историей ограничивается театральными постановками на исторические темы. Ссылаясь на исторические примеры, обычно можно решить любой вопрос. Китайцы привыкли к прямым аналогиям, разъясняющим ту или иную ситуацию простым людям. Я уже говорил, что китайцы страдают от избытка древней мудрости, которая проявляется в лукавстве, бесстрастии, миролюбии, что часто граничит с трусостью. Однако все умные люди трусливы, потому умный человек хочет сберечь свою шкуру. Не может быть ничего глупее — если, конечно, трезво смотреть на вещи, — чем человек, который, охмелев от газетной пропагандистской трескотни, с пьяной храбростью высовывает голову из укрытия, рискуя получить пулю в лоб. Если же, читая прессу, он будет шевелить мозгами, то в первые ряды он уж точно не полезет и не поддастся пропагандистскому угару. Более того, исходя из логики вещей и просто рассуждая по-человечески, его должна охватить паника. Последняя война научила нас тому, что многие благородные души, блистающие в колледжах и университетах, испытывают душевные муки, о которых более толстокожие и не очень умные люди понятия не имеют. Не новобранцы, а прослужившие в армии четыре года «старики» начинают понимать, что дезертирство часто является добродетелью в отношении самого себя, что это единственно разумный путь для умного и честного человека. Однако интеллект нации проявляется не только в трусости китайцев. Китайские студенты, обучающиеся в европейских и американских университетах, в академическом плане стоят выше других. Я думаю, это вовсе не результат отбора по конкурсу студентов, выезжающих учиться за рубеж. У себя в стране они уже давно привыкли к научным диспутам. Японцы не без сарказма называют китайцев «литературной нацией», и это вполне оправданно. Подтверждением служит, например, невероятное количество издаваемых в стране журналов. Достаточно четырем-пяти друзьям случайно встретиться в одном городе, как чуть ли не сразу учреждается новый журнал. Неисчислимы писатели, отдающие статьи редакторам. Прежняя система государственных экзаменов представляла собой тест на интеллект — я об этом уже писал. Эта система заставляла китайских ученых овладевать изящной и отточенной лексикой, различать тончайшие нюансы смысла, совершенствуя свой стиль мышления. Познания в области поэзии помогли им достичь признанных высот в сфере литературного стиля, проявлять изысканный вкус и незаурядное мастерство. Китайская живопись поднялась до таких высот, которых не знала живопись европейская. В каллиграфии китайцы шли собственным путем; и по-моему, достигли максимального разнообразия и совершенства в ритмике письма. Поэтому нельзя говорить, что недостаточная степень оригинальности и творческого начала есть одна из особенностей нашего менталитета. Творческая инициатива китайцев была на уровне ручного, ремесленного труда, который до сих пор сохраняется в китайской промышленности. Вследствие своеобразного способа мышления и неудачных попыток разработать развитые научные методы Китай сильно отстал в области естественных наук. Однако я убежден, что после внедрения научных методов и установки совершенного научно-исследовательского оборудования Китай в следующем веке взрастит выдающихся ученых, которые внесут важный вклад в мировую науку. Интеллект нации, конечно, не сосредоточен только в образованной прослойке общества. Китайская прислуга благодаря своей житейской мудрости, умению общаться с людьми и понимать их вряд ли в чем уступит прислуге европейской. Китайские торговцы в Малайе, Индонезии, на Филиппинах добились больших успехов главным образом потому, что обладали более развитым интеллектом, чем местное население. Высокий уровень интеллекта обусловил такие качества их характера, как бережливость, неустанное усердие и дальновидность. Уважение к знаниям, образованности породило стремление к самосовершенствованию даже в самых низших слоях среднего класса, о чем мало кто из иностранцев знает. Некоторые представители иностранной диаспоры в Шанхае пытаются разговаривать с продавцами китайских магазинов на пиджин-инглиш, что приводит последних в замешательство. Эти иностранцы не знают, что многие китайские продавцы прекрасно разбираются в тонкостях английской грамматики. Китайских рабочих в короткий срок можно обучить до уровня техников, поскольку здесь требуются четкость и аккуратность. В трущобах и заводских районах китайских городов редко встречаются высоченные и здоровенные типы, широкоскулые и низколобые монстры, сильные как быки. Зато их много в таких же кварталах западных городов. Здесь, в Китае, другой тип людей. В их глазах светится ум, у них веселые лица, они отличаются в высшей степени благоразумным нравом. Вероятно, вариативность уровня интеллекта у китайцев менее выражена, чем у многих западных людей. Это касается и китайских женщин, которые отличаются большей ментальной мощью, чем китайские мужчины.Женственность
Действительно, менталитет китайца во многих отношениях женственный, и слово «женственность» наилучшим образом суммирует его качества. Особенности женского менталитета и женской логики — это и есть особенности китайского менталитета. Голова китайца, как и голова китаянки, полна здравого смысла. Как и в разговорах женщин, в китайской голове отсутствуют абстрактные понятия. Образ мышления китайцев, синтетический и конкретный, отличается пристрастием к пословицам, обилие которых характерно и для бесед женщин. Китайцы самостоятельно не дошли до высшей математики, мало кто из них сумел усвоить обычную арифметику — совсем как многие женщины, за исключением энергичных мужеподобных лауреаток университетских премий. Это замечание относится, конечно, ко всему слабому полу, который взращен нынешним обществом. У женщин жизненные инстинкты сильнее, чем у мужчин, а у китайцев они сильнее, чем у людей других наций. Китайцы раскрывают тайны природы главным образом благодаря интуиции. Благодаря той же интуиции, или «шестому чувству», многие женщины руководствуются постулатом «это так потому, что это так». Наконец, китайская логика сугубо персональная подобно женской логике. Так, женщина представит в обществе профессора-ихтиолога не как профессора-ихтиолога, а как зятя полковника Гаррисона, который умер в Индии в то время, когда в Нью-Йорке ей делал операцию по поводу аппендицита старый симпатичный доктор Кэбот, — если бы вы видели его прекрасный высокий лоб! Точно так же китайский судья рассматривает закон не как нечто абстрактное, а как некую переменную величину, которую можно гибко использовать применительно к полковнику Хуану или майору Ли. Следовательно, любой закон, который настолько безличен, что его нельзя применить к особе полковника Хуана или особе майора Ли, является негуманным и, стало быть, это не закон вообще. Китайское правосудие — искусство, а не наука. Датский лингвист Е.-О. Есперсен (1860—1943) в книге «Развитие и структура английского языка» («The growth and structure of English») указал на «мужские черты» английского языка — лаконизм, здравый смысл и сила выражения. Не намереваясь возражать столь высокому авторитету в области английского языка, я бы тем не менее позволил себе не согласиться с его точкой зрения относительно пола. Здравый смысл и практичный ум — это скорее свойства женщин, а не мужчин, которые больше склонны витать в облаках. Китайский язык и грамматика четко выявляют «женские черты» языка: его форма, синтаксис и лексика демонстрируют простоту мышления китайцев, конкретность образов и лаконизм синтаксических связей. Эту простоту лучше всего можно иллюстрировать примерами из пиджин-инглиш, который, как говорят в Китае, состоит из английского мяса и китайских костей. Нет оснований считать, что фраза «He come, you no come; you come, he no come» («Он придет, ты (вы) не придет; ты придет, он не придет») менее ясна, чем сказанная правильно: «You needn’t come, if he comes; he needn’t come, if you come» («Вам не нужно приходить, если он придет; ему не нужно приходить, если вы придете»). На самом деле простота первой фразы делает ее более ясной. Дж. Мун в книге «Английский язык декана» («Dean’s English») цитирует английского фермера из Сомерсета, который дает показания перед судьей: «He’d a stick, and he’d a stick, and he licked he, and he licked he; if he licked he as hard as he licked he, he’d a killed he, and not he he» («У него была палка, и у него была палка, и он ударил он (его), и он ударил он; если он ударил он так сильно, как он ударил он, то он убил он, а не он он»). Мне кажется, говорить так разумнее, чем использовать падежи германской группы языков. С позиции китайского языка различие между «I lick he» («Я бью он») и «he lick I» («Он бьет я») совершенно очевидно без всякой субъектно-объектной конструкции и добавление к глаголу третьего лица единственного числа окончания -s излишне, как и в конструкции прошедшего времени: «I had, he had; I went, he went». Реально многие говорят «us girls» («мы, девочки») и «them things («те штуки»), и их понимают, и смысл здесь не теряется. Теряются ничего не значащие категории, которые не имеют отношения к силе выражения. Я очень надеюсь, что придет день, когда английские и американские профессора смело и достойно будут говорить в аудитории «he don’t» (вместо «he doesn’t») и что английский язык под влиянием пиджин-инглиш станет таким же разумным и ясным, как китайский язык. Своего рода практический женский инстинкт уже привел к максимальному сокращению придаточных предложений в английском языке, например: «weather permitting» («если погода позволит»), «God willing» («по воле Бога»), «if possible» («если возможно»), «whenever necessary» («по необходимости»), «as expected» («как и ожидалось»), «if I don’t (вместо shall not) come back tonight» («если я не вернусь сегодня вечером»), «if war breaks out (вместо shall break out) next week» («если на следующей неделе разразится война»). Есперсен упоминает об упрощениях в английском языке, которые аналогичны китайским, например: «first come, first served» («первым пришел — первого обслужили»), «no cure, no pay» («не вылечили — не заплатили»), «once bitten, twice shy» («однажды укушен — дважды испуган»). Все это типичный пиджин-инглиш. Англичане тоже стали постепенно обходиться без whom, например: «Who are you speaking to?» («Кому вы говорите?»). Английская грамматика, таким образом, на верном пути. Любовь китайцев к лаконизму, простоте зашла весьма далеко. Например, такая фраза: «Сидеть есть гора пустой» — китайцу совершенно понятна («Если ты будешь только сидеть, есть и ничего не делать, то проешь свои богатства, даже если они будут размером с гору»). Так что, если англичане намерены нас догнать, им потребуется некоторое время. О конкретном образе мышления китайцев говорит также их способ обозначения абстрактных понятий, изобилие пословиц и метафорических выражений. Абстрактное понятие часто выражено сочетанием двух конкретных понятий. Так, дасяо («большой-маленький») означает «размер», чандуань («длинный-короткий») — «длина», куаньчжай («широкий-узкий») означает «ширина». Пример: «Какой большой-маленький твоих ботинок?». «Длинный» и «короткий» могут также передать правоту и неправоту в споре, как в китайском выражении «аргумент такого-то длинный (или короткий)». Поэтому у нас существуют такие выражения: «Мне безразличны длинный-короткий» (по форме напоминает английское «the long and the short of it is...»), а также «Этот человек не имеет правильный/правый-неправильный/неправый», что означает: «Это хороший человек, поскольку он сохраняет абсолютную беспристрастность по любым вопросам и никогда не вступает в бесплодные споры». Таких окончаний, присущих абстрактным понятиям, как английское -ness, в китайском языке нет. Китайцы выражаются так же кратко и просто, как Мэн-цзы: «Белизна белого коня — не то же самое, что белизна белой яшмы»[37]. Это связано со слабостью аналитического мышления. Насколько я знаю, женщины избегают абстрактных понятий. Это можно подтвердить, я думаю, анализом лексики китайских писательниц. Использование метода статистического анализа привычно для европейцев. Китайцы же с их слишком уж здравым смыслом считают, что нет необходимости доказывать что-либо с помощью цифр. Если интуиция подсказывает им, что в речи и произведениях женщин лексика менее абстрактна, чем у мужчин, то этого достаточно и доказательства здесь не нужны. У китайцев — и мужчин, и женщин — конкретика всегда вытесняет абстрактную терминологию. Высокоученую фразу: «There is no difference but difference of degree between different degrees of difference and no difference» («Разница как таковая не существует, если только разница состоит в степени разницы между различными степенями разницы, но не самой разницы») — невозможно точно перевести на китайский язык, и китайский переводчик заменил бы ее на фразу из «Мэн-цзы», смысл которой состоит в следующем: есть ли разница между теми, кто бежал с поля боя, сделав 50 шагов, и теми, кто сделал 100 шагов?[38]. Такая замена сильно уступает в точности, но смысл текста становится более понятным. Если сказать: «How could I perceive his inner mental processes?» («Как я могу воспринимать его внутренние умственные процессы?»), то это будет менее понятно, чем: «How could I know what is going on in his mind?» («Как я могу знать, что у него на уме?»). Да и это далеко не так эффективно, как китайское: «Разве я солитер у него в животе?». Китайская мысль всегда остается на периферии видимого мира, и именно это помогает осмыслению действительности, в основе которого лежит опыт и мудрость. Нелюбовь к абстрактным понятиям проявляется в терминах, используемых китайцами при классификации разных явлений. Китайцы всегда прибегают к самым выразительным обозначениям различных понятий. Так, в китайской литературной критике различные стили письма именуются следующим образом: «наблюдение за огнем с другого берега реки» — неопределенность стиля; «стрекоза коснулась воды» — легкость письма; «рисуя дракона, подчеркивает глаза» — выделение важных моментов; «освобождение-пленника до его поимки» — обыгрывание сюжета; «показывать голову дракона и не показывать его хвост» — свобода движений и непостоянство мысли; «повиснуть (высоко) над пропастью» — неожиданная пауза перед финалом; «кровь от одного укола иглой» — попасть в самую точку; «вступить в драку с одним ножом» — быстрое развитие сюжета, прямое, без всякого вступления; «объявить о нападении на востоке, ударить на западе» — внезапный удар; «боковые удары и фланговые атаки» — легкое подшучивание; «дымка над серым озером» — мягкость и приглушенность стиля; «густые облака и горные вершины» — нагнетание напряжения; «пускать петарды, сидя верхом на коне» — последний рывок перед финалом [произведения]. Подобные примеры можно приводить бесконечно. Они напоминают об образовании звукоподражательных слов («гав-гав», «фу-фу») при возникновении речи. Изобилие образных и малочисленность абстрактных терминов оказывают влияние на стиль письма и, соответственно, на способ мышления. С одной стороны, это придает языку живость, с другой — язык может легко пойти по пути бессмысленной и почти бессодержательной декоративности, ставшей основным пороком китайской литературы, против которого восстал Хань Юй в эпоху Тан. У господствовавшего тогда стиля недоставало точности выражений, однако его лучшие образцы, подобно нашим лучшим романам, это живая, энергичная проза — пряная и колоритная. Ее разговорный язык напоминает прозу Свифта и Дефо, созданную, как мы говорим, «в лучших английских традициях». Их английский язык не подвержен влиянию академического жаргона, который ныне стремительно распространяется в американских университетских кругах, особенно среди психологов и социологов, которые рассуждают о человеческой жизни, лишь в таких терминах, как «фактор», «процесс», «индивидуализация», «департаментализация», «процент честолюбия», «стандартизация гнева», «коэффициент счастья». Такую терминологию практически невозможно перевести на китайский язык, однако некоторые, призывая к «европеизации китайского языка», предпринимали нелепые и обреченные на провал попытки в этом направлении. Научные работы на английском языке очень трудно переводить на китайский. Переводить китайскую поэзию и прозу на английский также очень трудно, потому что каждое слово в китайском языке — это образ.Отсутствие научных методов
После детального обсуждения особенностей китайского мышления понятно, почему у китайцев не развиты естественные науки. Греки создали базу для естественных наук, потому что их мышление в основном аналитично, и это подтверждается тем, что идеи Аристотеля удивительно созвучны нашему времени. Египтяне развивали геометрию и астрономию — науки, которые тоже требуют аналитического образа мышления. Индийцы изобрели грамматику для своего языка. Китайцы же, несмотря на врожденную мудрость, не сумели создать собственную научную грамматику, а их познания в математике и астрономии в основном получены извне. Поскольку они по-прежнему довольствуются тривиальным морализаторством, не выходя за пределы избитых истин, а такие понятия, как «благожелательность», «доброта», «учтивость» и «верность, лояльность», для них слишком абстрактны, то вполне понятно, что в ходе дискуссий научные термины тонут в море затертых общих мест. Из всех древних философов эпохи Чжоу только Мо-цзы и Хань Фэй-цзы развили стиль, близкий к рациональной аргументации. Мэн-цзы, вне всякого сомнения великого софиста, заботили лишь такие важные понятия, как «польза» и «справедливость». Остальные философы, например Чжуан-цзы, Ле-цзы и Хуайнань-цзы, интересовались только изящными метафорами. Ученики Мо-цзы — Хуэй Ши и Гун-сунь Лун — были великими софистами, которые увлекались составлением схоластических головоломок и старались обосновать тезисы вроде таких: «яйца покрыты шерстью», «лошадь несет яйца», «собака может быть ягненком», «у курицы три ноги», «огонь не горячий», «колеса никогда не касаются земли», «черепаха длиннее змеи» и т.п. А ученые династии Хань интересовались лишь составлением в александрийском стиле комментариев к классикам прошедших эпох. Ученые эпохи Цзинь возродили традиции даосизма, и, исходя из интуиции, пытались раскрыть тайны человеческого тела и мироздания. Никому не приходила в голову мысль о необходимости экспериментов, никто не развивал научные методы. Философы эпохи Сун под влиянием буддизма заново интерпретировали конфуцианское учение и превратили его в систему, дисциплинирующую ум и воспитывающую нравственную чистоту. Они приобрели репутацию людей, быстро схватывающих суть сочинения, но не желающих знать его основательно, вникать в него. Поэтому филология сунских ученых была самой ненаучной, более того, не была филологией вообще. И только значительно позднее, во времена маньчжурской династии Цин, получил развитие некий сравнительный метод, который сразу же поднял филологию на недостижимую прежде высоту. В Китае филология эпохи Цин была ближе всего к науке в европейском смысле этого слова. Легко понять, почему научный метод не получил развития у китайцев с их менталитетом. Научный метод предполагает помимо умения мыслить аналитически еще и большой объем тяжелого, монотонного труда, китайцы же верят озарениям своего здравого смысла и интуиции. Индуктивный метод, перенесенный на человеческие взаимоотношения (к чему в основном китайцы и проявляют наибольший интерес), часто оборачивается своего рода глупостью, и примеры этого нередки в американских университетах. К сегодняшнему дню на основе индуктивного метода написано много докторских диссертаций, от которых Бэкон перевернулся бы в гробу. Ни один китаец не настолько глуп, чтобы посвятить диссертацию мороженому и после целой серии тщательных наблюдений объявить ошеломляющий результат: «Главная функция сахара — придать мороженому сладкий вкус». Или после методичного исследования под названием «Сопоставление времени и движений при четырех способах мытья посуды» радостно провозгласить: «Периодически наклоняться и разгибать спину весьма утомительно». А из «Исследования о бактериях, содержащихся в хлопчатобумажном нижнем белье» можно узнать, что «количество бактерий в нижнем белье возрастает пропорционально времени его носки». Несколько лет назад в одной газете сообщалось, что некий студент чикагского университета, проведя «сравнительное исследование» эффективности различных способов печати, обнаружил, что «чем чернее линии, тем больше они бросаются в глаза». Думаю, китайцы с их здравым смыслом и интуицией моментально усвоили бы эти глупые, хотя и небесполезные для рекламы выводы. Самая хорошая карикатура, которую я видел, была помещена в журнале «Панч». На ней изображен съезд бихевиористов, проводящих опыт со свиньей, у которой во рту был градусник, а на шее висело ожерелье из жемчуга. После завершения опыта бихевиористы единогласно решили: свинья на драгоценности не реагирует. В данном случае речь идет не просто о дискредитации научных методов. Вот, например, профессор Кейсон из Рочестерского университета на ежегодной IX Международной конференции психологов в докладе «Происхождение и виды обычных раздражителей» насчитал 21 тыс. раздражителей. После устранения повторов осталось 507(!) раздражителей, которые ему удалось оценить в очках. Например, «волос в пище» — 26 очков, «тараканы» — 24 очка, «вид плешивой головы» — 2 очка. Настоящая научная работа, естественно, требует скучного и кропотливого труда. Только такой труд ведет к открытиям, которые вызывают восторг у ученого; оказывается, у дождевого червя есть некая защитная оболочка. Ведь именно благодаря накоплению из поколения в поколение таких тщательных наблюдений, совершаются открытия, а наука достигла своего нынешнего блестящего положения. Относясь к науке без пиетета, но обладая чувством юмора и здравым смыслом, китайцы, естественно, считают исследование жизни дождевого червя или золотой рыбки занятием, недостойным ученого.Слабость логического мышления
В связи с этим возникает проблема китайской логики, которая основана на их представлении об истине. С точки зрения китайцев, истину нельзя доказать, ее можно только лишь внушить. Чжуан-цзы давным-давно в «Ци у лунь»[39] отметил субъективный характер знаний:Предположим, что я спорю с тобой. Ты победил меня, а я не победил тебя, разве это значит, что ты действительно прав, а я не прав? А если я победилтебя, а ты не победил меня, разве это значит, что я действительно прав, а ты не прав? Разве обязательно кто-то из нас прав, а кто-то не прав? А может быть, мы оба правы или мы оба не правы? Если ни я, ни ты не можем знать, кто из нас прав, а кто не прав, то и другие люди, несомненно, тоже остаются в неведении истины. Кого же найти нам, чтобы рассудил нас? Если, чтобы нас рассудить, позвать того, кто согласен с тобой, то, поскольку он согласен с тобой, как же может он нас рассудить? Если, чтобы нас рассудить, позвать того, кто согласен со мной, то, поскольку он согласен со мной, как же может он нас рассудить? Если, чтобы нас рассудить, позвать того, кто не согласен ни со мной, ни с тобой, то, поскольку он не согласен ни со мной, ни с тобой, как же он может нас рассудить? Если, чтобы нас рассудить, позвать того, кто согласен и со мной, и с тобой, то, поскольку он согласен и со мной, и с тобой, как же может он нас рассудить? А если так, то ни я, ни ты, ни другие люди — никто не может знать, кто прав, а кто не прав. Кого же нам еще ждать?Согласно этой теории, истину доказать невозможно, несмотря на то что она может быть «схвачена умом, но без слов» («Чжуан-цзы»). Люди часто говорят: «Человек знает, что это так, но не знает, почему это так», «Дао, или Истина/Путь, это то, что мы знаем, и неважно, каким образом». Поэтому Истину можно воспринимать только интуитивно. Отнюдь не все китайцы сознательно принимают теорию познания Чжуан-цзы. Но они соглашаются с этой точкой зрения по существу. Логика никогда не развивалась в Китае как наука, поэтому китайцы опираются не на логику, а на собственный, может быть, более надежный, здравый смысл. В китайской литературе также нельзя отыскать систему аргументации, потому что китайцы, ввиду свойств их менталитета, просто не верили в вещи такого рода. Соответственно не получила развития диалектика; жанр научной статьи никому не известен. Бернхард Карлгрен (1889—1978), видный шведский синолог, недавно написал статью, в которой отметил логические ошибки, допущенные «высшими авторитетами» Китая при определении степени подлинности древнекитайских произведений. Некоторые ошибки действительно представляются наивными, если смотреть на это с позиции европейской методологии. Китайцы никогда не умели писать статьи в десять тысяч или даже в пять тысяч слов, чтобы доказать какой-нибудь тезис. Они ограничивались заметками. Что же касается истинности того или иного положения — об этом пусть судят потомки. Вот почему китайские ученые всегда оставляли нам так много сборников записок, которые назывались «Бицзи» — «Вслед за кистью». В них нет деления на параграфы, так что мнения об авторстве тех или иных литературных произведений и исправление ошибок в исторических хрониках перемешаны с сообщениями о сиамских близнецах, лисах-оборотнях, героях-храбрецах и отшельниках, поедающих гусениц. Китайские авторы выдвигают один-два аргумента и тут же делают вывод. При чтении их заметок редко удается проследить путь от аргументов к конечному выводу. Их тезисы и аргументы занимают мало места, но вдруг становится ясно, что автор что-то понял и его вывод налицо. Лучшие записки, например «Жи чжи лу» («Записки ежедневных познаний») Гу Яньу (1613—1682), создали этому жанру прекрасную репутацию, конечно, благодаря не логическим положениям, а точности суждений, по поводу которых согласие или возражения выскажут потомки. Порой две-три строки в записках Гу Яньу являлись итогом нескольких лет кропотливой работы и были, можно сказать, вполне научны. Ради подтверждения какого-либо исторического факта автору, человеку энциклопедических знаний, порой приходилось совершать многочисленные путешествия. Но его ошибки очень трудно выявить, да и в его правоте не сразу удостоверишься. Им можно только восхищаться, так как за минувшие после его кончины три века ни один писатель не выразил каких-либо сомнений по поводу мнений Гу Яньу. Здесь мы обнаруживаем противостояние логики и здравого смысла, который в Китае заменил и индукцию, и дедукцию. Аналитическая аргументация предполагает разделение истины на несколько аспектов для дальнейшего ее поиска, в результате истина теряет естественные внутренние связи и содержание. А здравый смысл рассматривает ситуацию как живой организм. У женщин здравый смысл часто более развит, чем у мужчин. В критических ситуациях я всегда доверяю именно решениям женщин. Они способны охватить внутренним взглядом всю картину целиком сразу, их не дезориентируют частности. В лучших китайских романах, таких как «Сон в красном тереме» и «Е соу пу янь» («Речи неотесанного старца»), женщины выступают самыми лучшими судьями, которые могут принять верное решение в любой ситуации. Их речи всесторонне обдуманы и восхищают слушателей. Логика, которой недостает здравого смысла, опасна. Если у человека уже сложилось определенное мнение, ему легко благодаря «научным мозгам» и аргументам a, b, c получить то, что нужно. Он похож на ученого Казобона из романа «Мидлдмарч» Дж. Элиот (псевдоним английской писательницы Мэри-Энн Эванс, 1819—1880. — Примеч. ред.), который не заметил в жизни жены того, что было очевидно любому мужчине. Такая религия здравого смысла имеет философскую основу. Любопытно, что китаец, оценивая корректность какого-либо утверждения, апеллирует не только к разуму, но и к человеческой природе. Понятие «разумность, рассудительность» по-китайски — цинли, «здравый смысл». Слово состоит из двух морфем: первая, цин, означает человеческую сущность, вторая, ли, означает небесный порядок. Цин — это переменный человеческий фактор, ли — неизменяемые законы космоса. Комбинация этих двух факторов и есть критерий при оценке каких-либо действий или исторических проблем. Оппозиция этих двух китайских понятий сходна с оппозицией смысла английских слов «reason» и «reasonableness» — «разум» и «рассудительность». Кажется, Аристотель сказал, что человек есть «рассуждающее», а не «рассудительное» существо. Согласно китайской философии, которая признает истинность этого тезиса, человек должен стараться быть рассудительным, а не просто резонерствовать. Вообще, китайцы рассудительность ставят выше разумности. Ведь разумность абстрактна, аналитична, основана на идеалах и имеет тенденцию к логическим крайностям. А рассудительность более реалистична, более гуманна, теснее связана с реальностью, помогает точнее оценить ситуацию. Для западного человека достаточно, если некий тезис обоснован логически. Для китайца этого далеко недостаточно, так как этот тезис должен также соответствовать человеческой природе, и это важнее, чем не противоречить логике. Китайцы готовы на все, чтобы противостоять тому, что соответствует разуму, но они никогда не согласятся с тем, что противоречит природе человека и здравому смыслу. Эта религия здравого смысла и преклонение перед рассудительностью оказали самое значительное влияние на жизненные идеалы китайцев, и в результате возникло учение о «золотой середине», о котором речь пойдет в следующей главе.
Интуиция
Однако такого рода форма мышления тоже имеет пределы, потому что логика здравого смысла применима только в отношении человеческих занятий и поступков и неприменима для объяснения загадок космоса. С помощью рассудительности люди могут разрешать возникшие между ними споры, но не в состоянии обнаружить местонахождение сердца, печени или определить функции поджелудочной железы. Поэтому, строя предположения относительно загадок природы и человеческого тела, китайцы в значительной степени следуют интуиции. И в результате китайцы, как ни странно, расположили сердце справа, а печень — слева. Широко образованный китайский ученый Юй Чжэнсе (1775—1840), чьи записки «Гуй-сы лэйгао» («Записки года гуй-сы») в свое время были весьма популярны, прочитал «Анатомию человека», переведенную на китайский язык иезуитами Якобом Ро, Джеймсом Терренсом и Никколо Лонгобарди, и узнал, что сердце находится слева, а печень — справа. И сделал вывод: раз у людей Запада и китайцев внутренние органы расположены неодинаково, то и религия у них неодинакова. Такого рода дедукция — прекрасный пример интуитивного умозаключения. Кроме того, раз у китайцев столь несовершенные внутренние органы, только они и могут стать христианами. Этот ученый шутливо заметил, что если бы иезуиты знали об этом, они не стали бы с таким рвением проповедовать в Китае, пытаясь сделать христианами наполовину нормальных людей. Он сделал такой вывод совершенно серьезно. На деле его метод — это типичный образец применения китайцами интуиции в области естественных наук и психологии. Однако теперь стали доверять научным методам, находя в них некий смысл. Хотя, возможно, кое-кто и придает слишком большое значение тезису о том, что «главная функция сахара в процессе производства мороженого — придавать мороженому сладкий вкус», все же теперь можно уйти от инфантильности мышления, свойственной упомянутому выше ученому. Ведь он, и не читая книги, мог нащупать то место, где у него бьется сердце. Но китайский книжник никогда не снизойдет даже и до такого физического труда. Китайские ученые не желали утруждать ни руки, ни глаза, занимаясь однообразной и нудной научной работой, предпочитали наивно доверять собственной интуиции. Поэтому они объясняли загадки человеческого тела и космоса совершенно произвольно. Китайская медицина и физиология построены на так называемых пяти первоэлементах даосской философии: металле, дереве, воде, огне и земле. Само человеческое тело есть символ космоса. Почки символизируют воду, желудок — землю, печень — огонь, легкие — металл, сердце — дерево. И нельзя сказать, что китайская медицина неэффективна. Считается, например, что у человека с повышенным давлением — чрезмерный «огонь в печени», а у человека с плохим пищеварением — «накопление земли». Слабительное используется для стимулирования работы почек и «помогает воде». Таким способом лечат болезни, связанные с расстройством пищеварения. Если у человека не в порядке нервная система, ему следует пить больше воды и прибегать к паллиативной терапии, с тем чтобы увеличить количество «почечной воды». Это понижает уровень «печеночного огня» и в результате нормализуется деятельность селезенки. Однако китайская медицина эффективна и дискуссии идут только по поводу диагностики. Итак, мы рассмотрели некоторые особенности китайского мышления. Перед интуицией, не связанной путами научных методов, открыт столь широкий простор, что она порой вырождается в наивное фантазирование. Одни направления китайской медицины основаны буквально на игре слов, другие — на фантастических ассоциациях. У жаб сморщенная кожа, поэтому ее применяют при лечении кожных заболеваний, а лягушки водятся в холодных и глубоких водоемах в горах и потому «охлаждают» разные органы тела. В последнее время шанхайская пресса рекламировала «растение в форме легкого», которое растет в провинции Сычуань и якобы помогает при туберкулезе легких. Такого рода рекламные объявления следуют одно за другим, пока люди не начинают верить, что, например, детям школьного возраста нельзя есть куриные лапки, иначе у них появится дурная привычка рвать книги. Мистическую силу доверия к словам можно наблюдать в разных областях жизни. Мы здесь не говорим ни о логике, ни о здравом смысле. Мы обсуждаем проблему возрождения первобытной психологии, которая воспринимает реальную действительность в неразрывном единстве с якобы населяющими ее фантастическими образами, причем реальное принципиально неотделимо от фантастического. Летучая мышь и олень — любимые животные, которые изображаются на вышивках, потому что слова «летучая мышь» и «счастье» звучат одинаково. «Олень» и «чиновничья власть» тоже звучат одинаково. В Китае жених и невеста после свадебной церемонии должны во время совместного ужина съесть блюдо, приготовленное из свиного сердца, что приводит к «единению сердец» и согласию между супругами. Трудно сказать, чего здесь больше — искренней веры или шутливой фантазии. Некоторые запреты соблюдаются строго. Если во время обеда в лодке вы перевернете рыбу на тарелке, лодочник встревожится, опасаясь, что, согласно примете, лодка перевернется. Он не знает, есть тут какой-либо резон или нет, но «люди так говорят», и он не намерен проверять, так ли это. Его сознание существует на границе реальности и фантазии, переплетенных между собой, как в волшебном сне.Воображение
Нужно со всей серьезностью постараться вникнуть в эти наивные представления — только тогда можно оказаться в мире китайской фантазии и китайской религии. Под так называемой религией я имею в виду чудесный рай и пекло ада, а также реальную живую душу, а не «Царство Божие внутри нас», бостонских унитариев, или веру в безликую, аморфную «силу внутри и вокруг нас, которая поддерживает праведников» от Мэтью Арнольда (1822—1882; английский поэт и критик. — Примеч. ред.). Этот воображаемый мир отнюдь не принадлежит одним только неграмотным. Сам Конфуций высказывал некоторые наивные мысли относительно духов, например: «Если кто-то хочет угодить духу юго-западного угла дома, то сначала надо попытаться задобрить духа очага». Он рассуждал о духах легко, непринужденно и увлекательно: «Совершайте жертвоприношения духам шэнь, как если бы они были рядом с вами, уважайте духов гуй, но держитесь от них подальше». Он очень хотел, чтобы духи существовали, при условии, что они дадут ему заниматься своим делом. Великий конфуцианец Хань Юй унаследовал эту детскую наивность в словах и поступках. Отстраненный от должности, он был отправлен правителем в отдаленную местность близ города Шаньтоу. Тамошние жители страдали от нападений крокодилов, и тогда он написал в возвышенном стиле — а он был выдающимся писателем — «Жертвенную мольбу к крокодилам», которой крокодилы вняли и убрались из тех мест[40]. Верил ли он на самом деле в эффективность своего послания-заклинания? На этот вопрос не может быть ответа. Сама постановка подобного вопроса означает полное непонимание сути дела, потому что ответ Хань Юя мог бы быть таким: «Откуда я знаю, что это правда, откуда вы знаете, что это неправда?» Это агностицизм, открытое признание того, что наш мозг не может разрешить подобные проблемы, и поэтому следует прекратить всякие попытки в этом направлении. Хань Юй обладал могучим разумом, был чужд суевериям. Он написал знаменитое увещевательное письмо, убеждая императора не посылать делегацию в Индию за «костями Будды». Я не сомневаюсь, что когда он писал свою «Жертвенную мольбу», то в душе смеялся над собой. Были и другие могучие умы, более рациональные (такие как Сыма Вэньгун, живший в X в.), которые пытались опровергнуть концепцию буддийского ада, вопрошая, почему китайцы не имели понятия об аде до знакомства с буддизмом. Однако такого рода рационализм вовсе не типичен для китайского менталитета. С моей точки зрения, самыми необыкновенными образами, созданными воображением китайцев, были, например, женщины-оборотни, персонажи новелл Ляо Чжая (Пу Сунлина). В этих историях описываются женщины-оборотни, чьи души были унижены и подверглись гонениям. Они появляются в образе служанок и рассказывают о своих несчастьях. И умершие любимые снова возвращаются в объятия своих любовников и рожают им детей. Эти полные глубокого чувства новеллы нравятся китайцам, так как китайские духи удивительно человечны, женщины-оборотни поразительно очаровательны, они любят и ревнуют, как обыкновенные люди. Это не те привидения, которых должен бояться студент, остающийся ночью один в своем кабинете. Когда свеча догорает и студент уже засыпает, он слышит шелест шелковых одежд, открывает глаза и видит скромную девушку 16-17 лет. В глазах ее светится любовь. Она смотрит на студента с улыбкой. Обычно это страстная и пылкая девушка. Скорее всего, такие истории сочиняли те самые одинокие студенты, которые воплощали в новеллах свои мечты. Такие девушки разными хитроумными способами доставали студентам деньги, чтобы помочь им избавиться от бедности. Если кто-то из студентов заболевал, девушка ухаживала за ним, пока он не поправлялся. Девушка была гораздо заботливее обычной современной сиделки. Более того, девушка порой старалась копить для студента деньги. Когда он уезжал, она терпеливо дожидалась его, даже если студент отсутствовал месяцы и годы. При этом девушка хранила целомудрие. Совместное проживание могло быть и долгим, и коротким, от нескольких дней до десятков лет, иногда до тех пор, пока девушка не рождала студенту сына. После того как он успешно сдавал государственные экзамены и возвращался домой, чтобы повидать мать, оказывалось, что роскошный дом исчез, а на его месте лишь старая-старая могила, и под ней пещера, в которой лежит мертвая старая лисица. Это и была одна из тех лисиц-оборотней, героинь новелл, столь любимых китайцами. В некоторых рассказах она оставляла записку о том, что очень не хочет расставаться с людьми, но она — лисица, которая лишь хотела пожить среди людей; теперь, раз люди достигли процветания, она выражает им благодарность и надеется, что ее простят. Это типично для китайского воображения: оно не парит в небесах, в мире божеств, а наделяет фантастические персонажи человеческими чувствами, человеческой печалью. Такое отношение к сверхъестественному характерно для язычников. Они соединяют фантастическое и реальное и вовсе не стремятся полностью объяснить мир с помощью рациональных аргументов. Это свойство китайского воображения не всем понятно, и я привожу ниже дошедшую до нас со времен династии Тан историю под названием «Прекрасная девушка оставляет душу». Основана ли эта история на фактах — неизвестно. Говорят, все описанное в ней произошло в 690 г., во времена правления императрицы У-хоу. В наших новеллах, драмах, произведениях ученого люда встречаются такого рода истории, в которых сверхъестественное выглядит достоверно, потому что оно воплощено в человеческих образах.Цяньнян была дочерью господина Чжан И — чиновника в провинции Хунань. У нее был двоюродный брат, которого звали Ван Чжоу, умный и красивый юноша. Они выросли вместе. Юноша ее отцу очень нравился, и Чжан И сказал, что возьмет его в зятья. Это обещание молодые люди слышали, и их любовь становилась сильнее с каждым днем. И вот они даже вступили в интимные отношения. Единственным, кто этого не знал, был Чжан И. Однажды один чиновник пришел к отцу просить руки его дочери, и Чжан И, нарушив или забыв свое прежнее обещание, согласился. Цяньнян, разрываясь между любовью и дочерней почтительностью, буквально умирала от горя, а молодой человек был так возмущен, что решил уехать, не желая, оставшись дома, видеть любимую женой другого. Он нашел предлог и сказал дядюшке, что собирается в столицу. Дядюшка не сумел отговорить Ван Чжоу, дал ему денег и устроил прощальный ужин в его честь. Ван Чжоу, охваченный печалью из-за разлуки с любимой, все время думал об этом во время ужина, но решил, что лучше уехать, чем продолжать безнадежный роман. Ван Чжоу сел в лодку, но не проплыл и нескольких ли, как стемнело, и он велел лодочнику причалить к берегу и стать на ночлег. Он никак не мог заснуть и ближе к полуночи вдруг услышал быстро приближающиеся шаги. Спустя несколько минут они уже были слышны совсем рядом. Он встал и спросил: «Кто здесь в такой поздний час?» — «Это я, Цяньнян», — последовал ответ. Удивленный от неожиданности и обрадованный, он помог ей сойти с берета в лодку, и там Цяньнян сказала Ван Чжоу, что мечтала стать его женой, что отец ее поступил с ним несправедливо и что она не может вынести разлуки с любимым. Она боялась, что, путешествуя в одиночестве по незнакомым местам, он может покончить с собой. Поэтому Цяньнян пренебрегла общественным мнением и гневом родителей, решила последовать за Ван Чжоу, куда бы он ни направился. И они, счастливые, продолжили путешествие в провинцию Сычуань. Прошло пять лет, они жили счастливо, Цяньнян родила любимому двоих сыновей. Но они не имели известий от семьи, и она каждый день вспоминала о родителях. Только это омрачало счастье супругов. Она не знала, живы ли ее родители, и однажды ночью стала рассказывать Ван Чжоу, что несчастна, что, будучи единственным ребенком в семье, проявила непочтительность к престарелым родителям, покинула их, чувство вины мучит ее. «В тебе говорит дочернее почтение к родителям, — сказал ее муж. — Я думаю так же, как и ты. Я думаю, что теперь, когда прошло пять лет, они уже не так сердятся на нас. Почему бы нам не вернуться домой?» Цяньнян очень обрадовалась этим словам, и они стали готовиться к поездке домой вместе с детьми. Когда лодка достигла их родного города, Ван Чжоу сказал Цяньнян: «Я не знаю, в каком состоянии твои родители, поэтому давай я сначала пойду один и все выясню». Его сердце затрепетало, когда он подходил к дому тестя. Увидев его, Ван Чжоу опустился перед тестем на колени и стал просить прощения. Чжан И был сильно удивлен и сказал: «О чем ты говоришь? Цяньнян вот уже пять лет, что прошли с тех пор, как ты уехал, лежит без сознания. Она ни разу не покидала постели». «Но я не лгу, — сказал Ван Чжоу. — Цяньнян здорова и ждет меня в лодке». Чжан И не знал, что и подумать, и послал двух служанок за Цяньнян. Они увидели ее в лодке, прекрасно одетую и счастливую. Цяньнян тут же попросила служанок сказать родителям о своей любви к ним. Совершенно растерянные, служанки поспешили домой. Их слова еще больше озадачили Чжан И. Тем временем та, которая лежала на кровати в спальне, услышала эти новости, и болезнь ее как будто прошла, взгляд ее просиял. Она встала с постели и оделась перед зеркалом. Затем, улыбаясь и не говоря ни слова, она пошла прямо к лодке. Та, что сидела в лодке, пошла к своему прежнему дому, и они повстречались на берегу реки. Когда они подошли ближе друг к другу, их тела слились, их одежда удвоилась, и появилась прежняя Цяньнян, еще более молодая и красивая. Ее родители очень обрадовались, но попросили слуг держать все в тайне и не говорить ничего соседям, чтобы избежать сплетен. Поэтому никто, кроме близких родственников семейства Чжан, не узнал о случившемся. Ван Чжоу и Цяньнян жили как муж и жена более сорока лет до самой смерти.Вероятно, потому, что в этом мире не все можно до конца объяснить, остается место и для воображения, и если оно работает верно, то делает мир еще прекрасней. Человеческая мудрость необходима для того, чтобы сделать наш мир удобным местом для жизни. В мире искусства воображение необходимо для того, чтобы покрыть обыденный, скучный мир прекрасной вуалью, чтобы сердца всего мира и наше сердце бились в унисон благодаря разделяемому всеми чувству прекрасного. В Китае искусство жить и искусство живописи и поэзии — единое целое. Ли Ливэн в конце XVII в. выразил это в таком пассаже:
Глава 4 ЖИЗНЕННЫЕ ИДЕАЛЫ
Китайский гуманизм
Чтобы понять китайский идеал жизни, необходимо сначала понять, что такое китайский гуманизм. Смысл слова «гуманизм» весьма расплывчатый, но у китайского гуманизма смысл вполне определенный. Во-первых, это ясное понимание цели жизни. Во-вторых, действие во имя достижения этой цели. В-третьих, способ действия: спокойствие и выдержка, т.е. следование принципу «золотой середины», который можно также характеризовать как «преклонение перед здравым смыслом». Вопрос «в чем смысл жизни?» всегда мучил европейских философов. Они исходили из телеологических представлений, считая, что все, включая москитов и тифозные палочки, существует на благо самоуверенного человечества. В жизни слишком много боли и страданий, поэтому на такой вопрос нельзя дать четкий ответ, который удовлетворял бы человеческую гордыню. Поэтому телеология ориентируется на будущую жизнь и рассматривает земную жизнь как подготовку к жизни после смерти. Это согласуется с логикой Сократа, который считал свою сварливую жену даром богов для закалки характера философа. Стремление уйти от разрешения сложных жизненных проблем временно успокаивает человека, но вопрос «в чем смысл жизни?» так и остается без ответа. Иные философы, например Ницше, берут быка за рога и отказываются признавать, что жизнь «должна» иметь смысл, они полагают, что прогресс человечества — это заколдованный круг, некий танец дикарей. Однако вопрос по-прежнему остается открытым и, подобно морским волнам, безостановочно разбивающимся о берег, звучит постоянно: «В чем же все-таки смысл жизни?» Китайские гуманисты считают, что они нашли истинный смысл жизни, и сознание это их не покидает. Для китайца жизнь в этом мире — не ради будущей жизни после смерти, для них непостижимо христианское учение о том, что мы живем, чтобы умереть. Нирвана для китайцев слишком метафизична. Борьба за что-то, чтобы радоваться достигнутыми успехами, для китайцев — обыкновенное тщеславие. Прогресс ради прогресса не имеет для них никакого смысла. Китайцы твердо знают, что истинный смысл жизни состоит в простых радостях жизни как таковой, прежде всего в радостях семейной жизни, в достижении гармоничных отношений с обществом. Вот первое стихотворение, которое дети учат в школе:Религия
Нет ничего более поразительного, чем упорная приверженность китайского гуманизма разработанным им истинным идеалам жизни и отрицание им любых теологических и метафизических фантазий, чуждых этим идеалам. Когда у нашего великого гуманиста Конфуция спросили, как он относится к проблеме смерти, он ответил известной фразой: «Не зная, что такое жизнь, можно ли знать, что такое смерть?» Один американский пресвитерианский священник как-то попытался внушить мне важность бессмертия души. Он сказал, что, согласно данным астрономии, солнце постепенно теряет тепловую энергию и, возможно, через несколько миллионов лет жизнь на нашей планете прекратится. «Разве ты не понимаешь, — спросил он, — что вопрос бессмертия очень важен?» Я ему ответил откровенно: «Меня это нисколько не беспокоит. Если человечество просуществует еще 500 тысяч лет, то у него будет предостаточно времени сделать то, что оно задумало, а все остальное — метафизическая суета». Недовольство бессмертной души предстоящим ей всего лишь полумиллионом лет существования — это такой абсурд, который люди Востока неспособны воспринять. Беспокойство пресвитерианского священника типично для германоязычных народов, а наше безразличие к этой проблеме — характерная особенность китайской души. Поэтому истинному китайцу стать христианином нелегко. Если же он все-таки пойдет на это, то, скорее всего, станет квакером, так как это единственное направление христианства, которое понятно китайцам. Христианство как образ жизни может привлечь китайцев, однако христианские верования и догматы отвергаются — и не конфуцианской логикой, а конфуцианским здравым смыслом. Буддизм, воспринятый образованными китайцами, это лишь своеобразная система духовной гигиены, позволяющая сохранять здоровье духа. В этом — квинтэссенция сунской философии. Все это потому, что китайцы упорно придерживаются собственного понимания жизненных идеалов. В китайской живописи и поэзии много творческого воображения, но в китайской этике и морали никакого творческого воображения нет вовсе. Живопись и поэзия одухотворены искренней любовью к природе и врожденным восхищением перед ней. Цель воображения в данном случае состоит в том, чтобы набросить прозрачную вуаль очарования на прозу жизни, но не для того, чтобы от этой прозы жизни избавиться. Китайцы горячо любят жизнь, любят свою землю и сами ни за что не откажутся от них ради невидимого рая. В Китае дорожат каждым мигом счастья — ведь оно так скоротечно. Китайцы любят свою нелегкую жизнь, в которой есть и короли, и нищие, разбойники и монахи, похороны и свадьбы, рождение детей и болезни, яркие закаты и дождливые ночи, роскошные пиры и скромные трапезы в шумных кабачках. Именно эти детали жизни так любят авторы китайских романов. Эти детали осязаемы, общедоступны, исполнены человечности, и все мы, люди, испытываем на себе их влияние. Вот в душный полдень, когда все семейство, от госпожи до служанок, отдыхало, Дайюй, сидевшая одна за пологом постели, услышала, как попугай выкрикнул имя хозяина. Это был праздник Середины Осени, незабываемый праздник в таком-то году. Баоюй и его сестры, собравшись вместе и сочиняя стихи, шутили и смеялись, лакомясь крабами на праздничном пиру и наслаждаясь полным, безмятежным счастьем. Такое счастье — ненадолго; как говорят китайцы, кончится полнолуние, конец и счастью. Быть может, этой лунной ночью наивная парочка молодоженов на берегу пруда молилась, чтобы вместе дожить до седых волос. Однако тучи уже наползали на луну, а издали донесся странный звук, как будто беззаботно плававшая утка, застигнутая голодной лисой, внезапно нырнула. Молодые невольно вздрогнули, а на следующий день у них сильно поднялась температура. Да, такую трогательную красивую жизнь действительно следует записать в подробностях. В обыденной жизни ничто не может быть чрезмерно прозаичным, слишком вульгарным, чтобы нельзя было все это описать в романе. В китайских романах во всех подробностях описывается, какие блюда подавали на семейном пиру или на ужин путнику на постоялом дворе. Затем обычно следует описание болей в желудке и прогулок по пустырю — месту для отправления естественных надобностей. Китайские романисты так пишут, а китайские мужчины и женщины так поступают. Эта жизнь достаточно богата событиями и без праздных размышлений о бессмертии души. Такой приземленный характер жизненных идеалов у китайцев основан на конфуцианстве, которое, в отличие от христианства, прочно стоит на земле, порождено землей. Иисус был романтиком, а Конфуций — реалистом; Иисус был мистиком, а Конфуций — позитивистом; Иисус милосерд к людям, а Конфуций был гуманистом. На примере этих двух выдающихся личностей можно противопоставить друг другу порожденную иудаизмом религию и мистику — и китайский реализм и здравый смысл. Строго говоря, конфуцианство не религия: в его рамках изложены принципы отношения к жизни и мирозданию, которые порой близки религиозным переживаниям, однако ими не являются. В мире были великие люди, которые не проявляли интереса ни к будущей жизни в загробном мире, ни к бессмертию души, ни к духовному миру в целом. Их философия никогда не удовлетворяла германоязычные народы, наверняка никогда не удовлетворит иудеев, но в целом подходит китайцам. Однако, ниже мы увидим, что эта философия не подошла даже китайцам и как этот вакуум был заполнен буддизмом и даосизмом с их тягой к сверхъестественному. Однако в Китае все сверхъестественное не влияет на жизненные идеалы. Точнее, признание сверхъестественного и чудесного дает отдушину для «выхлопа» эмоций, и это помогает сделать сносной тяжелую жизнь. Конфуцианство было настолько антропоцентрично, что ни Конфуция, ни кого-либо из его учеников никогда не обожествляли, тогда как в китайской истории немало менее известных личностей — литераторов и военачальников — были канонизированы и обожествлены. Оклеветанная и опозоренная женщина из простой семьи смертью доказывала свое целомудрие. После этого она поразительно быстро становилась популярной местной богиней, которой поклонялись крестьяне всей деревни. Следующий пример хорошо подтверждает сущность конфуцианского антропоцентризма. Во времена Троецарствия (III в.) храбрый и преданный военачальник Гуань Юй стал божеством и ему поклонялись, а Конфуций и его предки божествами так и не стали. Иконоборцам в храме Конфуция делать нечего. Прямоугольные поминальные таблички в храмах Конфуция и храмах предков, на которых написаны имена этих предков, никакого отношения к идолопоклонству не имеют. Более того, духи предков не являются божествами, это простые смертные, которые, уйдя в мир иной, как живые, продолжают заботиться о своих потомках. Если они и в самом деле великие духи, то, возможно, смогут защитить детей и внуков, но они и сами нуждаются в их защите, в том, чтобы получать от детей пищу для утоления голода и превращенные в пепел бумажные деньги, которые необходимы им для оплаты расходов в преисподней. Потомки, кроме того, обязаны с помощью буддийских молитв вызволять души предков из ада. Одним словом, покойные предки нуждаются в заботе точно так же, как вообще старые люди. Такая практика приближает конфуцианство к религиозному учению. Я часто с интересом наблюдал различия между религиозной культурой христианского мира и агностицизмом китайской культуры. В то же время я видел, как эти различия отвечают потребностям людей. И их интересы в основном совпадают. Сами различия в их обычном понимании совпадают с тремя функциями религии. Во-первых, религия и ее догматы, апостольская традиция, вера в чудеса и спасение человечества, в реальные рай и ад, духовенство, имеющее право отпускать грехи, — все это дело простое и удобное. Такая религия подойдет любому народу. И китайцы не исключение. Можно сказать, что религия может удовлетворить неодинаковые потребности людей в разные периоды развития человеческой цивилизации. Люди испытывают потребность в такой религии, а конфуцианство удовлетворить ее не может. Вот даосизм и буддизм и призваны удовлетворить эти потребности китайцев. Во-вторых, религия — это сдерживающий фактор, побуждающий людей не совершать аморальных поступков. Здесь точки зрения у христиан и китайцев сильно расходятся. Этика китайского гуманизма ставит в центр мироздания человека, а не Бога. С точки зрения людей Запада, почти невозможно удерживать взаимоотношения людей в рамках морали, не прибегая к помощи свыше. А китайцам представляется поразительным мнение, будто без помощи божественного третьего лица невозможно вести себя пристойно в отношениях с другим человеком. С китайской точки зрения, человек должен совершать добрые дела просто потому, что это добрые дела, проникнутые гуманным отношением друг к другу. Я часто задумываюсь над тем, в каком направлении развивалась бы этика в Европе, если бы не деятельность апостола Павла и его теология. Думаю, что европейская этика в силу вещей стала бы развиваться в направлении, намеченном Марком Аврелием. Теология апостола Павла привнесла в европейскую этику иудейское понятие греха, которое проникло во все сферы христианской этики и от которого нет спасения, помимо догмата об искуплении первородного греха. Если однажды европейская этика расторгнет связи с религией, многим это предположение покажется весьма странным. Мысль о том, что такое вообще возможно, редко приходит кому-либо в голову. В-третьих, религия порождает и питает живые эмоции, дает ощутить мрачное величие и таинственность Вселенной, санкционирует поиск гарантий безопасности в жизни, удовлетворяет самые глубинные духовные устремления человека. Бывают такие моменты: мы только что потеряли близкого человека, или выздоравливаем после тяжелой болезни, или прохладным осенним утром видим опадающую листву — нас охватывает предчувствие близкой смерти, ощущение эфемерности жизни. Именно тогда человек осознает, что жизнь чувств и ощущений — это не все, что за гранью реального мира есть еще Великое Нечто. Такое случается и у европейцев, и у китайцев, однако реакция на это тех и других совершенно разная. С моей точки зрения (христианина в прошлом, а ныне язычника), хотя религия на любой вопрос дает готовый утешительный ответ, она все же отвлекает нас от ощущения непостижимости всего таинственного в нашей трагической жизни, от чувства щемящей грусти, от ощущений, которые мы называем поэзией. Христианский оптимизм убивает любую поэзию. А у язычника нет готовых ответов на все вопросы, он наделен неутолимым чувством таинственного и жаждет безопасного существования, но не в состоянии обрести его неминуемо приходит к пантеистической поэзии. И действительно, у китайцев религию заменила поэзия — начало вдохновляющее и живое. Это мы еще увидим, когда будем говорить о китайской поэзии. Для людей Запада, у которых отсутствует свойственное китайцам пантеистическое отношение к природе, религия представляется естественным выходом. Однако, с точки зрения язычника, религия построена на страхе, обусловленном тем, что в этом мире не хватает творческой фантазии для удовлетворения человеческих эмоций, что буковых рощ Дании и песчаных пляжей Средиземноморского побережья недостаточно для уврачевания страждущих душ. И тогда приходится начать поиски сверхъестественного. Однако конфуцианский здравый смысл отвергает сверхъестественное, поскольку оно принадлежит области непознаваемого, поэтому конфуцианцы практически не уделяют ему внимания. Напротив, они с пафосом провозглашают превосходство человеческого разума над природой, отвергают образ жизни, предполагающий близость к природе. Наиболее четко это мнение сформулировал Мэн-цзы. Согласно конфуцианству, существует триада «Небо, Земля и Человек, они — три основы Вселенной». Эта концепция напоминает триаду Ирвинга Бэббита (1865—1933; американский литературный критик. — Примеч. ред.), включающую сверхъестественное, человеческое и природное начала. Небо состоит из облаков, звезд и всех непознаваемых сил, которые на Западе считаются«творениями Бога». А Земля, природное начало, состоит из гор, рек и других сил, которыми управляет греческая богиня Деметра. Человек же занимает важное место между Небом и Землей. Человек знает свое место в мире и гордится им. Его душа напоминает крышу китайского дома: нависая над землей, она не возносится к небесам подобно готическому шпилю. Достигший такого величия человеческий дух служит мерой гармонии и счастья в земной жизни. Крыша в китайском стиле намекает на то, что счастье надо искать прежде всего в семье. Семья, по-моему, это символ китайского гуманизма. И нужно еще создать шедевр — улучшенную версию «Любви небесной и любви земной». На ней следует, помимо двух женщин — бледнолицей монахини (или миссионерки с зонтом в руке) и сладострастной куртизанки, — изобразить излучающую сияние будущую мать на третьем месяце беременности. Весь облик этой самой что ни на есть простой, самой обыкновенной домашней хозяйки должен выражать полную и подлинную удовлетворенность. Эти женщины и будут представлять соответственно религию, природное начало и человеческое начало — три типичных образа жизни. Вообще, подлинной простоты очень трудно достичь, поскольку простота — это качество великих умов. Китайцы выработали идеал простоты, и вовсе не из-за своей лени, нелюбви к каким бы то ни было усилиям, а в результате поклонения простоте, этой Религии Здравого Смысла. Мы сейчас рассмотрим, как этого удалось достичь.Учение о «золотой середине»
Религия здравого смысла и рассудительности — это важнейшая составная часть конфуцианского гуманизма. Именно на рассудительности основан принцип «золотой середины» — один из главных в конфуцианском учении. В предыдущей главе упоминалось о рассудительности, противостоящей логике и разуму. Было показано, что рассудительность в значительной мере вытекает из интуиции и практически идентична здравому смыслу. Китайца не убеждает словосочетание «логически корректно», для него гораздо важнее соответствие чего бы то ни было человеческой природе. Целью классического китайского образования всегда было воспитание людей рассудительных, которые и являются носителями образцовой китайской культуры. Каждый образованный человек должен прежде всего быть рассудительным, отличаться здравым смыслом, самообладанием, умеренностью во всем, он должен чуждаться абстрактных теорий и логических крайностей. Здравым смыслом обладают все простые люди. Ученым же постоянно грозит опасность утратить здравый смысл. Они слишком много внимания уделяют теориям, тогда как люди рассудительные, т.е. люди китайской культуры, должны избегать любых крайностей как в теории, так и на практике. Например, английский историк Джеймс Фруд (1818—1894) писал, что женитьба Генриха VIII на Екатерине Арагонской была вызвана чисто политическими причинами, а другой историк, епископ Лондонский М. Крейтон (1843—1901), напротив, утверждал, что этот брак был продиктован исключительно животной похотью. Исходя из здравого смысла, скорее всего, близки истине обе точки зрения. На Западе один ученый может быть одержим теорией наследственности, другой — влиянием окружающей среды, и каждый из них с тупой настойчивостью доказывает свою правоту, ссылаясь на собственные глубокие познания. А восточные люди, не мудрствуя лукаво, обязательно сойдутся на том, что прав и тот, и другой. Вот типично китайское умозаключение: «А прав, и В не неправ». Такого рода самодостаточность возмущает тех, кто привык к логическому мышлению, — ну и что с того? Тот, кто рассудителен, сохраняет душевное равновесие, а тот, кто привержен логике, это равновесие теряет. Невозможно представить себе, чтобы китайский художник подобно Пикассо, прибегнув к логике, свел бы многообразный мир вещей к конусам, плоскостям и ломаным линиям, а потом эту идею реализовал в рисунке. Мы вполне обоснованно не доверяем слишком неопровержимым аргументам и слишком логичным теориям. Лучшее и самое эффективное противоядие от таких логических чудачеств — здравый смысл. Бертран Рассел как-то сказал: «В искусстве они [китайцы] стремятся к утонченности, в жизни — к рассудительности». Культ здравого смысла породил сильную неприязнь ко всем экстравагантным идеям и эксцессам морального плана. В результате вполне естественно возникло учение о «золотой середине», которое сродни греческому идеалу — «ничего чрезмерного». «Умеренность» по-китайски — чжун хэ (срединность и гармония), слово «сдержанность» — цзе (контроль до нужного уровня). В «Шу цзине» («Книга исторических преданий») зафиксирован самый ранний политический документ, в котором приводится совет императора Яо своему преемнику императору Шуню: «Придерживайся середины!». Мэн-цзы сказал о другом идеальном императоре древности: «Тан держался середины». Говорят, император Тан всегда «прислушивался к двум крайним мнениям и на благо народа выбирал середину». Это означает, что он выслушивал два противоположных суждения, а потом каждому давал оценку и делал поправку на 50%. Китайцы признавали огромную важность учения о «золотой середине» и даже назвали свою страну Срединным государством. И дело здесь не только в географии, но и в жизненных идеалах китайцев, прежде всего в неприятии крайностей, в приверженности запросам простой человеческой жизни, несмотря на всю их тривиальность. В итоге наши мудрецы пришли к выводу, что открыли главную истину, общую для всех философских школ. Учение о «золотой середине» охватывает все. Оно размывает все теории и разрушает все религии и верования. Предположим, что спорят буддийский монах и конфуцианец. Буддийский монах, вполне возможно, будет без конца доказывать иллюзорность вещей и явлений и тщету жизни, а конфуцианец просто ответит в своей прозаической, лишенной логики манере: если каждый человек, как ты, пострижется в монахи, во что превратится мир, государство, человечество? Это не соответствует логике, но вполне укладывается в рамки здравого смысла. Такой жизненный критерий представляет собой вызов не только буддизму, но и всем религиям и теориям. Мы не можем быть логичными в полной мере. На деле все теории потому и становятся теориями, что их создатели, отстаивая свои мнения, доходят до психоза. Фрейдистские комплексы — это иная форма существования самого Фрейда. Поэтому все теории, неважно, чьи они, Фрейда или Шакьямуни, основаны на преувеличениях и потому иллюзорны. Страдания человечества, неприятности супружеской жизни, беды нищих, боль и стоны больных — все это, с точки зрения простых людей, вещи, которые мгновенно воздействуют на человека и так же быстро забываются. Однако те же явления затронули сверхчувствительные нервы Шакьямуни с такой силой, что он сформулировал концепцию нирваны. Конфуцианство, напротив, это религия простых людей, которые не могут себе позволить быть сверхчувствительными — иначе разобьется вдребезги весь мир. Роль учения о «золотой середине» проявляется в различных областях жизни и знаний. Рассуждая логически, мужчинам не следует жениться, однако, исходя из реальности, все мужчины должны жениться, поэтому конфуцианцы рекомендуют брак. По логике вещей все люди равны, но на самом деле это не так, поэтому конфуцианцы учат уважать и слушаться учителей и старших. Согласно логике, между мужчиной и женщиной нет различий, а на самом деле они есть, поэтому конфуцианцы подчеркивают различия полов. Философ Мо-цзы учил любить всех, а другой философ, Ян Чжу, учил любить самих себя. Мэн-цзы критиковал обоих, заявляя, что нужно любить родителей. Это поистине мудрое высказывание. Один философ считал, что чувства следует сдерживать, другой — что нужно следовать природе. Внук Конфуция Цзы Сы в трактате «Чжун юн» («Золотая середина») призывал к умеренности во всем. Что касается полового влечения, то есть два противоположных взгляда на сексуальную этику. Один представлен буддизмом и кальвинизмом, согласно которым секс — это худший из грехов. Отсюда, естественно, возник аскетизм. Сторонники другой крайней точки зрения прославляют силу мужских чресел, и многие современные мужчины являются тайными сторонниками такой точки зрения. Конфликт между сторонниками обеих точек зрения ввергает наших современников в смятение. Если же, по примеру X. Эллиса, занять по отношению к проблеме секса ясную и здравую позицию и рассматривать его как проявление нормальных человеческих страстей, то мы неизбежно разделим мнение древних греков, т.е. придем к гуманной точке зрения. Конфуцианцы считают, что секс — совершенно нормальная функция, тем более что он связан с семьей и продолжением рода. Но самая мудрая точка зрения относительно секса, на мой взгляд, изложена в романе «Е соу пу янь», автор которого придерживается именно конфуцианской точки зрения. В романе разоблачается и высмеивается разнузданная жизнь буддийских монахов. Главный герой, конфуцианский супермен, пытается уговорить холостяков-разбойников жениться на бандитках и рожать детей во славу своих предков. В отличие от романа «Цзинь пин мэй» («Цветы сливы в золотой вазе»), посвященного распутству, мужчины и женщины «Е соу пу янь» — славные, хорошие люди, которые станут идеальными мужьями и женами. Это произведение считается непристойным только потому, что его автор ставит мужчин и женщин в компрометирующие их ситуации. Однако в целом автор романа энергично защищает брак и семью и воспевает материнство. Такая точка зрения на секс иллюстрирует отношение конфуцианства к чувственности, как оно трактуется в трактате «Чжун юн». Следовать учению «золотой середины» очень трудно, и об этом свидетельствуют крайности — по мнению людей Востока — западных теорий. Очень легко стать рабом теорий — национализма, фашизма, социализма и коммунизма, которые порождены чрезмерной индустриализацией. В результате легко забыть, что государство существует для человека, а не наоборот. В коммунистических странах считается, что отдельный человек — это член какого-либо класса или государственного организма. Такое государство теряет всякую привлекательность, особенно если иметь в виду конфуцианские рассуждения о непреложных истинах человеческой жизни. Вопреки любым системам индивид утверждает право на существование и стремление к счастью. Ибо право на счастье даже важнее всех политических прав. Фашистскому Китаю было бы очень трудно заставить образованных китайцев поверить, что мощь государства важнее, чем личное счастье. Люди, внимательно наблюдавшие за установлением коммунистической власти в провинции Цзянси, указали самую важную причину поражения коммунизма в Китае. Несмотря на то, что коммунизм намного превосходит феодализм, жизнь при коммунизме слишком регламентирована и крайне негуманна. Однако культ рассудительности, породивший у китайцев ненависть к логическим крайностям, привел и к отрицательным результатам. Китайцы как нация неспособны доверять каким бы то ни было системам. Ведь система, как всякий механизм, принципиально негуманна, а китайцы ненавидят все негуманное. Отрицательное отношение к любому закону и правительству настолько сильно, что правление, основанное на законах, в Китае невозможно. Действующее строго по закону, нелицеприятное и истинно бескорыстное правительство никогда не добивалось у нас успеха, потому что люди отвергали его. Концепцию правления на основе законов выдвинули и развили китайские мыслители в III в. до н.э. Ее попытался реализовать Шан Ян (IV в. до н.э.) — на редкость успешный администратор, укрепивший царство Цинь и поплатившийся за это жизнью. Царство Цинь занимало территорию нынешней провинции Ганьсу, и есть основания считать, что частично оно было населено варварскими племенами. Система правления на основании законов позволила царству Цинь создать высокоэффективную военную машину, с помощью которой был объединен Китай. Империя Цинь в течение следующих примерно 20 лет распространяла свою систему на всю страну, но потерпела крах и была уничтожена. Строить Великую Китайскую стену было необходимо, но ее строили столь негуманными методами, что ближайший преемник Цинь Шихуана, императора-объединителя Китая, лишился власти и жизни в 206 г. до н.э. Вместе с тем китайские гуманисты поддерживали принцип личной власти, а китайский народ всегда жил под управлением личной власти. По мнению конфуцианских книжников, недостатки системы, т.е. принцип цзин, всегда можно было восполнить принципом целесообразности цюань. Правлению на основе законов китайцы предпочли правление благородных совершенномудрых мужей-цзюньцзы — персоналистское, более гибкое и более соответствовавшее традиционным представлениям о гуманности. Слишком опрометчиво было бы предполагать, что в Китае достаточно благородных совершенномудрых мужей для управления государством. Столь же опрометчиво предполагать, будто, согласно демократическим принципам, истину можно найти, подсчитав на арифмометре неодинаковые мнения людей, которые не слишком склонны предаваться размышлениям. Ни одна из этих систем не совершенна, и это общепризнано. Однако система личной власти вроде бы во все времена отвечала китайским представлениям о гуманности, китайскому индивидуализму и любви китайцев к свободе. Эта особенность — отсутствие системы — характеризует все наши общественные организации, государственную гражданскую службу, университеты, клубы, железную дорогу, судоходные компании, а также все прочие организации, кроме почты и таможни, которые контролируются иностранцами. Повсюду решающее значение имеет личный фактор, кумовство и фаворитизм. И лишь люди с холодной головой и «железным лицом» способны отбросить личный интерес и строго следовать законам в делах правления. Однако таких людей с «железными лицами» в Китае не очень любят, потому что они плохие конфуцианцы. В итоге стало окончательно ясно, что китайцам недостает социальной дисциплины, и это самая роковая черта китайского характера. Таким образом, китайцы совершают ошибки потому, что они слишком гуманны. Ибо желание быть благоразумным соответствует природе человека. У англичан сказать человеку: «Будь благоразумным!» — значит взывать к его природе. В «Пигмалионе» отец цветочницы Дулиттл выпрашивает у профессора Хиггинса 5 фунтов и при этом заявляет: «Разве это правильно?.. Дочь принадлежит мне. Теперь она ваша. А мне что остается?». Дулиттл фактически действует согласно китайским представлениям о гуманизме, когда он, клянча 5 фунтов, отказывается от предложенных Хиггинсом 10 фунтов. По словам Дулиттла, лишние деньги принесут ему несчастье, а истинный гуманист просит деньги только для того, чтобы испытать радость, купив на них немного выпивки. Другими словами, Дулиттл — конфуцианец: он знает, что ему нужно, чтобы быть счастливым, и ему этого довольно. Благодаря стремлению всегда быть благоразумными, китайцы развили способность к компромиссу, и это тоже плод учения о «золотой середине». Когда англичанин не знает, куда отдать учиться сына — в Кембридж или в Оксфорд, — он, возможно, просто-напросто отправит его в Бирмингем. И сын, выехав из Лондона и прибыв в Блетчли, направится не на восток — в Кембридж и не на запад — в Оксфорд, а прямо на север — в Бирмингем, тем самым придерживаясь принципа «золотой середины». Поездка в Бирмингем имеет некие преимущества: он достиг цели, не оскорбив ни Кембридж, ни Оксфорд. Если такое применение учения о «золотой середине» понятно, то можно понять игры китайских политиков за последние 30 лет и с закрытыми глазами предсказать результат любой китайской политической декларации. И эти литературные фейерверки уже не будут страшны.Даосизм
Однако в полной ли мере конфуцианская гуманность отвечает надеждам и чаяниям китайцев? Ответ и утвердительный, и отрицательный. Если бы это было так, если бы конфуцианство удовлетворяло запросы подсознания, то в китайской душе не осталось бы места для даосизма и буддизма. Конфуцианский идеал «золотой середины» прекрасно подходит обычному человеку, неважно, носит ли он чиновничий халат или отбивает чиновникам земные поклоны. Но есть и другие — те, кто не в чиновничьем халате, не отбивает земные поклоны носителям власти. У таких людей душа запрятана глубоко, конфуцианство до нее не доходит. Конфуцианство — в строгом смысле этого понятия — слишком ортодоксально, слишком благоразумно и слишком правильно. У человека могут быть скрытые желания, например, расхаживать по улицам непричесанным, но конфуцианство этого не допускает. Человек, которому нравится ходить растрепанным и босяком, обратился к даосизму. Мы уже отмечали, что отношение к жизни у конфуцианцев позитивное, а у даосов — негативное. Даосизм — это Великое Отрицание, а конфуцианство — Великое Утверждение. Конфуцианство ставит на первое место социальный статус и пристойное поведение, оно отстаивает умеренность и цивилизованность, тогда как даосизм воспевает возврат к природе, отвергает и умеренность, и человеческое общество с его цивилизованностью. Двумя важнейшими добродетелями конфуцианства являются гуманность и справедливость. Однако Лао-цзы саркастически отмечал: «Есть культура — тогда есть и гуманность, нет гуманности — тогда есть справедливость» (вольный пересказ автором одного из тезисов «Дао дэ цзина. — Примеч. ред.). Конфуцианство в основном городская философия, а даосизм — деревенская. Современный конфуцианец будет пить пастеризованное молоко первого сорта, которое продают в городах, а даос по-крестьянски зачерпнет молоко прямо из ведра доярки. Потому что Лао-цзы, возможно, скептически отнесся бы к лицензиям на право торговли, мерам дезинфекции и к молоку так называемого первого сорта, поскольку оно утратило естественный аромат и в нем уже ощущается привкус бухгалтерии и банковских лицевых счетов. И кто, попробовав деревенского молочка, усомнится в правоте Лао-цзы? Служащие ведомства могут защитить молоко от тифозной палочки, но они не могут защитить его от крыс цивилизации. У конфуцианства есть и другие недостатки. Оно слишком реалистично и не оставляет людям ни малейшего пространства для увлечений и воображения. А ведь у китайцев столь богатое, по-детски развитое воображение. Они склонны к тому, что мы называем магией и суевериями! Китайцы всегда способны удивляться, а это качество свойственно молодым людям. Конфуцианство признает существование духов, однако старается держаться от них подальше. Конфуцианство признает также существование духов гор и рек и духов предков, однако для конфуцианца нет ни рая, ни ада, ни иерархии божеств, ни космогонии, его мало интересуют магия и пилюли бессмертия. А ведь даже склонные к рациональности простые китайцы, кроме ученых-конфуцианцев, всегда в душе лелеяли мечту о бессмертии. Для конфуцианца нет злых и добрых волшебников и волшебниц, а для даоса они есть. Короче говоря, даосизм подарил людям детский мир чудес, фантазии и таинственности — именно то, чего не могло им дать конфуцианство. Даосизм, таким образом, обращен к тем сторонам китайского характера, которые для конфуцианства не существуют. Нация, как и отдельный человек, обладает неким стихийным романтизмом и стихийным классицизмом. Даосизм — это романтическая школа китайской мысли, а конфуцианство — классическая школа. В самом деле, даосизм буквально пронизан романтизмом. Во-первых, он проповедует возврат к природе и романтическое бегство от мирской суеты, восстает против искусственности конфуцианской культуры и бремени налагаемых ею ограничений. Во-вторых, он отстаивает сельские идеалы в жизни, искусстве и литературе, воспевает первозданную простоту. В-третьих, он стоит на страже мира чудес и фантазии с его детски наивной космогонией. Китайцев принято считать практичной нацией. Однако романтическая сторона их характера укоренена глубже, чем практицизм и проявляется в крайнем индивидуализме, свободолюбии и жизнерадостности, что совершенно озадачивает иностранных обозревателей. Мне кажется, что эта черта национального характера еще более возвеличивает китайский народ. В душе каждого китайца скрывается скиталец, бродяга. Жизнь, обремененная конфуцианскими ограничениями, была бы невыносима без этой эмоциональной отдушины. Даосизм создает склонность китайцев к игре, а конфуцианство — к работе. Вот почему каждый китаец, добившийся успеха — конфуцианец, а потерпевший неудачу — даос. Даосский натурализм — это бальзам на больную, страждущую душу китайца. Интересно, что даосизм выглядит более китайским учением даже по сравнению с конфуцианством. Натуралистическая философия Лао-цзы и народная фантазия, работая вместе, разработали чисто китайскую интерпретацию мира духов. Сам Лао-цзы никогда не занимался ни пилюлями бессмертия, ни магией. Его философия — попустительство в политике и натурализм в этике. Он считал, что идеальное правительство — это «правительство, которое ничего не делает». Человек нуждается лишь в изначальной абсолютной свободе. Лао-цзы писал, что цивилизация есть начало вырождения человечества, конфуцианские мудрецы — это главные преступники, растлевающие народ. А Ницше считал Сократа главным преступником, который развратил Европу. Лао-цзы мудро заметил: «Пока мудрецы не вымрут, разбойникам конца не будет». Его блистательный последователь Чжуан-цзы тоже писал едкие сатиры на конфуцианское лицемерие и никчемность. Легко было высмеивать конфуцианцев, так как они сами дали повод для этого, поскольку обращали слишком много внимания на мелочи ритуала, различия в церемонии погребения для лиц, занимающих неодинаковое положение в обществе — вплоть до толщины гробовой доски. К тому же многие из них слишком пламенно мечтали о чиновничьей карьере. Ненависть даосизма к конфуцианству — это естественная ненависть романтиков к классикам. Быть может, это и не ненависть, а лишь с трудом сдерживаемая насмешка. От такого всеохватывающего скептицизма лишь один шаг до побега из этого мира и возврата к природе. Говорят, что Лао-цзы в старости оставил свой пост, он исчез за заставой Ханьгугуань. Чуский князь в свое время предложил Чжуан-цзы высокий чиновничий пост, на что Чжуан-цзы ответил князю: «Будет ли мудрым поступком дать себя запереть как свинью, которую, откормив, потом зарежут на жертвенном алтаре?» С тех пор даосизм всегда ассоциировался с отшельничеством, уединением в горах, преклонением перед сельской жизнью, духовным самосовершенствованием и отказом от всех мирских забот и треволнений. Таковы самые характерные черты чарующей китайской культуры — преклонение перед сельской идиллией, искусством и литературой. Можно задаться вопросом: насколько эти идеалы связаны с Лао-цзы? Если сравнивать трактат Лао-цзы «Дао дэ цзин» с произведением Чжуан-цзы, часто именуемого китайским Ницше, то первый по своим литературным достоинствам несколько уступает второму, однако в нем в большей степени сконцентрирована суть мудрости, исполненной прожженного лукавства. С моей точки зрения, это самая блистательная и озорная философия самозащиты в мировой литературе. Она учит не только попустительству власти и пассивному сопротивлению ей, но и поиску мудрости в глупости, силы — в слабости, пользы — в унижении, учит спасительности притворства. Одно из изречений Лао-цзы гласит: «Никогда не будь в Поднебесной первым», так как в этом случае тебе никогда не будет грозить нападение и, следовательно, никогда не будешь повержен ниц. Насколько я знаю, это единственная миру известная теория, в рамках которой невежество и глупость объявлены наилучшей формой притворства в жизненной борьбе. Сама же теория — высшее достижение человеческой мудрости. В лице Лао-цзы человеческая мудрость обнаружила грозящие ей опасности и начала проповедовать: «Будь глупым!». Человеческая мудрость глазами Лао-цзы увидела тщету мирской суеты и стала проповедовать недеяние ради сохранения жизненной энергии и продления жизни. Так, позитивное мировоззрение стало негативным, и его влияние распространилось на всю культуру Востока. В романе «Е соу пу янь» и во всех жизнеописаниях великих китайцев можно увидеть, как разбойник или отшельник превращается в человека от мира сего. Он принимает на себя ответственность за ближних, что всегда было свойственно именно конфуцианской мысли, тогда как романтическое бегство от мира всегда было свойственно даосской и буддийской мысли. В китайском языке эти две противоположные позиции именуются «вхождением в мир» и «выходом из мира». Иногда один и тот же человек в разные периоды своей жизни то борется за первенство, как, например, поэт и писатель Юань Чжунлан или ныне здравствующий профессор Лян Шумин. Сначала он был буддистом и жил в горах, но затем обратился к конфуцианству, женился и ныне руководит сельской средней школой в провинции Шаньдун. Сельский идеал жизни, искусства и литературы — столь важная черта китайской цивилизации — в большой мере порожден даосским отношением к природе. В свитках китайской живописи и в росписях на фарфоре доминируют две темы — счастье семейной жизни (изображения женщин и детей на досуге) и радости сельской жизни (изображения рыбака, дровосека или отшельника, сидящего под сосной). Обе темы представляют идеал жизни соответственно конфуцианцев и даосов. Дровосеки, сборщики лекарственных трав, отшельники тесно связаны с даосизмом, о чем иностранцы даже не подозревают. Даосские настроения прекрасно выражены в следующем популярном стихотворении:Буддизм
Буддизм — единственная иностранная религия, ставшая неотъемлемой частью китайской жизни. Его влияние настолько велико, что теперь мы называем детские куклы, а иногда и самих детей «маленькими бодхисаттвами» (сяо пуса), а императрицу Цы Си — «старым Буддой». Богиня милосердия Гуаньинь и смеющийся Будда Милэ (Майтрейя) стали персонажами крылатых выражений. Буддизм оказал воздействие на наш язык, пищу, искусство и скульптуру и принес в Китай ставшие для него характерными пагоды. Он вдохновил нашу литературу, оживил наше воображение. Силуэт бритоголового, одетого в серый халат монаха стал привычной частью панорамы нашего общества. Именно буддийские, а не конфуцианские храмы стали центрами общественной жизни в деревнях и городах. Именно там собираются люди старшего поколения, чтобы обсудить деревенские дела. Там же проводятся ежегодные праздники. Монахи и монахини стали проникать в частную жизнь китайских семей, принимая участие в таких событиях, как празднование рождения детей, похороны и свадьбы, чего никому больше не позволялось делать. Как свидетельствуют китайские романы, мало найдется вдов и девственниц, которых можно было бы обольстить, не прибегая к помощи монахов или монахинь. Одним словом, буддизм для китайцев значит столько же, сколько религия той или иной страны значит для исповедующих ее людей, т.е. буддизм помогает простым людям, попавшим в беду. В современном Китае буддийские монахи пользуются большей популярностью, чем даосские. На один даосский храм (гуань) приходится десять буддийских (мяо). В 1933—1934 гг. Панчен-лама из Тибета окропил святой водой десятки тысяч людей в Бэйпине (Пекине) и Нанкине, включая бывших и нынешних высокопоставленных сановников Дуань Цижуя и Дай Цзитао, а затем его с почестями приняли руководители местных правительств Нанкина, Шанхая, Ханчжоу и Гуанчжоу. В мае 1934 г. другой буддийский лама — Нола-хутухта, был почетным гостем гуандунского правительства. Он публично утверждал, что может своими заклинаниями защитить местное население от боевых газов противника. И действительно, говорят, он заставил одного генерала повернуть стволы орудий с помощью астрологии и черной магии. Если бы китайский народ понимал, что верный путь противодействия японской агрессии — это современная военная наука, влияние лам не было бы столь велико. Китайский разум здесь спотыкается и обращается к религии. Раз китайская армия не может помочь народу, народ обращается за помощью к Будде. Буддизм покорил Китай и как философия, и как религия. Философия — для ученых, религия — для простых людей. Конфуцианство же располагает лишь моральной и морализирующей философией поведения, а в распоряжении буддизма — тщательно разработанные логика, метафизика и теория познания. Кроме того, буддизму повезло с переводом сутр, потому что переводчики в свое время создали прекрасную научную традицию. Язык переводов настолько ярок, а аргументация настолько четкая и ясная, что буддизм не мог не увлечь ученых своим философским настроем. Так буддизм стал весьма престижным в ученых кругах, и христианство поныне не может с ним в этом тягаться. Влияние буддизма было настолько велико, что он трансформировал даже конфуцианство. Со времен Конфуция его последователи занимались лишь исправлением и комментированием текстов своих классиков. А буддизм, как полагают, проник в Китай в I в., и мода на его изучение неуклонно распространялась во времена династий Вэй и Цзинь. Первоначально акцент был сделан на переводы, а позднее в исследованиях появилось и философское содержание (или). В эпоху Сун под непосредственным влиянием буддизма родилась новая философская школа — неоконфуцианство. Хотя оно по-прежнему акцентировало вопросы морали, появились и новые термины — син (природа), ли (разум), мин (судьба), синь (душа), у (материя) и чжи (знание). Тогда пробудился интерес к мистическому трактату «И цзин» («Книга перемен»), который входит в конфуцианский канон. Все конфуцианцы эпохи Сун, в особенности братья Чэн, основоположники неоконфуцианства, глубоко прониклись буддизмом и только затем вернулись к конфуцианству, трактуя его под новым углом зрения. Как говорит Лу Цзююань, постижение истины после длительной медитации стали именовать буддийским термином цзюэ (пробуждение). Буддизм не изменил убеждений ученых, но изменил направление развития самого конфуцианства. Буддизм оказал столь же мощное влияние на китайских литераторов (в частности, на Су Дунпо), противостоявших ученым-неоконфуцианцам. Су Дунпо порой позволял себе ради собственного удовольствия по-дилетантски поиграть в буддизм. Су Дунпо называл себя цзюйши, т.е. конфуцианцем, живущим в уединении, подобно буддийскому монаху, не принимая, однако, пострига. Такой образ жизни изобрели сами китайцы. Он позволял последователю буддизма жить супружеской жизнью, на время становясь, например, вегетарианцем. Лучшим другом Су Дунпо был образованный монах Фоинь. Они различались лишь разной степенью веры в догматы буддизма, который тогда процветал под защитой императора. Существовало и особое учреждение для перевода сутр, а численность буддийских монахов и монахинь достигла почти полумиллиона. Постепенно Су Дунпо стал весьма влиятелен в литературном мире, и многие известные ученые стали ему подражать. Если они не уходили в монастырь, то могли стать цзюйши, подобно Су Дунпо. В годы смут, смены династий многие ученые брили себе головы и становились монахами — некоторые ради спасения жизни, иные из-за ощущения полной беспомощности в царящем повсюду хаосе. Вполне оправданно, что в стране, где царит хаос, популярной становится религия, утверждающая тщету и суетность этого мира и предлагающая убежище от страданий и превратностей земной жизни. Мы располагаем экземпляром жизнеописания Лу Лицзина, написанного его дочерью. Лу Лицзин на склоне лет — это было в конце династии Мин и в начале династии Цин — внезапно исчез. Спустя многие годы после разлуки с женой и детьми он в один прекрасный день оказался в Ханчжоу, где намеревался вылечить больного младшего брата. Между тем он отказался навестить свою семью, жившую по соседству. Насколько же Лу Лицзин разочаровался в этой жизни, раз он так поступил! Однако после прочтения записей его дочери многое становится ясным. Глубина разочарования сопоставима лишь с глубиной его страданий. Лу Лицзина обвинили в соучастии в издании произведения одного автора, которое сочли неуважительным по отношению к маньчжурской династии. Писатель и вся его семья в оковах и под стражей были отправлены в Пекин, в пути они постоянно ожидали казни и поголовного истребления ближайших родственников. Перед отъездом Лу Лицзин принес обет постричься в монахи, если останется в живых. Так он и сделал. В определенном смысле склонность к буддизму была неосознанным актом борьбы против жизни, своеобразным актом мести ей, когда жизнь становится невыносимо тяжкой. Уход в монастырь психологически сродни самоубийству. В конце правления династии Мин многие красивые и талантливые девушки постриглись в монахини из-за превратностей любви, порожденных также и катастрофическими событиями в политической сфере. Политические причины обусловили и пострижение в монахи первого императора маньчжурской династии Цин. Предоставив возможность пассивного сопротивления жизни, буддизм также принес простым людям благую весть, подобную евангельской, насаждал в обществе добрые чувства. Самое живое и непосредственное влияние на людей оказало буддийское учение о переселении душ. Буддизм не учит китайцев быть друзьями животных, однако он побудил их ограничить потребление говядины. Учение о «золотой середине» разрешает есть свинину. Согласно этой доктрине, употребление в пищу свинины есть меньшее зло, так как свинья якобы менее полезное животное, чем корова. Здесь отражены представления китайцев, прочно внедренные в их сознание буддизмом: забивать скот — негуманно, это грозит гневом небожителей. В 1933 г. во время наводнения на Янцзы правительство провинции Хубэй запретило в течение трех дней резать скот, чтобы искупить вину перед духами реки. В случаях наводнений и голода такие меры до сих пор принимают в Китае повсеместно. Вегетарианство трудно защищать с биологической точки зрения, поскольку человек рождается с зубами, приспособленными для разжевывания как мяса, так и растительной пищи. Однако с точки зрения гуманности вегетарианство вполне оправдано. Мэн-цзы осознавал жестокость убийства живых существ, но не хотел полностью отказываться от мясной пищи и потому придумал хитрый ход, установив для себя такое правило: «истинный цзюньцзы держится подальше от кухни». Неведение того, что происходит на кухне, примиряет конфуцианца с его совестью. Решение Мэн-цзы типично для учения о «золотой середине». Многие китайские бабушки хотят, чтобы и Будда был доволен, и не нужно было бы полностью отказываться от мясной пищи. Они по-своему следуют учению о «золотой середине», назначив для вегетарианской пищи определенные сроки — от одного дня до трех лет. Итак, буддизм заставил китайцев признать забой скота делом негуманным. Это лишь один из результатов следования доктрине о переселении душ, которая учит людей проявлять милосердие и к животным, и к себе подобным. Доктрина о посмертном воздаянии и о переселении души, например, в покрытое язвами тело нищего или блохастой собаки более эффективно учит хорошему поведению, чем ад, который никому не дано увидеть, и адские муки, которых никто не испытал. И на самом деле те, кто по-настоящему веруют в Будду, — более добрые, более миролюбивые, более терпеливые, более склонные к филантропии люди по сравнению со всеми прочими. Их филантропия с точки зрения этики, быть может, немногого стоит, поскольку каждая отданная путнику монета или кружка чая — это вклад в копилку собственного грядущего счастья. Но какая религия не эксплуатирует такое искушение?! Уильям Джеймс (1842—1910), английский философ и психолог, остроумно заметил, что религия — это самая длинная глава в истории человеческого эгоизма. Если не считать немногих искренних гуманистов, все остальные всегда нуждались в такой приманке. Вместе с тем буддизму мы обязаны тем, что в зажиточных семьях принято в жаркие летние дни выставлять на улицу большие кувшины с холодным чаем для путников. В любом случае, независимо от мотивов, — это хороший поступок. Во многих китайских романах и новеллах, как и в новеллах Боккаччо, монахов и монашек обвиняли в распутстве. Такие обвинения обусловлены общечеловеческим свойством — радоваться разоблачению всех и всяческих форм лицемерия. Изобразить китайского монаха этаким Казановой вполне естественно и очень легко — достаточно будет затронуть сюжет колдовства и афродизиаков. Бывает и такое: кое-где впровинции Чжэцзян женские монастыри на деле превратились в публичные дома. Однако в целом нападки на монахов, обвинения их в аморальности несправедливы. Большинство буддийских монахов — добропорядочные, скромные, вежливые и воспитанные люди. Подвиги в духе Дон Жуана нетипичны, а грубые, непристойные и явные преувеличения при описании отдельных подобных случаев призваны лишь произвести впечатление на читателя. По моим наблюдениям, большинство монахов из-за плохого питания страдают малокровием и просто не в состоянии, подобно Дон Жуану, затевать бесконечные любовные авантюры. Кроме того, несправедливое отношение к монахам объясняется тем, что многие не видят связи между сексом и религией в Китае. Между тем у буддийских монахов, в отличие от даосов-отшельников, намного больше возможностей видеть красиво одетых женщин. Их практическая деятельность — в храмах или в частных домах — позволяет им едва ли не ежедневно близко общаться с женщинами, которые обычно заперты в задних покоях богатых домов. Предписанное конфуцианством затворничество женщин оставляет им единственный пристойный предлог для появления на публике — посещение храма для возжигания благовоний. В 1-й и 15-й день каждого месяца, а также в праздники буддийские храмы становятся местом встреч местных красавиц, замужних и незамужних, одетых во все самое лучшее. Уж если некий монах украдкой ест свинину, то он может иной раз позволить себе и другие удовольствия, выходящие за рамки дозволенного. К тому же многие храмы принимают в довольно большом количестве пожертвования, и у монахов на руках часто оказываются большие суммы денег. Таковы непосредственные причины некоторых уголовных дел, о которых в последние годы наслышаны люди. В 1934 г. в шанхайском суде монахиня осмелилась обвинить некоего монаха в супружеской неверности! В нынешнем Китае может произойти все что угодно. Приведу прекрасный пример из литературы, иллюстрирующий отношения обитателей монастырей к сексу. Поэма называется «Мирские желания юной монахини», у нее множество вариантов, и посвящена она все той же популярной теме. Сюжет поэмы основан на известной китайской драме под названием «Белая меховая накидка». Замечу, что поэма — в форме монолога монахини — написана прекрасным языком:Часть 2 ЖИЗНЬ
ПРОЛОГ
Мы уже рассмотрели проблемы менталитета и традиционной морали китайцев, а также идеалы, которые оказывают влияние на фундаментальную модель их жизни. В данной части книги мы намерены провести дальнейшее исследование жизни китайцев в сфере взаимоотношений полов, в социальном, политическом, литературном аспектах, а также в сфере искусства. Если говорить конкретно, то речь пойдет о жизни женщины, общества в целом, о проблемах власти, литературы и искусства. Одна глава специально посвящена искусству жить, как себе это представляют и осуществляют на практике китайцы. Таким образом, данную часть можно разделить на две составляющие. Жизнь женщины, общества, проблемы власти взаимосвязаны, так как понимание жизни женщины и семьи непременно приводит нас к рассмотрению социальной жизни китайцев. Лишь по-настоящему поняв социальную жизнь китайцев, можно понять структуру правосудия и власти. Исследование этих внешних сторон жизни китайцев естественным образом приведет нас к рассмотрению более тонких и менее изученных проблем китайской культуры и в особенности искусства. В этой области у китайцев существует уникальный взгляд на культуру и ее развитие, резко отличающийся от подходов, обычных для Запада. Китайская культура — одна из исконных, коренных культур в мире. Поэтому, сравнивая культуры Китая и Запада, можно сделать для себя множество интересных открытий. Культура — это продукт свободного времени, а у китайцев было свыше трех тысяч лет свободного времени, чтобы развивать культуру, и, попивая чаек, беспристрастно наблюдать жизнь. Такое занятие привело к кристаллизации истинного смысла человеческой жизни. У китайцев было достаточно времени, чтобы обсудить своих предков, детально оценить их достижения, исследовать ряд изменений в искусстве и жизни и рассмотреть самих себя в свете этого протяженного по времени прошлого. В итоге таких чаепитий и размышлений история начала приобретать некий великий смысл. Об истории стали говорить, что она похожа на зеркало, в котором отражается опыт человечества, являющийся подспорьем для потомков; история также похожа на все более мощный бесконечный поток. Исторические книги стали, таким образом, самыми строгими литературными образцами, наиболее утонченным выражением духовности. Порой, когда в чайнике бурлит вода, весна поет свои песни, а «вино источает аромат, и чай хорошо заварен», в голову китайца приходит счастливая мысль. Через каждые пятьсот лет под влиянием изменившихся обстоятельств душа китайцев обращается к созиданию. В такие периоды изобретают новые системы стихосложения или новые способы изготовления фарфора или на свет появляется новый метод скрещивания персиковых деревьев. Короче говоря, Китай снова продвигался вперед. Китайцы отказывались от глубоких размышлений о непознаваемом бессмертии. Вместе с тем, по их мнению, над этим всегда стоило подумать и можно было обсудить — наполовину всерьез, наполовину в шутку. Они оставили мысль о тайнах мира природы, грома, молнии, дождя и снега, а также функций различных частей тела, например о взаимосвязи слюноотделения и голода. Они не пользовались пробирками и скальпелем. Иногда им начинало казаться, что весь познаваемый мир до конца исследован предками, разгадана конечная истина человеческой философии, создан наилучший стиль каллиграфии. Поэтому они стали еще больше обращать внимание на вопросы повседневной жизни, а не на проблемы прогресса. Несмотря ни на что, они денно и нощно размышляли над тем, как разбить сад или как приготовить акульи плавники. В гурманстве, вообще в серьезном отношении к пище и напиткам они не уступали Омару Хайяму, который, тщетно прокорпев над пыльными философскими книгами, предался радостям жизни. Так китайцы перешагнули порог всех искусств и вошли в храм искусства жить, соединив воедино искусство и жизнь. Они достигли вершины китайского искусства — искусства жить, которое является конечной целью человеческой мудрости.Глава 5 ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ
Подчиненное положение женщины
Начиная с первобытных времен в душе китайцев женщина никогда не занимала достойного места. Фундаментальный дуалистический взгляд китайцев на мир, основанный на четком разделении ян (мужское начало) и инь (женское начало), восходит к «И цзину» («Книге перемен»), принципы которого окончательно сформулировал Конфуций. Уважение к женщине, даже некоторая нежность по отношению к ней, еще в варварские времена характерные для древнегерманских племен, отсутствовали в древнем Китае. Уже в народных песнях, собранных в «Ши цзине», нашло отражение неравенство полов:Семья и брак
Однако в Китае возможно все что угодно. Как-то несколько женщин в окрестностях города Сучжоу усадили меня в особый паланкин и подняли на вершину горы. Эти женщины-носильщицы настояли на том, чтобы меня, мужчину, поднять в горы. Мне было неловко, но я им уступил, так как подумал, что, возможно, они — наследницы китайского матриархата. Они — сестры женщин из соседней южной провинции Фуцзянь: стройных красавиц с высокой грудью, которые работают в поле и возят уголь, рано встают, умываются, аккуратно причесывают волосы, а потом отправляются на работу и возвращаются домой, чтобы покормить грудью малыша. И они же — сестры женщин из богатых семей, которые управляют и хозяйством, и мужем. Я иногда думаю, действительно ли китайские женщины так уж угнетены? Тогда у меня перед мысленным взором возникает образ сильной и волевой вдовствующей императрицы Цы Си. Китайские женщины — это не тот тип женщин, которых можно угнетать. И хотя у них отняли многие права, они не могут работать стенографистками или адвокатами и судьями, но у себя дома они правительницы, за исключением тех семей, которые окончательно опустились. Там женщина — игрушка для мужчины. Однако даже в таких семьях наложница находит способы держать в руках мужа. Но важнее то, что у женщин при отсутствии многих прав есть право на брак. Каждая китаянка может иметь свою семью. Считается, что даже рабыня в надлежащем возрасте должна выйти замуж. В Китае брак — это неотъемлемое право женщины. Пользуясь этим правом, они в полной мере используют его как самое лучшее оружие для завоевания других прав, неважно, прав жены или матери. Вопрос этот следует рассматривать с двух сторон. Мужчина, без сомнения, относится к женщине несправедливо. Но крайне интересно, как она мстит за это. Многочисленные ограничения женщин привели к тому, что люди стали считать, что женщины — ниже мужчин, да и сами женщины зачастую придерживаются того же мнения. Они лишены многих прав, которыми пользуются мужчины. Женщины получают худшее образование, у них меньше знаний, они ведут неприметную жизнь, полную тяжелого труда. Женщины страдают от двойных стандартов в сексе. Однако гнет в отношении женщин чаще всего невидимый, он признан обществом, которое считает нормальным их приниженное положение. Когда между мужем и женой нет любви, муж может быть весьма деспотичным, и тогда жене остается лишь подчиниться и терпеть этот домострой точно так, как все китайцы терпят политический деспотизм. Но никто не посмеет сказать, что в Китае много своенравных мужей и мало счастливых браков. И причины этого мы рассмотрим ниже. Женщины не должны бесконечно болтать языком, ходить в гости и глазеть на мужчин. Однако многие по-прежнему болтают, ходят в гости и засматриваются на улице на мужчин. От них требуют соблюдать целомудрие, а мужчины между тем могут распутничать. Соблюдения женщинами норм традиционной морали не столь трудно добиться, так как большинство китайских женщин от рождения целомудренны. Они не пользуются уважением со стороны общества, они лишены социальных прав, которыми пользуются западные женщины, но они привыкли к такой жизни, и им все равно, участвовать ли в публичных собраниях лиц обоего пола или нет. Ведь у них есть своя социальная площадка и собрания в кругу семьи. Им безразлично — поддерживать ли порядок на улицах в качестве полицейских или быть уличными торговцами и продавать скобяные товары. На деле самым важным для китайских женщин является собственный статус в семье, потому что именно там, в семье, они существуют, функционируют и общаются с людьми. Дома женщина госпожа. Ни один наш современник не примет на веру слова Шекспира: «Ничтожность, женщина, твое названье!». Шекспир устами своих героев сам опроверг сказанное, достаточно вспомнить о Клеопатре и дочерях короля Лира. Внимательно наблюдая жизнь китайцев, вы обнаружите, что распространенное мнение о зависимом положении женщин необъективно. При жизни императора Сянь-фэна и после его смерти страной управляла императрица Цы Си. В Китае много личностей, подобных Цы Си, — и в политике, и в обычных семьях. Семья — это трон, восседая на котором женщины могут назначать своих губернаторов и выбирать профессию для внуков. Чем больше люди на Западе вникают в жизнь китайцев, тем больше понимают, что так называемое угнетение женщин — это критическое мнение европейцев, вывод, сделанный, во всяком случае, без глубокого знания повседневной жизни в Китае. Это утверждение, конечно же, не подходит к китайской матери — верховному правителю в семье. Любому, кто имеет по этому поводу иное мнение, следует прочитать великий роман «Сон в красном тереме» («Хун лоу мэн»), в котором описывается жизнь китайской семьи. Проанализировав положение матушки Цзя, отношения между Фэн-цзе и ее мужем или отношения в рамках любой другой супружеской пары (отношения отца Цзя Чжэна и его жены, возможно, являются наиболее типичными), нетрудно понять, кто на самом деле обладает властью в семье — мужчина или женщина. Некоторые западные читатели, возможно, будут завидовать положению старой бабушки, она в семье самая уважаемая, все за ней ухаживают, по утрам невестка отправляется к ней в покои, чтобы справиться о здоровье, проявить почтение и посоветоваться с нею о важнейших домашних делах. А если бы матушка Цзя бинтовала ноги и уединялась в женских покоях, а привратники и мужская прислуга суетились бы вокруг нее, стал бы тогда европейский читатель этому завидовать? Изучите характер госпожи Шуй, матери конфуцианского ученого из романа «Е соу пу янь», которая получила хорошее образование, была образцом конфуцианской мудрости и яркой личностью, играющей в романе главную роль. Одно слово госпожи Шуй, и ее сын, занимающий пост главного министра, стоит перед ней на коленях. Проявляя бесконечное благоразумие, она стережет покой и благополучие всей огромной семьи, словно наседка, охраняющая цыплят. Она правит мудро и доброжелательно, и все ее невестки с радостью готовы стать рабынями госпожи Шуй. Возможно, автор, описывая персонажей этого произведения, несколько сгустил краски, но это не вымысел. Да, женщина правит внутри дома, а мужчина за его пределами. Конфуций уже дал четкое разъяснение по поводу такого разделения труда. Женщины тоже об этом знают. Сегодня продавщицы шанхайских универмагов с завистью смотрят на замужних женщин с туго набитыми кошельками. Они мечтают сами покупать вещи, а не продавать их. Иногда они мечтают о том, чтобы вязать детишкам свитеры, а не подсчитывать мелочь. Простоять восемь часов, да еще на каблуках? Многие из них нутром чувствуют, что лучше. Некоторые из них стремятся к независимости, но в обществе, где правят мужчины, так называемая независимость реально мало что значит. Циники лишь смеются над такой «независимостью». Примитивное и страстное желание, бесформенное, невыразимое, смутное и мощное, — стать матерью — переполняет их душу. Это желание так наивно, так естественно и проникнуто первородным инстинктом. Они подсчитывают сэкономленные деньги из зарплаты, которой едва хватает на пропитание. Их не хватает даже на то, чтобы купить пару чулок в сеточку, которые они сами продают. И вот они мечтают о молодом человеке, который бы делал им подарки. Они, краснея, пытаясь сохранить чувство собственного достоинства, готовы даже намекнуть ему на это. Китайские девушки в целом очень порядочные особы, однако почему бы им и не попросить подарок у мужчины? Есть ли у них другая возможность купить чулки в сеточку, которые, как подсказывает им инстинкт, они обязательно должны приобрести? В жизни все так перепутано, в ней трудно разобраться. Они ясно сознают, что надо просить мужчин покупать им нужные для жизни вещи. Они хотят замуж, и инстинкт у них верный. Что плохого в браке? Что плохого в материнстве под крылом у мужа? Итак, они создали семью. Они вяжут и шьют. Правда, в провинциях Цзянсу и Чжэцзян женщины перестали готовить и шить, потому что мужчины в этих сферах превзошли женщин. Лучшие портные и повара там — мужчины, а не женщины. Мужчины и далее будут доминировать в различных областях, за исключением брака. У мужчин есть различные преимущества вне брака, однако в мире брака женщины доминируют, и они об этом знают. В любой стране счастье женщины зависит не от количества социальных привилегий, а от поведения мужчины, с которым она живет. Их страдания от тирании и жестокости мужчины намного превосходят страдания, связанные с отсутствием избирательного права. Если мужчина справедлив и разумен, мягок характером и по-доброму относится к людям, женщина не будет страдать. Кроме того, у женщин имеется сексуальное оружие, которым они могут пользоваться в полной мере. Как бы то ни было, каждый мужчина, от императора до мясника, от булочника до продавца свечей, ругал свою жену и в ответ получал от нее всякое. Ибо законы природы гласят, что в сфере интимных отношений мужчины и женщины равны. Супружеские отношения мало чем различаются в разных странах, по крайней мере не настолько, как об этом пишут путешественники. Люди Запада склонны считать, что все китайские жены — это молчаливые рабыни своих мужей, хотя в действительности китайские мужья, как правило, разумны и внимательны. А китайцы склонны считать, что коль скоро западные жены никогда не слыхали о Конфуции, то они не обязаны обслуживать мужей, кормить их и обстирывать, а только красуются в купальных костюмах на пляжах и чуть ли не каждый день проводят в дансингах. Разного рода исключительные случаи, как и любая экзотика, делают оживленной послеобеденную болтовню, однако главные жизненные проблемы при этом предаются забвению. Как видим, в реальной жизни женщина вовсе не угнетена мужчиной. Истинные страдальцы — это те, кто завел наложниц, превратив свой дом в гнездо желчных женщин, и бегает из одной спальни в другую, скрываясь от них. И однако такое сексуальное влечение привело к тому, что разнополые родственники разных поколений вполне в состоянии по-добрососедски мирно сосуществовать. Поэтому женщину не угнетают ни муж, ни свекор, снохи не угнетают друг друга, потому что они находятся в равном положении, хотя никто из них друг к другу особой симпатии не испытывает. Вполне возможно угнетение невестки свекровью, и такое происходит часто. В большой китайской семье на невестке лежат многочисленные обязательства, поэтому ее жизнь нередко очень тяжела. Нужно помнить, что китайский брак — это не личное дело, а семейное; недаром говорят: мужчина «женится не на жене, а на невестке», а когда рождается сын, говорят: «Родился внук». Поэтому у невестки перед свекровью гораздо больше обязанностей, чем перед мужем. Танский поэт Ван Цзянь описал переживания новобрачной:Идеал женщины
Затворничество женщин напрямую повлияло на наш идеал красоты, на критерии женственности, на методы воспитания наших дочерей и формы любви и ухаживания в Китае. В Китае и на Западе женщина воспринимается неодинаково. Хотя и здесь, и там считают, что женщине присущи очарование и некая загадочность, однако точки зрения различаются по самой сути. Это особенно хорошо заметно в сфере искусства. На Западе тело женщины рассматривается как источник вдохновения, как высшая форма совершенной красоты и гармонии. Согласно же канонам китайского искусства, красота тела женщины определяется его гармонией с природой. Когда китаец видит скульптуру женщины на высоком постаменте в нью-йоркской гавани на виду у каждого, кто приезжает в страну, он считает, что нет ничего более поразительного, чем сей факт. Выставить женщину на всеобщее обозрение — это предел неприличия и убедительное свидетельство отсутствия цивилизованности. Когда китаец узнает, что эта женщина олицетворяет не женщин, а понятие свободы, это удивляет его еще больше. Почему свободу должна олицетворять женщина? Почему она должна олицетворять победу, справедливость и мир? Для китайца античная точка зрения является новостью. Ведь в представлении западного человека женщина в какой-то мере обожествлена, ей присвоены качества высокой духовности, некая эфирность, в ней воплощено все чистое, возвышенное, прекрасное и неземное. Для китайцев женщина — это просто женщина, человеческое существо, которое не знает, как получать удовольствие. У нас мальчику говорят, что если он пройдет под сохнущими на веревке женскими штанами, то никогда не вырастет. Поклонение статуе на постаменте, телу женщины даже представить себе невозможно. Затворничество женщин привело к тому, что любое выставление напоказ форм женского тела воспринимается как крайняя непристойность, независимо от того, происходит это в сфере искусства или в повседневной жизни. Некоторые известные полотна, выставленные в Дрезденской галерее, считаются у нас откровенно эротическими. Модные китайские художники бездумно подражающие работам европейцев, не осмеливаются утверждать, что суть всех видов искусств состоит в том, чтобы будить у людей чувство красоты. Европейские же художники откровенно признают этот факт. Однако и у китайцев есть либидо, только оно выражается по-иному. Женская одежда создается не только для того, чтобы подчеркнуть фигуру, но и для того, чтобы подражать природе. Один западный искусствовед, исходя из своих эстетических представлений, возможно, увидит в пене волн образ обнаженной женщины, китаец же в складках одежды бодхисатвы Гуаньинь разглядит морские волны. При создании женского образа за образец берут изящные линии плакучей ивы, вот почему плечи женщины всегда опущены. Очертания ее глаз напоминают абрикосы, у нее бровиизогнуты полумесяцем, взгляд напоминает о спокойных осенних водах. Ее зубки подобны зернышкам граната, у нее изящная тонкая талия, стройные ножки; тонкие пальчики похожи на весенние побеги бамбука, бинтованные ножки тоже напоминают полумесяц. Ни в коем случае нельзя сказать, что в Европе такая поэтика женского образа отсутствует, однако дух китайского искусства в целом, особенно покрой китайской женской одежды, говорят о том, что именно эти критерии женской красоты воспринимаются у нас предельно серьезно. Так как женским телом, именно как телом, китайцы наслаждаться не могут, поэтому в искусстве его воспроизведение наблюдается крайне редко. Китайские художники в изображении тела человека явно потерпели поражение. Даже у такого знаменитого художника эпохи Мин, как Цю Шичжоу, прославившегося картинами из жизни женщины, обнаженная верхняя часть женского торса очень похожа на картофелины. Из-за плохого знания западного искусства мало кто из китайцев сможет объяснить, в чем заключается красота женской шеи или спины. В романе «Цза ши ми синь» («Секретно о разном»), относящемся, согласно легенде, к эпохе Хань (на самом деле написан при династии Мин) дано довольно искусное описание обнаженного женского тела и выражено истинное восхищение и чувство радости при его созерцании. Однако это почти единственное исключение. Вот вам один из результатов затворничества женщин. На самом деле изменения в фасоне одежды не так уж и важны. Фасоны могут меняться, а мужчины будут любоваться женщинами, какие одежды они бы ни носили. А женщины будут носить их, пока мужчины будут считать эти одежды красивыми. Переход от викторианских кринолинов с использованием китового уса к облегающим фигуру укороченным платьям 1920-х годов и лётным комбинезонам, модным в 1935 г., более разителен, чем различие между одеждой китайцев и европейцев. Достаточно женщинам надеть свои наряды, чтобы мужчинам они нравились. Международные показы женской одежды ясно это демонстрируют. Всего лишь десятилетие назад китайские женщины фланировали в длинных брюках, теперь же они облачились в длинные до пят халаты китайского покроя, а западные женщины носят короткие юбки, а потом, возможно, станут модными и пижамы. Единственным результатом всех этих трансформаций является значительное раскрепощение сознания и расширение кругозора мужчин. Более важной является связь между женским затворничеством и идеалом женщины. Такого рода идеалом является «прекрасная жена» и «мудрая мать». Это выражение в современном Китае стало у многих объектом насмешек, в особенности со стороны модниц, которые жаждут «равенства», «независимости» и «самовыражения». Они считают, что жена и мать — это те, кто зависит от мужчин. Так возникла некоторая путаница в понятиях. Разберемся для начала в вопросе взаимоотношений полов. По-видимому, став матерью, женщина больше не считает, что смысл ее существования в том, чтобы доставить мужу удовольствие. Она чувствует свою полную зависимость от кого-то, только утратив положение матери. На Западе тоже был период, когда общество и сами женщины не пренебрегали ни материнством, ни воспитанием детей. Статус матери в семье высок и достоин уважения. Когда появляется на свет ребенок, она, проявляя материнскую мудрость, ведет его и руководит им, пока он не станет взрослым. Каждое здравомыслящее общество признает, что такая работа непроста. Крайне трудно объяснить, почему женщину все равно считают зависимой в социальном или экономическом отношении от мужчины, если она, выполняя столь высокую миссию, делает это лучше мужчины. Среди женщин, как и среди мужчин, есть талантливые личности. Но талантливых женщин все же меньше, чем нам пытаются внушить идеологи демократии. Для талантливых женщин самовыражение гораздо важнее, чем рождение детей. Однако простые люди — имя им легион — считают, что дело мужчины — зарабатывать деньги, а женщины — рожать и воспитывать детей! Что же касается самовыражения, то мне приходилось встречать эгоистичных посредственностей, несчастных существ, которые со временем расцветали, становились милыми и нежными матерями, проникнутыми духом самопожертвования. Для их детей они стали образцом совершенства и добродетели. Приходилось мне видеть и красивых девушек, которые отвергали брак и к тридцати с лишним годам увядали. У них никогда не было второй молодости, они не могли стать такими же яркими, как осенний лес, более зрелыми, более человечными, излучающими свет, как это бывает у счастливой женщины после рождения ребенка. Среди всех прав женщины самым важным является право стать матерью. Конфуций указывал, что в идеальном обществе нет «неженатых мужчин и незамужних женщин», в идеальном обществе все состоят в браке. Китайцы достигли этой цели благодаря их взглядам на любовь и брак, отличающимся от западных. С точки зрения китайцев, наихудшее социальное зло на Западе — большое число незамужних женщин. Они неспособны к самовыражению только из-за глупой надежды на скорое явление прекрасного принца. Многие из них хорошо себя проявили в профессии учительницы или актрисы, но в роли матери они добились бы гораздо больших успехов. Когда мужчина и женщина полюбили друг друга и вступили в брак, но муж оказался человеком недостойным, женщина попадает в уготованную для нее природой ловушку. Природа требует от женщины лишь продолжения рода, даруя ей за это малыша. Это будет победа женщины, ее радость, еще более удивительная, чем радость от написанного ею самого выдающегося произведения; рождение ребенка дает женщине больше счастья, чем самый громкий сценический успех. Айседора Дункан откровенно признавалась в этом. Природа жестока, но она и справедлива. Она дает простым женщинам такое же утешение, что и талантливым, потому что женскую радость в равной степени может испытать и умная, и обыкновенная женщина. Таковы законы природы, пусть мужчины и женщины живут в согласии с ними.Обучение наших дочерей
Представления об идеале женщины в Китае, отличающиеся от западных, обусловили и отличающиеся от западных формы воспитания наших дочерей. Методы воспитания мальчиков и девочек как сейчас, так и в прошлом разительно отличаются друг от друга. Девочек воспитывают значительно строже, чем мальчиков. К тому же девочки созревают раньше, чем мальчики, и домашнее воспитание они получают раньше. Таким образом, они более рассудительны и более дисциплинированы, чем мальчики. В любом случае период детства у девочек короче. С 14 лет они начинают во многом сдерживать себя, знакомятся с приличиями и правилами поведения взрослых женщин: они встают по утрам раньше братьев, одеваются аккуратней, помогают матери готовить еду, нередко кормят младшего братишку и т.п. Игрушек у них немного, а дел немало. Говорить им следует медленно и внятно, ходить степенно, садиться согласно правилам, плотно сжав ноги. Девочки учатся скромности за счет веселости, детские забавы и шалости для них не существуют, они не смеются, а только улыбаются. Китайская девушка свято хранит девственность, которая в старом Китае была наивысшей драгоценностью. Она не позволяет незнакомцам заглядываться на нее, хотя сама частенько поглядывает из-за ширмы на других. Девушка проникнута очарованием тайны и чувством дистанции, чем реже покидает она свою комнату, тем выше ее цена. Так оно и есть на самом деле. Как считают мужчины, дама, запертая в средневековом замке, действительно более привлекательна, чем девица за стойкой кафе, в котором вы каждый день обедаете. Зоркие молодые глаза и ловкие пальцы позволяют девушке создать прекрасную вышивку, и этому намного легче выучиться, чем тригонометрии. Вышивание приносит ей радость, потому что в это время можно помечтать, ведь молодежь всегда любят помечтать. Так она готовится к исполнению обязанностей жены и матери. В образованных семьях девочек также обучат чтению и письму. В Китае с древнейших времен было много талантливых женщин. Сегодня известных на всю страну женщин можно насчитать с полдюжины. В эпоху Хань и позже, при династиях Вэй и Цзинь, среди множества знаменитых образованных женщин, красноречием и ораторским искусством выделялась Се Даоюнь. Она часто выручала двоюродного брата, когда тот вступал в спор с гостями. Прежде в Китае было не так много грамотных людей. Образование обычно сводилось к чтению канонической конфуцианской литературы, поэзии, изучению истории и изречений мудрецов, почерпнутых из книг классиков конфуцианства. Девочки на этом образование заканчивали, да и мальчики продвигались ненамного дальше. Литература, история, философия, житейская премудрость, а также такие специальные науки, как медицина, государственное управление, вместе составляли все гуманитарные знания. Женское образование еще больше тяготело к гуманитарному циклу и отличалось от мужского лишь степенью глубины изучения предмета, а не его объемом. У А. Поупа (1688—1744) есть крылатое выражение: «Полузнание опасно». На китайский лад оно могло бы звучать так: «Слишком большие знания опасны для женской морали». Женщины часто могут проявить свой талант в живописи и поэзии. Сочинение кратких лирических стихов как будто наиболее соответствует их дарованиям. Женские стихи коротки, утонченны, изысканны, но в них не хватает силы выражения. Ли Цинчжао (1081—1141?), великая китайская поэтесса, оставила множество неповторимых бессмертных стихов, наполненных настроением ночного дождя и воспоминаниями об ушедшем счастье. Традиция женской поэзии в Китае никогда не. прерывалась. Только в эпоху Цин можно насчитать почти тысячу поэтесс. Под влиянием Юань Мэя, который выступал против традиционного бинтования ног, поэтессы создали особый стиль, который вызвал протест у другого крупного ученого, Чжан Шичжая, считавшего, что сочинение стихов дурно влияет на воспитание идеальной женщины. Однако сочинение стихов не мешало исполнению обязанностей жены и матери. Ли Цинчжао была идеальной женой, вовсе не похожей на Сапфо. В социальной сфере китайские девушки древности, несомненно, уступали западным женщинам, однако прекрасное домашнее воспитание давало им больше возможностей стать хорошей женой и матерью. Кроме того, у них не было возможности выбрать профессию. Нынешние китайские мужчины стоят перед дилеммой: выбирать в жены современную модную девицу или консервативно ориентированную девушку. У идеальной жены, согласно сегодняшним представлениям, «современные знания, но характер старого образца». Конфликт идеалов (новые идеалы требуют от жены независимости и отказа от стереотипа «прекрасная жена и мудрая мать») заставляет неуклонно руководствоваться здравым смыслом. Автор считает непрерывное пополнение знаний и повышение уровня образования женщин явным достижением, приближающим женщину к идеалу. Но я готов держать пари, что у нас не будет (как и не было) пианисток и художниц с мировым именем. Я убежден, что сваренный женщиной суп будет лучше ее стихов. Истинно великое произведение женщины — это круглолицый карапуз. По моему мнению, идеал женщины по-прежнему — это умная, ласковая жена и мать с твердым характером.Любовь и ухаживание
Могут спросить: раз в Китае женщины пребывают в затворничестве, как же тогда возможны любовные романы и ухаживание? Как влияют традиции и обычаи на естественное чувство любви между мужчиной и женщиной? Весна, романы, любовь — они в любой точке земного шара, в общем, одинаковы. Разница лишь в психологической реакции, обусловленной самобытностью различных культур. Затворничество женщины, классическое образование не могут оградить ее от любви. Формы и способы выражения любви могут меняться, потому что, хотя любовь — это мощное всепоглощающее проявление естества, все же она звучит едва слышным напевом в сердцах и душах людей. Цивилизация меняет внешние проявления любви, но никогда ее не задушит. Любовь существует объективно, меняя лишь формы выражения, обусловленные порой заимствованиями из иной социальной и культурной среды. Она выглядывает из-за парчового полога, наполняет воздух в саду, всецело завладев юным сердцем девушки. Возможно, у девушки вообще нет любимого и ей самой неясно, что ее тревожит. Возможно, у нее нет склонности к кому-то одному, но ей нравятся мужчины, а если нравятся мужчины, значит, нравится жизнь. От этого ее вышивки становятся еще более изысканными. Ей кажется, что она влюблена в эту вышивку, похожую на радугу. Радуга как раз и символизирует жизнь, которая так прекрасна. Возможно, девушка для кого-то вышивает на подушке уточек-неразлучниц. Селезень и уточка — они всегда вместе, вместе плавают, вместе вьют гнездо. Если девушка даст волю воображению, она совсем забудется и сделает неверные стежки. Она пробует снова и опять ошибается, слишком сильно дергает за нитку, и нитка рвется. Раздосадованная, она кусает губы. Она влюблена. Чувство досады, может, возникло из-за весны, из-за цветов. Внезапно нахлынувшее чувство одиночества есть знак, который подает природа, — девушка созрела для любви и брака. Из-за традиционных социальных ограничений и других общественных условностей девушка всегда прилагала большие усилия, чтобы скрыть свои неясные, но страстные желания. Однако весенние мечты сохраняются в её подсознании. Любовь до замужества в старом Китае была запретным плодом, а открытое ухаживание — невозможным. Девушка знает, что любить — значит страдать. Именно поэтому она не осмеливается слишком много думать о весне, цветах и бабочках, которые в древней поэзии были символом любви. Если девушка получила образование, она не позволяет себе тратить слишком много времени на стихи, чтобы чувства не захватили ее целиком. Она занята хлопотами по дому и бдительно следит за своими чувствами, напоминая цветок, который, пока не распустится, не подпускает бабочек. Девушка хотела бы дождаться того дня, когда ей разрешат любовь, освященную браком, и она будет счастлива, если ей удастся избежать злоключений, связанных со страстью. Однако силы природы иногда могут разрушить все созданные людьми преграды. Поскольку в Китае любовь до брака — запретный плод, взаимное влечение полов выражено особенно сильно, так как случаи эти редки. Так действует природный закон компенсации. Как считают в Китае, если любовь проникнет в девичье сердце, девушка не остановится ни перед чем. Потому-то китайцы, как правило, считают необходимым затворничество женщин. Даже в условиях самого строгого затворничества девушке в целом известно, какова ситуация с неженатыми мужчинами ее круга, и она тайно уже отдала сердце тому или иному молодому человеку. Если девушка случайно встречала одного из молодых людей, к которому ранее испытывала склонность (хотя лишь обменивалась с ним взглядами), она, как правило, уступала чувству и теряла душевный покой, которым так гордилась прежде. Тогда начинался следующий этап — этап тайных встреч. Несмотря на то что разоблачение грозило позором, который порой мог привести к самоубийству; несмотря на понимание того, что тайные свидания нарушают все нормы морали и бросают вызов общественному мнению, девушка все же встречалась с молодым человеком. Любовь всегда пробивала себе дорогу. При такой взаимной страстной любви трудно понять, кто за кем ухаживал. У девушек множество хитроумных способов дать юноше знать о своем присутствии. Самый наивный способ — это выставить под деревянной ширмой красную туфельку. Другой способ — ненароком выйти на освещенный солнцем балкон. Она еще может невзначай открыть личико под кроной пышно цветущего персикового дерева. А еще — отправиться в первый или шестой месяц вечером на Праздник фонарей. Она может играть на цитре так, чтобы слышал юноша, живущий по соседству. Девушка может попросить наставника ее младшего брата поправить ее стихи, а брат станет ее письмоносцем. А если этот наставник молод и романтичен, он подарит девушке свои стихи. Другими посредниками могут стать служанка, или симпатизирующая девушке двоюродная сестра, или жена соседского повара, или монахиня. При желании и взаимном влечении влюбленные всегда могут устроить тайную встречу. Такие встречи были крайне опасны, ибо девушки не умели предохраняться. Любовь в таком случае мстила молодым людям за то, что ее лишили бездумного, веселого флирта. Все это описали (или пытались описать) во всех китайских повестях о любви. Девушка рисковала забеременеть, а затем могло произойти что угодно. И юношу, и девушку без их согласия по решению родителей могли обручить с другими. Девушка, скорее всего, будет сожалеть, что утратила девственность. Молодой человек, видимо, отправится в столицу сдавать государственные экзамены и, получив ученую степень, будет вынужден жениться на девушке из более знатной семьи. Возможно, одна из семей переедет в другой город и у молодых людей не будет случая встречаться. А может быть, юноша, несмотря на дальние путешествия, сохранит верность любимой. Внезапно вспыхнувшая война приведет к бесконечному ожиданию и отсрочкам. И девушке, изолированной от мира в задних покоях ее дома, останется только горевать и надеяться. Если ее любовь искренняя и пылкая, то она может «сохнуть» от тоски (такой поворот сюжета весьма распространен в китайских любовных повестях), глаза ее потускнеют, улыбка исчезнет с лица. Родители, заметив это, будут глубоко встревожены и начнут доискиваться причины. Чтобы спасти дочь, они организуют свадьбу с любимым, и молодые, возможно, всегда будут жить счастливо. Любовь в представлении китайцев напоена слезами, печалью и надеждой. Затворничество женщин породило горестную и печальную мелодию в китайской любовной лирике. После династии Тан вся любовная лирика проникнута мотивами надежды, разочарования и бесконечной печали. Героини любовной лирики это гуйюань — тоскующие взаперти по любимому и постепенно увядающие девушки, или отвергнутые жены-чифу. Как ни странно, но обе эти темы популярны у поэтов-мужчин. Отношение китайцев к жизни в целом пассивное; китайская любовная лирика также наполнена сходными мотивами. В поэзии господствует тема потерь, разлуки, утраченных надежд, неудовлетворенных желаний. Часты образы дождя и рассвета, пустой опочивальни и холодной постели, раскаяния отшельника, ненависти женщин к непостоянству мужчин. Характерны также метафоры — отложенный в сторону осенью веер, ушедшая весна и зимние ночи, опавшие лепестки, печальный лик, мерцающая в ночи свеча. Поэт сетует на упадок жизненных сил, он исполнен жалости к самому себе и готовится к смерти. В предсмертном стихотворении Линь Дай-юй, героини «Сна в красном тереме», выражено именно такое типичное настроение. Линь Дай-юй взялась за кисть, узнав, что ее двоюродная сестра стала женой Бао-юя. Эти строки незабываемы, они проникнуты безысходной тоской:Куртизанки и наложницы
На сегодняшний день положение женщины сравнительно благополучно. Она — «мудрая жена и прекрасная мать». Она верна и послушна мужу, от природы целомудренна. Все дело в мужчинах, они стремятся к греху и постоянно грешат. Понятно, что в грехе всегда соучаствует женщина. Эрос, который правит миром, правит и Китаем. Некоторые западные путешественники даже выдвигают смелые предположения, будто в Китае секс менее подавлен, чем в Европе. Это оттого, что люди в повседневной жизни более или менее откровенно говорят о сексе. X. Эллис отмечает, что в условиях современной цивилизации на мужчину действуют мощнейшие сексуальные стимулы и одновременно именно в области секса мужчина наименее свободен из-за разного рода условностей. В Китае влияние этих ограничений ощущается меньше, но это лишь полуправда. Более откровенное отношение к сексу — скорее привилегия мужчин, а не женщин. Именно сексуальная жизнь китаянок загнана в самые узкие рамки. Наиболее очевидный пример — история Фэн Сяоцин, которая жила во времена, когда Шекспир писал свои лучшие пьесы (1595—1612). Когда она была наложницей, ревнивая жена запретила ей видеться со своим мужем, и ее заперли в домике на берегу озера Сиху. Девушка впала в нарциссизм и стала любоваться собственным отражением в воде. Незадолго до смерти она попросила написать три своих портрета, повесила их на стену, стала возжигать перед ними курительные свечи и совершать в честь самой себя жертвоприношения. Фэн Сяоцин написала несколько стихов, которые, воспользовавшись рассеянностью хозяйки, украла служанка. Стихи свидетельствовали о несомненном таланте Фэн Сяоцин. Между тем по отношению к китайским мужчинам не действуют какие-либо сексуальные ограничения. Особенно это касается богатых семей. Самые известные и уважаемые литераторы, такие как Су Дунпо, Цинь Шаою, Бо Цзюйи, посещали публичные дома и открыто, не таясь, об этом говорили. В действительности, быть чиновником и суметь избежать пирушки, на которую приглашали певичек, было невозможно, и такая пирушка не считалась постыдным делом. Во времена династий Мин и Цин берега зловонной и грязной речушки перед храмом Конфуция в Нанкине считались излюбленным местом для пирушек с возлияниями и для любовных свиданий. И место возле храма Конфуция было выбрано очень логично, потому что там проводились государственные экзамены на ученую степень. Литераторы и ученые приходили сюда, чтобы отпраздновать успех или утешиться после неудачи. Компанию им всегда составляли женщины. Вплоть до сегодняшнего дня низкопробные газетенки с самыми откровенными подробностями описывают похождения «мужей древности» в тогдашних публичных домах. Поэты и ученые, не жалея туши, с некоторой развязностью писали об исполнявшихся там песнях и танцах. Так речушка Циньхуайхэ вошла в историю китайской литературы. Сколько бы ни писали о важной роли китайских куртизанок в любви, литературе, музыке, политике, это не будет преувеличением. Мужчины считали, что девушке из приличной семьи негоже перебирать струны музыкальных инструментов, ибо это дурно влияет на ее поведение. Позволять им слишком много читать тоже нехорошо и тоже вредно сказывается на их морали. Не очень поощрялось и занятие живописью и поэзией. Но, конечно же, мужчинам нравилось водить компанию с эрудированными женщинами. Певички постоянно пополняли знания в сфере литературы и искусства, так как им не нужно было блюсти целомудрие, притворяясь невеждами. Вот ученые и собирались на берегах реки Циньхуайхэ, которая летними вечерами превращалась в подобие венецианского канала. Мужчины восседали в домах-лодках, слушая музыку в исполнении певичек. Певички же на «лодках с фонарями» то поднимались вверх по Циньхуайхэ, то спускались вниз по течению. В такой романтической атмосфере мужчины выбирали женщин, отличавшихся знаниями в области поэзии, музыки, живописи, а также умением блеснуть остроумием. Среди образованных и известных гетер, особенно процветавших в конце династии Мин, пожалуй, наиболее знаменита была всеми любимая Дун Сяовань. Позднее она стала наложницей Мао Боцзяна. Во времена Южных и Северных династий жила некая Су Сяосяо, ее могила на берегу озера Сиху в течение многих лет служила местом поклонения приезжавших сюда ученых и литераторов. Судьба певичек тесно переплеталась с политической судьбой страны. Так, Чэнь Юаньюань была любимой наложницей минского полководца У Саньгуя. Захват Ли Цзычэном Пекина в 1644 г. и пленение Чэнь Юаньюань стали причиной измены У Саньгуя, который привел в Пекин маньчжурские войска и вернул любимую наложницу. И именно такое развитие событий способствовало приходу к власти в Китае маньчжурской династии Цин. Интересно, что после перехода У Саньгуя на сторону маньчжуров, Чэнь Юаньюань с ним рассталась и в специально для нее построенном монастыре Шаншань постриглась в монахини. Известна также Ли Сянцзюнь, которая прославилась постоянством своих привязанностей. Твердостью политических убеждений и смелостью она выгодно отличалась от многих мужчин, превосходила многих современных революционеров-мужчин душевной чистотой. После того, как ее муж вынужден был бежать из Нанкина, Ли Сянцзюнь жила в добровольном затворничестве. Потом ее вынудили прийти к влиятельному сановнику и велели услаждать пением его гостей. Однажды Ли Сянцзюнь спела несколько насмешливых песенок и назвала пирующих победителей «приемными детьми евнухов». Стихи и песни, написанные такими женщинами, дошли до нас. Образованных китаянок следовало искать именно среди таких певичек. А еще были Сюэ Тао, Ма Сянлань, Лю Жуши и другие. Многие молодые люди до женитьбы не имели возможности ухаживать за женщинами, и этот пробел восполняли куртизанки. Автор использует слово «ухаживать», потому что, в отличие от обычных проституток, за куртизанками необходимо было именно ухаживать. Так что в Китае умели преклоняться пред женской красотой. В современном романе «Черепаха с девятью хвостами» («Цзю вэй гуй») рассказывается, как многие мужчины пытались добиться успеха у женщины легкого поведения. Однако одному счастливчику пришлось потратить несколько месяцев и 3-4 тысячи юаней, прежде чем ему позволили провести ночь в спальне красавицы. Столь важную роль куртизанки могло играть лишь в условиях затворничества женщин. И понятно, что только к куртизанкам мужчины могли обращаться в поисках любовной романтики. Когда у мужчины нет опыта непринужденного общения с женщинами и ему надоела жена, которая готовит ему еду и штопает носки, он неизбежно стремится к той любовной романтике, которая хорошо известна европейцам, ухаживающим за невестой до свадьбы. Увидев понравившуюся ему женщину, мужчина решил ею овладеть, у него возникло желание, близкое, как он считает, к любви. Однако женщина оказалась опытнее и образованнее, чем он, и не торопилась начинать с ним роман. В таких случаях мужчины иногда чуть ли не боготворят женщин. В Китае такова единственно законная и приемлемая для общества форма ухаживания. Иногда между мужчиной и женщиной в Китае действительно возникала романтическая любовная связь, как у молодых людей и их любовниц на Западе. История Дун Сяовань и Мао Боцзяна, начиная с трудностей при первой встречи до короткого, но счастливого периода брачной жизни, похожа на любую подобную историю. Финал таких связей бывает счастливым, бывает и печальным. Ли Сянцзюнь в конце концов постриглась в монахини, Гу Хэнпо, Лю Жуши стали знатными дамами в домах видных сановников, современники им завидовали и восхищались ими. Итак, куртизанки научили китайцев романтической любви точно так же, как китайские жены научили их земной, прозаичной любви. Иногда складывалась довольно сложная ситуация. Ду Му после десяти лет скитаний одумался и вернулся к законной жене. Порой целомудрие куртизанок, например Ду Шинян, производит глубокое впечатление. Помимо прочего, куртизанки развивали традиции китайской музыки, без них эта традиция могла прерваться. Куртизанки были более образованными, более независимыми, чем законные жены, непринужденно вращались в мужском обществе. На деле именно они представляли собой старого Китая. Влияние куртизанок на высшее чиновничество часто позволяло им в известной степени заниматься политикой. Вопросы назначения и снятия с должностей решались у них дома. Достойные того куртизанки нередко становились официальными наложницами, как это было практически со всеми женщинами, о которых говорилось выше. Институт наложниц — почти такое же древнее явление, как и сам Китай, а связанные с ним проблемы так же стары, как моногамия. На Востоке, когда мужчина недоволен женой, он отправляется к певичкам или заводит наложницу. На Западе в таком случае заводят любовницу или вступают в случайную связь. Формы поведения в обществе различны, а коренные проблемы на удивление сходны. На Востоке и Западе прежде всего различно отношение общества, особенно женской его части, к таким поступкам. Общество позволяет китайцу бывать у певичек и заводить наложницу, а европейцы заботятся о приличиях и не разговаривают на эту тему. Настоятельное требование, чтобы в семье было мужское потомство, также в значительной степени способствовало возникновению конкубината. В Китае некоторые жены даже упрашивали своих мужей завести наложницу, так как сами не могли родить сына. Закон династии Мин разрешал мужчинам в возрасте после 40 лет завести наложницу, если у него не было мужского потомства. К тому же китайская система конкубината позволяла на деле обходиться без развода. Брак и развод — самые сложные социальные проблемы, до сих пор многое здесь неразрешимо. Никто до сих пор не придумал приемлемого выхода из тупика, разве что римско-католическая церковь, которая вообще отрицает существование этой проблемы. Можно утверждать, что брак является единственным и самым надежным способом женщины защитить себя. Достаточно мужчине дать волю инстинктам, страдать будет женщина. Все для нее плохо — развод, появление наложницы, пробный брак, свободная любовь мужа на стороне; неравенство полов в сфере секса, связанная с ним несправедливость обусловлены природой. О равенстве в сексе нет и речи, природа заботится лишь о продолжении рода. И в современном так называемом «равном браке» после рождения ребенка 50:50 превращаются в 75:25 в пользу мужчины. Если женщина, когда «любовь уходит», просто отпустит мужа, то 40-летний мужчина окажется в более благоприятных условиях, чем 40-летняя женщина-мать с тремя детьми. Подлинного равенства не бывает. В силу всего этого систему конкубината можно считать в известном смысле разумной. Китайцы считают, что брак — это семейное дело; когда рушится брак, берут наложницу. Таким способом, по крайней мере, можно гарантировать продолжение существования семьи как социальной единицы. На Западе не так. Там считают, что брак — дело личное, неразрывно связанное с чувством любви. Поэтому у них существует система развода, ведущего к распаду семьи как социальной единицы. На Востоке, если разбогатевший муж начинал бездельничать и распутничать, заводил любовницу, то жене приходилось подавлять свои чувства, сохраняя вместе с тем прежнее положение в обществе и семье. Окруженная детьми и внуками, она не чувствовала себя несчастной. На Западе современная жена подаст в суд и после того, как заполучит причитающуюся ей по закону долю общего имущества, распрощается с мужем и, возможно, выйдет замуж за другого. Итак, на Востоке жена, отвергнутая мужем, по-прежнему пользуется уважением остальных членов семьи, а также обладает некоторым преимуществом пред наложницей, по крайней мере теоретическим. На Западе же — разведенная жена, получившая свою долю имущества и живущая отдельно от мужа. Кто из них более счастлив? Это один из самых запутанных вопросов в мире. В Китае женщинам недостает того духа независимости, который присущ их западным сестрам. Отвергнутая жена всегда находится в состоянии глубокой депрессии. Ее социальный статус утрачен, семья разрушена. В мире на каждую счастливую женщину, по-видимому, приходится одна несчастливая, независимо от социального строя. Даже реальная экономическая независимость вопроса не решает. В Китае подобные случаи происходят у нас на глазах каждый день. Иногда мне кажется, что очаровательная модница, которая, применяя по-женски жестокие средства, выгнала прежнюю жену, очень похожа на своих предков эпохи варварства. Отличие лишь в том, что она уже настолько современна, что не в состоянии терпеть под одной крышей другую, равную ей женщину. В прошлом, когда порядочная женщина, полюбив женатого мужчину, проявляла инициативу и становилась его наложницей, она все же демонстрировала уважение к его жене. А теперь под предлогом моногамии одна женщина изгоняет другую, занимает ее место, и это кажется лучшим выходом из положения. Таков современный, с позволения сказать, цивилизованный способ решения проблемы. Если женщинам это нравится, пусть они так и поступают, потому что их это касается в первую очередь. Однако в конкуренции полов молодые и красивые женщины всегда берут верх над старшими по возрасту. Это новый и вместе с тем давний вопрос. Несовершенство системы брака связано с несовершенством человеческой природы и потому вечно. Оставим решать этот вопрос потомкам. Ибо только врожденное сознание равенства и справедливости, а также все большее осознание ответственности перед детьми сократит число случаев, о которых шла речь. Конечно, отстаивая систему конкубината, мы попусту тратили бы время; тогда пришлось бы защищать и многоженство. Гу Хунмин, магистр Эдинбургского университета по гуманитарным наукам и большой любитель цитировать Томаса Карлайла и Мэтью Арнольда, однажды, защищая конкубинат, заявил: «Вам приходилось видеть вместе один чайник и четыре чашки, а видели ли вы когда-нибудь вместе одну чашку и четыре чайника?» На этот вопрос лучше всего ответить словами Пань Цзиньлянь — наложницы Симэнь Цина из романа «Цветы сливы в золотой вазе» («Цзин пин мэй»): «Вы когда-либо видели две ложки в одной чашке, которые бы не звякали друг о друга?» Она знала, о чем говорила.Бинтование ног
Происхождение и смысл обычая бинтования ног трактуется в значительной степени неверно. Бинтование ног — символ системы затворничества и приниженного положения женщин. Такое толкование не является преувеличением. Великий конфуцианец эпохи Сунской династии Чжу Си ратовал за распространение этого обычая на юге провинции Фуцзянь, полагая, что этот обычай будет способствовать распространению китайской культуры в регионе, проповедуя при этом различный подход к мужчинам и женщинам. Однако, если считать бинтование ног только символом угнетения женщин, китайские матери не стали бы такими горячими поклонницами этого обычая и не заставляли бы дочерей следовать ему. На самом деле бинтование ног с самого начала имело сексуальную природу. Вне сомнения, оно берет начало в дворцовых покоях распутных правителей. Мужчинам так нравится этот обычай потому, что для них женские ножка и туфелька — это фетиш любви. Женщинам нравится этот обычай потому, что им хочется добиться любви мужчин. По поводу того, когда возник этот обычай, идут споры, хотя проблема того не стоит. Скорее, больше пользы будет поговорить о его «трансформации», чем о происхождении. О бинтовании ног можно говорить только, если ступни обматывают длинными обмотками, которые заменяли чулки. Первой будто бы бинтовала ноги Наньтан Хоуцжу, одна из императриц династии Южная Тан (923—936). Ян Гуйфэй в VIII в. носила чулки, и один чулок после смерти этой императорской наложницы спрятала ее няня, которая выставила его напоказ, продавая входные билеты за сто монет с человека. В конце эпохи Тан маленькие женские ножки и «туфельки в форме изогнутого лука» вошли в моду. Носки таких туфелек были загнуты наподобие древнеримских ростр. Их носили дворцовые танцовщицы. Девушки начинали танцевать, и между расшитых жемчугом парчовых занавесей дворцовых покоев витал аромат пудры, смешанной с благовониями. В такой атмосфере, естественно, не могла не появиться творческая натура, которая последним штрихом довела до совершенства эту изощренную чувственность. Таким человеком оказался император династии Южная Тан, незаурядный поэт. Император приказал танцовщице петь и танцевать на высоте шести футов на лотосе, сделанном из золота и украшенном драгоценными камнями, жемчугом и золотыми нитями. Так возникла и быстро распространилась мода на бинтование ножек. Бинтованные ножки воспевавшие их поэты называли «золотым лотосом» или «душистым лотосом». Ключевое слово здесь — «душистый», оно подразумевает сладострастную атмосферу в доме богатого китайца, чьи покои наполнены ароматами редких благовоний. Об этом написаны целые тома. Женщины ради моды готовы пожертвовать многим, в том числе и чисто телесным комфортом. И китаянки в этом не одиноки. Еще в 1820-х годах англичанки буквально втискивали дочерей в корсеты из китового уса, а девушки тем временем ничком лежали на полу. Корсеты из китового уса в XVIII — начале XIX в. порой давали возможность европейским девушкам в нужный момент падать в обморок. Еще один пример самоистязания — русский балет на пуантах, однако балет считают искусством и им принято наслаждаться. Маленькие ножки китайских женщин не только восхищали взоры мужчин, но и влияли на осанку и походку китайских женщин. Зад чуть оттопырен, как будто надеты туфли на высоком каблуке, тело раскачивается настолько, что человек готов вот-вот упасть. Идущая женщина с бинтованными ножками похожа на канатоходца, все время боишься, что она упадет. Бинтование ножек — это самое удивительное творение чувственности китайских мужчин. Китайцы превратили маленькие ножки в некий фетиш, предмет любовных игр, перед ними преклоняются, их воспевают. Ночные туфельки для бинтованных ножек заняли видное место в эротической поэзии, а культ «золотого лотоса», несомненно, входит в сферу сексуальной психопатологии. Любуясь маленькими ножками, китайцы создали немало произведений поэтического искусства, не уступающих порой шедеврам танской поэзии. Между тем по-настоящему изящные ножки встречаются крайне редко, возможно, не более чем у десяти женщин на целый город. Поэтому легко понять, почему этот раритет восхищает мужчин точно так, как восхищают их утонченные и изысканные стихи эпохи Тан. Фан Сянь, живший при династии Цин, написал книгу, целиком посвященную описанию искусства бинтования ножек. Он разделил маленькие ножки на пять категорий и восемнадцать видов. По его мнению, бинтованные ножки должны быть: 1) полными, 2) мягкими, 3) элегантными. Фан Сянь, в частности, писал:Тонкие ножки холодны, а мускулистые тверды. Такие ножки безнадежно вульгарны. Полные ножки приятны на ощупь. Мягкие ножки благородны и радуют глаз, а элегантные ножки утонченны и красивы. Но полнота не зависит от плоти, мягкость не зависит от бинтования, а элегантность не зависит от туфелек. Более того, можно судить о полноте и мягкости по их форме, но наслаждаться элегантностью можно только глазами души.Все, кто понимает власть моды над женщиной, могут понять, почему этот обычай соблюдался столь долго. Удивительно, что указ маньчжурского императора Кан-си о запрете бинтования ног спустя несколько лет после обнародования был отменен. Маньчжурские девушки очень скоро начали подражать китайским девушкам в бинтовании ног, и лишь император Цянь-лун наложил на это запрет. Дальновидные матери, успевшие выдать дочерей за пристойных людей, с детства начинали им бинтовать ноги. Когда невеста слышала, как восторгаются ее ножками, она, естественно, была благодарна родителям. Женщина гордилась не только красивым лицом, но и маленькими ножками. Так же, как современная девица гордится точеными изящными лодыжками, маленькие ножки китаянок в любом обществе привлекали внимание. Конечно, пока девушка росла и развивалась, бинтование ног приносило ей ужасные страдания. Однако прелестные маленькие ножки — предмет гордости на всю жизнь. Этот дикий и абсурдный обычай критиковали, по крайней мере, трое ученых: Ли Жучжэнь (автор «феминистского» романа «Цветы в зеркале», 1825), Юань Мэй (1716—1799) и Юй Чжэнсе (1775—1840). Все они отличались независимыми взглядами и оказали влияние на последующие поколения. Однако обычай бинтования не был упразднен до тех пор, пока христианские миссионеры не развернули против него методичную пропаганду, и за это китаянки должны быть им благодарны. Миссионерам, к счастью, помогло распространение в Китае западной моды. Китайские женщины обнаружили, что туфельки на высоких каблуках вполне могут заменить бинтование ножек. Туфли на каблуках сделали осанку женщины более стройной, походку более изящной, а ножки казались меньше, чем на самом деле. Ли Ливэн, например, писал: «Приходилось видеть ножки размером в три китайских дюйма в обуви без каблука и ножки размером в четыре-пять дюймов в туфлях на каблуке. Когда такие женщины стояли рядом, мне казалось, что трехдюймовые ножки больше четырех-пятидюймовых. Это оттого, что на каблуках большой палец смотрит вниз, а ровная стопа кажется смотрящей вверх, в то время как без каблуков побеги яшмового бамбука смотрят в небо и остроносая нога кажется плоской». Подобные глубокие рассуждения на досуге — характерная черта талантливых китайских литераторов.
Эмансипация
Ныне нет возврата к временам женского затворничества. Все идет вперед так стремительно, что уехавшие из Китая лет десять назад, вернувшись, только изумляются. Налицо глубокое и всестороннее изменение мировоззрения китайских девушек. Девушки нового поколения буквально во всем отличаются от «модных» девушек прошлого десятилетия. Причин этих резких изменений много, но основная — это влияние Запада. Говоря конкретно, этими факторами стали свержение в 1911—1912 гг. монархии и провозглашение республики, признание равенства мужчин и женщин; начавшееся в 1916—1917 гг. «движение за новую культуру» во главе с Ху Ши и Чэнь Дусю. Следует особо отметить критику обычая соблюдения вдовой целомудрия, двойных стандартов в отношении мужчин и женщин и даже «людоедского учения Конфуция». Фактором обновления стало и студенческое «движение 4 мая 1919 г.», которое было вызвано ущемлением национальных интересов Китая на Версальской мирной конференции. В этом движении приняли участие молодые люди обоего пола. Осенью 1919 г. Пекинский университет впервые открыл двери для девушек, а вскоре все университеты Китая ввели совместное обучение полов. Студенты и студентки активно участвовали в политике, причем главной силой национальной революции 1925—1927 гг. стала студенческая молодежь. Руководили революцией и вдохновляли ее Гоминьдан и коммунистическая партия. В этой революции девушки принимали участие в качестве партийных работников, медицинских сестер и даже солдат. После сформирования нанкинского Национального правительства в 1927 г. женщины-члены партии Гоминьдан продолжали занимать свои должности. Нанкинское правительство издало закон,уравнивавший права мужчин и женщин при получении наследства; постепенно уходил в прошлое конкубинат; создавались женские школы. После 1930 г. одно время процветал женский спорт, в особенности в 1934 г., когда стали популярны женское плавание и обнаженная натура в живописи; все это обсуждалось ежедневно в газетах и журналах. Маргарет Сангер в 1922 г. приехала в Китай, началось планирование рождаемости и сексуальное воспитание по радио; введены противозачаточные средства (одно это могло вызвать революцию в области этики и морали); многочисленные газеты каждую неделю выпускали приложения для женщин, специально обсуждая женские вопросы; вышла в свет книга «История секса» (пошловатое издание некоего Чжан Цзиншэна — студента, обучавшегося во Франции); стали популярны киножурналы и фотографии кинозвезд — Греты Гарбо, Нормы Ширер, Мэй Вест, а также бары с пением и танцами, и китайские девушки поразительно легко стали частью этого нового для них мира. Вошли в моду также завивка, туфли на каблуках английских моделей, духи из Парижа, американские шелковые чулки. Халаты à la chinoise и бюстгальтеры сменили обтягивающую одежду; появились и женские купальные костюмы. От бинтования ножек до купальных костюмов огромная дистанция. Хотя на первый взгляд эти изменения носили поверхностный характер, на самом деле они были весьма глубокими. Потому что жизнь и состоит из этих так называемых мелочей. Изменив все это, мы полностью изменили всю свою жизнь. Современных модных девушек высмеяли читатели китайских журналов. Их называли пошлячками, высмеивали их любовь к роскоши, склонность к лени, забвение хороших манер. Было очевидно, что влияние Мэй Вест оказалось сильнее влияния Мэри Фолстонкрафт. Реально существуют два типа женщин: один — женщины, проявляющие активность в светской и общественной жизни; зачастую они не лучшие представительницы своего пола и не могут представлять всех женщин. Другой тип — серьезные и образованные женщины, не показывающиеся на людях и предпочитающие затворничество в «башне из слоновой кости». В целом эти современные веяния, надо сказать, отражали известное раскрепощение, полезное как для китайских женщин, так и для всей китайской нации. Первым и главным результатом стали изменения, происшедшие в отношении девушек к своему телу. Они стали оголять ноги на спортивных соревнованиях, вызывая осуждение и сожаление у людей старшего поколения, однако в конечном счете это принесло пользу стране. Внимание к развитию тела сделало более естественной и красивой походку женщин, они больше не семенят на маленьких ножках, выращенных в домашних задних покоях. Изменения в отношении к женскому телу привели к переменам и в восприятии женской красоты. Теперь идеал — не задавленное, бессловесное, благовоспитанное существо женского пола, а женщина — живая, непосредственная и яркая, похожая на женщин европейских. Откровенные разговоры и непринужденный смех женщин, а не их сдавленное хихиканье воспринимаются теперь как должное. Свойственное конфуцианству пренебрежение ролью женщин в обществе, строгое разделение мужчин и женщин постепенно сменяется более гуманными отношениями полов. Недопустим возврат прежних ограничений. Правда, существует опасность десексуализации и утраты женственности. Женщины стремятся во всех областях жизни подражать мужчинам. Само по себе это признак зависимого положения женщин. Пусть они гордятся тем, что они женщины. Только развивая и совершенствуя качества, присущие именно их полу, китаянки сумеют достичь выдающихся высот. По сравнению с женщинами Запада современные китайские женщины, возможно, более уравновешены и в большей степени обладают чувством собственного достоинства. Им недостает естественности в поведении, независимого характера западных сестер. Может, это у китаянок в крови, но если это и так, пусть все остается как есть, ибо, только проявляя собственный национальный характер, можно завоевать известность и славу.Глава 6 СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Отсутствие общественного сознания
Китайцы — нация индивидуалистов. Их заботит только собственная семья и не заботит общество, и такого рода восприятие семьи есть всего лишь эгоизм большего масштаба. Интересно, что философия традиционного Китая не выработала понятия «общество». В конфуцианской социально-политической философии мы наблюдаем непосредственный переход от семьи — цзя к государству — го. Как гласит древнее изречение, «совершенствуй себя, создай семью, управляй страной, умиротвори Поднебесную». Наиболее близким словом, отражающим понятие «общество», является гоцзя («государство»), состоящее из двух морфем: го — «страна» и цзя — «семья». Именно так — сложением — в китайском языке образуются абстрактные существительные. «Дух общественности» — новый термин, точно так же как и «гражданское сознание», «социальная служба» и некоторые другие. В Китае нет такого товара. Правда, существует понятие «общественное мероприятие», например свадьба, похороны, день рождения, буддийские церемонии и ежегодные праздники. Однако такие неотъемлемые составные части англо-американской общественной жизни, как физкультура и спорт, политика, религия, в китайском обществе очевидным образом отсутствуют. В Китае нет церквей как религиозных институтов. Китайцы тщательно избегают любых рассуждений о политике. Они не участвуют в выборах, у них нет клубов, где можно говорить о политике, они не занимаются спортом, который объединяет людей, а в этом как раз и есть суть англо-американской общественной жизни. Конечно, они тоже играют, но их игры характеризуют китайский индивидуализм. Китайцы не делят игроков на две команды, как, например, в крикете. Командные игры китайцам неизвестны. В китайских карточных играх каждый играет за себя. Китайцам нравится покер и не нравится бридж, они всегда играли в мацзян, который ближе к покеру, чем к бриджу. В философии мацзяна отражаются черты китайского индивидуализма. Иллюстрацией этого индивидуализма может служить китайская пресса. Китайцы так издают свои газеты, как будто они играют в мацзян. Мне приходилось это наблюдать. Главный редактор занимается только сочинением передовицы. У сотрудника, ответственного за информацию о Китае, есть своя полоса, у ответственного за международные новости — своя, а у ответственного за городские новости — целый подвал. Эти четверо, управляя каждый своим отделом, похожи на четырех игроков в мацзян: каждый пытается отгадать, что за кости на руках у партнеров по игре. Каждый стремится набрать комплект костей, скинув ненужные ему кости с изображением бамбука. Если новостей по стране слишком много, их можно перекинуть в рубрику городских новостей, и этого не нужно объяснять читателям. Если же полоса с городскими новостями тоже переполнена, можно перекинуть новости в рубрику криминальной хроники. Главные новости дня, заслуживающие первой полосы, не выбирают; нет логической связи между содержанием полос. Каждый редактор волен в удобное для него время уйти домой или еще куда-нибудь, все очень просто. И редактор, и читатели — врожденные индивидуалисты. Публиковать новости — дело редактора, а искать новости — дело читателя, никто друг другу не мешает. Таковы сегодня редакционная политика и журналистская техника некоторых самых старых и популярных многотиражных газет Китая. Если вы спросите, почему редакторы не сотрудничают друг с другом, отвечу: потому что они не сознают общественной значимости своей работы. Если главный редактор попытается провести реформу и снимет с работы ответственного за городскую полосу, который мешает реформе, то он нарушит господствующий в Китае принцип семейственности. Зачем ему вмешиваться в чужие дела? Изгнав сотрудника редакции, он отнимет у него кусок хлеба и вся семья несчастного будет голодать. Если редактор городских новостей женат на племяннице владельца газеты, главный редактор не будет его увольнять. Он ни за что этого не сделает, если мыслит по-китайски. Но если главный редактор только что окончил Школу журналистики в штате Миссури, то он быстро слетит со своего места, и его заменит другой, знающий, как делаются дела на китайский лад, и все будет как прежде: читатели будут искать новости, а газета будет наращивать тираж и зарабатывать деньги. Такова психологическая подкладка общественных взаимоотношений в Китае. Примеры можно было бы умножить. Все они свидетельствуют о слабости общественного сознания у китайцев, и это особенно озадачивает европейца и американца XX века. Я говорю — «человека XX века», потому что он унаследовал достижения XIX века с его всесторонним интересом к человеку, а также обладает широким общественным кругозором. Вот типичный пример, который приводит иностранцев в замешательство и, однако, адекватно отражает китайскую точку зрения на общественную работу. Я сошлюсь на высказывания провинциального милитариста по поводу движения за массовое образование, опубликованные в журнале «Лунь юй» (юмористический журнал, выходил дважды в месяц). Молодые китайцы, восприняв у американских сверстников стремление к общественной деятельности, организовали движение за ликвидацию неграмотности. И вот этот генерал заявил, что учащиеся должны учиться, а не вмешиваться в общественные дела. «Люди должны делать свое дело, и есть свой собственный рис, а вы хотите их свергнуть!» Вот самый убедительный аргумент генерала: неграмотные люди не вмешиваются в ваши дела, почему вы должны вмешиваться в их дела? Эти слова разят наповал, потому что они сказаны от всего сердца, напрямую, без всяких обиняков. Для китайца все, что касается общественных нужд, всегда выглядело «влезанием в чужие дела». Любой энтузиаст в области социальных реформ или любого другого вида общественной деятельности всегда выглядел слегка комичным. Мы делаем скидку на его искренность и все же не можем его понять. Какую цель он преследует, бескорыстно всем этим занимаясь? Хочет стать знаменитым? Почему он не предан своей семье и не займет чиновничий пост, почему не разбогатеет, чтобы в первую очередь помочь своим домочадцам? Вывод обычно таков: молодо-зелено, т.е. его поведение отклоняется от общепринятой нормы. В китайской истории всегда были странные люди подобного типа, которых называли хаося, т.е. рыцарями. Однако все они принадлежали к прослойке разбойников или бродяг, этакие скитающиеся по свету холостяки, готовые в любой момент прыгнуть в воду, чтобы спасти совершенно незнакомого тонущего ребенка. Женатые китайские мужчины так не поступают. Однако и среди них бывают исключения — умерев, они оставляют без гроша вдову и детей. Мы, возможно, преклоняемся перед ними, мы любим их, но мы не хотели бы, чтобы в нашей семье были такие люди. Когда у юноши чрезмерно развито общественное сознание и он нередко попадает в тяжелое положение, мы смело можем предсказать, что он станет несчастьем для родителей. Если его удастся как можно раньше остановить, это будет прекрасно. Если же нет, то он попадет в тюрьму и принесет горе семье. Конечно, дела не всегда складываются настолько плохо. Но если мы его не остановим, он может бежать из дома к разбойникам или бандитам, зараженным идеями социальной справедливости. Вот почему мы называем таких юношей «людьми с отклонениями». Почему китайцам недостает духа гражданственности? Китайцы — вовсе не язычники, погрязшие в грехах, как это представляют христианские миссионеры, хотя уничижительное слово «язычник», по-видимому, вполне подходит китайцам. Впрочем, было бы лучше, если бы миссионеры попытались понять китайцев и уничтожить зло в зародыше. Тогда миссионеры изменили бы мнение о китайцах, осознав, что их поведение обусловлено философией, в корне отличающейся от христианства. Ныне даже самые образованные китайцы по-прежнему не могут понять, почему западные женщины организуют общества противников жестокого обращения с животными. Почему надо заниматься собаками, а не сидеть дома и заботиться о собственных детях. Наш вывод таков: у таких западных женщин нет детей, поэтому у них нет более интересного занятия, чем забота о собаках, и, скорее всего, именно так и обстоят дела. Таким образом, налицо конфликт между семейным и общественным сознанием. Если мы вникнем в его глубинные причины, то обнаружим, что семейное сознание в Китае всегда играло важную роль. Семейная система — это основа китайского общества, определяющая все его характерные черты. Принимая во внимание клановую систему, а также структуру деревенского общества, включающую совокупность кланов, можно понять коренные проблемы всего китайского общества. Сохранение или потеря «лица», протекция, понятие одолжения, привилегии, «благодарность» покровительствуемых, правила вежливости, коррупция, общественные институты, школы, гильдии, благотворительность, гостеприимство, правосудие и, наконец, система государственного устройства — все это восходит к семейной и деревенской системам, заимствуя у них специфическое содержание и внешнюю структуру. Семейная система порождает семейное сознание, а семейное сознание порождает определенные правила общественного поведения. Изучим их и понаблюдаем, как ведет себя в Китае «человек общественный» при отсутствии у него общественного сознания.Семейная система
В Китае прежде не было такого социального термина — «семейная система». Все и так знали, что семья — это «основа государства», основа человеческого общества. Эта система наложила отпечаток на всю нашу общественную жизнь. Она персонифицирована так же, как персонифицирована в Китае власть. Семейная система дает детям первые уроки обязательств перед другими людьми, убеждает их в необходимости взаимного согласия, самоконтроля, почтительности и благодарности к родителям и долга перед ними, а также уважения ко всем старшим. Семейная система на практике заняла место некоей религии, она позволяет членам семьи ощутить свою включенность в общество, а также продолжить свой род, удовлетворяя тем самым подсознательное стремление людей к бессмертию. Благодаря почитанию предков эта система позволяет людям предельно ясно осознать смысл бессмертия. Она воспитала чувство семейной чести, которое существует и на Западе. Эта система решает за нас наши сугубо личные вопросы. Она вырвала у нас из рук право на заключение брака и отдала его нашим родителям. Семейная система превращает наших жен в невесток, и рожают они по велению этой системы не сыновей, а внуков. Эта система многократно умножила обязанности невестки; она дает молодым людям понять, что, закрывая днем двери в свою комнату, они нарушают ритуал. Английское слово «privacy» в Китае неизвестно. Как вечно включенный радиоприемник, семейная система приучает нас к шумным свадьбам, к шумным похоронам, шумным ужинам и сну среди всеобщего шума. Как и радио, она парализует нашу нервную систему и наши лучшие побуждения. Западный человек напоминает девушку на выданье, которой надо заботиться лишь о себе; поэтому западные люди всегда стараются выглядеть аккуратными и опрятными. А китаец похож на невестку из большой китайской семьи, на которую взвалено неисчислимое количество обязанностей. Таким образом, семейная система с детства воспитала нас рассудительными и хладнокровными, она держит нашу молодежь на предписанном ей месте. Она чрезмерно защищает наших детей от внешних воздействий, и приходится удивляться, как мало тех, кто восстает против семейного деспотизма и убегает из дома. В семьях, где царит автократия, где родители царят над всем, эта система лишает молодежь предприимчивости, смелости, стремления проявить инициативу. По мнению автора, в этом заключается наибольший вред, причиненный семейной системой характеру китайцев. Обряд похорон родителей таков, что претенденты на ученую степень в течение трех лет не могут принимать участия в экзаменах на государственную должность, а министры и другие сановники обязаны на три года покидать свой пост. Традиционная семейная этика до сих пор влияет даже на наши путешествия и спорт. В «Сяо цзине» («Канон сыновней почтительности»; в прошлом учащиеся заучивали его наизусть) по этому поводу излагается теория, согласно которой «тело, волосы и кожу мы получили от родителей, и они не должны быть повреждены». Ученик Конфуция Цзэн-цзы перед смертью сказал: «Осмотрите мои руки, осмотрите мои ноги», они не повреждены, и их можно в целости вернуть духам родителей. Речь идет о почти религиозных чувствах. Семейная система ограничила наши передвижения. У Конфуция сказано: «Пока родители живы, человек не должен уезжать далеко от дома, а если уезжает, то должен ехать в известное место». Таким образом, лучшая форма путешествия, т.е. путешествие без определенного места назначения, теоретически невозможна. «Почтительный сын не залезает высоко и не ступает в опасные места». Поэтому в альпинистских клубах нет ни одного «почтительного сына». Итак, семейная система отрицает индивидуализм и тянет человека назад, как это делает профессиональный жокей, который натягивает поводья, сдерживая норовистого арабского скакуна. Если это хороший жокей, он поможет коню выиграть состязание. Однако иногда жокей не столь уж хорош, а порой коню мешает скакать плохая коляска. Стало быть, китайскому обществу не нужны арабские скакуны — и у нас их действительно нет. Мы их убиваем, загоняем в горы или отправляем в приюты для душевнобольных. Нам нужны только послушные, трудолюбивые, тягловые лошади. Таких лошадей у нас сколько угодно. Учение об отношениях в обществе, как часто называют конфуцианство, является социальной философией, на основе которой сложилась семейная система. Именно это учение поддерживает в Китае социальный порядок. Центральной идеей конфуцианства является статус, минфэнь, который определяет место в обществе каждого мужчины и каждой женщины. В отличие от гуманистического идеала, гласящего «всему свое место», социальный идеал гласит: «Каждому свое место». Мин означает «имя», а фэнь означает «долг». Конфуцианство реально известно как минцзяо, или «учение об именах». Мин — это фактически титул, который дает человеку статус в обществе и определяет его отношения с другими людьми. Без мин, без включенности в социальные отношения человек не будет знать свой фэнь, т.е. свои обязанности по отношению к людям, и поэтому не будет знать, как себя вести. Согласно конфуцианской догме, если каждый знает свое место, а его поступки соответствуют его месту, социальный порядок будет обеспечен. Четыре из «пяти основных человеческих отношений» касаются семьи. Вот эти пять отношений: отношения между правителем и подчиненным, отцом и сыном, мужем и женой, старшим братом и младшим братом и отношения между друзьями. Отношения между друзьями можно также считать семейными, потому что и друзей можно включить в круг домашних — «друзей семьи». Получается, что семья является отправной точкой и мерилом морали. Будем справедливы: Конфуций никогда не пытался социальное или государственное сознание подменить семейным сознанием, он никогда не стремился насаждать тем самым крайний эгоизм. Однако таким был результат общественного развития, результат, которого даже Конфуций, при всем его практичном уме, не мог предвидеть. Между тем пороки семейной системы во времена Хань Фэй-цзы (конец III в. до н.э.) были очевидны. Я считаю, что Хань Фэй-цзы был великим политическим мыслителем своего времени. Политическая ситуация, описанная в его трудах, мало чем отличается от ситуации в современном Китае. И во времена Хань Фэй-цзы имели место, например, извращение системы управления государством из-за кумовства и фаворитизма, а также воровство государственных средств ради обогащения собственной семьи, строительство роскошных особняков политиками, безнаказанность провинившихся чиновников, отсутствие гражданского сознания, а также, как правило, и общественного сознания. Хань Фэй-цзы полностью разъяснил эти вопросы. Выходом из положения он считал создание системы правления при помощи писаных законов. Как и Сократ, он был вынужден покончить с собой, приняв яд. Однако, по крайней мере теоретически, Конфуций вовсе не считал, что семейное сознание породит всепоглощающий эгоизм в ущерб интересам общества. В рассуждениях на темы морали Конфуций отдавал в этой сфере приоритет семье, считая, что моральное воспитание в семье является основой воспитания общественной морали. В итоге, благодаря моральному воспитанию всего общества, возникнет общество счастливое и гармоничное. Только учитывая этот тезис Конфуция, можно понять, почему сыновней почтительности придается в конфуцианстве такое большое значение и оно считается «первой из добродетелей». Китайский иероглиф цзяо («культура» и «религия») происходит от иероглифа сяо («сыновняя почтительность»). Иероглиф цзяо пишется с ключом, который означает «стать почтительным сыном». Вот как объясняется это слово в «Сяо цзине»:Конфуций сказал: «Совершенный муж обучает сыновней почтительности не потому, что оно должно проявляться в семье и в повседневной жизни. Он обучает сыновней почтительности для того, чтобы ее ощутили все те, кто является в этом мире отцами. Он обучает почтительности к старшему брату, чтобы все те, кто является старшими братьями, могли ощутить эту почтительность. Он обучает долгу подданного, чтобы уважение ощутили все, кто является в мире правителями».Конфуций также сказал:
Те, кто любят своих родителей, не посмеют совершать зло в отношении других. Те, кто уважают своих родителей, не посмеют относиться к людям грубо.Поэтому он мог сказать своему ученику Цзэн-цзы:
Сыновняя почтительность есть основа добродетели, из которой рождается культура... Тело, волосы и кожа получены от родителей и не должны быть повреждены. Это есть начало сыновней почтительности. Совершать правильные поступки, действовать согласно правилам и моральным нормам, оставляя доброе имя потомкам, чтобы прославить своих родителей — вот вершина сыновней почтительности. Сыновняя почтительность начинается со служения родителям, ведет к служению совершенному мужу и завершается становлением характера человека...Вся философия общественной морали основана на подражании, а воспитание — на привычке. Обучение поведению в обществе строится на правильных ментальных установках, которые еще в детстве внушены в семье. В этом нет ничего плохого. Единственным слабым местом является смешение морали с политикой, которое, быть может, отчасти годится для семьи, но является бедствием для государства. Как социальный регулятор семейная система последовательна. Согласно ее канонам, страна добрых братьев и друзей, разумеется, хорошая страна. Однако, с точки зрения современного человека, конфуцианство в социальных отношениях упустило из виду, что каждый человек в отношении незнакомца тоже несет социальные обязательства. Беды от такого упущения велики. Принципы поведения «доброго самаритянина» не были известны китайцам и никогда ими не практиковались. Теоретически такое поведение оправдывается «принципом взаимности». Конфуций так говорил о совершенном муже: «Хочешь добиться успеха, помоги другим добиться успеха; хочешь стоять на ногах, помоги другому стать на ноги». Однако равноправные отношения с «другими» не входили в число пяти основных видов взаимоотношений и не имели такого четкого определения. Семья и ее друзья стали крепостью, обнесенной стеной, именно в рамках семьи осуществляется самое масштабное коммунистическое сотрудничество и взаимопомощь — при холодном безразличии и даже противлении внешнему миру. В результате, как видим, семья стала крепостью и внутри ее стен любая чужая вещь становится общей законной добычей.
Семейственность, коррупция и нравы
Фактически любая китайская семья — это коммунистическая ячейка, в которой принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям» лежит в основе всех поступков. Взаимопомощь, обусловленная как родственными чувствами, так и требованиями семейной чести, распространена весьма широко. Порой старший брат отправляется за тысячи километров, через океан, чтобы помочь обанкротившемуся младшему брату восстановить деловую репутацию. Член семьи, добившийся положения успешного бизнесмена, обычно берет на себя если не все, то большую часть расходов семьи. Некто платит за обучение племянников в школе, это дело обычное и никому не ставится в заслугу. Человек, добившийся успеха, если это чиновник, нередко лучшие посты предоставит своим родственникам. Если на тот момент не будет подходящей должности, он придумает для них синекуру. Такая семейственность всегда процветала, а в условиях экономических трудностей стала непреодолимым препятствием на пути любого прогресса, любых политических реформ. И не политические реформы подрывают непотизм, а непотизм парализует реформы. В итоге не раз повторявшиеся попытки реформ — и с самыми лучшими намерениями — остаются безуспешными. Если рассматривать эту проблему с некоторой снисходительностью, то семейственность ничуть не хуже фаворитизма всех сортов. Министр устраивает в министерство не только своих племянников, но и племянников других высоких чинов, учитывая при этом, что у чужих племянников на руках рекомендательные письма от еще более высоких сановников. Куда же он может их пристроить, разве что изобрести новые синекуры или присвоить этим протеже звания номинальных «советников». Давление экономических трудностей и фактора избытка рабочей силы настолько мощно, в Китае так много образованных молодых людей, умеющих сочинять статьи и книжки (но не умеющих починить карбюратор или радиоприемник), что при создании каждой новой общественной структуры, при каждом новом назначении на начальство обрушивается поток рекомендательных писем. И естественно, благотворительность начинается с собственной семьи. Традиционная китайская семья содержит своих безработных, а затем помогает им найти хоть какую-нибудь работу. Такая помощь со стороны семьи лучше обычной благотворительности, она позволяет невезучим людям сохранить чувство независимости. Получив такую помощь, члены семьи, в свою очередь, помогут другим домочадцам. Кроме того, министр, который украл у государства 500 тысяч или 10 миллионов американских долларов, чтобы кормить семью или даже три-четыре поколения потомков, наконец, просто стремится прославить предков и стать «добрым гением» семьи. В качестве примера упомяну нескольких человек, которых уже нет на свете. Генерал Ван Чжаньюань, губернатор провинции Хубэй, накопил 30 миллионов американских долларов, генерал У Цзюньшэн, губернатор провинции Хэйлунцзян, который был еще богаче, владел огромной недвижимостью, которую трудно оценить. Только Всевышний знает, какую собственность имеет Тан Юйлинь (он еще жив) из провинции Жэхэ. Казнокрадство и взяточничество, возможно, являются общественным злом, но для блага семьи — это добродетели. Поскольку китайцы в целом люди «хорошие», то, по словам Гу Хунмина, глагол «вымогать» в Китае наиболее употребительный: «я вымогаю, ты вымогаешь, он вымогает, мы вымогаем, вы вымогаете, они вымогают». Как ни странно, именно китайский коммунизм подпитывает китайский индивидуализм. Кооперация внутри семьи привела к всеобщей клептомании с альтруистической окраской. Клептомания мирно уживается с личной честностью и даже филантропией, но такое бывает и на Западе. Столпы общества — люди, чьи фотографии мелькают в китайских газетах, — в благотворительных целях жертвуют 100 тысяч юаней университету или больнице. Однако эти люди лишь возвращают народу деньги, которые они у него украли. В этом отношении Восток и Запад удивительно похожи. Разница только в том, что на Западе коррупционеры постоянно боятся разоблачений, а на Востоке этого страха не испытывают. Крайняя степень коррупции администрации У. Гардинга (президент США в 1921—1923 гг.) в конце концов привела одного из чиновников на скамью подсудимых. Пусть обвинение против этого человека оказалось необоснованным, само его предъявление свидетельствует о том, что взятка воспринимается обществом как преступное деяние. В Китае человека могут арестовать за кражу кошелька, однако его не арестуют за то, что он украл национальное достояние, даже если, например, бесценные сокровища из бэйпинского музея Гугун украдены людьми, ответственными за их сохранность; преступники даже устроили выставку похищенного. В Китае существует некая «необходимость» политической коррупции, которая является естественным следствием теории «гуманного правления», выдвинутой Конфуцием. Конфуций хотел, чтобы нами правили гуманные правители, и мы на самом деле считаем их таковыми. Они правят без государственного бюджета, не отчитываются в расходах, не нуждаются в законодательном одобрении своих действий со стороны народного представительства, не получают тюремного срока, если раскрыты их преступления. Масштабы благотворительности со стороны таких людей далеко не соответствуют силе искушения украсть у общества, и потому очень многие из них воруют. Великое достоинство китайской демократии состоит в том, что украденные деньги всегда находят путь обратно к людям если не через университеты, то через всех, кто зависит от чиновников и служит им, включая прислугу. Прислуга-вымогательница, как ни странно, всего лишь помогает вернуть деньги народу и вполне осознает такую свою роль. У прислуги в сущности те же проблемы, что и у хозяев, только по масштабам они неодинаковы. Помимо непотизма и коррупции семейная система породила и другие социальные проблемы. Среди них — отсутствие общественной дисциплины, парализующее деятельность всех социальных институтов. Например, непотизм сделал недееспособными административные структуры Китая, а это, в свою очередь, привело к тому, как гласит пословица, что «подметают снег у своих ворот, не думают об инее на крыше соседа». Плохо не то, что подметают только у своих ворот, гораздо хуже, что свой мусор высыпают перед соседскими воротами. Лучшим примером китайских нравов является так называемая учтивость китайцев, которую, однако, часто трактуют неверно. Китайская учтивость не подпадает под определение, данное Г. Эмерсоном, а именно: «Находить удовольствие во всех своих поступках». В Китае все в большой степени зависит от того, с кем вы общаетесь. Одно дело, если речь идет о члене твоей семьи или о друге семьи. Ведь китайцы относятся к людям, не входящим в круг членов семьи и ее друзей, примерно так же, как англичане в своих колониях относятся к людям другой расы. Один англичанин сказал мне: «У нас есть хорошее качество — мы не задираем нос друг перед другом». Для англичан этого вроде бы вполне достаточно, потому что для них «мы» — это чуть ли не весь мир. Китайцы не позволяют себе бесцеремонных поступков по отношению к друзьям и знакомым, но по отношению ко всем прочим это совсем не так. Как общественные существа китайцы ведут себя откровенно враждебно по отношению к соседям, независимо от того, идет ли речь о пассажире трамвая или о соседе по очереди в билетную кассу. Однажды в дождливый день на автобусной станции я видел пассажира, который после ожесточенной борьбы за место обнаружил, что сидит на месте водителя. Работник автостанции попросил его освободить место, но тот наотрез отказался. Если бы у этого человека в душе мерцала хоть искорка гражданского сознания, оно бы подсказало ему, что без водителя никто не доберется до дома. Вправе ли мы в чем-либо его винить? Почему на почти 80 пассажиров был только один автобус? Местные милитаристы все остальные автобусы направили на военные перевозки. А куда делось гражданское сознание у местных военачальников? Когда система не действует, люди, мокнущие под дождем в 30 милях от дома, вынуждены драться за места, чтобы поскорее вернуться к себе. Сколько часов пришлось бы ждать этому человеку, если бы он все-таки освободил место водителя? Случай типичный, отражающий несовместимость с веком скоростей традиционного типа учтивости, сохранившегося у крестьян. К тому же царящий в Китае политический хаос заставляет каждого драться за свое место. Новое общественное сознание еще только формируется в Китае, для его укоренения в душах людей нужно время. Отсутствие нового общественного сознания в конечном итоге приводит к тому, что все автобусные компании терпят убытки, а все горнодобывающие предприятия закрылись. Отсутствие гражданского сознания проявляется повсюду: от несоблюдения правил пользования библиотеками до несоблюдения законов страны. Большие начальники нарушают большие законы, маленькие начальники попирают маленькие законы. В итоге налицо полное отсутствие общественной дисциплины, всеобщее пренебрежение любыми правилами и порядками. Традиционная семейная система на самом деле находится примерно на полпути между крайним индивидуализмом и новым общественным сознанием. На Западе общественное сознание является сознанием всего общества. Китайское общество расколото на мелкие семейные единицы. В рамках каждой семьи практикуется самое тесное сотрудничество буквально коммунистического типа, однако между отдельными семьями нет сколько-нибудь прочных связей, и совокупность семей объединяет лишь китайское государство. Но поскольку Китай в течение тысячелетий практически не сталкивался с вызовами извне, raison d’Etat, т.е. национализм, не получил должного развития. Семейное сознание заменяет в Китае и западное общественное сознание, и национальное самосознание. Некоторые формы национализма действительно развиваются, однако европейцам и американцам не нужно их бояться. Так называемая «желтая опасность» скорее может исходить от Японии, но не от Китая. Наше подсознание допускает смерть за семью, но не за государство. Ни один китаец не пошел бы на смерть ради спасения всего мира. Согласно тезисам пропаганды японских милитаристов, каждая нация должна расширять сферу своего влияния, чтобы даровать Азии и даже всей планете мир и гармонию. На китайцев такая пропаганда не действует. Мы относимся к подобным призывам с поистине языческим безразличием. Наш ответ на все это таков: «Что вы имеете в виду?» Мы не будем спасать мир. В новейшей истории международных отношений было много антикитайских провокаций, которые помогли нам сплотиться, выковать национальное единство. Странно, однако, насколько успешно мы сопротивляемся провокациям, любым попыткам привлечь нас к решению мировых проблем. Обозревая ситуацию в стране в целом, мы почти готовы утверждать, что сможем и впредь жить так же, как жили раньше. Те, кто в 1935 г. путешествовали по Японии и Китаю, могут сравнивать ситуацию в обеих странах. Создается впечатление, что японцы все время куда-то спешат. В трамвае или в поезде они читают газеты, решительно выпятив подбородок и грозно нахмурив брови, как будто их ждут неминуемые бедствия национального масштаба. Но японцы твердо верят, что в следующей решающей битве они либо разрушат весь мир, либо будут сами уничтожены, и потому готовятся к этому роковому дню. Китайцы же в своих длиннополых халатах безмятежны и всем довольны. Похоже, ничто и никогда не выведет их из этого сонноблаженного состояния. Ни в гостях у китайца, ни в китайском ресторане, ни на улицах китайских городов иностранец не обнаружит ни единого признака надвигающейся национальной или всемирной катастрофы. Многие китайцы сравнивают свою страну с «кучкой песка на блюде». Каждая песчинка олицетворяет не человека, а семью. Японская же нация подобна куску гранита. Следующий мировой взрыв, возможно, расколет этот гранит, но кучку песка взрыв в худшем случае лишь развеет. Песок — всего лишь песок.Привилегии и равенство
Конфуцианский принцип социального статуса («каждому человеку свое место») открывает прямой путь к пониманию того, что такое равенство в понимании китайцев. И это важно иметь в виду, чтобы понять положительные и отрицательные стороны социального поведения китайцев. Китайские ученые и образованные люди акцентируют всякого рода различия, например между мужчинами и женщинами, между правителями и подданными, между молодыми и старыми и т.д. Конфуцианство всегда внушало обществу представление о себе как об учении цивилизующем, оказывающем благотворное влияние, и оно достигает этого, насаждая повсюду социальные различия, укрепляя социальный порядок. Конфуцианство стремилось объединить общество с помощью морального авторитета, побуждая правителей быть гуманными и милосердными, а подданных — покорными и смиренными. Старики должны быть доброжелательными к молодым, а молодые — уважать старших, старший брат должен быть дружелюбным по отношению к младшему, а младший — покорным старшему. Пафос конфуцианского учения об отношениях в обществе коренится в строгой иерархии и сложной системе статусов, а вовсе не в социальном равенстве. Китайское слово для обозначения пяти основных отношений в обществе — лунь — фиксирует равенство лишь внутри своей социальной страты. У такого общества есть привлекательные черты. Например, всегда выглядит трогательным подчеркнутое уважение к старшим. Профессор Росс отмечал, что пожилые люди в Китае производят самое глубокое впечатление, они выглядят более импозантно и благородно, чем старики на Западе. Пожилым людям на Западе на каждом шагу дают понять, что они бесполезны во всех отношениях, что их безвозмездно содержат дети, — как будто старики не исполнили своего долга и не вырастили детей, когда были молоды! Некоторые старики на Западе постоянно твердят, что они в душе еще совсем молоды, и из-за этого выглядят смешными. Ни один образованный китаец преднамеренно не обидит старика, точно так же как ни один благовоспитанный европеец преднамеренно не обидит женщину. Ныне некоторые тонкости взаимоотношений во многом утрачены, но большая их часть еще соблюдается в традиционных китайских семьях. Вот почему у стариков в Китае характер уравновешенный и безмятежный. Китай — это единственная страна, где старые люди чувствуют себя свободно и непринужденно. Я считаю, что такое всеобщее уважение к старикам в тысячу раз лучше, чем все пенсии по старости во всем мире. С другой стороны, конфуцианская система социальных статусов поныне обеспечивает огромные преимущества самим привилегированным слоям и их сторонникам. Уважать стариков, несомненно, дело хорошее, однако уважать ученого-книжника — дело хорошее и вместе с тем плохое. Восхваление обществом каждого чжуанъюаня — человека, занявшего первое место на государственных экзаменах, — всегда трогало каждое материнское и девичье сердце. Вот он восседает на белом коне, в одеждах, лично преподнесенных императором, он — самый умный ученый страны — поистине «прекрасный принц». Внешний эффект тоже важен, ибо первый ученый Китая должен обладать приятной наружностью. Такого почета удостаивался выдающийся ученый и высокопоставленный китайский чиновник. Каждый раз при выходе из дома в его честь били в гонги, знаменуя явление народу великого книжника. Перед его повозкой шли служители ямыня, которые сметали прохожих по сторонам, как мусор. Этим служителям всегда перепадала частичка славы и власти хозяина. И ничего, что в суматохе порой им случалось ранить или даже убить одного-двух человек. В древнекитайской прозе описано множество таких сцен. Но мы воспринимаем все это не как проявления власти и почета, а как «пылающее пламя и тлеющее пожарище». Служителей ямыня беспокоила только возможность случайно столкнуться со свитой еще более высокопоставленного сановника (так работает система статусов). Тогда их «пылающее пламя» чуть стихало. Тревога охватывала служителей ямыней также, если они по неведению убили или ранили кого-либо из домочадцев высокопоставленного сановника. В таких случаях они истошно вопили: «Ничтожный должен умереть! Ничтожный должен умереть!», имея в виду самих себя. Действительно, начальник мог передать их в более высокие инстанции для такого наказания, которое там сочтут нужным, будь то порка плетьми или тюремное заключение — в соответствии с законом или в обход его. Привилегии такого рода всегда являются предметом вожделений честолюбцев, и неудивительно, что нынешние чиновники даже под угрозой увольнения не хотят лишаться этих привилегий. Всякому льстит принадлежность к узкому кругу привилегированных. Называя этих современных чиновников «слугами народа», мы оскорбляем само понятие демократии! В циркулярах они, возможно, используют слово «демократия», но сами его люто ненавидят. В 1934 г. шофер одного высокого начальника, невзирая на запрещающий знак светофора, пересек оживленный перекресток. Полицейский пытался его остановить, но шофер выхватил пистолет и отстрелил полицейскому большой палец руки. Вот вам и «пылающее пламя» чиновника! Да, привилегии — вещь неплохая, и они сегодня по-прежнему «пылают». Поэтому привилегии — это антитеза равенства, а чиновники — естественные враги демократии. Только если чиновники пойдут на ограничение своих классовых привилегий, ограничат свободу действия и согласятся лично отвечать в суде на чужие иски, только тогда Китай буквально наутро станет по-настоящему демократической страной. Не раньше! Потому что, если народ будет свободным, будут ли тогда свободными бюрократия и милитаристы? Если народу гарантируют личную неприкосновенность, чиновники не смогут произвольно арестовывать редакторов, закрывать газеты, рубить людям головы, чтобы своя не болела (генерал Чжан И из моего родного города Чжанчжоу в провинции Фуцзянь так и поступил; я могу назвать его имя, так как его нет уже в живых). Каждый раз, когда народ выражает недовольство правителями или молодые люди возражают своим родителям, мы кричим: «Фаньла! Фаньла!» — это означает, что небо и земля перевернулись и наступил конец света. Такое представление глубоко сидит в головах китайцев. Подобное зло не ограничивается чиновниками, оно подобно корневой системе огромного индийского баньяна, охватывающей площадь в 3 квадратные мили. Как баньян, это зло дает тень всем, кто под нее приходит. Мы, китайцы, нестараемся срубить такое дерево, а стремимся оказаться под ним. Мы не предъявляем обвинения чиновникам, как американцы, не сжигаем дома богатых, как большевики. Мы стараемся стать их привратниками и блаженствовать под тенью их дерев.Социальная иерархия
Вопрос вроде бы ясен. В Китае реально существуют два социальных класса. Один — это класс служителей ямыня, который пользовался экстерриториальными правами без всякой консульской юрисдикции задолго до того, как европейцы появились в Китае. Другой — это класс тех, кто не служат в ямыне, платят налоги и уважают законы. Скажу без всяких околичностей: в Китае всего два класса, подобных собаке, бегущей впереди, и той, что отстала, и они часто меняются местами. Китайцы с оптимистичным фатализмом беспрекословно терпят такой порядок. В Китае нет классов с точно установленными границами, есть только различные семьи. Они вместе плывут по течению судьбы. Бывают удачливые семьи служителей ямыней и менее удачливые семьи. В последних сыновья не заседают в ямыне, а дочери не вышли замуж за служителя ямыня. В Китае нет семьи, у которой не было бы полезных связей; едва ли найдется такая китайская семья, которая не воспользовалась бы возможностью — либо благодаря браку, либо через знакомых — разыскать дальнего родственника, знакомого с учителем третьего сына господина Чжана, жена которого является младшей сестрой жены некоего чиновника. Такие связи очень важны, если придется с кем-нибудь судиться. Семью служителя ямыня как раз можно сравнить с индийским баньяном, у которого корни переплетены друг с другом и развернуты веером. Китайское общество похоже на баньяновую рощу на горе. Приспосабливаясь к среде, деревья завоевывают место под солнцем и мирно сосуществуют. Некоторые деревья стоят в более выгодном месте, они поддерживают друг друга и защищают свое место. Как гласит китайская поговорка, «чиновники защищают чиновников». Простой народ — это земля, которая питает своими соками деревья. Точно так, как говорил Мэн-цзы, аргументируя различия между благородным мужем и простолюдином: «Без благородного мужа некому было бы управлять простолюдинами, а без простолюдинов никто не почувствовал бы себя благородным мужем». Когда князь государства Ци спросил Конфуция о методах управления, ответом стала доктрина социальных статусов. Князь воскликнул: «Хорошо сказано! Если князь не княжит, подданные не выполняют своего долга; как я буду кормиться, даже если в стране достаточно риса?» Поэтому эти баньяны под лучами солнца впитывают влагу и растут. Некоторые становятся более мощными и крепкими, они впитали из земли больше влаги, и люди, которые отдыхают в их тени и любуются их листвой, не знают, что крона баньяна разрослась лишь благодаря сокам земли. Однако чиновники прекрасно знают об этом. Кандидаты на административные должности, сидящие в Бэйпине в ожидании назначения, знают назубок, какое место «пожирнее», а какое «попостнее». Они охотно разглагольствуют о том, что государственный бюджет — это «жир и костный мозг людей». Если считать извлечение человеческого жира и костного мозга наукой, то многообразие и оригинальность ее методов могут в полной мере соперничать по красоте с методами органической химии. Хороший химик может свеклу превратить в сахар. Еще более талантливый химик может из воздуха извлечь азот, чтобы произвести химические удобрения. Таланты китайских бюрократов ни в чем не уступают талантам химиков. Пороки чиновничьей системы отчасти искупаются тем, что в Китае с древних времен нет кастовости и аристократии. Место в ямыне не передается по наследству, в отличие от поместий и титулов в Европе. В Китае трудно определить, кто именно, какие семьи всегда принадлежали к аристократии. Ни одна китайская семья, в отличие от многих аристократов во Франции или Габсбургов в Австрии, не может похвастать тем, что ее предки все предшествующие 500 лет никогда не работали. Потомки Конфуция составляют исключение — никто из них за истекшие 2000 лет никогда не работал. После того, как маньчжуры в 1644 г. пришли к власти в Китае, их потомки за истекшие почти 300 лет, можно сказать, тоже не работали. Теперь, когда маньчжурская династия свергнута, маньчжуры по-прежнему отказываются работать — я имею в виду большинство маньчжурских аристократов. Это очень интересный пример для социологов: какие изменения возникли в сознании целой прослойки общества, которую народ всей страны кормил почти 300 лет. Эта прослойка является в Китае «классом бездельников». Однако маньчжурская аристократия — это исключение. Между «классом ямыня» и «классом не-ямыня» обычно нет четкой границы. Семья, а не какой-либо наследственный класс образует социальную ячейку. Семьи поднимаются вверх и опускаются вниз, как в калейдоскопе. Каждый, кому за сорок, сам видел, как одни семьи переживали подъем, а другие — упадок. Демократия в обществе и на Западе, и в Китае поддерживается не конституциями, а, как говорят, блудными сыновьями. У нас в Китае блудных сыновей великое множество, их расточительство делает невозможным длительное процветание всего класса богатых. Сами же они становятся знаменосцами демократии. Система государственных экзаменов дала возможность выходцам из низов, одаренным, волевым людям, порой достигать власти и богатства. Кроме детей нищих и проституток, любой мужчина мог принять участие в этих экзаменах. Если занятие науками есть привилегия талантливых людей, то эта привилегия никогда не принадлежала богатым. Бедность никого в Китае не ставила в действительно безвыходное положение. Можно сказать, что шансы у всех были равны. Китайцы делят общество на четыре категории, сверху вниз: ученые, крестьяне, ремесленники, торговцы. В течение длительного времени существования первобытного крестьянского общества в Китае в основном царил дух демократии. Не было классовых антагонизмов, да для них и не существовало почвы. Взаимоотношения классов, кроме класса служителей ямыней, не прерывались из-за классовых настроений и снобизма. В стародавние времена богатый торговец или высокопоставленный чиновник мог пригласить дровосека к себе в резиденцию, выпить с ним чаю и дружески побеседовать. Такие сцены немыслимы в отношениях английского землевладельца и его арендатора. Крестьяне, мастеровые, торговцы — все они часть жизненной силы земли, поэтому все они — скромные, смирные простолюдины, не лишенные чувства собственного достоинства. Согласно конфуцианскому учению, крестьяне стоят выше ремесленников и торговцев, так как в полной мере обладают «рисовым сознанием», т.е. хорошо знают происхождение каждого зернышка, и все общество поэтому в неоплатном долгу перед ними. Крестьяне, торговцы и мастеровые рассматривают ученых как класс, достойный привилегий и особого обхождения. Поскольку всем в Китае известно, как трудно изучить иероглифы, это уважение вполне искренне.Мужская триада: чиновник, шэньши, богач
Однако достойны ли уважения ученые? Умственный труд, совершенно очевидно, ценнее, чем физический, и такое неравенство вполне естественно. Человечество покорило животный мир потому, что у человека лучше развит головной мозг. Духовное развитие человека сделало еще более бесспорным его превосходство над животным миром. Однако человек, конечно, может задать вопрос, а с точки зрения животных имеет ли он право отбирать у львов и тигров горы и леса, у бизонов — прерии. Собаки, возможно, ответят «да», но волки, вероятно, думают иначе. Человечество подтвердило свое превосходство благодаря хитрости, и китайский ученый-книжник поступил точно так же. Только сам книжник знает истинную ценность знаний, только он один знает историю и законы, только он один знает, как убить человека, ловко манипулируя словами закона. Стать ученым в Китае так трудно, что подчеркнутое уважение к ученым людям вполне естественно. Эти люди составили в Китае класс так называемых шэньши. Продолжая сравнение с лесом, заметим, что шэньши — это паразиты, которые без особых усилий добираются до вершин самых высоких деревьев. Все китайские баньяны в плену у таких паразитов. Иными словами, паразиты забираются на деревья, шепчут, кому надо, на ушко, а потом высасывают соки земли, получив назначение на чиновничью должность. Нередко паразиты вообще отбирают у дерева возможность пить соки из недр земли. Речь идет здесь о китайской системе налоговых откупов, которая разрушает финансы государства и ввергает людей в нищету. Налоговые откупа являются питательной почвой местных шэньши, и это зло в значительной степени усугубилось после провозглашения республики в 1912 г. Право собирать налоги куплено у правительства за 30 тыс. юаней, эти расходы окупятся в течение года и еще принесут двойную-тройную прибыль. Соки земли насыщают лишь паразитов, не принося пользы ни отдельным людям, ни правительству, ни обществу. Паразиты настолько глубоко проникли в почву, что любая новая власть должна с ними сотрудничать и лишь с их помощью реализует свои права. Паразиты поделили между собой права взимать налоги на торговлю мясом, на проституцию, на азартные игры, и, естественно, они ожидают от своих инвестиций максимальной прибыли. Практика показывает, что такого рода «максимальная прибыль» — бедствие для народа. Алчности откупщиков нет предела, они несут народу величайшие бедствия. Профессиональные навыки помогают им изобретать новые налоги. У каждого вновь назначенного чиновника есть друзья из числа шэньши, поддерживающих официальные или закулисные связи с его ямынем. Эти шэньши посещают ямынь и за чашкой чая могут невзначай воскликнуть: «Вы только подумайте! В каждом уезде по меньшей мере 15 тысяч корыт для свиней, а в 10 уездах — 150 тысяч корыт. По юаню налога за корыто — и чистоганом можно получить неплохую, вполне приличную сумму!» За этим следует новый глоток чая сорта «лунцзин». После многократных подобных восклицаний и иных проблесков дальновидности такой чиновник начинает всерьез изучать искусство извлечения народного жира и костного мозга. В мыслях своих он благодарит хитроумных шэньши, ему немного стыдно за свою недогадливость. Постепенно чиновник постигает «мудрость мира сего». После налога на свиные корыта он вводит налог на гробы, а затем и на свадебные паланкины... Я всегда сравнивал этих шэньши с божественно прекрасными белыми журавлями на китайских картинах. Журавли такие чистые, неземные, недаром они символизируют даосских отшельников, а феи именно на журавлях улетают в небеса. Можно подумать, будто журавли и питаются неким небесным кормом. На самом же деле они едят лягушек и дождевых червей. Но что из того, что они этим питаются, раз у них перья такой белизны? Ведь им же надо что-то есть. Шэньши знают толк в радостях жизни, и, чтобы жить хорошо, им нужны деньги. Сребролюбие заставляет шэньши вести дела с местными богатеями, и вот здесь мы сталкиваемся в Китае с настоящим неравенством — экономическим. Китайскими городами всегда правила мужская триада: чиновник, шэньши и местный богатей, а также женская триада: Лицо, Судьба и Протекция. Члены мужской триады работают более или менее сообща. Честному чиновнику приходится пробивать себе дорогу к людям, минуя шэньши и местного богатея. Таких чиновников много, но им очень трудно, так как им приходится лично заниматься административными делами, не обращая в свою пользу всего того, что находится на подведомственной ямыню территории. Таким был Юань Мэй и многие другие. Такие бескорыстные чиновники приносили людям пользу. В современной деревне есть и четвертый правитель, и вместо триады в некоторых провинциях Китая рука об руку работают четыре монстра: чиновник, шэньши, местный богатей и бандит. Иногда местный богатей теряет влияние, и монстров остается трое. Нет ничего удивительного, что земля становится все менее плодородной и что на ней буйно разрастается коммунизм. Даже и без влияния русских учений трудно найти более благоприятную почву для укоренения коммунизма. Коммунисты безжалостно преследуют шэньши и местных богатеев. Коммунистическое движение постоянно развивается, охватывая малонаселенные районы, получая поддержку со стороны крестьян-беженцев — бездомных, голодных, худых, как скелеты; таких-то людей именуют «бандитами». Происходящее следует рассматривать как народное восстание, вызванное экономическими причинами; оно не имеет никакого отношения к русским учениям. Все это произошло потому, что Конфуций, формулируя социальную теорию «пяти типов взаимоотношений», забыл упомянуть о взаимоотношениях китайцев и иноземцев. Коммунисты настолько изменили общественную жизнь в занятых ими районах, что крестьянин теперь может напрямую обратиться к чиновнику и, прислонив бамбуковое коромысло к стене ямыня, поговорить с ним с глазу на глаз, как с обычным человеком. Такой стиль отношений с властью укоренился в красных районах настолько, что гоминьдановские чиновники, вернувшись к управлению этими районами после ухода оттуда коммунистических войск, вынуждены отойти от прежнего «ямыньского» стиля и вести разговоры с крестьянами так же, как это делают коммунисты. Однако в деревне сохраняются весьма серьезные проблемы. Законы гоминьдановского Национального правительства предписывают снизить арендную плату помещикам, учредить Крестьянский банк, запрещают ростовщичество и т.д., и т.п. Придет день, и эти обещания придется выполнять. А пока шанхайские ломбарды демонстрируют «великодушие», вывешивая у входа написанное большими иероглифами объявление: «Ежемесячно 18% процентов по вкладу!».Женская триада: Лицо, Судьба, Протекция
Учение о социальных статусах, постулирующее равенство лиц, обладающих одинаковым статусом, породило ряд законов социального поведения. Речь идет о трех правилах, которые более незыблемы, чем христианские догматы, и более авторитетны, чем американская конституция. Китаем правят три сестры, а не генерал Чан Кайши и не Ван Цзинвэй. Их зовут Лицо, Судьба и Протекция. Именно эти три сестры всегда правили Китаем, правят им и сейчас. Единственной подлинной революцией было бы свержение этой женской триады. Проблема в том, что эти три дамы благовоспитанны и очаровательны. Они развратили монахов, обольстили правителей, защищают сильных и соблазняют богатых, гипнотизируют бедных, подкупают честолюбивых и деморализуют лагерь революционеров. Они парализуют судебные органы, делают неэффективной конституцию, потешаются над демократией, пренебрегают законами, попирают права народа, нарушают даже правила дорожного движения и уставы клубов и наглым образом катаются по чужим садам. Если бы они были тиранами или выглядели уродливо, подобно фуриям, их правление не было бы длительным. Однако их голоса чаруют, методы их правления мягки, они бесшумно ступают по залам суда, их искусные пальцы незаметно выводят из строя механизм правосудия, одновременно лаская самих судей. Поклонение этим языческим божествам сладостно, именно поэтому их власть над Китаем продлится еще на некоторый срок. Чтобы понять смысл Протекции, нужно осознать привлекательность первородной простоты жизни китайцев в течение тысячелетий. Китайским идеалом общества всегда были «простая администрация и легкие наказания». Персонализм и гуманность всегда были отличительными чертами традиционной китайской концепции закона и власти. Китайцы с подозрением относятся к законам, адвокатам и к усложненным современным общественным отношениям в целом. Их идеал — мирная, привольная жизнь, сохраняющая, в известной степени, первобытную простоту нравов. В такой атмосфере возникла Протекция, а вслед за нею — самое прекрасное качество древних китайцев — благодарность, оборотная сторона Протекции. Чувство благодарности за оказанное покровительство среди простых китайцев, в особенности крестьян, чрезвычайно распространено. Китайский крестьянин, которому вы сделали доброе дело, будет всю жизнь помнить вас и вашу доброту. Вполне возможно, что он у себя дома установит деревянную табличку, чтобы почитать вас, или в вашу честь совершит обряд «воды и огня». Людям, которых не может защитить конституция, остается надеяться на милосердие местных чиновников. И если чиновник милосерден, то люди будут горячо любить его, потому что он милосерден без надежды на вознаграждение. Очень часто коленопреклоненные крестьяне со слезами благодарности на глазах окружают паланкин только что оставившего свой пост чиновника. Вот лучший пример чувства благодарности китайцев в ответ на благосклонность чиновника. Люди знают только, что им уделили внимание, но им неведомо, что чиновник лишь исполнял служебные обязанности. Человек во власти протежирует человека, нуждающегося в защите. Протекция, однако, может заменить правосудие, и часто так и происходит. Если китаец, возможно по ошибке, арестован, то инстинктивной реакцией родственников будет не поиск защиты у закона и обращение в суд, а поиск некоего «Лица», знакомого с высокопоставленным чиновником, с тем чтобы просить его о Протекции. Так как китайцы придают чрезвычайно большое внимание личным взаимоотношениям и Лицу вообще, то проситель добьется успеха, если его Лицо стоит достаточно высоко. Так поступить гораздо проще, чем тратить большие деньги и много времени на судебные разбирательства. Так проявляется социальное неравенство Лиц во власти, богачей, людей со связями — и неудачников, бедняков, людей без связей. Несколько лет назад в провинции Аньхой двух профессоров посадили в тюрьму за опрометчиво высказанные пустячные критические замечания. Родственники не нашли ничего лучше, как отправиться в провинциальный центр просить военного губернатора о Протекции. Тогда же нескольких молодых людей в той же провинции схватили на месте за участие в азартных играх. Так как молодые люди располагали связями в одной из властных структур провинции, их немедленно освободили, они даже отправились в административный центр и потребовали уволить арестовавших их полицейских. Полицейские одного из городов на берегу реки Янцзы обыскали лавки с опиумом и конфисковали найденное. Однако телефонный звонок нужного человека заставил полицейское управление принести извинения и вернуть опиум под охраной полицейских. Один дантист однажды удалил зуб одному влиятельному генералу. Генерал был очень доволен и наградил дантиста высоким титулом, и врач потом пользовался правами, которые ему даровал генерал. Как-то раз телефонист некоего ведомства позвонил дантисту, назвав лишь его имя без титула. Врач пришел в ведомство, разыскал телефониста и в присутствии сотрудников отвесил ему пару оплеух. В июле 1934 г. в Учане женщину арестовали за то, что та спала в жару на улице, одетая в короткие штаны; через несколько дней она умерла в тюрьме. Оказалось, что женщина была женой одного чиновника, и арестовавшего ее полицейского расстреляли. И т.д. и т.п. Месть — вещь сладкая. Но не все арестованные женщины — жены чиновников. Выходит, месть не всегда сладка. Конфуцианство одобряет подобные различия. В «Ли цзи» есть такая фраза: «Обходительность не распространяется на простолюдинов, а наказание — на почтенных лиц». Таким образом, Протекция — это важный компонент учения о социальных статусах, порождение конфуцианского идеала «гуманного правления», т.е. патриархального правления во главе с гуманным совершенномудрым мужем. Разве Чжуан-цзы был неправ, говоря: «Пока мудрецы не вымрут, разбойникам не будет конца». Конфуций наивно полагал, что в Китае достаточно гуманных людей, способных управлять страной, однако он явно ошибался. На идиллическом, первобытном этапе жизни общества его теория, возможно, работала, но в век самолетов и автомобилей она терпит и уже потерпела окончательный крах. Как сказано выше, единственным положительным результатом внедрения конфуцианских доктрин является отсутствие в Китае каст и наследственной аристократии. Это заставляет нас задуматься о Судьбе. Совершенно очевидное для всех социальное неравенство сохраняется веками, и этому способствует то обстоятельство, что в Китае угнетатели и угнетенные часто меняются местами. Мы, китайцы, верим, что у человека всегда есть шанс подняться на ноги и что «путь Неба всегда идет по кругу». Если у человека есть способности, упорство и честолюбие, он может подняться очень высоко. Кто знает? На девушку, которая продает доуфу, может внезапно положить глаз какой-нибудь влиятельный чиновник или полковник, сын которого случайно стал привратником у мэра города. Зять мясника, в прошлом сельский учитель средних лет, может вдруг сдать государственные экзамены на ученую степень, как мы об этом читаем в романе «Неофициальная история конфуцианства». Один городской шэньши пригласил мясника пожить у него дома. Другой обменялся с мясником метрическими выписками и стал его побратимом. Третий, богатый торговец, подарил ему несколько штук шелка и несколько мешков серебра. Градоначальник прислал мяснику двух молоденьких служанок и повара, чтобы его жена-крестьянка не очень уставала у себя на кухне. Довольный мясник переехал в новый дом в городе, совершенно забыв о том, как он раньше третировал зятя. Теперь же он утверждает, будто всегда твердо верил, что зять добьется успеха. Он готов отложить нож мясника и радоваться жизни, находясь на иждивении зятя. Мы ему завидуем, но вовсе не считаем несправедливым счастливый поворот в его судьбе. Фатализм — это не только устоявшийся образ мыслей китайцев. Он представляет собой составную часть традиционного конфуцианского менталитета. Фатализм, вера в Судьбу тесно связаны с учением о социальных статусах, и это подтверждается присловьями «знать свое место, отдаться воле судьбы», «у Неба и судьбы свой путь». Конфуций говорил: «В 50 лет я познал веление Неба. А в 60 — научился следовать этому велению». Фатализм — источник душевного спокойствия китайцев и их удовлетворенности своим положением. Поскольку никто не может все время быть счастливым, а везение не сопутствует каждому, закономерность такого неравенства общепризнана. У людей способных и честолюбивых всегда был шанс занять более высокое положение в обществе благодаря государственным экзаменам. Если некто благодаря везению или своим способностям сумел подняться из низов общества и войти в число привилегированных, это значит, что такому человеку повезло, когда настал его черед. Войдя в состав привилегированного класса, он будет ему предан, будет считать нормальным социальное неравенство, привыкнет пользоваться привилегиями. Он полюбил свое место наверху так же, как Р. Макдональд (премьер-министр Великобритании в 1924 и 1929—1931 гг.) полюбил дом № 10 на Даунинг-стрит. Когда Макдональд поднимался по ступенькам этого дома и вдыхал его воздух, душа его радовалась. Любой добившийся успеха современный китайский революционер пережил такое превращение. Железной пятой топчет он свободу печати гораздо сильнее, чем милитаристы, которых он обличал, когда еще учился в школе революции. Теперь у выходца из низов «большое Лицо». Он стоит над законами и конституцией, не говоря уж о правилах дорожного движения и музейных инструкциях. Это Лицо психологическое, а не физическое, оно поистине завораживает и достойно изучения. Это Лицо нельзя мыть или брить, но можно «получить», «завоевать» «поднести в дар». Здесь мы сталкиваемся с самой удивительной чертой китайской социальной психологии. Лицо невидимо, неосязаемо, но это тем не менее самый точный инструмент, с помощью которого китайцы регулируют социальные отношения. Легче пересказать происшествие, в котором играет роль «большое Лицо», чем дать этому Лицу точное определение. Например, если у чиновника «большое Лицо», он мчится по улицам большого города со скоростью 60 миль в час, хотя правилами дорожного движения разрешена скорость не выше 35 миль. Если его автомобиль собьет человека и подойдет полицейский, чиновник спокойно достанет визитную карточку, вежливо улыбнется и покатит дальше, а его Лицо станет еще больше. Однако если полицейский не захочет признавать его Лицо и сделает вид, будто не знает его, тогда этот чиновник на нормативном пекинском диалекте спросит полицейского, знает ли тот его, чиновника, отца и махнет шоферу рукой, чтобы ехал дальше. Тогда его Лицо станет еще больше. Если же упрямый полицейский во что бы то ни стало захочет отвести шофера в участок, то чиновник позвонит туда по телефону и шофера вскоре отпустят. И еще прикажут уволить ничтожного полицейского, который «не знает, кто отец чиновника». Тогда Лицо чиновника станет поистине счастливым. Понятие Лицо нельзя перевести на иностранные языки, ему невозможно найти точное определение. Оно скорее не похоже на западное понятие «честь». Лицо нельзя купить, оно дает мужчине или женщине реальные чувства самоуважения и гордости. Это — нематериальное понятие, однако за него борются мужчины и за него отдают жизнь многие женщины. Лицо невидимо, однако, по определению, оно существует, только если его демонстрируют публично. Лицо невесомо, и тем не менее порой его «голос» звучит весьма внушительно. Лицо подчиняется обычаям и социальным условностям, а не разуму. Лицо затягивает судебные дела и ломает судьбы семей, приводит к убийствам и самоубийствам, и все же порой оно возвращает на путь истинный человека, которого оскорбили его земляки. Лицо ценится дороже любого земного богатства. Оно сильнее Судьбы и Протекции и пользуется большим уважением, чем конституция. Лицо часто определяет победу или поражение в войне, оно может свергнуть правительство. На основе именно этого нематериального понятия строится вся жизнь китайцев. Те, кто путают китайское Лицо с западным понятием «честь», допускают вопиющую ошибку. В старом Китае женщина часто теряла Лицо и искала смерти, потому что чужой мужчина увидел ее обнаженной. Такое можно сравнить с ситуацией, в которую попадали женщины на Западе, родив внебрачного ребенка. Однако на Западе, если мужчина «из общества», получив пощечину, не вызывал обидчика на дуэль, он терял честь, а не Лицо. С другой стороны, если уродливый сынок какого-нибудь начальника, посетив публичный дом, не мог добиться продажной любви певички, он с позором покидал заведение и его Лицо оказывалось под угрозой. Но вскоре он возвращался с целым отрядом полицейских, которые вели девиц в участок и закрывали публичный дом. Тем самым сын начальника возвращал Лицо, но вряд ли можно сказать, что он защитил свою честь. Битвы были проиграны и целые царства принесены в жертву, потому что генералы торговались из-за почетных титулов и разногласия касались не стратегии или тактики, а лишь формы признания поражения, не грозящей потерей Лица. В ходе длительных судебных процессов велись ожесточенные споры, но мудрые арбитры прекрасно знали, что в течение всего этого времени ничто не мешало сторонам прийти к согласию. Им лишь требовалось красиво выйти из создавшейся ситуации, изыскав подходящие формулировки для принесения извинений. Один генерал расколол свою партию и радикально изменил ход революции, только потому, что его публично оскорбил сослуживец. Мужчины и женщины готовы работать не покладая рук целое лето только для того, чтобы степень пышности неизбежной в будущем похоронной церемонии соответствовала положению и Лицу этой семьи. По той же причине старинные семьи, пришедшие в упадок, предпочитают объявить о банкротстве и жить затем под бременем долгов. Отрицать право человека на Лицо — это самое дерзкое оскорбление, это примерно то же самое, что бросить знатному европейцу перчатку. Многие чиновники в течение одного вечера должны принять участие в трех-четырех банкетах, несмотря на опасность желудочных заболеваний, лишь бы пригласивший их хозяин не потерял Лицо. Многим потерпевшим поражение генералам следовало бы отрубить голову или посадить в тюрьму, а их посылают в Европу, чтобы проинспектировать тамошние «промышленность» или «образование». Такова цена их капитуляции, и одновременно это способ спасения их Лица. Проблемы потери Лица отчасти объясняют причины периодических гражданских войн в Китае. Четыре-пять лет назад одно министерство объявило о своем «упразднении», чтобы избежать употребления слов «отправить в отставку» и сохранить тем самым Лицо некоего министра, которому следовало бы ясно сказать, чтобы он убирался вон, да и отправлялся заодно в тюрьму. Словосочетание «отправить в отставку» означало для министра несомненную потерю Лица, так как все остальные чиновники этого министерства оставались на своих местах. Гуманность, во всем гуманность — это и есть наше Лицо. Однако такое отношение стимулирует честолюбие людей, помогает преодолеть даже любовь китайцев к деньгам. Один школьный учитель чувствовал себя очень несчастным из-за того, что директор школы — иностранец — настаивал на том, чтобы повысить ему зарплату с 18 до 19 юаней. Он готов был получать 18 или 20 юаней или умереть, лишь бы его не называли «Господином 19 юаней». Однажды тесть отказался оставить своего непутевого зятя ужинать, и тот потерял Лицо. Возможно, тесть хотел «сделать из него человека». Возможно, плетясь домой, зять призадумался над своей жизнью и в будущем постарается исправиться. В целом безопаснее путешествовать с человеком, у которого вовсе нет Лица, чем с тем, у кого слишком большое Лицо. Два солдата, плывшие на пароходе по Янцзы, заставили признать их Лицо и добились разрешения войти в служебное помещение, где хранились ящики с серой. Солдаты вошли туда и, несмотря на предупреждения капитана, сели на ящики, закурили и стали бросать окурки. В итоге пароход взорвался, а солдаты с успехом сохранили свои Лица, но не жизни: от них остались лишь обгоревшие тела. Таким образом, проблема Лица не имеет никакого отношения к уровню знаний и образования. Пять лет назад в Шанхае один образованный китайский генерал решил, что может сесть в самолет с багажом, превышающим дозволенный вес, и никакие просьбы и протесты летчика не возымели действия. Более того, генерал, чтобы «добавить себе Лица», на глазах друзей, пришедших его проводить, велел летчику сделать прощальный круг над аэродромом. После взлета самолет потерял устойчивость и врезался в дерево, а генерал заплатил за Лицо потерей ноги. Всякий, кто считает, что его Лицо компенсирует перевес багажа в самолете, рискует лишиться ноги и должен считать, что легко отделался. Получается, что, хотя понятию Лица и нельзя дать точного определения, все же, несомненно, пока каждый китаец не потеряет Лицо, Китай не станет истинно демократической страной. Только вот у простолюдинов изначально не было никакого Лица, поэтому вопрос в том, когда же чиновники захотят потерять Лицо. Когда полицейские потеряют Лицо, наш транспорт станет безопасным; когда судьи потеряют Лицо, наше правосудие станет справедливым; когда министерства и правительство Лица будут заменены министерствами и правительством закона — вот тогда у нас будет подлинная республика.Деревенская система
При отсутствии общественного сознания возможна ли в Китае филантропия? Какую форму приняло в Китае кооперативное движение, учитывающее интересы граждан? Ответ следует искать в деревенской системе, которая является более высокой ступенью семейной системы. Деревенское идиллическое прошлое способствовало развитию личного начала, проявившегося в становлении сети национальных музеев, а также развитию локального деревенского сознания, которое можно уподобить гражданскому сознанию жителей Нью-Йорка или Чикаго. Любовь к семье переросла в любовь к клану, а любовь к клану переросла в горячую любовь к земле, на которой родился. Таким образом, возникло чувство, которое можно назвать «провинциальным регионализмом», по-китайски тунсян гуаньнянь, или «земляческие чувства». Провинциальный регионализм связывает воедино уроженцев людей одной и той же деревни, одного и того же уезда, одной и той же провинции. Воодушевляемые таким местным патриотизмом, земляки строят школы, общественные амбары, учреждают торговые гильдии, открывают сиротские приюты, вместе заведуют другими общественными делами. Такое поведение в конечном счете обусловлено семейным сознанием и семейной системой как основой традиционного общества. Семейное сознание в данном случае помогло людям выйти за рамки семьи и сотрудничать с земляками. В каждом большом городе, в приморских провинциях или в глубинке обязательно есть несколько земляческих объединений, например Аньхойский союз, Нинбоский союз. Местные богатые торговцы всегда щедро финансируют такие союзы. Чжанцюаньский союз владеет в Шанхае имуществом более чем на миллион юаней. Союз открыл в Чжанцюане школу, в которой бесплатно учатся местные дети. Штаб-квартиры таких союзов используются как дешевые гостиницы для земляков, наподобие западных клубных отелей. В таких гостиницах постояльцам предлагают путеводители по местным достопримечательностям. Во времена маньчжурского господства, когда ученые со всех концов страны раз в три года собирались в Пекине на экзамены, все провинции, а то и уезды Китая имели в столице свои представительства. Если человек не находил уездного представительства, он шел в представительство провинциальное. Там жили ученые и кандидаты в чиновники, а иногда и их семьи, и жили порой довольно долго. Некоторые провинции, например Шаньси, Аньхой, располагали целой сетью представительств, и это помогало купцам из этих регионов торговать по всему Китаю. В деревнях земляческие чувства дали возможность односельчанам создать систему общественного управления. Это-то и есть истинное правительство в Китае. Только ненавистные сборщики налогов из ямыня да шумные солдаты-вербовщики напоминают крестьянам о существовании еще и «центрального правительства». В «добрые старые» имперские времена правительство взимало очень низкие налоги. Как говаривали крестьяне, «до неба высоко, а до императора далеко». Все знали и про вербовку солдат. Когда в стране мир, нет ни войны, ни разбойников, только отбросы общества шли в солдаты. Если в стране нет мира, то правительственные войска бывает трудно отличить от бандитов. В таком разграничении нет особой необходимости, да оно несостоятельно и с точки зрения логики. Что касается закона и правосудия, то китайцы всегда старались избегать обращения в суд. 95% деревенских споров разрешаются местными старейшинами. Вовлечение в судебные тяжбы само по себе считалось постыдным делом. Порядочные люди гордились тем, что за всю свою жизнь никогда не были ни в ямыне, ни в суде. Поэтому три важнейшие функции центрального правительства — сбор налогов, поддержание мира и отправление правосудия — мало затрагивали простых людей. Согласно китайской политической философии, самым хорошим правительством является то, которое ничего не делает. И так было всегда. Подлинно китайское правительство можно характеризовать как воплощение деревенского социализма. Такой режим годится и для деревни, и для города. Так называемое местное деревенское правительство невидимо. У него нет осязаемой властной структуры, включающей мэра и членов муниципального совета. Таким правительством руководят старейшины, пользующиеся авторитетом у односельчан в силу в том числе и своего возраста, а также местные шэньши, обладающие знаниями в области законов и истории. На практике такое правительство руководствуется обычаями и давно установившимися деловыми обыкновениями, которые являются в Китае неписаными законами. Когда в деревне возникают споры, для их разрешения в качестве судей приглашают старейшин, которые судят исходя из жизненного опыта и знания свойств человеческой природы, а также высшей справедливости. Когда в деле не участвуют судейские, всегда легко понять, кто прав, а кто виноват, тем более если люди знают друг друга всю жизнь и действуют в рамках одной и той же общепринятой социальной традиции. Отсутствие судейских открывает путь справедливости, а там, где есть справедливость, сердца людей тянутся к миру. Деревенские шэньши в целом с житейской точки зрения лучше городских шэньши, хотя с экономической точки зрения они несомненные паразиты. Есть хорошие и честные шэньши, которые вершат правосудие, не считая это своей профессией. Благодаря их человеческим качествам и знаниям односельчане уважают таких шэньши наравне со старейшинами деревни. Люди изо дня в день живут под их руководством. Бывает, что спор невозможно разрешить на уровне деревни, например в случае уголовного дела или раздела имущества, когда проблемы, связанные с «Лицом» мешают сторонам прийти к согласию. В таком случае их дело направляется в ямынь. Однако это происходит только тогда, когда обе стороны готовы пойти на материальные жертвы. Обычно же ямыня сторонятся, как чумы. Китайцы способны управлять самими собой и всегда это делали. Если бы пресловутое «правительство» не вмешивалась в дела простых людей, те сами оставили бы правительство в покое. Дайте людям десять лет анархии, чтобы они не слышали слово «правительство», и все будут жить в мире, будут процветать, будут осваивать пустыни и превращать их в сады. Они будут производить промышленные товары и продавать их по всей стране, извлекать из недр земли сокрытые там сокровища. Никто не будет больше выращивать опиумный мак, потому что никто не будет принуждать их к этому, и опиум исчезнет автоматически. На сэкономленные таким образом деньги они сумеют уберечься от наводнений, засух и других стихийных бедствий. Пусть не будет налоговых бюро под вывесками «Сделаем страну богатой, а народ сильным», и именно тогда нация станет богатой, а народ станет еще сильней.«Гуманное правление»
Самая поразительная черта политической жизни Китая — это отсутствие конституции и самого понятия о гражданских правах. Такая ситуация сложилась под влиянием традиционной социально-политической философии, которая смешивает мораль и политику. Это скорее философия моральной гармонии, чем философия деятельной силы. Наличие конституции подразумевает, что наши правители, возможно, проходимцы, плуты и воры, от которых нужно ожидать злоупотребления властью и нарушения наших прав. Конституция — это оружие у нас в руках для защиты этих прав. Опираясь на конституцию, мы можем защищать наши права. Однако представления китайцев о власти покоятся на совершенно противоположных принципах. Китайцы считают чиновников чуть ли не родителями. Эти чиновники реализуют на практике принцип «гуманного правления» и согласно общепринятому допущению заботятся о народе так же, как они заботятся о собственных детях. Мы дали чиновникам карт-бланш на решение любых вопросов и выражаем им абсолютное доверие. Мы отдали чиновникам миллионы, не требуя отчета, отдали им безграничную власть, не задумываясь о защите собственных прав. И мы считаем чиновников «гуманными правителями». Лучше, тоньше, острее всех критиковал идею «гуманного правления» еще 2100 лет назад философ-легист Хань Фэй-цзы, который жил спустя три века после Конфуция. Последний и крупнейший философ-легист, он ратовал за правление на основе законов в противовес правлению отдельных людей. Его анализ злодеяний гуманного правления во главе с совершенномудрым мужем настолько глубок, набросанная им картина политической жизни Китая в древности настолько подходит к современному Китаю, что он не изменил бы ни одного слова, если бы писал сегодня. Согласно Хань Фэй-цзы, первооснова политической мудрости — отказ от всех попыток тривиального морализаторства и повышения уровня нравственности людей. Я убежден, что чем скорее мы перестанем говорить о реформировании морали народа, тем скорее в Китае появится добродетельное правительство. Между тем множество людей все еще упорствуют в рассуждениях о том, что реформы в области морали открывают путь к искоренению коррупции и других пороков в сфере политики. Один этот факт свидетельствует о ребяческой наивности их образа мыслей и их неспособности рассматривать политические проблемы именно как политические. Они должны бы знать, что в течение двух с лишним тысяч лет мы только и делаем, что твердим прописные истины из области морали, но ситуация именно с уровнем нравственности в Китае так и не изменилась в лучшую сторону. Нам так и не удалось создать в нашей стране более достойное и дееспособное правительство. Эти люди должны были бы осознать, что, если бы повышение уровня личной морали приносило хоть какую-нибудь пользу, Китай сегодня стал бы райской обителью святых и ангелов. Я подозреваю, что люди, особенно чиновники, столь часто и охотно разглагольствуют о реформах в области морали только потому, что такие разговоры абсолютно безвредны для кого бы то ни было. На самом же деле, весьма вероятно, что все, кто в нашей стране до небес превозносит мораль, просто не в ладах с собственной совестью. Оказывается, у генерала Чжан Цзунчана и других желающих реставрировать конфуцианство и повысить уровень личной морали китайцев — от 5 до 15 жен, все они — знатоки по части совращения девиц. Мы говорим: «Благотворительность — дело хорошее», и они, как эхо, повторяют за нами: «Да, благотворительность — дело хорошее», и никому от этого хуже не становится. С другой стороны, мы никогда не слышали, чтобы наши чиновники говорили о правительстве, действующем в соответствии с законами, потому что в ответ им скажут: «Ладно, мы подадим на вас в суд и посадим в тюрьму». Поэтому чем раньше мы перестанем рассуждать о морали и перейдем к обсуждению темы правления в строгом соответствии с законами, тем раньше заставим чиновников смотреть правде в глаза и не позволим им притворяться, будто, отсиживаясь на территории иностранных концессий, они читают конфуцианских классиков. Короче говоря, во времена Хань Фэй-цзы и в наше время существовали и существуют две противоположные концепции: конфуцианская концепция правительства, управляемого личностью, и легистская концепция правительства, управляемого законом. Конфуцианская концепция предполагала, что каждый правитель является гуманным совершенномудрым мужем, поэтому эта политическая система не предполагала применение различных мер, мешающих властному лицу нарушать закон. Совершенно очевидно, что первая концепция — это традиционная китайская точка зрения, а вторая — западная точка зрения или точка зрения Хань Фэй-цзы. Он писал, что неследует надеяться на то, что люди будут хорошими, однако необходимо сделать все, чтобы они не стали плохими. Вот моральная основа легистской философии. Другими словами, вместо того чтобы ожидать от наших правителей превращения в гуманных совершенномудрых мужей, идущих по пути справедливости, следует признать их потенциальными тюремными сидельцами и изыскать возможность защитить народ от этих потенциальных преступников и грабителей, а всю страну — защитить от распродажи такими деятелями. Совершенно очевидно, что вторая концепция более эффективна, ибо благодаря ей можно пресечь коррупцию в политике. Это намного разумнее, чем ждать, когда у гуманных мужей проснется совесть. Однако мы в Китае поступаем как раз наоборот. Вместо того, чтобы считать правителей потенциальными мошенниками, как это нужно было сделать давным-давно, мы их считаем благородными мужами. В старом конфуцианском духе мы надеемся, что эти великодушные правители будут любить народ, как своих детей. Мы думаем, будто они — честные люди, и говорим: «Давайте, действуйте, берите общественные деньги, сколько вам угодно. Мы не требуем публикации бюджета и официальных отчетов о его исполнении». Мы говорим милитаристам: «Давайте, действуйте, мы верим, что вы горячо любите народ, мы хотим, чтобы вы брали с нас налоги по совести, а не по закону». Мы говорим дипломатам: «Давайте, действуйте, мы абсолютно уверены в вашем патриотизме и разрешаем вам подписывать любые соглашения, не испросив предварительно нашего согласия». Мы говорим нашим чиновникам: «Если вы станете гуманными мужами, мы поставим вам памятники и будем вечно почитать вас. Если же вы окажетесь мошенниками и ворами, мы ни в коем случае не посадим вас в тюрьму». Не найти другой такой страны, где бы народ так по-джентльменски относился к чиновникам. Хань Фэй-цзы считал это большой ошибкой, так как надежды на высокий уровень морали чиновников явно чрезмерны. Если бы Хань Фэй-цзы жил в наши дни, он посоветовал бы нам считать чиновников потенциальными мошенниками и заявить им: «Мы не будем убеждать вас идти по праведному пути и не будем ставить вам памятники, даже если вы станете благородными мужами. Однако если вы станете мошенниками и ворами, мы вас посадим в тюрьму». Это — наиболее логичный и действенный способ положить конец коррупции в сфере политики в Китае. Здесь мы процитируем Хань Фэй-цзы: «Можно считать, что в стране есть десять честных людей (и это немало), и есть около ста чиновничьих должностей. Итак, чиновничьих должностей больше, чем честных людей, которые могли бы занять эти должности. Таким образом, вакансии заполнят 10 честных и 90 обманщиков. Следовательно, вероятность всеобщего плохого управления выше, чем вероятность хорошего управления. Поэтому совершенномудрый государь полагается на систему, а не на личные таланты, на законы и правила, а не на личную честность». Хань Фэй-цзы отрицал, что «отеческое правление» имеет положительные черты, потому что, по его словам, даже родители вряд ли могут успешно управлять своими детьми. Надеяться на то, что правители будут любить народ, как своих детей, неразумно. Хань Фэй-цзы с ледяной иронией спрашивал, сколько было учеников у Конфуция, столь благожелательного и праведного? Из сотен и тысяч людей даже он избрал только семьдесят человек, что ясно доказывает бесполезность добродетели. Разумно ли ожидать, что все правители будут столь же добродетельны, как Конфуций, а простолюдины, подобно 70 ученикам, будут любить добродетель? Эти слова пронизаны остроумным цинизмом, холодной иронией и здравым смыслом. Описание Хань Фэй-цзы проблем и пороков Древнего Китая соответствует и бедам современного Китая. Поведение чиновников и простых людей в древности и в наши дни настолько сходно, что, читая произведения этого философа-легиста, забываешь, что он описывает вовсе не современный Китай. Продажность чиновников и апатию людей своего времени Хань Фэй-цзы объяснял отсутствием защиты со стороны законов и общим несовершенством политической системы. Отказавшись от пустого морализаторства, Хань Фэй-цзы откровенно писал о пороках политической системы. По его мнению, проблема заключалась именно в отсутствии общепонятных и справедливых законов. Он ненавидел конфуцианцев, называл их толпой дурачков-пустозвонов. Такое определение вполне подходит ко многим сегодняшним нашим «патриотам в длиннополых халатах». Коррупции у чиновников древности способствовал тот факт, что их продажность оставалась ненаказанной. Хань Фэй-цзы писал: «Несмотря на то что они отдали врагу земли государства, их семьи разбогатели. Если чиновникам будет сопутствовать успех, они сохранят влияние и власть, если же они потерпят неудачу, то могут спокойно оставить службу и пользоваться нажитым богатством». Этими же словами можно описать жизнь обитателей роскошных вилл, расположенных, как правило, на территории иностранных сеттльментов в Даляне или Шанхае. Хань Фэй-цзы подчеркивал, что именно «из-за отсутствия государственной системы продвижения людей по службе их назначают на должность по протекции какой-либо клики. Из-за отсутствия защиты со стороны закона и несовершенства политической системы чиновники заняты в основном завязыванием знакомств и устройством пиров, а не соблюдением законов. Насколько актуальны эти слова сегодня, знают только чиновники и кандидаты на чиновничьи должности. В трактате Хань Фэй-цзы есть очень важный раздел, в котором упоминается весьма содержательное понятие «гражданин» (гунминь). В этом разделе автор попытался объяснить апатию и безразличие китайских простолюдинов к делам государства. Хань Фэй-цзы писал: «Людей посылают воевать. Их убьют, если пойдут вперед и если повернут назад. И то и другое опасно для них. От них требуют отказаться от повседневных дел и стать солдатами. Если эти люди бедны, все, кто стоят выше их, не обращают на них внимания. Конечно, они так и останутся бедными. Кому понравится подвергать свою жизнь опасности и жить в нищете? Естественно, они попытаются держаться подальше от власти, будут заниматься своими делами, например строить дом. На войну они постараются не идти, предпочитая безопасность. Однако, дав взятку, они разбогатеют и обеспечат себя на всю жизнь. Кто же не захочет быть богатым и жить в мире и довольстве? Невозможно воспрепятствовать таким устремлениям! Вот почему у нас так мало граждан и так много частных лиц». У нас в Китае и сегодня по-прежнему слишком мало граждан и слишком много частных лиц. И причина — в отсутствии достаточных законодательных гарантий личных и политических свобод. Это связано вовсе не с уровнем личной морали — зло коренится в политической системе. Если у человека есть гражданское самосознание, в нашей стране ему грозит опасность. Тогда, вполне естественно, он будет безучастен к государственным делам. Если не наказывать чиновников-коррупционеров, бесполезно требовать от них не брать взятки. Поэтому Хань Фэй-цзы считал необходимым разработать «нерушимые законы», обязательные и для правителя, и для подданных. Он считал, что закон — превыше всего и все люди должны быть равны перед законом, что закон должен заменить все личные предпочтения и связи. В данном случае речь идет не только о почти западном понимании равенства, но и о способе мышления, столь отличающемся от традиционного способа мышления китайцев. В противоположность конфуцианской догме, гласящей, что «учтивость не распространяется на простолюдинов, а наказания — на совершенномудрых мужей», легист Хань Фэй-цзы провозглашает, что «закон не должен быть в услужении у обладающих властью, а указы должны исполняться строго и неуклонно. Там, где применяется закон, умный ему подчинится, сильный не будет ему противиться, благородный не будет освобожден от наказания, а смиренный не останется без награды». В представлении Хань Фэй-цзы «перед законом должны быть равны высокие и низкие, умные и глупые». Он предложил, чтобы законы действовали автоматически, и тогда, по мнению философа, отпала бы нужда в мудрых и способных правителях. Эта идея совершенно не укладывается в русло традиционной китайской политической философии. Система взглядов Хань Фэй-цзы восприняла также элементы даосизма: «Государь ничего не должен делать». Государь, по мнению Хань Фэй-цзы, не должен ничего делать, потому что философ сознавал, что правитель в любом случае ничего сделать не может; правители легендарной древности ничего не делали, и в стране все было спокойно. Вот почему следует иметь аппарат управления, хорошо отлаженный, действующий на основе принципа справедливости, и тогда будет не столь важно, хорош правитель или плох. Тогда государь станет номинальным правителем, как в современных конституционных монархиях. У англичан есть монарх, который закладывает камень в фундамент нового здания, освящает корабли и присваивает звание рыцаря. Однако для нации не имеет значения, хорош этот король или плох, умен он или нет или у него средние способности. Система действует сама по себе. Фактически это и есть описанная Хань Фэй-цзы теория недеяния правителя. В Англии она оказалась весьма успешной. Старого школьного учителя Конфуция возвели в ранг мыслителя в области морали, а его тривиальное морализаторство возвели в ранг политической теории. Вот уж поистине злую шутку сыграла над Конфуцием судьба. Идея о том, чтобы гуманные, высокоморальные люди возглавляли правительство, настолько фантастична, что она не может ввести в заблуждение даже американского студента-второкурсника. Если бы эту идею можно было реализовать, то можно было бы регулировать уличное движение на Бродвее без светофоров, надеясь лишь на взаимную уступчивость и вежливость шоферов. Любой здравомыслящий студент, обладающий самыми элементарными знаниями истории Китая, легко поймет, что в Китае традиционная власть Конфуций с его несносным морализаторством была самой коррумпированной в мире. Причина не в том, что китайские чиновники более коррумпированы, чем западные. Простая, безжалостная истина состоит в том, что чиновников у нас в Китае принято считать благородными людьми. Между тем лишь одна десятая из них — действительно благородные люди, а остальные девять десятых — мошенники. Но если, как это делают на Западе, относиться к чиновникам как к потенциальным мошенникам, угрожая им тюрьмой, одна десятая из них останутся мошенниками, а девять десятых будут притворяться благородными людьми. В результате получается хотя бы видимость честного и чистого правительства, и за такую видимость стоит побороться. Вот что в Китае следовало сделать давным-давно, вот что советовал сделать две тысячи лет назад Хань Фэй-цзы, пока его не заставили принять яд. Китай нуждается сегодня не в повышении уровня морали, а в строительстве новых тюрем для политиков. Бесполезно говорить о формировании честного и чистого правительства, когда нечистые и нечестные чиновники могут спокойно заказать билет первого класса в Иокогаму или Сиэтл. Китай нуждается не в благородных, праведных и почтенных совершенномудрых мужах на чиновных постах, а в беспристрастном правосудии и праве расстрелять тех чиновников, кто не благороден, не праведен и не почтенен. Заставить чиновников быть неподкупными можно, лишь угрожая им расстрелом в случае разоблачения. Тем чиновникам, которых задевают мои легистские мнения о природе человека, следует задуматься о том, захотят ли они вкладывать деньги в акционерную компанию, действующую строго по принципам Конфуция. Ее акционеры не проводят собраний, не публикуют финансовых отчетов, здесь не бывает ревизий, невозможно предотвратить бегство — с деньгами! — кассира или директора. Власть в Китае действует именно в таком стиле благородных мужей. Если в образе правления современного Китая и произошли кое-какие изменения, то лишь благодаря влиянию Запада. На Западе от правительства смело требуют финансовых отчетов и не боятся из-за этого потерять Лицо совершенномудрого мужа. Но пока китайское правительство не перестроится полностью, оно будет похоже на акционерное общество, в котором всю прибыль получают только директор и члены правления, а держатели акций, т.е. простые китайцы, утратят всякое доверие к такой компании.Глава 7 ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ
Отличительные особенности
Китайцы делят литературу на две категории: поучительную и развлекательную, или литературу, которая «несет правду», и литературу, которая «выражает чувства». Отличие легко заметить: первая — объективная и описательная; вторая — субъективная и лирическая. Все китайцы заявляют, что литература первой категории имеет большую ценность, чем вторая, так как она совершенствует мыслительные способности и повышает уровень общественной морали. С этой точки зрения китайцы свысока смотрят на роман и драму как на нечто низменное, недостойное допуска в «Зал высокой литературы»». Единственным исключением является поэзия, которую китайцы отнюдь не презирают, а напротив, в целом ставят ее выше, чем это делают на Западе. Однако на самом деле все китайцы втайне читают романы и драмы. Чиновник в своей статье может громко заявлять о благородстве и морали, но в частном разговоре вы обнаруживаете полную его осведомленность обо всех персонажах эротического романа «Цзинь пин мэй» или «Пиньхуа баоцзянь», эротического романа с гомосексуальным уклоном. Причина вполне очевидна. Поучительная литература обычно лишена именно литературных достоинств, переполнена наивными трюизмами на темы морали, а высказанные в ней идеи настолько тривиальны из-за боязни сказать нечто еретическое, что единственными произведениями китайской литературы, которые можно читать без насилия над самим собой, являются те из них, которые соответствуют европейскому пониманию литературы: роман, новелла, драма и поэзия, т.е. литература воображения, а не литература идей. В этих условиях ученые-неэкономисты пишут о системе налогов; литераторы, которые не знают, как держать серп в руках, пишут о сельском хозяйстве; политики, которые никогда не были инженерами-мелиораторами, составляют «План спасения Хуанхэ» и пишут о строительстве на ней современных ирригационных сооружений (самая популярная тема после катастрофического наводнения 1934 г.). Если говорить об ученых традиционного направления, то они все еще барахтаются в конфуцианстве, выискивая в конфуцианских храмах, так сказать, волоски коровы, да и только. Они публично осуждают Чжуан-цзы, этого великого творца антиконфуцианских памфлетов, однако все до одного читают его произведения. Некоторые такие ученые осмеливаются даже заигрывать с буддийскими классиками, но их почитание буддизма проникнуто дилетантизмом, а отношение к предписанному буддизмом вегетарианству искренне лишь наполовину. Они боятся, что их примут за еретиков, и этот страх висит над ними, как дамоклов меч, — это страх перед оригинальностью. Литература, творцы которой руководствуются полетом фантазии, живым непосредственным чувством, скована традиционным мировоззрением. Свободная игра ума была ограничена весьма малым кругом тем, а «барахтанье в конфуцианстве» так и осталось барахтаньем. Однако в стране, где жили и живут огромное число ученых-книжников, трудно было в течение 2500 лет, не повторяясь, обсуждать проблемы морали и праведности. Действительно, если лучшие сочинения, представленные на государственных экзаменах на ученую степень, перевести на простой, незамысловатый английский язык, они потрясли бы английского читателя детской наивностью и примитивизмом. Гигантская работа множества незаурядных умов оставляет то же впечатление, что и фокусы в блошином цирке прошлых веков. Таким образом, писатель мог быть оригинальным лишь в сфере романа и драмы, где ему было позволено оставаться самим собой и свободно фантазировать. И в самом деле, вся чего-нибудь стоящая литература, которая отражает человеческую душу, — в основе своей лирическая. Это справедливо и для литературы идей: только идеи, идущие непосредственно от души человека, могут выжить. В 1795 г. Э. Янг в книге «Предположения относительно оригинальности творчества» четко сформулировал этот тезис. Цзинь Шэнтань, выдающийся критик XVII в., неустанно повторял в своих сочинениях: «Что есть поэзия, как не голос сердца? Его может услышать и женщина, и ребенок, сердце может заговорить и утром, и вечером». Источник истинной литературы чист и безыскусен, несмотря на всю риторику и замысловатые ухищрения, при помощи которых профессора литературы пытаются усложнить этот вопрос. Цзинь Шэнтань также писал: «Древних не принуждали что-либо говорить, они иногда высказывались по собственному усмотрению, иногда описывали какие-нибудь события, иногда выражали собственные чувства и, сказав то, что хотели, оставляли кисть и удалялись». Разница между литературой и простым письмом состоит лишь в том, что первое написано искусно, а второе — нет, и первое живет дольше. Лирическая основа литературы дает ей возможность отражать живую человеческую душу и даже душу всей нации. Если сравнить жизнь с большим городом, то творчество писателя — это окошко его мансарды, глядя в которое он наблюдает жизнь города. Читая написанное, мы вместе с писателем, его глазами, тоже глядим на жизнь. Звезды, облака, очертания гор на горизонте, а также широкие улицы, переулки и крыши домов — все это принадлежит всем, и только окно мансарды принадлежит кому-то одному. Знакомясь с какой-либо национальной литературой, мы пытаемся взглянуть на жизнь данной страны «из окна мансарды» точно так же, как это делали сами писатели.Язык и мышление
Особенности выразительных средств китайской литературы (т.е. китайского языка) в большой степени определяют особенности ее развития. Сравнивая китайский язык с европейскими языками, обнаруживаем, что характерные особенности китайского мышления и литературы в значительной степени обусловлены моносиллабизмом китайского языка. Такие слоги, как jing, chong, zhang, по звучанию удивительно похожи. Моносиллабизм определил основные особенности литературного творчества на китайском языке, а особенности китайской письменности обусловили непрерывность литературной традиции и даже консерватизм мышления китайцев. Моносиллабизм также усугубил различия между книжным и разговорным китайским языком. Это, в свою очередь, затруднило изучение литературного языка, сделав его привилегией высших слоев общества. Наконец, моносиллабизм напрямую повлиял на стиль некоторых произведений китайской литературы. Каждая нация развивала письменность, которая наиболее подходила к ее языку. В Европе письменность на основе пиктографических принципов не получила развития, потому что фонетическая структура слов в индоевропейских языках с ее сравнительно большим числом согласных звуков и бесчисленными звуковыми комбинациями нуждалась в алфавитном письме и пиктограмм было бы совершенно недостаточно. Китайский пример, впрочем, доказал, что одних идеограмм, которые использовались бы по отдельности, тоже недостаточно, и возникла необходимость дополнительно к идеограммам использовать в китайском языке также и фонетические принципы. И только тогда язык стал эффективно развиваться. Простые пиктограммы стали использоваться в комбинациях с другими исключительно благодаря фонетической форме этих пиктограмм. И действительно, 90% из 40 с лишним тысяч иероглифов в китайских словарях образованы на основе фонетических комбинаций с примерно 1,3 тыс. идеограмм. Для такого моносиллабического языка, как китайский, достаточно приблизительно 400 фонетиков (не считая слогов, произносимых с разными тонами), например цзин, чун, чжан. Однако в германских языках изобретение нового символа для каждой новой звуковой комбинации таких, как Schlacht или Kraft в немецком языке или scratched, scraped, splash, scalpel в английском, очевидно, было бы невозможным. В китайском языке фонетическое письмо не получило развития, потому что идеографических символов для обозначения слогов было достаточно. Если бы китайцы говорили на языке, в котором есть такие слова, как немецкие Schlacht и Kraft или английские scratched и scalpel, они давным-давно изобрели бы фонетическую письменность. Очевидна прекрасная сочетаемость китайского моносиллабизма с иероглифической письменностью. Крайняя немногочисленность слоговых форм — это особенность китайского языка. В результате появилось огромное число омонимов. Например, бао имеет более десятка значений: «сверток», «нести», «сытость», «пузырь» и т.д. Поскольку пиктограммы изначально были «привязаны» к конкретным вещам или действиям, неизбежным стало усложнение письменности. Иероглиф, первоначально обозначавший «сверток», стали использовать как чисто фонетический знак для того, чтобы обозначать другие слова с таким же звучанием. В итоге произошла великая путаница и вплоть до династии Хань, когда письменность более или менее упорядочили, у нас было большое число знаков, обозначавших самые разные предметы. Пришлось для фиксации класса значений добавлять некоторые иероглифы (называемые «ключами») к чисто фонетическим иероглифам, среди них был и иероглиф бао. Использование фонетических символов не лишено некоторой приблизительности, ряд иероглифов, включающих фонетик бао, произносятся бао или пао в разных тонах современного китайского языка. Помимо иероглифа бао (), первоначально означавшего «сверток», в их состав входят и различные ключи, придающие иероглифам разные значения: 抱 . Так, бао с ключом «рука» означает нести; с ключом «нога» означает бежать; с ключом «одежда» означает халат; с ключом «еда» означает сытый; с ключом «вода» означает пузырь; с ключом «огонь» означает петарда; с ключом «рыба» означает одну из пород рыб; с ключом «мясо» означает матку; с ключом «камень» означает пушку; с ключом «рот» означает рычать; с ключом «трава» означает пампушку; с ключом «дождь» означает град; с ключом «нож» означает скрести. Различные ключи помогают различать смысл омонимов. Допустим, однако, что дело не в омонимах. Допустим, что в китайском языке существуют такие слова, как английские scraped, scratched и scalpel. Или предположим, что китайцы до создания иероглифики изобрели бы знаки sc — а — р, тогда бы у них возникла необходимость различать cape и scape, scape и scrape, scrape и scraped, scrape и scratch. В результате возникло бы не что иное, как алфавит со знаками для обозначения s, г, ed(t), р, ch и т.п. Если бы китайцы это сделали, то у них был бы алфавит и, соответственно, грамотность была бы распространена гораздо шире. Однако моносиллабизм китайского языка сделал неизбежным использование пиктографического принципа письма. Этот факт сам по себе в значительной степени обусловил особенности образования и его место в жизни китайцев. Сама природа иероглифа исключает возможность изменения его графической формы, исходя из форм разговорного языка. В устной речи форму иероглифов тоже невозможно передать. Один и тот же символ по-разному произносится в разных диалектах так же, как христианский крест в английском языке произносится «cross», а во французском языке — «croix». Этот фактор в значительной мере способствовал созданию единой китайской культуры, сложившейся в эпоху древних царств. Еще важнее то, что использование иероглифов позволяет читать конфуцианских классиков через несколько тысяч лет после создания их трудов. Интересный вопрос: если бы конфуцианских классиков в VI в. н.э. невозможно было бы прочесть, устоял бы тогда пиетет перед превознесенным до небес конфуцианством? В действительности китайские иероглифы претерпели большие изменения во времена сожжения конфуцианских книг, устроенного императором Цинь Шихуаном в 213 г. до н.э. Ныне конфуцианцы разделились на два лагеря: одни считают, что конфуцианские тексты, записанные иероглифами «древнего стиля», вероятно, избежали уничтожения, так как были замурованы в стене дома самого Конфуция. Другие считают, что канонические тексты были записаны впоследствии иероглифами «нового стиля», и сделали это еще в древности ученые, заучившие наизусть конфуцианский канон. Этот канон, таким образом, пережил краткий период гонений при династии Цинь. Как бы то ни было, после 213 г. до н.э. появилось довольно много несколько различающихся по форме конфуцианских сочинений, которые оказали гипнотическое воздействие на умы китайцев. Что верно для ранних конфуцианских текстов, то верно для всего литературного наследия, в особенности после эпохи Хань. Ученик китайской средней школы, если только он может понять произведение, написанное сто лет назад, сможет понять произведения и XIII, и X и даже II вв. Точно так же современный западный художник способен наслаждаться лицезрением и Венеры Милосской, и творений Родена. Было бы влияние китайского классического наследия столь мощным, были бы столь консервативными умонастроения китайцев, было бы столь распространено преклонение перед прошлым, если бы это прошлое было трудно расшифровать и понять? Над ответами на эти вопросы остается лишь теряться в догадках. С другой стороны, использование иероглифов способствовало образованию стабильной литературной традиции, литературного языка, который существенно отличался от разговорного и, пожалуй, был слишком сложным даже для среднего книжника древности. Тогда как фонетическая запись естественным образом следовала за изменениями, происходящими в живом языке, язык графических символов, менее зависимых от звучания, достиг значительной свободы в лексике и грамматике. Он не был связан практикой разговорного языка, и в его рамках постепенно сложились собственные правила синтаксиса, возникла собственная лексика, которая отложилась в литературных произведениях различных эпох. Таким образом, письменный язык существовал независимо от разговорного, однако он тоже менялся в незначительной степени вслед за литературной модой. С течением времени различия между литературным и разговорным языком нарастали, и сегодня, имея в виду чисто психологические трудности, практически нет особой разницы между изучением китайцем древнего китайского языка и языка иностранного. Синтаксические структуры современного и древнего языков значительно различаются, поэтому простая замена слов современного языка словами древнекитайского языка невозможна. Например, современное словосочетание «три унции серебра» следует изменить синтаксически — «серебро три унции». Если на современном языке мы говорим: «Я никогда не видел (этого)», то синтаксис древнекитайского языка требует последовательности «Я никогда этого видел», и дополнение обычно ставится перед глаголом с отрицанием. Китайские школьники, изучая древнекитайский язык, часто допускают такие же ошибки, что и английские школьники при изучении французского языка, говоря на английский манер «je vois vous» вместо правильного «je vous vois». Точно так же, как изучение любого иностранного языка требует интенсивного общения на нем, после чего только и возможно настоящее знание этого языка, так и умение более или менее прилично писать на древнекитайском языке требует многих лет (минимум десяти) заучивания наизусть древних классических произведений. Немногие в совершенстве владеют иностранными языками, и очень немногие китайцы действительно умеют, соблюдая все правила, писать на древнекитайском языке. На сегодняшний день в Китае лишь три-четыре человека умеют писать на классическом языке эпохи Чжоу. Большинство же из нас, интеллигентных китайцев, вынуждены смириться с тем, что древний язык стал сугубо книжным (иностранцы, впрочем, довольно легко им овладевают). Так был утрачен истинный аромат родного языка. К такому итогу привело как раз использование иероглифов. Более того, отсутствие связи между иероглифом и его звучанием усилило моносиллабический характер китайского языка. В самом деле, двусложные слова могут быть выражены на письме односложными, потому что структура иероглифа сама по себе уже достаточно четко выражает значение слова. Таким образом, нужно сказать «лаоху» (старый тигр), чтобы на слух отличить его от десятка других «ху», но на письме одного «ху» будет вполне достаточно. В древнекитайском языке односложных слов было значительно больше, чем в современном, так как древний язык воспринимался более визуально, в письменной форме, а не на слух. Благодаря моносиллабизму сложился предельно лаконичный стиль, который вряд ли приложим к современному языку, ибо в этом случае сразу возникает риск непонимания. Однако именно этот лаконизм придает своеобразную красоту и силу выражения древнему литературному языку. Так, в Китае появилась стандартная семисложная стихотворная строка, для изложения ее смысла по-английски потребуются две строки белого стиха. Это невозможно представить в английском или любом другом языке, в котором отсутствует столь глубокая пропасть между устной речью и классической литературой. Как в поэзии, так и в прозе подобная экономия выразительных средств создала особый стиль, в рамках которого каждое слово или слог бережно взвешены и точно передают тончайшие звуковые и смысловые нюансы. Подобно поэтам, крайним эстетам, китайцы, пишущие прозу, так же внимательны и осторожны в обращении с каждым словом. Подлинное владение этим отточенным стилем сводится, таким образом, к безошибочному умению правильно выбирать слова. Так возникла литературная традиция тщательного отбора слов, которая позднее переросла в социальную традицию и, наконец, превратилась в привычку. Трудности овладения литературным мастерством еще более ограничивают число грамотных людей в Китае, и здесь не нужны дополнительные разъяснения. Ограничение же числа грамотных изменило структуру китайского общества и весь облик китайской культуры. Можно задуматься над тем, были бы китайцы столь послушны начальству и учтивы с ним, если бы иероглифика была заменена алфавитным письмом? Я часто думаю вот о чем. Если бы китайцы в своем языке сохранили некоторые согласные в начале или конце слога, то они не только потрясли основы авторитета самого Конфуция, но, вполне возможно, давным-давно разрушили бы и созданную конфуцианством политическую структуру. Тем самым они получили бы массу свободного времени для более широкого распространения знаний. Поскольку впереди у них были тысячелетия досуга, китайцы добились бы успехов и в других областях, изобретая вещи, подобные книгопечатанию и пороху. А это повлияло бы на историю всей цивилизации на нашей планете.Научные достижения
Пока мы не перешли к неклассической литературе, или литературе воображения, созданной писателями, которые преодолели барьеры классических традиций и писали в свое удовольствие, ради самого творчества, — иными словами, пока мы не перешли к роману и драме, которые и составляют литературу в западном ее понимании, возможно, разумно было бы рассмотреть содержание классической литературы, особенности китайской научной мысли, а также проблемы воспитания массы грамотных людей, которые живут за счет народа, занимаются проповедью морали и ничего конкретного не создают. Так о чем же пишут, в конце концов, эти ученые-книжники, что таится в глубинах их души? Китай — страна эрудитов, где они составляют правящий класс. По крайней мере, в мирные дни преклонение перед наукой всегда усердно культивировалось. Такое отношение к науке даже достигло определенной степени суеверия: ни один клочок бумаги, на котором были написаны иероглифы, нельзя было просто выбросить или использовать не по прямому назначению. Их следовало собрать и сжечь в школах или храмах. Во времена смут дело обстояло несколько иначе. Солдаты частенько врывались в дома литераторов и использовали древние фолианты для растопки печей, а то и просто чтобы высморкаться. Иногда они просто сжигали дом. Однако живучесть литературной традиции в Китае такова, что чем больше солдаты сжигали книг, тем шире становились масштабы их коллекционирования. Во времена династии Суй, примерно в 600 г., в императорском дворце хранилось 370 тыс. томов. Во времена династии Тан императорское собрание книг насчитывало 208 тыс. томов. В 1005 г., во времена династии Сун, была составлена первая энциклопедия, состоявшая из 1 тыс. томов. Затем свое место в императорской библиотеке занял словарь «Юнлэ дадянь», созданный под началом императора Юн-лэ (1403—1424) и состоявший из 22 877 свитков избранных редких древних сочинений, составивших 11 995 томов. Во времена маньчжурской династии Цин самым знаменательным политическим мероприятием императора Цянь-луна (1736—1795) стала тщательная ревизия всех существующих книг под предлогом их сохранения, на самом же деле — для выявления произведений, в которых хоть в малейшей степени проявлялось отрицательное отношение к маньчжурскому правлению. Цянь-лун собрал 36 275 томов, которые составили издание в семи частях под общим названием «Сы ку цюань шу». Он также преуспел в полном или частичном уничтожении 2 тыс. книг, при этом более чем в 20 случаях автора либо отправляли в отставку, либо сажали в тюрьму, либо забивали до смерти плетьми. Иногда в храмах разбивали таблички с именами предков такого автора, иногда продавали в рабство его самого и его родных и домочадцев — все это только из-за одного подозрительного слова! Согласно ортодоксальным конфуцианским стандартам, книги, собранные в «Юнлэ дадянь» и «Сы ку цюань шу», достойны хранения. Книг, получивших благоприятные отзывы цензоров, было несколько больше, они кратко упомянуты в каталогах, но в «Сы ку цюань шу» не вошли. В число книг, подлежащих хранению, конечно, не входили такие проникнутые истинно творческим духом произведения, как «Речные заводи» и «Сон в красном тереме». Однако в состав словаря вошло большое количество «бицзи», или «записок», в которых речь шла о всякой всячине: от исторических изысканий до описаний чайных листьев и знаменитых источников, а также рассказов о лисах-оборотнях, духах воды и целомудренных вдовах. Все это доставляло радость ученым-книжникам. О чем же говорилось в этих книгах? Обозреть ортодоксальную классификационную систему библиотек, оставленную нам «Сы ку цюань шу», было бы крайне интересно. Китайские книги делятся на четыре основные категории: (1) каноны, (2) история, (3) философия и (4) сборники литературных произведений. «Каноны» включают произведения конфуцианских классиков и труды по филологии, на создание которых ушла большая часть времени, отпущенного китайским ученым-книжникам. Категория «Истории» включает династийные истории, частные истории, биографии, различного рода записи, географические труды (включая путевые заметки, местные истории или рассказы о самых знаменитых горах), описания административной системы, уложения законов, библиографии и критические работы по истории. Категория «Философия» заимствовала свое название у ученых и философов эпохи Чжоу. Но позднее она включила труды по всем специальным наукам (как на философском факультете западного университета). Сюда вошли произведения по военному делу, сельскому хозяйству, медицине, астрономии, астрологии, магии, гаданию, боевым искусствам, рисованию, музыке, украшению жилищ, кулинарии, ботанике, зоологии, конфуцианству, буддизму, даосизму, а также справочники. В данный раздел вошли и многие книги из числа тех, которые относятся к «запискам» и содержат немало случайных, непроверенных и неклассифицированных данных, касающихся космических явлений. Предпочтение отдавалось необычным, сверхъестественным природным явлениям. Хозяева популярных книжных магазинов включают в эту категорию также и романы. Категорию «Сборники» можно назвать литературной, потому что она включала работы ученых, литературную критику, особые собрания поэзии и драмы. Деление науки на разделы — вещь еще более ответственная, чем исследование ее содержания. На деле в Китае нет специальной науки как таковой, помимо серьезных исследований в области классической филологии и истории, которые действительно являются отраслями точно классифицированных знаний. В этих сферах действительно проводятся трудоемкие, кропотливые исследования. Астрономия, помимо исследований иезуитов, очень близка астрологии, а зоология и ботаника весьма близки кулинарии, так как все животные, фрукты и овощи пригодны к употреблению в пищу. В обычных книжных магазинах книги по медицине обычно лежат на одной полке с литературой по черной магии и предсказаниям судьбы, труды же по психологии, социологии, инженерии и политэкономии запрятаны в раздел «Записки». Работы некоторых писателей, отнесенные к зоологии и ботанике, помещены в раздел «Философия» и включены также в графу «Разное» в разделе «История». Они удостоились такой чести благодаря специфическому характеру своих книг, однако их произведения, за исключением особо выдающихся, не отличаются принципиально от жанра бицзи. У китайских ученых есть три пути, следуя которым они могут развивать свой талант: вести подлинно научные исследования; стать кандидатами на получение научной степени и затем — чиновниками; заниматься литературой в собственном смысле этого слова. По такой же схеме можно разделить образованных китайцев на три категории: ученых, шэньши и писателей. Взрастить ученого и подготовить кандидата на чиновничью должность — вещи настолько разные, что выбор нужно делать достаточно рано. В прежние времена был один чиновник, получивший вторую ученую степень цзюйжэнь, но никогда не слыхавший об одной из 13 конфуцианских канонических книг под названием «Гунъян чжуань». Немало известных ученых за всю жизнь так и не написали хотя бы одно экзаменационное сочинение на получение ученой степени. Однако сила духа книжников старого Китая достойна восхищения. Лучшие умы могли соответствовать европейскому типу ученых. Они в одинаковой степени были способны отдаться и научным исследованиям, и нудной чиновничьей рутине. Они не всегда применяли чисто научные методы, их произведения уступали западным по ясности стиля и убедительности изложения. В старом Китае занятие наукой означало приложение неимоверных усилий к прочтению и запоминанию наизусть огромного числа произведений. Следовательно, нужно было обладать невероятной усидчивостью и почти сверхчеловеческой памятью. Поэтому, лишь посвятив всю жизнь науке, можно было добиться успеха. Некоторые ученые могли от начала до конца пересказать наизусть огромный труд Сыма Цяня «Ши цзи» («Исторические записки»); поскольку алфавитных индексов не было, каждому оставалось полагаться лишь на свою память. Более того, сведениями, которые можно было легко получить из энциклопедий, нередко пренебрегали, так как считалось, что истинный ученый не нуждается в энциклопедиях. У нас в Китае было немало таких ходячих энциклопедий. Если им действительно нужно было копаться в оригинальных источниках, они не обращали внимания на то, сколько для этого потребуется времени — несколько минут или целый день. Английские дворяне нередко готовы были потратить целый день, чтобы добыть на охоте лису, и от продолжительности этого занятия полученное ими удовольствие ничуть не уменьшалось. Так и китайские книжники с удовольствием «шли по следу», терпели разочарования, когда сбивались с него, и снова радовались, когда удавалось загнать «лису» в нору. Одушевляясь именно таким настроением, китайские ученые создали свои монументальные труды. Например — энциклопедию «Вэньсянь тункао» Ма Дуаньлина, «Тунчжи чжэн цяо», этимологический словарь Чжу Цзюньшэна или комментарии к «Шо вэнь» Дуань Юйцая. Гу Яньу, ученый середины XVII в., изучая географию китайской культуры, часто возил с собой три повозки с книгами. Когда он обнаруживал расхождения между письменными свидетельствами и реальными фактами или рассказами старожилов (самым надежным для него источником), то тут же вносил поправки в книги. Такая самоотдача и преданность науке ничуть не отличалась по своему духу от работы западных ученых. Есть немало областей в китайской науке, где требуются тщательность, усердие, четкость в работе. К ним, например, можно отнести изучение эволюции китайской письменности («Шо вэнь»), историческую фонетику, текстологию древней письменности, реконструкцию древних текстов по сохранившимся цитатам, а также изучение древних обрядов, церемониалов, убранства домов, местных обычаев, сверку встречающихся в книгах названий птиц, зверей, рыб и насекомых, изучение надписей на бронзовых сосудах, каменных изваяниях и черепашьих панцирях. То же можно сказать об изучении иностранных имен, встречающихся в истории монгольской династии Юань. Других ученых интересовало исследование древних неконфуцианских философов, юаньской драмы, «И цзина» («Книга перемен»), сунской философии (ли сюэ), китайской живописи, древних монет, истории и географии Китайского Туркестана, монгольских диалектов и т.п. Направление исследований было тесно связано с научными интересами наставников этих ученых, а также с общим духом науки в данную эпоху. В середине правления династии Цин исследования китайской литературы достигли апогея. Сочинения на эту тему собраны в изданиях «Хуан цин цзин цзе» и «Сюй хуан цин цзин цзе» — всего около 400 работ (в том числе и на сугубо специальные темы), составивших более 1 тыс. томов. Эти работы по сути и духу в значительной степени похожи на современные докторские диссертации. Однако в научном отношении они были более зрелыми и на них потрачено гораздо больше времени. Как мне известно, среди них есть труд, который автор писал 30 лет.Учебные заведения
Однако истинные ученые в Китае встречаются так же редко, как и на Западе. Вместе с тем у нас есть множество кандидатов на чиновничьи должности, как и людей со степенью доктора философии (Ph.D.) в Америке, которым тоже нужна должность, чтобы зарабатывать деньги и пользоваться уважением в обществе. Возможно, китайские кандидаты на чиновничью должность нанесли обществу больший урон, чем американские Ph.D. Все они сдали экзамены, а это означает, что они всего лишь выполнили определенный объем нудной работы, используя свои вполне заурядные знания. Они откровенно руководствовались коммерческими соображениями, чтобы достичь определенного положения вобществе. Эти китайцы получили образование, научившись лишь работать с книгами и торговать своими знаниями. Но прежде китайские Ph.D. имели более ясный бюрократический статус. Среди них были истинные таланты, которые получили ученые степени вовсе не по прозаическим причинам, а исключительно ради собственного удовольствия. Они достигли самого высокого ранга, став цзиньши или академиками Ханьлинь. Все они могли занять пост чиновника в провинции или в столице. Большинство становилось чиновниками первого и второго ранга — по-китайски сюцай (примерно соответствует бакалавру) и цзюйжэнь (примерно соответствует магистру). Все же большинство не могло получить даже степень сюцая, и потому их называли «студентами» (чжушэн или туншэн). Немало таких уже взрослых «студентов» кормились на уездные и волостные пособия и толпами бродили по деревням. Среди обладателей первых двух степеней и тех, у кого их вовсе не было, лучшие становились преподавателями, а худшие — «местными шэньши». Последние были стряпчими-любителями и в поисках средств к существованию вели судебные дела рука об руку с чиновниками из ямыня или брали на откуп налоги, работая заодно с местными богатеями. Они ничего не понимали в научной деятельности, которая в их представлении сводилась к зубрежке пяти книг конфуцианского канона. Большинство также знало наизусть официальные комментарии Чжу Си, которые считались единственно верной интерпретацией конфуцианских истин. Они не могли сочинить хороших стихов, и их подготовка к экзаменам на ученую степень оставалась фрагментарной, а древний стиль багувэнь, который они изучали, настолько схоластичен, что они неспособны были написать ни сносный газетный репортаж, ни даже простейшую рекламную заметку. Тут они заметно уступали опытным бизнесменам. Однако влиянием этих людей в обществе не следовало пренебрегать: у них было классовое сознание, классовая организация и классовая идеология. Ниже я привожу отрывок из статьи «Студенты», которую написал Гу Яньу в начале цинской династии:Должно быть, насчитывается до полумиллиона таких студентов в трехстах уездах. Они занимаются подготовкой сочинений к экзаменам, и ни один из нескольких десятков не умеет прилично писать. Ни один из тысячи не достиг совершенства в знании классиков и не может быть в услужении императора... Они освобождены от казенных повинностей, свободны от давления со стороны чиновников, им не грозят телесные наказания, они могут носить чиновничьи одежды. Поэтому многие хотят быть студентами не ради почета и титулов, а ради защиты самих себя и своих семей. Таких студентов, пользующихся протекцией властей, насчитывается в среднем 70%, т.е. их 350 тысяч по всей стране... Именно эти студенты ходят по ямыням, общаясь с начальством. Именно эти студенты заодно с местными властями запугивают сельское население. Именно эти студенты дружат с людьми из ямыня или сами становятся его служащими. Именно эти студенты, когда власти не следуют их желаниям, сплачиваются в тесные ряды. Именно эти студенты знают секреты чиновников и торгуют ими... Натолкнувшись на самый слабый отпор, они кричат: «Вы убиваете ученых! Вы сжигаете конфуцианцев!»... Большие беды страны происходят тогда, когда незнакомые люди собираются вместе и образуют партию. Эти студенты приезжают со всех концов страны, преодолевая несколько сотен ли, другие — десять тысяч «ли». Они не знают имен друг друга или диалектов, на которых говорят. Но сдав единожды экзамены... они образуют прочный блок, который уже не разбить. Почтовые отделения заполнены их рекомендательными письмами, а столы чиновников — их частными просьбами.Гу Яньу писал во времена, когда особенно процветало зло, но паразитическая натура этих «бакалавров», «магистров» и образованных бездельников существенно не менялась вплоть до сегодняшнего дня, только теперь их стали называть «выпускниками колледжа». Конечно, не все они такие уж мерзавцы. В каждом городе или деревне есть несколько добрых, скромных, простых и самодостаточных ученых, которые принадлежат скорее к эксплуатируемому классу, а не к эксплуататорам, потому что избрали добровольную бедность. Случайно в каком-нибудь городке могут жить несколько высоконравственных ученых, которые не стали сдавать экзамены и посвятили себя науке. От этих ученых, а также от тех более талантливых, умных и успешных кандидатов в чиновники часто можно было ожидать научных достижений. В целом же ученые старого образца в любом случае обладали более прочными знаниями в своей сфере, чем современные выпускники университетов. Их знания в области всеобщей географии были довольно скромными, но сами они были благовоспитанны и обладали изысканными манерами. И старая, и современная системы образования страдают от глупой веры в то, что с помощью нескольких экзаменов можно измерить человеческие знания. Экзамен по сути своей лишь механическое упражнение, в центре его — накопление знаний, а не развитие способности мыслить критически, которую нельзя оценивать ни в 75, ни в 95 баллов. А вот вопрос о датах Пунических войн вполне возможно оценить в баллах. К тому же в любом университете за неделю до экзаменов студентов ставят о них в известность с тем, чтобы они могли хорошенько подготовиться, иначе все провалятся. Любые знания, основанные на недельной зубрежке, легко за такой же срок забыть. Пока еще не создана такая экзаменационная система, которая избавила бы студентов от зубрежки, жертвами же нынешней системы являются профессора, верящие, будто студенты действительно освоили их предмет. Старая система учебных заведений, будь то сельская школа или шуюань (учебное заведение более высокого ранга), имеет очевидные преимущества по сравнению с системой современных высших учебных заведений по той простой причине, что, за исключением необязательных официальных экзаменов на ученую степень, старая система не знала отметок. Господствовала система наставничества, когда учитель точно знал, что уже прочитал ученик и чего он не прочитал. Отношения учителя и ученика были очень тесными и доверительными. Никто не переходил в следующий класс, и никто не «заканчивал» учебного заведения, и никто не учился ради диплома, потому что его просто не существовало. Самое важное — никого не вынуждали обозначать сроки работы, ждать, когда самый слабый ученик сделает то, что ему задано. Ни у кого не требовали к утру четверга такой-то недели прочитать три страницы по экономике до второго абзаца такой-то страницы. Если ученику это было интересно, он мог прочитать хоть всю главу. И наконец, прежде никто не верил или пытался кого-то убедить, что благодаря накоплению баллов-очков по психологии, религии, способам реализации товаров, конституционной истории Англии и другим предметам можно воспитать образованного человека. Никто не верил сам и не пытался убедить других, что можно «протестировать» степень любви человека к Шекспиру с помощью парафраза какого-либо отрывка из его произведения, знания даты постановки «Отелло» или идиом времен королевы Елизаветы Великой. На самом деле обучение в университете способно лишь привить пожизненное отвращение и к елизаветинским идиомам, и к Шекспиру, от которого выпускники шарахаются как от отравы.
Проза
В древнекитайской литературе по-настоящему хорошей прозы немного. Такое заявление, возможно, кажется несправедливым и нуждается в разъяснении. Есть много примеров риторической прозы высокого полета, написанной блестяще и виртуозно. Есть также много примеров поэтической прозы, которую благодаря тонам и ритмике можно даже петь. На практике и в школе, и дома обычное чтение вслух так называемой прозы — это пение. В английском языке нет точного слова для описания такой формы чтения вслух. Так называемое «пение» — это громкое чтение строк с отрегулированной, приподнятой интонацией. Оно не следует какой-либо определенной мелодии, но отчасти учитывает тоны гласных и общую мелодику фразы. Это похоже на чтение проповеди деканом епископальной церкви, но в китайском «пении» слоги произносятся протяжнее. Такой вид поэтической прозы стал особенно плох в V-VI вв., когда он фактически слился с напыщенными панегириками, происходящими непосредственно от фу — придворной высокой прозы. Как и любая придворная поэзия, она была неестественна и неуклюжа, как русский балет. В параллельных строках этой вычурной прозы слоги группировались по четыре или по шесть, и это называлось сы лю вэнь (стиль 4-6), или пянь ти (параллельный стиль). Такая литература могла появиться и развиваться только на мертвом или искусственно воскрешенном языке, оторванном от реалий современной ему жизни. Однако параллельный стиль, поэтическая проза и высокая проза в равной степени не были хорошей прозой. Пусть ее и называли хорошей прозой, но лишь потому, что руководствовались извращенными критериями. Хорошей прозой я называю такую, в которой ощущается атмосфера и ритм свободной беседы у камина, например романы великих прозаиков Дефо, Свифта, Босвелла. Ясно, что такую прозу можно написать только на живом, а не на искусственном языке. Прекрасна проза романов, не входящих в конфуцианский канон, но мы здесь говорим о классических произведениях, а не романах, написанных на разговорном языке. Использование вэньяня придает произведению крайне сухой стиль, поэтому оно не может стать хорошей прозой. Во-первых, хорошая проза должна отражать прозаические факты жизни, эту миссию вэньянь выполнить не может. Во-вторых, хорошая проза нуждается в достаточном сюжетном и физическом пространстве, чтобы в полной мере раскрыть свои выразительные возможности, а вэньянь всегда стремится к предельной экономии слов. Классика предполагает сжатость, чистоту и тщательное построение текста, а также строгий отбор лексики. Хорошая современная проза не должна быть утонченной, между тем изысканность текста — единственная цель древней прозы. Хорошая проза должна шагать вперед большими шагами, а классическая проза ковыляет на бинтованных ножках, заботясь о том, чтобы каждый шажок стал явлением искусства. Хорошей прозе, возможно, нужно 10—30 тысяч слов, чтобы полностью описать человека — таковы, например, персонажи, созданные английским литератором и критиком Дж. Литтон-Стрейчи (1880—1932) или американским беллетристом и драматургом Гамалиэлом Бредфордом (1863—1932). Объем классической китайской биографии (чжуаньцзи) ограничен приблизительно 200—500 иероглифами. Структуру хорошей прозы не обязательно приводить в некое равновесие, параллельные же тексты в напыщенном стиле как раз явно предпочитают симметрию и сбалансированность. Кроме того, хорошая проза должна быть раскованной, разговорной и отчасти — личностной; особенностью же китайской литературы и искусства как раз является сокрытие личных чувств. Читатель вправе ожидать, что Хоу Чаоцзун использует по крайней мере 5 тысяч иероглифов при написании биографии своей возлюбленной Ли Сянцзюнь. Однако на деле в «Биографии мисс Ли» использовано ровно 375 иероглифов — как будто он описывал добродетели соседской бабушки. Из-за господства такой традиции в жизнеописаниях людей прошлых эпох можно было использовать всего лишь 300—400 иероглифов, передавая потомкам буквально нищенский набор фактов о жизни предков. Реальность такова, что вэньянь совершенно не подходит для обсуждения и описания фактов. Вот почему авторы романов должны были обратиться к разговорному языку. «Цзо чжуань», написанный, по-видимому, в III веке до н.э., все же в состоянии описать войну, язык Сыма Цяня (140—80? до н.э.), величайшего мастера китайской прозы, еще был близок современному ему разговорному языку. Он осмеливался вставлять слова, которые позднее ученые считали «вульгарными». Его язык обладал силой выражения, которой не мог достичь никто из поздних мастеров, писавших на вэньяне. Ван Чун (27—107) тоже писал порой хорошую прозу, так как он в той или иной мере выступал против господствовавшего манерно-изысканного стиля письма. Однако затем хорошая проза исчезла. Вэньянь стал отточенным и крайне лаконичным, как, например, в «Жизни господина У Лю» Тао Юань-мина (372—427). Именно этот текст, в котором использовано всего 125 иероглифов, считается образцом высокой литературы и представляет собой портрет автора:Я не знаю, уроженцем какого места является господин У Лю. Его имя и фамилия мне тоже не известны. Около его дома стоят пять ивовых деревьев: отсюда и прозвище «Улю» — пять ив. Он спокоен и говорит очень мало. [Ему] безразличны деньги или слова. [Он] любит читать книги, не пытаясь понять точный смысл. Каждый раз, когда ему нравится [отрывок], он так рад, что готов забыть про еду. Он любит вино, но из-за бедности у него не всегда оно есть. Его друзья и родственники знают об этом и иногда приглашают его выпить. Он всегда выпивает вино и готов напиться пьяным. После того как он напивается пьяным, он уходит, и ему все равно, где он находится. Его убежище пусто и не защищает его от ветра и солнца. Он носит лохмотья из простой ткани, и его чашка для риса всегда пуста. Но ему все равно. Он часто пишет для себя, чтобы порадовать самого себя, так проявляется его честолюбие; он забывает обо всех успехах и неудачах на свете. Он так и умер.Согласно нашему определению, это — изысканная, но не хорошая проза. Это свидетельство существования мертвого языка. Предположим, что человек вынужден читать только такие произведения, в которых портреты персонажей выписаны крайне смутно, факты описаны сверхлаконично, стиль изложения нарочито сухой. Как бы все это повлияло на его интеллект? Это заставляет нас далее рассмотреть один еще более важный вопрос, а именно: интеллектуальное содержание произведений китайской прозы. Китайские библиотеки и книжные магазины полны разного рода литературными сборниками. Если вы возьмете в руки «сборник» какого-либо писателя и вникните в его содержание, то затеряетесь в пустыне эссе, скетчей, биографий, предисловий, официальных меморандумов, а также записок на самые разные темы — исторических, литературных, мистических. Характерно, что почти все эти работы состоят на 50% из поэзии и все ученые оказываются поэтами. Поскольку многие из этих авторов в прошлом писали статьи на другие темы, появление сборника «Кое-что обо всем» можно извинить. С другой стороны, эти эссе и скетчи представляют собой сливки литературного творчества многих авторов, единственным литературным трудом большинства писателей, это — «шедевры», «лучшие образцы» современной китайской литературы. Ученики китайской начальной школы, изучая прозу, учат наизусть отрывки именно этих эссе и скетчей. Если мы осознаем, что эти произведения представляют основную часть громадного количества литературных трудов наших бесчисленных ученых всех возрастов, то впадем в уныние и полное разочарование. Возможно, это происходит оттого, что мы судим об этих книгах исходя из современных стандартов, которые совершенно чужды такой литературе. Да, в этих произведениях всегда идет речь о людских радостях и горестях, мы узнаем о личной жизни людей и о социальной среде, в которой они находятся. Все это вызывает у нас интерес. Но, будучи людьми современными, мы невольно используем современные стандарты при оценке этих книг. Гуй Югуан являлся в свое время первоклассным писателем и лидером литературного движения. Но, когда мы читаем написанную им биографию его матери — лучший плод творческих исканий всей жизни автора, — мы обнаруживаем, что литературное мастерство для него — это рабское подражание манере древних. Мы видим также, что его образы беспомощны, событий недостаточно и они бессодержательны, переживания поверхностны. Естественно, мы вправе разочароваться в таком писателе. Образцы хорошей прозы есть и в классической китайской литературе, но каждый должен найти их сам, согласно новым стандартам. И раскрепощенные ум и чувства, и стиль, освобожденный от сковывавших его норм, придется искать среди книг не вполне ортодоксальных писателей. В их мыслях есть некие еретические нотки, богатство их души побуждает этих писателей выходить за рамки обветшалого литературного канона. Таковы, например, Су Дунпо, Юань Чжунлан, Юань Мэй, Ли Ливэн, Гун Динъань. Все они являлись интеллектуальными бунтарями, их произведения были либо запрещены, либо в то или иное время осуждены критиками. У них были свой собственный стиль и собственные мысли, которые, по мнению ортодоксальных конфуцианцев, представляли большую опасность для традиционной морали.
Литература и политика
Естественно, узы языка породили и узы мысли. Вэньянь — язык мертвый, настолько мертвый, что вообще не в состоянии точно выразить мысль. У китайских ученых, воспитанных на общих рассуждениях, начисто отсутствует практика логических умозаключений, поэтому в дискуссиях они часто выглядят крайне наивными. Такое расхождение между мыслью и литературой создало ситуацию, в которой мысль и литература не считаются взаимосвязанными понятиями. Все это приводит нас к вопросу об отношениях между литературой и политикой. Чтобы понять китайскую политику, нужно понять китайскую литературу. Возможно, нам следовало бы избегать слова «литература» и говорить о беллетристике. Почтение к беллетристике стало подлинной национальной манией. Наиболее наглядно эта мания проявляется в публичных заявлениях, независимо от того, делают их студенческие коллективы, торговые компании или политические группировки. При подготовке к печати подобных заявлений чувствуешь, насколько ласкает слух сам текст и насколько он проработан стилистически. И читатели газет сразу думают о том, как красиво написана статья. Однако подобные статьи почти всегда ни о чем, хотя звучат очень красиво. Даже откровенная ложь может вызвать восхищение, если она воплощена в прекрасную форму. Постепенно возник определенный тип беллетристики, которая в переводе на английский язык выглядит крайне глупо. В недавнем важном заявлении одной политической партии читаем: «Те, кто попирают наш национальный суверенитет и вторгаются на нашу территорию, будут изгнаны! Тех, кто угрожают миру на земле, мы остановим! Мы полны решимости... Мы готовы приложить силы... Мы должны объединиться...». Современная публика отказывается принимать такого рода заявления. Ей необходимы более тщательный анализ современной внутри- и внешнеполитической обстановки, более детальное описание конкретных путей и способов «изгнания» агрессора и «остановки» нарушителей мира на земле. Такого рода дурная привычка в беллетристике порой приводит к абсурду. В тексте рекламы шелковых чулок объемом в 500 слов первая фраза звучала так: «С тех пор как были потеряны три северо-восточные провинции в Маньчжурии...». Однако это не значит, что все китайские граждане простаки и глупцы. Наша литература полна общих рассуждений, но она совсем не проста. Наоборот, несмотря на некую двусмысленность и туманность этих рассуждений, она, как ни странно, создала удивительные формы выражения. Китайцы, прошедшие хорошую литературную школу, давно научились читать между строк и понимать истинный смысл написанного. Это иностранцы не способны читать между строк. Или все дело в отвратительных переводах, из-за которых утрачен т.н. скрытый смысл, или подтекст. И вот иностранные корреспонденты ругают Китай и самих себя за то, что неспособны понять заявление, в котором столько ничего не выражающих, хитроумно сплетенных между собой слов. В Китае процветает искусство манипулирования словами, восходящее к односложной структуре вэньяня. А мы верим в слова. Мы живем в словах, и слова определяют наши победы и поражения в политической и правовой борьбе. Гражданской войне в Китае всегда предшествует война слов в форме обмена телеграммами. Публика прилежно читает этот обмен ругательствами, а также вежливые опровержения и даже бессовестную ложь, решая, какие из них лучше с точки зрения литературного стиля, в то время как над горизонтом нависают зловещие тучи. По-китайски это называется «сначала вежливость, потом оружие». Мятежная политическая партия обвиняет центральное правительство в «коррупции» и «распродаже страны врагу», тогда как центральное правительство более искусно требует от восставшей партии «сотрудничать в интересах мира», «приложить усилия к объединению нации», сетует на то, что «мы живем в эпоху смуты», и т.п. Одновременно армии обеих сторон копают глубокие окопы, и линии окопов этих армий все более сближаются. Партия, которая найдет более красиво звучащий лозунг, выиграет пропагандистскую войну, привлечет людей на свою сторону. Таким образом, мертвый язык стал языком обмана. Все дозволено, если вы сумеете исказить смысл слов. Ниже мы приведем несколько примеров литературных приемов, которыми любят пользоваться китайцы. Когда правительство одной из провинций собиралось разрешить продажу опиума, оно придумало чрезвычайно умный «боевой клич» — всего из четырех слов: «Мы намерены запретить налогообложение». Именно такой лозунг, как никакой другой, принес успех местному правительству. После Шанхайской войны (высадка японского десанта в Шанхае в январе 1932 г.) китайское правительство перенесло свою резиденцию из Нанкина в Лоян под лозунгом: «Политика долгосрочного сопротивления». В провинции Сычуань некоторые милитаристы, заставляя крестьян выращивать опиумный мак, были настолько изобретательны, что придумали «налог на лень». Его должны были платить те, кто не хотел выращивать опиумный мак. Недавно в той же провинции ввели еще один налог, назвав его «налогом доброй воли». Он взимается сверх тех, которые суммарно в 30 раз превышали законно взимаемый сельскохозяйственный налог. Новый сбор должен был породить «добрую волю» в отношениях между крестьянами и солдатами, чтобы крестьяне отдавали деньги солдатам, а те не занимались бы мародерством. Вот почему мы между собой часто посмеиваемся над «простоватостью» «заморских чертей». Лингвистическая катастрофа подобного рода возможна только в стране, где веруют в ложные языковые клише. К этому печальному итогу привела ошибочная методика написания сочинений в начальной школе. Современный китаец, наблюдая такие литературные уродства, может сделать одно из двух. Во-первых, он может избрать традиционный взгляд на литературу и рассматривать ее как чистую беллетристику. Такая литература вряд ли нуждается в том, чтобы ею наслаждались, читая между строк. Во-вторых, он может потребовать более тесной связи между словами и мыслями, потребовать разработки новых литературных стандартов, создания нового литературного языка, наилучшим образом отражающего жизнь людей и их мысли. Другими словами, современный китаец должен отвергнуть засилье многословных статей, берущее начало даже не в политике, а в самой литературе. Однако он должен твердо верить, что лишь после упразднения этой негодной практики в литературе она исчезнет также и в политике.Литературная революция
Литературная революция действительно была необходима, и она произошла в 1917 г. под руководством доктора Ху Ши и Чэнь Дусю, которые выступали за то, чтобы писатели и поэты писали на разговорном языке байхуа. Прежде происходили и другие подобные революции. Хань Юй во времена династии Тан выступал против напыщенного стиля V-VI вв. и ратовал за возврат к безыскусному и ясному стилю, к разумным литературным нормам и к удобочитаемой прозе. Однако для него это означало возврат к литературе древней эпохи Чжоу. То есть Хань Юй придерживался ортодоксальных конфуцианских взглядов, он лишь подражал древним. После Хань Юя литературная мода то копировала стиль эпохи Чжоу, то подражала стилю эпохи Цинь-Хань. Когда сам Хань Юй стал «древностью», литература эпоха Тан в самые различные времена надолго становилась объектом подражания. Поэты эпохи Сун подражали поэтам эпохи Тан, а писатели времен династий Мин и Цин подражали собратьям по кисти времен династий Тан и Сун. Фактически литературной модой стало соревнование подражателей. Только к концу XVI в. явился дальновидный человек, утверждавший, что «современные люди должны писать на современном языке». То был Юань Чжунлан, которому помогали два его брата. Юань Чжунлан посмел ввести в свою прозу просторечные выражения и даже сленг. Некоторое время его книги пользовались большой популярностью, у него были даже последователи, составившие «группу Гунъ-ань» (Гунъань — родина Юань Чжунлана). Он ратовал за освобождение прозы от формальных и стилистических условностей той эпохи. Писатель также считал, что в литературном творчестве важны лишь слова, которые вытекают «из-под кисти руки». Юань Чжунлан ратовал за личностный, индивидуальный стиль, поскольку, по его мнению, литература — это способ самовыражения личности (синьлин), которую нельзя подавлять. Однако использование крылатых выражений и просторечий вскоре вызвало острую критику со стороны ортодоксальных придворных конфуцианцев, и во всех историях литературы XVII-XIX вв. Юань Чжунлана называли «легкомысленным автором» и наделяли другими нелестными эпитетами. Лишь в 1934 г. этот основатель личностного литературного стиля наконец был спасен от окончательного забвения. Однако даже у Юань Чжунлана не хватило смелости проповедовать использование в литературном творчестве байхуа, разговорного языка. На деле авторы популярных романов, отказавшиеся от тщеславных помышлений, были вынуждены писать на байхуа, чтобы читательские массы могли их понимать. Эти писатели создали фундамент литературы на байхуа. Поэтому, когда Ху Ши развернул движение за использование байхуа, подготовительная работа была уже проведена в течение предшествующих примерно 1000 лет — и Ху Ши это не раз подчеркивал. Все, кто стал писать в новом стиле, мог следовать прекрасным образцам. Поэтому всего за три-четыре года движение за байхуа достигло блистательных успехов. После литературной революции произошли два значительных события. Во-первых, возник и сформировался индивидуальный стиль письма, не связанный никакими ограничениями, Его представителями стали братья Чжоу — Чжоу Цзожэнь и Чжоу Шужэнь (Лу Синь). Стоит обратить внимание на то, что Чжоу Шужэнь испытал сильное влияние школы Юань Чжунлана. Во-вторых, произошла «европеизация» китайского языка в области как синтаксиса, так и лексики. Первое было глупостью, а второе неизбежностью. Введение западных терминов стало необходимым, так как старая терминология не годилась для обозначения современных понятий. Эти перемены начались в 1890-х годах и связаны с деятельностью Лян Цичао, однако после 1917 г. темпы перемен возросли. Люди стали проявлять маниакальный интерес ко всему западному, и «европеизация» китайского языка лишь усугубила этот процесс. Однако «европейский» стиль был настолько чужд китайскому языку, что его преобладание не могло не быть кратковременным. «Европеизация» особенно отрицательно сказалась на переводах иностранных книг, которые изобиловали нелепостями и были непонятны среднему китайскому читателю. В этом виноваты переводчики, недостаточно владевшие иностранными языками. Они были не в состоянии понять всю фразу в целом, и потому их переводы были подстрочниками. Так, «Notre Dame de Paris» перевели на китайский как «Моя парижская жена». Если же перевести на китайский язык английскую фразу, включающую придаточное предложение (в китайском языке придаточных нет), то сначала в переводе появится длиннющий ряд определений и лишь в самом конце — главное слово предложения, к которому относятся эти определения. Некоторые же изменения явно прогрессивны, например введение более свободного порядка слов в предложении. Прежде нельзя было поставить слово «если» после подлежащего («я не пойду, если будет дождь»), а теперь так писать можно. От этого проза стала более гибкой и свободной. У китайской прозы великое будущее. Она в скором времени сможет соперничать по выразительности и красоте с прозой на любом языке. Лучшие образцы английской прозы потому отличаются изысканным стилем, что разумно сочетают конкретную и образную лексику повседневного английского языка со словами-терминами и словами, заимствованными из латинской традиции и романских языков. Раз для письменного английского языка обычны такие выражения, как «нюх на новости», «хитросплетения знаний», «течения в языке», «ехать на приливной волне успеха» и «флирт Ллойд Джорджа с консервативной партией», значит, литературный английский язык останется эффективным средством выражения мыслей и общения. Устаревшие литературные стандарты, для которых неприемлемы слова «нюх», «хитросплетения», «течения», «прилив», «флирт», консервируют в языке слова и выражения «высокая оценка», «аккумуляция», «тенденция» и «движение вперед». В результате язык сразу теряет выразительность. В китайском языке достаточно богатый запас лексики, обозначающей и абстрактные и конкретные понятия. Основной словарный запас китайского языка полностью конкретен — как слова англосаксонского происхождения в английском языке. Лексическое наследие классической литературы отличается утонченной стилистикой и смысловым богатством. Его роль соответствует роли английской лексики, заимствованной из латыни и старофранцузского языка. Если литераторы мастерски владеют обоими элементами языка, то может появиться новая китайская проза, проза огромной выразительности и красоты.Поэзия
Справедливо будет сказать, что поэзия проникла в ткань нашей жизни значительно глубже, чем на Западе. При этом в Китае поэзию не считают красивой безделушкой, которой можно восхищаться, а можно относиться к ней безразлично. Все китайские ученые — это поэты, или они выдают себя за поэтов. Обычно более 50% избранных произведений ученого составляет поэзия. Со времен династии Тан программа государственных экзаменов на ученую степень для проверки литературных способностей кандидата всегда включала сочинение стихов. Родители, выдавая замуж свою талантливую дочь (а иногда и сама девушка) часто выбирали зятя, умевшего написать несколько строк действительно хороших стихов. Даже узники нередко возвращали себе свободу или добивались послаблений, написав два-три стихотворения, которые нравились представителям власти. Поэзия считалась вершиной литературы, самым надежным способом проверки литературных способностей человека. Китайская живопись и поэзия тесно связаны, они близки друг к другу, хотя и по духу, и по технике не идентичны. Как мне кажется, поэзия в Китае выполняет функции религии, поскольку религия предполагает очищение человеческой души, создает атмосферу загадочности, воспевает красоту мироздания, внушает нежность и сострадание к себе подобным и ко всему живому. Религия не может быть и не должна быть ничем другим, кроме комплекса вдохновения и живого чувства. Китайцы не нашли такого вдохновения и живых эмоций в своих религиях, которые являются лишь красивыми заплатами на мрачном одеянии их жизни. Притом отправление культа, как правило, связано с болезнью и смертью. Однако китайцы нашли вдохновение и живые эмоции в поэзии. Поэзия воспитала у китайцев определенные представления о жизни, она пронизала все поры общества, научила китайцев умению сострадать, с наслаждением любоваться природой, научила их воспринимать жизнь с позиции художника. Благодаря поистине трогательному отношению к природе поэзия нередко залечивала душевные раны. Она научила находить радость в простой и скромной жизни, сберегла светлые идеалы китайской цивилизации. Иногда она обращалась к сердечным переживаниям, давала выход высоким чувствам, несмотря на всю пошлость и скуку повседневности. Иногда поэзия проникнута чувствами печали, покорности судьбе и самоограничения. Тем самым она очищала души людей, сублимируя их горести средствами искусства. Поэзия научила китайцев прислушиваться к шуму падающих на листья банана капель дождя, наслаждаться зрелищем струящегося из труб деревенских домов дыма, который поднимается к примостившимся у гор вечерним облакам и постепенно сливается с ними. Она научила китайцев нежно ласкать взглядом белые лилии, расцветшие близ деревенской тропинки. Благодаря поэзии кукование кукушки порождает у путника страстное желание увидеть мать под родным кровом. Поэзия научила людей жалеть девушек, собирающих чайный лист и листья тутовника, жалеть отшельников и женщин, покинутых любимыми, жалеть матерей, чьи сыновья служат в войске далеко от дома, жалеть весь простой народ, страдающий от войн. Самое важное — поэзия научила людей пантеистическому единению с природой, научила их, просыпаясь, радоваться весне, меланхолически дремать под стрекотанье цикад, всей душой ощущая уход лета, грустить вместе с падающими листьями осенью и искать «поэтические строки на снегу» зимой. Я считаю, что без поэзии — поэзии жизненных привычек и поэзии слов — китайцы не дожили бы до сегодняшнего дня. Поэзия не случайно заняла такое важное место в жизни китайцев. Их художественный и литературный талант позволяет мыслить конкретными эмоциональными, ярко окрашенными образами. Мастерское владение сжатым слогом, поэтическими намеками, аллюзиями, реминисценциями, умение полностью сосредоточиться на образе — все это не годится для создания прозы, обремененной каноническими ограничениями, однако позволяет писать стихи «на одном дыхании». Как говорил Б. Рассел, «в искусстве китайцы стремятся к возвышенному, а в жизни руководствуются здравым смыслом». Поэтому вполне естественно превосходство китайцев в поэзии. Китайская поэзия утонченная. Стихи никогда не бывают длинными или слишком энергичными. Ее формы идеальны для создания сентиментальных жемчужин, для изображения в нескольких строках волшебного пейзажа. Красота ее ритмики исполнена жизненной силы, ее чарующие рифмы придают блеск стиху. Господствующее направление китайской мысли делает поэзию высшим и самым почитаемым из литературных жанров. В Китае делали акцент на воспитание широко образованного человека, а китайские научные исследования подчеркивали единство различных областей знания. Таких весьма специальных наук, как археология, очень мало, поэтому китайские археологи, не став учеными сухарями, проявляют интерес и к семье, и к грушам в своем саду. Поэзия как раз является таким видом творчества, которое пробуждает и развивает талант универсального обобщения. Другими словами, она требует от человека способности видеть жизнь как нечто целое. И если китайцы слабы в анализе, то они сильны в синтезе. Кроме того, поэзия в основном это мысль, украшенная эмоциями, а китайцы всегда мыслили с помощью эмоций и редко обращались к рассудочному анализу. И не случайно китайцы рассматривают живот как хранилище всех знаний и наук, о чем свидетельствуют такие выражения, как «полный живот эссе», «полный живот учености». Ныне европейские психологи доказали, что брюшная полость — это место пребывания наших эмоций. Поскольку нет людей, которые могли бы мыслить, полностью исключив эмоции, мы склонны верить, что люди думают, используя одновременно и брюшную полость, и голову. Чем более эмоционален человек в своих размышлениях, тем большую ответственность несут за это его брюшная полость и кишечник. А. Дункан говорила, что мысль женщины возникает в брюшной полости и потом постепенно движется вверх, а у мужчины мысль возникает в голове и затем постепенно опускается. По-моему, у китайцев происходит именно так. Это согласуется с гипотезой автора о «женской» модели мышления китайцев. Когда по-английски нужно сказать, что человек обдумывает написанное, используется выражение «рыться в мозгах», а по-китайски для выражения той же мысли говорят «рыться в сухих кишках». Поэт Су Дунпо однажды после обеда спросил своих трех любимых наложниц, что сейчас у него в животе. Самая умная из них, Чао Юнь, ответила, что у него «полный живот неуместных мыслей». Китайцы пишут хорошие стихи, потому что думают кишками. Между китайским языком и поэзией также существует определенная связь. Поэзии необходимы свежесть, живость и лаконизм, а китайский язык как раз таким и является: свежим, живым и лаконичным. Поэзии необходимы намеки, и китайский язык полон фразеологизмов, которые говорят больше, чем значат сами слова. Поэзии необходимы конкретные образы, и китайский язык переполнен словами-образами. Наконец, в китайском языке есть четыре отчетливых тона и практически нет конечных согласных. В результате при чтении сохраняется певучесть, чего нельзя достигнуть в языках нетональных. Китайская поэзия основана на равновесии качества тонов так же, как английская поэзия основана на ударениях. Четыре китайских тона делятся на две группы. Мягкие тоны (пин) долгие и теоретически ровные; другая группа — твердые тоны (цзэ), это восходящий, нисходящий и входящий тоны. Слоги, произносимые под последними тонами, некогда оканчивались согласными p, t, k, которых нет в современном китайском языке. Китайское ухо натренировано на восприятии ритма и чередования мягких и твердых тонов. Тональный ритм есть и в хорошей прозе, именно поэтому китайская проза певуча. Любой, имеющий уши, легко ощутит тональный ритм в прозе Дж. Раскина и У. Пэйтера. Сравните слова, оканчивающиеся на l, m, n, ng, и слова, оканчивающиеся на p, t, k в произведениях Пэйтера, и вы обнаружите этот тональный ритм. В классической танской поэзии чередование тонов довольно сложное, об этом свидетельствует следующая ниже нормативная схема (« » обозначает мягкий тон, а «
» обозначает мягкий тон, а « » — твердый тон). При чтении нужно пропевать «
» — твердый тон). При чтении нужно пропевать « » и проговаривать «
» и проговаривать « », чтобы прочувствовать эффект контрастности:
», чтобы прочувствовать эффект контрастности:
 В каждой строке после четырех слогов следует цезура. Каждые две строки образуют куплет. Два средних куплета должны быть полностью антитетичны, т.е. противопоставлены по тону и значению. Проще понять схему таких чередований, представив себе диалог, в котором каждый произносит по строчке. Будем считать первые четыре слога и последние три самостоятельными единицами и подставим вместо них два английских слова. В результате получим следующую модель:
В каждой строке после четырех слогов следует цезура. Каждые две строки образуют куплет. Два средних куплета должны быть полностью антитетичны, т.е. противопоставлены по тону и значению. Проще понять схему таких чередований, представив себе диалог, в котором каждый произносит по строчке. Будем считать первые четыре слога и последние три самостоятельными единицами и подставим вместо них два английских слова. В результате получим следующую модель:
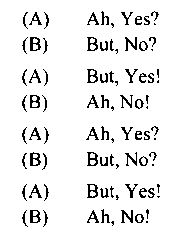 Обратите внимание на то, что второй собеседник всегда старается опровергнуть утверждение первого, тогда как первый всегда пытается подхватить нить мыслей второго, повторяя первую морфему, сказанную вторым (все эти ah и but), и варьируя вторую. Восклицательные и вопросительные знаки выражают лишь различные «yes» и «no». Обратите внимание на то, что, за исключением второй морфемы в первом куплете, все морфемы противопоставлены по тонам.
Однако техника и дух китайской поэзии представляют для нас еще больший интерес, чем ее просодия. Но какая же техника позволяет ей открыть красоту волшебного мира фантазии? Каким образом китайская поэзия, накинув покрывало очарования на обычный пейзаж, создав волшебную атмосферу, лишь несколькими словами рисует столь впечатляющую картину и передает настроение поэта? Как поэт отобрал лексический материал и привнес в него свою душу, придав этому материалу весь блеск живой силы ритмики? Каким образом слились воедино китайская поэзия и китайская живопись? Почему китайские поэты являются также художниками, а художники — поэтами?
Удивительно, что китайская поэзия обладает пластическим воображением и в этом сходна с техникой рисунка. Это становится наиболее очевидным при трактовке проблемы перспективы. Здесь аналогия между китайской поэзией и живописью почти полная. Давайте начнем с перспективы. Почему, когда мы читаем строки Ли Бо (701—762):
Обратите внимание на то, что второй собеседник всегда старается опровергнуть утверждение первого, тогда как первый всегда пытается подхватить нить мыслей второго, повторяя первую морфему, сказанную вторым (все эти ah и but), и варьируя вторую. Восклицательные и вопросительные знаки выражают лишь различные «yes» и «no». Обратите внимание на то, что, за исключением второй морфемы в первом куплете, все морфемы противопоставлены по тонам.
Однако техника и дух китайской поэзии представляют для нас еще больший интерес, чем ее просодия. Но какая же техника позволяет ей открыть красоту волшебного мира фантазии? Каким образом китайская поэзия, накинув покрывало очарования на обычный пейзаж, создав волшебную атмосферу, лишь несколькими словами рисует столь впечатляющую картину и передает настроение поэта? Как поэт отобрал лексический материал и привнес в него свою душу, придав этому материалу весь блеск живой силы ритмики? Каким образом слились воедино китайская поэзия и китайская живопись? Почему китайские поэты являются также художниками, а художники — поэтами?
Удивительно, что китайская поэзия обладает пластическим воображением и в этом сходна с техникой рисунка. Это становится наиболее очевидным при трактовке проблемы перспективы. Здесь аналогия между китайской поэзией и живописью почти полная. Давайте начнем с перспективы. Почему, когда мы читаем строки Ли Бо (701—762):
Драма
Место китайской драмы — между традиционной китайской литературой и тем, что на Западе называют «литературой воображения». Как драмы, так и романы написаны на байхуа или на диалектах, и потому они меньше страдали от ограничений, налагаемых традиционными стандартами. Такая литература развивалась более свободно и получала пользу от этой свободы. В связи с тем, что язык китайской драмы преимущественно поэтический, эстеты ценят ее выше, чем роман, чуть ли не наравне с танской поэзией. Ученые-литераторы испытывали меньше стыда, когда становилось известно, что они сочиняют драму, а не романы. Авторам драм, как правило, не нужно было скрывать имена, как это делали сочинители романов. Мы увидим, каким образом «литература воображения» обретала все больше художественных достоинств, поговорим о ее важности и о том, как эта литература получила признание современников и каким образом она оказывала на людей большее влияние, чем традиционная литература. Особенности китайской драмы проявляются в ее композиции, оказавшей огромное влияние на зрительские массы. Китайская драма сочетает диалоги на байхуа, понятном простому народу, и песни, имеющие все признаки высокой поэзии. Таким образом, китайская драма совершенно непохожа, например, на обычную английскую драму. Песни здесь разделяются короткими интервалами, они важнее диалогов. Естественно, что в комедии диалогов больше, а в трагедии или в любовной драме чаще присутствует пение. В самом деле, с точки зрения китайских театралов, в театр идут, чтобы слушать пение, а не смотреть представление. По-видимому, перевод китайского слова си на английский язык как «drama» вводит в заблуждение, правильнее было бы говорить о китайской «опере». Только поняв, что китайское «си» есть форма оперы, можно по-настоящему понять причины ее притягательности для народных масс, понять ее уникальную композицию. Притягательность западной драмы, в особенности современной английской драмы, в большой степени основана на ее сюжете, тогда как западная опера достигает художественного эффекта благодаря голосу, эмоциям, декорациям, мизансценам. Форма выражения в драме — устная речь, а в опере — мелодия и пение. Зритель драматического спектакля стремится понять сюжет и получить удовольствие от конфликта между персонажами, неожиданного развития сюжета и талантливой игры актеров. Посетители же оперы готовы потратить вечер ради не интеллектуального интереса, а эстетического наслаждения музыкой, прекрасными голосами, красочными декорациями. Вот почему большинство драматических спектаклей не стоят того, чтобы их смотреть второй раз, однако оперу можно слушать хоть 50 раз, испытывая одинаковое удовольствие. Именно так обстоит дело с китайским театром. В репертуаре пекинской оперы не менее сотни опусов, они всё идут и идут, не теряя популярности. Зрители аплодируют и кричат «хао!» после блистательных, сложных по исполнению музыкальных пассажей. Таким образом, музыка стала душой китайской драмы, а само действо — лишь сопутствующим фактором, который для певца китайской оперы значит то же, что и для западной оперной примадонны. Таким образом, китайский зритель оценивает мастерство актера как в пении, так и в драматическом действе. Однако это «действо» часто представляет собой лишь чистой воды технику движений, условно выражающих те или иные чувства. На Западе нас, китайцев, шокирует колышущаяся грудь примадонны, а на Востоке европейцам кажется странным и смешным, когда актриса утирает длинными рукавами несуществующие слезы. Если у актера есть шарм и приятный голос, то такая незначительная деталь актерской техники вполне достаточна, чтобы понравиться зрителю. Если актер играет хорошо, то каждый его жест может считаться красивым, каждая поза может стать совершенной сценической картиной. В этом смысле высокая оценка американцами Мэй Ланьфана не должна казаться странной, хотя может возникнуть вопрос, насколько его пение является пением. Зрители восхищаются его красивыми позами и жестами, его грациозностью, бледными пальцами, длинными черными бровями, его женственной походкой, его кокетливым взглядом и всем комплексом его импровизированной сексуальной привлекательности, которая снискала расположение китайской аудитории и обусловила его огромную популярность. Когда такая привлекательность обусловлена талантом великого артиста, она становится универсальной, поскольку Мэй Ланьфан говорит на языке жестов, столь же интернациональном, как музыка и танец. Если говорить о сценической игре в современном смысле этого слова, то Мэй Ланьфану необходимо начать с азов и учиться у Нормы Ширер или Рут Чаттертон. Когда он изображает движение весла или взмахом хлыста изображает езду верхом, то это нисколько не отличается от игры в лошадки моей пятилетней дочери, которая скачет верхом на бамбуковой палочке. Если мы изучим структуру юаньской драмы и драмы последующих эпох, то обнаружим, что сюжет, как и в европейской опере, чаще всего играет второстепенную роль, а диалоги не имеют большого значения, центральное место принадлежит пению. На деле само представление часто состоит из череды известных оперных арий. Это похоже на музыкальные концерты на Западе. Публика знает сюжет наизусть и узнает персонажей больше по гриму и костюмам, чем по содержанию их диалогов. Сохранившиеся произведения известных драматургов прошлого свидетельствуют, что первоначально юаньская драма, за некоторыми исключениями, состояла из четырех актов. Арии исполнялись на определенные мелодии, которые были всем хорошо известны. Диалоги не имели значения, во многих сохранившихся изданиях их вообще нет, возможно, потому, что в то время диалоги были импровизированными. В так называемой «северной драме» арии каждого акта исполнял один актер, хотя остальные члены труппы принимали участие в диалогах и сценическом действе (возможно, это объяснялось нехваткой талантливых певцов). «Южной драме» не были присущи столь жесткие ограничения, и поэтому она располагала гораздо большими возможностями для развития. В итоге во времена династии Мин в ее рамках возник жанр чуаньци. К тому времени длительность спектакля (подобно числу явлений в английских пьесах) уже не ограничивалась четырьмя актами. В них возможны были вставки песен на различные напевы, несколько актеров могли петь поочередно или в унисон в одном и том же акте, сами мелодии тоже отличались от мелодий «северной драмы». Разрешалась модуляция в пределах одного слога, допускали смену рифм. Такие драмы, как «Сисян цзи» («Западный флигель»), «Ханьгун цю» («Осень в Ханьском дворце»), в которой рассказывается история высылки императорской наложницы Чжао Цзюнь, представляют «северную драму». «Южную драму» могут представлять «Байюэ тин» («Лунный павильон») и «Пипа цзи» («История лютни»). Постановки «Западного флигеля» — а пьеса состоит из 20 актов — включали пять представлений по четыре акта в каждом. Существует еще одно различие между китайской и европейской оперой. На Западе посещение оперы — это привилегия высших классов. Люди богатые, с положением шли в театр, чтобы покрасоваться в обществе или просто пообщаться друг с другом, а не для истинного наслаждения музыкой. Китайская опера является духовной пищей трудовых масс. Она проникла в души людей глубже, чем любое другое искусство. Представьте страну, где простые люди знают наизусть арии из «Тангейзера» и «Тристана и Изольды» Вагнера или «Пинафора» У. Салливена и с удовольствием распевают их в свободное время на улицах и в переулках. Тогда перед вашим мысленным взором возникнет живая взаимосвязь китайской оперы и души народа. В Китае существует мания, которая неизвестна на Западе, именуемая сим, или «оперомания». Можно нередко увидеть на улицах старого Пекина такого маньяка из низов общества: волосы растрепаны, одет в лохмотья, который громко распевает арии из оперы «Кунчэн цзи» («Стратагема с пустым городом»), изображая великого полководца древности Чжугэ Ляна. Посещая китайские театры, иностранцы часто бывают шокированы ужасным грохотом, который издают барабаны и гонги в операх на военную тему, и пронзительным фальцетом, которым поют актеры-мужчины, однако китайцы, очевидно, жить без этого не могут. Возможно, это объясняется устойчивостью нервной системы китайцев, хотя такому толкованию можно противопоставить контраргумент: джазовая музыка, исполняемая на саксофоне и других музыкальных инструментах, столь любимая американцами, вконец расстроит нервную систему китайских шэньши. Возможно, это вопрос адаптации, однако назначение грохочущих барабанов и гонгов и пения фальцетом может быть понято лишь в условиях китайского театра. В старом Китае сравнительно приличные театральные подмостки сооружались в большом дворе точно так же, как во времена королевы Елизаветы Великой. Однако обычно речь шла о временных сооружениях под открытым небом. Иногда подмостки строили прямо посреди улицы и после представления разбирали. В таком театре под открытым небом актеры не могли не петь громко и пронзительно, перекрикивая зазывал, дребезжание специальных металлических «камертонов» уличных парикмахеров, маленьких гонгов продавцов сладостей, крики мужчин, женщин и детей, а также лай собак. В таком шуме и гаме можно было расслышать только самый пронзительный фальцет, любой может в этом убедиться лично. Барабаны и гонги использовались для привлечения внимания прохожих. Обычно перед началом представления сначала били в гонги и барабаны, звуки которых были слышны за милю, и это давало такой же эффект, как реклама кинофильма на улице. Ныне, когда представление идет в театральном зале, звук действительно ужасно громкий, но китайцы, не знаю как, к нему привыкли точно так же, как американцы приспособились к джазовой музыке. Им нравится такой шум и тот своеобразный удар по нервам, который наносит этот шум. Время все исправит, и китайские театральные представления в современных театрах в конце концов будут менее шумными и более «цивилизованными». С чисто литературной точки зрения произведения китайской драмы включают такие поэтические произведения, которые по силе и красоте намного превосходят танскую лирику. Я уверен, что, несмотря на общепризнанные достоинства танской поэзии, величайшие поэтические произведения следует искать в театре и среди своеобразных исполняемых во время действа песен сяодяо. Мысль и стиль классической поэзии соответствует более или менее традиционным образцам и отличается изысканной техникой, однако ей недостает возвышенного, сильного, богатого и красочного содержания. Чувства, которые испытывает человек, переходя от классической поэзии к драме (уже отмечалось, что китайская драма в основном есть собрание стихотворений), напоминают чувства человека, который сначала любуется цветком в вазе, а затем гуляет по цветущему саду, восхищаясь свежестью, богатством и многообразием его живых красок. Произведения китайской лирики изящны, но, как правило, довольно коротки и лишены силы выражения. Лаконизм, предписанный таким стихам традицией, ограничивает их строго определенным числом иероглифов. В драме размеры и стиль поэзии иные. Используемую в ней лексику придворные критики считали вульгарной. Наличие исполнителей сделало необходимой сценическую площадку, а это, в свою очередь, потребовало большей литературной выразительности, притом за пределами обычных тем лирики. Человеческие чувства в драме столь сильны, что классических четверостиший и восьмистиший недостаточно, чтобы в полной мере их выразить. Введение в стихи элементов разговорного языка разрушило рамки вэньяня, на сцене появились свобода, естественность и энергия, которые раньше трудно было себе даже представить. Язык драмы был заимствован прямо из повседневной жизни, автор лишь придал ему некоторое изящество. Автора не стесняли традиционные стереотипы, он подбирал рифму и размер, руководствуясь собственным художественным чутьем. Некоторые корифеи юаньской драмы использовали в стихах диалектизмы и просторечные формы, достигнув несравненной красоты. Это трудно перевести на современный китайский или на любой иностранный язык. Приведем пример:Роман
В прежние времена китайские писатели боялись огласки — а вдруг люди узнают, что они опустились настолько, что пишут романы. Возьмем для примера сравнительно позднее произведение — «Е соу пу янь», написанное в XVIII в. Ся Эрмином. Он писал весьма оригинальные эссе и прекрасные стихи, создал немало путевых заметок и биографических набросков, как и другие ортодоксальные литераторы, чьи произведения включены в сборник «Хуаньюй сюаньцзи». Осенью 1890 г. его почтительный правнук, желая увековечить славу рода Ся Эрмина, переиздал «Хуаньюй сюаньцзи». Однако он не посмел, а может быть, не захотел, но в любом случае не включил в сборник роман, без сомнения, лучшую работу прадеда. Только в 1917 г. Ху Ши окончательно внес ясность и установил, что, например, автором «Сна в красном тереме» является Цао Сюэцинь, один из великих, если не самый великий мастер китайской прозы на байхуа. Однако мы по-прежнему не знаем, кто автор романа «Цветы сливы в золотой вазе», и сомневаемся в том, кто написал роман «Речные заводи» — Ши Найань или Ло Гуаньчжун. Характерны начало и конец романа «Сон в красном тереме». Даосский монах обнаруживает высеченный на огромном камне длинный текст. Гигантский камень, в 120 футов в высоту и 200 футов в ширину, лежит на одном месте с тех пор, как богиня Нюйва 36 500 камнями залатала огромную дыру в небе, возникшую при ужасной битве гигантов. Монах переписал эту историю, и, когда она попала в руки Цао Сюэциня, тот работал над ней в течение 10 лет, пять раз перечитывал рукопись, разделил ее на главы и сочинил к ней четверостишие:Влияние западной литературы
Когда встречаются две культуры, то вполне естественно и логично ожидать, что более богатая должна отдавать, а менее богатая — принимать. На деле, и в это порой трудно поверить, отдавать приятнее, чем принимать. Китай за последние 30 лет явно много прибавил в литературе и научной мысли, что целиком следует отнести на счет влияния Запада. Признание содержания западной литературы более богатым, признание ее превосходства в целом стало неким шоком для «литературной нации», каковой себя всегда считал Китай. Примерно 50 лет назад на китайцев производили глубокое впечатление только европейские военные корабли. Примерно 30 лет назад их впечатляла западная политическая система; 20 лет назад они обнаружили, что на Западе также есть хорошая литература, а ныне многие стали понимать, что на Западе более развитое общественное сознание, более цивилизованное поведение людей в обществе. Нашей древней и гордой стране сей факт довольно трудно принять, но Китай достаточно велик, чтобы все же его признать. Как бы то ни было, перемены в литературе наступили. В области стиля и содержания изменения, происшедшие в китайской литературе, намного превосходят любые изменения, которые имели в ней место в течение 2000 лет. Под иностранным влиянием китайский разговорный язык стал новым литературным средством выражения; эмансипации языка способствовали люди, заразившиеся западным духом. Значительное увеличение объема лексики обусловлено появлением огромного числа новых понятий — научных, философских, литературных, художественных. Эти понятия оказались более совершенными и точными, чем понятия, существовавшие до сих пор и соответствовавшие реалиям прошлого. Увеличение числа новых понятий привело к изменению стиля, модернизированного настолько, что старые литераторы едва в состоянии следовать новым формам и совсем бы растерялись, попроси их написать журнальную статью, приемлемую и по стилю, и по содержанию. Появились новые литературные формы, такие как верлибр, поэмы в прозе, короткий рассказ и современная драма, да и техника написания романов значительно изменилась. Важнее то, что наконец отброшены старые стандарты критики, в целом близкие французской неоклассической школе, которая в течение полувека не позволяла наслаждаться Шекспиром. Их заменили более новые, содержательные и свободные литературные понятия, приведшие к гармонии литературу и жизнь, сделавшие наше мышление более точным, а жизнь более открытой. Конечно, гораздо приятнее отдавать, чем брать. Ведь восприятие изменений извне привело и к хаосу. Прогресс интересен и в то же время болезнен. Более того, прогресс всегда уродлив. Вместе с глубоким интеллектуальным переворотом, который происходит в сознании молодого Китая, мы потеряли точку опоры в мышлении и утратили наш неунывающий здравый смысл. Согласование нового и старого — задача, которая не по силам обычному человеку, а мышление современного китайца крайне незрелое, не отличается глубиной анализа, настроения его переменчивы. Осознать старое трудно, понять новое тоже непросто. Немного романтизма, чуть вольнодумства, отсутствие способности критически мыслить и твердости духа, сильное раздражение по отношению ко всему старому и китайскому, крайняя доверчивость к меняющимся из года в год «новым моделям», поиски самых модных поэтов в Югославии, новых прозаиков в Болгарии, чрезмерная чувствительность к тому, что иностранцы рассказывают Западу о Китае, — вот что характеризует современную китайскую литературу. По-видимому, все это свидетельствует о неуверенности в себе, о приверженности архаичному рационализму XVIII в., о сменяющих друг друга приступах меланхолии и сверхэнтузиазма, о погоне — из года в год — за новыми лозунгами, подобно собаке, кусающей себя за хвост. Мы утратили способность спокойно воспринимать жизнь во всей ее полноте. Сегодня литературу затянули политические облака, и писатели разделились на два больших лагеря: одни предлагают фашизм, другие коммунизм как панацею от социальных болезней. Способности рассуждать по-настоящему независимо стало не намного больше, чем во времена старого Китая. И хотя внешне мысль свободна, прежний инквизиторский психоз сохраняется под покровом новых понятий. В конце концов, все китайцы любят свободу, как они любят иностранную кокотку, к которой не испытывают настоящих чувств. Все это — уродливые особенности переходного периода, которые со временем исчезнут, но это произойдет, когда Китай станет страной с совершенной политической системой, а в душах людей затянутся старые раны. Все эти изменения возникли благодаря влиянию европейской литературы. Конечно, это влияние было не только со стороны литературы, так как Китай за один раз собрал урожай многих достижений западных наук, включая философию, психологию, технологию, экономику. Ныне в Китае знакомы даже с иностранными детскими играми, песнями и танцами. В ходе дискуссий вокруг литературной революции мы обобщили позитивную роль, которую сыграла зарубежная культура в поступательном движении китайской словесности. Это влияние непосредственно исходит от переводов на китайский язык произведений европейской литературы. Объем и содержание этих переводов подчеркивают степень и типы этого влияния. В «Ежегоднике публикаций за 1934 г.» есть библиографическая справка о переводах стихов, коротких рассказов и романов из 26 стран за последние 23 года. Список этот неполный, но может сослужить хорошую службу. Порядок стран зависит от числа переведенных авторов: Англия — 47, Франция — 38, Россия — 36, Германия — 30, Япония— 30, Соединенные Штаты — 18, Италия — 7, Норвегия — 6, Польша — 5, Испания — 4, Венгрия — 3, Греция — 3, Палестина — 2, Швейцария, Бельгия, Финляндия, Чехословакия, Австрия, Латвия, Болгария, Югославия, Сирия, Персия, Индия и Таиланд представлены каждая одним автором. Обзор переводов английских авторов показывает, что это Джордж Эллиот, Филдинг, Дефо (включая «Молль Флендерс»), Кингсли, Свифт, Голдсмит, сестры Бронте («Грозовой перевал» и «Виллетт»), В. Скотт, Дж. Конрад, Гейтскелл и Диккенс («Лавка древностей», «Дэвид Копперфилд», «Оливер Твист», «Домби и сын», «Николас Никклби», «История двух городов», «Рождественские колокола», «Трудные времена»). Хаггард, благодаря переводам Лу Синя, получил популярность еще большую, чем в Англии. Если говорить о поэтах, переведены Спенсер, Браунинг, Бернс, Байрон, Шелли, Уордсуорт, Даусон. Пять пьес Шекспира («Венецианский купец», «Как вам это понравится?», «Двенадцатая ночь», «Генрих VI», «Ромео и Джульетта») переведены разными переводчиками. Этот перечень свидетельствует, что выбор книг для перевода нередко был случайным. Драма представлена Голсуорси (семь пьес), Пинеро, Джонсом, Шериданом («Школа злословия») и Шоу («Профессия миссис Уоррен», «Дома вдовца», «Сердцеед», «Оружие и человек», «Человек и Сверхчеловек», «Пигмалион»). Ирландскую поэзию представляют Синг и Дансэни. Переведены эссеисты — Лэмб, Беннет и Бирбом. Благосклонное внимание привлекали Барри и Уайльд. Есть два перевода «Веера леди Уиндермир» и три перевода «Саломеи». Переведены также «Портрет Дориана Грея» и «De Profundis». Уэллс известен по переводам романов «Машина времени», «Мистер Бритлинг видит насквозь», «Первый человек на Луне» и особенно «Краткого очерка всемирной истории». Т. Харди известен только благодаря своим коротким рассказам и поэмам, хотя его имя хорошо знакомо. К. Мэнсфилд весьма известна в переводе Сюй Чжимо. Этот список ограничен переводами отдельных изданий в виде книг и, конечно, не включает писателей-философов, например Рассела, чье влияние в Китае очень велико. Среди французских писателей переведены Бальзак, Мольер, Мопассан (все сочинения), А. Франс (девять произведений; два перевода «Тайс»), А. Жид, Вольтер («Кандид»), Руссо («Исповедь» и «Эмиль»), Золя (представлен плохо), Готье, Флобер («Госпожа Бовари», три перевода «Саламбо» и «Простое сердце»). Книги Дюма-отца и Дюма-сына давно популярны в Китае, особенно «Дама с камелиями». Довольно хорошо представлен Гюго: «Труженики моря», «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери», «Девяносто третий год», «Рюи Блаз», «Эрнани», «Лукреция Борджиа». Ранние романтики представлены Шатобрианом («Атала» и «Рене») и Бернарден де Сен-Пьером. «Сафо» Доде и «Манон Леско» аббата Прево, конечно же, являются любимыми произведениями. Хорошо известен Бодлер, имеет поклонников и «Сирано» Ростана. Переведены два романа Барбюса — «Огонь» и «Ясность». Даже длиннющий «Жан-Кристоф» Роллана теперь доступен в Китае, наряду с его «Монтеспаном», «Пьер и Люс» и «Играми любви и смерти». Классическая немецкая литература, конечно же, представлена Гете и Шиллером. Среди переводов Гете — «Фауст», «Вертер» (два перевода), «Эгмонт», «Клавиго», «Стелла» и часть «Годов учения Вильгельма Мейстера». У Шиллера переведены «Орлеанская дева», «Вильгельм Телль», «Валленштейн» и «Разбойники». Представлены также Лессинг («Минна фон Барнхельм»), Фрейтаг («Журналисты»), Гейне («Книга песен», «Избранное» и «Путешествие по Гарцу»). Особенно популярны переводы де ла Мотт-Фуке («Ундина») и Шторма («Иммензее», три перевода). Гауптман известен по «Ткачам», «Красному петуху», «Бобровой шубе», «Одиноким» и его недавно вышедшему в свет «Еретику из Соаны», а название его романа «Потонувший колокол» было одно время названием китайского журнала. Среди других заметны переводы Зудермана («Фрау Зорге»), а также более современных произведений — Ведекинда («Весна возвращается на землю») и Франка («Карл и Анна»). Помимо переводов Готорна, Бичер-Стоу, Ирвинга, Марка Твена и Джека Лондона интерес к американской литературе концентрируется также вокруг более современных произведений. Хорошо известен Э. Синклер, чья популярность пришла вместе с наплывом русской коммунистической литературы. Переведены 13 его произведений; среди книг данного направления можно также упомянуть короткие рассказы и роман Голда «Евреи без денег». С. Льюис представлен только «Главной улицей», а Драйзер — томом коротких рассказов, тем не менее оба они хорошо известны в Китае. Переведены две пьесы О’Нила («За горизонтом» и «Луна на Карибах»). Роман П. Бак «Земля» переведен на китайский язык дважды, переведены также ее «Сыновья» и короткие рассказы. Наплыв переводов русской литературы произошел примерно в 1927 г., одновременно с учреждением нанкинского Национального правительства и подавлением коммунистического восстания. Так же как якобинская литература в Англии развивалась одновременно с поражением политического якобинства, большевизм в литературе наводнил Китай после победы национальной революции. Огромный энтузиазм молодежи дал толчок национальной революции 1926—1927 гг., сделав ее реальностью. Однако подавление молодежного движения гоминьдановским правительством остудило этот энтузиазм, лишив молодежь возможности действовать. Недовольство ушло вглубь, и получилось то, что есть сейчас. Итак, наступило время отлива. Раздался звук горна, воспевающего «революционную литературу» (синоним «пролетарской литературы»), и он немедленно нашел отклик в массах. Лидеры литературного ренессанса 1917 г. за одну ночь стали старомодными, и на них навесили ярлык «стариков». Молодому Китаю они были не по душе, против «стариков» восстали. Наиболее умные лидеры научились молчать и начали коллекционировать антиквариат. Ху Ши продолжал метать громы и молнии, но читающая публика встречала его слова всеобщим безразличием, она желала чего-то намного более радикального. Чжоу Цзожэнь, Юй Дафу и писатели школы «Нити слов» были слишком большими индивидуалистами, чтобы присоединиться к массам. Лу Синь целый год пытался идти против течения, но и он изменил свою позицию. Менее чем за два года (1928—1929), пока правительство не спохватилось, более ста произведений русской литературы, больших и малых, стремительно хлынули на книжный рынок. Это были произведения Луначарского, Лебединского, Михельса (автора книги о первом беспосадочном перелете Москва-Пекин в 1927 г. — Примеч. ред.), Фадеева, Гладкова, Коллонтай, Шишкова, П. Романова, Пильняка, Огнева, Сосновского, Шагинян, Яковлева, Алексея Толстого, Демидова, Оренбурга, Аросева, Бабеля, Касаткина, Иванова, Лутса, Санникова, Сейфулиной, Бахметьева, Федина, Серафимовича, Пришвина, В. Семенова, Шолохова, Зощенко, Третьякова, Соболя, Колосова, Фурманова и Фингер. Здесь мы, конечно, не упомянули «великих русских» дореволюционной эпохи, таких как Пушкин, Чехов, Лев Толстой и Тургенев, которые и ранее были хорошо известны читателю. Были переведены все произведения Чехова; Л. Толстой был известен благодаря переводам 20 его произведений, включая «Войну и мир» (роман переведен частично), «Анну Каренину» и «Воскресение». Любимым автором является Достоевский (переведены семь его произведений, включая «Преступление и наказание»), давно известен Тургенев (переведено 21 произведение). Конечно, популярен Горький, перешагнувший рубеж двух эпох. Благодаря влиянию Лу Синя, популярны В. Ярошенко, Л. Андреев и Арцыбашев. Свидетельством лихорадочного влечения ко всему русскому является странный факт: среди более ста изданий русских литераторов, вышедших в свет после национальной революции, 23 имеют два и более переводов, опубликованных практически одновременно разными издательствами, причем четыре произведения вышли одновременно в трех переводах. Среди весьма популярных произведений следовало бы упомянуть «Красную любовь» Коллонтай (два перевода; в оригинале «Любовь пчел трудовых». — Примеч. ред.), «Цемент» Гладкова (три перевода), «Дневник коммунистического школьника» Огнева (три перевода; в оригинале «Дневник Кости Рябцева», автор — М. Г. Розанов (1888—1938), псевдоним Н. Огнев. — Примеч. ред.), «Санина» Арцыбашева (три перевода), а также различные произведения Серафимовича и Пильняка, пьесы Шишкова, Иванова и критические работы Луначарского. Для молодого Китая съесть столько за один раз, пожалуй, трудно, не исключено несварение желудка. И ничего удивительного, что Готорн и А. Франс уже не в моде. Власти сейчас протирают глаза, пытаясь разглядеть, в чем, собственно, дело и как надо поступить. Что они, в конце концов, будут делать и каков будет результат, никто предугадать не может. Ввести цензуру легко, и в последнее время она начала действовать. Труднее обеспечить людям довольство окружающим, и этого можно достичь тремя путями. Первый путь: дать недовольным писателям хорошую работу. Иногда это дает эффект. Второй путь: запретить им говорить, что они недовольны. Это, конечно, будет глупо. Третий путь: изменить ситуацию так, чтобы народ действительно был доволен, но этого нельзя достичь только с помощью цензуры. Нация разделена на оптимистов и пессимистов, причем последних большинство. Пока не будет видно большого объема конструктивной работы, пока мысли не высказываются вполне откровенно, пока не проявляются способности к уравновешенному критическому мышлению, голые лозунги и призывы, бездействие и болтовня не создадут нового государства, ни коммунистического, ни фашистского. Старшее поколение китайцев хочет вернуть Китай на рельсы конфуцианства, ограничить социальную активность женщин, восстановить преклонение перед «целомудренными вдовами». Однако у нового поколения китайцев это вызовет лишь обратную реакцию. Но и непричесанные коммунистические идеалисты с томиком Карла Маркса в руках и русской папиросой во рту, постоянно кого-нибудь критикующие, тоже не спасут Китай от его бед. Мне кажется, литература в Китае по-прежнему некое послеобеденное развлечение для самих литераторов, и старых, и новых.Глава 8 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
Люди искусства
На мой взгляд, из всех сторон китайской цивилизации только китайское искусство в состоянии постоянно вносить вклад в мировую культуру. Я думаю, это не вызовет серьезных споров. Китайская наука в любом случае не может слишком много мнить о себе, хотя китайская традиционная медицина предоставляет обширное поле для исследований и открытий. Китайская философия также не может долго производить впечатление на Запад, потому что ее умеренность, самоограничение и пацифизм, физически обусловленные ослаблением телесной энергии, не подходят людям Запада с их пылким темпераментом, избыточной агрессивностью и кипучей энергией. По той же причине китайские общественные организации, связанные с религиозной жизнью, никогда не подойдут Западу. Конфуцианство слишком практично, даосизм чрезмерно бесстрастен, буддизм слишком пассивен для активного мировоззрения Запада. Те, кто каждый день вылетает в экспедиции на Северный полюс, покоряет стратосферу или бьет спортивные рекорды, никогда не станут хорошими буддистами. Однажды я видел европейских буддийских монахов, которые, разговаривая друг с другом очень громко и эмоционально, явно не способны были умерить свое возбуждение. Более того, один буддийский монах, бичуя Запад, призывал небесный пламень на всю Европу. Когда европейцы надевают буддийскую рясу и стараются казаться спокойными и бесстрастными, они выглядят просто смешными. Однако было бы несправедливо говорить о китайцах как о нации, не понимающей достоинств своего искусства. Есть глубоко укрытая ниша в китайской душе, которую можно увидеть только благодаря ее отражению в китайском искусстве. Так же как у Сирано де Бержерака, весьма тонкая чувствительность китайской души укрыта за бесстрастной внешностью. За совершенно ничего не выражающим лицом таится трепетная эмоциональность; за замкнутой благопристойной внешностью китайца резвится беззаботная душа бездельника. Эти грубые желтые пальцы создают радующие глаз гармоничные образы, миндалевидные глаза над высокими скулами светятся добродушием, они одушевлены мыслью о прекрасном. Китайское искусство проявляет тонкий вкус, изящество и понимание стиля и гармонии, которыми отличаются лучшие достижения человеческого гения — от Храма Неба до любимой книжниками бумаги для письма и других предметов прикладного искусства. Покой и гармония являются отличительными чертами китайского искусства, и исходят они из самой души китайского художника. Китайские мастера искусства мирно сосуществуют с природой, они свободны от оков общества и искушения деньгами, их душа витает высоко в горах, погружается в реки, сливаются с природой. И главное, они должны быть прямодушными и ни в коей мере не предаваться пагубным страстям, поскольку хороший художник — мы горячо в это верим — наверняка хороший человек. Он прежде всего должен «сдерживать сердце» или «расширять душу», путешествуя и созерцая. Такова серьезная школа, которую должны пройти китайские художники. Примеров можно привести множество. Вэнь Чжэньмин сказал: «Если мораль человека не высока, то тушь ему не повинуется». Китайский художник должен впитать душою все лучшее, что есть в человеческой культуре и духе природы. Один из величайших каллиграфов и художников Китая Дун Цичан (1555—1636) однажды сказал другому художнику: «Как можно стать патриархом живописи, не прочитав 10 тысяч книг, не пройдя 10 тысяч ли?» Когда китайские мастера искусств учатся рисовать, они не запираются в классе и не раздевают женщин, чтобы изучать строение скелета, и не копируют античные статуи, как это до сих пор делают в отсталых школах искусств на Западе. Китайские художники повсюду путешествуют, они восходят на знаменитые горы, например на гору Хуаншань в провинции Аньхой или гору Эмэй в провинции Сычуань. Люди искусства в Китае не случайно укрываются далеко в горах. Во-первых, художники должны накапливать впечатления, наблюдая разнообразные образы живой природы, включая насекомых, деревья, облака и водопады. Чтобы их нарисовать, сначала нужно полюбить их, установить с ними духовную связь, слиться с ними воедино. Художники должны видеть, как, словно в калейдоскопе, изменяются тени и краски у одного и того же дерева утром и вечером, солнечным днем и туманным утром. Они должны собственными глазами наблюдать, как облака в горах «плывут вокруг скал и окутывают деревья». Но для них важнее холодного и объективного наблюдения своеобразное духовное «крещение», принятое от самой природы. Вот как описывает подобное крещение одного художника Ли Жихуа (1565—1635):Хуан Цзяцзю часто целыми днями сидел в рощах бамбука, среди деревьев, кустарников, близ скал в горах; он казался затерянным в их окружении, и это озадачивало людей. Иногда он шел туда, где река впадала в море, чтобы посмотреть на потоки воды и волны, и оставался там, несмотря на ветер, дождь и завывание морских духов. Это работа Великого Рассеянного (имя художника), и вот почему она исполнена настроений и чувств, постоянно меняющихся, как сама природа.Во-вторых, китайские картины всегда пишут, находясь на вершине горы, особое внимание уделяется прорисовке горных пиков и удивительных по форме скал, в существование которых может поверить только тот, кто видел их собственными глазами. Отшельники в горах прежде всего заняты поисками красоты в природе. Китайский художник в Америке непременно должен отправиться к Большому Каньону в штате Аризона или в горы у городка Банф близ Лос-Анджелеса. Как и все любующиеся этими величественными произведениями самой природы, он неизбежно испытает духовный подъем и одновременно некую физическую сублимацию. Вся жизнь с высоты пяти тысяч футов предстанет перед ним под другим углом зрения, чем снизу. Люди, ездящие верхом, всегда говорят, что, оказавшись в седле, человек обретает иной взгляд на мир. Думаю, это действительно так. Такова конечная и самая важная цель путешествия. Широко и спокойно обозревая сбожественной высоты мир, художник сумеет перенести свое видение на полотно. Затем он с чистой душой возвращается к городской жизни и пытается передать то, что чувствовал, тем, кому меньше повезло. Темы его картин меняются, но обретенное в горах спокойствие духа остается. Когда художник чувствует, что этот дух утерян или растрачен, он снова отправляется в путешествие и снова получает крещение горным воздухом. Именно такое спокойное, гармоничное состояние души и любовь к горному воздуху (шаньлинь ци), окрашенные праздностью и чувством одиночества отшельника, характерны для разных видов китайского искусства. Его особенность — не торжество над природой, а гармония с нею.
Китайская каллиграфия
В основе всех проблем искусства — проблема ритма. Поэтому, чтобы понять китайское искусство, следует начать с происхождения китайского ритма и художественного вдохновения. Мы признаем, что ритм универсален и не является монополией китайцев, однако это не мешает отметить один важный побочный момент. Когда шел разговор об идеальной китайской женщине, автор указывал, что западные художники всегда ищут идеальный, самый совершенный ритм в формах женского тела и считают женщину источником вдохновения. А китайские искусствоведы и любители искусства обычно ощущают счастье, любуясь полетом стрекозы, лягушкой, кузнечиком, иззубренной скалой. Мне кажется, дух западного искусства более чувственный, более страстный, для него главное — выразить собственное «я» художника; дух же китайского искусства более сдержан, более строг и ближе к природе. Можно воспользоваться выражением Ницше, чтобы пояснить их различие. Китайское искусство аполлоническое, а западное — дионисийское. Такое огромное различие возможно только благодаря неодинаковому пониманию ритма и наслаждения им как таковым. Независимо от страны вопросы искусства суть вопросы искусства, и здесь нет никакого сомнения. Однако лишь в последнее время ритмика в западном искусстве стала играть определяющую роль. В Китае же она, несомненно, ее играла. Культ ритма берет начало в искусстве каллиграфии. Висящая на стене картина, на которой несколькими штрихами изображена скала, может радовать людей и днем, и ночью. Глядя на нее, человек погружается в глубокие размышления и испытывает необычайное наслаждение. Все это станет понятным европейцу, когда он поймет художественные основы каллиграфии. Изучение этого искусства сводится к изучению теории формы и ритма, и это говорит о важном месте каллиграфии в китайском искусстве. Мы можем даже сказать, что каллиграфия дала китайцам основы эстетики и благодаря каллиграфии китайцы усвоили основные понятия, связанные с линией и формой. Поэтому без понимания каллиграфии и порождаемого ею вдохновения нельзя говорить о китайском искусстве. Например, в китайской архитектуре, идет ли речь об арке, беседке или храме, повсюду гармония и красота форм связаны с каким-либо стилем каллиграфии. Таким образом, место китайской каллиграфии в истории мирового искусства действительно уникально. Благодаря использованию кисти, более тонкого и чувствительного инструмента, чем перо, каллиграфия заняла подобающее место в искусстве наравне с живописью. Китайцы в полной мере это поняли, поскольку считают живопись и каллиграфию родственными видами искусства, вместе называя их шу-хуа, «каллиграфией и живописью». Созданное таким образом понятие воспринимается как нечто единое. Если спросить, какое из них более любимо, то, вне сомнения, ответ будет — каллиграфия. Итак, каллиграфия — это искусство. Люди испытывают любовь, преданность и уважение к ее богатым традициям не менее, чем к традициям живописи. Критерии в каллиграфии столь же строги, как в живописи. Как и в других областях, высокое художественное мастерство каллиграфов недоступно людям заурядным. Великие китайские художники, например Дун Ци-чан, Чжао Мэнфу (1254—1322), были, как правило, и великими каллиграфами. Чжао Мэнфу, один из самых известных художников, говорил о своих картинах: «Скалы — в стиле письма фэйбо в письме (с пустыми линиями между строками), а деревья — в стиле чжуань (с относительно ровными и изогнутыми строками). Метод живописи основан на «восьми фундаментальных чертах» письма». Тот, кто это поймет, откроет секрет, что каллиграфия и живопись — это одно и то же. Я думаю, что именно в каллиграфии проявляются самые общие принципы ритма и композиции. Каллиграфия относится к живописи так же, как чистая математика относится к инженерии и астрономии. Наслаждаясь каллиграфией, совершенно не обращаешь внимания на значение иероглифов, восхищаясь лишь линиями и их сочетанием. Культивируя каллиграфию и наслаждаясь ею, китайцы обретают полную духовную свободу и целиком погружаются в чистую форму как таковую, независимую от содержания. Картина всегда передает изображение объекта, а хорошо написанный иероглиф передает лишь красоту самих линий и их сочетания. В этом совершенно свободном пространстве любая ритмика абсолютно выверена, каждая композиция доступна любованию. Китайская кисть способна передать любой ритм. А китайские иероглифы, хотя теоретически это квадраты, на практике дают бесконечное число самых удивительных композиционных вариаций, образованных из обычных черт. Все эти проблемы каждый каллиграф должен решать самостоятельно. Так, с помощью каллиграфии китайские ученые воспитывали способность воспринимать красоту, в частности мощь и гибкость иероглифических черт, их скрытую силу, удивительную хрупкость, мягкость, стремительность, изящество, удаль, шероховатость и непринужденность. Что же касается формы, то каллиграфия учит умению соблюдать пропорции, контрастность, равновесие, компактность, а иногда даже умению видеть красоту в некоей нечеткости линий. Так, искусство каллиграфии представило комплекс терминов эстетики, который можно считать основой китайского представления о красоте. В связи с тем что история этого искусства насчитывает около 2000 лет и поскольку каждый каллиграф пытается увековечить свое имя созданием нового ритма и композиции, может быть, только в каллиграфии мы столкнемся с высшим совершенством китайской художественной мысли. Некоторые эстетические критерии, например преклонение перед некоей неупорядоченностью готовой вот-вот распасться композиции, которая тем не менее остается в равновесии, удивляют европейцев своими искусными приемами, тем более что все такие приемы характерны и для других областей китайского искусства. Для Запада существенно, что каллиграфия стала не только эстетической основой китайского искусства, но и представительницей анимистических принципов, которые могут дать более плодотворные результаты при правильном их понимании и применении. Как уже отмечалось, китайские каллиграфы изучили каждый возможный ритм и форму, черпая вдохновение у природы, особенно у животных и растений — у ветки дикой сливы, у сухой виноградной лозы с несколькими оставшимися листочками, у леопарда в прыжке, у мощных лап тигра, у стремительного бега оленя, у мускулистого скакуна, у шкуры медведя, у стройного аиста, у шероховатой ветки сосны. Таким образом, нет ни одного природного ритма, который не был бы воспринят каллиграфами и, прямо или косвенно, не вдохновил бы создателя оригинального стиля. Если китайский книжник обнаружит красоту в чуть загнутом вверх сухом отростке виноградной лозы, в ее беззаботной грации и упругой силе и нескольких кое-где сохранившихся листиках, он выразит увиденное в формах каллиграфии. Если другой книжник увидит изогнутый ствол сосны с корявыми ветвями, которые демонстрируют удивительную стойкость и силу, он тоже постарается внести это в свой стиль каллиграфии. Мы, таким образом, получаем в каллиграфии стиль «сухой виноградной лозы» и стиль «ветки сосны». В прежние времена жил известный монах-каллиграф, который годами разрабатывал свой стиль, но безуспешно. Однажды на горной тропе он увидел схватившихся друг с другом двух змей; каждая напрягала все силы и вместе с тем оставалась гибкой и податливой. Все это его вдохновило, и он создал новый стиль — «сражающиеся змеи», отразив в нем напряжение и гибкость змеиного тела. Патриарх каллиграфии Ван Сичжи (321—379), говоря об этом искусстве, также использовал образы из мира природы:Каждая горизонтальная черта подобна облакам, выстроенным для сражения; каждый крюк похож на согнутый лук огромной мощи; каждая точка напоминает сорвавшийся с горной вершины валун; каждая линия с изломом — это стальной крюк; каждая откидная напоминает сухую ветку старой виноградной лозы, и каждая свободно откинутая черта подобна стремительным шагам человека.Чтобы разобраться в китайской каллиграфии, необходимо сначала детально рассмотреть форму и проникнуть во внутреннюю ритмику каждого животного, гармония и красота которого обусловлены его физиологическими функциями, особенно функцией движения. Огромный конь-тяжеловоз с покрытыми шерстью ногами столь же красив, как и скакун на ипподроме с его изящным экстерьером. Такая гармония есть и в очертаниях стремительно бегущей борзой, и у длинношерстного ирландского терьера, чьи голова и ноги образуют квадрат почти что в стиле письма лишу, популярном во времена династии Хань. Позднее, в эпоху Цин, Дэн Шижу превратил этот стиль в особый вид искусства. Еще на один важный момент следует обратить внимание. Эти растения и животные прекрасны потому, что в них таится определенная динамика. Представьте себе ветку дикой сливы с распустившимися на ней цветами. Как она незатейливо красива и исполнена художественной асимметрии! Понимание красоты этой веточки в полной мере равнозначно пониманию основополагающих принципов анимизма и всего китайского искусства. Веточка, даже когда цветы с нее уже опали, красива, потому что она живая и в ней воплощен жизненный импульс. Внешний вид каждого дерева передает ритм, исходящий от определенного живого импульса, желания расти и тянуться к солнцу, чтобы сохранить равновесие и противостоять напору ветра. Каждое дерево красиво, потому что оно предполагает движение и стремление к чему-то. Оно не старается быть красивым, оно лишь хочет жить и в результате достигает совершенной гармонии, которая дарит высокое наслаждение. Природа одарила гончую высокой степенью гибкости линии, которая соединяет туловище и задние ноги, благодаря чему собака может бежать с огромной скоростью. Природа не дала ей некоей абстрактной красоты. Гончая красива потому, что воплощает скорость, в гармонии частей ее тела рождается гармония формы. Изящные движения кошки придали ей мягкие очертания, и даже внешний облик неловкого, приземистого бульдога отражает красоту его силы. Таково объяснение бесконечного богатства природных форм, которые всегда столь гармоничны и всегда богаты ритмами, обладают неистощимой вариативностью и способны к бесконечным трансформациям. Иными словами, красота природы — это красота в динамике, а не в покое. Именно красота в движении и есть ключ к пониманию китайской каллиграфии. Ее красота в динамике, а не в статике. И потому, что она выражает динамическую красоту, красоту момента, каллиграфия живет и тоже бесконечно вариативна. Быстро и уверенно проведенная черта потому и совершенна, что представляет собой символ скорости и силы. Ее нельзя скопировать или исправить, потому что любое исправление приведет к нарушению гармонии. Вот почему искусству каллиграфии так трудно научиться. Выводя красоту каллиграфии из принципа анимизма, автор отнюдь не потакает своим пристрастиям. Это можно доказать такими китайскими «терминами», как «плоть», «кость», «сухожилие», характеризующими иероглифические черты. Их философское содержание никогда не было раскрыто. Лишь размышляя над тем, как объяснить китайскую каллиграфию европейцам, мы начинаем философский поиск. Госпожа Вэй, талантливый каллиграф, у которой когда-то учился Ван Сичжи, говорила:
Те, кто любит в черте силу, предпочитают в иероглифах «кость»; те, кто не любит силу в черте, предпочитают в иероглифах «плоть»; те, у кого много костей и мало плоти, пишут «мускулистым письмом». Те, у кого много плоти и мало костей, пишут «поросячьим письмом». Письмо, в котором много силы и сухожилий, божественно; письмо, в котором нет ни силы, ни мускулов, подобно дистрофику.Динамика движения рождает принцип структуры, который существенен для понимания китайской каллиграфии. Простая красота равновесия и симметрии вовсе не является наивысшей формой красоты. Один из принципов каллиграфии состоит в том, что квадрат ни в коем случае не должен быть полным квадратом, а должен быть с одной стороны выше, а с другой — ниже; две симметрично расположенные части никогда не должны быть абсолютно одинаковыми по размеру и местоположению. Этот принцип называется ши (положение) и воплощает красоту импульса. В результате в лучших образах каллиграфии структурные формы кажутся несбалансированными, а на самом деле они удерживают в равновесии всю картину. Различие между красотой импульса и красотой статического положения подобно различию между картиной, на которой изображен сидящий или стоящий человек, и изображением человека, размахнувшегося клюшкой для гольфа, или футболиста, пославшего ударом ноги мяч в небо. Можно также сказать о фотографии, на которой женщина с чуть откинутой назад головой смотрится лучше, чем если бы она держала голову прямо. Поэтому китайские иероглифы, написанные с легким наклоном в верхней части, с художественной точки зрения предпочтительнее тех, которые написаны ровно. Лучшие примеры такой структуры есть на могильных надписях Чжан Мэнлуна, чьи иероглифы создают эффект падения и тем не менее всегда уравновешены. Нельзя обойти молчанием и каллиграфию Юй Южэня, председателя Контрольного Юаня, чье высокое положение сегодня во многом связано с его выдающимся мастерством в области каллиграфии. Современное искусство находится в поисках ритмов, в процессе экспериментирования с новыми структурными формами, однако пока заметных успехов оно не добилось. Единственное его достижение в том, что оно создает у нас впечатление, будто старается спрятаться от реальности. Очевидной особенностью нового искусства является стремление не успокоить наши души, а раздражать наши чувства. Изучение же китайской каллиграфии и ее анимистических принципов в конечном счете есть повторное изучение природных ритмов и жизненной энергетики. Оно открывает большие возможности в будущем. Постоянное использование прямых линий, плоскостей и конусов, сталкивающихся под различными углами, способно раздразнить наши чувства, но никогда не создаст ощущения живой красоты. Похоже, именно эти плоскости, конусы прямые и кривые линии истощили талант современных художников. Почему бы не вернуться к природе, не поискать у нее пути к спасению? Пусть западные художники попробуют проложить себе путь к славе, тренируясь писать по-английски кистью. Смотришь, лет через десять, если позволит талант, они проникнутся анимистическими принципами и будут писать объявления на Таймс-сквер с помощью линий и композиций, действительно достойных называться искусством. Важность каллиграфии как основы китайской эстетики мы в полной мере осознаем при изучении китайской живописи и архитектуры. В линиях и композиции китайских картин, в формах и структуре китайских зданий мы видим принципы каллиграфии в развитии. Эти основные понятия ритма, формы, атмосферы создают стройную духовную систему для различных областей китайского искусства — поэзии, живописи, архитектуры, фарфора, искусства интерьера.
Живопись
Китайская живопись — это цвет китайского искусства. По своему особому духу и основной тональности она совершенно не похожа на западную живопись. Они столь же несхожи, сколь различны между собой китайская и западная поэзия. Различия порой нелегко уловить и трудно объяснить. Конечно, некоторые черты тональности и атмосферы китайской живописи можно наблюдать и в европейской живописи, однако сущность ее совершенно иная, да и средства выражения весьма своеобразны. Китайская живопись крайне экономна в материале, о чем свидетельствует немалое число пустот на полотне. Смысл такой композиции — в достижении гармонии, он характеризуется ритмической мощью, смелостью и свободой мазка, которые оставляют глубокое и незабываемое впечатление. Художник в процессе творчества уже отобрал и трансформировал материал, и с картины устранены несущественные и дисгармоничные частности, мы видим завершенное целое, верное жизни и в то же время столь отличное от нее. Ясность композиции и экономия художественных средств позволяют насладиться контрастностью и лаконизмом творческой манеры. И мы чувствуем, что художник показал нам реальную действительность, именно ту, которую он сам наблюдал и преобразовал в своем воображении, сохранив основные черты сходства, сделав картину понятной для других. Картина вполне субъективна, но речь здесь не идет о явном выпячивании «я» художника, столь характерном для современной западной живописи и вызывающем непонимание такой живописи простыми людьми. Китайская живопись может вызвать сильное субъективное впечатление от наблюдения предмета, изображенного без всякого искажения. Художник не пытается показать все, что он видит, многое оставляя на долю воображения зрителя, но это ведь не какие-то геометрические фигуры, в которых человеку трудно разобраться. Порой китайская живопись придает настолько большое значение опосредованно воспринимаемому предмету, что появление на полотне картины лишь одной ветки дикой сливы считается большим достижением. И хотя вмешательство в реальный материал весьма заметно, сама по себе живопись не становится сильным раздражающим фактором из-за сверхпритязаний художника на выражение собственного «я». Наоборот, люди ощущают полную гармонию с природой. Как же этого удалось достигнуть, как развивалась такая уникальная традиция? Эта художественная традиция не возникла случайно, благодаря какому-то внезапному открытию. Я думаю, ее характерные черты можно удачно суммировать словом «лиричность», и эта лиричность берет начало в определенном типе человеческого духа и культуры. Мы должны помнить, что китайская живопись тесно связана духом и техникой с каллиграфией и поэзией. Каллиграфия предоставила живописи технику и способ выражения, что предопределило ее дальнейшее развитие; поэзия отдала ей свою душу. В Китае поэзия, живопись и каллиграфия — тесно связанные друг с другом виды искусства. Особая традиция, которую мы называем лиричностью, представляет собой результат двух противостояний, через которые как раз ныне проходят современные западные художественные круги, в истории же китайской живописи они проявились еще в VIII в. Во-первых, это упразднение зависимости художника от изображаемого объекта и, во-вторых, отказ от фотографического отображения материальной действительности. Каллиграфия дала ответ на первый вопрос, а поэзия — на второй. Рассмотрение этих двух противостояний и происхождения этой художественной традиции позволят нам понять, как китайская живопись приобрела нынешние черты. Первостепенный вопрос китайской живописи, да и всей живописи вообще: что делать с мазками и штрихами после того, как краски попадут на холст, а тушь — на шелк? Это чисто техническая проблема, проблема «касания кисти», она стоит перед любым художником. Касание кисти определяет стиль всего произведения. Если линия механически используется для того, чтобы передать черты изображаемого предмета, то она теряет свободу, и нам она рано или поздно надоест. Такое же восстание против норм и догм, которое происходит в современном искусстве, поднял в Китае У Даоцзы (около 700 — 760). Смелыми и свободными мазками кисти он решил стоявшие перед ним проблемы. Этот художник не сдерживал штрихи, а давал им возможность проявить всю свою мощь (тот же принцип действует и в китайской архитектуре). Так, мы видим не безжизненные, лишенные творческого начала линии Гу Кайчжи (346—407) (как будто выписанные стальным пером), а так называемые «линии лепестков орхидеи», извивающиеся и постоянно меняющие ширину благодаря естественному ритму линий, оставленных тонко чувствующей кистью. Действительно, именно ученик У Даоцзы — Чжан Сюй создал «бегущий стиль» — скоропись в каллиграфии. Ван Вэй (Моцзе) сделал новый шаг в совершенствовании линии в живописи, иногда просто упраздняя традиционный метод «обводки контура», поэтому его обычно считают создателем «южной школы». Далеко идущие последствия этого мы еще увидим. Вторая проблема состоит в том, как именно личность художника должна отражаться в его творении, чтобы оно было достойно называться произведением искусства? Как добиться этого, не поддавшись искушению плоского правдоподобия, не упуская правды жизни и гармонии? Протест против механического копирования действительности — еще одна причина возникновения новых тенденций в современном искусстве, которые отражают стремление уйти от материи, выразить в произведениях художника его «я». Аналогичные события в истории китайского искусства имели место в VIII в. с появлением новой школы. Уже в те времена фотографическое отражение действительности вызывало раздражение у творческих людей. И вновь та же самая проблема: как художник вносит в изображаемое свои эмоции и свое восприятие, избегая при этом любых излишеств в самой изобразительной технике? Эта проблема давно решена в китайской поэзии. Бунт был поднят лишь против чрезмерной тщательности и мелочного ремесленничества. Противостояние двух художественных школ отражено в следующей истории: во времена правления императора Тан Минхуана (Сюань-цзуна) во дворце на стене висели пейзажи провинции Сычуань, выполненные Ли Сысюнем и У Даоцзы. Говорят, что Ли Сысюнь, великий художник «северной школы», писал свою картину золотыми красками около месяца, а У Даоцзы, разбрызгивая во все стороны тушь, нарисовал панораму реки Цзялинцзян за один день. Сюань-цзун сказал: «Ли Сысюнь выполнил работу за месяц, а У Даоцзы — за день, и каждый по-своему совершенен». Когда произошел бунт против худосочного ремесленничества, появился Ван Вэй. Сам он был первоклассным художником-пейзажистом. Он внес в живопись дух и технику китайской поэзии с ее импрессионизмом, лиричностью, жизненностью замысла и манеры исполнения и пантеизмом. Получается, что «отец южной школы», сделавший китайскую живопись заслуженно известной, был воспитан поэзией. Китайские художники, по-видимому, только в IV-VI вв. начали осознавать значимость своего творчества. Именно в эту эпоху стала развиваться критическая мысль в области искусства и литературы. Ван Сичжи принадлежал к одному из самых аристократических семейств того времени и стал известен как «князь каллиграфии». В последующие несколько столетий под влиянием буддизма появились знаменитые каменные скульптуры в Датуне и Лунмэне. В каллиграфическим стиле, получившем развитие при династии Северная Вэй, сделаны надписи на так называемых Вэйских стелах. Данный стиль поднял каллиграфию на необычайную высоту. По мнению автора, это наилучший стиль в истории каллиграфии. Он не только красив, но также сочетает силу и искусность. Живший в ту эпоху Се Хэ первым установил принцип «экспрессивности», который в течение последующих 1400 лет стал основным принципом китайской живописи. А далее был великий VIII век. По некоторым причинам, в которых автор и сам не очень разобрался, этот век стал в истории Китая самым творческим в живописи, поэзии и прозе. Однако одну из причин можно обнаружить, оглянувшись на несколько веков назад, когда во времена царившего в стране хаоса, искусство оживила струя свежей крови. Ли Бо и Ван Вэй оба были выходцами из Северо-Западного Китая, где смешение этносов происходило наиболее активно, однако для доказательства этого у нас нет точных сведений. Как бы то ни было, человеческая душа стала более свободной и самостоятельной. Этот век дал нам целую плеяду великих поэтов, таких как Ли Бо и Ду Фу. В живописи это были Ли Сысюнь, Ван Вэй и У Даоцзы, в каллиграфии — творцы «бегущего стиля» Чжан Сюй и «уставного письма» — Янь Чжэньцин. В прозе был Хань Юй. Ван Вэй родился в 699 г., У Даоцзы приблизительно в 700 г., Ли Бо — в 701 г. Янь Чжэнцин — в 708 г., Ду Фу — в 712 г., Хань Юй — в 768 г., Бо Цзюйи — в 772 г., Лю Цзунъюань — в 773 г. Этот век еще дал нам красавицу из красавиц — Ян Гуйфэй, которая появилась на свет, чтобы сопровождать императора Сюань-цзуна и украшать вместе с поэтом Ли Бо императорский двор. Однако эта эпоха не была мирной. В конечном итоге родилась «южная школа», и именно она вызывает у нас самый большой интерес, ибо в наибольшей степени обладает китайской спецификой. Этот стиль живописи стал называться «живописью ученых». К XI в. под влиянием таких сунских ученых, как Су Дунпо (1035—1101), Ми Фэй (1050—1107) и его сын Ми Южэнь (1086—1165), этот стиль стал еще более лаконичным и явно субъективным. «Живопись ученых» также называлась «живописью литераторов». Су Дунпо однажды нарисовал бамбук без сочленений; когда его спросили, почему он так сделал, он ответил: «Разве, когда бамбук растет, он прибавляет сочленения одно за другим?» Су Дунпо, великий писатель и поэт, особенно хорошо рисовал бамбук. Он как-то сказал: «Я могу отказаться от мяса, но не могу жить без бамбука». Они рисовал бамбук в «пьяном стиле бегущей скорописи», повсюду на полотне брызги черной туши, цвет не обозначен. Обычно Су Дунпо наедался и напивался, а затем во хмелю, ощутив вдохновение, макал кисть в тушь и размашисто писал иероглифы, рисовал бамбук или сочинял стихи. Однажды он во хмелю написал такое четверостишие на стене дома человека, у которого был в гостях: «Мои пустые кишки пустили ростки под влиянием выпитого вина. Из моих легких и печени растут бамбук и камни для украшения сада. Растет дремучий лес, и его рост не сдержать. И вот я пишу об этом у Вас на белоснежной стене». Здесь живопись уже не «рисуется», а «пишется», как иероглифы. У Даоцзы, под влиянием выпитого или фехтуя на мечах с друзьями, также частенько обращался к живописи, при этом вносил в свои произведения ритмику фехтования. Понятно, что такое вдохновение было недолгим и потому требовало нескольких взмахов кистью в самое краткое время, в противном случае эффект винных паров иссякал. За всем эти пьянством таилась прекрасная философия живописи. Китайские художники-ученые, оставившие огромное число критических работ в области искусства, проводили различие между син, физической формой предмета, ли, его внутренним духом, и и, собственной концепцией художника. «Живопись ученых» была проявлением протеста против механического отображения действительности, примеры которого многочисленны и в прошлом, и в настоящем. Сунские ученые особенно акцентировали ли. Простое выписывание деталей было делом художников, работавших на рынок, тогда как достойные называться истинными мастерами стремились выразить дух произведения искусства. Видимо, чтобы решить этот вопрос, одного опьянения было недостаточно. Тот факт, что такие картины были работами не профессиональных художников, а ученых, рисовавших в свое удовольствие, имеет глубокий смысл. Именно в условиях свободы творчества они писали картины легко и непринужденно. В XI в., когда «живопись ученых» стала для многих путеводной нитью, она получила название мо си, т.е. «игра тушью». Для ученых это был способ приятно провести время, когда можно было поиграть в каллиграфию или рисование. Атмосфера творчества была свободной, никто не испытывал никакого давления извне. Казалось, у ученых — мастеров в каллиграфии оставался избыток энергии, и они направляли ее в другие сферы искусства ради смены впечатлений. Материал и инструменты были одинаковыми: те же свитки, те же кисти, те же вода и тушь, и все это тут же на столе. И вовсе не нужна палитра. Ми Фэй иногда вместо кисти использовал свернутую бумагу, шелуху сахарного тростника или стебли лотоса. Когда приходило вдохновение, рука художника творила чудеса, используя для творчества все что угодно. Потому что он умел передавать основной ритм, а все остальное — дело второстепенное. Ныне встречаются художники, которые делают наброски пальцем и даже кончиком языка, размазывая тушь по бумаге. Живопись была развлечением литераторов и ученых и осталась им. Господствующим отношением к живописи как к игре можно объяснить некоторые ее особенности, которые именуются и. Наиболее близким по значению является слово «скитальчество», поскольку оно может обозначать также и настроение легкой влюбленности, и «дух затворничества». Именно легкий, радостный, беззаботный романтизм характеризует поэзию Ли Бо. И признано наивысшим критерием при оценке «живописи ученых», в его основе именно желание развлечься. В даосизме также нужно приложить определенное усилие, чтобы укрыться от мирской суеты и обрести духовную свободу. Если осознать, насколько дух ученых был ограничен рамками традиционной морали и политическими факторами, эта их мечта будет ближе и понятнее. Ученые, по крайней мере в области живописи, приложили самые большие усилия, чтобы вернуть себе творческую свободу. Великий художник времен юаньской династии Ни Юньлинь (1301—1374), прославившийся стремлением творить свободно, писал: «Нарисованный мною бамбук изображает лишь отшельнический дух у меня в груди. Какое мне дело, точное это изображение или нет, много листьев или мало, прямые ветви или кривые?» И еще он писал: «То, что я называю рисунком, это всего лишь несколько штрихов, наскоро проведенных романтической кистью: это не копия реальности, они сделаны ради собственного удовольствия». На портреты людей и пейзажи, выполненные тушью во времена династии Южная Сун, определенное влияние оказала каллиграфиия. Во-первых, об этом свидетельствует стремительность, энергичность и всегда очень высокий ритм касаний кисти. В изогнутых линиях сосны проявляется принцип кривой линии, принятый в каллиграфии. Дун Цичан писал, что при изображении дерева каждая линия должна иметь изгиб. Ван Сичжи, говоря о каллиграфии, заметил: «Каждая наклонная черта должна иметь три изгиба». Дун Цичан писал: «Когда рисует ученый, он должен следовать правилам бегущего почерка, т.е. лишу и гу вэнь». В волнистых линиях причудливой скалы проявляется стиль письма фэйбо. Такую картину пишут относительно сухой кистью и небольшим количеством туши, оставляя немало пустых мест в середине мазков. Ветви деревьев, оплетенные виноградной лозой, написаны изгибающимися линиями стиля чжуань, используемого в китайских печатях. Такой секрет оставил нам Чжао Мэнфу. Далее, художественное использование пустого пространства является важным принципом каллиграфии, поскольку, как писал Бао Шэньбо, правильное расположение иероглифа в пространстве есть первое правило каллиграфии. Если расположение в пространстве верно, то можно даже пожертвовать симметрией, как это делает Юй Южэнь. В каллиграфии можно допустить асимметрию контура иероглифа, но неверно использованное пространство считается непростительным грехом, доказательством того, что в каллиграфии этот человек — не мастер. Простая координация композиционных компонентов китайского рисунка обнаруживает ритмику работы кистью, которую называют би и. И — это замысел художника. Создать китайскую картину значит «написать свой замысел» — се и. У художника, хотя он еще не коснулся кистью бумаги, уже есть четкий замысел, и в процессе творчества он лишь определенными штрихами переносит этот замысел на бумагу. Он устраняет маловажные детали, нарушающие цельность его замысла. Художник может здесь добавить нежную веточку, там — листочки для того, чтобы картина стала органичным, выразительным целым. Завершив воплощение основного замысла, вызревшего в его душе, он считает дело сделанным. Картина живет постольку, поскольку живет замысел, который она выражает. Как будто прочтешь мудрый и изящный стих, слова произнесены, но отзвуки их остались в душе. Китайские художники в таких случаях говорят: «Мысль опережает кисть, но когда кисть завершила свое дело, мысль остается». Китайцы — большие мастера намека, у них принято «во всем знать меру». Им нравится хороший чай и оливки, которые оставляют послевкусие, хуэйвэй, которое можно почувствовать лишь через несколько минут после того, как чай выпит, а оливки съедены. Эффект, который дает такая техника рисования, называется кунлин («пустой и живой»), она обеспечивает максимальную жизненность картины при предельной экономии средств. Китайская поэзия передала китайской живописи свой дух. Когда мы говорили о поэзии, мы отмечали, что в Китае чаще, чем в Европе, поэт является художником, а художник — поэтом. Поэзия, как и живопись, берет начало в душе человека, поэтому у них одинаковое духовное начало и техника, и это вполне естественно. Мы видели, какое влияние оказывает живопись на поэзию в сфере использования метода перспективы, потому что глаза поэта — это одновременно и глаза художника. Однако мы также видим, как в душе художника проявляется такая же импрессия, такой же метод намека, такие же попытки выразить невыразимое, такое же пантеистическое единение с природой, которые характеризуют китайскую поэзию. Поэтическое настроение и передача мысли художника в живописи часто представляют собой одно и то же, художественной мысли в одном случае можно придать форму стихотворения, а в другом, после легкой обработки, ее выражением станет картина. Сначала мы разрешим вопрос о перспективе, который приводит европейцев в недоумение. Еще раз поясним, что китайскую живопись следует рассматривать как картину, написанную на вершине очень высокой горы. Перспектива при обзоре с высоты птичьего полета (например, с самолета на высоте шести тысяч футов) непременно будет иной, чем на обычном уровне. Конечно, чем выше точка наблюдения, тем меньше будут сходиться линии к центру. В этом тоже очевидно влияние прямоугольной формы китайских свитков, на которых обязательно оставляют пустым определенное пространство между передним планом в нижней части свитка и линией горизонта в верхней его части. Как и западные художники, китайские художники хотят изобразить не саму реальность, а произведенное этой реальностью впечатление, отсюда и использование импрессионистского способа изображения. Проблема западных импрессионистов состоит в том, что они слишком умничают и слишком логичны. При всей своей искусности китайские художники не способны создавать уродцев от искусства, чтобы ими пугать простых людей. Мы уже разъясняли, что основной принцип китайского импрессионизма: «Мысль опережает кисть». Поэтому смысл картины не в материальной реальности, а в концепции художника в его отношении к этой реальности. Художники помнят, что рисуют для тех, кто их окружает, поэтому разнообразные концепции должны быть понятны людям. Полет воображения художника сдерживается учением о «золотой середине». В итоге импрессионизм художников стал импрессионизмом, отвечающим требованиям человеческой сущности. Цель творчества — в передаче законченной концепции, которая определяет, что изобразить, а что оставить за пределами рисунка. Таковы специфические черты стиля кунлин. Поскольку самое важное — это законченная поэтическая концепция картины, художники прилагают большие усилия к ее разработке. Во времена династии Сун конкурсные экзамены проводила художественная академия при императорском дворе. Следует подчеркнуть, что, без всякого исключения, побеждали на таких конкурсах картины, которые выражали самые законченные и выдающиеся концепции. А лучшие концепции всегда выражались с помощью намеков. Сама тема всегда была достаточно поэтична, так как ее формулировка представляла собой строку стихотворения. Однако мастерство художника состояло в том, чтобы передать содержание этой строки с помощью искусного намека. Вот несколько примеров. Во времена правления сунского императора Хуэй-цзуна (1101—1125) однажды экзаменационной темой стала строка: «Бамбук укрыл винную лавочку возле моста». Многие художники сделали винную лавочку центром картины. Однако один художник нарисовал мост и рядом бамбуковую рощу, в зарослях которой еле заметно виднелась вывеска со словом «вино». Самой лавочки на картине не было вообще. Картина победила, так как лавочка была доступна лишь воображению. Другой темой была стихотворная строка из поэмы Вэй Инъу: «Безлюден паром, и лодка сама по себе плывет поперек реки». Поэт использовал метод намека и с помощью брошенной хозяином лодочки, плывущей по воле волн, передал атмосферу безмолвия и запустения. Однако художник пошел дальше. Ощущение безмолвия и запустения усилены изображением двух птиц: одна из них отдыхает на лодке, а другая вот-вот сядет рядом. Значит, ни в лодке, ни вокруг нет ни души. А вот еще одна картина, в которой художник воплотил атмосферу роскоши в доме богача. Западный художник, которому надоело фотографировать действительность, тоже попытался бы обратиться к намеку. И он, возможно, нарисовал бы кучу саксофонов, которые чудесным образом просвечивают сквозь бокал с шампанским, стоящий на женской груди, а из-за спины у нее на три четверти выглядывает колесо автомобиля, движущегося на фоне труб лайнера «Кьюнард», и т.д., и т.п. Однако китайский художник-импрессионист нарисовал на заднем плане картины особняк с полуоткрытыми воротами. Выглядывающая из-за ворот служанка высыпает из полной корзинки тщательно выписанные остатки изысканных яств: утиные лапки, скорлупу личжи, грецких орехов, фундука. На картине нет роскошного пира, о котором можно судить лишь по выбрасываемому мусору. Такова поэтика этой картины. Итак, концепция — это все, и от нее зависит поэтика произведения. Художник стыдится прямого изображения и обращается к намеку. Девиз китайских художников таков: «Оставить что-нибудь для воображения!». Однако если бы китайские художники удовлетворялись только акцентированием своей концепции, имеющей отношение скорее к мысли, чем к сердцу, то китайская живопись зашла бы в тупик. Потому что в один прекрасный день искусство, призванное обнажать чувства и ощущения, опустилось бы до математических забав или логических загадок. Какой бы гениальной ни была концепция, какой бы прекрасной ни была техника, если все это вместе не создает атмосферы, созвучной нашим чувствам, картина не станет великим произведением искусства. Тому примерами — все великие полотна, как китайские, так и европейские. Отсюда ясно, что настроение — это всё. Две птицы, отдыхающие на маленькой лодочке, просто намекают на то, что рядом нет лодочника, и это, в свою очередь, создает у нас настроение одиночества и ощущение запустения. В противном случае эта картина не имела бы никакого смысла. Почему эта лодка не плывет вниз по течению? Потому что она покачивается посреди реки без присмотра, и от этого у нас возникает чувство тревоги, это влияет на наше настроение, и картина оживает, обретает глубокий смысл. Винная лавочка укрыта в зарослях бамбука у моста. Если бы мы не могли представить себе посетителей винной лавочки, где медленно течет время и жизнь спокойна, где люди могут потратить целый вечер, толкуя о ревматизме рыбаков, или посудачить по поводу любовного романа императрицы, когда та была еще девицей, велика была бы тогда цена такой картине? Поэтому как в живописи, так и в поэзии главное — вызвать эмоции. Это вновь заставляет нас вспомнить об «атмосфере», или «энергии ритма», которая является наивысшим идеалом китайской живописи за последние 1400 лет, с тех пор как Се Хэ впервые заявил об этом, а другие художники дополнили его и не раз спорили на эту тему. Мы должны помнить, что китайские художники не гнались за скрупулезной точностью в деталях. Су Дунпо говорил: «Если кто-то критикует картину за правдоподобие, его понимание подобно пониманию ребенка». А что нам может предложить художник, кроме правдоподобия? В чем конечная цель живописи? Ответ состоит в том, что художник должен передать нам дух изображаемого, вызвать у нас сопереживание. Вот в чем наивысшая цель и наивысший идеал китайского искусства. Вспомним, что художники периодически поднимаются высоко в горы, чтобы обновить впечатления и, вдыхая горный воздух, очистить грудь от накопившейся в ней пыли городских забот и страстей. Они поднимаются на вершины, чтобы добиться морального и духовного подъема, они борются с ветром, мокнут под дождем, чтобы услышать рев морских волн. Они целыми днями сидят среди нагромождений скал и кустарников, укрывшись в бамбуковых зарослях, чтобы впитать дух и живую силу природы. После такого общения с природой художник должен передать нам то, что приобрел; передать чувства, теснящиеся у него в душе; восстановить для нас картину, «дополненную настроением и изменчивыми чувствами, прекрасными, как сама жизнь». Он, возможно, подобно Ми Южэню, напишет для нас пейзаж с приютившимися у скал облаками и туманом, который окутал горы и деревья вокруг, скрыв все незначительные детали во влажных испарениях. Или, подобно Ни Юньлиню, нарисует осеннее увядание природы, где все покрыто белым и лишь несколько сухих листиков на ветках говорят нам об одиночестве и пронизывающем холоде. При такой силе воздействия самой атмосферы и общего ритма картины все детали будут забыты, и останется только главное — настроение. Это и есть «энергия ритма» — высший идеал китайского искусства. Так поэзия и живопись встречаются вновь. Такова информация, которую доносит китайское искусство. Оно учит нас всеобщей любви к природе, а ведь китайская живопись особенно сильна именно в пейзаже. Лучшие западные пейзажи, такие как работы Коро, доносят до нас такую же атмосферу и вызывают такие же эмоции. К сожалению, китайцы отстали в портретной живописи. Человеческое тело рассматривается ими как украшение природных предметов. Если в принципе красота женского тела в Китае признается, то в живописи мы этого преклонения не находим. Женщины на картинах Гу Кайчжи и Цю Шичжоу изображены намеком, но не на красоту их тел, а на порывы ветра и буйство волн. Преклонение перед красотой тела (особенно женского) есть исключительная особенность европейского искусства. Самое большое различие междукитайским и европейским искусством состоит в различных источниках вдохновения. Вдохновение у людей Востока исходит из самой природы, а у европейцев оно исходит из красоты женского тела. Ничто так не шокирует китайца, как то, что картина, на которой изображена женская фигура, называется «Созерцание», а картина с изображением купания обнаженной девушки называется «Сентябрьское утро». Вплоть до сегодняшнего дня многие китайцы все еще отвергают такой факт европейской культуры, как поиск живой модели, которую раздевают догола и предлагают ей каждый день позировать по нескольку часов на глазах у людей. Так западные художники постигают азы живописи. Конечно, есть немало европейцев, желающих повесить над камином лишь «Портрет матери» американского художника Дж. Уислера (1834—1903). Они не смеют любоваться женским телом на картине «Созерцание». Ныне в Англии и Америке нередко хозяева, принимая гостей, оправдываются тем, что картины французских мастеров уже, дескать, были здесь, когда они арендовали эту квартиру. Некоторые говорят, что не знают, что делать с таким рождественским подарком, как фарфоровая статуэтка Венеры. В разговорах они всегда избегают этой темы, для них все это — «искусство», а авторы — «сумасшедшие художники». Получается, однако, что западный художник не способен увидеть ничего другого, кроме обнаженного или почти обнаженного женского тела. Тогда как китайский художник символом весны изображает куропатку в весеннем оперенье, для западного художника символ весны — танцующая нимфа, которую преследует толпа фавнов. Китайский художник восхищается прекрасными линиями крыльев цикады и хитроумно устроенными лапками сверчка, кузнечика и лягушки, а китайский ученый-литератор может каждый день созерцать такие картины у него на стене. Европейским же художникам для эстетического наслаждения нужно нечто не меньшее, чем «Читательница» и «Магдалина» французского художника Ж.-Ж. Эннера (1829—1905). Открытие человеческого тела как фактора искусства — одно из самых сильных влияний европейской культуры на китайскую, поскольку оно изменило источник художественного вдохновения и мировоззрение людей. В конечном итоге следует говорить, что это влияние античной Греции. В эпоху Возрождения возобновилось преклонение перед телом человека, открыто признали, что жизнь прекрасна. Большая часть китайской традиции, хотя и не подверглась влиянию античной Греции, тем не менее в достаточной мере исполнена гуманизма. Однако никто никогда в Китае открыто не провозглашал, что тело человека прекрасно, это было немыслимо. Но, однажды, открыв глаза и увидев красоту человеческого тела, мы уже не можем ее забыть. Открытие человеческого тела и преклонение перед красотой женщины оказали столь значительное влияние еще и потому, что они связаны с сексом — одним из самых сильных человеческих инстинктов. В этом смысле можно сказать, что на смену искусству бога солнца Аполлона в Китае пришло искусство бога вина Диониса. Традиционное китайское искусство уже не преподается в большинстве обычных школ и даже в большинстве школ искусств. Там тоже научились рисовать женское тело с натурщиц или с античных статуй. Бесполезно проповедовать платонический эстетизм по отношению к обнаженному телу, потому что лишь изнеженные декаденты способны взирать на красоту с бесстрастным восхищением профессионала, и лишь они снизойдут до оправданий в этом. Преклонение перед человеческим телом исполнено чувственности и, конечно, должно быть таким. Настоящие европейские художники вовсе не отрицают этого. Наоборот, они открыто провозглашают данный факт. Подобные обвинения нельзя предъявить китайскому искусству. Однако хотим мы того или нет, эта тенденция налицо, и, похоже, ее не сдержать.Архитектура
Природа всегда прекрасна, а архитектура, созданная человеком, обычно нет. Причина в том, что архитектура, в отличие от живописи, не стремится копировать природу. Архитектура первоначально соединяла камни, кирпичи и известь, чтобы дать людям укрытие от ветра и дождя. Ее главный принцип — это полезность, и в основном это справедливо по сей день. Поэтому уродство самых хороших, самых современных фабрик, школ, театров, почтамтов, вокзалов и проспектов постоянно внушает нам мысль о бегстве из города в деревню. Потому что природа безгранично богата, а архитектура, продукт человеческого ума, ограничена пределами нашей изобретательности. Лучшие умы человечества могут строить здания только согласно традиционным моделям — там ротонда, здесь кровля с тремя скатами. Самые впечатляющие мавзолеи и мемориалы не могут сравниться по выразительности с естественными формами деревьев. Даже высаженные по обеим сторонам улицы, подстриженные и опрысканные химикатами деревья — если мы не забудем их посадить — при сравнении ничуть не уступят архитектурным сооружениям. Сколь дерзновенна природа! Если бы эти безыскусные и неодинаковые по форме деревья создали архитекторы, мы упрятали бы их в сумасшедший дом. Природа осмелилась выкрасить листву в зеленый цвет, а мы боимся всего, что выходит за рамки общепринятого, мы даже цвета боимся. И вот мы придумали слово «тусклый», чтобы точнее описать наше существование. Почему при всем богатстве фантазии мы по-прежнему создаем столь угнетающие строения, как дома с плоскими крышами, так называемые современные тротуары и прямолинейные улицы, от которых каждый год сломя голову мы бежим на курорт? Практичность — вот ответ. Но практичность — не искусство. Наш век индустриализации только усугубил ситуацию, в особенности после изобретения железобетона. Это символ века индустриализации, и он будет существовать столько же, сколько и современная индустриальная цивилизация. Некоторые даже публично заявляют, будто считают поразительно красивыми нью-йоркские небоскребы. Может быть, это и так, но я ничего подобного не заметил. Их красота — это красота золота: они красивы потому, что символизируют потраченные миллионы. Они выражают дух века индустриализации. Однако, поскольку мы каждый день вынуждены лицезреть построенные для себя дома, в которых должны находиться большую часть времени, и поскольку эти ужасные жилища ограничивают наше существование, естественно возникает требование сделать их красивыми. Дома мало-помалу меняют облик наших городов. Крыша — это не просто крыша, которая укрывает нас от солнца и дождя, а нечто, что влияет на наше представление о доме. Дверь — это не только отверстие для входа и выхода, но и «открывшийся сезам», который вводит нас в загадочную семейную жизнь. Наконец, не одно и то же: стучаться в дверь тусклого оттенка или в покрытые красным лаком ворота, украшенные гвоздями с позолоченными головками. Вопрос в том, как сделать так, чтобы кирпичи и известковый раствор ожили и заговорили на языке прекрасного, чтобы они могли сказать нам что-то, подобно европейским соборам, исполненным высокого духа, без слов выражающим несравненную красоту и величие? Посмотрим, как пытались решить эту проблему творцы лучших произведений китайской архитектуры. Китайская архитектура, видимо, шла иным путем, чем европейская. Главная ее тенденция состоит в поиске гармонии с природой. Во многих случаях поиск завершился успехом. И успехи достигнуты потому, что архитектор вдохновлялся веточкой дикой сливы, которая сначала превратилась в динамичную черту иероглифа, а потом преобразились в линии и формы архитектуры. Китайская архитектура также наделена и символическим смыслом. Под влиянием геомантии она восприняла элементы пантеизма, которые заставляют учитывать пейзаж вокруг дома. Основной дух китайской архитектуры — это дух покоя и умиротворенности, лучшими его представителями являются частные дома и сады. Этот дух не устремляется вверх, подобно готическому шпилю, а нависает над землей и привязан к ней. Тогда как готические соборы воплощают духовность и величие, китайские дворцы и храмы воплощают безмятежность и покой. Как ни странно, на китайскую архитектуру оказала влияние и каллиграфия. Об этом свидетельствует смелое использование криволинейных каркасных конструкций кровли, противостоящих мертвым прямым линиям. Вогнутые крыши дворцов и храмов создают ощущение пропорциональности, строгости и изящества архитектурных форм. Контур каркасной структуры, независимо от того, покрыта она крышей или нет, весьма похож на след «касания кисти» в живописи. В живописи контурная линия используется не только для обозначения границ предмета, она выражает также дерзновение и свободу как таковые. Аналогична ситуация и в китайской архитектуре. Стойки у стен, потолочные балки и стропила не прячутся стыдливо, а, наоборот, демонстрируют и расхваливают себя, будучи важной частью внешнего облика строения. В китайской архитектуре каркас сознательно целиком открыт для обозрения. Мы любуемся конструктивными линиями, обозначающими основной контур строения, точно так же, как любуемся китайскими картинами с их богатой ритмикой. Я считаю, что контурные линии отображают суть предмета. Поэтому стены обычно не скрывают каркас домов, а балки и стропила видны и снаружи, и изнутри дома. Причиной тому принцип каллиграфии цзяньцзя (каркас). Среди многих черт, составляющих иероглиф, опорной для нас всегда является главная горизонтальная или вертикальная черта или замкнутый квадрат. Такую черту нужно написать энергично, причем горизонтальные и вертикальные черты должны быть длиннее и выразительнее других. Остальные черты окружают опорную черту или исходят от нее. В планировке архитектурного ансамбля действует принцип осевой линии, ведь осевая линия есть в большинстве китайских иероглифов. В плане Бэйпина (Пекина) — одного из самых красивых городов мира, тоже есть невидимая ось, которая тянется на несколько миль с юга на север, от ворот Цяньмэнь через императорский дворец, через центральную беседку на горе Мэйшань до Барабанной башни. В иероглифе 中 чжун («центр, середина») совершенно очевидна эта осевая линия, как и в иероглифах 東 束 柬 律 乗. Возможно, важнее следования принципу осевой линии использование изогнутых, волнистых черт и черт неправильной формы — в противовес прямым линиям. Свидетельством тому — конструкция крыш китайских традиционных построек. Каждый китайский храм, дворец или особняк представляет собой по существу сочетание контрастирующих прямых вертикальных линий опорных стоек и изогнутых линий кровли. Конструкция крыши также воплощает контраст прямых линий конька и нисходящих изогнутых линий самой кровли. Все это восходит к упражнениям в каллиграфии, когда учитель говорит, что если есть главная линия, горизонтальная или вертикальная, обязательно нужно сделать так, чтобы она контрастировала с окружающими ее изогнутыми линиями или линиями с легким изломом. Конек крыши иногда украшают различными фигурами. Лишь благодаря такому контрасту прямые линии стоек и стен могут быть терпимы с художественной точки зрения. Рассмотрев лучшие примеры храмовых построек и особняков, обнаружим, что декоративной доминантой является именно крыша, а не стойки у стен. Последние не всегда занимают передний план, да и по масштабу они меньше крыши. Наклонная крыша — самая яркая, уникальная особенность китайской архитектуры. Ее происхождение неясно. Предполагают, что она имеет отношение к простым шалашам времен пастбищного скотоводства. Однако очевидна и связь наклонных крыш с каллиграфией. Любой человек, разбирающийся в основах каллиграфии, отметит красоту изогнутой линии китайской наклонной крыши. Самое трудное в каллиграфии — регулирование силы мазка. Так, например, придать силу совершенно прямой линии крайне трудно. С другой стороны, легкий наклон в какую-либо сторону немедленно создает ощущение напряжения. Достаточно взглянуть на «ключ» со значением «крыша» и в изящный прогиб в вершине иероглифа, чтобы понять, что это не пустые рассуждения автора.
Эти три иероглифа принадлежат кисти премьера Маньчжоуго, известного каллиграфа Чжэн Сяосюя.
Верхняя часть иероглифов «А» и «В» представляет собой компонент китайского иероглифа со значением «крыша». Обратите внимание на прогиб в середине иероглифа, который создает эффект кривизны китайской крыши. Верхняя часть иероглифа «С» означает «человек», но имеет сходство с верхней линией крыши. Обратите также внимание на изгиб и поднимающуюся вверх дугу в нижней его части. Отметьте, что композиционные принципы каллиграфии используются и в китайской архитектуре. Так, энергичная вертикальная черта (стойка) в иероглифе «А» контрастирует с изогнутой чертой в «крыше». Остальные горизонтальные черты прилагаются к ней. Обратите внимание на нисходящую изогнутую черту в иероглифе «В», прочие черты группируются вокруг нее. Верхняя часть иероглифа удивительным образом уравновешивает его черты.Наша любовь к ритмическим, волнистым или ломаным линиям и ненависть к прямым, мертвым линиям вполне очевидна. Мы никогда не создавали ничего столь безобразного, как древнеегипетская Игла Клеопатры. Некоторые современные китайские архитекторы в подражание западным образцам построили нечто, напоминающее маяк, и назвали это Выставочным мемориалом «Озеро Сиху», установив его среди прекрасных пейзажей прямо на берегу этого озера. Мемориал напоминает болячку на лице красавицы и вызывает неприятное чувство, если слишком долго на него смотреть. Есть много способов покончить с безжизненностью прямых линий. Классическим примером, возможно, является арочный мост с перилами. Арочный мост хорошо гармонирует с природой потому, что он криволинейный и у него есть перила. Он уступает по длине Бруклинскому мосту, и его перила не столь целесообразны, как стальные тросы Бруклинского моста, но никто не может отрицать, что, хотя для строительства арочного моста и не надо много ума, зато он красивее Бруклинского. Можно также обратиться к внешнему облику пагоды. Вся ее красота состоит в том, что контур пагоды нарушается чередованием выступающих крыш, особенно их чуть загнутых угловых карнизов, напоминающих откидную черту в каллиграфии. А уникальные каменные колонны перед воротами Тяньаньмэнь! Ничто так не впечатляет, как волнообразный символ облаков, расположенный горизонтально в верхней части каждой колонны. По смелости исполнения и уникальности формы этот рельеф беспрецедентен в китайском искусстве. Неважно почему, но поверхность самих колонн тоже волнистая. Считается, что они символизируют облака, но это лишь художественный предлог, чтобы обозначить ритм на поверхности колонн. На каменных колоннах перед храмом Конфуция выгравированы изображения двух драконов. Неровности тел драконов упраздняют прямые линии колонн, поэтому этот мотив постоянно используется в китайском традиционном декоре, хотя у изображений дракона есть и сугубо символический смысл. Мы повсюду пытаемся привнести естественный ритм природы, копируя ее неправильные формы. Выражением этого природного ритма является дух анимизма в каллиграфии. Чтобы художественными средствами упразднить однообразие оконных рам, мы используем для кровель зеленую глазурованную черепицу в форме бамбука. Мы осмеливаемся использовать дверные проемы в виде круга, овала или цветочной вазы, чтобы избавиться от монотонности вытянутых в одну прямую стен. У наших окон самые разные формы, которые ничуть не уступают западным тарталеткам; они имитируют листья банана, персика, дольки арбуза или даже веер. Ли Ливэн — поэт, драматург и весельчак, ввел в обиход резные окна и ширмы. Контур таких окон обычно прямой, а он привнес в него деревянные резные элементы, напоминающие листья и создающие впечатление живой ветки, протянувшейся к окну. Такая техника затронула также ширмы, столбики кроватей и другие предметы. Наилучший пример — это сооружение искусственных скал, демонстрирующих, насколько глубоко неупорядоченные линии природы вошли в архитектуру. Иными словами, повсюду в Китае мы видим, как архитекторы используют неправильные формы живого мира природы, чтобы избавиться от прямых линий. Это заставляет нас вспомнить о символике. Например, контур летучей мыши часто используется как украшение. С одной стороны, потому, что ее изогнутые крылья можно использовать при создании орнаментов, но также и потому, что китайское слово «летучая мышь» является омонимом слова «счастье». Символ — это упрощенный язык знаков, который понимают в Китае и женщины, и дети. Однако у символических изображений есть еще одно достоинство. Несколькими условными штрихами они отражают мысли и мечты многих поколений нации. Символы, подобные христианскому кресту или советскому серпу и молоту, воспламенили наше воображение и привели нас в мир бессловесного мышления. Потому что мысли и чувствования нации, расы настолько масштабны и многочисленны, что их нельзя выразить словами. Китайская колонна поднимается ввысь, поражая совершенством простоты, и когда ее верхушка, достигнув карниза, теряется в переплетении консольных балок, хочется поднять голову и увидеть уточек-неразлучниц, или кузнечика, или палочку туши и кисть. Глядя на уточек-неразлучниц, мы задумываемся о женской любви; глядя на тушь и кисть, думаем об ученом в тиши его кабинета. Эти зеленые, синие и золотистые существа, кузнечики, сверчки и уточки, символизируют самое большое счастье, о котором мы только смеем мечтать в земной жизни. Рисуя пейзажи, мы рисуем и радости семейной жизни, ибо это две вечные темы китайской живописи. Дракон — самое почитаемое животное в Китае. Он символизирует императора, который владел всем самым лучшим. В китайском искусстве дракон обычно используется в качестве украшения, отчасти потому, что его извивающееся тело воплощает совершенную, неповторимую ритмику, оно соединяет изящество и мощь. То, что дракон служит украшением, имеет глубокий смысл. У него красивые лапы с когтями, рога и борода, один вид которых гонит прочь любое однообразие. Ведь ради одной только декоративности мы могли бы изображать и змей. Но дракон — существо иного мира, он воплощает тот самый принцип «и», о котором мы уже говорили, а также и даосскую мудрость, так как часто прячется в облаках и редко показывается целиком. Так поступают и великие китайцы. Обладая совершенной мудростью и силой, они часто предпочитают уединение. Дракон может погрузиться в глубины горных озер, но может и вознестись к облакам. Мы не находим следов его пребывания в глубоких водоемах, но, когда он поднимается вверх, он сотрясает весь мир, подобно Чжугэ Ляну. Наводнения в Китае всегда вызваны телодвижениями дракона. Иногда мы видим, как он взмывает в небо, пронзая облака, среди грома и молний, срывая крыши домов, вырывая с корнями старые баньяны. Как же нам не почитать дракона, воплощающего силу и мудрость? Однако дракон — это не просто мифологическое существо или просто допотопное животное. Для китайцев горы и реки являются живыми существами. Изогнутые контуры горных хребтов для нас — спина дракона. Когда горы постепенно снижаются и сливаются с равниной или растворяются в море, мы видим хвост дракона. Это и есть китайский пантеизм и основа китайской геомантии. Таким образом, хотя геомантия, бесспорно, суеверие, она обладает огромной духовной и архитектурной ценностью. Суеверные люди считают, что, если согласно правилам геомантии похоронить предков в красивом месте так, чтобы с могилы открывался вид на драконовы и тигровые горы, тогда счастье и удача будут сопутствовать потомкам. Если место могилы предков, выбранное геомантом, действительно уникально, если, например, ей «выражают почтение пять драконов и пять тигров», то, бесспорно, среди потомков будет основатель императорской династии или хотя бы главный министр. Основами этого суеверия являются пантеистическая любовь к природе и сама геомантия, которая изощряет наше зрение, позволяя всюду видеть красоту. И мы пытаемся увидеть в очертаниях гор, в рельефе Земли тот же ритм, который мы видим в контурах животных. Куда ни повернись — всюду живая природа. Ритмичные линии природных объектов простираются на восток и на запад и соединяются в некоторой точке. К тому же красота пейзажа и всей поверхности земли для нас — не красота статических пропорций, а красота в динамике. Изгиб нам нравится не потому, что это просто изгиб, а потому, что в нем сокрыто движение. Гипербола всегда предпочтительнее идеальной окружности. Из этого следует, что в самом широком смысле между эстетикой геомантии и китайской архитектурой есть весьма тесная связь. Она побуждает искать подходящее место для строения, учитывая и пейзаж вокруг него. У меня есть друг. У могилы его предков был пруд, который считали счастливым, потому что, по общему мнению, это глаз дракона. Когда же пруд высох, семья потерпела крах. Пруд был расположен несколько ниже могилы. С эстетической точки зрения маленький пруд был важной составной частью погребального комплекса, образуя с могилой некое симметричное и прекрасное целое. Таково и последнее прикосновение кисти к изображению дракона — нарисуют его глаза, и картина сразу оживет. Вокруг могил из суеверных соображений нередко разгорались семейные распри и борьба кланов. Например, некто построил что-то около могилы чьих-то предков, прервав тем самым действие геомантических линий и испортив прекрасный вид с места могилы или поминального зала предков. Еще кто-то вырыл арык, сломав тем самым шею дракона и развеяв все надежды этой семьи на процветание. И, несмотря на все это, обогатила ли геомантия нашу эстетику, не помешала ли она, хотя бы в малой степени, геологическим изысканиям. Самым важным принципом китайской архитектуры является сохранение гармонии с природой. В некотором смысле оправа важнее драгоценного камня. Само здание может быть совершенным, но, не гармонируя с окружающим ландшафтом, оно своим излишне активным стремлением к самоутверждению вызовет у нас чувство дискомфорта. Речь идет о проявлении дурного вкуса, ведь лучшие здания всегда теряются в ландшафте и становятся его частью. На этом принципе основаны все формы китайской архитектуры — от маленьких горбатых мостиков и беседок у прудов до пагод и храмов. Их линии должны быть плавными и не навязчивыми. Крыши должны таиться под сенью деревьев, а мягкие ветви — нежно ласкать их. Китайские крыши не вопят и не тычут пальцем в небеса. Они лишь демонстрируют миролюбие, безмолвно и почтительно кланяются небосводу. Вот здесь живем мы и представители рода человеческого, свидетельствуют эти здания. Скрывая наши жилища, мы некоторым образом соблюдаем приличия. Поэтому мы покрываем крышами все наши дома и не разрешаем им таращиться на небо во всей своей бесстыдной наготе, подобно современным бетонным зданиям. Наилучший дом — когда в нем живешь и не чувствуешь, где кончается природа, а где начинается искусство. Поэтому крайне важно правильно использовать цвет. Терракотовые стены китайских храмов гармонируют с близкими сиреневыми горами, а их глазурованные крыши — зеленые, синие, фиолетовые и золотисто-желтые — прекрасно сочетаются с красными осенними листьями и небесной синевой. Такое сочетание красок дарит ощущение всеобщей гармонии. Мы стоим вдалеке, любуемся и называем все это красотой.
Глава 9 ИСКУССТВО ЖИТЬ
Наслаждение жизнью
Мы поймем страну, лишь узнав, каким образом ее народ наслаждается жизнью, — ведь только узнав, на что человек тратит свободное время, можно составить представление об этом человеке. Характер человека проявляется, лишь когда он откладывает в сторону работу, которую нельзя не выполнять, и обращается к любимому занятию. Только когда человек сбросит бремя общественных и служебных обязанностей, когда временно прекратится действие факторов корысти и честолюбия, когда душа будет странствовать по своему произволу, только тогда мы увидим его внутренний мир, его истинное «я». Жизнь жестока, политика — вещь грязная, торговля повязла в низкой корысти, и потому не всегда справедливо судить о человеке по его социальному статусу. Я обнаружил, что немало негодяев от политики в других сферах жизнедеятельности — милейшие люди. Множество бездарных и напыщенных ректоров университетов в семейной обстановке — тоже прекрасные люди. Вообще, китайцы на досуге намного симпатичнее, чем при исполнении служебных обязанностей. В политике они выглядят смехотворно, в обществе — по-детски наивны, однако на отдыхе блещут талантом. У них столько свободного времени, и оно приносит им столько радости. Досуг китайца — глава его открытой книги, и каждый может читать эту книгу вместе с хозяином. Лишь на досуге китаец становится самим собой и проявляет свои лучшие качества, лишь в частной жизни проявляются лучшие черты национального характера — сердечность, дружелюбие и теплота души. Имея вполне достаточно свободного времени, чем только китайцы не занимаются! Они едят крабов, пьют чай или чистую воду из источников, поют оперные арии, запускают воздушных змеев, играют в маялку, любуются острыми ростками трав, клеят картонные коробочки, отгадывают загадки, играют в мацзян и другие азартные игры, закладывают одежду в ломбардах, жуют женьшень, посещают петушиные бои, возятся с ребятишками, поливают цветы, сажают овощи, прививают фруктовые деревья, играют в шахматы, моются в бане, ведут праздные беседы, держат певчих птиц, спят после обеда, вкусно и обильно едят, гадают на пальцах, изучают хиромантию, болтают о лисах-оборотнях, слушают оперу, бьют в гонги и барабаны, играют на флейте, упражняются в каллиграфии, уплетают утиную требуху, солят морковку, перекатывают в руке грецкие орехи, выпускают полетать на привязи соколов, кормят голубей, ругаются с портными, совершают паломничества, ходят в храмы, любуются горами, наблюдают за гонками лодок, устраивают бои буйволов, принимают афродизиаки, курят опиум, болтаются без дела по улицам, смотрят на аэропланы, ругают японцев, глазеют на белых людей, критикуют политиков, читают буддийские сутры, практикуют глубокое дыхание, участвуют в собраниях буддистов, приглашают гадателей, ловят сверчков, лузгают арбузные семечки, спорят на лунные лепешки (юэбин), участвуют в празднике фонарей, возжигают благовония, едят лапшу, разгадывают литературные загадки, выращивают цветы в горшках, дарят друг другу подарки на день рождения, отбивают земные поклоны, рожают детей и спят. Все это потому, что китайцев всегда отличали сердечность, дружелюбие, живой характер, интерес ко всему на свете и умение развлекаться. Необразованное большинство сохранили эти качества и жизнелюбие, а вот образованные китайцы, как правило, отличаются плохим характером, пессимистичны, утратили всякое понятие о традиционных жизненных ценностях. Простые люди научились наслаждаться прекрасным не по книгам, а благодаря примерам, которые черпают из интересной и разносторонней общественной жизни. Души людей индустриальной эпохи неизбежно уродливы, а души некоторых китайцев особенно уродливы, потому что они предали забвению лучшие традиции прошлого и очертя голову бросились в погоню за всем европейским. Не обладая европейскими традициями, они выглядят при этом еще безобразнее. Из всех вилл и садов шанхайских миллионеров только один сад разбит в подлинно китайском стиле, и принадлежит он еврею. Все местные китайцы увлечены газонами для тенниса, цветочными клумбами геометрических форм, подстриженными кустарниками и деревьями, а также цветами, высаженными в форме английских букв. Шанхай — это не Китай, однако Шанхай — это зловещее предзнаменование будущего, которое грозит всему Китаю. Шанхай оставляет противный привкус, подобно западным пирожным, которые китайцы готовят на свином жире. Шанхай раздражает нашу нервную систему так же, как и китайский духовой оркестр, играющий на похоронах марш «Вперед, христианские солдаты!». Необходимо время для гармонизации неодинаковых традиций и вкусов. В старом Китае всегда ощущалось присутствие вкуса и чувства меры. Об этом свидетельствуют красиво оформленные старинные фолианты, изысканная бумага для писем, старинный фарфор, выдающиеся картины и вообще все антикварные изделия, которые не подверглись влиянию западной моды. Держа в руках старинные книги и любуясь бумагой для письма, которой пользовались ученые, чувствуешь, сколь тонок был эстетический вкус наших предков, сколь совершенен и гармоничен был художественный стиль, сколь мягки оттенки цвета. Всего лишь 20-30 лет назад китайцы носили длиннополые халаты зеленоватого цвета, присущего белку утиных яиц, а женщины носили одежды сиренево-красного цвета; тогда крепдешин был настоящим крепдешином, а прекрасные подушечки для печати с красной тушью всегда находили покупателей. Недавно шелкоткацкая промышленность объявила о банкротстве, потому что искусственный шелк дешевле, он хорошо стирается. Мастика с красной тушью по 32 юаня за унцию исчезла с рынка, уступив место фиолетовым чернилам и печатям из резины. Издревле присущие китайцам задушевность и доброжелательность лучше всего отражены в семейных эссе (сяопиньвэнь), этом продукте китайской духовности. Удовольствия праздной жизни являются их вечной темой. Речь идет об искусстве чаепития, вырезании печатей, а также о созерцании изделий из камня, выращивании цветов в горшках, например орхидей, плавании на лодках по озеру, восхождении на знаменитые горы, посещении могил красавиц древности, декламации стихов под луной, любовании грозой высоко в горах. Такие произведения написаны в непринужденном стиле, порой резком и все же мягком, как старое вино, в задушевной и изысканной тональности. Создается впечатление, будто у огонька беседуют друзья. Еще одна особенность стиля сяопиньвэнь — это поэтическая небрежность, сродни одеяниям отшельника. Эти произведения создают образ человека, довольного собой и всем мирозданием. Его богатство нематериально — это эмоции, жизненный опыт и изысканный вкус. Он чрезвычайно наивен, безразличен к внешнему миру, пребывает в мудрой праздности. Он горячо любит простую, но комфортабельную жизнь. Добродушие такого человека наиболее отчетливо отражено в предисловии к роману «Речные заводи», которое ошибочно приписывают автору самого романа; на самом деле оно написано в XVII в. критиком Цзинь Шэнтанем. Это предисловие — прекрасный пример китайского эссе и по стилю, и по содержанию. Его относят к жанру «беззаботности и беспечности», и удивительно, что оно стало предисловием именно «Речных заводей». Искусство жить считается в Китае «искусством всех искусств», и у нас много знатоков этого искусства. Более молодая цивилизация, возможно, направит все силы на продвижение по пути прогресса, однако государство древней цивилизации, которое, разумеется, много повидало на своем веку, интересуется лишь благоустройством частной жизни. Это акцентирование искусства жить особенно естественно для Китая с его традиционным духом гуманности. Человек благодаря этому оказывается в центре всех вещей, а счастье человека становится конечной целью всякого знания. Но даже и помимо гуманности древняя цивилизация успела разработать свои критерии социальных ценностей, потому что только она знает что такое «продолжительные радости жизни», связанные с органами чувств, — еда, питье, дом, сад, женщины, дружба. Вот в чем суть жизни! Вот почему в старинных городах, таких как Париж и Вена, есть прекрасные повара, первоклассное вино, красивые женщины и замечательная музыка. Человеческий ум, достигнув в своем развитии определенного рубежа, оказывается в тупике и потому, устав задавать вопросы, предпочитает, как Омар Хайям, окунуться в радости мирской суеты. Таким образом, любая нация, если она не умеет на китайский манер вкушать яства и вообще наслаждаться жизнью, является в наших глазах варварской, нецивилизованной. Некоторые произведения Ли Ливэна (XVII в.) специально посвящены удовольствиям частной жизни и являются карманными справочниками по китайскому искусству жить. В них есть место всему — искусству интерьера, садовому искусству, устройству легких внутренних перегородок, изготовлению женских туалетных столиков, прическам и макияжу, кулинарии (особенно искусству приготовления изысканных блюд). И богач, и бедняк найдут у Ли Ливэна совет, как радоваться жизни, как развеять тоску и скуку, как регулировать сексуальную жизнь, советы по профилактике и лечению болезней. Ли Ливэн делит лекарства на три категории; лекарство, соответствующее темпераменту человека, лекарство, которое необходимо в данный момент, и лекарство, которое человек любит и жаждет иметь. Эта глава содержит больше знаний по применению лекарств, чем лекции по фармакологии в медицинских институтах. Этот драматург-эпикуреец и великий поэт-комик знал, что говорил. Мы покажем далее, насколько досконально Ли Ливэн понимал искусство жить, насколько глубоко он проник в суть китайской души. Ли Ливэн в сочинении о цветах и деревьях и об искусстве ими наслаждаться так писал об ивах:Важное в ивах то, что их ветви свешиваются вниз потому что, если это не так, это будут не ивы. Важно, чтобы ветви были длинными, в противном случае они не будут грациозно раскачиваться на ветру. Какой тогда будет смысл в том, что они свешиваются вниз? На этом дереве любят отдыхать цикады и птицы. Именно благодаря этому дереву мы часто слышим вокруг пение и не чувствуем себя одинокими летом. Особенно это касается высоких деревьев. Итак, посадка деревьев — это не только радость для глаз, но и радость для ушей. Радость для глаз порой ограничена, если вы лежите в постели, но уши наслаждаются все время. Самые прекрасные песни птиц слышны, когда мы не сидим, а лежим. Каждый знает, что пение птиц следует слушать на заре, но не знают, почему их нужно слушать по утрам, ведь люди над этим не задумываются. Птицы боятся стрельбы из ружей, а после семи утра все люди уже на ногах, и птицы не чувствуют себя в безопасности. Поскольку они все время настороже, они не могут петь от всей души и даже если и поют, их пение звучит не столь красиво. Вот почему дневное время — не лучшая пора для слушания пения птиц. На рассвете люди еще спят, за исключением тех немногих, кто встает рано. Поскольку птицы не испытывают беспокойства, они поют непринужденно. Кроме того, их язычки находились без движения всю ночь и теперь рвутся показать свое мастерство. Следовательно, когда они поют, их сердца полны радости. Чжуан-цзы не был рыбой, но мог понимать радость рыбок; Ливэн не птица, но может понять радость птиц. Все певчие птицы должны считать меня закадычным другом... Есть множество проблем, связанных с посадкой деревьев, одна из них доставляет хлопоты при ухаживании за деревьями. Если крона деревьев слишком густая, она не пропускает лунный свет, скрывая красоту пейзажа. Но деревья в этом не виноваты, виноваты в этом люди. Если бы, сажая деревья, мы оставили вид на небольшой участок неба, мы бы любовались восходом и закатом луны и получали удовольствие и ночью, и днем.У него также есть мудрые замечания по поводу женской одежды:
Важным в женской одежде является не высокое качество ткани, а аккуратность, не яркая расцветка, а элегантность, не то, что зависит от семейного достатка, а то, что подходит ее лицу... Если вы возьмете одежду и дадите ее померить подряд нескольким женщинам, то увидите, что она подходит одним и не подходит другим, потому что цвет лица человека должен гармонировать с одеждой. Если лицо богатой женщины подходит не дорогому одеянию, а одежде простых тонов, но она будет настаивать на первом, то не станет ли одежда врагом ее лица?.. Та, у которой нежный цвет лица, отдающий белизной, чья фигура легка и округла, будет хороша в любой одежде. Светлые оттенки будут подчеркивать белизну ее лица, но темные цвета сделают это еще лучше. Одежды из богатых материй подчеркнут ее изысканность, но одежда из грубой ткани сделает это еще лучше... Но сколько на свете есть женщин такого типа? Женщина среднего телосложения, выбирая одежду, не может не учитывать сочетаемость цвета ткани со своею внешностью.В дни моей молодости девушки носили одежду розовых тонов, а те, кто постарше, — розовато-лиловую. Позднее на смену ярко-красному цвету пришел розовый цвет, а розовато-лиловый сменился синим. Еще позднее ярко-красный цвет уступил место сиреневому, а синий — зеленому. После смены династии (начало маньчжурского правления) зеленый и сиреневый исчезли, а женщины, молодые и пожилые, стали носить черное. Ли Ливэн далее рассуждает о высокой эстетической ценности любимого им черного цвета, о том, что он подходит любому возрасту, любому цвету лица. Бедные могут носить одежду черного цвета долго, потому что на ней не видно грязи, а богатые могут носить одежду ярких цветов под черным одеянием, и, когда подует легкий ветерок, эти яркие цвета будут видны, оставляя многое воображению. В эссе «Сон» есть прекрасный отрывок об искусстве полуденного сна:
Удовольствие от полуденного сна вдвое прекраснее, чем от сна ночного. Такой сон рекомендуется для лета, но не для других трех сезонов. И не потому, что я предпочитаю лето, а потому, что летний день вдвое длиннее, а летняя ночь не равна даже половине зимней. Если человек отдыхает летом только ночью, это означает, что он тратит четверть своего времени на восстановление сил, потраченных на работу в остальные три четверти времени. Разве можно этим поддерживать на должном уровне человеческую энергию? Кроме того, летом весьма жарко, и это утомляет. Соснуть при усталости так же естественно, как поесть, когда голоден, или попить, чувствуя жажду. Таковы основы гигиены. После обеда следует немного подождать, пока пища переварится, и только тогда направиться к постели. И не следует много думать о сне, ведь если человек ляжет спать с такой мыслью, сон не будет сладким. Перед сном человек должен чем-то заняться, затем его охватит дремота, и люди из царства сна будут манить его к себе, и он окажется там не напрягая душевных сил и сознания. Мне нравятся строки из старинного стихотворения: «Мои руки, когда утомлены, отбрасывают книгу в сторону, и полуденный сон длится долго». Когда вы держите в руках книгу, у вас не возникает мысль поспать, но когда вы ее отбрасываете, у вас не останется намерения ее читать. Вот почему вы делаете это совершенно бессознательно, не прилагая усилий. Таковы основы искусства сна.Лишь когда человечество овладеет искусством сна, о котором писал Ли Ливэн, и применит его на практике, можно будет назвать человечество истинно цивилизованным.
Дом и сад
Некоторые принципы китайской архитектуры обсуждены в разделе «Архитектура». Однако есть еще одна примечательная и достойная особого внимания сторона китайского дома и сада. Принцип сохранения гармонии с природой здесь восходит на новую ступень, поскольку в представлении китайцев дом и сад существуют не по отдельности, но являются частями органического целого. Недаром говорят юань-чжай, т.е. «сад-дом». Дом и сад никогда не станут органическим целым, если наш дом — это квадратное строение, окруженное аккуратно подстриженным газоном для тенниса. Говоря о саде, мы имеем в виду не газоны и цветочные клумбы геометрических форм, а участок земли, на котором можно посадить овощи, фруктовые деревья и отдохнуть под сенью дерев. Китайское представление о доме предполагает наличие самого дома, колодца, птичника и еще нескольких финиковых деревьев-цзаошу, которые гармонично рассажены в пределах сада. В старом Китае, как и в других странах сельской цивилизации, дом не занимал самого важного места в общей планировке комплекса «дом-сад». Человеческая цивилизация настолько изменилась по сравнению с прошлыми веками, что простой человек уже не может владеть пространством, обладать им. Мы ушли так далеко вперед, что человек должен считать себя счастливцем, если у него есть клочок подстриженного газона, посреди которого ему даже удается выкопать маленький прудик для золотых рыбок и соорудить искусственную горку, на которую муравей заберется за пять минут. Эти нововведения в корне изменили наши представления о доме. Теперь уже нет речи ни о птичнике, ни о колодце, ни о площадке, где дети могли бы ловить сверчков и в свое удовольствие вымазаться в грязи. А вот наше жилье превратилось в голубятню, которой присвоено красивое название «квартира». Наш дом состоит теперь из кнопок, выключателей, платяных шкафов, резиновых ковриков, скважин для ключей, отверстий для проводов и звонков охраны. Нет чердаков, нет пыли и нет пауков. Мы в значительной степени исказили понятие дома. Европейцы даже гордятся тем, что спят на кровати, которая днем называется диваном. Они показывают это ложе друзьям, удивляя всех достижениями современной технологической цивилизации. В наше время духовный дом разрушен, потому что исчез физический дом, как об этом сказал известный американский лингвист Эдвард Сепир. Люди переехали в трехкомнатные квартиры и все время удивляются, почему им никак не удается удержать детей дома. Средний китайский бедняк из деревни владеет большим собственным пространством, чем нью-йоркский профессор. Но не у каждой городской семьи в Китае есть большой дом и сад. Искусство состоит в том, как использовать ограниченные подручные средства, чтобы оставить место для развития человеческой фантазии, покончить с однообразием белых стен и маленьких узких двориков. Шэнь Фу (середина XVIII в.), автор «Фушэн люцзи» («Шесть записок о быстротекущей жизни»), рассказывает в изящной миниатюре, отражающей лучшие качества китайской духовности, как даже бедные ученые умудрялись построить красивый дом. Исходя из основного принципа — нерегулярности китайской архитектуры, — мы с помощью богатой фантазии добились эффекта «сокровенного и непредвиденного», который позволяет создавать бесконечно разнообразные особняки богатых ученых и столь же разнообразные домики бедных ученых. В «Фушэн люцзи» находим подтверждение этого принципа. Автор уверен, что даже дом бедного ученого можно обставить изящно и красиво. Этот принцип можно сформулировать так: «Показать большое в малом и малое в большом, реальное в нереальном инереальное в реальном». Шэнь Фу пишет:Определяя места для садовых беседок и теремов, извилистых галерей и флигелей, выбирая форму искусственных скал, места посадки цветов и деревьев, необходимо показывать «малое в большом и большое в малом, реальное в нереальном и нереальное в реальном». Человек либо что-то обнажает, либо что-то прячет, то в большей степени, то в меньшей... Для этого не нужно обширного пространства, не нужно расходовать много мускульной энергии и строительных материалов. Постройте горку из выкопанной тут же земли и украсьте ее камнями вперемешку с цветами. Используйте живые ветки дикой сливы для забора и посадите ползучие растения у стены. Так получатся горы без гор. На большом открытом пространстве посадите быстрорастущий бамбук и подсадите к нему деревья дикой сливы с толстыми ветвями, которые будут его укрывать. Таким образом, вы покажете малое в большом. Если двор маленький, стена должна представлять собой сочетание выпуклых и вогнутых форм, украшенных зеленым вьющимся плющом и большими пластами камня с надписями на них. И тогда, раскрыв окно, вы любуетесь каменной стеной, которая кажется вам высокой и крутой горой. Это и есть «показать большое в малом». Ухитритесь сделать так, чтобы отдаленная тупиковая аллея внезапно открывалась бы в открытое пространство, а черный ход на кухню привел бы в другой дворик. Это и есть «проявить реальное в нереальном». Дворик не проходной, посадите там несколько бамбуковых деревьев и установите несколько камней в перспективе. Так вы намекаете на что-то, чего нет. Соорудите низкую балюстраду поверх стены, чтобы намекнуть на существование террасы, которой там нет. Это и есть «проявить нереальное в реальном». Бедные ученые, живущие в перенаселенных домах, должны следовать примеру лодочников в моем родном краю, которые, учитывая малое пространство, придумывают забавные устройства на носу своих лодок... В Янчжоу мы с женой жили в домике, где было всего две комнаты, однако благодаря изощренным выдумкам получились спальня, кухня и общая комната — и все было так изысканно, что мы не чувствовали тесноты. Однажды жена со смехом сказала мне: «Все обставлено довольно изысканно, но атмосферы богатого дома здесь не чувствуется». Так оно и было.Давайте последуем на время за этими двумя простодушными существами — бедным ученым и его артистичной женой. Посмотрим, как они пытаются выжать хоть капельку счастья из своей горестной и печальной жизни, постоянно опасаясь зависти богов, способных пресечь их недолгое счастье.
Однажды я посетил могилу предков на горе и нашел несколько необычайно красивых камешков с еле заметными следами рисунков. Вернувшись, я рассказал об этом Юнь: «Обычно смешивают шпаклевку с юань-чжоуским камнем в белой каменной чаше, потому что цвета этих двух компонентов подходят друг другу. Здешние желтые камешки, однако, отличаются друг от друга, и, несмотря на свою красоту, они не подходят к цвету шпаклевки. Что же делать?» — «Возьми камешки качеством похуже, — сказала она. — Расколи их на мелкие кусочки и смешай со шпаклевкой, пока она не высохла. Возможно, высохнув, она воспримет цвет от камешков». Мы последовали ее совету и в прямоугольную исинскую глиняную чашу насыпали камешки, слева — повыше, справа — пониже. На дне мы нарисовали неровные горизонтальные линии, как в картинах Ни Юньлиня, так, что все это казалось скалистым обрывом, нависающим над рекой. С одной стороны мы оставили пустое место, которое заполнили илом и посадили там ряску с множеством белых лепестков. На камнях мы посадили повилику. На все это ушло несколько дней... Поздней осенью повилика разрослась, подобно глицинии, свешивающейся со скалы. Красные цветы повилики составляли удивительный контраст с белыми цветами ряски, которая роскошно цвела внизу в пруду. Это зрелище переносило в некий фантастический мир... Затем мы стали обсуждать, где поставить беседку, где построить сельский домик, где сделать на камне надпись: «Средь опадающих лепестков и журчания текущей воды». Потом Юнь рассуждала о том, где построить наш дом, прямо из окон которого мы ловили бы рыбу и любовались далями. Нас все это так захватило, что казалось, будто мы поселимся в некоей вселенной. Но однажды ночью две кошки подрались из-за пищи и упали с чердака, разбив сосуд со всем содержимым. Со вздохом я сказал: «Божества, видимо, нам завидуют и мешают даже столь ничтожным нашим планам». И мы оба невольно проронили слезу.Отличие частного дома от общественного здания состоит в том, что мы строим его в собственном стиле и тратим на него время и силы. Обустройство дома и внутреннее его убранство нельзя получить в подарок от архитектора или сразу купить в первоклассной фирме. Лишь некоторая леность духа и беззаботная нега позволяют жить в доме с удовольствием, и тогда эта жизнь станет искусством. И Шэнь Фу, и Ли Ливэн проявляют любовь и внимание к мелочам жизни и дают гениальные советы по ухаживанию за цветами, их аранжировке в вазах, использованию двориков, искусству сочетать благовония или прорубать в стенах окна так, чтобы открывающийся из них вид можно было бы положить на полотно картины. Шэнь Фу и Ли Ливэн учат развешивать на стенах картины и свитки с надписями, расставлять стулья, а также устанавливать изобретенный Ли Ливэном подогреваемый древесным углем письменный стол, под которым зимой не мерзнут ноги. Мы не можем здесь во всех деталях описать интерьер. Проще сказать, что основной принцип расположения двориков и кабинетов ученых, декора ваз — красота и простота. Многие кабинеты ученых расположены так, чтобы оттуда открывался вид на маленький чистый дворик, символизирующий тишину и покой. Посреди дворика стоят искусственные горы — два-три гармонично расставленных камня, испещренные отверстиями, которые напоминают следы морских волн. Некоторые из них похожи на окаменевшую кору деревьев. Кроме того, высажены несколько стоящих в ряд тонкоствольных бамбуков, особенно радующих глаз. Возможно, в стене есть веерообразное окно, обрамленное глазурованной черепицей, похожей на бамбук. Оно напоминает о внешнем мире с его пшеничными полями и крестьянскими хижинами. Принцип «удивления», который Шэнь Фу описал применительно к домикам бедных ученых, вполне пригоден и для планировки садов в богатых домах. Английское слово garden дает совершенно неверное представление о китайском саде юань, так как в английском саду должен быть подстриженный газон, цветочные клумбы, на китайский вкус слишком аккуратные и строгие по форме. Китайский юань предполагает в первую очередь дикий ландшафт, возможно размещенный и спланированный более художественно, чем сделала бы это сама природа, но сохранивший ее естественность. Это сад со свободно растущими деревьями, в том числе плодовыми, искусственными горками, ручьями, горбатыми мостиками, лодками, клочком земли под огород и небольшим количеством цветов. Все искусственные строения образуют с садом органичное целое: без аккуратного палисадника, без подстриженных в виде шара или конуса деревьев, без симметрично расположенных рядов деревьев, похожих на солдат в боевом построении перед битвой, без прямолинейных аллей. Короче, без всего того, что делает Версаль безобразным в глазах китайцев. В китайском саду мы повсюду видим кривые и ломаные линии, повсюду — скрытые намеки. В китайских воротах нет щелей, и потому никто из чужих не увидит подходов к самому дому, ибо это противоречило бы принципу «сокровенного» в китайской архитектуре. Если смотреть через открытые ворота, мы, возможно, увидим искусственную горку, но мы так и не узнаем, что скрывается за нею. Войдя в ворота, мы шаг за шагом открываем для себя все новые красоты, вызывающие восторг. И это все потому, что мы в малом видим большое, а большое — в малом. Правда, всё вместе порой можно увидеть с высоты птичьего полета, но тогда не осталось бы места для человеческой фантазии. Особенность китайского сада — сознательно созданный беспорядок, и только это одно создает ощущение его безграничности и грандиозности, и в идеале он именно таков. Когда богатый образованный китаец планирует свой сад, он порой достигает состояния, близкого к религиозному экстазу. Вот как Ци Бяоцзя (1603—1645) описывает такое состояние:
Сначала я хотел построить дом только с четырьмя или пятью комнатами, и друзья сказали мне, где я должен поставить беседку и где — летний домик. Я несерьезно отнесся к этим советам, но некоторое время спустя их идеи завладели мной, мне казалось, что я и в самом деле должен поставить беседку тут, а домик там. Затем новые идеи нахлынули на меня, преследовали меня всюду и даже являлись во сне... Интерес мой рос день ото дня. Я шел в сад ранним утром и возвращался поздно ночью, все домашние дела решал уже при свете лампы. Рано поутру, встречая первые утренние лучи, я вставал и просил слугу поехать со мной в лодке и, хотя нужно было проплыть всего три ли, мне не терпелось поскорее добраться до места. Так продолжалось и зимой, и летом, и в дождь, и в солнечные дни. Ни жгучий мороз, ни жаркое солнце не останавливали меня, не было дня, чтобы я не посещал сад. Однажды я пошарил под подушкой и обнаружил, что кончились деньги; это меня раздосадовало, ведь мне нужно было все больше камня и других материалов. Вот почему последние два года мой кошелек всегда пуст, от безденежья я заболевал, потом выздоравливал, а затем снова болел... Два зала, три беседки, четыре коридора, две башенки и три набережных... В общем, найдя пустое пространство, я что-нибудь там строил, а где тесно, оттуда я что-нибудь убирал. Если предметы стояли тесно, я их раздвигал; когда они были расставлены слишком редко, я их сдвигал. Там, где неудобно ходить, я убирал неровности, а там, где ровно, я их создавал. Подобно хорошему доктору, я использовал и успокаивающие, и возбуждающие лекарства, подобно хорошему военачальнику, я применял на поле боя и стандартную, и необычную тактику. Подобно хорошему художнику, я не позволял себе ни одного неверного мазка, подобно талантливому писателю, не позволял себе ни одной фразы, нарушающей гармонию.Гармоничность, нерегулярность, неожиданность, сокровенность, намек — вот некоторые принципы китайского садового искусства, как и других областей китайского искусства.
Еда
Что вы едите? Китайцам часто задают такой вопрос. Мы отвечаем, мы едим все, что съедобно. Предпочитаем, например, крабов, но если необходимо, то часто едим и коренья. Экономическая необходимость — мать всех наших открытий в сфере кулинарии. Наше население слишком многочисленно, а голод посещает нас слишком часто, и приходится есть все, что у нас под руками. Перепробовав абсолютно все съедобное, мы совершили ряд открытий, порой столь же случайных, как и в китайской традиционной медицине. Например, мы наткнулись на корень женьшеня, который обладает чудодейственным тонизирующим эффектом и укрепляет здоровье. Я готов лично свидетельствовать, что это самое тонизирующее средство длительного действия, которое только известно человечеству; оно действует на организм медленно и мягко. Оставляя в стороне такие случайные открытия и в медицине, и в кулинарии, мы, без сомнения, можем считать себя самыми всеядными животными на земле. Пока у нас есть зубы, мы будем сохранять эту лидирующую позицию. Возможно, однажды дантисты обнаружат, что у китайской нации самые крепкие и прекрасные зубы. Раз природа одарила нас хорошими зубами и нам постоянно грозил голод, вполне естественно, что в один прекрасный день мы обнаружили, что жареные жуки и пчелиные куколки-фри — это изысканные деликатесы. Мы не нашли вкуса только в сыре и не стали его есть. Монголы не сумели уговорить нас есть сыр, и у европейцев вряд ли есть шанс. В вопросе пищевых предпочтений логика бесполезна. На обоих берегах Атлантического океана водятся два вида моллюска: Муа arenaria и вполне съедобная мидия в двустворчатой раковине, Mytilus edulis. На обоих берегах океана они принадлежат к одному и тому же виду. В Европе предпочитают мидии, а Муа arenaria не любят. В Америке ситуация противоположная, как об этом авторитетно заявляет Ч. Таунсенд (Scientific Monthly, июль 1928). Он также упоминает о том, что камбала в Англии и Бостоне продается по высокой цене, а в Ньюфаундленде рыбаки считают ее несъедобной. Мы же, как европейцы, едим мидий и, как американцы, едим самых различных моллюсков, но мы не можем, подобно американцам, есть живых устриц. Никто не убедит меня в том, что мясо змеи на вкус напоминает курятину. Я прожил в Китае 40 лет и ни разу не ел змей и не видел, чтобы это делали мои родственники. Рассказы о том, будто в Китае едят змей, распространяются значительно быстрее, чем рассказы об употреблении в пищу курятины, между тем курятина, которую едим мы, гораздо вкуснее той, которую едят белые люди. Употребление же в пищу змей в равной степени экзотично как для китайцев, так и для иностранцев. Мы можем лишь сказать, что вкусы китайцев весьма многообразны, и каждый разумный человек может взять с китайского стола любое блюдо без всякой опаски. Голод не позволяет нам быть разборчивыми в еде. Нет ничего такого, что не съел бы человек во время голода. И тот, кто не голодал, не имеет права осуждать голодного. Некоторые китайцы во время голода были вынуждены есть даже собственных детей. Правда, такое случалось крайне редко, но, слава Богу, их не ели сырыми, а вот англичане едят же бифштекс с кровью! Если к чему-либо и относиться серьезно, то именно к еде, а не к религии или к ученым занятиям. Мы открыто восхваляем еду как одну из немногих радостей жизни. Этот вопрос весьма важен, потому что не будь мы в этом совершенно искренни, мы никогда не возвели бы еду и ее приготовление в ранг искусства. В Европе французы и англичане по-разному относятся к еде. Французы едят с увлечением, тогда как англичане как будто извиняются за то, что вообще едят. Китайский национальный дух во всем, что касается еды, ближе французскому. Англичане относятся к еде несерьезно, для них это вещь неважная. Это отношение подтверждается всем их образом жизни. Если бы они понимали вкус в еде, то это нашло бы отражение в их языке. В английском языке нет слова, которое обозначало бы «cuisine», у них есть лишь слово «cooking».; у них нет подходящего слова для «chef», они зовут его просто «cook». Они не говорят «menu», заменяя его словом «dishes». У них нет слова «gourmet», они его заменили словосочетанием из детского фольклора «Greedy Gut». На самом деле англичане не признают, что у них есть желудок, и не заговорят о нем, пока он не заболит. В результате, пока француз будет рассказывать о кулинарном искусстве своего шеф-повара, прибегая к нескромной, по мнению англичанина, жестикуляции, англичанин с трудом отважится говорить о еде и о своем поваре, не жертвуя красотой родного языка. Под влиянием своего французского гостя он процедит сквозь зубы, что «пудинг весьма хорош», и оставит эту тему. Если пудинг вкусный, то непременно есть на то причина, но над этим англичанин не станет размышлять. Все англичане интересуются лишь защитой от простуды при помощи бульона «Боврил», чтобы сэкономить на докторе и лекарствах. Однако, если не обсуждать вопросов питания, невозможно создать искусство национальной кухни. Чтобы понять, что именно нужно есть, надо об этом разговаривать. Кулинарное искусство развивается только в том обществе, где образованные люди интересуются здоровьем своих поваров, а не болтовней о погоде. Настоящую радость от еды можно получить только в том случае, если до трапезы нетерпеливо ожидать ее, ведя разговоры о еде, а после трапезы — наперебой обсуждать искусство повара. Проповедники не должны бояться осуждать плохой бифштекс с кафедры, а ученым следует писать книги по кулинарному искусству, как это делают китайские ученые. Задолго до получения какого-либо особого продукта мы начинаем думать о нем, он завладевает нашими мыслями, и мы предвкушаем наслаждение прекрасным блюдом, да еще в обществе близких друзей. В приглашениях на обед следует писать: «Племянник привез из Чжэньцзяна особый уксус и настоящую соленую утку из Нанкина». Или так: «Уже конец июня, и если ты не придешь, то до мая будущего года ты не сможешь попробовать атлантическую сельдь». Задолго до восхода осенней луны такие истинные ученые, как Ли Ливэн, по его же словам, начинали экономить, выбирали достопримечательное место, чтобы пригласить друзей полакомиться крабами среди хризантем, при свете полной луны в дни праздника Середины Осени. Еще можно обсудить с друзьями, как раздобыть вина из погребов губернатора Дуань Фана. Об этом мечтают так же, как англичане мечтают о выигрышном номере на скачках. Только такое отношение к вопросам еды позволяет кулинарии стать искусством. Нам нисколько не стыдно за нашу еду. У нас есть «свинина Су Дунпо», «доуфу Цзянгуна». В Англии даже представить себе трудно «бифштекс Уордсуорта» или «котлеты Голсуорси». Уордсуорт воспевал «простую жизнь и высокие мысли», но не упомянул, что хорошая еда, в особенности свежие побеги бамбука и грибы, являются одной из радостей простой деревенской жизни. Китайские поэты, подлинные утилитаристы, откровенно воспевали «фарш из окуня» и овощной суп шунь, который едят в их родных местах. Такие размышления считаются в Китае настолько поэтичными, что чиновники в прошении об отставке писали, что «думают об овощном супе шунь. На деле любовь к родным местам в немалой степени — это воскрешение глубоко чувственных радостей детства. Верность дядюшке Сэму есть верность американским жареным пирожкам; верность германскому фатерланду на самом деле — это преданность блинам и клецкам, но американцы и немцы с этим не согласятся. Многие американцы, живущие в других странах, мечтают о домашней ветчине и сладком картофеле, но они никогда не признаются, что именно эти воспоминания вызывают у них мысль о доме, и тем более не захотят написать об этом в стихах. Есть множество свидетельств серьезного отношения китайцев к еде. Всякий, кто хотя бы перелистает роман «Сон в красном тереме» или любой другой китайский роман, поразится неизменно детальным описанием меню завтрака Дайюй, того, что именно ел в полночь Баоюй. Чжэн Баньцяо в письме младшему брату опоэтизировал жидкую рисовую кашу:В холодные дни, когда приходят бедные родственники или друзья, прежде всего протяни им чашку риса жареного и маленькую тарелочку имбиря или пикулей. Это лучший способ выразить сочувствие людям пожилым и бедным. Во время отдыха съешь рисовые лепешки или приготовь «водянистую кашку», держи чашку двумя руками и ешь, втянув голову в плечи. Морозным утром она согреет всего тебя. Увы! Увы! Боюсь, что останусь крестьянином до конца дней!Китайцы относятся к еде так же, как они относятся к сексу, женщинам, к жизни в целом. Ни один великий английский писатель не снисходил до того, чтобы написать кулинарную книгу, которая, как они считают, не относится к сфере литературы и годится лишь для домохозяек, этаких «тетушек Сьюзен». Однако великий поэт и драматург Ли Ливэн не считал ниже своего достоинства писать о том, как готовить грибы, овощи, а также невегетарианские блюда. Другой выдающийся поэт и ученый — Юань Мэй написал, толстенную кулинарную книгу, а также замечательное эссе о своем поваре. Он описывает этого повара так же, как Г. Джеймс описывает английского дворецкого, истинного профессионала, держащегося с достоинством. Из всех англичан Г. Уэллс более других был склонен писать о еде, но сделать этого он не смог. Остальные английские писатели, при всей обширности их знаний, и вовсе безнадежны в этом смысле. Анатоль Франс был писателем типа Юань Мэя. Он, возможно, мог в письме закадычному другу изложить рецепт жареной телячьей печенки или грибного блюда, но я весьма сомневаюсь, что он счел бы такое письмо частью своего литературного наследия. Два принципа отличают китайскую кухню от европейской. Первый состоит в том, что мы едим пищу ради ее съедобной мякоти, которая прельщает нас нежностью своей массы или хрустящей корочкой, а также ароматом, вкусом и цветом. Ли Ливэн называл себя «рабом краба», потому что мясо краба сочетает изысканные цвет, аромат и вкус. Изложенное выше не всем понятно, между тем большая популярность ростков бамбука обусловлена именно тем сопротивлением, которое их мякоть оказывает зубам. Возможно, ростки бамбука наилучшим образом характеризуют наш вкус. Они не жирные, их вкус совершенно неуловим. Но самое важное в том, что ростки бамбука передают свой аромат мясу (в особенности свинине), которое приготовлено вместе с ними. С другой стороны, они сами обретают вкус свинины. Это второй принцип, связанный со смешиванием ароматов, в сем и состоит искусство китайских кулинаров. Хотя китайцы признают, что многие продукты — например, свежую рыбу — следует готовить в собственном соку, они, как правило, смешивают ароматы различных продуктов значительно чаще, чем западные повара. Например, никто не знает, какова капуста на вкус до тех пор, пока не попробует ее приготовленной с курятиной, и вкус курятины перейдет к капусте, а вкус капусты — к курятине. Благодаря принципу смешивания возникает бесчисленное множество комбинаций вкуса. Сельдерей можно есть сырым, и его можно поджарить отдельно. Но когда китайцы видят во время европейского ужина шпинат или морковь, приготовленные отдельно и поданные на одной тарелке со свининой или жареной гусятиной, они посмеиваются над «этими варварами». Китайцы обладают бесспорным чувством меры в живописи и архитектуре, но в том, что касается еды, они его полностью теряют. Садясь за стол, они едят до отвала. Любое главное блюдо, например целую жирную утку, частенько подают после 12-13 перемен. По правде говоря, одной утки было бы вполне достаточно, чтобы накормить досыта любого. Все дело в ложных стандартах гостеприимства. С другой стороны, во время ужина блюда подаются одно за другим без всякой спешки, и в перерывах между ними гости участвуют в разных играх, связанных с вином, или соревнованиях по стихосложению, что, естественно, дает желудку время на переваривание съеденного. Скорее всего, низкая эффективность работы китайских чиновников прямо зависит от того, что все они следуют негуманному обыкновению посещать за один вечер три-четыре банкета. На этих банкетах только 1/4 часть еды призвана накормить, а остальные 3/4 убивают. Вот почему богатые люди часто страдают печенью или почками, о чем периодически сообщают газеты, когда чиновники, ссылаясь именно на эти болезни, подают в отставку. Хотя китайцам есть чему научиться у Запада в деле правильной организации банкетов, но в кулинарии и в медицине китайцы располагают множеством прекрасных рецептов, которыми могут поделиться с европейцами. В приготовлении простых блюд, таких как капуста с курятиной, у китайцев есть богатый опыт, который можно передать Западу, когда Запад будет готов смиренно чему-то у нас учиться. Это кажется нереальным, пока Китай не построит несколько хороших военных кораблей, которые хорошенько дадут европейцам по зубам. Только тогда признают, что у нас лучшие в мире повара. Однако пока что об этом нет смысла говорить. Тысячи англичан, обитателей международного сеттльмента в Шанхае, ни разу не переступили порог китайского ресторана, а китайцы — плохие прихожане евангелических церквей. Мы никогда не заставляем спасаться тех, кто не просит нас об этом. К тому же у нас нет военных кораблей, но даже если бы они и были, мы никогда бы не отправились на Темзу или Миссисипи стрелять в англичан или американцев, чтобы отправить их на небо против их воли. Что касается различных напитков, то мы здесь от рождения сдержанны, за исключением чая. Из-за сравнительно малого количества крепких напитков у нас очень редко на улице можно увидеть пьяного. Чаепитие само по себе — целая наука. Для многих оно стало религией. Издано немало книг о чае, курительных свечах, вине и камнях, встроенных в интерьер. Чаепитие украсило повседневную жизнь всей нации, и его роль в этой сфере значительнее, чем у любого аналогичного изобретения. Чайные благодаря этому напитку вошли в повседневную жизнь китайцев точно так же, как кафе, куда часто ходят простые европейцы. Люди пьют чай либо дома, либо идут в чайную, в одиночестве или в компании, во время собраний и при разрешении конфликтных ситуаций, до завтрака и в полночь. Был бы чайник, а с ним китаец повсюду счастлив. Это безобидная привычка, и она не наносит вреда, за исключением редких случаев, подобных тем, что произошли у меня на родине, где, говорят, некоторых пристрастие к чаепитиям довело до разорения. Это возможно, если пить чай очень дорогих марок, однако обычный чай дешев и притом бывает настолько хорош, что им можно угощать коронованных особ. Самый хороший чай мягок и обладает послевкусием, которое возникает, когда действие содержащихся в нем веществ достигает слюнных желез. Хороший чай создает хорошее настроение. Я не сомневаюсь, что он продлевает жизнь китайцев, помогая пищеварению и даруя душевный покой. Выбор чайного листа и родниковой воды тоже есть искусство. Я хочу привести в пример ученого Чжан Дая, жившего в начале XVII в. Он написал сочинение об искусстве дегустации чая и родниковой воды, и мы видим, что он был великим и непревзойденным знатоком:
Чжоу Монун часто восхищенно рассказывал мне о чае Минь Вэньшуя. В девятый месяц какого-то года я прибыл в тот город и навестил Минь Вэньшуя в Таоеду (Переправа персиковых листьев). Было послеобеденное время, и Вэньшуя не было дома. Он вернулся поздно; оказалось, что это старец. Мы только начали разговор, когда он неожиданно встал, сказал, что где-то забыл свой посох, и ушел. Я решил не упускать случая с ним поговорить и потому стал ждать. Спустя долгое время, уже ночью Вэньшуй вернулся. Он уставился на меня и сказал: «Вы еще здесь? Зачем Вы хотите меня видеть?» Я сказал: «Я давно слышал о Вас и намерен перед уходом выпить с Вами чаю!» Вэньшуй был тронут и встал, чтобы приготовить чай. Затем он провел меня в комнату, где все было чисто и опрятно, и я увидел более десятка видов цзинчиских чайников и сюаньяоских и чэнъяоских пиал, редких и драгоценных. В свете лампы я увидел, что цвет чая нельзя было отличить от цвета самих пиал, но аромат достиг моих ноздрей, и я почувствовал себя счастливым. «Что это за чай?» — спросил я. «Ланвань», — ответил он. Я попробовал его снова и сказал: «Не обманывайте меня. Метод заваривания называется ланвань, но сам чайный лист не называется Ланвань». — «Тогда что это?» — улыбнулся Вэньшуй. Я попробовал снова и сказал: «Почему он так похож на чай Лоцзе?» Вэньшуй был поражен моим вопросом и сказал: «Замечательно! Замечательно!» — «Какая у Вас вода?» — спросил я. «Из источника Хуэйцюань», — ответил он. «Не надо шутить надо мной! — сказал я снова. — Можно ли доставить сюда, на такое расстояние, эту воду, чтобы она и после тряских дорог осталась свежей». И Вэньшуй сказал: «Ладно, не буду больше обманывать. Когда я беру воду из Хуэйцюаня, я выкапываю колодец и жду целую ночь, пока в нем не появится вода. Я кладу много камней на дно кувшина и во время перевозки воды разрешаю плыть только на парусах, а не на веслах, и уровень воды в кувшине не меняется. Поэтому эта вода даже лучше обычной хуэйцюаньской воды, не говоря уж о воде других источников». Он снова сказал: «Замечательно! Замечательно!» — и, даже не закончив фразу, удалился вновь. Вскоре он пришел с другим чайником и попросил меня попробовать его содержимое. Я сказал: «Аромат сильный, а вкус очень мягкий. Это, должно быть, весенний чай, а тот, который мы только что пили, осенний чай». Вэньшуй расхохотался и сказал: «Мне уже 70 лет, но я никогда не встречал такого знатока чая, как Вы». После этого мы быстро стали друзьями.Это древнее искусство теперь почти утеряно, оно известно лишь немногим любителям и знатокам. В прошлом на китайских железных дорогах труднее всего было получить хороший чай, даже в вагоне первого класса, где чай «Липтон», видимо самый не подходящий моему вкусу, подавали с молоком и сахаром. Когда лорд Липтон посетил Шанхай, его принимал у себя дома богатый китаец. Он захотел выпить китайского чая, но его просьбу невозможно было выполнить. Ему подали «Липтон» с молоком и сахаром. Сказанного мною вполне достаточно, чтобы показать, что китайцы, когда бывают в своем уме, знают, как нужно жить. Искусство жить является их вторым инстинктом, подлинной религией. Если кто-либо говорит, что китайская цивилизация — духовная цивилизация, то он говорит неправду.
ЭПИЛОГ
Конец жизни
После общего обзора китайского искусства и китайского образа жизни мы должны признать, что китайцы действительно большие мастера искусства жить. Они изо всех сил стараются достичь материального достатка и в своем энтузиазме нисколько не уступают Западу, а, возможно, превосходят его. В Китае духовные ценности не отделяют от ценностей материальных, наоборот, последние помогают полнее переживать ту жизнь, которая отпущена нам судьбой. Вот почему у нас радостно на душе и мы во всем видим смешную сторону. Язычник, видимо, предан сегодняшнему дню, он соединяет воедино материальные и духовные ценности, и христианину трудно это себе представить. Мы можем одновременно жить в мире телесных ощущений и в мире духа, и это не создает какого-либо конфликта. Потому что человеческий дух делает жизнь прекраснее, раскрывая ее суть, порой помогая преодолеть безобразие и боль, неизбежные в мире чувственных ощущений. Но цель не в том, чтобы уйти от действительности и искать смысл жизни в потустороннем существовании. Конфуций, отвечая на вопрос одного из учеников по поводу смерти, сказал: «Не зная жизни, как можно познать смерть?», выражая такими словами вполне обывательский, конкретный и практичный поход к вопросу о жизни. Именно такое понимание характеризует жизнь и образ мышления нашей нации. Благодаря такой позиции сформировалась шкала ценностей, определяющая отношение к любому аспекту знаний и жизни. Руководствуясь ею, мы чувствуем симпатию или антипатию к чему-либо. Эта система ценностей давно формирует сознание всей нации и не нуждается в каких-либо разъясняющих ее трактатах, в определениях и толкованиях. Я считаю, что именно эта система ценностей побуждает нас прямо-таки на уровне инстинктов подвергать сомнению городскую цивилизацию и превозносить деревенские идеалы в жизни, в искусстве и литературе. Да и в самом нашем существовании она обусловила неприязнь к религии, к игре в буддизм, если не принимаются в полной мере его логические умозаключения. Наша система ценностей породила и ненависть к техническим изобретениям. Вместе с тем именно наше инстинктивное жизнелюбие обусловило и несокрушимо здравый взгляд на все те изменения, с которыми сталкиваешься в калейдоскопе нашей жизни, на мириады обременительных для интеллекта проблем — мы их просто игнорируем. Наша система ценностей позволяет воспринимать жизнь спокойно, она научила нас таким простым вещам, как уважение к старикам, законность земных радостей, признание половых различий, печали, когда на душе печально. Она заставила нас обратить внимание на такие положительные качества, как терпение, трудолюбие, экономность, умеренность и миролюбие. Эта система предотвратила развитие у нас причудливых экстремистских теорий, помешала нам превратиться в рабов собственной мудрости. Она научила нас принимать от жизни и материальные, и духовные дары. Она говорит нам: вопреки всему лишь человеческое счастье есть конечная цель всякого знания. Поэтому мы должны перестроиться так, чтобы независимо от превратностей судьбы сделать счастливой жизнь на этой планете. Мы — древняя нация. Взгляды пожилых людей обращены в прошлое нации, перемены в сегодняшней жизни действительно поверхностные, хотя многие из них реально значимы для нашей жизни. Мы с некоторой долей цинизма воспринимаем прогресс, мы несколько ленивы, как все старые люди. Мы не хотим бегать за мячом по полю, а предпочитаем прогуливаться по заросшим ивами берегам, слушая пение птиц и смех детей. Жизнь — ненадежная штука, поэтому, если что-то в ней нам нравится, мы крепко держимся за это «что-то», как мать темной ночью во время бури крепко прижимает к груди ребенка. Нас нисколько не интересует проблема открытия Южного полюса или восхождение на Эверест. Когда это делают европейцы, мы спрашиваем: «Зачем вы этим занимаетесь? Разве вам нужно отправляться на Южный полюс, чтобы быть счастливыми?» Мы ходим в кино и театры, но в глубине души мы чувствуем, что смех живых детей приносит нам гораздо больше истинной радости и счастья, чем детский смех, доносящийся с киноэкрана. Сопоставив все это, мы предпочитаем оставаться дома. Мы не считаем, будто целовать чужую жену завлекательнее, чем собственную (будто бы давно надоевшую), и только потому, что это чужая жена. Находясь в лодке посреди озера, мы не стремимся перенестись к подножию горы; стоя у подножия горы, мы не стремимся во что бы то ни стало взойти на ее вершину. Мы пьем вино, которое у нас есть, радуемся пейзажу прямо у нас перед глазами. Человеческая жизнь в немалой степени представляет собой фарс. Порой лучше стоять в стороне и с улыбкой наблюдать за ней. Это намного приятнее, чем принимать в ней участие. Подобно человеку, только что пробудившемуся ото сна, мы смотрим на жизнь ясным взглядом, позабыв о романтических сновидениях минувшей ночи. Мы можем без всякого сожаления отложить на потом пусть и притягательные, но труднодостижимые цели и в то же время прочно удерживать то, что, как мы ясно сознаем, принесет нам счастье. Мы часто обращаемся к природе, ибо считаем ее вечным источником красоты и счастья. Несмотря на отсутствие прогресса в политической сфере и крайнее ослабление нашего государства, мы открываем настежь окна, чтобы наслаждаться стрекотанием цикад и легким шуршанием опадающих осенних листьев, вдыхать аромат хризантем. Любуясь осенней луной, мы испытываем чувство умиротворения . Наша страна переживает свою осень, она, как и все мы, проникнута духом ранней осени: когда на зеленом фоне появляются золотые пятна, печали сопутствует радость, а надеждам — воспоминания. Невинность весенней поры отошла в область воспоминаний, а летнее изобилие стало песней, далекое эхо которой все еще слабо звучит в воздухе. Размышляя о жизни, мы не планируем, как развиваться дальше, но думаем над тем, как достойно существовать; не как бороться и работать, а как сберечь то, что имеем, как радоваться редким, драгоценным для нас мгновениям. Мы думаем не о том, как стремиться вперед, нередко растрачивая силы впустую, а о том, как сохранить их в преддверии зимы. Мы чувствуем себя так, будто уже добрались до некоего места, обжились там и нашли то, чего хотели. Мы понимаем, что получили что-то не столь ценное, как прошлое изобилие, а нечто наподобие осеннего леса, который, утратив летнее великолепие, сохранил, по мере сил, остатки былой красоты. Я люблю весну, но она, на мой взгляд, слишком юная. Я люблю лето, но оно чрезмерно горделивое в своей пышности. Поэтому я более всего люблю осень, люблю ее золотистые листья, ее нежную мелодию и яркие краски, оттенки печали и предвестия смерти. Золотой блеск осени говорит не о невинности весны и не о плодотворящей мощи лета, а о степенности и мудрости приближающейся старости. Мы осознаем, что жизнь конечна и потому следует довольствоваться тем, что есть сейчас. Осознание этой истины, накопленный жизненный опыт создают симфонию цвета: зеленый цвет символизирует жизненные силы, оранжевый — говорит о богатстве, фиолетовый обозначает смирение и смерть. И все это озарено лунным светом, осень задумчива и отливает белизной. Но, когда лучи заходящего солнца касаются ее, она по-прежнему радостно улыбается. Ветерок со стороны гор срывает с веток дрожащие листочки, и они, весело танцуя, опускаются на землю. Мы не знаем, посвящена ли песня падающих листьев смеющемуся и радостному вчерашнему дню или слезному расставанию. Потому что это песня души ранней осени: спокойная и мудрая. Эта песня улыбается печали, повествуя о бодрящем холодном воздухе. Душу осени прекрасно выразил Синь Цицзи:Истинное лицо Китая
Нижеследующее не следует ошибочно рассматривать как критику Национального правительства. Я хочу лишь показать грандиозность задач, стоящих перед правительством в его работе над установлением порядка и устранением хаоса в стране.Давайте будем честными перед самими собой. Синологу легко нарисовать картину идеализированного Китая. Это Китай синих фарфоровых пиал с нанесенными на них изящными изображениями различных фигур, Китай шелковых свитков, на которых нарисованы счастливые ученые, праздно сидящие в тени сосен. Синолог легко может сказать: «Даже если Япония завоюет Китай на несколько веков, ну и что дальше?» Китаец не сможет такого сказать! Потому что мы живем в реальном Китае, а не в Китае синих фарфоровых чаш и изысканных картин на шелковых свитках; мы живем в Китае, который занят тяжким трудом, перенося боль и страдания, в Китае, стоящем на грани краха государственности и культуры. В Китае, где миллионы людей заняты тяжким трудом, миллионы хотят работать, бороться с наводнениями, голодом, бандитами всех мастей. Эти люди живут в обстановке нескончаемого хаоса, никуда не ведущей смуты, беспринципной политической трескотни, действуют без всякой цели, без надежды покончить с нищетой. Каждому китайцу близки и понятны печальные слова Гамлета: распалась связь времен, и мы, к несчастью, несем бремя ответственности за наведение порядка. Близко и понятно ему также и восклицание иудеев: «О, Боже, доколе?» Это — крик отчаяния, а не просто вспышка раздражения, это — разочарование, основанное на глубоком знании современного Китая, знании, недоступном иностранцам. Если кто-то решит нарисовать картину процветающего «Китая мечты», его литературы, философии, искусства, то рано или поздно он столкнется с загадкой реального Китая и, возможно, после длительных и тягостных размышлений потребует от прошлого объяснить настоящее, потребует от настоящего дать ответ будущему. Превозносить прошлое и рисовать будущее легко; изучать настоящее, хотя бы отчасти понять его и привнести немного света в нынешнюю ситуацию — очень трудно. Потому что между славным прошлым и возможным славным будущим пролегает пропасть, и, чтобы ее преодолеть, нужно сначала спуститься, а потом уж подняться. Необходим стойкий реализм, а не наивная вера, трезвая мудрость нужнее пылкого патриотизма, потому что патриотический пыл — это дешевый товар, который можно купить по несколько фэней за фунт, будь то заметка в газете или объявление на стене ямыня. И все это лишь пустая болтовня. В Китае есть поговорка: «Лучше быть собакой в мирное время, чем человеком во времена смуты». Все китайцы мечтают быть собаками в мирное время, но им не повезло с эпохой. Потому что мы живем в эпоху полного крушения иллюзий и отсутствия веры в революцию. Мэн-цзы говорил, что нет большей печали, чем смерть души, а ныне душа людей воистину мертва. Оптимизм и радостный идеализм 1926 г. уступили место цинизму и разочарованию 1934 г. Махровый цинизм очевиден и в газетных статьях, и в частных разговорах. Медленно и мучительно приходит понимание того, что чем больше мы меняемся, тем больше остаемся прежними. И хотя поверхностные изменения системы правления происходят, не меняется ее суть, сохраняются коррупция, слабость и некомпетентность власти. И это приводит в отчаяние. Людей Запада, восхищающихся описаниями Китая, сделанными Марко Поло, — величественного и могучего Китая, по его словам, — реальный Китай повергает в шок, а для китайцев такое признание равносильно признанию поражения. Медленно и болезненно люди начинают осознавать, что мы до сих пор находимся под властью феодальных главарей и их неграмотных жен, и сильно повезло тем, кто живет под властью «просвещенного деспота», генерала Хань Фуцюя. Совмещая в одном лице губернатора, судью и адвоката, он порол одного и одаривал сотнями юаней другого. Руководствуясь интуицией и собственными представлениями о физиогномике, он обеспечивал своеобразные правосудие и безопасность. И вдруг люди начинают понимать, что нами правит десяток поддельных монархов, заменивших одного подлинного, и что революция 1911 г. одержала победу только как национальная революция и лишь разбила в пух и прах маньчжурскую империю, оставив после себя руины, обломки битой черепицы и удушливую пыль. Порой приходит мысль, что лучше бы Китай и по сей день оставался монархией. Некоторые сожалеют и о том, что Цзэн Гофань после подавления Тайпинского восстания не пошел походом на Пекин и не восстановил в Поднебесной ханьскую по этносу династию, тем более что у него в то время были грандиозные планы и ему ничего не стоило сделать именно так. Кое-кто уговаривал его так поступить. Но Цзэн Гофань был настоящим конфуцианским ученым и действовал согласно своим моральным принципам, а для возведения на трон новой династии нужен был беспринципный бандит из числа имперских военачальников. Что ж, тем хуже для китайского народа! Все это — напрасные сожаления! Как можно упрекать за эти сожаления человека, выросшего в Китае в канун его полного развала? Я хорошо помню Китай моего детства. Им плохо управляли, это правда, но то был мирный Китай. Корыстолюбие, коррупция и некомпетентность маньчжурского правительства были такими же, как и у нынешних властей, а некоторые тогдашние чиновники без зазрения совести занимались вымогательством. Однако худших из них лишали должности, предавали суду и наказывали, поскольку тогда еще существовала система правосудия и иерархия власти. Были хорошие губернаторы и были плохие губернаторы, но они были образованными людьми, они не сквернословили, и от них не несло луком, как от нынешних милитаристов. Былихорошие судьи и плохие судьи, которых одни любили, а другие боялись. Но когда кто-либо переходил границы дозволенного, возникали «городские забастовки», об этом докладывали губернатору или императору, а виновных снимали с поста, переводили на другую службу или наказывали по закону. Такова была система, пусть и несовершенная, но все-таки существовало своеобразное правосудие, как его ни характеризуй, в целом царил мир. Тогда не было гражданских войн, бандиты не очень-то бесчинствовали и можно было безопасно ездить из одной провинции в другую. Все это потому, что в старом Китае не было такой неразберихи, как сегодня. И хотя ставки налогов не были согласованы с представителями народа, они определялись традицией и давно установившейся практикой. Действовал реальный, а не фиктивный Земельный закон, и крестьяне знали, что им полагалось платить весной и что — осенью. Тогда еще не слыхали о налогах на гробы и на свадебные паланкины (юг провинции Фуцзянь), на спаривание свиней, на опорос, на поросят, на кормушки для свиней и на их взвешивание перед продажей, на убой свиней, на подаваемую в ресторане свинину и, наконец, на свиные фекалии (эти налоги известны в Шаньтоу и Ханькоу). Тогда еще не слышно было о налоге на добродетель, благотворительную деятельность, на «социальные нужды» и о «налоге на лень» для тех крестьян, которые не выращивают опиум. В те времена китайским крестьянам не нужно было продавать жен и дочерей, чтобы заплатить налоги, как это приходится делать многим в районах к северу от Янцзы. Солдаты прежде не мешали крестьянам собирать урожай в качестве ответной меры за неуплату нового налога, как это приказал сделать в 1934 г. начальник уезда Фаньюй (провинция Гуандун). Людям не приходилось платить налоги за 30 лет вперед, как теперь вынуждены это делать жители провинции Сычуань. Они не платили за пашню дополнительный налог, который в 30 раз больше обычного налога, как это делается в провинции Цзянси. Крестьян не вынуждали платить налоги, которые превышают все их состояние. И если они не могли заплатить наличными, их не сажали в тюрьму и не избивали плетьми так, что их крики и стоны были слышны всю ночь, как это теперь происходит по ночам в провинции Шэньси. Несчастных жителей Китая, самой неуправляемой страны в мире, затянуло в мощный водоворот перемен, смысла которых они не понимают, однако они выносят все тяготы с привычным неиссякаемым прилежанием и терпением, в конце концов преодолевая все трудности. Да, они станут нищими, когда у них отнимут последний медяк, — у них все равно остается неукротимое стремление работать и жить, они сохраняют врожденное жизнелюбие, и за покладистость и добродушие Бог всегда будет любить китайских крестьян. Разумеется, в стране, знавшей эпохи величия, произошло полное расстройство государственной жизни, и страна теперь стыдится самой себя. И поскольку душа покинула государственное тело, это тело совершает бессмысленные поступки. Безумие и отмена ограничений, налагаемых общественной моралью и традиционными нормами приличий, ведут к утрате душевного равновесия целой нации. И как будто в приступе безумия каждый руководствуется только узкоэгоистическими интересами. Цель состоит только в том, чтобы приобрести дом и автомобиль, жить в безопасности на территории иностранной концессии и иметь крупный счет в Гонконг-Шанхайском банке. Страна, несомненно, сошла с ума, если некоторые чиновники и попечители Бэйпинского национального музея не отведут жадных глаз от национального достояния, пока не распродадут его тем, кто даст наивысшую цену. А затем эти чиновники положат деньги себе в карманы и будут где-нибудь, скрываться от правосудия, если их все же станут преследовать по закону. Страна, конечно же, сошла с ума, если генерал, который вывел войска из провинции Жэхэ, не попытавшись оказать хотя бы демонстративное сопротивление, вывез своих наложниц и другую движимую собственность на 200 армейских грузовиках, — и Нанкинское правительство его простило! Страна впала в безумие, если генералы бросают свои армии и военное имущество, заботясь лишь о том, чтобы вывезти запасы опиума, потому что за него можно получить золотом, а за золото можно вернуть власть. Страна сошла с ума, если крестьян заставляют высаживать опиум вместо риса, чтобы содержать толпу солдат, никогда не получающих жалованья; если аграрная страна вынуждена ежегодно импортировать миллионы даней риса и пшеницы. И среди этого безумия люди, страдающие от его последствий, не могут сказать «нет» тем, кто ими правит и угнетает их. Разумеется, что-то произошло в политической системе, и нация в целом утратила моральные критерии, понимание того, что правильно, а что нет. Совершенно очевидно, что система устойчивых критериев, как моральных, так и политических, развалилась. В старом Китае существовали политическая система и система морали, и их было вполне достаточно для поддержания стабильной жизни нации. Ныне эти критерии выхолощены и, возможно, приносят больше вреда, чем пользы. Кто хочет купить терпение? Пусть приезжают в Китай, так как предложение этого товара в Китае превышает спрос на него. А кто хочет купить кротость и смирение и все те прекрасные христианские добродетели, которым христианский мир не научился после двух тысячелетий молитв, чтения псалмов и проповедей? Приезжайте в Китай, так как в языческом Китае этих христианских добродетелей — как песка в пустыне и крокодилов в Ганге. Из-за ускорения темпов прогресса в разных сферах жизни нации, мы теперь живем не в патриархальную эпоху покоя, праздности и соблюдения церемоний, а в эгоистичные, нетерпеливые времена личного самоутверждения и преклонения перед деньгами. И терпение, и кротость, и смирение, которые украшали старинный стиль жизни, отжили свое и более ускоряют, чем сдерживают разрушение старого порядка. Создается впечатление, что Китай не может вписаться в обновленный мир, стать здоровой и целеустремленной страной, создать новую этику, соответствующую новым темпам жизни. Китайцы утратили душевное спокойствие и свой прославленный здравый смысл, уверенность в себе и потому стали капризными, раздражительными, чрезмерно чувствительными к мелочам. Китай говорит и делает глупости, подобно мужу, несчастливому в супружестве, или старику, страдающему тромбозом. Капризы и раздражительность нашей нации, ее колебания между манией величия и черной меланхолией поистине истеричны. Примеров такого поведения много среди интеллигенции, которая имеет обыкновение впадать то в эйфорию, то в депрессию. Некоторые ученые стыдятся собственной страны, стыдятся крестьян и кули, своих обычаев и языка, искусства и литературы. Они хотели бы накрыть Китай огромным покрывалом, чтобы иностранцам были видны только белые воротнички англоговорящих китайцев, похожих на них самих. А простой народ пусть живет и страдает по-прежнему. Тогда вдруг срабатывает подсознание, и люди из правящего класса узнают, что кто-то, не они сами, конечно, ведет страну к гибели. И тогда они становятся моралистами и предлагают лекарства для «спасения страны». Одни предлагают начать «спасение» с обучения стрельбе из пулемета, другие предлагают внедрять стиль умеренности и призывают носить сандалии домашнего производства. Кто-то предлагает учиться западным танцам и вообще во всем следовать западному образу жизни. Еще кто-то предлагает продавать и покупать только китайские товары, а другие — развивать боевые искусства и закаляться. А еще есть такие, которые предлагают изучать эсперанто, буддийские сутры, возрождать изучение китайских классиков в школах или, наоборот, «выбросить всех классиков на 30 лет в уборную». Их рассуждения о «спасении страны» похожи на советы консилиума врачей-шарлатанов над трупом пациента. Это было бы смешно, если бы не было так печально. Так как коренные политические реформы предполагают ликвидацию влияния милитаристов на политику, а искоренение коррупции в сфере политики предполагает упразднение привилегий правящего класса и тюрьма грозит 95% из них, то они стали теперь проповедниками традиционной морали, которая не может никому повредить. Повсюду царят сумятица и хаос — более в духовной, чем в материальной сфере. Речь идет о своеобразном сумасшествии, внешними проявлениями которого являются ложная приверженность прогрессу и лжепатриотизм. Высокопоставленные чиновники, с одной стороны, заставляют ламаистских монахов молиться о «спасении страны», а с другой — запрещают традиционные соревнования лодок во время Праздника дракона, объявляя это суеверием. Провинциальное правительство, которое неспособно добиться реальных успехов в экономическом развитии, активно занимается определением фасонов одежды для мужчин и женщин. В провинции Гуанси обнаружили, что у девочек рукава слишком короткие, а в провинции Сычуань слишком длинные мужские халаты, а ведь мы в условиях общенационального кризиса обязаны экономить ткани. В провинции Шаньдун женщинам запрещено делать химическую завивку, в некоторых школах провинции Хунань мальчиков заставляют брить голову. В провинции Чжэцзян девушкам запрещают бинтовать грудь, а в Нанкине проституткам возбраняется носить туфли на каблуке и халаты с высоким воротничком; женщинам в Пекине не разрешают заводить кобелей и выгуливать их. Вся эта неразбериха и суматоха, это сумасшествие и лицемерие, все эти показные хлопоты о национальной гордости свидетельствуют о неоправдавшихся надеждах. Обычаи и привычки, которые являются костяком любого общества, в Китае более не принимают во внимание. Людей старшего поколения молодежь не уважает так, как прежде, наоборот, молодые резко критикуют стариков. Между молодыми и пожилыми в Китае пролегает глубокая пропасть. Культура, результат сочетания реальной жизни и мысли, более невозможна. Критика, единственная защитница современной культуры, которая должна следить за течением жизни нации, повергнута в прострацию, сгибаясь под слишком тяжелым для нее бременем. А присущее старому Китаю радостное жизнелюбие, стыдливо потупилось. Нынешних китайцев можно сравнить с людьми, страдающими от хронического недоедания и нервного истощения. Естественно, они постоянно в чем-то разочарованы.

Последние комментарии
1 минута 37 секунд назад
2 минут 38 секунд назад
2 дней 18 часов назад
2 дней 18 часов назад
2 дней 18 часов назад
2 дней 19 часов назад